ФЭНТЕЗИ-2003
Серия основана в 2003 году
Составитель В. Мельник
© Асмолов Константин, Белаш Александр и Людмила, Белянин Андрей, Бенедиктов Кирилл, Васильев Владимир, Верещагин Петр, Володихин Дмитрий, Головачев Василий, Дяченко Марина и Сергей, Зорич Александр, Камша Вера, Клещенко Елена, Логинов Святослав, Лукьяненко Сергей, Налбандян Карен, Олди Генри Лайон, Панченко Григорий, Петров Сергей, Рогач Владимир, Романецкий Ник, Савельев Кирилл, Сергеев Алексей, Шрейнер Ирина. 2003
© Состав и оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2003
БОГИ ВОЙНЫ
КИРИЛЛ БЕНЕДИКТОВ Орихалк
1. Команда
Море кипело в двух полетах стрелы от корабля. Триера подошла к острову в предрассветных сумерках. Последние два часа она скользила сквозь ночь вслепую, с погашенными огнями; медленно поднимавшиеся весла бесшумно взрезали студенистое тело воды. На гребных палубах царила необычная тишина — гребцам раздали вырезанные из мягкого дерева загубники и пообещали скормить рыбам каждого, кто позволит себе чихнуть или закашляться. Бичеватели обмотали хвосты своих плеток вокруг толстенных запястий, чтобы не поддаваться искушению пустить их в ход. Свист рассекающих воздух плетей из прочнейшей воловьей кожи с маленькими свинцовыми вставками слышен на море далеко кругом. Старшина бичевателей Руим, двадцать лет проплававший на пиратских кораблях Счастливого моря и заплативший за умение подбираться к врагу незамеченным дюжиной шрамов и правым глазом, пообещал сожрать с потрохами любого, кто ослушается его приказов. Так и сказал, страхолюдно вращая уцелевшим зрачком: мол, каждого, кто щелкнет плетью, сожру живьем и с потрохами. Как же теперь, неосмотрительно засомневался кто-то из надсмотрщиков, без битья-то рыбье мясо грести и не заставишь… Руим с ловкостью обезьяны подскочил к умнику и ударил его бронзовым набалдашником плети в лоб. Поняли, песьи дети? У бича, кроме хвоста, еще и рукоять есть…
Предосторожности, однако, оказались излишни. К берегу они подойти не сумели.
Тени и ночные мороки понемногу отступали, размываемые слабым свечением не рожденной еще зари. По обе стороны от триеры сквозь белесую дымку уже проглядывали тугие, медленно перекатывающиеся мускулы океана. Но впереди, там, где вчера матрос, сидевший в «вороньем гнезде», заметил черную полоску земли, упрямо клубился плотный серый туман.
Оттуда, из-за завесы тумана, слышался неясный монотонный шум, усиливавшийся с каждым медленным взмахом весел. Странный шум — не грохот волн, разбивающихся о рифы, и не мерный рокот прибоя, а тяжелый гул проваливающейся в бездну воды, словно не остров лежал за серой клубящейся пеленой, а легендарный Крайний Предел, уступ высотой в тысячу лиг, с которого воды великого океана низвергаются в вечно пылающие преисподние нижнего мира. Глупости, конечно, страшные сказки невежественных гребцов-галерников: людям образованным хорошо известно, что мир круглый, как яблоко, никаких Пределов в океане нет, а с рудниками Серебряного хребта не сравниться никаким преисподним, пусть и вечно пылающим. Да только образованных на триере было немного, а в души остальных доносящийся из туманного облака гул вселил тревогу и предчувствие встречи с чем-то ужасным.
Никто, правда, и так не ждал от плавания ничего хорошего: дождешься тут, когда команду вербуют из висельников и пиратов, доставленных на корабль прямо из подземных казематов Дома Справедливой Кары, а рабам на веслах обещают свободу — тем, кому посчастливится вернуться, разумеется. Такое случается только во время войн, после крупных морских сражений, а какие войны сейчас? Все народы, осмеливавшиеся бросить вызов могуществу Аталанты, получили суровый урок и простерлись в пыли у ног царей Дома Трезубца. Если бы от триеры ждали военных подвигов, разве назвали бы ее в честь Хэмазу, бога — покровителя торговцев и путешественников? «Сияющее копье Хэмазу, господина Двух Лун» — вот как звучало полное имя корабля. Смех да и только! Какое там копье у Хэмазу, зачем оно ему? Неудачное имя, странная команда, загадочная цель… Что понадобилось Их Величествам в этих забытых богами южных водах, пустынных и бесплодных, где уже много дней не видно ни одной рыбы? Такие вопросы много раз задавали себе и прикованные к веслам гребцы, и надсмотрщики-бичеватели, и воины-абордажники, проводившие бесконечно долгие дни в учебных боях и полировке страшных шипастых шлемов. Перешептывались по ночам в темноте и духоте трюма, с тоской глядели на убегающие за корму, дробящиеся на волнах чужие крупные звезды, молились своим богам и духам-покровителям, в глубине души понимая, что здесь, на краю света, всерьез рассчитывать на их помощь не приходится.
По кораблю, словно невидимые змеи, ползли слухи — один другого неприятнее. Говорили, что капитан Цаддак уже ходил в южные моря с большой командой и что из плавания этого вернулись назад только двое — он сам и полубезумный кормчий, известный в портах под кличкой Морской Лис. Раньше Лис считался едва ли не лучшим в своем ремесле, и матросы дрались в кабаках за право плавать с ним под одним парусом. Верили, что Лис приносит команде счастье, и корабли, которым он прокладывает курс, всегда возвращаются в Аталанту невредимыми. Но в последний раз капризная богиня удачи изменила кормчему, погубила его людей и отняла у него разум. А может, и не отняла — ведь умение читать карты и ориентироваться по звездам у него осталось, — а просто прибавила изрядную толику безумия. Днем кормчий вел себя, как положено второму человеку на корабле — важно ходил по палубе, рассматривал горизонт через магический кристалл, делал замеры, опуская в воду фалинь с привязанными к нему разноцветными бутылочками. Но ближе к вечеру с ним начинали происходить нехорошие перемены: взгляд у него становился рыскающим, диковатым, он шарахался от любого громкого звука и избегал выходить на палубу. С наступлением сумерек Цаддак запирал Лиса в каюте на носу корабля — кухарь Титус, носивший кормчему ужин, рассказывал, что там нет ни ложа, ни стульев — одни роскошные, восточной работы ковры. Коврами этими завешены стены и даже дубовая, оснащенная снаружи тяжелым засовом дверь, а окон в каюте нет. Но даже ковры не могли заглушить страшного воя Лиса, от которого, казалось, содрогаются по ночам все переборки триеры. Кормчий, надо отдать ему должное, выл не всегда, а только в ясные звездные ночи, когда обе луны — Ианна и Лилит — сияли по обе стороны глубокого, прозрачного, словно темный хрусталь, небосклона. А ночи такие выдавались нередко, по крайней мере, в начале плавания…
Как-то раз Титус подслушал разговор Лиса с Цаддаком — не разговор даже, а несколько фраз, произнесенных к тому же на высоком наречии, — никто из матросни их бы не понял, но кухарь служил некогда у благородных господ поваром. Вернувшись на дрожащих ногах в кубрик, Титус, запинаясь, рассказал друзьям, что Лис втолковывал капитану о море, кипящем, как масло в горшке, о чудовищах, стерегущих проходы между скал, и каком-то острове, населенном людоедами и демонами. Тряпка ты кухонная, рявкнул, услышав это, старшина бичевальщиков Руим, кормчий-то наш, известное дело, не в себе, он еще и не того наговорит… Да в том-то и беда, трясся Титус, что капитан с ним как с нормальным разговаривал, и про море кипящее соглашался, и про демонов… А под конец сказал так: нам с тобой, мол, бояться не пристало, мы в этом пекле уже побывали и живыми выбрались, выберемся и сейчас… Тут Лис ему про нити какие-то кричать стал, вроде как между небом и землей натянутые, но совсем уж безумным голосом и словами такими мудреными, что ни единого Титус не разобрал…
Дубина ты, крякнул Руим, — не пугал бы людей, раз сам ничего уразуметь не можешь. Разумный совет, к несчастью, опоздал — рассказ Титуса, быстро обрастая живописными подробностями, пошел гулять по кораблю, сея панику в темных и невежественных душах. Море кипит, вполголоса стращали друг друга матросы, сваримся все, как креветки в супе, а тех, кто не сварится, стоглавые гидры пожрут… И чем дальше «Сверкающее копье» углублялось в южные воды, тем напряженнее становилось ожидание — в том, что проложенный Морским Лисом курс ведет триеру прямиком в кипящее море, не сомневался, похоже, уже никто. Вот и дождались. Сначала деревяшки в зубы, команда грести в полной тишине, без привычного ритма барабанов, онемевшие бичеватели, раздающие бесшумные зуботычины рукоятями своих плетей, а потом этот странный гул, доносящийся из тумана… А вдруг там и вправду стоголовая гидра с ревом втягивает в свои жуткие глотки соленую морскую воду? Судя по звуку, в пасть к такой зверюге и триера проскользнет, как мелкая щепочка…
Туманная завеса распахнулась внезапно, будто вспоротая огненным мечом небесного вестника, и команда «Сияющего копья» увидела картину, поразившую даже тех, кто безоговорочно верил самым страшным слухам.
В двух полетах стрелы от корабля море кипело, словно колдовское варево в котле старой ведьмы.
Где-то на востоке солнце стремительно всплывало из зеленых глубин океана, готовясь к прыжку на опаловый купол небес. Было уже почти светло, но прятаться больше не имело смысла — недалекий берег едва просматривался за стеклянистой, изгибавшейся темно-зеленым горбом массой воды, встававшей из бурлящего моря. У основания горба зиял глубокий провал — нечто вроде защитного рва у подножия крепостной стены. Туда-то и обрушивались с леденящим душу ревом набегающие из открытого моря валы — обрушивались и поглощались студенисто дрожащей, стремящейся к небу водяной горой, увенчанной белоснежной короной из пены. Высотой гора в три раза превосходила самую высокую мачту триеры; пенные клочья, срываясь с ее гребня, белыми птицами скользили над морем и мягко оседали на просоленных, не единожды чиненных парусах «Сияющего копья».
К счастью, старшины гребцов вовремя получили приказ табанить. Три ряда весел торжественно и бесшумно поднялись в воздух, одновременно повернулись и опустились в воду под другим углом, тормозя бег корабля. На расстоянии одного полета стрелы от кипящей бездны триера окончательно потеряла скорость и развернулась левым бортом к таинственной водяной стене. Южный ветер, проклинаемый гребцами на протяжении всего плавания, неожиданно превратился в союзника и, наполнив паруса «Сияющего копья», погнал его прочь от гибельного провала.
Гребцы, изо всех сил упиравшиеся грудью в отшлифованные ясеневые рукояти весел, ничего этого не видели. Мало что успели разглядеть и бичеватели, подгоняемые звероподобным Руимом: когда бегаешь между скамьями, едва успевая награждать тычками зазевавшихся и сбившихся с ритма рабов, глазеть по сторонам времени не остается. Чуть больше увидели матросы, по команде Морского Лиса спешно натягивавшие паруса, и воины, сгрудившиеся у левого борта. Когда триера успешно завершила свой рискованный маневр, из грубых солдатских глоток вырвался вздох облегчения. Всякая храбрость относительна: можно привыкнуть к постоянному соседству смерти в бою и потерять мужество при виде вырастающей из кипящего моря водяной горы. Да и кто сохранит самообладание перед лицом столь зловещего чуда?..
Впрочем, сыскались на триере и такие. Если бы абордажники и матросы не были так поглощены зрелищем надвигающейся погибели, они наверняка обратили бы внимание на то, что капитан Цаддак, кряжистый и лысый, стоит, вцепившись руками в резную ограду палубной надстройки, и не отрывает глаз от высоко возносящейся над мачтами корабля зеленоватой стены. На суровом лице капитана не отражалось ни страха, ни изумления — одна только спокойная, холодная враждебность, словно вставшее на дыбы море нанесло ему оскорбление, которое можно смыть только кровью.
Рядом с капитаном стоял сухощавый, нездорового вида человек с крупной кудлатой головой — Морской Лис, кормчий. Он тоже смотрел на грохочущую, сверкающую в первых лучах новорожденного солнца, рвущуюся к небесам титаническую волну, и лицо его застыло подобием мраморной погребальной маски.
Когда триера отошла на безопасное расстояние от клокочущего провала, капитан и кормчий обменялись репликами на высоком наречии — оба происходили из знатных, хотя и обедневших семей. Из всей команды понять их мог разве что Титус, но кухарь, сдуру выглянувший на палубу несколько минут назад, прятался теперь под массивным разделочным столом у себя в камбузе, тщетно пытаясь изгнать из своих мыслей видение огромной, нависшей над кораблем водяной горы.
— Проклятая стена все еще здесь, — произнес капитан Цаддак.
— А ты надеялся на то, что она исчезнет сама собой? — усмехнулся Лис. — Конечно, она здесь, глупец! И орихалк тоже здесь, никуда не делся. Так же близок и так же недоступен, как и два года назад. Бери, сколько хочешь, набивай карманы, мешки, повозки! Хватит тебе одной повозки, Цадда — малыш?
— Полный трюм, — рыкнул капитан, поворачиваясь к кормчему. — Полный трюм орихалка, на меньшее я не согласен! На этот раз мы справимся. Мы пришли сюда не с голыми руками…
— Ах да, — воскликнул Лис. — Прости, я запамятовал. Мы привезли сюда нашего драгоценного пассажира. Удивительно, как я мог упустить это из виду…
Цаддак заставил себя усмехнуться.
— Наш пассажир не так уж прост, мой дорогой Лисенок. Надеюсь, скоро ты в этом убедишься…
Кормчий с презрением сплюнул за борт.
— Он насмехался надо мной, этот никчемный столичный хлыщ! Он назвал меня собакой, воющей на луну, ты представляешь? Пустоголовый, напыщенный болван! Если бы он не носил эмблему Дома Аш-Тот, я выбил бы его мерзкие подпиленные зубы…
Капитан снова ухмыльнулся — на этот раз почти искренне.
— Советую тебе не кричать о своем намерении на каждом углу, Лисенок, — у Яшмовых Тигров чуткие уши. К тому же наш достопочтенный пассажир, Господин Мечей Кешер от Дома Аш-Тот, только что вышел на палубу и направляется к нам, чтобы развлечь себя учтивой беседой…
— Он один? — нервно спросил кормчий, быстро облизав тонкие губы.
— Один, — кивнул Цаддак. — Погляди-ка на него, дружище, — едва рассвело, а он уже одет так, будто собирается во дворец…
— Это он умеет, — согласился Лис. Предложение поглядеть на пассажира он проигнорировал. — Да только в тех местах, куда он собирается, от щегольских нарядов проку немного.
Тем временем тот, о ком они говорили, молодой человек лет двадцати пяти, приблизился и остановился у форштевня, опершись на вырезанную из толстого дубового ствола шею лунного коня Риннэ, чья голова украшала нос триеры. Он приветливо помахал рукой капитану (кормчий демонстративно повернулся к нему спиной), но на мостик подниматься не стал. Проклятье, подумал Цаддак, неужели ему лень одолеть десяток ступенек?
— Спускайтесь, капитан, — позвал молодой человек, нежно поглаживая полированную шею Риннэ. — Вам ведь наверняка наскучило общество сумасшедшего кормчего?
Цаддак услышал, как Лис скрипнул зубами.
— Не стоит обижать моего друга, мастер Кешер, — с достоинством ответил капитан. — Мы слишком многим ему обязаны.
Молодой человек запрокинул голову и весело рассмеялся, обнажив тщательно вычерненные, остро заточенные треугольные зубы.
— Прошу прощения, капитан, я и забыл, кто показал нам Дорогу в эту лоханку с супом. — Он небрежно кивнул в направлении бурунов, кипящих у подножия гигантской водяной стены. — Кстати, а что бы вы сделали, если бы я не внял вашим словам и продолжал бы обижать вашего друга кормчего? Вызвали бы меня на поединок?
И он снова расхохотался. Цаддак предпочел сделать вид, что пропустил его шутку мимо ушей.
— Как видите, мы на месте, — сказал он, показывая туда, куда только что с таким пренебрежением смотрел молодой человек. — Кормчий и я свою часть работы выполнили. Теперь дело за вами, мастер Кешер.
— Ну да, — рассеянно отозвался молодой человек, ухитрившийся отколупнуть от гладкой шеи лунного коня Риннэ длинную щепку и увлеченно ковырявший ею в зубах. — Теперь, разумеется, дело за мной…
2. Кешер
— …До Ночи Двух Лун, — повторил Кешер Аш-Тот, наполняя свою кружку пивом. Он делал это с таким изяществом, словно вместо кисловатого, мутного пива в кувшине плескалась драгоценная халисская амброзия. К сожалению, запасы вина истощились гораздо раньше, чем «Сверкающее копье» достигло своей цели. — Вы будете ждать до тех пор, пока Ианна и Лилит не округлят свои лики одновременно. Если за это время ничего не произойдет, можете разворачиваться и плыть обратно…
Капитан Цаддак с некоторым усилием вытащил наполовину ушедший в столешницу тяжелый метательный нож (минуту назад в пылу спора он сгоряча воткнул его в стол, продырявив лежавшую сверху пергаментную карту) и отрезал себе большой кусок сухой конской колбасы.
— К этому времени у нас закончатся припасы, — мрачно произнес он. — Ближайшая земля, где можно достать зерно и пресную воду, — острова Поющих Змей в пятистах лигах к северо-востоку. Мы не сможем вернуться, потому что умрем с голоду.
— Возвращайтесь прямо сейчас, — пожал плечами молодой человек. Он поднес кружку к тонким губам и сделал большой глоток. — До Ночи Двух Лун вы как раз успеете пройти пятьсот лиг. Что касается меня, то я с удовольствием останусь на этом острове еще на месяц. Люблю новые места — они помогают мне забыть об отвращении, которое я питаю к жизни.
Капитан кашлянул.
— Не уверен, что это место придется вам по вкусу, мастер Кешер. Я не удалялся от берега дальше, чем на пять лиг, а кормчий попробовал проникнуть в глубь острова и едва вернулся оттуда живым…
— Да-да, — рассеянно кивнул Кешер. — Я помню его рассказы. Демоны, охотящиеся по ночам, прекрасные девы, заманивающие путников в норы подземных страшилищ, и, конечно, орихалк. Целые россыпи орихалка.
— Сами увидите, — хмыкнул Цаддак. — На этом острове его больше, чем во всей Аталанте, считая запасы, хранящиеся в сокровищницах Великого Дома. Смотрите, как бы у вас голова не пошла кругом.
— За мою голову, капитан, не волнуйтесь. Лучше расскажите еще раз, как вы сумели выбраться из этой ловушки.
Кешер аккуратно вытер маленькие усики изящной ладонью. Цаддак снова подумал о том, что для Господина Мечей у пассажира слишком холеные и тонкие руки.
— Мы обошли весь остров кругом, — терпеливо повторил капитан. — Мы нашли проход в скалах, большую сквозную пещеру. Вода в ней то прибывает, то убывает, но никогда не поднимается до самого свода. Пещера широкая, хотя в нескольких местах проход сужается до ширины небольшой лодки, поэтому нам пришлось отказаться от мысли построить устойчивый плот и уходить на долбленке, сделанной из большого поваленного дерева. В подземелье обитает чудовище, которое мне не удалось рассмотреть. Оно схватило Лиса, но я дрался с ним и отрубил три толстые и длинные руки без пальцев. Потом нас подхватило течением, понесло в полной темноте куда-то на север и выбросило за пределами кольца высоких волн. Несколько дней мы странствовали по пустынным водам, то приближаясь к пределам страны мертвых, то вновь возвращаясь к жизни. В конце концов, когда надежда оставила нас, мы увидели вдалеке парус…
— Благодарю, капитан, — прервал его молодой человек. — Собственно, это все, что меня интересовало. Сквозная пещера в скалах, как удобно! Неплохо было бы отыскать ее…
— Она заканчивается под водой, — покачал головой Цаддак. — Не очень глубоко, локтей двадцать, однако с моря это место обнаружить невозможно. Когда поток вынес нашу долбленку из пещеры, я подумал, что Эа забрал нас в свое царство на дне морском… Соленая вода попала мне в рот и нос, я не мог дышать и приготовился к смерти. Но в тех местах очень сильные восходящие течения. Море вышвырнуло нас на поверхность, как безденежных пропойц выбрасывают из кабака.
Кешер Аш-Тот усмехнулся.
— Цветистое сравнение, друг мой… А не припомните ли, в каком положении находились в день вашего бегства Лилит и Ианна?
Капитан бросил на него недоверчивый взгляд.
— Вы смеетесь надо мной, мастер Кешер? До того ли нам с кормчим было, чтобы глазеть на луны? Хотя погодите… Когда нас носило по волнам и я лежал без сна на дне нашего корыта, молясь богам и готовясь к смерти, Лилит стояла в зените, а Ианна шла на ущерб… Да только зачем вам это знать?
Молодой человек допил пиво и с сожалением поставил пустую кружку на стол. Поднялся с грубой деревянной скамьи, отряхнул щегольский, по последней придворной моде сшитый камзол, украшенный изображениями Яшмовых Тигров — покровителей Дома Аш-Тот, поправил перевязь с двумя короткими мечами и шагнул к двери.
— Любое знание когда-нибудь да пригодится, — ответил он. — Благодарю за угощение — один Хэмазу знает, когда еще удастся попробовать доброго аталантского пива. Лодка, значит, готова?
Цаддак угрюмо кивнул.
— И все же, мастер Кешер… Что нам делать, если вы не вернетесь?
Лицо его собеседника приобрело скучающее выражение.
— Плыть обратно, капитан, — произнес он тоном, которым хорошие родители иногда разговаривают с надоедливыми детьми. — Возвращаться в Аталанту, падать к ногам Их Величеств и умолять о прощении. Сколько мин серебра истрачено на нашу экспедицию? На чье имя выданы векселя Дома Весов? На ваше? Я так и думал… Пожалуй, в этом случае кредиторы могут всерьез на вас рассердиться…
Цаддак порывисто схватился за нож — только затем, чтобы с размаху разрубить оставшуюся колбасу на две части.
— Не говорите мне о кредиторах, мастер Кешер! Если мы вернемся без орихалка, мой дом продадут за долги, моих сыновей закуют в цепи и отправят гребцами на галеры, а дочерей отдадут Белым Сестрам… Лучше мне будет сдохнуть от голода или пойти на корм рыбам, чем стать свидетелем такого позора. Если вы погибнете, я прокляну тот день, когда подал Их Величествам записку об Острове Орихалка…
Он обхватил руками свою лысую голову и начал раскачиваться из стороны в сторону, как это делают профессиональные плакальщицы. Кешер наблюдал за ним с нескрываемым удивлением.
— Стоит ли так убиваться из-за пустяков? У вас пока есть и корабль, и команда, и прекрасный домик на набережной Второго Кольца, а если боги будут благосклонны к вам, то все это умножится десятикратно… Взгляните лучше на меня — вот кто воистину должен рвать на себе волосы! Я потерял все, что имел, — богатство, положение при дворе, виллу на Изумрудном острове, невесту, происходившую из благороднейшего дома Аталанты, дюжину любовниц, превосходящих своим искусством саму Небесную Деву… Вместо того чтобы стоять по правую руку от Их Величеств, носить копье с лазоревыми перьями за спиной Господина Моря, командовать отрядом Возлюбленных Братьев Владыки Запада и Востока, я вынужден прозябать здесь, на вашей пропахшей луком триере! И что же, по-вашему, я похож на человека, погруженного в пучину горя?
Некоторое время Цаддак тяжело смотрел на него.
— Нет, мастер Кешер, — проговорил он наконец. — Не знаю уж почему, но мне сдается, что вы не слишком-то убиваетесь из-за своей опалы.
Молодой человек снова расхохотался, запрокинув голову.
— Потому что мне на нее наплевать, — сообщил он, отсмеявшись. — Я уже говорил вам, капитан, — мне ничего не нужно от жизни. Все, что я хотел получить от нее, я успел получить прежде, чем мне исполнилось восемнадцать. Теперь, какой бы подарок она мне ни преподнесла, я приму его равнодушно. Суждено мне погибнуть на этом острове — что ж, стало быть, я погибну. Никто и не заметит, что младшего сына Великого Мастера Меча Тантала Аш-Тот, любимца прекраснейших дев Аталанты, уже нет на этом свете… Ладно, ладно, не расстраивайтесь так, старина, — великодушно добавил он, увидев, как вытягивается лицо капитана. — Скорее всего, я все же вернусь. Меня слишком хорошо выучили искусству любой ценой оставаться в живых.
Он толкнул дверь и шагнул за порог. Мечи, которые неизбежно должны были задеть за косяк двери, не только за него не задели, но даже не брякнули — будто приросли к узким бедрам молодого человека. Цаддак хмуро смотрел ему вслед.
Покинув каюту капитана, Кешер Аш-Тот полупьяной походкой прошествовал на корму триеры, где несколько матросов под одобрительные выкрики абордажников и болтавшихся без дела бичевателей упражнялись в подъеме груза с помощью простейшей лебедки. Лебедкой служила рея кормовой мачты, грузом — небольшая лодка, в которую для тяжести бросили двух стреноженных овец. Лодка покачивалась над палубой на двух канатах, то взмывая вверх, то с размаху стукаясь о просмоленные доски. Овцы жалобно и безнадежно блеяли при каждом ударе, приводя в восторг жестокосердых зрителей.
— Бараны вы, — сказал Кешер, подходя. — Хэмазу свидетель, попробуете уронить таким вот манером меня — пожалеете, что на свет родились.
Шутки и смех немедленно стихли. Воины и матросы, скроив похоронные физиономии, угрюмо рассматривали щегольски одетого молодого человека.
— Надеюсь, мне никого не придется предупреждать дважды, — высокомерно произнес Кешер и обернулся к бичевателям. — Эй вы, обезьяны, быстро спуститесь в мою каюту и помогите слуге принести вещи. Я отплываю немедленно. Лодку освободить, — это уже относилось к матросам. — И не забудьте хорошенько ее промыть — она вся провоняла овечьей мочой…
Отдав необходимые распоряжения, он отвернулся к борту и принялся рассматривать дрожащую водяную преграду, поднимавшуюся к небу на расстоянии пяти полетов стрелы от триеры. Какая мощь, думал молодой человек, какая невероятная, воистину божественная мощь… Такая волна может легко слизнуть с лица земли великолепную столицу Аталанты, Город Трезубца, вместе с ее дворцами, храмами и богатыми виллами. Он представил, как вся эта масса воды возносится над Домом Владыки Востока и Запада, и губы его непроизвольно скривились в неприятной усмешке. Нет, сами по себе гигантские волны еще не чудо: мало ли что разгневает властелина глубин Эа, насылающего на мир опустошительные наводнения… Но волна, поднимавшаяся между триерой и островом, чьи очертания едва проглядывали за колышущейся зеленоватой стеной, словно замерла в высшей точке. Она не обрушивалась и не росла; издалека она вообще казалась неподвижной, хотя, разумеется, это было невозможно. Что-то не так, думал Кешер Аш-Тот, рассматривая вскипающие у ее подножия буруны, да что там, с ней все не так… Когда дурачок кормчий пытался рассказать мне о Великой Волне, преграждающей путь к сокровищам Острова Орихалка, я воображал, что речь идет о необычайно высоком приливе, не позволяющем кораблям подходить к берегу… О приливе, по гребню которого можно проскользнуть на легкой лодке. Но попробуй преодолей на овечьем корыте эдакую громадину!
Размышления его прервал ломкий мальчишечий голос:
— Эй, Макум, одноухая скотина, куда мешок попер? Сюда ложи, под рогожку… Да ремешком затяни потуже, а то смоет волной, точно смоет! Лилу, кто ж так канаты крепит, пенек дубовый? Сдается мне, матушка тебя от лесного демона нагуляла, вот у тебя вместо рук коряги-то и выросли… Ох, утопите вы нас с господином, шлюхины дети, как пить дать, утопите! Ну, ничего, бездельники, я к самой Цефер-Хали жаловаться приду, к владычице подземного мира, уж она вас там встретит и за все наши беды спросит…
Кешер неторопливо обернулся. Толпа праздно глазеющих на овечье корыто воинов и надсмотрщиков рассосалась, и теперь рядом с лодкой суетились только трое матросов, подгоняемых тощим чернявым мальчишкой, все облачение которого составляла белая тряпка, обернутая вокруг смуглых бедер. На загорелой до черноты спине с выступающими острыми лопатками виднелись светлые рубцы от давнишних ударов плетью — такие рубцы остаются у гребцов на кораблях, чьи капитаны экономят на заживляющем раны жире морского зверя селапа. Хотя парень костерил грузивших в лодку вещи матросов отборными портовыми словечками, те только посмеивались да порой шутливо замахивались на него, грозя отвесить наглецу оплеуху.
— Ори! — позвал Кешер, и мальчишка, увернувшись от карающей длани одноухого Макума, приблизился к нему. — Ты не забыл вложить в мешок два надутых воздухом бычьих пузыря?
Тот, кого он назвал Ори, широко улыбнулся. Несмотря на нехватку нескольких передних зубов, зрелище вышло совершенно очаровательное.
— Конечно, нет, господин. Я сложил в мешок все, что вы велели, и шкурами для верности укутал, а то эти сиволапые что-нибудь обязательно раздавят…
— А маленький желтый бурдючок взял? — продолжал допытываться Кешер.
Мальчик кивнул.
— Господин, а как мы попадем на остров? Матросы болтают, что остров этот священный, а стену водяную здесь сам Владыка Глубин Эа поставил, чтобы никто в его владения не мог проникнуть…
Кешер хмыкнул. Мальчишка, не сводивший с него восхищенного взгляда, тоже улыбнулся, но как-то неуверенно.
— Владыка Эа нас пропустит, — успокоил его Мастер Меча. — Если, конечно, ты взял с собой маленький желтый бурдючок.
— А что там, господин?
Улыбка исчезла с лица Кешера.
— Ты слишком любопытен, дружок. Разве этому учили тебя наставники твоего Дома?
Мальчик вздрогнул и машинально потрогал лоб. Там, полускрытый длинной, похожей на крыло ворона, челкой, синел выколотый бронзовой иглой иероглиф — знак принадлежности к Дому Орихалка. Такие татуировки делают детям, которых родители продают в храмовое рабство; в отличие от выжженного клейма домашнего или государственного раба, они не считаются позором, но всегда напоминают о том, что жизнь их владельца навсегда посвящена тому или иному божеству. Божество — покровитель Дома Орихалка звалось Водан и изображалось в виде двухголового подземного дракона, поэтому иероглиф, выколотый на лбу Ори, читался как «огненный змей». Тайное значение этого древнего символа было известно на корабле только самому Ори и его хозяину Кешеру Аш-Тот; кое о чем догадывался сумасшедший кормчий, но предпочитал помалкивать.
Морской Лис наблюдал за приготовлениями Кешера и его слуги, спрятавшись в маленькой, пропахшей рыбой пристройке, которую кухарь Титус в благополучные времена использовал как коптильню. Из своего укрытия он увидел, как матросы подняли лодку и осторожно завели ее за борт триеры, так, что она оказалась на одном уровне с палубой. Затем на корму прошествовал, покачиваясь, капитан Цаддак, еще более важный и нетрезвый, чем обычно.
— Да пребудет с вами покровительство богов, мастер Кешер, — торжественно произнес он и широко расставил руки, собираясь обнять молодого человека на прощанье. Тот с удивлением посмотрел на капитана и, отстранившись, перепрыгнул через борт в лодку, где, вцепившись в драгоценный мешок, уже сидел Ори.
— Благодарю, капитан, — церемонно произнес он. — И вам желаю того же, особенно если вы все-таки решитесь пойти к этим вашим Поющим Змеям. А если не решитесь, желаю вам терпения, чтобы дождаться Ночи Двух Лун… — Он подергал уходивший к рее носовой канат и махнул рукой замершим в ожидании матросам. — Опускайте, да смотрите поосторожнее. От болтанки у меня голова кружится.
Цаддак на мгновение замер, затем хлопнул ладонями по коленям и расхохотался. Матросы тоже заулыбались, правда, словно через силу. Потом начали понемногу травить канаты, опуская лодку на воду.
Когда голова Кешера скрылась за резным бортиком триеры, кормчий выбрался из своего укрытия и, не торопясь, подошел к Цаддаку.
— Слава Хэмазу, — сказал он негромко. — До смерти надоела эта вонь…
— Ты несправедлив, приятель, — также вполголоса заметил капитан. — Мастер Кешер душится не хуже дорогой куртизанки с улицы Розовых Лепестков.
В десяти локтях внизу лодка осторожно коснулась днищем воды и заплясала на волнах. Ловкий, как обезьяна, Ори сразу же принялся отвязывать носовой конец, балансируя на одной ноге.
— Я не об этом хлыще, — покачал головой Морской Лис. — Хотя мне и не по нраву, когда мужчина притирается миррой и мускусом, в самих этих запахах ничего неприятного нет. Ты знаешь, о чем я, Цадда-малыш.
— О, перестань, — сморщился капитан, не любивший, когда его так называли. — Никак не выбросишь из головы свои бредни? Оглянись вокруг — сейчас день, и тебе полагается быть нормальным…
— Считаешь меня сумасшедшим? — разозлился кормчий. — А между тем я не такой безумец, как ты. Тебе орихалк заслоняет весь мир, вот ты и не видишь, что делается у тебя под носом… А у меня просто нюх на мертвечину!
Он сплюнул на палубу, бросил гневный взгляд на матросов, с интересом прислушивавшихся к их разговору, и, круто развернувшись, зашагал прочь.
Капитан Цаддак, опершись на бортик, некоторое время наблюдал за тем, как крохотное суденышко скользит по волнам, удаляясь от триеры и подбираясь к встающей из океана зеленой стене. Он знал, что с этой минуты для него начнется ожидание — долгое и почти бессмысленное. Гигантская волна может раздавить лодку в щепки через полчаса, но море не выдаст эту тайну, и он, ни о чем не подозревая, станет ждать возвращения Кешера до следующей Ночи Двух Лун… Капитан тяжело вздохнул и в который раз пожалел, что у него на корабле нет своей провидицы. Ничего, подумал он, если Кешер справится и я вернусь в Аталанту с полными трюмами орихалка, я куплю себе целую флотилию, и на каждом корабле у меня будет по предсказательнице. Нет, лучше я перекуплю Главного Оракула Дома Кораблей. Цаддак Великолепный, основатель собственного торгового дома. Или нет: Цаддак Счастливый, Князь Орихалка… Служители Бодана просто обязаны пожаловать ему такой титул. В конце концов, кто, как не он, Цаддак, открыл для них богатейшие месторождения божественного металла, запасы которого уже полвека как истощились в земле Аталанты? И кто, как не он, Цаддак, сумеет наладить бесперебойную доставку орихалка из южных морей в гавань Города Трезубца? Если бы не волна, подумал он с досадой, если бы не проклятая неподвижная волна, преграждающая путь кораблям к гаваням Острова Орихалка… Капитан вспомнил, как его прекрасная «Цветок Белого Лотоса», наткнувшись темной, безлунной ночью на полосу бушующих вод у подножия Великой Волны, рассыпалась на куски, словно сжатая в кулаке гиганта… Да, если бы не волна, кто-нибудь из народов моря наверняка добрался бы уже до сокровищ этого острова. В этом смысле ему, безусловно, повезло… с небольшой, но необходимой оговоркой — если только не подведет Кешер.
Цаддак вспомнил холодное, надменное лицо служителя Бодана и его тяжелые, словно падающие в песок орихалковые слитки, слова:
— Мы поможем вам добыть денег на ваше плавание, капитан. Но у нас есть условие: вы возьмете с собой человека, которого мы вам укажем. Этот человек поможет преодолеть магическую оборону открытого вами острова…
«Великий колдун, — робея, подумал тогда Цаддак. — Придется брать на борт колдуна…» И ошибся — вместо умудренного годами мага на палубу «Сверкающего копья» ступил молодой повеса, с позором изгнанный из отряда царских телохранителей и попавший в немилость к Их Величествам из-за какой-то грязной истории с убийством на почве ревности. Несмотря на высокомерный нрав, капитану он нравился — интересный собеседник, знающий все закулисные интриги двора, сибарит, захвативший в путешествие большой сундук с благородными винами, азартный игрок, часто и легко проигрывавший капитану в кости довольно приличные суммы… Но симпатия симпатией, а как ожидать от такого мотылька, что он сумеет справиться с силой, поднявшей к небесам волну высотой в пятьсот локтей? И хотя капитан продолжал втайне надеяться, что под маской придворного щеголя скрывается грозный и могущественный чародей, по трезвом рассуждении выходило все куда как прозаичнее: служители Бодана просто спихнули ему опального царедворца, от которого по каким-то причинам сложно было избавиться в столице. Заодно и слугу из своих на корабль пристроили — то ли за Кешером присматривать, то ли за ним, Цаддаком. А то набьет капитан трюм орихалковыми самородками да и направит корабль куда-нибудь в гавани Благодатного Полумесяца, вместо того чтобы смиренно сложить добытые сокровища у ног Их Величеств, Господ Моря и Суши…
Помоги им, горячо взмолился Цаддак, обращаясь к За — Владыке глубин и покровителю моряков. Помоги этим двоим живыми добраться до земли, как помог когда-то мне. Помоги, и, вернувшись в Город Трезубца, я принесу тебе в жертву самого тучного тельца из тех, что пасутся на пастбищах Аталанты.
Он крепко вцепился в поручень, наклонившись вперед и высматривая в волнах изогнутый силуэт маленькой лодки. Мастер Кешер, работавший веслом с неожиданной для его изящного сложения силой, преодолел уже больше половины расстояния, отделявшего триеру от полосы белопенных бурунов. Цаддак, прищурившись до рези в глазах, наблюдал, как крошечное суденышко, не замедляя скорости, взлетает на гребень нависшей над провалом волны и исчезает в невидимой с палубы кипящей бездне. Внутри у него все замерло, будто он сам обрушился в колышущуюся пучину. Проклиная не вовремя обидевшегося Морского Лиса, обладателя единственного на «Сияющем копье» магического кристалла, приближавшего самые удаленные предметы на расстояние вытянутой руки, капитан всматривался в даль, надеясь увидеть, как лодка с Кешером и Ори выныривает из бушующих волн у подножия водяной стены, но тщетно. Лодка исчезла, то ли раздавленная могучим напором воды, как это было с «Белым Цветком Лотоса», то ли захваченная водоворотом и пошедшая ко дну, в царство Великого Эа. Цаддак еще долго стоял у борта, пытаясь разглядеть хотя бы всплывший на поверхность мешок, но так ничего и не увидел.
3. Ори
Кто-то бил его по щекам. Каждый удар отзывался в голове глухим гулом, словно вместо головы у него был барабан. Ори с огромным трудом приподнял веки, залепленные засохшей слизью, и попытался сфокусировать взгляд. Все плыло и струилось, будто он еще находился под водой. Высоко в черном небе сияли крупные звезды. На их фоне громоздилась бесформенная темная фигура, мерно раскачивавшаяся из стороны в сторону и лупившая его по лицу тяжелой, железной ладонью. Ори попытался уклониться — в то же мгновение позвоночник пронзила острая боль, и он застонал.
— Живой, — произнес знакомый голос. — Что ж, слава Хэмазу…
Хозяин, подумал Ори прежде, чем вспомнил имя своего господина. Это хозяин, он меня вытащил… Кешер, Кешер Аш-Тот, Мастер Меча…
— Ну, хватит валяться, — сказал хозяин. — Маску можешь снять, тебе она больше не нужна. Воды ты глотнул немного, если бы не поднырнул под лодку и не получил килем по башке, скакал бы сейчас, как горный козел… Ну, давай, давай, поднимайся.
Маска, подумал Ори, чуть удивившись, какая маска? Тут он вспомнил, как хозяин развязал маленький желтый бурдючок (их лодка была уже неподалеку от страшного кипящего провала и приближалась к нему все быстрее) и извлек на свет две полупрозрачные тонкие маски, сделанные словно бы из рыбьего пузыря. Одной такой маской он залепил себе лицо, а вторую приказал надеть Ори. Так вот, значит, что это на глазах — вовсе не слизь, а маска…
Он с облегчением содрал с себя тонкую, прилипшую к коже пленку. Дышать сразу стало легче, как если бы раньше воздух проходил в легкие через какую-то преграду. Впрочем, может, именно так оно и было — первые минуты, проведенные в маске, он почти задыхался, зато когда на лодку обрушилась огромная, застилающая небо волна, оказалось, что странная пленка совсем не пропускает воду. Ну, может быть, чуть-чуть: все-таки в конце концов он нахлебался. Однако если бы не маска, это произошло бы гораздо раньше.
Ори с трудом приподнялся на локтях. Движения причиняли боль, хотя и не такую острую, как та, что минуту назад белой молнией прожгла ему спину. Когда-то давным-давно младший жрец Дагон переусердствовал во время ежевечерней экзекуции и ударом плети повредил семилетнему Ори позвоночник. Целителям Дома Орихалка удалось поставить мальчика на ноги, но время от времени старое увечье напоминало о себе. Что касается брата Дагона, то к тому времени, когда Ори выздоровел, он уже давно насаждал культ Водана в одной из заштатных колоний Аталанты.
— Вставай и принеси воды, — велел хозяин. Голос у него был веселым — значит, пока все шло так, как он и задумывал. — Да пошевеливайся — у нас гости.
Ори, постанывая, встал на четвереньки. Влажный песок разъезжался под ладонями. Повернув голову, он увидел горевший неподалеку небольшой костер, издававший сердитое шипение и разбрасывавший вокруг яркие искры. Дрова сырые, подумал Ори, вот и шипят, как потревоженные змеи…
У костра сидела женщина. Лицо ее скрывалось в тени, но Ори разглядел длинные черные волосы, ниспадавшие на полные, жирно поблескивающие в отблесках пламени бедра. Она сосредоточенно смотрела в огонь, не обращая на мальчика внимания.
— Уже иду, господин, — заверил он мастера Кешера и, шатаясь, поднялся на ноги. Судя по всему, они находились на берегу, шагах в двадцати от кромки волн. Невидимое море мерно вздыхало где-то в темноте. — Сейчас, только возьму кувшин…
— Кувшин раскололся, дурачок, — хмыкнул хозяин. Он стоял вполоборота к мальчику, наклонившись почти до земли, и что-то делал с лежавшим на песке темным предметом неопределенных очертаний. — Десять пинт не самого плохого на свете пива достались старому пьянице Эа…
Уцелевшие после крушения лодки вещи кучей были свалены у костра. Ори осторожно приблизился к огню, украдкой бросая любопытные взгляды на женщину. Как оказалось, та не просто любовалась языками пламени, а поджаривала над окаймлявшими кострище угольями толстую ящерицу, насаженную на длинный прут. Когда Ори стал рыться в груде вымокших вещей, она подняла голову и мельком взглянула на него.
Ведьма, подумал мальчик, внутренне содрогаясь. Вон какие глазищи… Уж не хочет ли она околдовать хозяина?
Мастер Кешер поднял с земли загадочный темный предмет, и Ори увидел, что это тушка небольшого зверька, уже лишенная шкуры, — хозяин, стало быть, занимался свежеванием.
— Сегодня у нас на ужин крольчатина, — объявил он. — Впрочем, есть и деликатесные мясные ящерицы, которыми нас любезно угощает наша гостья…
Ящериц жрет, неодобрительно подумал Ори. Точно ведьма.
— Что ты там копаешься? — рассердился мастер Кешер. — Я собираюсь варить похлебку, а воды что-то не вижу!
Ори откопал из-под тяжеленных намокших шкур, в которые были завернуты мечи хозяина, пустой кожаный мех, закинул его за плечо и сделал несколько шагов прочь от костра.
— Ну и куда ты собрался? — ехидно спросил за спиной хозяин. — Воду для похлебки из моря брать будешь?
И правда — Ори сообразил, что идет по направлению к рокочущему в темноте приливу. Видно, пока душа его странствовала по бесплодным землям у самого края страны мертвых, она окончательно поглупела.
— Где-то в зарослях есть источник, — мастер Кешер махнул рукой в противоположную от моря сторону. — Во всяком случае, так говорит Нина. И, ради Хэмазу, давай-ка побыстрее, а то я решу, что ты задумал уморить меня голодом.
Нина, неодобрительно думал Ори, углубляясь в невысокий колючий кустарник, окаймлявший песчаную полосу пляжа. Подумаешь, Нина… Откуда она только взялась, эта жирная корова… С одной стороны, конечно, хорошо, что первый, кого они встретили на острове, — не демон и не чудовище, а нормальный человек, хотя и женщина. С другой — уж больно она все-таки походит на ведьму. Вдруг она попробует околдовать хозяина?
При этой мысли Ори почувствовал знакомое покалывание в переносице и громко хлопнул себя ладонью по лбу. Мастер Кешер не позволял ему потакать своей силе. Когда в самом начале плавания Ори разозлился на абордажника Фаруха, позволявшего себе отпускать грязные шутки о хозяине, мастер отругал его так, что мальчик навсегда зарекся пользоваться силой без разрешения. Нет, господин не бил его — вообще никогда не бил, если, конечно, не считать дружеских тычков и подзатыльников, которые Ори только рад был получать от обожаемого хозяина. Но когда мастер Кешер по-настоящему сердился, Ори чувствовал себя последней бестолочью. Такой великолепный, такой благородный человек, как его хозяин, был достоин иметь самого лучшего слугу. Вместо этого у него в помощниках оказался глупый, нерасторопный, не обладающий глубокими познаниями храмовый раб, вся ценность которого заключалась в его редком и страшном даре. И даже этот дар он не мог использовать, не опасаясь неудовольствия своего господина…
Источник он нашел не сразу, успев исколоть по дороге ноги и больно поранив шею. Погрузил мех в неглубокую впадину в земле и замер, наслаждаясь леденящим прикосновением родниковой воды к ноющим, исцарапанным рукам. Когда пришла пора вытаскивать раздувшийся мех, в пальцы Ори сам собой скользнул тяжелый, с острыми углами камешек. Мальчик попробовал рассмотреть его при неверном свете склоняющейся к горизонту Ианны — тщетно. Тогда Ори сунул его в складку набедренной повязки, крякнув, взвалил на плечо наполненный водой бурдюк и зашагал к костру.
За то время, пока он отсутствовал, на берегу произошли некоторые изменения. Женщина уже не жарила ящерицу над угольями, а полулежала на влажных шкурах, царственным жестом протягивая кусок красноватого мяса присевшему рядом с ней мастеру Кешеру. Ее короткая кожаная рубашка была расстегнута совершенно бесстыдным образом — так, что большая, словно вымя недоенной коровы, грудь почти вываливалась наружу.
— Вода, господин, — громко объявил Ори, надеясь отвлечь хозяина от лицезрения прелестей предполагаемой ведьмы. — Где греть будем?
Мастер Кешер не ответил. Он с достоинством принял из рук развалившейся на шкурах женщины кусок ящерицы и с улыбкой поднес его к губам. Неужели будет есть? — с ужасом и отвращением подумал Ори. — Это же хуже, чем корабельных крыс жрать…
Но хозяин, очевидно, думал иначе. Он впился зубами в мясо, быстро прожевал его и без видимого напряжения проглотил.
— Великолепно! — воскликнул он, не сводя глаз с расстегнутой рубашки Нины. — Никогда не думал, что эти твари такие вкусные. Позволь отблагодарить тебя, красавица…
С этими словами он наклонился к женщине, явно намереваясь ее поцеловать. Однако Нина оказалась недотрогой. Что-то коротко свистнуло в воздухе, и, прежде чем Ори успел понять, что ведьма пыталась хлестнуть хозяина по лицу, прут, перехваченный рукой мастера Кешера, сломался с противным хрустом, похожим на звук ломающейся кости.
— Спокойно, — быстро сказал хозяин, оборачиваясь. Ори так и не понял, к кому он обращался — к Нине или к нему. Если к нему, то предупреждение оказалось своевременным — переносицу уже жгло, как огнем. — Спокойно, я разберусь сам…
Ори вспомнил вытаращенные, залитые кровью глаза абордажника Фаруха и его замутило. Когда абордажник в очередной раз предположил, за какие заслуги такого красавчика, как мастер Кешер, держали при себе Их Величества, Ори не выдержал. Сила, разъедавшая его череп изнутри, вышла из невидимой точки между бровями и коснулась Фаруха. Абордажник оборвал фразу на полуслове, схватился за горло, захрипел и, пошатнувшись, упал посиневшим лицом на стол, опрокинув кружку с пивом. Пораженная команда решила, что мастер Кешер никакой не бывший королевский телохранитель, а невероятно сильный черный маг, владеющий искусством насылать проклятие невидимой смерти. С тех пор его стали бояться, и никто уже не позволял себе высмеивать хозяина — во всяком случае, Ори про такие шутки больше не слышал. То, что в гибели Фаруха все на корабле винили не его, а господина, страшно огорчало мальчика, но Кешер строго-настрого запретил ему рассказывать кому-либо о своем даре. И Ори, боготворивший хозяина, терпел и молчал, хотя искаженное судорогой лицо абордажника часто являлось ему в ночных кошмарах.
Пока Ори боролся с собой, мастер Кешер постепенно преодолевал сопротивление Нины. Он отвел назад ее руку, все еще сжимавшую обломок прута, прижал к земле, затем медленно склонился над девушкой и приник к ее губам. Нина запрокинула голову так, что роскошные черные волосы тяжело упали на шкуры, уперлась свободной рукой в грудь мастеру Кешеру, но вырываться почему-то не стала. Ори с минуту смотрел, как они целуются, потом с досадой плюнул и отвернулся — искать горшок для похлебки.
К тому моменту, как хозяин и ведьма оторвались друг от друга, Ори успел вскипятить воду. Мастер Кешер как ни в чем не бывало легко вскочил на ноги, покрошил в горшок зелень, швырнул щепотку соли и кинул мясо. Раскрасневшаяся Нина наблюдала за его действиями с ленивым любопытством.
Интересно, почему она все время молчит, подумал Ори. Она что, немая? Но как тогда хозяин узнал от нее про источник?
Он расстелил на земле немного подсохшую шкуру и прилег, повернувшись к огню спиной. От костра исходило приятное, расслабляющее тепло, и мальчик почувствовал, что, несмотря на голод и боль в разбитом теле, его начинает медленно затягивать в трясину сна. Вот засну, испугался он, а похлебка-то и сбежит, достанется мне тогда от хозяина! Ори попытался прогнать наваждение — безуспешно. Колдовство, шептал чей-то едва различимый голос у него над ухом, это колдовство, ведьма нарочно усыпляет вас, убей ее, пока не поздно… Он со стоном перевернулся на живот, и в тот же миг что-то острое вонзилось ему в бедро. Ори открыл глаза и с облегчением понял, что больше не спит. Вонзившийся в ногу предмет оказался давешним камешком со дна источника. Он осторожно высвободил находку из складок набедренной повязки и, снова повернувшись к огню, принялся с интересом рассматривать. Маленький, с колючими игольчатыми выступами, осколок странного темно-красного цвета — явно часть чего-то большего. Ори подышал на место скола, протер его краем своей повязки. Темно-красный камешек на глазах превращался в ярко-алый, полыхавший огнем, словно где-то в глубине его тоже горел крохотный костер.
— Что это у тебя? — спросил хозяин.
Спросил очень спокойно, но Ори вздрогнул. За время путешествия он хорошо изучил интонации своего господина.
— Нашел, — виновато сказал он, косясь на мастера Кешера. — Когда за водой ходил…
— Дай сюда, — велел хозяин.
Ори вскочил и, обежав вокруг костра, протянул камешек мастеру. Кешер, не отрываясь от поглаживания Нининого бедра, взял камешек свободной рукой, покрутил, чтобы свет от костра падал на его грани и выступы, и, наконец, лизнул. Лицо его приняло одобрительное выражение, словно не мертвый камень довелось ему облизать, а медовые соты.
— Это он, — заявил Кешер, царапая скол ногтем большого пальца. — Никаких сомнений. Ни один металл в мире не способен так огненно сверкать.
— Орихалк, — произнес Ори едва слышно.
Хозяин кивнул.
— Не думаешь же ты, что случайно нашел его, малыш? Видно, твои наставники хорошо тебя учили…
Ага, подумал Ори, учили меня, как же… Он действительно воспитывался в Доме Орихалка с младенчества — если быть точным, то с года и двух месяцев, когда его, завернутого в какие-то тряпки и уложенного в ивовую корзинку, обнаружили у дверей Дома ночные стражники. Но, хоть он и считался одним из Великих Домов Аталанты, тайны священного металла раскрывали далеко не всем его ученикам и послушникам. Ори, во всяком случае, никто ничего рассказывать не собирался. Сначала ему поручали тяжелую и грязную работу на храмовой кухне, а когда он немного подрос, перевели на конюшню — ухаживать за Конями Бодана. Раз в десять лет двухголовый змей поднимался из глубин земли и требовал жертву — двух лучших коней огненно-рыжей масти. Коней, похрапывающих от страха, заводили под уздцы в большую Пещеру Змея и оставляли там за крепко запертыми бронзовыми дверями. Наутро от жертвенных животных оставались только дочиста обглоданные белые кости — видно, за десять лет Водан успевал здорово проголодаться.
Ори было жаль коней. Такие красивые, благородные, смелые — им бы нести сквозь огонь и гром битвы отважных воинов, гарцевать под седлом победоносных полководцев… А их растят для того, чтобы скормить гигантскому земляному червю, пусть даже и двухголовому.
Ему не исполнилось еще семи лет, когда жрец — смотритель конюшни, важно прошествовав между стойлами, дважды ударил своим деревянным посохом в землю, выбрав тех, кому предстояло отправиться в Пещеру Змея в следующий раз. Сердце Ори упало — одним из предназначенных в жертву Водану оказался его любимец, золотистый гигант по имени Блеск. Две ночи подряд он плакал, сжимая кулаки и воображая, как он спасает Блеска от страшного божества. Но наступало утро, и мальчику становилось ясно, что он ничего не может сделать. Его теперь даже не подпускали к Блеску — двух жертвенных коней держали отдельно от прочих, и ухаживали за ними теперь младшие жрецы. Но на саму церемонию жертвоприношения Ори попасть все-таки удалось — маленький рост и ловкость позволили ему протолкаться в первый ряд зевак, толпившихся по бокам священной дороги Бодана, по которой кони поднимались к Пещере Змея.
Когда Блеск, нехотя переступая ногами, проходил мимо Ори, мальчик вдруг почувствовал, как что-то легонько щекочет его переносицу изнутри. Сначала он подумал, что это слезы, и, устыдившись, опустил голову. Любовь к Блеску и позорное ощущение собственного бессилия переполняли его. Глядя себе под ноги, он протянул руку, чтобы в последний раз дотронуться до гладкого, лоснящегося крупа коня.
Блеск споткнулся. Передние ноги его подломились, и он тяжело рухнул на колени, заржав жалобно и испуганно.
В то же мгновение Ори испытал чрезвычайно приятное чувство — словно ему удалось наконец помочиться после многих часов вынужденного воздержания. Невидимое перышко перестало щекотать его переносицу. Все тело стало невесомым, как наполненный теплым воздухом бычий пузырь. Ноги отказали мальчику, и он мягко осел на землю.
Толпа замерла в священном ужасе. Дорога Бодана представляла собой довольно крутой подъем, вымощенный плитами мягкого известняка. Хотя за многие века копыта жертв оставили на плитах глубокие выбоины, подниматься по дороге было не очень сложно. Куда легче, чем по скользкому, усыпанному щебнем склону горы, на котором жрецы готовили коней для торжественной церемонии.
Падение жертвенного коня, без всякого сомнения, означало недовольство Бодана. Нечего было и думать о том, чтобы запирать оступившееся животное в пещере: Водан мог разгневаться окончательно и начать метаться под землей, ударами своего огромного хвоста разрушая каменные колонны, поддерживающие столицу Аталанты. В прежние времена, если верить старикам, такое уже случалось. Поэтому младшие жрецы быстро отвели Блеска обратно в конюшни и вернулись с другим конем — злым и своенравным Кусакой. Ори, ошеломленный таким поворотом судьбы, чувствовал себя счастливейшим мальчиком на свете.
Счастье его продолжалось два дня. На третий день на конюшню пришел здоровенный послушник по имени Дагон и приказал Ори идти за ним. Когда стало ясно, что путь их лежит к расположенному в глубине храмовых садов зданию из темно-красного гранита, Ори прошиб холодный пот. Он, конечно, знал, что в Доме Орихалка существует Темный Покой, но до сих пор ни разу не приближался к нему, не говоря уже о том, чтобы войти внутрь. Прежде чем он сообразил, что к чему, Дагон пребольно ухватил его за ухо и потащил к завешенной черным покрывалом двери. Ори вывернулся, прокусил послушнику палец и тут же получил удар по голове, от которого в глазах поплыли яркие искорки, а в ушах застучали маленькие молоточки. В таком состоянии, мало что соображающий и чрезвычайно напуганный, он и предстал перед Хранителем Темного Покоя.
В тот день судьба его изменилась так же круто, как двумя днями раньше — судьба Блеска. Хранитель Темного Покоя, высохший, костлявый старик с туго обтянутым желтой кожей лицом, как выяснилось, тоже присутствовал на церемонии и видел, как Ори дотронулся до жертвенного коня. «Ты чувствовал что-нибудь здесь? — спросил он, ткнув каменным пальцем мальчику в переносицу. — Что-то вроде щекотки?» Ори кивнул и заплакал. Ему представилось, что сейчас его отведут в Пещеру Змея и бросят на съедение Водану. Он не понимал, в чем его вина, но старик явно имел в виду, что Блеск споткнулся не случайно. А раз так, то его, несомненно, ждет наказание…
Но все получилось по-другому. Хранитель Темного Покоя сказал, что отныне Ори станет настоящим слугой Водана, а не каким-то помощником конюха. Для того же, чтобы стать хорошим слугой, следует пройти обучение. Учиться Ори начнет прямо сейчас, а поможет ему в этом Дагон.
После этого державшийся за прокушенный палец послушник отвел мальчика в подвал, где в прочных деревянных клетках сидели большие жирные крысы. Там он поставил Ори на колени, зажал ему шею грубой, потемневшей от пота колодкой, не дававшей возможности повернуть голову, и приказал смотреть на крыс. После этого Дагон зашел к Ори за спину и принялся избивать его бамбуковой палкой. «Бить буду, пока крыса не сдохнет», — пообещал он. Крысы с интересом смотрели на Ори блестящими черными глазками. Подыхать они явно не собирались.
Ори, которого еще ни разу в жизни не били так больно и так долго, не выдержал и закричал. Дагон тут же прекратил экзекуцию и пообещал запихнуть ему в рот крысу. Угроза подействовала, но после десятого удара Ори потерял сознание.
Так началось его обучение в Доме Орихалка. Довольно скоро он догадался, чего от него добиваются: Хранитель Темного Покоя хотел, чтобы Ори научился по своей воле вызывать щекотку внутри головы, которая однажды помогла ему спасти Блеска. Сила, бросившая на колени огромного коня, сказал он мальчику, такого маленького зверька, как крыса, должна убить. Поэтому ты будешь учиться убивать крыс — просто силой своей ненависти. А чтобы ненависть твоя всегда оставалась свежей, Дагон будет бить тебя бамбуковой палкой.
Но Блеска ведь я люблю, возразил Ори, и я совсем не хотел ему ничего дурного… Ему было до смерти страшно спорить с Хранителем Темного Покоя, но долгие годы мучений в крысином подвале пугали его еще больше. К его удивлению, Хранитель не рассердился. Он вообще никогда не сердился, этот старый, похожий на мумию человек. Ненависть и любовь — это одно и то же, объяснил он Ори, они всегда вместе, словно две стороны одной монетки. Ты любил Блеска, но ненавидел мысль о том, что его могут принести в жертву. На самом деле Сила, которой наделил тебя Бодан, не имеет отношения ни к любви, ни к ненависти, но и любовь, и ненависть помогают ей проснуться. Мне все равно, кого ты будешь ненавидеть — крыс, Дагона или меня, но умереть должна крыса. И запомни — если что-то случится с Дагоном или со мной, тебя ждет котел с кипятком. Ты будешь вариться в нем долго и, прежде чем сваришься целиком, успеешь тысячу раз пожалеть о том, что родился на свет.
Ори испугался — еще сильнее, чем прежде. Вдруг толстый Дагон сломает себе руку или ногу и пожалуется Хранителю?
Тогда его наверняка бросят в кипяток… Не сказать ли, что он никогда не чувствовал в голове никакой щекотки? Мог же Блеск споткнуться случайно…
Но Хранитель даже не стал его слушать и велел Дагону отвести мальчика в подвал. А через несколько дней, заполненных регулярными избиениями, Ори убил свою первую крысу.
Он не понял, как это произошло. Палка Дагона внезапно замерла в воздухе, так и не опустившись на мокрую от крови спину Ори. Потом он увидел мертвого зверька — странно раздувшаяся крыса валялась на боку в своей клетке, глаза-бусинки подернулись матовой пленкой. И только после этого Ори почувствовал удивительную легкость, как будто у него из головы выдернули тяжелый и толстый гвоздь.
В этот день Ори не досталось больше ни одного удара. Но на следующее утро Дагон, как обычно, пришел за ним, отвел в подвал и лупил до тех пор, пока не сломал свою бамбуковую палку.
Обучение в Доме Орихалка продолжалось семь лет. За эти годы Ори не узнал о священном металле Бодана ровным счетом ничего, зато выучился владеть своим даром в совершенстве. Он мог убить взглядом муху на потолке, мог мысленно придушить кролика или свалить с ног королевского гепарда. Эти успехи были куплены дорогой ценой: за первой сломанной об его спину палкой последовала вторая, потом третья и четвертая; всего жрецы Темного Покоя истратили на него не меньше семи сотен палок, по сотне за каждый год обучения. Помня о котле с кипятком, он ни разу не поддался искушению обратить силу Бодана против кого-нибудь из своих учителей. К тому же запасы силы были небезграничны: если мух он без особого ущерба для здоровья мог морить сотнями, то после расправы с тремя огромными медведями-людоедами ему пришлось отлеживаться у себя в каморке почти сутки. Впрочем, сила росла с каждым годом — Хранитель как-то обмолвился мальчику, что, достигнув зрелости, он один будет стоить целого отряда хорошо вооруженных воинов.
Если бы не хозяин, подумал Ори, меня до сих пор лупили бы каждый день, а потом поливали спину морской водой, разъедающей раны… Но я не могу признаться хозяину в том, что не видел в Доме Орихалка ничего, кроме постоянной боли и мертвых животных. Не могу…
— Ну, я узнал, — пробормотал он смущенно. — Просто поверить не мог — он же почитай что под ногами валялся…
Кешер весело ухмыльнулся.
— Не соврал, стало быть, капитан. Так и говорил — орихалк на острове под ногами валяется…
Нина, не проявлявшая до того интереса к их разговору, вдруг приподнялась на локте и выхватила камешек из пальцев Кешера. Прежде чем тот успел остановить ее, женщина, коротко размахнувшись, швырнула орихалк в пламя костра.
Ори бросился было спасать драгоценную находку, но хозяин остановил его, подняв руку.
— Послушай, красавица, — сказал он, пристально глядя на Нину, — чем тебе так не угодил этот кусочек металла? У меня на родине за него дали бы много украшений, много всяких духов и притираний, которые так нравятся женщинам… Неужели ты столь богата, что можешь швыряться сокровищами?
Нина уткнулась головой в колени и забормотала что-то, горячо и невнятно. Язык вроде человеческий, подумал Ори, а вот говорит как-то чудно — ничего не разберешь. Впрочем, хозяин, кажется, все прекрасно понял.
— Ну, полно, принцесса моя, — успокаивающим тоном говорил он, поглаживая женщину по густым черным волосам, — не волнуйся так. Никакие сокровища мира не сравнятся с твоей красотой, о прекраснейшая… Твои глаза блестят ярче алмазов, твои волосы роскошнее королевских шелков… Грудь твоя словно две чаши из слоновой кости, и счастлив тот, кому доведется испить из этих чаш… Пока ты рядом, мне не нужны красные камни, поверь…
Нина подняла голову, и Ори с удивлением увидел, что в глазах у нее стоят слезы.
— Проклятая змеиная кровь! — произнесла женщина, немилосердно коверкая простые человеческие слова. — Из-за нее — зло, из-за нее — смерть. Из-за нее наш народ живет пленником на этом острове. Она привлекает сюда людей, приходящих из-за Великой Воды, и те, не в силах сопротивляться ее власти, попадают в пещеры подземных жителей и становятся пищей Белого Слепца. И ты, ты тоже пришел сюда за ней. Я вижу, я читаю это на твоем лице… Ты мог бы остаться, и мы жили бы счастливо, и я родила бы тебе детей… Но тебе не нужно ничего, кроме змеиной крови, и поэтому ты умрешь, как умирали все, кто приходил до тебя…
Хватит каркать, ведьма, хотел оборвать ее Ори, изрядно встревоженный страстной речью женщины. Половину услышанного он не понял, но и последнего предложения оказалось достаточно, чтобы уразуметь — ничего хорошего Нина им не предсказывает. Он украдкой взглянул на хозяина, но мастера Кешера, казалось, нельзя сбить с толку никакими пророчествами.
— Детей? — переспросил он с заметным воодушевлением. — Нина, сокровище мое, да ты просто в сердце моем читаешь! Если такая красавица, как ты, родит мне сына, значит, боги не зря послали меня в этот печальный мир! Предлагаю не откладывать это дело в долгий ящик — кто знает, что принесет нам завтрашнее утро. Ори, бездельник, как там наша похлебка?
— Готова, господин, — отозвался Ори, осторожно зачерпывая варево широкой плоской раковиной — ни одной ложки у них, разумеется, не осталось. — С красным перцем вкуснее вышло бы, но и так есть вроде можно…
— Поешь и ложись спать, — велел мастер Кешер. — Завтра нам предстоит большой переход, тебе лучше отдохнуть.
Ори нехотя кивнул. Перспектива заснуть в присутствии этой ведьмы его не слишком воодушевляла.
За мрачными мыслями он и не заметил, как опустошил свою миску. Внутри распространилось приятное, тяжелое тепло, и Ори снова начал подремывать. Повезло тебе с хозяином, прошептал ему в ухо мягкий вкрадчивый голос. Не бьет, работой не перегружает, едой делится поровну — во всей Аталанте второго такого не сыщешь… Это точно, мысленно согласился Ори с голосом, мастер Кешер самый лучший. Только вот приблуда эта, Нина… слишком он с ней ласково как-то, даже слушать неприятно…
Поев, он тактично отошел подальше, завернулся в шкуру и некоторое время лежал, прислушиваясь к тяжелому дыханию хозяина и Нины. Костер на таком расстоянии почти не согревал, и заснуть Ори никак не удавалось. В конце концов он начал потихоньку подползать обратно к огню, стараясь двигаться бесшумно и незаметно. Кешер, впрочем, вряд ли обратил бы внимание даже на табун скачущих мимо лошадей.
Нина тоже не отставала — ее стоны, как показалось Ори, могли услышать даже на болтающемся где-то в море «Сверкающем копье Хэмазу». Потом вскрики и постанывания наконец стихли, и на берегу вновь воцарилась тишина.
4. Кешер
Утро застало Кешера, Господина Мечей от Дома Аш-Тот, бывшего командира телохранителей наследного принца Аталанты, дремлющим на могучей груди мирно похрапывающей островитянки Нины. Чувствовал он себя превосходно — бурная ночь, вместившая в себя изрядное число любовных подвигов, не только не утомила его, но, напротив, освежила и придала сил. Кешер, вынужденно постившийся на протяжении двухмесячного плавания к острову Орихалка, наконец-то нашел возможность потрафить своей темпераментной и любвеобильной натуре, и благодарная натура в долгу не осталась.
Что ж, подумал он, приподнимаясь и потягиваясь, пока все идет великолепно, слава Хэмазу. Хорошо бы непостоянный и капризный господин Двух Лун не лишил нас своего покровительства, когда мы наконец доберемся до подземных городов.
Он осторожно поднялся на ноги, стараясь не разбудить женщину. Поискал глазами Ори — тот спал у погасшего под утро костра, с головой завернувшись в кошмарного вида шкуру. Бедняга, усмехнулся про себя Кешер, с каким испугом он косился вчера на Нину — наверняка принял ее за злого духа, подкарауливающего путников.
Нина и в самом деле подкарауливала выброшенных на берег путешественников, но совсем не для того, чтобы сожрать. Народ, к которому она принадлежала, медленно вырождался.
И сама Нина, и ее соплеменники были потомками команды аталантского корабля, потерпевшего крушение у берегов острова Орихалка двести лет назад. Тогдашние Господа Моря, оказывается, посылали торговые экспедиции даже в эти забытые богами воды. Великая Волна, преграждающая путь к Острову, поглотила корабль — он оказался затянут в бездну, расколот на несколько частей и выброшен на скалы. Что же касается команды, то значительная ее часть осталась жива и, осев на берегу, дала начало новому племени, называвшему себя аталантцами и претендовавшему на владычество над недрами и сокровищами острова. Все это Кешер в общих чертах знал уже из рассказов Морского Лиса; знал он и о том, что самозваные хозяева острова селятся только на равнинах, протянувшихся от побережья до предгорий внутреннего хребта, и никогда не заходят в горы. Никаких городов, напоминающих о величии далекой родины, у этих потомков потерпевших кораблекрушение не имелось. Они жили небольшими общинами, занимающимися земледелием, охотой и — по традиции — добычей орихалка. И Морской Лис, и капитан Цаддак в один голос твердили, что орихалка в их сокровищницах с тростниковыми стенами больше, чем в храмовых кладовых Великих Домов Аталанты. Что делать с таким баснословным богатством, островитяне, похоже, не знали — примитивная торговля между общинами в орихалке не нуждалась, а обменивать красивый и бесполезный металл на полезную пшеницу или кукурузу было не у кого. И все же потомки переселенцев помнили, что века назад в их родном краю темно-красный металл Бодана значил для их народа слишком много. Если верить капитану Цаддаку, тростниковые хижины, заполненные орихалком, почитались за святые места. Поэтому, увидев, как рассердилась Нина при виде найденного Ори самородка, Кешер по-настоящему удивился. Змеиная кровь, думал он, вспоминая горящие ненавистью глаза Нины, надо же…
Ночью Нина попыталась ему все объяснить. Кешеру стало смешно, но он нашел в себе силы выслушать женщину с невозмутимым выражением лица.
Время от времени Великая Волна выбрасывала на берег острова новых охотников за сокровищами. Многие из них оказывались настоящими страшилищами, чернокожими, узкоглазыми или разрисованными магическими письменами, но некоторые вполне годились для того, чтобы смешать свою кровь с кровью дочерей Аталанты. Несмотря на то что общины островитян практиковали обмен женихами и невестами между наиболее удаленными деревнями, на острове все чаще заключались браки между близкими родственниками. Старая кровь слабела, выдыхалась, превращалась в уксус. Дети появлялись на свет хилыми, болезненными, иногда слепыми, словно котята. Некоторые женщины, не желая рожать уродов, уходили из общин на берег, влекомые призрачной надеждой встретить там кого-нибудь из потерпевших кораблекрушение. Порой такое случается, рассказывала Нина, но еще никому из ее знакомых женщин не удалось завести прочную семью. Стоит путешественникам узнать об орихалке, как они тут же забывают своих подруг и уходят на поиски сокровищ в глубь острова. Уходят, чтобы никогда больше не вернуться.
Кешер слушал ее, сочувственно кивая. Капитан Цаддак и безумный кормчий тоже рассказывали ему о прекрасных девах острова Орихалка. Живут эти девы в дуплах больших деревьев, говорил Морской Лис, а под корнями тех деревьев целые лабиринты подземных нор. И когда девы заманивают путешественников в норы, то путешественники остаются там навсегда, ибо не могут найти выхода из сотканного корнями лабиринта…
Ты тоже уйдешь, сказала Нина, в кровь кусая его губы. Страсти и ярости в ней было на пятерых. Я знаю, я вижу по твоим змеиным глазам, ты тоже уйдешь искать свой орихалк…
Последнее слово она произнесла, как выплюнула. Слова она выговаривала со странным певучим акцентом — возможно, именно так говорили двести лет назад в Аталанте. Но слово «орихалк» вышло у Нины коротким, грубым, словно площадное ругательство.
— Уйду, — легко согласился Кешер. — Но я, в отличие от тех, что уходили раньше, обещаю вернуться.
Нина всхлипнула. Смешно было глядеть, как эта могучая, такая независимая с виду женщина, не стесняясь, ревет из-за того, что ее случайный друг собирается отправиться на поиски сокровищ.
— Не плачь, — попросил Кешер, нежно гладя ее по щеке — пальцы скользили между теплым бархатом кожи и холодным шелком длинных черных волос. — Не надо. Если хочешь, я могу взять тебя с собой.
От неожиданности Нина перестала всхлипывать. Вытерла уголком своей длинной рубашки слезы, поправила челку, недоверчиво, словно обиженный зверек, взглянула на Кешера.
— Нельзя мне, — сказала она тихо. — Женщина, которая уходит из общины, не может вернуться. Есть граница из белых камней, там, далеко. — Она махнула рукой куда-то в темноту. — Если я сделаю шаг за эту границу, меня ждет страшная смерть…
— Ну, ладно, — не стал спорить Кешер, — нельзя и нельзя. Подождешь меня с этой стороны.
Нина снова сделала попытку разрыдаться, но он остановил ее поцелуем. Целоваться с ней было все равно что с диким зверем — ожесточенная схватка вместо объятий и все губы в крови. Ласки островитянки не шли ни в какое сравнение с утонченным искусством любви, которым в совершенстве владели куртизанки Аталанты, но Кешеру это даже нравилось. Война, а не любовь, думал он, глядя в сияющие зеленым огнем глаза женщины, пожалуй, это то, что нужно. Эти дураки, Цаддак с Лисом, многое потеряли, прячась от здешних красавиц…
Теперь Нина спала, измученная ночной схваткой, и Кешер мог с полным основанием считать, что победа осталась за ним. Он отошел подальше от погасшего костра, сделал несколько дыхательных упражнений, прошелся по берегу колесом, потом извлек из свернутого втрое промасленного холста свои мечи и некоторое время забавлялся тем, что выписывал в воздухе изящной иератической вязью фразу: «Владыка Востока и Запада, Господин Моря, Воссиявший на Небосклоне Бога Лиирры — кастрированный баран». При этом большой меч писал эту фразу слева направо, а малый — справа налево. Спустя полчаса Кешер почувствовал, что взмок, словно раб, толкающий водяное колесо. Тогда он спрятал мечи и побежал к полосе прибоя.
Волны набегали на каменистую кромку берега с такой яростью, что казались цепными псами морского владыки Эа, пытающимися разорвать остров на части. Море клокотало между острыми, как клыки окаменевшего чудовища, скалами, расплескивалось пенными фонтанами, било в каменную грудь острова тяжелыми зелеными кулаками. Великая Волна по-прежнему вздымалась над грохочущей океанской кузней на расстоянии трех полетов стрелы от берега, но Кешер не мог отделаться от ощущения, что она придвинулась и вот-вот обрушится на остров. Далеко на востоке он увидел выдающийся в море скалистый мыс, почти соприкасающийся с гигантской водяной стеной. Должно быть, туннель, про который рассказывал капитан, где-то там, подумал Кешер. Хорошо бы проверить, да времени нет…
Он осторожно вошел в кипящую у берега воду, стараясь удерживать равновесие под ударами набегающих волн. В какой-то момент море все-таки сбило его с ног и проволокло по каменистому, усыпанному острыми раковинами дну. Кешер выскочил из воды, фыркая и отплевываясь, выбрался на песок и не без опаски оглядел себя, рассчитывая увидеть глубокие рваные раны. Но нет — кроме подживающих уже царапин, оставленных ногтями страстной островитянки, иных повреждений на теле не было.
Пока он плескался в волнах, проснувшийся Ори успел приготовить завтрак. Твердый, как камень, сыр, какая-то зелень, орехи, жалкие остатки вчерашней крольчатины — даже на борту «Сияющего копья» им доводилось трапезничать лучше. Но проголодавшийся как зверь Кешер набросился на еду с жадностью, удивившей даже его самого. Ори счастливо улыбался — он всегда радовался, если ему удавалось угодить хозяину.
— Разбуди ее, — велел Кешер, утолив голод. На большом листе пальмы, приспособленном Ори в качестве стола, оставался еще небольшой кусок сыра и горсть орехов. — Нам пора в дорогу.
— Она пойдет с нами? — мгновенно помрачнев, спросил Ори.
Кешер кивнул.
— Но недалеко. Только покажет путь — и назад. А ты что, до сих пор ее боишься?
Мальчик хмыкнул.
— Вот еще, скажете. Чего мне бабы бояться…
Дерзкий волчонок, подумал Кешер одобрительно.
— Значит, мне показалось, — улыбнулся он. — А раз показалось, тогда тем более буди ее быстрей. Нельзя терять время, скоро солнце поднимется в зенит…
К большому облегчению Ори, Нина проснулась сама. Потянулась, словно большая сытая кошка, демонстративно не обращая внимания на мальчика, поправила короткие кожаные штаны, для чего ей пришлось довольно высоко задрать рубашку, бросила презрительный взгляд в сторону остатков завтрака и, покачивая широкими бедрами, удалилась в заросли.
Когда она вернулась, неся в каждой руке по большому желтому клубню, только что выкопанному из земли, Ори помогал хозяину застегнуть на поясе перевязь с мечами.
— Еда, — коротко объяснила Нина, выкладывая клубни на пальмовый лист. — Настоящая. Можно испечь в золе.
Кешер покачал головой.
— Возьми с собой, мы поедим вечером.
Вместо ответа Нина нагнулась, схватила клубень и метнула ему в лоб. Кешер резко мотнул головой, и желтый шар величиной с голову младенца тяжело врезался в песок.
— Уходи, — крикнула женщина, — уходи искать свою проклятую змеиную кровь! Камни будешь есть, а не пищу! Мочу станешь пить, а не воду! Проклянешь день, когда отказался остаться со мной!
Кешер бросил незаметный взгляд на недобро набычившегося Ори. Больше всего хлопот в этом путешествии ему доставляла готовая в любой момент вырваться наружу сила мальчика. Дурацкая гибель абордажника на «Сияющем копье» научила его осторожности: если в начале плавания он относился к парнишке как к забавному домашнему зверьку-мангусту, то теперь видел в нем свой третий меч — отточенный до остроты обсидиановой бритвы и вдобавок обладающий собственной волей. Два долгих месяца, действуя уговорами и лаской, он приучал Ори к тому, что силу можно выпускать на свободу только по его приказу. И все равно каждый раз, когда Кешер видел, что мальчик глядит на кого-то, словно собираясь испепелить взглядом, ему становилось не по себе.
— Я вернусь, — сказал он. — Я всегда держу' свои обещания. Правда, Ори?
Мальчик слегка расслабился и снисходительно взглянул на Нину.
— Можешь не сомневаться, женщина, — важно произнес он. — Слово моего господина нерушимо, как гора Амитару.
— Покажи нам дорогу, Нина, — попросил Кешер. — И расскажи, где твой дом, чтобы я знал, куда вернуться, когда настанет время.
Женщина фыркнула и презрительно сплюнула себе под ноги. Ори подобрал с земли брошенный ею клубень и по-хозяйски убрал в заплечный мешок.
Тропинка, по которой вела их Нина, петляла среди зарослей каких-то колючих растений с мясистыми стеблями густо-зеленого цвета. Кешер наловчился сбивать их подобранной на берегу палкой — растения переламывались с сочным хрустом, брызгая во все стороны густым молочно-белым соком. Ори, замыкавший их маленький отряд, разумеется, не удержался и попробовал этот сок на вкус. Сок оказался едким, и мальчишку пришлось отпаивать водой. Если еще что-нибудь потянешь в рот без разрешения — надеру уши, пообещал Кешер. Помня предупреждение Хранителя Темного Покоя, он никогда не бил Ори, но сейчас был не тот случай, чтобы проявлять безграничное терпение.
Колючие заросли закончились неожиданно. Тропинка сбегала в неглубокую лощину, по дну которой бежал ручей. Кешеру показалось, что он различил под сверкающей поверхностью воды знакомый темно-красный блеск орихалка, но солнце слишком слепило глаза, чтобы утверждать это наверняка. Впрочем, если верить капитану Цаддаку, во внутренних районах острова драгоценный металл встречается буквально на каждом шагу…
Нина, шедшая впереди, внезапно остановилась. Кешер увидел, как она напряглась. Не оборачиваясь, он сделал предупреждающий жест Ори и бесшумно встал за спиной у женщины.
Шагах в двадцати впереди лощину пересекала цепочка врытых в мягкую болотистую землю белых камней, похожих на яйца каких-то огромных птиц.
— Здесь граница ничьих земель, — прошептала Нина, — дальше страна аталантцев. Мне нельзя туда возвращаться, меня отдадут подземным демонам.
— А нас? — весело спросил Кешер. — Нас тоже отдадут?
Нина вздохнула и отвернулась. Кешер пожал плечами и на всякий случай потрогал рукоять большого меча.
— Выйдем мы к горам, если пойдем дальше по тропе?
Женщина молчала. Кешер осторожно обнял ее и повернул лицом к себе.
— Ты ведь так и не сказала, где мне искать тебя, когда я вернусь.
— Ты не вернешься, — по-прежнему шепотом ответила Нина. — Никто никогда не возвращается.
Она вывернулась из рук Кешера и отступила на несколько шагов.
— Не знаю, говорить ли тебе, где мой дом… Вдруг твоя душа станет искать меня после смерти?
Кешер тонко улыбнулся.
— Действительно, стоит ли так рисковать? Что ж, я тебя не неволю. Ори, пойдем!
Нина окликнула его, когда они миновали отмеченную белыми камнями границу и прошли с десяток шагов по тропе.
— Эй, послушай!..
Кешер Аш-Тот обернулся. Женщина сделала шаг по направлению к нему и остановилась, словно налетев грудью на невидимое препятствие.
— Я живу там, — она махнула рукой в сторону, откуда поднимается солнце, — в роще. Мой дом — под корнями самого большого дерева.
Он помахал Нине рукой и отвернулся.
— Хозяин, — неуверенно проговорил Ори спустя пару минут, — так она дриада?
— Ну да, — серьезно подтвердил Кешер. — Ты разве сразу не догадался?
— Нет, — с сожалением признался мальчик. — Думал, она демон или ведьма… А дриады, они ведь добрые?
Кешер облизал искусанные в кровь губы.
— По большей части. Особенно к тем, кто не рубит деревья в священной роще.
Солнце припекало все сильнее. Лощина, почти лишенная растительности, прожаривалась, как печь гончара. Время от времени путешественникам приходилось останавливаться и делать несколько глотков из бурдючка с пресной водой. К полудню он стал совсем легким, а двухслойная стеганая куртка Кешера насквозь промокла от пота. Ори, вся одежда которого состояла из куска обернутой вокруг бедер ткани, чувствовал себя куда лучше. Он бодро топал по тропе, вертел головой налево и направо, мурлыкал себе под нос какую-то песенку — в общем, вел себя, как нормальный четырнадцатилетний мальчишка, а вовсе не как носитель смертоносного дара.
Наверное, мне следовало бы его бояться, подумал Кешер. Служители Дома Орихалка предупреждали, что Ори сам не понимает, каким колоссальным могуществом наградил его Двухголовый. В сущности, этот мальчик не что иное, как смертоносное жало Бодана, сказал Кешеру Хранитель Темного Покоя. За всю историю Дома Орихалка такими способностями обладали всего двое или трое магов, и мы с большой неохотой отдаем вам наше тайное сокровище… Это воля Их Величеств, вежливо напомнил Хранителю Кешер. Старик поджал сухие тонкие губы. Их Величества вряд ли догадываются о том, чего лишают Аталанту этой волей… Впрочем, дело уже решенное. Берегите его, мастер, мы вложили в это существо слишком много труда и забот…
Ну да, саркастически усмехнулся Кешер, все ваши труды и заботы заключались в том, чтобы избивать несчастного парня до полусмерти… Он хорошо запомнил, как Ори смотрел на него в первый день, когда он перевез его из Дома Орихалка в свою загородную виллу в Садах Лиирры — так могла бы смотреть собака, привыкшая к хозяйской плетке. Прежде всего он распорядился накормить мальчика, но тот вздрагивал всякий раз, когда слуги вносили в комнату новое блюдо. Тогда Кешер подумал, что если ему удастся изгнать из души Ори страх, то в награду он получит любовь и преданность. Это оказалось нелегкой работой, но в конце концов усилия оправдали себя. Ори перестал втягивать голову в плечи в ожидании удара и даже научился улыбаться. Если бы Кешер вдруг отослал его обратно в Дом Орихалка, тамошние жрецы просто не узнали бы в веселом и жизнерадостном пареньке прежнего забитого, дрожащего от постоянного страха звереныша.
— Господин, — прервал его размышления голос Ори, — господин, посмотрите сюда!
Кешер оглянулся. Мальчик стоял на коленях у массивного, поросшего сизым мхом валуна в трех шагах от тропы.
— Что еще там у тебя? Неужели снова нашел орихалк?
— Нет, господин, это просто камень… Но на нем знак Бодана!
Ори сказал правду. Под слоем мха действительно угадывалось полустертое изображение двухголового змея, грубо высеченное в камне каким-то примитивным орудием. Так изображали Бодана много веков назад, в эпоху варварства. Забавно, подумал Кешер, неужели на этом отдаленном острове тоже поклонялись одному из могущественнейших богов Аталанты?
— Здесь еще рисунки, — пробормотал Ори, счищая мох с шершавой поверхности валуна. — Но я не понимаю, что это такое…
Кешер присел перед камнем на корточки и вгляделся в древние знаки. Извивающийся Бодан изрыгал пламя, представленное неровными волнистыми чертами, исходящими из обеих его голов. Пламя разбивалось о вертикальную линию или дерево, поднимавшееся над схематично вырезанными холмами или цепью невысоких гор. Дальше, за линией, находилось еще одно изображение, более всего напоминавшее гигантского термита с толстым, непомерно раздутым брюшком.
Он протянул руку, чтобы помочь Ори очистить камень ото мха, и вдруг почувствовал, как холодеют кончики пальцев. Тревога, подумал Кешер, вскакивая и хватаясь за мечи, тревога, где-то поблизости чужие люди… Инстинкт опасности был развит у него очень хорошо — возможно, именно поэтому он прекрасно чувствовал себя на должности начальника телохранителей младшего из Их Величеств.
И все же два месяца вынужденного безделья на борту «Сияющего копья» не прошли для него бесследно. Запах опасности он различил слишком поздно.
Кешер Аш-Тот понял это, когда длинная стрела с ярко-красным оперением протяжно загудела, вонзившись в землю у его правой ноги.
Вторая стрела ударилась о камень и отскочила в сторону, переломившись пополам. Луки у стрелков были, может быть, и непристрелянные, но мощные.
Он быстро огляделся. Лощина по-прежнему казалась пустой, но враг мог таиться за каждым кустом. Впрочем, если судить по направлению полета стрелы, засада находилась впереди, прямо по ходу ныряющей в очередные заросли тропы.
— Господин, — одними губами прошептал Ори, — господин, хотите, я их?..
Кешер, осторожно водя головой из стороны в сторону, скептически хмыкнул.
— Кого их, приятель? Ты хоть кого-нибудь здесь видишь?
И в этот момент он увидел.
5. Ори
Клетка, в которую его посадили, была сплетена из прутьев толщиной в палец взрослого человека. Ори попробовал расшатать их, но ничего не добился, только запястья себе натер. Руки ему скрутили за спиной, привязав для верности веревкой к лодыжкам.
Трясясь в тесной и жесткой клетке, он чувствовал, как его покидают последние остатки мужества. От бессилия и обиды хотелось плакать, и он сдерживал слезы только потому, что не собирался доставлять удовольствия тем, кто так легко захватил их в плен.
Все из-за тебя, бубнил в его голове голос, очень похожий на голос Хранителя Темного Покоя, все из-за твоей глупости…
Господин Кешер справился бы с разбойниками, если бы ты, баранья башка, не полез в драку…
Когда нападавшие выскочили из-за гребня лощины, Ори поначалу обрадовался — теперь, во всяком случае, было видно, против кого обращать силу Бодана. Но разбойников оказалось слишком много, не меньше дюжины, и он растерялся. Пока он водил головой, выбирая первую мишень, хозяин изо всех сил толкнул его в плечо, и Ори, потеряв равновесие, покатился вниз по пологому склону — к ручью. Первые мгновения схватки он, таким образом, пропустил, а когда пришел в себя после падения, на тропе уже вовсю шла драка.
Разбойники окружили мастера Кешера плотным кольцом — Ори видел только необъятно широкие спины и заросшие черным волосом загривки. Слышались хриплые выкрики, звериное рычание, звон стали. Пока Ори соображал, что к чему, из толпы вылетел спиной вперед коренастый и длиннорукий человек, сжимавший в руках тяжелую сучковатую дубину. Он сделал несколько неуверенных шагов вниз по склону, выронил дубину и упал навзничь. Узкий лоб его рассекала красная полоса.
Ори не чувствовал страха — только стыд за то, что он, как беспомощный щенок, валяется на камнях в стороне от битвы. Господин, конечно, справился бы и без него, но помощь Бодана могла ему пригодиться. Мальчик поднялся на ноги и стал подниматься к тропе, нащупывая взглядом жертву. В эту секунду кольцо, сомкнувшееся вокруг господина, распалось, и Ори впервые увидел, как мастер Кешер работает своими мечами. Со стороны это больше походило не на битву, а на танец — движения хозяина казались замедленными, однако нападавшим никак не удавалось прорваться сквозь изящные кружева, которые плели два его меча. Время от времени рисунок танца на мгновение менялся, и сверкающее лезвие касалось кого-нибудь из разбойников. Вооружены они были плохо, по-крестьянски — цепами, дубинами, рогатинами, и только в руках светловолосого, одетого в шкуры гиганта Ори заметил меч. Огромный, под стать владельцу, клинок тяжело пластал воздух, со звоном натыкался на защиту мастера Кешера и отскакивал назад. Когда нападавшие разомкнули круг, великан взревел и бешено закрутил мечом над головой. Хозяин отступил на шаг и прислонился спиной к покрытому символами валуну. Ори, позабыв об осторожности, выпрямился во весь рост и, до боли прищурив глаза, уперся взглядом в могучий загривок светловолосого. Помоги мне, Водан, прошептал он, помоги мне защитить господина… Как назло, никакого зуда под переносицей он не чувствовал. Кровь билась в висках резкими горячими толчками, но ничего похожего на знакомую щекотку Ори не ощущал. Как же так, в панике подумал он, неужели Водан отнял у меня свой дар?..
Время вокруг остановилось. Тягучие, вязкие секунды ползли, словно улитки по листу винограда. Мальчик увидел, как мечи мастера Кешера неспешно поднимаются навстречу ревущему гиганту. Выпад длинным мечом оказался обманным, зато короткий клюнул светловолосого в незащищенное горло. Наклонив голову, хозяин ушел с дороги смертельно раненного противника, и огромный меч великана с тупым грохотом ударился о валун. Светловолосый покачнулся и начал тяжело заваливаться на бок. Из горла его хлестала красная струя. Глядя на нее, Ори вдруг почувствовал сумасшедшую радость победы. Он дико завопил и бросился к сражавшимся, намереваясь прыгнуть кому-нибудь из разбойников на спину.
Мастер Кешер крикнул что-то предостерегающее, но мальчик его не расслышал. В ушах у него бился собственный воинственный клич, перед глазами плясали коренастые фигуры нападавших. Их оставалось не так уж и много, может быть, человек семь. И без Бодана справимся, мелькнула дерзкая мысль, подумаешь, семеро…
Больше он ничего подумать не успел — дубинка одного из разбойников стукнула его по затылку и погрузила мир в непроницаемую, полную боли тьму.
Когда сознание вновь вернулось к Ори, он валялся на тропе лицом вниз, и руки его надежно стягивала кожаная петля. Разбойники, которых неожиданно оказалось куда больше семи человек, толпились вокруг опутанного толстой сетью мастера Кешера и сосредоточенно пинали его ногами. До ушей мальчика долетел сдавленный стон, и в то же мгновение он почувствовал знакомое жжение за переносицей. Хотя голова, принявшая на себя удар тяжелой дубинки, раскалывалась на части, словно гнилой орех, сила, несомненно, вернулась к Ори. Он едва удержался, чтобы тут же не коснуться ею кого-нибудь из врагов — его остановила только мысль о том, что разъяренные разбойники могут убить хозяина. Погоди, сказал он себе, если уж сила вернулась, ты всегда успеешь ею воспользоваться. К тому же действовать следует наверняка, когда станет ясно, сколько человек на стороне противника.
Он попытался повернуть голову и тут же получил удар ногой в спину — видно, кто-то из разбойников его караулил. Ладно, подумал Ори, попробуем по-другому. Лежа на животе, он принялся считать ноги тех, кто сгрудился вокруг мастера Кешера, но тут же сбился. Ему показалось, что рядом с окружившими хозяина людьми стоят и какие-то животные — их ноги, каждая толщиной с хорошее полено, покрывала жесткая черная щетина. Странно, что эти звериные ноги тоже равномерно поднимались и опускались, норовя попасть хозяину по ребрам…
Кто-то схватил его за ремень, стягивавший запястья, и резко рванул вверх. Сильная рука развернула мальчика вокруг своей оси, и на секунду он увидел перед собой страшное, оскаленное в ухмылке лицо с маленькими глазками под густыми нависшими бровями. Потом на голову Ори накинули вонючий мешок, и лицо исчезло.
Теперь он сидел в сплетенной в форме высокого конуса клетке, которую несли на длинном шесте двое коренастых разбойников, и проклинал себя за беспросветную глупость, стоившую господину Кешеру свободы, а может быть, и жизни. Если бы он не потерял голову, не бросился бы, как последний дурак, в самую гущу сражения, а залег в укрытии и постарался вспомнить все, чему его учили в Доме Орихалка, им с хозяином удалось бы отбить нападение. Бедный, бедный мастер Кешер, бормотал себе под нос Ори, как же ему не повезло со мной… Боги, накажите меня, но спасите хозяина! Он же не виноват, что ему достался самый глупый, самый бестолковый, самый жалкий во всей Аталанте слуга!
Избитого до полусмерти Кешера несли четверо. Его, разумеется, тоже связали, но в отличие от Ори не посадили в клетку, а просто прикрутили веревками к шесту, словно пойманного на охоте зверя. Голова хозяина, вся в жутких кровоподтеках, безжизненно болталась у самой земли. Смотреть на него было страшно, но не смотреть казалось еще страшнее. Если хозяин умрет, подумал Ори, я перегрызу себе жилы на руках. Ну да, насмешливо сказал в его голове кто-то, очень похожий на Хранителя Темных Покоев, только сначала дотянись до руки зубами… Тебе, глупому щенку, достался великий дар, а ты, трусливая скотина, размышляешь о том, как бы побыстрее сбежать в Страну без возврата. Ты должен спасти своего господина, а если он, не приведи Хэмазу, умрет, ты останешься жить, чтобы отомстить за него.
Легко сказать — отомстить. Мальчик уже точно знал, что на весь отряд сил у него не хватит. Разбойников было человек двадцать; точнее, людей среди них, может, насчитывалось и меньше, но с ними шли еще и звероногие. Издалека они напоминали людей, но вблизи всякое сходство терялось. Заросшие косматой гривой головы сидели прямо на квадратных, лишенных шеи торсах. Огромные грудные мышцы, жирные складки живота, невероятно толстые бедра — все было покрыто короткой, жесткой, поблескивающей на солнце щетиной. Вместо лиц — страхолюдные рыла, по сравнению с которыми одноглазый командир бичевателей Руим выглядел красавцем-принцем из сказки. Ори заметил, что между собой звероногие переговариваются на каком-то странном, лающем языке, а с людьми не разговаривают вовсе.
Что это могли быть за чудища, ему даже думать не хотелось. Мало ли жутких чудес в дальних странах? Матросы на триере болтали о песьеголовых обитателях островов, лежащих далеко на закате, о полулюдях-полузмеях, живущих в пустынях Земли Черных, о четвероруких великанах, плавающих по морям на огромных ледяных горах и швыряющих в корабли глыбами льда величиной с корову… Но одно дело — слушать такие байки в уютной тесноте кубрика и совсем другое — видеть чудовищ своими глазами.
Отряд шел уже не по тропе, а по дороге — настоящей широкой дороге, кое-где даже выложенной плитами известняка. Когда они свернули с тропы, Ори не заметил — по-видимому, это случилось, пока он задыхался в вонючем, пропахшем звериным потом мешке. Дорога полого поднималась в гору, петляя между одиноких скальных останцов, похожих на выраставшие из земли шипы заснувшего под землей дракона.
К вечеру отряд поднялся на широкое, усыпанное мелкими бурыми камнями плато, и тогда стало видно, что впереди, на расстоянии половины дневного перехода, поднимаются к тревожному багровому небу исполинские уступы черных гор. Здесь разбойники разбили лагерь — разожгли костры, поставили палатки из шкур и принялись готовить еду. Клетку с Ори бросили на землю рядом с костром звероногих — те вместо палатки быстро вырыли в каменистом грунте неглубокую яму и накидали туда какой-то рухляди.
Запах от чудищ шел такой, что мальчик с трудом сдерживал тошноту — счастье еще, что с утра у него в животе побывал только кусочек сыра и пара орехов. Голода он не чувствовал, как, впрочем, и вообще ничего, кроме тошноты, боли в голове и отвращения к звероногим. Куда унесли мастера Кешера, мальчик не видел. Его мир уменьшился до размеров кусочка плато, который можно было разглядеть в просвет между прутьями. Он попробовал повернуться, но в узкой и тесной клетке это оказалось непросто — мешали привязанные к лодыжкам руки. В конце концов в поле зрения Ори попал еще один костер, у которого на расстеленных кошмах сидели светловолосые разбойники, похожие на того великана, которому господин проткнул мечом горло. Они жарили на костре какое-то мясо, хохотали и время от времени прикладывались к облезлому бурдюку. Шеста с привязанным к нему хозяином Ори не увидел, но вид беспечно пирующих врагов навел его на мысль о том, что можно попробовать истребить их поодиночке. На этот раз никаких неожиданностей не предвиделось — ползущая из ямы звероногих вонь только подпитывала распирающую его изнутри силу Бодана. Ори сосредоточился, перекидывая невидимый мостик между собой и круглолицым разбойником, со смехом отбиравшим у товарища бурдюк с вином. Далековато, озабоченно подумал мальчик, локтей шестьдесят, дотянусь ли?..
Круглолицый запрокинул голову и припал к бурдюку. Кадык у него на шее задвигался мерно и мощно. Ори вздохнул и отпустил силу на волю.
В то же мгновение кто-то больно толкнул его в спину. Ори в панике мотнул головой и разбил себе нос о твердые прутья клетки. Сзади послышались жуткие звуки, отдаленно напоминавшие хохот, — видимо, его испуг рассмешил звероногих.
Волосатая лапа схватила его за волосы и потянула назад. Неужели они догадались, успел подумать Ори, чувствуя, как в горло стекает теплая струйка крови. Перед глазами мелькнуло что-то красное, и он понял, что в рот ему запихивают кусок сырого мяса. По-видимому, звероногие решили, что настала пора покормить пленника ужином.
Мальчик попробовал выплюнуть мясо прежде, чем его желудок взбунтуется окончательно, но не успел. К омерзительно-сладкому запаху стекающей из разбитого носа крови прибавился тухловатый привкус падали, и Ори вырвало. Кормивший его звероногий восторженно заревел и отпрянул от клетки, тыча в нее корявым пальцем. В эту секунду от костра, где сидели светловолосые великаны, раздался громкий недоуменный вопль, и чудища мгновенно забыли о своем развлечении.
Пока Ори выплевывал жгучую желчь и трясся от приступов кашля, вокруг него творилось что-то невообразимое. Зверообразные чудища с ревом носились вокруг, потрясая огромными суковатыми дубинами — другого оружия они, похоже, не признавали. Двое или трое возбужденно подпрыгивали на месте, хлопая себя по волосатым ляжкам и отрывисто, встревоженно ухая. Когда Ори наконец сумел развернуться в тесной клетке, он увидел, что паника охватила весь разбойничий лагерь. У костра, где минуту назад шла веселая пирушка, лежал навзничь великан, которого он коснулся силой Бодана. Ноги великана лизало пламя, а вместо головы виднелось нечто похожее на лопнувший перезрелый арбуз.
Видимо, Ори не сумел рассчитать удар — а может, в нем просто скопилось слишком много ненависти. Порой в Доме Орихалка так же разлетались кровавыми шерстяными лоскутками крысы. Но с крупными животными подобного не происходило ни разу — смертоносное прикосновение Бодана обычно не оставляло на них видимых следов. Глядя на охваченных страхом разбойников, Ори с трудом сдержал злую усмешку. На мгновение ему показалось, будто сила его возросла настолько, что он способен справиться со всеми врагами сразу, — но нет, за переносицей ощущалась только приятная звенящая пустота. Голова блаженно кружилась, и мальчик понял, что, убив светловолосого, он выложился без остатка. Ничего, подумал он, с трудом отводя взгляд от лежавшего на земле изуродованного тела, ничего, сила скоро вернется… Ночью я убью еще одного, а может, и двух. И так будет продолжаться до тех пор, пока в живых не останется ни одного светловолосого, ни одного звероногого…
И что потом, спросил у него в голове ехидный голос Хранителя Темного Покоя, потом, когда ты убьешь последнего? Вы с хозяином останетесь лежать посреди каменистой пустыни, связанные и беспомощные? Ну, допустим, со стервятниками и шакалами ты справишься, а вот что делать с голодом и жаждой? Глупый мальчишка! Тебе нужно думать о том, как выбраться из клетки, а ты развлекаешься, раскалывая головы, точно орехи…
Ты прав, мысленно согласился с ним Ори, мне действительно очень нужно освободиться. Может, подскажешь, как это лучше сделать?
Бесплотный Хранитель, живший в его голове, не ответил.
Звероногие понемногу перестали вопить и ухать, но видно было, что они по-прежнему напуганы. Двое вооруженных дубинами чудищ встали на страже по разные стороны от костра, нюхая воздух и издавая зловещее ворчание. Остальные забрались в яму с тряпьем и долго ворочались там, всхрапывая и приглушенно рыча. В стремительно сгущающихся фиолетовых сумерках Ори видел, что светловолосые тоже выставляют караулы около каждой палатки. Трое разбойников с опаской приблизились к своему безголовому товарищу, подняли его на руки и куда-то унесли. Ори почудилось, что стоило им уйти, как у костра появился маленький скрюченный человечек — то ли карлик, то ли старуха — и принялся обнюхивать запачканную мозгами и кровью землю, но на таком расстоянии и в темноте он легко мог ошибиться. Из затеи проследить за существом ничего не вышло — пока Ори, скрипя зубами от боли в связанных запястьях, пытался развернуться в своей клетке, оно скрылось в глубокой тени, повисшей между палатками.
Ночь упала мгновенно. Только что на западе темно-фиолетовые облака подсвечивались снизу кровавым сиянием умирающего солнца, и вот уже на прозрачном черном куполе небосвода налился расплавленным серебром тяжелый шар Лилит. Нанна, холодная и равнодушная, появится ближе к рассвету, когда сияние обольстительной Лилит потускнеет и потеряет свою силу. Так небесные сестры будут вставать над землей еще две седмицы, пока однажды не явят свой лик одновременно. Тогда настанет священная Ночь Двух Лун — та самая, в которую мастер Кешер обещал капитану Цадцаку вернуться на борт «Сияющего копья Хэмазу».
Руки, руки — вот в чем главная закавыка. Если бы не кожаный ремень, стягивающий запястья, стоило бы попробовать раскачать деревянные прутья клетки… Ори попробовал пошевелить пальцами. Ремень был затянут плотно, но не очень туго — руки хоть и затекли, но еще слушались. Впрочем, распутать узел все равно не удастся, слишком хитро завязан. Ори пробовал сделать это еще днем, незаметно для тащивших его клетку разбойников, и тогда же убедился, что связали его на совесть. Жаль, подумал он, жаль, что Водан одарил меня только одним умением. Если бы я мог разрушать неживое так же, как убивать крыс, меня не остановили бы ни клетка, ни путы…
Глупец, вновь подал голос Хранитель Темного Покоя, а ты хоть раз пробовал обратить свою силу против камня или дерева? Почему ты так легко отказываешься от того, чего не испытал?
Ори прислушался к себе. В голове по-прежнему царила гулкая пустота, ни малейшего намека на щекотку за переносицей. Впрочем, с того момента, как он выплеснул свою ненависть на светловолосого, прошло едва ли полчаса. Следовало подождать, успокоиться, проделать упражнения, которым учили его в Доме Орихалка. Одна беда — чтобы восстановить дыхание и прочистить невидимые каналы, по которым струится сила Бодана, нужно сесть, скрестив ноги и выпрямив спину, а поди попробуй усядься так в тесной клетке, если локти твои вывернуты назад, а запястья приторочены к лодыжкам… Ах, так, неожиданно разозлился Ори, ну, ничего, я и без этих хитростей обойдусь!
Он стиснул зубы и попытался представить себе потное, искаженное злобной гримасой лицо младшего жреца Дагона. После Дагона его учили ненависти многие служители Дома Орихалка, но толстого послушника, первый раз показавшего ему боль и ужас крысиного подвала, Ори запомнил навсегда. Вот если бы он сидел сейчас рядом с клеткой, там, куда падает страшная угловатая тень караулящего врагов звероногого… Если бы можно было разорвать ремень, стягивающий запястья, незаметно просунуть руки сквозь прутья клетки и сомкнуть пальцы на жирном горле Дагона… Быстро, не давая ему опомниться, надавить на жилку, про которую рассказывал как-то мастер Кешер, — если сделать это четко и правильно, человек обмирает и перестает брыкаться. И давить, давить, пока под пальцами не хрустнет сломанный кадык, а мерзкие маслянистые глаза с поволокой не выкатятся из орбит…
Ори так глубоко погрузился в свои грезы, что не сразу почувствовал — рукам стало свободнее. Ладони закололо миллионами маленьких иголочек, подушечки пальцев, раздувшиеся от прилившей крови, жгло как огнем. Не веря своей удаче, мальчик попробовал вытащить из кожаной петли правую руку. Ремень пока не поддавался, но хватка его ощутимо ослабла.
Ну-ка, мысленно прикрикнул на себя Ори, неужели у тебя не хватит сил на какую-то паршивую кожаную ленточку? Представь, что ремень сделан из крысиной кожи — из кожи голохвостой, противной крысы, которую тебе ничего не стоило превратить в кашу из крови, костей и шерсти. Достаточно слегка напрячься, почувствовать ненависть, и ты свободен… Давай, давай, глупый, никчемный мальчишка, неужели годы страданий в Доме Орихалка потрачены зря?..
Словно гусиным пером пощекотали ему голову изнутри. Ори не удержался и чихнул — так громко, что стоявший в десяти шагах звероногий уставился на него недобрым, подозрительным взглядом и глухо заворчал. Чих, впрочем, оказался очень кстати, заглушив треск лопнувшего кожаного ремня. Свободен, холодея от сознания собственного могущества, подумал Ори, свободен! Мертвая кожа оказалась так же уязвима перед даром Водана, как и живая плоть. Значит, не устоять и прутьям клетки — он выберется на свободу! Он спасет хозяина!..
Если еще не поздно.
Мысль была холодная, неприятная, словно выброшенная приливом дохлая рыба, но избавиться от нее Ори не мог. На мгновение мальчик испытал леденящую уверенность в том, что хозяин погиб и он остался в одиночестве на жутком, полном врагов острове. Рано или поздно ему, возможно, удастся отомстить за мастера Кешера, перебив весь пленивший их отряд, но что тогда? Возвращаться на берег, сидеть на камне и смотреть на закрывающую горизонт водяную стену?..
Руки потихоньку оживали. Иголочки кололи уже не так остро, пальцы шевелились без особого напряжения. Ори осторожно, чтобы не привлекать внимания караульного, ослабил веревку, спутывавшую лодыжки, и едва удержался, чтобы не застонать от боли, когда затекшие ноги наконец распрямились. Тело ломило, как после хорошей порки, — в таком состоянии казалось немыслимым даже пробовать подняться. Но богатый опыт мальчика подсказывал, что через полчаса-час на боль можно будет уже не обращать внимания — она никуда не уйдет, но станет вполне терпимой. Серебряный шар Лилит стоял в зените, а значит, до рассвета оставалось еще часов пять — достаточно для того, чтобы отлежаться и восстановить силы. Главное — не заснуть, думал Ори, упираясь спиной в жесткие прутья клетки, главное — не заснуть. Уходить надо, когда свет Лилит потускнеет, а Ианна еще не выберется из-за гор…
Он все-таки заснул, потому что горы вдруг вздыбились перед ним, подобно вставшему на задние лапы дракону, и два красных огня, мерцавших на далеких уступах, превратились в огромные, налитые кровью глаза Подземного Змея. Водан поднялся во весь свой исполинский рост, и расплавленное серебро Лилит закипело на его переливающейся зеркальной чешуе. Взгляд его багровых, подернутых сетью пульсирующих сосудов глаз остановился на мальчике и пронзил того раскаленной иглой. Игла вошла Ори в грудь и устремилась к сердцу, прожигая кости и плоть. За что, хотел крикнуть Ори, но губы онемели, словно скованные лютым морозом, и крик прозвучал только в его сознании. За что, Змей, я же посвящен тебе, я твой раб, я ничем не провинился перед тобой… Сожги лучше тех, кто поднял руку на моего хозяина, сожги их всех! Боль за грудиной все усиливалась, но Водан и не думал отводить свой огненный взгляд. Ори показалось, что сердце стало биться медленнее. Больно, о боги, как же вытерпеть такое… Даже Дагон не умел причинять такую чудовищную боль! И почему, почему онемели губы?
По мере того как угасало сознание Ори, глаза Бодана разгорались все ярче. От них тянулась к мальчику тонкая, кровавая нить… Он пьет мою жизнь, успел подумать Ори и вдруг почувствовал знакомое щекочущее ощущение внутри черепа. Потрясение оказалось настолько сильным, что на долю секунды Ори даже забыл о терзающей сердце игле. Он был готов ударить Подземного Змея! Его же собственной силой!
Я должен спасти хозяина, подумал Ори и выпустил силу на волю.
Словно сиреневая искра скользнула по связавшей их с Воданом нити и холодной молнией полыхнула между двух багровых огней. Жадные глаза Змея расширились в безмерном удивлении и стали медленно гаснуть. Опутавшая их паутина набухших от крови вен стремительно тускнела, превращаясь в серую, неживую, высохшую сеть. Я победил, удивленно подумал мальчик, чувствуя, как отступает боль и сердце вновь начинает биться в обычном ритме. Я убил самого Бодана, своего божественного покровителя!
Голова Ори ударилась о твердое дерево, и он открыл глаза. Вокруг была почти полная темнота — Лилит спряталась за медленно ползущей по ночному небосводу тучей и лишь слабый отблеск ее лучей падал на крутые уступы далеких гор. Огни на скалах, почудившиеся мальчику глазами Бодана, действительно погасли, но в свете догорающего костра он увидел ничком лежащую у клетки маленькую, закутанную в тряпье фигурку — то ли карлика, то ли старуху.
От головы фигурки тянулось что-то длинное и тонкое, заканчивавшееся мясистым лепестком, застрявшим между прутьев клетки. Мальчик испуганно огляделся — сторожившие костер звероногие сидели на земле, обняв свои дубины и низко опустив головы. Хороши караульщики, подумал Ори с непонятной досадой, кривой Руим с таких три шкуры спустил бы… Он протянул руку и с опаской притронулся к мясистому лепестку. Пальцы наткнулись на что-то противное и влажное. Вздрогнув от внезапной догадки, Ори наклонил голову и похолодел — на груди у него синел здоровенный след от присоски.
От ужаса и гадливости ему хотелось завопить, но он, к счастью, сдержался. Карлик, едва не вытянувший из него жизнь через свое жуткое щупальце, лежал неподвижно — удар, который, как казалось Ори, предназначался Водану, достался ему. С головы до ног он был закутан в какой-то темный бесформенный балахон, из-под которого тускло блестела широкая металлическая полоса. Нож? Мальчик притиснулся к стенке своего узилища и просунул руку сквозь прутья, но дотянуться до металлического предмета не смог. Обидно, ох как обидно! Восстановившаяся за пару часов сна сила целиком ушла на отвратительного ночного гостя, так что клетку ломать было нечем. Будь у него нож, он мог бы перепилить два или три прута — не такие они толстые, если честно, — и змеей проскользнуть в отверстие. Только не зря всегда говорил мастер Кешер, что если бы евнуху в детстве кое-что не отрезали, жизнь в гареме была бы куда веселее… Нет у него ножа, и дотянуться до той штуки, что торчит у карлика из-за пояса, он тоже не может — руки коротки. Но тот же мастер Кешер учил его: если любишь есть орехи, но не умеешь лазить по деревьям — попробуй найти топор. А что, если не тянуться за ножом, а подтащить поближе самого карлика?
К удивлению Ори, это оказалось неожиданно легко — карлик весил едва ли больше не очень крупной собаки. Сначала мальчик тянул его за балахон, но тот, зацепившись за что-то, угрожающе затрещал, и тогда Ори ухватил мертвеца за руку.
Под тонкой тканью прощупывалась холодная и твердая, как дерево, плоть. Подтащив тело поближе, Ори без труда дотянулся до металлического предмета — тоже, как выяснилось, очень легкого. К разочарованию мальчика, это был не нож. Предмет вообще не походил на оружие — скорее на плоскую лопатку без рукояти, украшенную какими-то странного вида знаками. Впрочем, края у лопатки были заточены на славу — хоть брейся. Ори с усилием провел лопаткой по самому тонкому пруту клетки — на дереве остался глубокий светлый след. Что ж, в его положении выбирать не приходится…
Он управился как раз к тому моменту, когда испещренный оспинами лик Ианны выскользнул из-за южных гор, озарив их равнодушным, холодным светом. Тихо-тихо, чтобы не разбудить позорно, но так кстати уснувших на посту караульных, вытащил половинки распиленных прутьев из отверстий в деревянном полу клетки и выбрался на свободу. Лопатку мальчик крепко сжимал в руках — несерьезно легкая, она все же прибавляла уверенности в себе.
Теперь нужно было скорее уходить во тьму, подальше от дотлевающего костра. Тени Ианны густы, в них легко затаиться тому, для кого ночь привычнее дня. Ори, правда, не имел опыта ночных похождений, но темноты не боялся и надеялся, что она станет ему союзницей. Ему некстати пришло в голову, что в ночи могут рыскать и другие существа, вроде зловещего карлика. Я должен посмотреть, твердо сказал себе Ори, превозмогая внутреннюю дрожь, я должен посмотреть на того, кто чуть не убил меня… Он сотворил двумя пальцами знак, отгоняющий злых духов, и осторожно потянул за край капюшона.
Под темной тканью блеснула желтоватая кость — словно голый, обглоданный могильными червями череп. Ори вздрогнул и отпустил балахон. Вместо лица у карлика было вытянутое костяное рыло с трубкообразным выростом, из которого тянулся к клетке длинный и тонкий хоботок. Остекленевшие глаза — огромные для такого крошечного тела — таинственно посверкивали сотнями мелких блестящих граней. Демон, подумал Ори в ужасе, настоящий ночной демон-убийца! «Навел морок на сторожей, передо мной Воданом прикинулся… А ведь он не случайно ко мне подобрался, наверняка думал, что я связан и трепыхаться не стану!» Он вспомнил бесчувственного, прикрученного к шесту мастера Кешера, и страх пробежал по позвоночнику холодной и скользкой ящеркой. А вдруг к хозяину тоже наведались гости? И что, если в этот самый момент они присасываются к нему своими мерзкими хоботками?
От страха и холода — он только сейчас заметил, что чем ближе к рассвету, тем холоднее становится на плато, — Ори начал безостановочно икать. Вцепился зубами в правую руку, но это помогло мало: тело сотрясалось в беззвучных конвульсиях, словно в припадке священной болезни. Мальчик вжался в землю и пополз в окружившую лагерь темень, подальше от источавшей сладковатую вонь ямы звероногих.
Ориентироваться в темноте оказалось труднее, чем он думал. Сначала он полз, стараясь, чтобы Ианна все время находилась у него за спиной, но уже через пару десятков локтей натолкнулся на большую трещину, преграждавшую путь на юг. Пришлось свернуть и ползти вдоль края лагеря. Теперь Ори видел, что яма, у которой остался лежать мертвый карлик, находилась на отшибе, а большая часть палаток стояла довольно близко друг к другу. Кое-где еще горели костры, отбрасывая тени на сидевших у огня караульных. Подобраться ближе он не решался, а увидеть издалека, у какой из палаток лежит связанный мастер Кешер, было невозможно.
В который раз за последние сутки Ори почувствовал, как глаза наполняются горькими и злыми слезами. Что толку во всей его силе, если он не может сообразить, как выручить хозяина из беды? Эх, и почему только он уродился на свет таким глупым? Самого мастер Кешер живо нашел бы выход. Если бы, конечно, захотел тратить силы и время на такого безмозглого слугу…
Что сделал бы хозяин на его месте? Ну, для начала, наверное, разделил бы лагерь на участки. Потом постарался бы подползти к тому из них, который с подветренной стороны, и посмотрел, нет ли возможности проникнуть за караулы. В конце концов, проклятому карлику как-то удавалось рыскать среди палаток незамеченным. Впрочем, он ведь был демон, а с них и спрос другой…
Трещины, неожиданно подумал он, вот о чем я не подумал. Судя по тому, что мальчик уже третий раз едва не проваливался в невидимую в темноте расщелину, ими было изрезано все плато. Что, если по одной из них можно пробраться в лагерь?
Ори дополз до ближайшей трещины и медленно, ощупывая пальцами ее края, развернулся к палаткам. Расщелина казалась неширокой, но все же недостаточно узкой для того, чтобы худой четырнадцатилетний мальчишка не мог в ней укрыться. Подберусь как можно ближе, сказал он себе, осторожно высуну голову и осмотрюсь. И все. Ничего страшного. Подумаешь, трещина. Не бездонная же она, в самом деле…
Лезть под землю ужасно не хотелось, но другого способа добраться до лагеря Ори придумать не мог. Он затаил дыхание и, крепко вцепившись в камень, опустил в расщелину правую ногу. Несколько секунд нога просто висела в холодной пустоте, потом пальцы наткнулись на твердый уступ. Мальчик заставил себя ослабить хватку и еще немного пододвинулся к трещине. От напряжения и страха движения его стали резкими и неуклюжими — задетый им камень с громким стуком свалился в провал и отчетливо зацокал там, отскакивая от стен и скатываясь все ниже. Ори неподвижно распластался на краю трещины, уверенный в том, что сейчас сюда сбегутся все караульные лагеря. Однако шума, по всей видимости, никто не услышал — во всяком случае, ни одна из фигур, сидящих у догоравших костров, даже не шевельнулась.
Проклиная себя за неосторожность, мальчик продолжил спуск в трещину. Уступ, на который он рискнул наконец встать, располагался в двух локтях от поверхности земли и казался вполне надежным, но Ори так и не сумел заставить себя разжать пальцы, вцепившиеся в край расщелины. Мелко переступая ногами и низко наклонив голову, он пробирался вперед, время от времени воровато выглядывая наружу и присматриваясь к игре теней вокруг ближайшего костра. Внезапно он остановился, будто натолкнувшись грудью на невидимый скальный выступ, — ему показалось, что темная груда, сваленная у входа в одну из палаток, пошевелилась и издала слабый стон. Ори замер, весь обратившись в слух, но стон больше не повторился. На всякий случай мальчик прикинул, сможет ли он подползти к подозрительной груде, чтобы разглядеть ее поближе. Трещина, по которой он полз, заворачивала влево, змеясь по краю лагеря. Чтобы добраться до того места, откуда вроде бы раздавались стоны, ему придется вылезать на поверхность и ползти по освещенной лучами Ианны пустынной местности тридцать, а то и все сорок локтей. Вот обидно будет, если окажется, что это просто куча тряпья… А если там и вправду хозяин?
Он не успел решить, как ему следует поступать дальше. Сильные пальцы вцепились ему в щиколотки и резко дернули вниз. Ноги Ори сорвались с уступа, он рванулся, ударившись головой о твердый и острый камень, и на мгновение перестал что-либо понимать. Он попытался лягнуть невидимого противника ногой — руками он отчаянно цеплялся за края трещины, — но удары увязали, как в тесте, со странным хлюпающим звуком. Потом Ори почувствовал, как его пальцы отрываются от каменного гребня и, обдирая в кровь ногти, скользят по каменным стенкам расщелины. Тогда он наконец закричал, но стоило ему только набрать в легкие воздуха, как тяжелая горячая туша прижала его к скале, лишая возможности двигаться и запихивая в рот какую-то противную, пахнущую выдохшимися благовониями ветошь. Мальчик лихорадочно пытался почувствовать присутствие силы, но она — уже во второй раз за последние сутки — отвернулась от него. Пропал, подумал он обреченно, стараясь укусить противника за толстую безволосую руку, сейчас долбанут каменюкой по голове и сожрут — это в лучшем случае… Что произойдет в худшем, даже и помыслить казалось страшно. Он сжал челюсти, но безволосая рука тут же дернулась и со всего размаху врезала ему по зубам.
— Тихо, щенок, — яростно прошипел ему в самое ухо чей-то знакомый голос, — лежи тихо и не вздумай кусаться! Дернешься или крикнешь — придавлю, как кутенка!
Несмотря на угрожающие интонации, голос, несомненно, принадлежал женщине. Ори потребовалось десять секунд, чтобы понять, откуда он знает эту женщину.
И много, много часов, чтобы смириться с тем, что она ему рассказала.
6. Нина
С высоты тридцати локтей арена казалась залитой темной кровью — камень, которым ее мостили, так и назывался «кровяник». Никакого песка, только металл и отшлифованные гладкие плиты. Позеленевшие от времени бронзовые арки обрамляли черные глотки туннелей, уводящие в недра горы. Три арки, три туннеля, отверстие каждого забрано толстой дубовой решеткой. И обитая кованой медью дверь в противоположной стене, достаточно широкая, чтобы двое рослых мужчин прошли в нее плечом к плечу, не задевая головой о притолоку.
Когда-то Нина уже видела эту арену. Маленькая девочка сидела тогда на коленях у отца и, замирая от ужаса, смотрела, как выползшие из туннелей огромные белые змеи сжимают в своих объятиях самых сильных и смелых юношей Восточного Предела. Отец объяснил ей, что юноши вызвались сойти на арену сами — в надежде, что им удастся одолеть чудовищ и положить конец унизительным и страшным жертвоприношениям. Эглы позволили им взять с собой лучшее оружие, нашедшееся в деревнях их родного края, — длинные копья, усаженные обсидиановыми иглами дубины и даже древние, принадлежавшие еще приплывшим из далеких земель предкам, мечи и кинжалы. Копья сломались о белую чешую, разлетелись на куски обсидиановые палицы, под леденящим взглядом подземных гадов выпали из рук героев старинные мечи. Змеи обвили юношей своими кольцами, и в тишине, внезапно повисшей над ареной, раздался отчетливый треск ломающихся костей. А потом медленно поднялись решетки, и чудовища, не торопясь, уползли во мрак туннелей, унося с собой обездвиженную, но живую добычу…
Мы сидели вон там, неожиданно вспомнила Нина, глядя на расположенную двумя ярусами ниже скамью с выщербленным краем. Сейчас на скамье восседал какой-то надутый пузан, окруженный толпой женщин и слуг. Наверняка бывший деревенский староста, разбогатевший на торговле детьми, с неприязнью подумала Нина. Отец рассказывал, что еще застал времена, когда выродков, тайком продававших детей эглам, живьем закапывали в землю. С тех пор все как-то незаметно переменилось, и теперь богатство, нажитое на крови и страхе своих сородичей, уже не считалось чем-то постыдным…
Она машинально поправила закрывавший половину лица черный платок-хаджус. Народу в рядах, ярусами окружавших арену, толпилось множество — жители предгорий, обитатели болотного края, бродяги и разбойники вроде тех, кто захватил в плен ее Тигра… Могли среди них затесаться и люди из маленькой деревушки, которую Нина покинула шесть лет назад. Хоть она и изменилась с тех пор, но недобрый глаз всегда острее, чем ожидаешь. Потому, устав спорить с безумным мальчишкой, она переоделась в черное и закрасила темно-коричневой краской глаза, приняв облик прячущей лицо вдовы.
Мальчишка настаивал, что им во что бы то ни стало нужно увидеть последний бой его господина, и не хотел слышать никаких возражений. С той самой ночи, когда ему каким-то чудом удалось освободиться из клетки и, что еще поразительнее, остаться в живых после встречи с эглом, он постоянно брал над ней верх. В нем чувствовался несгибаемый дух, почти одержимость, странным образом подчинявшая себе худое и тщедушное детское тело. Если вначале Нина считала мальчишку простым рабом Тигра, чем-то вроде верной собаки, то теперь видела, что он был надежным и умным товарищем. Тогда, ночью, он верно вычислил палатку, рядом с которой лежал связанный Тигр. Нина, весь день скрытно следовавшая за отрядом, наблюдала за палаткой из своего укрытия с самого заката, изнывая от бессилия и тоски. Пленника караулили двое разбойников, молодые парни, отвлечь которых было бы совсем несложно, умей Нина отвлекать и распутывать веревки одновременно. Тут-то и свалился ей на голову мальчишка — она даже подумала, что боги вняли наконец ее молитвам и решили помочь спасти Тигра. Но боги, как часто с ними случается, ограничились злобной шуткой: пока она, торопясь, объясняла пареньку, что он должен делать, в лагере поднялась тревога. Загорелись факелы, послышались отрывистые возгласы, тяжело забегали, гремя оружием и доспехами, переполошившиеся воины. Громче всего кричали у ямы, где спали дикие, и Нина поначалу решила, что переполох был вызван исчезновением Ори. (Позже выяснилось, что она ошиблась — причиной паники стал мертвый подземник, обнаруженный у пустой клетки очнувшимися караульными.) Связанного Тигра окружили озлобленные, невыспавшиеся громилы; в неверном свете факелов тускло заблестели ножи. Похоже было, что разбойники ожидают нападения из темноты, окружавшей лагерь, и готовятся дать врагу отпор.
Уходим, сказала Нина одними губами. Мальчик рванулся было наверх, но она крепко обхватила его за плечи. Опять в клетку захотел? Тигру уже не помочь, понимаешь? Он остервенело мотал головой — не понимаю, не понимаю! Нина затащила его, упирающегося, в укромную пещерку, невидимую для того, кто вздумал бы заглянуть в трещину. Он забился в угол, скорчившись под нависающей глыбой, и тут она впервые заметила у него на поясе темный металлический прямоугольник. Нина присмотрелась — и ахнула. Настоящий эгльский топорик, она такие только издали видела, когда отец брал ее с собой на весеннюю ярмарку… Давно это было, но топорики эти запомнились ей хорошо. Отец говорил, что они, хоть и легкие, но камень рассекают, словно масло, — неудивительно, что эглы с таким инструментом понастроили у себя под землей огромные города. И еще, говорил отец, эглы этими топорами воюют друг с другом — костяные панцири, которые ни мечом, ни пикой не взять, от удара невесомого топорика раскалываются пополам, надо только знать, куда бить. Тогда Нина спросила его, почему же вместо того, чтобы два раза в год отдавать проклятым демонам своих детей, люди не отберут у них чудо-оружие и не уничтожат эглов прямо в их норах. Отец невесело усмехнулся: не в одних топорах дело, дочка… Деды наши пытались — выследили как-то в горах целую сотню демонов, набросили сверху прочную сеть, завалили хворостом да сожгли к свиньям. Топоры-то ихние не горят, даже в кузнечной печи холодными остаются. Только не пригодились они никому, топоры эти. Пробудился в глубине Белый Слепец и заворочался так, что три деревни в одну ночь под землю ушли. А тех, кто чудо-топорами завладел, в горах камнями побило, до сих пор их неупокоенные кости по ущельям лежат…
Все это Нина вспомнила, глядя на мальчишку, непонятно как завладевшего чудо-оружием. Склонилась к нему и щелкнула по топорику ногтем: откуда у тебя это?
Ори зыркнул на нее исподлобья, потом махнул нехотя рукой — оттуда, мол. С тех пор, как Нина помешала ему броситься на ножи разбойников, слова из него приходилось тянуть клещами. Но тут уж она не отступилась, пристала, как репей, с вопросами: где ухитрился украсть такую штуку, как это у тебя вышло, и, главное, у кого?..
В конце концов мальчишка раскололся и рассказал, что снял топорик с тела мерзкого карлика с костяной рожей, который пытался высосать из него душу, да не рассчитал силенок. Нина не верила своим ушам: парень столкнулся лицом к лицу с эглом и мало того, что остался жив сам, так еще и подземника одолел! Не мальчишка, а просто герой из сказки… Если бы только она своими глазами не видела, как бестолково вел себя Ори в схватке у ручья, где его свалил с ног первый же удар дубины! Так она ему и сказала: не считай меня дурой, где тебе с эглом сражаться, щенку неразумному, он таких, как ты, десяток сожрет и не подавится… Мальчишка презрительно хмыкнул. Видно было, что ему ужасно хочется поспорить, да гордость не позволяет. Как ты его назвала, спросил он через минуту, эгл? Так ты, может, знаешь, кто это был?
И тут Нина, неожиданно для самой себя, принялась рассказывать мальчишке, для чего она отправилась следом за ними, вместо того чтобы вернуться на безопасное побережье. Рассказывала, даже не слишком рассчитывая, что он поймет, — просто хотела выговориться. Но Ори слушал внимательно, не перебивал, только кое-где хмурил брови, словно недослышав какое-то слово, и понемногу Нина рассказала ему куда больше, чем собиралась вначале. Об эглах, подземных демонах, живших на острове испокон веков и безраздельно владевших всеми его богатствами. О первых войнах, которые вели с ними потомки потерпевших крушение аталантцев, вторгшиеся в горы в поисках проклятого орихалка. О череде тяжких поражений, нанесенных подземниками людям, и об унизительной дани, которую все поселения острова два раза в год выплачивали эглам, чтобы не навлечь на себя гнев Белого Слепца. Каждая деревня посылала в предгорья по одному ребенку — осенью мальчиков, весной девочек. Детей уводили в черные туннели молчаливые эглы-солдаты; подростков и юношей хватали жуткие чудовища, вроде запомнившихся Нине змей. Зачем, спросил Ори, непонимающе глядя на нее, зачем им дети? Он их ест, ответила Нина, он, Белый Слепец, король эглов. Эглы охочи до человечинки, людей спасает только то, что они редко выходят за пределы предгорий, а болота их вообще смертельно пугают, сырость для них губительна… Дети считаются у эглов особым лакомством, поэтому, не довольствуясь данью, подземники еще и покупают малышей в деревнях. Расплачиваются они обычно орихалком, драгоценными камнями, золотом — всем, что так ценилось когда-то на далекой родине аталантцев и что не имеет никакого значения здесь, на острове. И все же находятся люди, с легкостью меняющие детей на никому не нужные сокровища. А между тем здоровые дети появляются на свет все реже и реже — говорят, что и этому виной черное колдовство эглов. Дикие, например, рождаются у обычных родителей — как правило, именно у тех, которые прежде отдали одного своего ребенка подземникам…
Мальчик смотрел на нее остановившимися глазами, и Нина вдруг подумала, что он ей не верит. Ну, хорошо, сказала она, а вот как ты думаешь, зачем разбойники вас схватили? Взять с вас нечего, убить вас тоже не убили, наоборот даже, охраняли и тащили на своем горбу. А куда тащили-то, знаешь? В горы, дурачок, в горы! На Кровавую Арену, откуда прямая дорога в подземное королевство, к Белому Слепцу!
А зачем, дрогнувшим голосом снова спросил Ори. Мы ж ведь не дети вроде… ну, я-то, конечно, ростом не вышел, а господи н-то мой мужчина статный, да что я тебе рассказываю, сама ведь знаешь…
Думаешь, они только младенцев жрут, усмехнулась Нина. Они, твари ненасытные, и стариком не побрезгуют. Другое дело, что взрослых мужиков эглы побаиваются, поэтому сначала руки-ноги им все переломают, а уж потом… Зато деревне, из которой главарь ватаги, что вас захватила, этой весной дань платить не придется — если, конечно, он не захочет за Тигра деньгами взять…
Вот тогда-то мальчишка посмотрел на Нину так, что у нее все внутри похолодело. Глаза у него превратились в два маленьких хрустальных шарика, и сквозь хрусталь этот засверкали колючие, недобрые искорки. Мы должны спасти его, сказал он, ткнув рукой в низкий потолок пещерки. Мы должны во что бы то ни стало спасти мастера Кешера. Ты ведь тоже этого хочешь, ты же кралась за нами весь вчерашний день, скажи, что ты тоже хочешь спасти моего господина! Нина пожала плечами. Да, хочу, ну и что с того? Мало ли чего я хочу, дурачок. Говорила я твоему хозяину, чтобы не ходил в горы, думаешь, он меня послушал? Если бы не проснулись караульные, мы бы, может, и вытащили его, а теперь уже поздно… Погоди, перебил ее Ори, я сейчас вылезу, посмотрю, как там. Да не бойся, шуметь не буду. Змеей скользнул из пещеры, и Нина его почему-то не остановила.
Ей показалось, что рассвет успел наступить по крайней мере дважды. Несколько раз она думала, что нужно уходить из пещерки и искать себе другое убежище: если мальчишку схватили, он мог легко ее выдать. Думала — но не уходила. Мальчишка вернулся, когда она уже окончательно потеряла надежду. Двигался он действительно тихо, а сам был притихший и мрачный. Они уходят, буркнул он, не дожидаясь ее вопросов. Свернули палатки, затушили костры… Тут слабое подобие улыбки вдруг тронуло его губы. Господин жив, я его видел. (Улыбка исчезла так же неожиданно, как и появилась.) Мы должны их догнать, слышишь? Догнать, прежде, чем они успеют отдать его этим тварям!
Нина попыталась объяснить ему, что горы лежат в одном дневном переходе отсюда. Что даже если они нагонят уходящий на юг отряд, это ничего не изменит — разве что разбойники продадут эглам не одного человека, а трех. Что самый разумный выход, который у них есть, — это немедленно повернуть обратно и пытаться незамеченными добраться до безопасного берега. Но Ори ничего не хотел слушать, и она, ослабевшая, изнуренная холодом и страхом, уступила. Хорошо, сказала она, мы пойдем за ними. Только, пожалуйста, дай мне сначала отдохнуть… Мальчишка удивленно посмотрел на нее. Все равно мы не можем идти за ними след в след, объяснила Нина, когда крадешься за кем-то, нужно делать это на расстоянии. Откуда ты знаешь, подозрительно спросил он. Мой отец был охотником, ответила Нина, он многому меня научил, прежде чем… Тут она запнулась. Не хотелось рассказывать чужаку, как к ней начал свататься красавец Ликурри с Копченых Холмов и как отец отказал ему, потому что в роду Ликурри уже два поколения подряд рождалось много диких. Незадачливый жених проглотил обиду, но месяц спустя его зверовидные дядья подкараулили отца в лесной глухомани и разорвали на части. Сразу же после похорон Ликурри, словно глумясь над обычаями предков, снова прислал сватов — у одного из них из-под рукавов расшитой рубахи лезла пучками жесткая черная щетина… Тогда Нина тайком собрала в мешок еды на два дня, сунула за пояс отцов нож и рано утром ушла из дома — жить вольной, одинокой жизнью на берегу.
Ничего этого она мальчишке объяснять не стала, да он и не настаивал — похоже, кроме судьбы Тигра, его вообще ничего не интересовало. Спросил только, когда разбойники отдадут пленника подземным демонам — сразу, как доберутся до гор, или, может быть, завтра? Смешной, право — как будто она только тем и промышляла, что вылавливала по лесам путников да продавала эглам. Торговаться будут, успокоила она Ори, обязательно, куда ж без этого. И не один день, возможно. Сказала так, главным образом, чтобы не бежать сломя голову за уходившим отрядом, — но, как ни странно, попала в точку.
Когда они добрались до Каменного Седла — ближайшего к арене большого селения, — был уже поздний вечер. Нина никак не могла отделаться от ощущения, что первый же встречный узнает ее и немедленно кликнет стражу. Живущие за Белой Чертой не считались уже полноправными людьми; как и моряков с разбивавшихся у берегов острова кораблей, их можно было законно продавать эглам. Оглядываясь назад, она не понимала, какой морок затмил ее разум вчера, когда она перешла границу из белых камней, стремясь догнать далеко ушедшего по тропе Тигра. Ведь возвращалась уже на берег, в свою тенистую рощу, в уютное и безопасное жилище у корней вековечного древа… Что заставило ее оглянуться? Желание в последний раз коснуться взглядом гибкой фигуры ее мимолетного любовника? Тайная надежда увидеть, как он, застыв на месте, смотрит ей вслед? Кто знает… Но она оглянулась — и увидела, как над верхушками леса, к которому приближались Тигр и его слуга, поднялись, описывая быстрые тревожные круги, черные с синеватым отливом птицы. Ей, воспитанной отцом-охотником, не нужно было объяснять, что это значит — где-то там, впереди, по лесу навстречу Тигру двигались люди — и не один-два, а по меньшей мере десяток. Ирри — птица не пугливая, чтобы согнать ее с места, нужна или стая волков, или толпа людей. Нина примерно представляла себе, что за люди могут бродить в этих местах. За Белую Черту разбойники старались не заходить — перейдешь ненароком, а потом тебя твои же товарищи и продадут подземникам, как нарушившего запрет, — но по всем уводившим за нее тропкам прохаживались, как по родной деревне. Тигра следовало срочно предупредить, и она, не задумываясь о последствиях, стремглав бросилась вниз по тропинке — догонять. Далеко же ты забежала, подумала Нина ехидно, до самых гор добралась… И как ты выпутываться собираешься, позволь поинтересоваться?
Тут-то и пришла ей в голову мысль насчет вдовьего одеяния. Денег у них, правда, не было, зато на поясе у мальчишки висел настоящий эгльский топорик. Небезопасно, конечно, предлагать такую вещь на продажу, но Нине почему-то казалось, что жадность торговцев пересилит их подозрительность. И действительно: в первой же лавке хозяин, не торгуясь, выложил за топорик столько серебра, что хватило и на одежду для нее и для мальчика, и на ночлег под крышей приличного постоялого двора. Здесь-то, на постоялом дворе, они и услышали от подвыпивших скототорговцев о том, что знаменитый разбойник Шама привел в поселок захваченного где-то в лесах пленника и продал хозяевам Кровавой Арены для ритуального поединка. Мальчишка страшно разволновался и чуть не испортил все дело, пытаясь выяснить, когда состоится поединок. Говорил он так, что и глухой распознал бы в нем чужеземца; к частью, скотоводы успели влить в себя достаточно крепкого горского вина, чтобы этого не понять. Нина, стыдливо закрывая лицо хаджусом, объяснила, что мальчик немного не в себе после гибели отца и что ее покойный муж обещал, но так и не успел показать ему арену. Скотоводы сочувственно закивали. Выяснилось, что поединок состоится завтра после полудня — кто-то из людей Шамы уже бахвалился этим на площади. Тогда-то Ори и сказал ей — твердо, не желая слушать никаких возражений; мы должны увидеть бой моего господина. Во что бы то ни стало.
И Нина опять уступила. Ей и самой хотелось еще раз посмотреть на Тигра — не на такого, каким она видела его в плену у разбойников, избитого, беспомощного, жалкого, — а на сильного и уверенного в себе любимца богов, запомнившегося ей с той сказочной ночи на берегу. К тому же страх почти оставил Нину, сменившись какой-то равнодушной уверенностью в том, что от нее самой уже ничего не зависит. Она слишком долго прожила в добровольном изгнании, и необходимость все время полагаться только на свои силы изнурила ее. Плыть по течению, подчиняясь чужой воле — пусть даже воле сумасшедшего мальчишки, ничтожного слуги ее Тигра, — оказалось куда проще и приятнее. Хорошо, сказала она, завтра мы пойдем смотреть поединок. Только пообещай, что ты не станешь кричать. Здесь не принято оплакивать тех, кого забирают эглы.
Ори ощетинился. Почему ты думаешь, что мне придется оплакивать господина? Он — лучший боец во всем мире, поняла? То, что нас одолели разбойники, ничего не значит, они нечестно сражались, сетью даже слона поймать можно…
Подожди, сказала Нина изумленно, что ты говоришь? Ты что, ничего не понял? Тут ей впервые пришло в голову, что мальчишка, оглушенный ударом дубины, мог просто не видеть, как разворачивались события дальше. Сама Нина пряталась в кустах локтях в пятидесяти от места схватки и наблюдала ее от начала и до конца.
Ори недоуменно уставился на нее. Твой хозяин сдался, медленно произнесла Нина. Он сдался, чтобы спасти тебе жизнь… Эта картина до сих пор стояла у нее перед глазами: Тигр, только что зарубивший троих противников, осторожно кладет свои мечи на землю, не отрывая взгляда от огромного, заросшего бурой шерстью дикого, вознесшего над головой распростертого на камнях мальчика сучковатую дубину. Они решили, что это его сын, подумала тогда Нина. Если бы они знали, что он всего лишь слуга, никому бы и в голову не пришло пугать Тигра его смертью. А Тигр и не догадывался, что разбойники ни за что на свете не убили бы парня: ноги и руки переломать — это пожалуйста, эглам забот меньше, а убивать невыгодно. Но тут уж я виновата, могла рассказать ему все, как есть — и про эглов, и про торговцев людьми, и про кровавую дань… Ладно, что сделано, то сделано, прошлого не вернешь.
Ори смотрел на нее, не отрываясь, и в колючих глазах его стояли слезы. Скажи, что это неправда, умолял его взгляд, скажи, что все было не так! Твой господин сам бросил оружие, жестко повторила Нина, и сделал это из-за тебя. Мальчишка повернулся и выбежал во двор. Может быть, он не вернется, подумала она, и может быть, это к лучшему. Я спокойно дождусь утра, прибьюсь к какому-нибудь каравану и вернусь в свою рощу…
Ори вернулся спустя полчаса, осунувшийся и побледневший. Я искал Дом Бодана, объяснил он, это мой покровитель. Странно, но в этом городе нет Домов Бодана… Это не город, усмехнулась Нина, у нас нет городов. Эглы давным-давно запретили людям огораживать поселки стенами, а без стены самый большой поселок — деревня. А что до Подземного Змея, то говорят, наши предки поклонялись ему, пока эглы не сожгли его храмы и не разбили изваяния. Эглы не любят Подземного Змея, наверное, потому, что он сжирает их, когда встречает у себя в глубине…
Эглы, эглы, заворчал мальчишка, да у вас тут из-за них никакой жизни нет! Они же крошечные, меньше меня, а держат в кулаке целый народ. А еще аталантцами себя называете! Трусы вы все, а не аталантцы. С какими-то подземниками справиться не можете…
Нине вспомнились белые змеи, увлекающие в черные зевы туннелей отчаянно сопротивляющихся юных воинов Восточного Предела. А вот ты завтра посмотришь, какая на их стороне сила, сказала она спокойно, у людей такой отродясь не было, к тому же и воюем мы друг с другом куда чаще, чем они между собой. Увидишь, с кем твоему господину придется сражаться…
…Увидеть это предстояло им с минуты на минуту. Но пока Кровавая Арена была пуста, и пустота ее пугала больше, чем целые орды чудовищ. Хозяева арены знали толк в зрелищах и умели рассчитывать время — толпа, заполонившая террасы над багровым каменным кругом, глухо гудела, заводя сама себя в напряженном ожидании предстоящей схватки. Судя по обрывкам разговоров, которые долетали до ушей Нины, в исходе поединка никто не сомневался, обсуждали лишь, какое страшилище выставят эглы на этот раз и что пленнику переломают сначала — руки или ноги. Когда накал споров достиг апогея, окованная медью дверь с оглушительным визгом распахнулась и двое рослых горцев вытолкали на арену оборванного и худого человека. Нина всмотрелась, до боли сощурив глаза, — да, это был Тигр. Ее Тигр.
Рядом сдавленно охнул Ори. Мастер Кешер выглядел так, словно несколько лет провел в рудниках Серебряного хребта, таская тачки с породой по подземным галереям. Он щурился от сиявшего над снежными вершинами яркого солнца и пошатывался от слабости. В прорехах его одежды виднелись крупные фиолетовые кровоподтеки и едва начавшие подживать ссадины. В руке он сжимал какую-то жалкого вида палку с заостренным концом — на оружие она походила столь же мало, сколько сам мастер Кешер походил сейчас на бывшего блистательного командира телохранителей наследного принца Аталанты. Толпа, оживившаяся при появлении пленника, заорала и заулюлюкала. На противоположном ярусе Нина заметила ухмыляющуюся рожу одного из разбойников из отряда Шамы и вновь подумала, что правильно сделала, выкрасив ночью короткие волосы мальчишки в рыжий цвет. Перекрашенный и одетый в приличную чистую рубаху и широкие горские штаны, Ори стал почти похож на коренного островитянина. Сам Тигр, презрительно разглядывая искаженные криком лица над ареной, ни на мгновенье не задержал на нем своего взгляда. Нину, облаченную в глухое вдовье одеяние и прячущую лицо под платком-хаджусом, он, разумеется, узнать не мог.
Кешера, казалось, совершенно не волнует то положение, в котором он оказался. Безоружный, обреченный на неминуемую гибель, он смотрел на ожидавших кровавой потехи зрителей с брезгливой усмешкой аристократа, случайно очутившегося в грязном притоне. Почерневшие, распухшие от побоев губы, жаркие прикосновенья которых сводили Нину с ума, были сжаты твердо и непреклонно.
Он опустил голову и, словно потеряв всякий интерес к зрителям, принялся изучать забранные решеткой туннели. Толпа взревела еще громче; откуда-то из второго яруса в Тигра бросили тухлым яйцом. Бросок не достиг цели, но немедленно появившиеся стражники вывели из толпы прыщавого парня с целым узелком яиц и вытолкали за ворота. Правила арены строго запрещали причинять вред участникам поединка.
Нина, внимательно следившая за Тигром, увидела, что лицо его внезапно изменилось, стало жестким и сосредоточенным. Глаза Кешера неотрывно следили за центральным туннелем. Нина попыталась разглядеть, что же он там заметил, но ничего не разобрала — ей показалось только, что тьма в туннеле сгустилась и застыла тяжелой и плотной глыбой.
Внезапно Тигр начал отступать. Он по-прежнему смотрел куда-то сквозь решетку, преграждающую вход в туннель, но двигался спиной вперед к захлопнувшейся медной двери. Дурацкую свою палку он держал в левой руке острием вниз. Отступая, он пригнул голову — Нине даже показалось, что его уши немного вытянулись и встали торчком. Она вспомнила его удивительные, остро заточенные клыки — в ту ночь на берегу они оставили на ее теле немало глубоких отметин. Нина почувствовала гордость и облегчение — пусть Кешеру и недолго осталось жить, но в ее памяти он навсегда останется сильным, опасным и гордым. Как быстро меняется его облик, успела подумать женщина, только что он казался высокомерным аристократом, а за минуту до того — затравленным пленником. Какая же из его масок — настоящая?..
Ударил бронзовый колокол. И толпа, только что кричавшая сотнями хриплых и жадных глоток, замерла в мгновенно упавшем молчании. Пока металлические раскаты продолжали греметь в отшлифованных до зеркального блеска обелисках-резонаторах, решетка центрального туннеля начала с отвратительным скрипом подниматься, освобождая проход. Только теперь Нина увидела, что по туннелю движется, перекатываясь и сверкая глазами, огромная черная масса. Кешер быстро преодолел последние несколько шагов и уперся спиной в полированный металл двери. От балюстрады нижнего яруса его отделяло десять локтей — не так уж много, если только речь не идет о гладком, словно шелк, розовом мраморе без единой трещинки и выбоины. Ни одного шанса выбраться из ловушки у Тигра не было — даже если бы он подпрыгнул на небывалую высоту и попытался найти спасение на балконе первого яруса, десятки рук немедленно столкнули бы его вниз, ожидая обещанного развлечения. На несколько невыносимо долгих мгновений Кешер замер, прижавшись лопатками к отшлифованной меди.
Черная масса выбралась наконец из туннеля. По рядам зрителей прокатился неясный гул — Нине показалось, что она расслышала смутно знакомое слово «кабирра». Кажется, так назывались легендарные снежные демоны, живущие в уединенных горных долинах и очень редко появляющиеся на равнинах.
Появившееся из туннеля чудовище больше всего напоминало трехметровую обезьяну или, возможно, исполинского дикого, передвигавшегося на полусогнутых волосатых лапах. Бочкообразное туловище, покрытое торчащей иглами жесткой черной щетиной, немногим уступало в обхвате стволу священного древа, под которым Нина построила себе жилище. Длинные руки, переплетенные тугими узлами мышц, свисали до самой земли; узловатые пальцы, похожие на серые, скрюченные корни, скребли кровавый камень арены. Шеи у чудовища не было; большая голова со скошенным, густо заросшим волосами лбом сидела на невероятно широких и могучих плечах. Маленькие глазки, не моргая, следили за неподвижно замершим в своем углу арены противником.
«Кабирра, кабирра», — перешептывались вокруг.
Секунды текли медленно и вязко. Ни чудовище, ни его жертва не двигались, изучая друг друга. Затем огромная обезьяна двумя скользящими прыжками преодолела половину расстояния до прижавшегося к стене человека. Она двигалась так быстро, что Нина даже не успела испугаться. Тигр словно нехотя поднял руку и выставил свое жалкое оружие. К изумлению Нины, кабирра остановилась и глухо заворчала. В то же мгновение Кешер прыгнул вперед, метнув заостренную палку в морду чудовища.
Длинная и гибкая, словно плеть, рука обезьяны взметнулась, перехватив примитивный дротик. Но, прежде чем дерево хрустнуло в огромном кулаке, Тигр, приземлившийся на согнутые руки, взлетел в воздух, подобно цирковому гимнасту, и изо всех сил ударил ногами в широкую грудь кабирры. Издав короткий рык, чудовище покачнулось и опрокинулось на спину с грохотом, от которого содрогнулись нависавшие над ареной ярусы.
Нина услышала, как рядом восторженно кричит что-то Ори. К счастью, его крик потонул в реве пораженной неожиданным оборотом событий толпы. Мальчишку, конечно, следовало одернуть, но Нина не могла оторвать взгляда от разворачивавшейся на арене схватки. Ей казалось, что стоит хоть на миг отвлечься — и удача, сопутствующая пока Тигру, отвернется от него уже навсегда. Пальцы ее впились в розовый мрамор балюстрады с такой силой, словно на месте холодного камня находилось горло убийцы ее отца, подлого красавчика Ликурри.
Между тем Кешер попробовал закрепить успех, прыгнув на грудь поверженного противника. Однако ошеломленная дерзким сопротивлением жертвы кабирра не собиралась сдаваться после первого же удара — ее толстые серые пальцы сомкнулись на лодыжках человека и резко рванули его назад. Он повалился на спину, пытаясь высвободиться из стальной хватки гигантской обезьяны. Несколько секунд Нина не видела ничего, кроме шевелящейся черной туши и мелькающих рук и ног Кешера. Наконец Тигру удалось вырваться — он откатился на несколько шагов и вскочил на ноги, приняв низкую боевую стойку. Кабирра, напротив, поднималась медленно и грозно, опираясь на опутанные сетью вздувшихся вен могучие руки. Она нависла над Кешером, словно поросшая черным лесом гора. В эту секунду снова ударил бронзовый колокол, и появившийся на противоположной стороне нижнего яруса высокий человек в ярко-желтом хитоне, подняв руки, бросил на багровые плиты арены золоченую перевязь с двумя спрятанными в ножны мечами.
Они отдали ему мечи, еле слышным шепотом произнес Ори. Великий Водан, ты услышал меня, они отдали ему мечи! Теперь они узнают, как сражаются воины Аталанты!
Но Кешер даже не взглянул на лежавшую в десяти шагах перевязь. По-видимому, он боялся даже на мгновение оторвать взгляд от своего ужасного врага и потерять единственное преимущество — быстроту реакции. Нина решила, что хозяева арены, вернувшие ему оружие в столь рискованный момент, рассчитывали именно на это. Даже если Тигр метнется к перевязи быстро, как молния, ему потребуется несколько секунд, чтобы вытащить мечи из ножен. Кабирре этих секунд хватило бы с лихвой. Пока что Кешер переигрывал ее в скорости, но стоит ему немного отвлечься…
Чудовище, впрочем, не стало дожидаться благоприятного момента. Угрожающе зарычав, оно прыгнуло к человеку и попыталось схватить его поперек туловища. И опять Кешеру каким-то чудом удалось вывернуться из смертоносных объятий — узловатые пальцы кабирры царапнули по камням, а Тигр отскочил назад, перекувырнулся через голову и приземлился на согнутые ноги. В толпе зрителей раздались одобрительные крики и хлопки. Но радоваться было преждевременно. Разъяренная неудачей обезьяна внезапно опустилась на четвереньки и помчалась на противника со скоростью выпущенной из тугого лука стрелы. Кешер успел отпрыгнуть в сторону, но тут удача изменила ему — пронесшееся мимо чудовище задело его массивным плечом.
Даже скользящего удара гигантской туши оказалось достаточно, чтобы человека отбросило на несколько шагов и швырнуло на кровавые плиты арены. Нина вздрогнула — ей почудилось, что Тигр потерял сознание и больше не встанет. Кабирра, едва не врезавшаяся в противоположную стену, разворачивалась, упираясь в землю широкими серыми ладонями. Почему ты не встаешь, хотела крикнуть Нина, глядя на распростертого на камнях Тигра, ты же можешь успеть добраться до своих мечей… Не могу на это смотреть, без конца повторяла она себе, не хочу видеть, как эта жуткая обезьяна переломает моему Тигру руки и ноги и утащит в подземные норы эглов… Она напрягла всю свою волю, чтобы заставить себя отвернуться и опустить голову, и, когда у нее это наконец получилось, оказалось, что она смотрит прямо на Ори. Мальчишка уже не сидел на скамье — он стоял перед балюстрадой, прямой и бледный, и, не отрываясь, следил за мчавшейся к неподвижно лежащему Кешеру кабиррой. Лицо его заострилось, стало каким-то неживым и холодным, словно вырезанным из белого алебастра. Нина хотела дернуть его за рубашку — сядь, мол, на место, не привлекай внимания, — но не посмела даже протянуть руку. Не было больше Ори. Рядом с ней стоял незнакомец, сосредоточенный и чужой. При мысли о том, что он может повернуться и посмотреть на нее, Нине вдруг стало страшно.
Толпа вокруг нее снова взревела — на этот раз восторженно. Видимо, на арене произошло что-то неожиданное. Нина, не в силах больше выдержать эту пытку, рывком подняла голову, готовясь к самому страшному.
Тигр и на этот раз перехитрил врага. Как именно — Нина увидеть не успела, но, по-видимому, он подпустил обезьяну совсем близко, а потом стремительно откатился в сторону. Во всяком случае кабирра, проскочившая мимо шагов на десять, опять тормозила ладонями о камни, пытаясь развернуться, тогда как Кешер поднимался с земли, держа в руке перевязь с мечами. Его пальцы легли на рукоять большого меча, обхватили ее, потянули клинок из ножен…
Сотни зрителей задержали дыхание, и над ареной вновь повисла тишина, разрываемая только хриплым рыком разъяренной кабирры. Нине показалось, что она слышит скрежет металла о металл.
Нет, неправда. Это скрежетали от ненависти плотно стиснутые зубы Ори.
Меч почему-то не желал выскальзывать из ножен. Кабирра развернулась и, снова встав на задние ноги, пошла к Тигру — на этот раз она не бежала, а приближалась медленно, угрожающе раскачиваясь из стороны в сторону.
Они обманули его, поняла Нина. Они залили ножны расплавленным свинцом, или заковали их кольцами, или придумали еще какую-нибудь подлость. Сейчас это чудовище доберется до него. Может, оно и не слишком сообразительное, но без конца обманывать его Тигр не сможет.
Нина увидела, как в глазах Тигра появляется что-то похожее на растерянность. Не страх перед неизбежной гибелью, нет, — растерянность оттого, что все пошло не так, как он ожидал. Чего, успела спросить себя Нина, чего же он мог ожидать?.. Успела спросить, а вот ответить на вопрос — не успела.
Чудовище прыгнуло.
7. Кешер
Когда меч застрял в ножнах, Кешер Аш-Тот понял, что проиграл. Проклятая обезьяна приближалась слишком быстро, так что времени на поиск причин проигрыша у него не оставалось. Клинок не выходил из ножен даже на толщину пальца, и это, конечно, не могло быть простой случайностью. Если тебе удастся продержаться против бойца эглов первые три минуты, мы вернем твое оружие, пообещал сегодня утром желтолицый хозяин арены. Плоская физиономия его выражала крайнюю степень недовольства — по-видимому, он жалел, что не сумел сбить цену, заломленную вчера разбойником Шамой. За ночь пленника немного привели в чувство — отмыли в бане, натерли какими-то целебными мазями, напоили восстанавливающими силы отварами, — но на героя он по-прежнему походил мало. Такого хилого любая подземная тварь задавит, не заметив, а ведь толпа ждет развлечения! Много ли радости в том, чтобы посмотреть, как очередную жертву перекидывают через плечо и утаскивают в подгорный лабиринт? Все равно самого интересного — того, что происходит под землей, — зрители никогда не видят…
Желтолицый размышлял примерно таким образом. А Кешер, хоть мысли читать и не умел, успел достаточно разузнать о предстоящем поединке, чтобы догадаться, чем мог быть так расстроен хозяин арены. Что-то, посмеиваясь, рассказали стражники, охранявшие закованного в тяжелые цепи пленника, что-то сболтнули веселые девчонки, помогавшие ему смывать с тела пот, кровь и грязь последних суток. Несколько раз в разговорах повторялось странное слово «эглы». Кто такие? — полюбопытствовал слегка посвежевший после бани Кешер. Девчонки засмущались. Ну, про это лучше не говорить… они такие, такие… нет, лучше все-таки не говорить, тем более ночью… попадешь под землю — сам увидишь, хи-хи. Подземные демоны, понял он. Не так он рассчитывал к ним явиться, но ладно. Все равно он ближе к цели, чем раньше, к тому же половину пути его, словно важного сановника, пронесли почти на носилках (руки и ноги до сих пор ныли от врезавшихся чуть ли не до кости веревок)… Что ж, пока россказни Морского Лиса сбываются с пугающей точностью. Правда, про Арену он не упоминал, но это и понятно — так далеко в глубь острова ему пробраться не удалось. К счастью…
Хорошо, сказал он желтолицему. Я продержусь три минуты, и вы отдаете мне мечи. Взамен я устраиваю такое зрелище, которого на вашей вшивой арене не видели последние лет сто.
Желтолицый скривился еще больше. Ну-ну, хвалиться-то каждый умеет, а ты попробуй делом докажи… Докажу, усмехнулся Кешер, вы, главное, про мечи не забудьте.
Не забыли. Но и заклепать ножны для верности тоже не забыли.
Он отшвырнул тяжелую бесполезную перевязь. Обезьяна была уже совсем рядом — Кешер чувствовал ее смрадное дыхание. Бросаться в ноги опасно — раздавит, как слон улитку, в сторону — бессмысленно, она, похоже, только того и ждет, вон как широко расставила длинные, словно лишенные костей, руки… Опять прыгать назад? Нет, не выйдет. Второй раз — не выйдет. Зверюга просто прыгнет ему вслед, догонит и оторвет голову. Хотя нет, голову-то наверняка оставит. Ну, тогда оторвет все остальное, что в общем-то тоже неприятно…
Он увидел, как напряглись мощные обезьяньи ноги, и понял, что сейчас тварь прыгнет к нему, чтобы раздавить своим весом. Времени на раздумья не оставалось: в тот момент, когда обезьяна кинулась на него, Кешер взвился в воздух и с размаху ударился ладонями в жесткую, колючую шерсть чудовища, ощутив, как дрогнула под его ударом огромная туша. Когда-то так вздрагивали священные быки, с которыми юные воины Дома Аш-Тот играли на зеленых лугах Аталанты. Рискованные то были игры — могучие животные обладали великолепной реакцией, и порой незаметного наклона увенчанной острыми рогами головы хватало, чтобы перелетавший через быка акробат падал на траву с распоротым от паха до груди животом. Но каким же сладостным казался полет над широкой, золотисто-коричневой, вздрагивающей спиной священного монстра, полет, где мелькали поочередно пронзительно синее небо, желтоватые, жаждущие крови рога, блестящая от пота шкура, изумрудный ковер луга и лазурь далекого моря… Куда тебе до быков Аталанты, весело подумал Кешер, тупая, зловонная громадина, у тебя и рогов-то нет!
В одно мгновение он оказался на плечах у зверя и, оттолкнувшись обеими ногами, прыгнул снова, рассчитывая приземлиться на руки за спиной у противника. Но гигантская обезьяна, словно разгадав его замысел, мгновенно повернулась и, выбросив вперед длинные руки, схватила Кешера у самой земли. Секунду он болтался головой вниз, не понимая до конца, что произошло, а потом весь мир ему заслонила кошмарная слюнявая пасть, из которой несло нестерпимой вонью.
Два ряда бурых клыков разошлись в жутковатом подобии самодовольной ухмылки. Маленькие злые глазки чудовища горели красноватым огнем, плоский широкий нос плотоядно раздувался. Кешер попробовал вырваться, но на этот раз тварь держала его мертвой хваткой поперек туловища. Поэтому Кешер не стал тратить силы на бессмысленную возню, а просто собрался в тугой клубок мышц, приготовившись на всякий случай к самому худшему.
Вовремя — обезьяна со всего размаху швырнула его на каменные плиты арены. Кешер ударился спиной, явственно услышав, как хрустнул позвоночник. Огромная нога с длинными, отвратительного вида когтями поднялась, чтобы припечатать его к земле. Кешер попробовал рвануться в сторону, но задохнулся от выжигающей внутренности боли и прикрыл глаза…
В эту секунду перед внутренним взором Кешера предстал бледный, изнеженный юнец с неприятным лицом, с ног до головы одетый в черное. На губах юнца играла жестокая ухмылка.
…Принц наклонился к нему так близко, что Кешер Аш-Тот едва не задохнулся от сложной смеси духов и притираний — Его Высочество обожал экзотические ароматы. Кешер лежал на толстом и мягком ковре, туго спеленутый шелковыми шнурами. Владыка Моря протянул тонкую руку в золоченой перчатке и потрепал его по щеке.
— У тебя есть выбор, мой храбрый Кешер, — нежно проговорил он. — Ты можешь выбрать смерть и умереть быстро и безболезненно. Я умею быть щедрым, не сомневайся! Хоть ты и нанес мне небывалое оскорбление, украв у меня из-под носа эту девку Хаэ, я помню все твои прежние заслуги. Ты не испытаешь ни пыток, ни унижений. Мои евнухи просто задушат тебя шелковым шнурком. В отряде объявят, что ты геройски погиб, защищая меня от ночных убийц.
Принц замолчал и некоторое время задумчиво поглаживал щеку Кешера — словно ласкал любимого ручного гепарда.
— Не соблаговолит ли Ваше Высочество рассказать про вторую возможность? — прохрипел Кешер Аш-Тот. В голове все плыло — сонная отрава, подмешанная ему в питье кем-то из тайных шпионов принца, продолжала действовать даже сейчас. Он попытался осторожно освободить затекшие руки. — Не хочется, знаете ли, решать наобум…
— Не трать понапрасну силы, — рассеяно посоветовал принц. — Я знаю, что ты брал уроки у уличных фокусников и умеешь развязывать путы. Но мгновенно это не выйдет даже у тебя, а за дверью ждут преданные мне люди. Тем более что на этот раз речь идет о жизни и смерти. Великий Дом готовит морскую экспедицию в весьма отдаленные моря. Там нужен человек, способный совершить то, что не под силу другим. Человек, который может пройти там, где не пройдет никто. Человек, достаточно храбрый, чтобы бросить вызов богам, и достаточно осторожный, чтобы вернуться назад. Видишь, сколько требований? Подумай хорошенько, друг мой, прежде чем что-нибудь решить, потому что если ты не чувствуешь себя достаточно уверенным, лучше не рисковать своей репутацией.
Он разжал пальцы и выпрямился над Кешером — высокий, худой и жестокий юноша. Кешер, отчаянно борясь с дурнотой, поднял голову.
— Я привык оставаться в живых, Ваше Высочество, — еле слышно произнес он. — Поэтому, если вы не против, я выбираю второй путь.
— Хорошо, — равнодушно согласился принц. — В таком случае ты отправляешься в плавание. Завтра в столице объявят, что ты предал Владык Моря и Суши и отправлен в изгнание. Твой дом и твое имущество отойдет казне, все твои рабы станут рабами короны. Разумеется, если ты вернешься, выполнив все, что тебе поручат, мы подумаем, как вознаградить тебя…
— Согласен, — заплетающимся языком пробормотал Кешер. — И я вернусь, вот увидите.
Что ж, Ваше Высочество, подумал Кешер, вы можете быть довольны. На этот раз я, пожалуй, изменю своему обычаю всегда оставаться в живых. Быть раздавленным гигантской обезьяной — даже вы не придумали бы лучшей смерти для строптивого телохранителя. Приходится признать, что вы меня перехитрили…
…Страшный, разрывающий барабанные перепонки рев заставил Кешера открыть глаза. Огромная когтистая лапа нависала над ним, но почему-то не опускалась. Чудовище, застывшее в странной, неестественной позе, кричало — так кричат от нестерпимой боли и страха. Кешеру показалось, что голова его сейчас расколется от этого крика, как гнилой орех. Он попытался втянуть в легкие воздух — получилось! Тренированное тело оправилось от удара о каменные плиты, а значит, позвоночник остался цел. Но, прежде чем Кешер успел напрячь мышцы, рев вдруг оборвался. Огромная обезьяна, возвышавшаяся над ним, покачнулась и стала медленно заваливаться вперед. Кешер рванулся, перекатившись на бок, и выскользнул из-под падающего гиганта. Крючковатые когти все же вонзились в его бедро, располосовав ногу до мяса, но он не ощутил боли — его переполняло пьянящее, ни с чем не сравнимое чувство возвращения к жизни.
Обезьяна лежала ничком, вытянув длинные руки и уткнувшись мордой в кровавый камень арены. Ее могучее тело едва заметно вздрагивало, и дрожь эта окончательно убедила Кешера в том, что чудовище действительно мертво. Когда-то ему доводилось охотиться на исполинских животных Черной Страны, единственная рука которых росла прямо из серой морщинистой морды. Их туши тоже дрожали еще несколько минут после смерти — выглядело это так, будто по ним пробегала мелкая рябь. Кешер обошел поверженного противника сзади и под восторженные крики толпы прыгнул зверю на спину.
Он обвел взглядом беснующихся на ярусах зрителей. Ор, топот, свист и вспыхивающие кое-где потасовки свидетельствовали о том, что жители Каменного Седла восприняли такой исход поединка со смешанными чувствами. Некоторые показывали на него пальцем и выкрикивали что-то оскорбительное. Другие подпрыгивали на месте, изображая небывалый восторг — это, по-видимому, были безумцы, сделавшие безнадежную ставку на оборванного чужака.
Интересно, подумал Кешер, какая награда полагается победителю-человеку? Ночью он не раз задавал этот вопрос стражникам, но те смотрели на него, как на сумасшедшего. Очевидно, подобная возможность здесь не рассматривалась вообще. Насколько ему удалось понять, сам поединок был лишь ритуалом, придуманным для того, чтобы смягчить горечь регулярных жертвоприношений. Детей подземные демоны уводили в туннели два раза в год, и происходило это тихо и без свидетелей. Поединки же устраивались в тех случаях, когда в руки островитянам попадали чужаки, и тут уж мрачная церемония превращалась в жестокую забаву. Стражники заверили Кешера, что какое бы страшилище ни выбралось из туннеля, убивать оно его не станет — эглы не жалуют мертвечину. Обычно все заканчивалось обездвиживанием жертвы, которой предстояло украсить собой стол таинственного подземного короля. Правда, несмотря на все эти разговоры, Кешеру все равно казалось, что жуткая обезьяна была совсем не прочь размозжить ему голову о камни. И надо сказать, ей это почти удалось…
Что же это, думал он, попирая ногой мощный, заросший шерстью загривок, что же ее убило? Мои удары не в счет, я ни разу не задел ни одного уязвимого места. Отравленная стрела? Разве что невидимая… Стоп, сказал себе Кешер, невидимая стрела… Неужели?
С той самой минуты, когда он принял решение спасти Ори ценой собственной свободы, надежда на то, что мальчик догадается правильно воспользоваться своей удивительной силой, не давала Кешеру окончательно опустить руки. То, что их не убили сразу, расстреляв из засады, подкрепляло его уверенность — разбойникам зачем-то требовались живые пленники. Правда, такого ожесточенного сопротивления, какое оказал им Кешер, они явно не ожидали, и он немного опасался, не захотят ли разбойники отомстить за смерть пятерых своих товарищей, перерезав горло ему или мальчику. Не захотели. Как он узнал уже здесь, в Каменном Седле, за каждого чужака хозяева арены платили золотом — в половину его веса, или орихалком — в четверть, а уж сколько они сами получали от эглов, оставалось тайной. А потом Ори неожиданно исчез из своей клетки — из обрывков торопливых разговоров стороживших его воинов Кешер понял, что он либо бежал, либо стал добычей каких-то ночных чудовищ. Сами разбойники склонялись ко второму варианту — во всяком случае, на поиски пропавшего мальчика никого отправлять не стали, а, напротив, поспешили в горы, так, словно по пятам за ними следовало что-то страшное.
Он где-то там, среди зрителей, подумал Кешер. Он не бросил меня, не испугался… Молодец мальчишка, не зря я потратил полгода на то, чтобы его приручить!
Кешер Аш-Тот поднес сложенные воронкой ладони ко рту и закричал на всю арену хорошо поставленным голосом полкового командира:
— Ори! Ори, ко мне!
8. Ори
Он никогда прежде не думал, что стремительно перемещающийся противник — куда более трудная цель, чем неподвижный. Силе Бодана было все равно, на кого изливаться, но ее следовало направить в определенную точку. А проклятая кабирра носилась по арене, словно сорвавшись с цепи, и сосредоточить на ней взгляд у Ори никак не получалось. Когда же наконец чудовище на мгновение замерло над распростертым на камнях мастером Кешером, мальчик испугался, что не успеет коснуться его прежде, чем оно расправится с хозяином. В результате он выплеснул силу так резко, что едва не потерял сознание; в голове у него помутилось, и он едва слышал долетающие сквозь туман крики и вопли беснующейся толпы. Сколько это продолжалось, Ори не знал. Потом сидевшая рядом Нина стала трясти его за рукав рубашки, и он уставился на нее бессмысленным взором.
— Очнись, дурачок! Он зовет тебя! — наклонившись прямо к его лицу, повторяла Нина. Глаза ее, масляно блестевшие в прорези хаджуса, смотрели испуганно и удивленно. — Эта тварь мертва, и твой господин зовет тебя!
Ори помотал пустой головой. Пятью ярусами ниже, посреди кроваво-красного пятна арены, лежала гигантская волосатая туша, а над ней, живой и почти невредимый, стоял хозяин и кричал куда-то в небо:
— Ори! Ори, ко мне!
Великий Бодан, подумал Ори испуганно, я здесь сижу как чурбан, а мастер там уже весь голос сорвал… Он вскочил, оттолкнув руку Нины, и ловко вспрыгнул на мраморную балюстраду. В теле ощущалась звенящая легкость — верный знак того, что сила израсходована вся, без остатка. Но сейчас ему требовалась не сила, а сноровка.
Мальчик побежал по балюстраде, не обращая внимания на возмущенные крики зрителей и уворачиваясь от тычков и оплеух. В двадцати локтях от скамьи, где сидели они с Ниной, к нижнему ярусу вела широкая каменная лестница с гладкими отполированными ступенями. Ори спрыгнул на нее, поскользнулся, но не упал, а заскользил вниз по ступеням. Он и сам не успел понять, как оказался на бортике последнего яруса, нависавшем над багровой ареной. Здесь ему все же удалось затормозить, и он закачался, пытаясь обрести равновесие. Мастер Кешер, привлеченный шумом, сопровождавшим его стремительный бег, повернул голову и встретился с ним взглядом. Несколько секунд в зеленых глазах хозяина отражалось такое недоумение, что Ори поневоле засомневался, правильно ли он понял приказ. Потом он догадался — волосы. Эта зануда Нина заставила его перекрасить волосы, вот хозяин и не признал в прилично одетом рыжем мальчике своего черноволосого, бегающего в одной набедренной повязке слугу.
— Хозяин, это же я! — закричал он что было мочи, и Кешер, мгновенно сориентировавшись, спрыгнул с поверженной кабирры и бросился к тому месту, над которым опасно балансировал Ори. Встав в устойчивую и низкую стойку всадника, хозяин выставил вперед полусогнутые руки и взглядом приказал Ори прыгать. Мальчик слегка наклонился вперед и, потеряв равновесие, полетел прямо в объятия мастера Кешера.
Десять локтей — не такая уж большая высота. Хозяин покачнулся, но устоял и без особых церемоний опустил Ори на каменные плиты.
— Быстро, — распорядился он, — хватай мои мечи и беги за мной!
Ответа он явно не ждал. Ори стремглав кинулся к перевязи, блестевшей на солнце у обитой медными листами двери. Когда он нагнулся за мечами, из-за двери послышался шум поднимаемого засова и грубые голоса. Страх стегнул мальчика ледяным бичом — он подхватил перевязь и, не оглядываясь, припустил за хозяином. К удивлению Ори, оказалось, что тот бежит к туннелю — тому самому, из которого появилась жуткая обезьяна. Массивная деревянная решетка все еще была поднята, и ее острые зубья придавали отверстию туннеля мрачное сходство с жадно разинутым ртом. Мастер Кешер резко остановился перед решеткой и обернулся к мальчику.
— Живо! — рявкнул он.
Ори послушно наддал. Сзади что-то лязгнуло, и в двух локтях от его плеча коротко свистнул тяжелый металлический дротик. Не успев испугаться, мальчик пролетел мимо хозяина в темную дыру туннеля.
Послышался скрежет и надсадный треск натягивающихся канатов. Обернувшись, Ори увидел, что мастер Кешер подпрыгнул и ухватился за поперечные прутья решетки, своим весом опуская ее до земли. По арене к ним бежали одетые в желтое фигуры с короткими мечами в руках. Решетка упала, когда первый из преследователей был уже совсем рядом.
— Куда ты, безумец? — закричал он Кешеру, замахиваясь мечом. — Тебя же там живьем сожрут!
— Тебе-то что за печаль, любезный? — откликнулся хозяин, отступая к замершему за его спиной Ори. — Или ты пожалеть меня решил?
Желтый выругался и попытался приподнять решетку. Хозяин обернулся и подмигнул Ори.
— Пошли отсюда. Они не посмеют преследовать нас в темноте.
В темноте! Падающие из-за прутьев решетки солнечные лучи освещали лишь небольшую часть полого спускавшегося под землю туннеля. Дальше, в глубине, темнота висела плотным тяжелым занавесом, из-за которого, казалось, наблюдают за беглецами чьи-то прищуренные глаза. Ори мороз продрал по коже, когда он представил, кто может скрываться там, в недрах горы. Хозяин никогда не сталкивался с эглами, подумал Ори, он не знает, что их нельзя одолеть никаким оружием, кроме их собственных топоров, а у меня, как назло, вся сила ушла на эту проклятую кабирру…
Но он не успел ничего сказать. Мастер Кешер хлопнул его по плечу и решительно зашагал в темноту. В этот момент преследователям удалось наконец немного приподнять решетку, и Ори поспешил присоединиться к хозяину.
Коридор, уводивший под землю, был достаточно широк и высок для того, чтобы три всадника проехали по нему бок о бок, не наклоняя головы. Видимо, по нему хаживали звери и покрупнее кабирры. Гладкие стены сходились в вышине, образуя свод. Никаких колец для факелов или плошек с маслом, которыми освещались подземелья Дома Орихалка, мальчик на них не заметил.
Они прошли каких-то двадцать шагов, и тьма, окружавшая их, стала абсолютной. Стены и потолок исчезли, растворившись во мраке. Позади слышались громкие голоса и бряцанье металла, но расчет мастера Кешера оказался верен — в глубь туннеля никто из преследователей не сунулся. Ори неожиданно для себя вцепился в руку хозяина, более всего опасаясь, что тот оттолкнет его. Однако мастер Кешер ответил ему спокойным рукопожатием, и у мальчика немного отлегло от сердца. Пробираясь медленно, почти на ощупь, они прошли еще два десятка шагов, после чего хозяин остановился и, потянув Ори за рукав, усадил его на пол.
— Дай мне мечи, — шепотом приказал он. — Только тихо!
Ори осторожно протянул ему перевязь. Тяжелый золоченый пояс исчез в темноте, как будто ушел на дно глубокого черного омута. Через минуту что-то едва слышно щелкнуло, и перед мальчиком загорелась неяркая синеватая искорка.
— Ты, конечно, потерял маленький желтый бурдючок, — прошептал хозяин. — А ведь там было столько необходимых вещей!
Ори почувствовал себя глубоко несчастным. Бурдючок, как и прочую его поклажу, разбойники отобрали, пока он приходил в себя после удара дубиной.
— Ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Хорошо еще, что у меня хватило ума держать кое-какие полезные штуковины при себе…
Кристалл вечного света, догадался мальчик. Он видел такие в Доме Орихалка, в подземных часовнях, где жрецы возносили молитвы темной ипостаси Великого Змея. Только там кристаллы походили на большие, застывшие языки синего пламени, искусно вделанные в черный мрамор, а огонек в руках мастера Кешера казался крупным светляком. Водя им над тускло поблескивающей перевязью, хозяин попробовал просунуть ноготь между клинком и верхним кольцом ножен. Ноготь не пролезал.
— Все-таки расплющили, — сказал он тихим, звенящим от ненависти голосом. — Собаки, шлюхины дети! Других таких мечей во всей Аталанте не найти, а они их холодной ковкой… Клинки наверняка сломались, а если даже нет, то балансировку уже не восстановить. Ну, желтая обезьяна, ты мне за это ответишь…
Он подергал рукоять малого меча но, не добившись никакого результата, надел перевязь и повернулся к Ори спиной — капелька синеватого света слегка подсвечивала падавшие на плечи черные волосы.
— Затяни потуже, — распорядился мастер Кешер. — Этим мечам уже не суждено напиться вражеской крови, но пользу они принести еще могут.
Мальчик послушно закрепил ремни. Хозяин глубоко вздохнул — как показалось Ори, с сожалением.
— Теперь слушай, — голос мастера Кешера стал строгим, почти торжественным. — Сейчас мы спустимся вниз. Глубоко под землю. Там лежит страна подземных демонов…
— Эглов, — неожиданно для самого себя перебил хозяина Ори. — Знаю, видел одного такого. Ну и мерзость!
— В таком случае ты знаешь больше моего, — серьезно сказал Кешер. — Я вот пока ни одного еще не встречал. Говорят, они горазды отводить глаза и могут прикинуться кем угодно. Не знаю, может, и так. Нам нужно во что бы то ни стало попасть к их королю, тому, кого Нина называла Белым Слепцом.
— Нина! — вскинулся Ори. — Она шла за нами, помогла мне спрятаться, когда я бежал, узнала про поединок и привела меня на арену. Если бы не она, я не смог бы помочь вам справиться с кабиррой.
— Как трогательно, — отозвался хозяин. — Впрочем, я никогда не сомневался в этой женщине. Так вот, Белый Слепец, если верить легендам, знает, как усмирить Великую Волну. А мы должны узнать у него этот секрет.
Вот, значит, как, подумал Ори без особого удивления. Вот куда мы, оказывается, шли все это время. Воистину мудр мой хозяин, рассказавший мне о цели нашего похода только сейчас. Такой глупый и трусливый слуга, как я, непременно испугался бы, узнав, что ему предстоит спуститься в подземную страну жутких карликов и предстать перед их королем. Глядишь, и убежал бы с полдороги… Хотя нет, хозяина я ни за что не бросил бы. Даже зная, что мы идем на верную смерть.
— Тварь, которую ты убил, — продолжал между тем Кешер, — должна была превратить меня в кусок мяса для трапезы Белого Слепца. Я полагаю, что эта дорога ведет или в его дворец, или, по крайней мере, к существам, которые обеспечивают его пищей. Возможно, придется драться — правда, без мечей это будет непросто. Как у тебя с силой?
— Простите, господин. — Ори опустил голову. — Я по глупости истратил все на эту мерзкую обезьяну…
— Жаль, — хозяин выглядел разочарованным. — Жаль, я надеялся, что твой резерв больше. Неужели совсем ничего не осталось?
— Не знаю, — неуверенно сказал Ори, прислушиваясь к себе. — Ну разве что совсем чуть-чуть…
— Чуть-чуть не надо! На пустяки не отвлекайся, старайся накопить побольше. И чтобы никаких фокусов без моей команды, понял? Один раз ты уже чуть не убил нас своим дурацким геройством.
Ори, устыдившись, уткнулся глазами в пол — благо кристаллика вечного света не хватало, чтобы осветить его лицо.
— Если ты пуст, твое место всегда за моей спиной, — распорядился мастер Кешер. — Никуда не отходи, старайся никогда не терять меня из виду. К Белому Слепцу мы должны попасть вместе, чего бы это нам ни стоило. Ясно?
— Ясно, господин, — Ори шмыгнул носом. — Вы только не бросайте меня здесь одного, пожалуйста…
Кешер неожиданно рассмеялся и потрепал его по голове.
— Не брошу, малыш. Это я тебе обещаю.
Он легко, словно и не было вчерашней драки и сегодняшней тяжелейшей схватки, поднялся на ноги, потянув за собой Ори.
Коридор казался бесконечным, но теперь Ори был только рад этому. При одной мысли о том, что ждет их в конце пути, мальчика начинал бить озноб. Хозяин, конечно, не мог этого не чувствовать и время от времени дружески сжимал холодную ладошку Ори своими узкими сильными пальцами.
Они спускались вниз до тех пор, пока впереди не забрезжил слабый, фосфоресцирующий свет. Тогда мастер Кешер осторожно завернул кристалл вечного света в маленький кожаный мешочек и спрятал у себя на поясе. Он обернулся к Ори, приложил палец к губам и знаками показал, что нужно прижаться к стене и идти очень тихо.
Мертвенное, бледное сияние разливалось все шире, отбрасывая странные изломанные тени на полированные стены туннеля. Ори с Кешером крались в этих тенях, медленно приближаясь к источнику подземного света. Внезапно мастер резко остановился, схватившись за гладкую стен}’, чтобы не упасть. Ори, отстававший от него на пару шагов, осторожно приблизился и боязливо выглянул из-за плеча своего хозяина.
Внизу лежала огромная пещера с высоким, теряющимся в темной глубине сводом. Фосфорический свет исходил от ее стен, покрытых толстым слоем какой-то плесени, дробился в неподвижной льдистой воде подземных озер, отражался в десятках отполированных до зеркального блеска обелисков, выраставших из пола пещеры. В этом свете стоявшие стройными рядами между обелисками эглы казались армией мертвецов.
Их было не меньше пяти сотен. Почти все они превосходили размерами того карлика, с которым Ори разделался прошлой ночью, хотя для человека все равно оставались небольшими существами. Но основное отличие между эглами в пещере и убитым Ори карликом заключалось в другом.
Карлик, непонятным образом проникший в лагерь разбойников, с ног до головы был замотан в какие-то тряпки. Солдаты в пещере стояли в одинаковых белых доспехах. Опалесцирующий свет отражался в тусклых зеркалах выпуклых алебастровых нагрудников.
Ори пригляделся и понял, что то, что он первоначально принял за доспехи, на самом деле доспехами не было. Стоявшие внизу воины были облачены в костяные панцири, и панцири эти можно было снять с них только вместе с кожей.
Если, конечно, у них была кожа.
9. Дхут-Ас-Убэсти, Белый Слепец
Дни приходят, и дни уходят, и мир наш продолжает кружение свое в бесконечной черной бездне, в тенетах незримых сил, связующих небо и землю, большое и малое, звезды и жемчужины, провалы великой тьмы в сияющих россыпях Млечного Пути и подземные убежища моего народа у самых корней древних гор. Гор, которые помнят боль и ужас далеких веков, когда сошедший с неба огонь испепелил все, что не успело спрятаться, зарыться в норы, уйти в пещеры, стер прежнее лицо мира и очистил землю для нового, сильного и гордого рода, призванного встать вровень с богами. И вот они пришли, люди, наследники могущественных рас, уничтоженных небесным огнем. Пришли — и оказались ничтожными. Жадными, глупыми, не желающими и не умеющими видеть суть вещей. Мой народ был готов поделиться с ними знаниями многих тысячелетий, предупредить о грозящих опасностях, научить всему, что могло бы помочь им достичь своего великого предназначения. Но они не хотели учиться. Ослепленные жадностью, люди искали в подземной стране лишь капли застывшего небесного пламени, уничтожившего прежний мир, — они называли его «орихалк». Зачем? Зачем? Они не знали, как оживить холодный огонь, не знали, как разбудить душу небесного пламени… Все, что они умели, — это убивать и грабить, грабить и убивать. Так началась война, заставившая мой народ поверить, что люди — всего лишь смертельно опасные животные. Я, Дхут-Ас-Убэсти, девяносто третий правитель народа эглов, знаю, что это не так. Люди наделены разумом, пусть странным и извращенным. Но для моих подданных они — животные. Скот. А если люди — скот, следовательно, их можно есть.
Я запрещаю своим подданным охотиться на людей. Возобновление войны не нужно ни эглам, ни людям. Мой народ малочислен, а люди размножаются быстро, как рыбы. Если бы наша земля не была окружена Великой Волной, они уже давно заполонили бы все вокруг. Уничтожить людей, живущих на острове, в моих силах, но я не хочу этого. Смерть — инструмент косной материи, оружие завистливых древних богов. Мы можем быть врагами друг другу, но у нас есть общий противник. Все мы — и эглы, и люди, и безымянные расы, канувшие в бездну прошлых времен, — противостоим безликой предвечной тьме, стирающей различия, поглощающей все, что мыслит и чувствует. Поэтому я запрещаю охоту на людей, хотя и знаю, что некоторые эглы порой нарушают мой приказ. Особенно те, что охотятся в одиночку у дальних пределов подземной страны, на самом краю паутины Великого Единства…
Много лет назад в своих бесконечных размышлениях я увидел путь, выводящий обе наши расы из тупика, в котором они оказались. Я предвижу, что мой великий план переделки людского рода скоро даст свои плоды. Два раза в год напуганные подземным гневом люди присылают мне своих малышей, и я отдаю их Делателям. И пусть пока не все получается, как задумано, — рано или поздно мы выведем расу сверхлюдей, которые станут настоящими хозяевами земли. Они будут сильными, эти существа, им нипочем будут долгие зимы, время от времени сковывающие наш мир льдом. Они смогут жить и на земле, и под землей, и даже море станет для них надежным домом. Я вижу их могучими, но не враждебными, послушными, но не рабски покорными, сознающими сложность вселенских соответствий, но не пытающимися изменить их. Созданные нами, они станут относиться к эглам. как к мудрым учителям и опекунам. Ради них, будущих властителей земли, многие поколения моих предшественников исполняли свой главный долг, поддерживая всемирное Равновесие. Когда завершится цикл и мой наследник Уну-Неб-Тэт, Достигший Могущества, будет ослеплен, чтобы иллюзии видимого мира не смущали его разум, я уступлю ему место хранителя Равновесия, и воды подземного озера Уц-Абри, никогда не отражавшие свет, примут меня, как принимали всех правителей эглов на протяжении тысячелетий. Но перед тем как уйти в предвечную тьму, я должен объяснить Уну-Неб-Тэт, подрастающему сейчас в уютной и теплой Пещере Преемника, для чего нам, властителям подземного народа, дана великая сила, удерживающая колесницы небесных убийц на безопасном расстоянии от нашего мира…
Я размышляю об этом, ожидая, пока снежная обезьяна (люди называют ее кабирра) принесет мне человека — чужака, прибывшего из-за Великой Волны. Время от времени такое случается. Утлые приспособления, которыми люди пользуются, чтобы пересекать морские просторы, не в силах преодолеть поток вечно стремящейся к небесам воды и рассыпаются в щепы, но оставшихся в живых порой выбрасывает на берег. Прежде люди охотно принимали этих морских скитальцев в свои гнезда, но я прекратил это из опасения, что свежая кровь может чересчур усилить островитян. Зная природу людей, я не стал прибегать к запретам, но пообещал платить за каждого пойманного чужеземца полновесной мерой орихалка. С тех пор мне исправно доставляют все новых и новых моряков, прибывающих из разных краев света, — и каждый раз, когда это происходит, я думаю, что нет у человека большего врага, чем он сам.
Я погружен в размышления и не сразу замечаю, что внизу, у самого подножия трона, распростерлись два Серебряных Гвардейца из передового охранения дороги, связывающей Пещеры Раздумий с тем местом, которое люди называют Кровавой Ареной. Конечно, я не вижу их — мои глаза давным-давно стали пищей огромных, медлительных и безвредных слизней-ирруа, обитателей пересохших колодцев. Как и всех моих предшественников, меня однажды погрузили в крепкий, лишенный сновидений сон и положили слизней мне на глазницы. Добрые ирруа выделяют специальный сок, делающий эту процедуру совершенно безболезненной. С тех пор я считаюсь слепцом, но мое внутреннее зрение, освободившееся от рабской зависимости, способно проникать безгранично далеко в просторы окружающей наш мир бездны. Способно оно, разумеется, и определить, что две излучающие слабое тепло фигурки, замершие у ступеней трона, закованы в серебристые панцири Гвардии Верхнего Города.
Гвардейцы пребывают в священном оцепенении, и мне приходится ласково коснуться каждого своими нижними усиками, показывая, что я совсем не сержусь. Даже после этого они не осмеливаются сразу встать: эти простодушные офицеры из дальних гнезд всегда теряются, попадая в столичные пещеры.
Наконец Гвардейцы собираются с духом и докладывают мне о чрезвычайном происшествии. Снежная обезьяна в срок не вернулась, говорят они, вместо нее появились два человека, один, по всей видимости, тот самый чужеземец, что сражался с кабиррой на Кровавой Арене. Второй — не взрослая особь, но и не ребенок; откуда он взялся, им неведомо. Взрослый имел при себе оружие, но при первом же угрожающем жесте Гвардейцев добровольно расстался с ним, торжественно передав пояс с мечами старшему офицеру охранения. Оба вели себя крайне миролюбиво, постоянно повторяя (на человеческом языке и с помощью знаков), что стремятся предстать перед великим королем подземного народа. По всей видимости, Гвардейцы растерялись. Их огромный численный перевес не позволял всерьез рассматривать людей как угрозу, подлежащую немедленному уничтожению; с другой стороны, непонятное исчезновение кабирры тревожило командиров. Может быть, армия людей внезапно вторглись в страну эглов, и эти двое — всего лишь передовой отряд, дальняя разведка? Тогда убивать их тем более неразумно. Рассудив таким образом, старший офицер охранения приказал усилить патрулирование дороги и вызвал дополнительные подкрепления из близлежащих гнезд. Людей связали (причем, как дважды повторили Гвардейцы, они не оказывали сопротивления, хотя и выглядели крайне недовольными) и, погрузив на туннельные повозки, отправили вниз, в Пещеры Раздумья.
Так, значит, они теперь здесь, утвердительно говорю я. Гвардейцы выглядят испуганными. Пленники в Гранитных Покоях, докладывают они, по-прежнему связанные, под усиленной охраной… Я чувствую легкую вибрацию в их голосах. В чем дело, спрашиваю я мягко, в чем вы боитесь признаться мне, дети? Оба серебристых офицера трепещут и прижимаются к полу. Простите нас, Отец, бормочут они, мы не осмелились переломать им конечности… Дети, дети, говорю я, это не имеет никакого значения, ведь их всего двое и они надежно связаны. Однако почему вы пренебрегли приказом? Выясняется, что старший из людей представился послом какой-то далекой могущественной державы, король которой якобы хочет заключить со мной союз. Сбитые с толку офицеры не смогли решить, как вести себя с такой важной птицей, и, опасаясь моего гнева, не стали калечить пленников. Иногда я думаю, что напрасно велел защитникам Верхнего Города изучать человеческую речь.
Нехорошо. Я трачу несколько секунд на размышления — что делать с этими бестолковыми Гвардейцами. Отправлять их обратно наверх неразумно — кого они приведут мне в следующий раз? Наказывать — не менее глупо; оба выполняли свой долг, а за это не карают. Прихожу к выводу, что корень зла таится в нерешительности обоих особей; их Малое Единство, столь необходимое боевым эглам, лишь усиливает этот недостаток. Как обычно, найденное решение приносит мне несколько мгновений радости и покоя; порадовавшись, я вытягиваю свои нижние усики и опускаю их в воронки на теменных костях обоих офицеров. Ощущаю тесно переплетенные структуры их личностей, паутину Единств — Малого и Великого, тонкие нити, соединяющие моих Гвардейцев с подземным и небесным мирами, со всем, что существует, существовало и будет существовать на свете. Дотрагиваюсь до паутинки Малого Единства и резким движением разрываю ее надвое.
Миг удивления — всего лишь один миг. Серебряные Гвардейцы вздрагивают, но продолжают поедать меня преданными глазами. Все, как и раньше, только теперь взгляд у каждого свой. Взгляд одинокой особи, которой еще предстоит найти своего партнера. Что ж, дети, ищите — я, Дхут-Ас-Убэсти, надеюсь, что ваши будущие боевые товарищи окажутся решительней и сообразительнее вас…
Разобравшись с Гвардейцами, приказываю привести пленников. Ни на миг не забывая о безопасности, велю охране занять все входы и выходы из Пещеры Раздумья, встать на трех опоясывающих ее галереях и перекрыть подступы к трону. Возможно, люди посчитают меня трусом — о, я знаю, что означает это слово, — но правитель эглов не вправе рисковать Равновесием. Даже когда мне приносят людей со сломанными руками и ногами, людей с перебитым позвоночником, людей, в которых едва теплится жизнь, я всегда окружаю себя плотным кольцом охраны. Люди коварны и хитры — это один из главных уроков великой войны, в которой эглы, по счастью, одержали верх. Или, по крайней мере, не потерпели поражения, что порой бывает не менее важно…
Их вводят. Я неподвижно сижу на троне, ощупывая воображаемыми усиками тех, кто стоит в дальнем конце пещеры в окружении пятидесяти отборных боевых особей столичного гарнизона. Конечно, их внешность безобразна, как у всех людей, но какое это имеет значение? Для истинно видящих и самый совершенный эгл, и самый отвратительный человек — всего лишь вытянутые луковицы светящихся оболочек. Куда интереснее играть с теми образами, которые возникают перед моим внутренним зрением, когда я стараюсь думать о пленниках отстраненно, как о чем-то существующем помимо вековой вражды наших рас. Один похож на какое-то большое, гибкое и опасное животное. Он сжат, как пружина, его глаза — я чувствую их даже на таком расстоянии — беспокойно ощупывают пещеру, скользят по моему панцирю. Каким-то образом этот человек победил гиганта-кабирру. Как ему это удалось? К сожалению, он стоит слишком далеко, чтобы я мог дотянуться до него своим хоботком. Но рано или поздно он приблизится, и тогда я все узнаю.
Второй куда меньше и слабее. Он напуган и растерян, жмется к большому, словно надеясь на спасение. Похоже, между ними существует Малое Единство. Может быть, это пара отец-детеныш? У людей Малое Единство чаще всего возникает между родителями и детьми, Великого же Единства у них нет вовсе.
— Подойдите, — говорю я на языке людей. Я знаю несколько таких языков — мореходы, попадавшие ко мне в гости, приплывали из разных стран света. Сейчас я говорю на языке, общем для всего острова. Я вижу — они понимают мои слова.
Большой человек, настороженно озираясь по сторонам, делает неуверенный шаг вперед. Я подаю знак солдатам, и они начинают подталкивать пленников поближе к трону. Ближе, еще ближе… Так, хорошо. Я пытаюсь проникнуть под плотные слои светящихся оболочек старшего из людей. Невидимые усики проскальзывают в микроскопические щели, нащупывают дорогу к мерцающему янтарным светом ядру… Человек вздрагивает, лицо его на мгновение искажается гримасой отвращения. Я поспешно убираю усики.
— Неужели мы не можем поговорить по-человечески, Дхут-Ас-Убэсти? — дрожащим от напряжения голосом спрашивает он.
Я поражен. Мое тронное имя неизвестно никому из островитян, откуда же его может знать какой-то пришлый чужак? Но я не могу позволить захватить себя врасплох, поэтому отвечаю насмешливо:
— Не забывай, что я — не человек, чужеземец. И раз уж ты знаешь, как меня зовут, назови и свое имя.
Пленник выпрямляется так гордо, словно и впрямь чувствует себя послом. Мне хочется рассмеяться ему в лицо, но я, разумеется, сдерживаюсь.
— Кешер из Дома Аш-Тот, Яшмовый Тигр, Мастер Меча. Я прибыл к тебе по велению владык Моря и Суши великой Аталанты, с предложением братской дружбы между нашими народами.
— Не с той ли ты Аталанты, — перебиваю его я, — откуда пришли предки людей, обитающих наверху?
— Аталанта одна, Дхут-Ас-Убэсти, — надменно отвечает называющий себя Яшмовым Тигром, — величайшая держава мира, правящая народами по обе стороны океана. Неизмерима ее мощь, несравненна слава. Немногие правители могут похвастаться тем, что владыки Моря и Суши называли их братьями…
Голос его звучит уже не так напряженно, но внутри он по-прежнему собран, как изготовившийся к прыжку хищник. Я подумываю о том, чтобы коснуться его своим хоботком. Верхний народ уверен, что тех, кто попадает ко мне с Кровавой Арены, я съедаю. Это, конечно, не так. Правители эглов вообще не едят мяса, наши огромные, искусственно выращенные тела не принимают грубой и твердой пищи. Все дело в моем великом плане создания сверхлюдей, для которого требуется все больше и больше материала. Если этот высокомерный посол действительно прибыл из Аталанты, в его голове наверняка есть много такого, что пригодится моим Делателям. Но я медлю, не желая отказывать себе в развлечении, — мне редко удается побеседовать с попадающими сюда людьми.
— Как ты победил кабирру, человек Кешер? — спрашиваю я, специально не обращая внимания на его гордые слова. — Еще никому из людей за все века, что существует ритуал поединка, не удавалось одолеть бойца эглов.
Он улыбается — я, конечно, не вижу его улыбки, но она почти светится в темноте пещеры.
— Меня учили всегда оставаться в живых, Дхут-Ас-Убэсти, — говорит он, в третий раз повторяя мое имя. — И, между нами говоря, гигантская уродливая обезьяна — далеко не самый страшный противник, с которым я встречался.
Я перевожу внутренний взгляд на его спутника. Его светящиеся покровы темнее, чем у Кешера, — скорее всего, это следствие сильного страха, но, возможно, где-то в глубине его души таится не видимое мне зло. Почему-то мне не очень хочется дотрагиваться до его оболочек.
— Ты пришел не один, — говорю я. — Твой спутник тоже сражался с кабиррой?
Люди обмениваются взглядами. Я чувствую, как их встретившиеся взгляды высекают в темноте искру, как если бы кремень ударил о кремень.
— Нет, — отвечает наконец Кешер. — Но он всюду сопровождал меня, не бросил и здесь, в мрачном подземном мире. Позволь представить тебе Ори из Дома Орихалка, моего младшего товарища и оруженосца.
Что ж, Ори так Ори. Но слова про мрачный подземный мир задевают меня.
— Ты несправедлив, человек, — говорю я. — Страна моего народа прекрасна для тех, кто умеет видеть и владеет истинным зрением. Здесь есть великолепные мраморные пещеры, огромные кристаллы горного хрусталя над смоляными озерами, россыпи золота и жилы орихалка… Ты ведь за орихалком пришел сюда, Кешер Яшмовый Тигр?
Человек хорошо владеет собой. В его голосе — холодное удивление.
— Прости меня, Дхут-Ас-Убэсти, мне казалось, я выразился достаточно ясно. Я принес тебе привет от владык Аталанты и предложение дружбы.
— Мой народ знает цену словам людей. Вы считаете нас страшными подземными демонами, охотящимися по ночам, — о какой дружбе ты говоришь, человек? Скажи лучше, что понадобилось твоим владыкам от моего народа?
Он не успевает ответить — его маленький спутник неожиданно делает шаг вперед и, упираясь грудью в копье одного из моих телохранителей, кричит:
— А кто же вы есть, как не демоны? По ночам, скажешь, не охотитесь? А на меня вчера ночью кто напал, тушканчик? Чуть душу всю не высосала, тварь проклятая!
Кешер Аш-Тот что-то резко кричит, и Ори затихает на полуслове. Я внимательно смотрю на него, потом протягиваю невидимые усики и осторожно дотрагиваюсь до верхней светящейся оболочки. Да, детеныш говорит правду. Какой-то эгл, по-видимому охотник-одиночка, пытался убить его, но потерпел неудачу. Почему — я не понимаю. Ответ скорее всего лежит глубже, и я начинаю постепенно запускать усики в сердцевину его светящейся луковицы.
— Не сердись на моего оруженосца, владыка, — говорит Кешер. В его голосе я ощущаю скрытую тревогу. — Он еще ребенок и бывает несдержан. Поговорим лучше о том, чем выгодна для твоего королевства дружба с Аталантой…
Пока он пытается отвлечь меня разговором, я полностью подчиняю себе разум детеныша. Это оказывается несложно — его обучали повиновению с самого раннего возраста. Ори застывает, словно хорошо вымуштрованная боевая особь, на лице его — бессмысленное блаженство. Я осторожно пробую проникнуть за последний защитный барьер, туда, где лежат ответы на все мои вопросы, и именно в этот момент испытываю сильный приступ тошноты — верный признак того, что Равновесию что-то угрожает.
К счастью, такое случается довольно редко. К несчастью, это всегда происходит не вовремя. Я мгновенно забываю о пленниках, об усиках, оставшихся в светящейся луковице маленького человека, о намерении использовать посла Аталанты для нужд своего великого плана, даже о самом плане. Исчезает Пещера Раздумий, подземная страна, остров, окруженный Великой Волной… Мир становится огромным ковром, сотканным из разноцветных нитей, замысловатый узор которого выражает идею Вселенского Равновесия. Я чувствую себя повисшим в центре невидимой паутины, связующей наш мир со звездами и планетами бескрайнего неба, я раскачиваюсь на канатах гигантской сети и пытаюсь определить, откуда исходит угроза Равновесию.
Довольно быстро я обнаруживаю причину приступа тошноты. Движение Небесной Жемчужины, луны неустойчивой и своенравной, искривилось под воздействием хвостатой звезды, скользящей из полярной области неба в сторону Солнца. Возможно, виновата даже не столько сама звезда, сколько ее хвост — он задел Жемчужину по касательной уже после того, как сама хвостатая звезда ушла к Солнцу. Как бы то ни было, Жемчужина сошла со своего кругового пути и опасно приблизилась к нашему миру.
Я напрягаю волю. Поддерживать Равновесие можно не задумываясь, делая одновременно какую-нибудь другую работу, а вот борьба с опасностью всегда требует полной самоотдачи. Все мое большое тело участвует в этом процессе — сжимаются мышцы, наливается темной кровью мягкий шар, спрятанный в складках живота… Я чувствую, как сгущается вокруг воздух, и пытаюсь представить себе, что сейчас происходит на море. Великая Волна наверняка поднялась до самих небес, гремя и разбрызгивая клочья пены. Я отчетливо представляю себе эту картину, хотя за все долгие века своей жизни никогда не покидал пределы столичных пещер. Образ Великой Волны соткан из снов наяву, из воспоминаний мореходов, чью память я использовал для своего плана, из ощущения приятной тяжести в нижних сегментах моего тела. В каком-то смысле Волна — часть меня, такая же, как хоботок или невидимые усики. Я изо всех сил стараюсь вернуть Небесную Жемчужину на ее старую дорогу и погасить воздействие задевшей ее хвостатой звезды, и где-то далеко в море огромная Волна сжимается, словно единый тугой мускул. Потом я чувствую, как луна, послушная моей воле, вновь отдаляется от нашего мира, и Равновесие постепенно успокаивается. Тогда я позволяю себе расслабиться и возвращаюсь в реальность Пещеры Раздумий.
— …Разумеется, только мирные торговые суда, — продолжает развивать свою мысль посол Аталанты, не догадываясь о том, что я только что в очередной раз спас мир (и его самого) от ужасной гибели. — Однако наши корабли не могут подойти к острову, поскольку он, как вам хорошо известно, со всех сторон окружен Великой Волной.
— Почему же мне должно быть это известно? — спрашиваю я. — Я никогда в жизни не видел моря.
Кешер смеется.
— Неужели тебя совсем не интересует то, что происходит наверху? Прости, владыка, но ты слишком умен, чтобы замкнуться в скорлупе своего подземного мира.
Я молчу, вынуждая его продолжать, и он продолжает, становясь с каждой минутой все уверенней.
— У верхних жителей есть легенда о том, что Великая Волна создана магией эглов для защиты от вторжения с моря. Слышал я и о войне между людьми и подземным народом, когда эглы обрушили Волну на побережье, затопив землю едва ли не до самых гор. Я видел Волну своими глазами, убедился я и в том, что берега острова пустынны и покинуты жителями. Стало быть, легенды не лгут…
Мне не очень хочется его разубеждать, но я твердо говорю:
— Лгут не легенды, а те, кто их рассказывает. Великая Волна возникла гораздо раньше. После падения Третьей луны.
— Третьей луны? — не слишком вежливо переспрашивает Кешер. — Что ты имеешь в виду, Дхут-Ас-Убэсти?
— Ты вряд ли поймешь, — любезно отвечаю я. — Вы, люди, слишком молодая раса, чтобы помнить о тех страшных временах. Мы, эглы, куда старше вас, но и мы лишь наследники прежних хозяев мира, погибших от небесного огня. Тысячи лет назад в ночных небесах сияли три луны, а прежде их, верно, было еще больше. Вселенная неустойчива, человек. Время от времени луны отклоняются от своих путей и падают на землю, отчего происходят великие бедствия. Когда-то очень давно мы научились поддерживать Равновесие, управляя движением лун и планет, избегая опасных сближений и ограждая наш мир от гнева предвечной бездны. В те времена эглы были многочисленны и населяли всю землю…
— Как же вы это делаете? — интересуется Кешер. Увлеченный разговором, он, кажется, совершенно забыл о своем маленьком спутнике, и я, воспользовавшись этим, вновь начинаю прощупывать сознание Ори.
— Ты не поймешь, — повторяю я. — В человеческом языке нет таких слов. Мириады эглов были подобны единому существу, и их общая воля могла изменять движение звезд на небосклоне…
Мои усики наконец добираются до сгущения тьмы в сердцевине светящихся оболочек маленькой особи. Кешер уже не забавляет меня, я отвечаю ему лишь для того, чтобы отвлечь внимание от Ори.
— Почему же тогда упала Третья луна? — не успокаивается посол Аталанты. — И что произошло с могущественным подземным народом?
— В ту пору мы жили на поверхности, человек, — рассеянно отвечаю я. Перед моим внутренним взором поднимаются из праха и пепла исполинские пирамидальные города той эпохи, целые рукотворные горы, пронизанные миллионами ходов, населенные миллионами эглов. — Со временем Великое Единство ослабло. Чем совершеннее становилась каждая отдельная особь, тем быстрее подтачивалось могущество эглов. В конце концов мы начали враждовать друг с другом и растратили в этой борьбе силы, необходимые для поддержания небесного Равновесия…
Детеныш неожиданно дергается, словно мои усики дотронулись до чего-то болезненного. В то же мгновение Кешер поворачивает голову — я чувствую, как его взгляд, ощупывавший мой снежно-белый панцирь, упирается в лицо Ори.
— Что ты делаешь с моим оруженосцем, Дхут-Ас-Убэсти? — негромко, но отчетливо произносит он, и я различаю в его голосе угрожающие нотки. — Мы пришли к тебе как добрые друзья, а ты норовишь по-воровски забраться к нам в душу! Оставь его в покое, король подземного мира!
Ах, вот как ты заговорил, человек? Я подаю знак телохранителям, и они упираются топориками прямо в грудь посла Аталанты. Бессмысленное действие — пленник ведь и без того связан и лишен возможности двигаться, но мне важно показать дерзкому, что он может поплатиться за свои слова.
— Лучше продолжай задавать вопросы. Яшмовый Тигр, — советую я задыхающемуся от бешенства Кешеру. — Если, конечно. они у тебя еще остались.
Но он не прислушивается к моему совету. Я вижу яркую красную вспышку, озаряющую его светящиеся оболочки, — верный признак того, что он наконец потерял контроль над собой.
— Ори! — кричит он так, что я даже немного съеживаюсь — не от испуга, а от непривычного шума. В Пещерах Раздумья обычно царит глубокая тишина, и если здесь разговаривают, то делают это шепотом. — Ори, ответь мне! Ответь своему господину!
Поведение человека некрасиво и достойно сожаления. Детеныш, разумеется, не отзывается — я полностью контролирую его сознание. Нет, не совсем так — я все еще не могу заглянуть за последний барьер, представляющийся мне темным пятнышком в светлом янтаре. Если бы только Кешер не вопил так пронзительно! Его крик сбивает мою концентрацию, мешает сосредоточиться. Пожалуй, стоит приказать телохранителям накинуть ему на голову мешок…
Но тут он, видимо, и сам понимает, что Ори вышел у него из-под контроля. Кешер перестает кричать и почти спокойно спрашивает меня:
— Ты сказал, что я могу задавать вопросы, владыка. Значит ли это, что ты ответишь на них?
Он что-то задумал — я вижу это по ярко-лимонному свечению его оболочек. Что ж, если он не будет отвлекать меня от работы, я готов немного поиграть в его игру.
— Спрашивай, — разрешаю я. — Но пообещать, что ты получишь ответы, я не могу — возможно, я и сам их не знаю.
— Эглы всегда говорят правду? — неожиданно спрашивает он.
Интересно, откуда он это взял? Что-то подсказывает мне, что оттуда же, откуда узнал мое тронное имя.
— У нас нет понятия правды и лжи. Есть истинная картина мира, и есть иллюзия.
Я нежно поглаживаю пульсирующую в глубине светящейся луковицы детеныша темное зернышко. Да, прикосновение к нему причиняет боль. Но я могу успокоить ее, сделать мягкой и почти приятной. Осторожно, очень осторожно я проникаю все дальше и дальше, разворачиваю последний слой…
— Тогда ответь, можешь ли ты сделать так, чтобы Великая Волна исчезла?
Что ж, так я и знал. Всем людям в конечном счете нужно от меня одно и то же.
— А ты можешь перестать дышать? — спокойно отвечаю я.
Несколько мгновений он недоуменно молчит, потом неуверенно произносит:
— Ты хочешь сказать, что Волна — твое дыхание?..
Великие предки, до чего же ограниченны и тупы люди!
Они не понимают даже самых простых метафор. Неужели Кешер не видит, что я вдыхаю и выдыхаю тот же воздух, что и он сам? Я хотел бы объяснить ему, что Волна — натяжение невидимых струн, связывающих меня с небесами, что она будет существовать всегда, пока властители эглов поддерживают Великое Равновесие, так же как приближение лун к нашему миру будет вечно вызывать морские приливы. Но он не поймет, и я не стану тратить слов понапрасну. Тем более что мои усики уже проникли в темное ядро глубинной памяти детеныша.
Вот оно! Я отчетливо вижу силуэт, чернеющий на фоне алых языков пламени, — извивающийся двухголовый змей с мерцающими багровым огнем глазами. Водан! Древняя могучая тварь, с которой предки моего народа сражались за власть над пещерами и лабиринтами подземной страны. Темные сказания утверждают, что семя Бодана попало в наш мир вместе с небесным огнем и проросло в рудных жилах орихалка. Люди считают Двухголового своим союзником, потому что он помогал им в войне с моим народом, — безумцы! Порождение предвечной бездны враждебно всему живому, будь то люди или эглы. И ему нет места в моей стране — ни ему, ни его посланцам…
Вопреки тому, что говорят обо мне наверху, я ненавижу убийства. Никого из попадающих в мою страну людей не лишают жизни — детеныши отправляются к Делателям, которые изменяют их, превращая в новые, более совершенные существа; взрослые, прошедшие через Кровавую Арену, доживают свой век в Пещерах Покоя, где их телесные муки облегчаются добрыми ирруа. Но сейчас я готов забыть о своих принципах и уничтожить стоящих передо мной беззащитных людей. Меня переполняет чувство омерзения — словно это не я проник в тщательно оберегаемую тайну маленького пленника, а сам Двухголовый, глумясь, заглянул своими отвратительными глазами мне в душу.
— Вы обманули меня, — говорю я голосом, от которого вздрагивают даже мои бесстрашные телохранители. — Вы принесли с собой запах Двухголового.
Больше я ничего не успеваю сказать, потому что Яшмовый Тигр неожиданно начинает двигаться. Не понимаю, каким образом у него это получается, — ведь Гвардейцы уверяли меня, что он надежно связан. Но я чувствую, как его яркий огненный силуэт мечется по пещере, сталкивается с телохранителями, опрокидывает их, взмывает в воздух, словно демонстрируя какой-то странный воинственный танец. Мне, окруженному тройной цепью вооруженных боевых особей, ничего не грозит, но мои солдаты подвергаются серьезной опасности.
— Убейте его, — приказываю я охране. До чего же легко отдать такой приказ! Мое сегментированное тело начинает едва заметно подрагивать. Неужели от предвкушения скорой расправы над дерзким врагом? Недостойное чувство…
И вдруг я замираю. Вместо того чтобы пробиваться к трону, Кешер бросается к неподвижно стоящему посреди всего этого детенышу. Я вижу, как два светящихся силуэта на миг сливаются в один и с глухим стуком падают на пол. Потом чувствую резкую боль. Что-то широкое и острое рассекает плоть детеныша, по-прежнему связанного со мной прочными невидимыми нитями.
Я едва успеваю втянуть обратно свои усики, как оружие посла Аталанты вонзается в грудь маленькой человеческой особи по имени Ори.
10. Господин и слуга
Кешер Аш-Тот не зря брал уроки у фокусников, развлекавших народ на площадях Аталанты. Когда эглы, которым они с Ори сдались в плен, связывали его, он напряг мышцы и широко развел плечи, туго натянув веревки. К тому же слабосильный подземный народец далеко отставал в умении вязать узлы даже от разбойников удальца Шамы, не говоря уже о евнухах Его Высочества. Но освободиться от пут оказалось куда проще, чем скрыть свои намерения от жуткого взгляда пустых глазниц Белого Слепца. Кешер никак не мог избавиться от неприятного ощущения, что Слепец умеет читать мысли. Это ощущение возникло сразу же, как только он вошел в гигантский подземный зал, посреди которого в окружении сотни вооруженных топорами воинов восседал на огромном каменном троне король эглов. Сознание Кешера словно опутала липкая паутина, и ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы стряхнуть тягостное наваждение. Ему и в голову не пришло, что, оставив попытки проникнуть в его мысли, Белый Слепец возьмется за Ори. Одна-единственная ошибка, думал Кешер, делая глубокий вздох и напрягая мышцы, но зато какая! Никто из людей не стал бы тратить время на слугу, имея возможность выяснить все у господина. Но Слепец ведь не человек, и мыслит он совсем иначе… Ах, как глупо — лишиться своего главного оружия только из-за того, что для этой слепой белой твари не имеет значения, кто из нас аристократ и приближенный Их Величеств, а кто — простой храмовый раб! Невозможно предвидеть все, успокоил он себя, сбрасывая с запястий колючие, жесткие веревки, важно уметь правильно действовать в меняющихся обстоятельствах…
Слава Хэмазу, ноги ему не связали. Кешер отшвырнул ближайших к нему эглов, уперших свои топорики ему в грудь, — они предсказуемо отшатнулись, стоило ему только на них броситься, — и прыгнул к застывшему соляным столбом Ори. На пути оказалось еще несколько подземников — он сшиб их, как кегли, но кто-то сообразительный ткнул рукояткой топорика ему в ноги, и Кешер упал, покатившись по гладкому каменному полу. Если они навалятся всем скопом, мне не подняться, промелькнуло у него в голове. Кешер рывком вскочил, цепляясь за какого-то оцепеневшего от ужаса воина, и вырвал из его слабых рук топорик.
— Убейте его! — прогремел под сводами пещеры бесстрастный, нечеловеческий голос Белого Слепца. Кешер развернулся и. взмахнув трофейным оружием, очертил вокруг себя широкий смертельный круг. Ори по-прежнему стоял в неестественно неподвижной позе, не обращая никакого внимания на разгоравшуюся вокруг него схватку. У меня есть пять секунд, очень спокойно подумал Кешер, пять секунд на то, чтобы ввести его обратно в игру. Проклятая тварь подчинила себе его разум, значит, мне нужно добраться до того, что лежит глубже разума. Если я не успею, мы останемся здесь навсегда…
Он сбил Ори с ног и упал сверху, ощущая деревянную неподатливость его легкого тела. Перехватил топорик поближе к лезвию и ударил мальчика в грудь напротив сердца.
Весь расчет Кешера основывался на том. что эглы, ошеломленные его странным поведением, дадут ему несколько секунд форы. Он почувствовал, как лезвие упирается в кости грудины, и надавил на обух топорика обеими руками.
Ори застонал.
Он вынырнул из теплого океана, в который его погрузили ласковые поглаживания большой и доброй руки. Он не знал, чья это была рука, но ее прикосновения дарили покой и счастье. Ему казалось, что так гладила его в младенчестве мама, которую Ори не помнил; гладила до того, как оставить в корзинке из ивовых прутьев на ступенях Дома Орихалка. Даже хозяин никогда не был с ним так ласков. Даже хозяин…
Ори увидел высоко над собой безумные, налитые темной кровью глаза мастера Кешера и сразу же почувствовал боль — невыносимую, жгучую боль в груди. Словно раскаленным железом прожигали ему кости, боль все нарастала, и это было страшно, но страшнее всего было смотреть в глаза хозяина. Он же никогда не бил меня, подумал Ори, падая в черную бездну ужаса и отчаяния, он же всегда заботился обо мне, как о сыне, почему же он сейчас убивает меня?..
Просыпайся, шипел мастер Кешер сквозь зубы, просыпайся скорее, ты нужен мне, ты мне нужен, ты должен убить его, слышишь!..
Лицо его искажала злобная гримаса, по щеке текла кровь, длинные волосы свалялись и висели неопрятными космами. Страшное лицо, жестокое, чужое — может, это и не хозяин вовсе? Может, это один из тех служителей Дома Орихалка, что истязали Ори в сыром подземелье, заставляя его убивать крыс?.. Дагон, вспомнил он ненавистное имя. Дагон, послушник и слуга Хранителя Темного Покоя. Конечно, это Дагон. Я убью тебя, взглядом сказал Ори Дагону. Пусть меня сварят в котле с кипятком, мне плевать. Я убью тебя прежде, чем ты убьешь меня!
Сила Бодана переполняла его. Чем невыносимее становилась боль в груди, тем сильнее жгло переносицу рвущимся на волю смертоносным огнем. Ори моргнул, прогоняя набежавшие на глаза слезы, и в упор взглянул в лицо своего мучителя.
Поздно, подумал Кешер. Он слышал приближающиеся сзади легкие шаги эглов. Скользящие, почти невесомые шаги множества тонких детских ножек. Сейчас они подойдут вплотную, сказал он себе. У тебя еще есть шанс — ты можешь повернуться и уложить десяток этих демонов, прежде чем они завалят тебя своими трупами. Но он не пошевелился. Он, как зачарованный, смотрел в ставшие вдруг удивительно прозрачными, похожими на темный хрусталь глаза Ори. Мальчик наконец очнулся. Страшная боль, которую причинял ему острый эглский топорик, разорвала невидимые оковы, наложенные Белым Слепцом. Теперь он слышал то, что шептал ему Кешер, но не собирался выполнять приказ. Вместо этого он собирался убить своего хозяина.
Прозрачная бесконечность его глаз затягивала. Что ж, подумал Кешер Аш-Тот, я знал, чем рискую. Пытаться приручить такую силу — все равно что каждый день играть со священными быками: рано или поздно все кончится распоротым брюхом.
— Ори, — сказал он, понимая, что произносит последние слова в этой жизни. — Ори, сынок, прикончи эту тварь ради меня…
— Убейте же его! — снова потребовал беспокойно ерзающий на своем троне Белый Слепец. — УБЕЙТЕ ИХ ОБОИХ!!!
Кешер рванулся, заслоняя мальчика от ударов, и увидел совсем рядом бесстрастное костяное рыло эгла. Эгл замахнулся топориком, и Кешер закрыл глаза.
Ори непонимающе смотрел, как медленно валится на пол тело человека, который только что казался ему Дагоном. Теперь это снова был мастер Кешер, да он и раньше был им, только у Ори что-то творилось с глазами.
Крик «Убейте же его!» звенел у него в ушах. Ори поднял голову и встретил мертвенный взгляд пустых глазниц, темневших на ослепительно белом панцире существа, приказавшего убить мастера Кешера. Существо мелко подрагивало всем своим огромным сегментированным телом.
Гусеница, подумал он, мерзкая, жирная, белая гусеница.
— УБЕЙТЕ! — в третий раз крикнуло существо, и Ори скрутила судорога.
Сила Бодана вырвалась на волю.
11. Ночь Двух Лун
Море у берега казалось неправдоподобно спокойным — плита зеленоватого стекла, протянувшаяся от черного пляжа к белым барашкам невысоких бурунов, окаймлявшим невидимые отсюда подводные скалы. Закатное солнце плеснуло на неподвижную гладь расплавленным золотом и выковало из него сверкающую дорожку. Сидевший на краю палубной надстройки молодой, дочерна загорелый человек с длинными, забранными в тугой узел волосами цвета воронова крыла развлекался гем, что кидал в сверкающую дорожку камешками. От удачного попадания вода разлеталась во все стороны золотыми брызгами.
Капитан Цаддак подошел к молодому человеку сзади и некоторое время стоял у него за спиной, глядя на расходящиеся по воде круги. Потом несколько раз деликатно кашлянул.
— Здравствуйте, здравствуйте, Цаддак, старина, — радушно сказал молодой человек, не оборачиваясь. — И можете не кашлять — вашу медвежью походку я узнал, стоило вам подняться на палубу.
— Я говорил, — укоризненно покачал головой капитан. — Я всегда говорил кормчему — вот увидишь, Лис, если мастер Кешер вернется, он сделает это незаметно, так, словно он нас и не покидал. Как вы добрались до корабля?
— Доплыл, — пожал плечами молодой человек. — Вынужден сделать вам замечание, капитан, — вы совершенно распустили команду. Канаты свисают до самой воды, на палубе никого нет… Такое впечатление, что кривого Руима съела акула.
Капитан Цаддак повздыхал.
— Руим на берегу, вместе с половиной команды. Добывают орихалк, видите ли. Все помешались на этом орихалке. Моют его в реках, роют ямы… Впрочем, я и сам видел, что на берегу его много…
— Чепуха, — усмехнулся Кешер. — То, что можно найти на берегу, — сущие крохи. Вот когда мы придем в горы, вы узнаете, что такое орихалковые.
— Вы дошли до гор? — дрожащим голосом спросил капитан. — Вы… вам все удалось? Но как?..
Молодой человек наконец повернулся к Цаддаку, и тот увидел свежий, едва затянувшийся розовый шрам, змеившийся от груди к ключице.
— Это было нелегко, старина, — серьезно ответил Кешер. — Но, как видите, я сдержал слово. Сегодня Ночь Двух Лун, и я вернулся, как обещал. Честно говоря, я мог бы успеть и раньше, но потребовалось некоторое время, чтобы затянулись раны. — Он дернул плечом. — А вы, как я вижу, так и не ушли на Острова Поющих Змей…
— Не ушли, — подтвердил Цаддак. — И правильно сделали. Водяная стена исчезла на пятую ночь после вашего отплытия, а еще через день мы смогли высадиться на острове…
— Вот это интересно, — перебил его Кешер. — Расскажите мне, что здесь творилось.
Капитан удивленно поднял брови.
— Честно говоря, я не видел почти ничего. Все случилось поздней ночью, когда я уже спал в каюте. «Копье» неожиданно подбросило на волне — да так, что я в одно мгновение очутился на полу. Честно говоря, нас мотало несколько часов без перерыва, но все это время стояла такая темень, хоть глаз выколи. А когда рассвело, от водяной стены и следа не осталось. Главная волна пошла на остров, это ясно, да вы и сами, верно, видели, что творится сейчас на берегу… Обратно в море она уже откатывалась, потеряв свою силу, тут нам повезло. А уж почему она вдруг исчезла, об этом и вовсе вам лучше знать.
Молодой человек пропустил намек мимо ушей.
— Слушайте, я чертовски голоден. На вашем корыте найдется добрый кусок жареного мяса и кружка пива?
Цаддак мгновенно налился темной кровью.
— Мастер Кешер, хоть вы и герой, но оскорблять мой корабль не позволено никому! Слышите — никому, пусть даже этот кто-то — личный друг Их Высочеств!
— Ну, полно, капитан, полно, — широко улыбнулся Кешер, очень довольный тем, что отвлек простодушного капитана от обсуждения неприятной для него темы. — Приношу вам свои искренние извинения. Хотя если бы у вас два дня не было во рту ничего, кроме сладких кореньев, я думаю, вы не стали бы придираться к словам…
— Не будем ссориться, мастер Кешер, — смягчился отходчивый Цаддак. — Я не подумал, что вы только что вернулись из дальнего странствия. Сейчас мы спустимся ко мне в каюту, и я прикажу старому пройдохе Титусу зажарить поросенка. Знаете, это странно: несколько дней назад на побережье хлынули дикие звери — кабаны, олени, косули… Не знаю, что их гонит сюда, но мы теперь каждый день едим свежее мясо, а абордажники построили на берегу коптильню, так что запасов хватит и на обратный путь.
Что их гонит, повторил про себя Кешер. Хотел бы я знать. Он и сам видел стада оленей, покидающие предгорья и движущиеся в сторону моря. Уходили не только олени — с болот и озер стаями, заслонявшими небо, улетали уточки и розовые фламинго, в лесах он встречал целые колонны муравьев, мигрирующих по направлению к берегу. Словно где-то за спиной у спасающихся бегством животных происходило нечто ужасное…
Это подземная страна, думал Кешер. Она гибнет, рассыпается, и ее распад почему-то сводит с ума животных. Жаль, что я не успел узнать у Белого Слепца, каким образом эглы подчиняют себе чудовищ, подобных снежной обезьяне. Впрочем, я вообще очень многого не успел узнать…
— Пойдемте, — кивнул он капитану, спрыгивая с надстройки. — Готов отдать самородок орихалка за кружку кислого пива.
Ужинали втроем — Кешер, Цаддак и Морской Лис. Капитан настойчиво рекомендовал всем отведать браги из плодов дынного дерева, в изобилии произраставшего на берег)’. Правда, леса побережья оказались смыты хлынувшей на остров волной, и теперь плоды потихоньку гнили в глубоких лужах. Но на бражку они все равно годились, о чем Цаддак не уставал повторять, доказывая это личным примером.
Кешер, однако, пил мало, больше налегая на жареную поросятину. Что до Морского Лиса, то он мрачно сидел над своей кружкой, время от времени шумно прихлебывая из нее и бросая подозрительные взгляды на молодого человека. Разговор не клеился. Кешеру явно не хотелось рассказывать о своих приключениях, а капитан и кормчий не решались приставать к нему с расспросами. Наконец приятно порозовевший Цаддак широко улыбнулся и спросил:
— А где же, позвольте полюбопытствовать, ваш слуга Ори? Такой смышленый мальчонка, хоть и бездельник, конечно…
Кешер перестал жевать и странно посмотрел на капитана.
— Ори умер, — ответил он наконец. — Погиб в горах.
Улыбка капитана погасла. Над столом повисло тяжелое молчание, в котором явственно слышалось сопение кормчего и бурчание в объемистом брюхе Цаддака. Кешер обглодал косточку и отставил тарелку.
— Благодарю, капитан, — произнес он торжественно. — Ужин великолепен. Впрочем, полагаю, по возвращении в Аталанту вы сможете нанять себе халисского повара, чье искусство затмит таланты нашего доброго Титуса.
— А вы, мастер, наверняка вернетесь ко двору, — предположил довольный Цаддак. — Их Величества вернут вам титул и поместья, и вы снова станете командиром телохранителей Господина Моря и Суши…
— Возможно, — без улыбки отозвался Кешер. — Однако в ближайшее время я предполагаю заняться постройкой крепости на берегу. Впрочем, больше всего работы предстоит кормчему.
Морской Лис отвел взгляд в сторону.
— Кто лучше всех знает морской путь к острову? Кто сумеет провести суда, груженные орихалком, к портам Аталанты? Теперь, когда Великой Волны больше нет. Их Величества будут посылать сюда целые флотилии и вести их поручат нашему кормчему…
Триера мягко качнулась на гребне большой волны. Кешер вопросительно изогнул бровь.
— Вечерний прилив, — объяснил раскрасневшийся от браги капитан. — Последние дни он почему-то сильнее обычного. Возможно…
Он не договорил и быстро закрыл рот. «Сияющее копье» вновь подбросило и опустило, на этот раз куда сильнее.
— Я поднимусь на палубу, — заявил Кешер. Он поднялся из-за стола прежним легким и пружинистым движением. Только тут капитан понял, что с самого начала смущало его в облике молодого человека.
— Ваши мечи, — растерянно пробормотал он. — Вы же никогда не расставались с мечами…
Кешер молча улыбнулся и вышел из каюты. Цаддак задумчиво посмотрел ему вслед.
— Ты не находишь, что он изменился, Лисенок? — спросил он. — Будь я проклят, если за этот месяц парень не постарел на десять лет. Ты видел седую прядь у него в волосах?..
Кешер Аш-Тот вышел на палубу «Сияющего копья Хэмазу» и встал у юта, крепко держась за натянутый вдоль борта канат. Триера качалась на высоких волнах, разбивавших еще недавно спокойное зеркало бухты. Темнело. По обеим сторонам хрустального небосвода светились два тяжелых, почти одинаковых по размеру шара — Лилит и Нанна. В Ночь Двух Лун обе они сияли на небосклоне в полную силу, словно стараясь перещеголять друг друга своей красотой.
Позади послышалось негромкое поскрипывание деревянных ступеней, потом уверенные шаги человека, для которого корабельная палуба была родным домом. Кешер не оборачивался, разглядывая холодный и надменный лик Нанны. Сегодня она почему-то казалась больше, чем обычно, и Кешеру чудилось, что он различает на ее выпуклой поверхности тонкую паутинку трещин.
— Мои поздравления, Яшмовый Тигр, — негромко произнес человек у него за спиной. — Вы все-таки совершили невозможное…
— Невозможного не существует, экзарх, — ответил Кешер, не отрываясь от созерцания Нанны. — Есть задачи легче, и есть задачи труднее. Эта была из самых трудных.
Экзарх промолчал. Сильные приливные волны качали триеру, словно младенца в люльке, и крупные южные звезды дробились в глубокой воде, прозрачной и темной, как глаза мальчика Ори.
— Сегодня Ночь Двух Лун, — нарушил Кешер тягостное молчание. — Почему же вы не у себя в каюте, экзарх?
— Нет нужды, — коротко отозвался его собеседник. Он подошел к борту и облокотился о него, задрав к небу крупную кудлатую голову. — Какая странная сегодня Ианна…
— Так это была игра? — чуть разочарованно спросил Кешер. — Жаль, мне нравилось, как вы проникновенно выли…
Экзарх рассмеялся коротким сухим смешком.
— Игра? Нет, скорее наваждение. Но с тех пор, как подземный король умер, оно бесследно прошло, и этим я обязан вам, Яшмовый Тигр.
— Напротив, мне следует благодарить вас, экзарх, — учтиво ответил Кешер. — Это же вы предупредили меня об опасностях и ловушках острова, открыли мне тайну имени Белого Слепца и рассказали о магической связи, существующей между ним и Великой Волной…
— Не тратьте слов понапрасну, — перебил его собеседник. — Я выполнил свою работу, а вы сделали свою. Теперь сокровищницы Аталанты не оскудеют до конца ее дней. Я заплатил за это помраченным рассудком, вы едва не поплатились жизнью. Но вспомнит ли кто о нас, глядя на пламенеющие орихалком стены Великого Дома?
Никто, мысленно ответил Кешер. Никто не помнит тех, кто прокладывал дорогу во тьме, кто крался тайными тропами, кто побеждал не доблестью, а хитростью. Такова извечная судьба незримых воинов Аталанты.
Я бы хотел остаться на острове, подумал он. Мне до смерти надоела придворная возня, интриги и подковерная борьба соперничающих Домов. Но я должен вернуться. Кешер от Дома АшТот, Господин Мечей, всегда возвращается живым. К тому же за Его Высочеством остался неоплаченный долг, а я не из тех, кто прощает своим должникам.
Он вспомнил, как ползал по ковру, залитому хлещущей из обрубка руки кровью, желтолицый хозяин арены. Он бормотал какие-то жалкие и бессмысленные слова и все пытался поцеловать пыльную сандалию Кешера. В конце концов его причитания надоели Кешеру, и он, коротко размахнувшись эгльским топориком, отрубил желтолицему вторую руку. Две руки — за два погубленных меча. Он пришел за своим долгом, как только затянулись раны, полученные в последнем бою с эглами, и желтолицый не смог ему отказать.
Да, я бы хотел остаться, подумал Кешер. Оставайся, просила Нина, когда они стояли у края священной рощи, бывшей некогда ее домом. Теперь роща была смыта обрушившейся на остров огромной волной, и сломанные деревья торчали из высоко стоявшей на равнине воды, как воздетые к небу руки утонувших гигантов. Мы уйдем на холмы, построим новый, светлый дом и будем в нем счастливы. Подземного народа больше нет, и нам нечего будет бояться…
Нет, сказал ей Кешер. Мне было хорошо с тобой, но мой дом не здесь. Возможно, когда-нибудь я еще вернусь к тебе. А чтобы тебе не было так одиноко, я оставляю с тобой Ори.
Хозяин, запротестовал Ори, и не думайте, хозяин! Я вас одного не брошу! Виданное ли дело — оставить меня на эту… эту… Он не договорил и смутился.
Ты останешься, жестко повторил Кешер. Ты еще болен, а Нина сумеет тебя вылечить. Кроме того, я не хочу, чтобы ты возвращался в Аталанту.
Почему? — дрожащим голосом спросил Ори. Его темные глаза лихорадочно сияли на бледном, осунувшемся лице. Хотя рана на груди уже почти не гноилась, мальчик все еще был очень слаб. Когда истекающий кровью Кешер на руках выносил его из подземелья, заполненного мечущимися, ослепшими от ужаса и потрясения эглами, Ори показался ему легким, словно соломенная кукла. Тогда Кешер поклялся, что, если мальчик выживет, он сделает все, чтобы Ори никогда больше не вернулся к своим жестоким наставникам.
Так надо, сказал он, не желая ничего объяснять. Ты останешься на острове и будешь заботиться о Нине. Ты должен забыть, кто ты и откуда. Можешь придумать себе новое имя. Можешь даже научиться есть ящериц. Но если я когда-нибудь вернусь сюда, мне будет приятно, если ты меня все-таки узнаешь…
— Хотите откровенно, экзарх? — спросил он, поворачивая освещенное серебряными лучами Ианны лицо к Морскому Лису. — Мне совсем не нужна эта слава. А те, в чьей памяти я хотел бы остаться, никогда не увидят дворцов Аталанты.
Триеру снова качнуло. Большая, пришедшая из темноты волна подняла корабль так высоко, что заскрипели якорные канаты.
— Необычайно сильные здесь приливы, — задумчиво произнес кормчий. — И с каждым вечером они становятся все сильнее…
— Думаете, это рождается новая Великая Волна? — усмехнулся Кешер. — Но ведь ее некому поддерживать. Белый Слепец мертв, а его наследник слишком слаб, чтобы повелевать морем. К тому же он наверняка уже умер от голода, когда разбежались кормившие его слуги.
Морской Лис внимательно посмотрел на него.
— Значит, вы так ничего и не поняли? — спросил он. — Волна — это совсем не главное. Все пространство вокруг нас пронизано невидимыми нитями. Они связывают небо и землю, море и луны, людей и звезды. А теперь одна из таких нитей оборвалась.
Он замолчал, разглядывая огромную, сияющую расплавленным серебром луну. Море чувствует приближение Ианны, думал кормчий. Подземный король умер, и Ианна сорвалась со своей небесной цепи. Пройдет несколько лет, а может быть, месяцев, и столкновение станет неизбежным. Золотые дворцы Аталанты обратятся в прах, и море сомкнется над гордыми белыми башнями. Могущество владык Четырех Стран Света будет повергнуто, и ужас и боль воцарятся в разоренных городах и селеньях. Я видел это в своих кошмарах. Я кричал, не в силах предотвратить гибель мира, а меня запирали в тесной каюте. Меня считали безумцем, и никто не понимал, что я просто вижу будущее. Будущее, которое я создал своими собственными руками…
И кормчий «Сияющего копья Хэмазу» по прозвищу Морской Лис, экзарх когорты незримых воинов Аталанты, улыбнулся в темноте жестокой улыбкой сумасшедшего.
ДМИТРИЙ ВОЛОДИХИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВ Возвращение в Форност
Неважно, с какой целью Вы решили посетить Средиземье. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте там консервные банки!
Лорд Лап, архивариус Нуин.Множество творений, дивных и странных, оставалось еще в мире; но немало было и лихого, жуткого: орки, тролли, драконы и хищные твари; в лесах бродили неведомые и мудрые создания; гномы трудились в горах, терпеливым искусством творя из металла и камня вещи, которым не было равных. Но близилось владычество Людей, и все менялось…
«Сильмариллион»Вороток на баллисте никак не хотел отпустить тетиву. Заело. Беатор в отчаянии ковырял его ножом, впрочем, безо всякого успеха. Эльф опустошил половину колчана и ни разу не промахнулся. Но его стрелы одна за другой отскакивали от гоблинских доспехов. Кое-что, кажется, застряло во вражьей шкуре, но что им, исчадью Ангмара, эльфийские стрелы? Не страшнее шильных тычков.
— Заговоренные, что ли? — с суеверным ужасом бормочет Кэбидж. Свинцовые шарики из его пращи отлетают от громадин-гоблинов, не причиняя им ни малейшего вреда. Жуть какая: гоблины-переростки, они же не бывают такими здоровыми, просто не бывают… никогда… Никогда?
— Агдалон! Мы все ждем тебя…
— Сейчас, капитан!
Сейчас… Сейчас… В сырую погоду магический посох не работает. Один из гоблинов на равных рубился с дунаданом Торном. Оба рослые, медлительные и могучие, обрабатывали друг друга, точь-в-точь два добрых кузнеца, лупящих по наковальне: те-тень! Вам! Те-тень! Вам! Те-тень! Вам!
Кто кого возьмет измором?
Данно Акайн, черноволосый красавчик, получил удар гоблинским кулаком в грудь, и был бы кулак голым — полбеды, а то ведь на нем перчатка с медными нашивками… Лежит арнорец в кустах, стонет, подняться пробует, и толку от него ровным счетом никакого.
Толк если и есть, то исключительно от двух бойцов. Сам капитан Хаддар молча отбивается от второго гоблина, раза в два выше его ростом и раза в полтора шире.
Щит его расколот, левая рука висит плетью, из предплечья хлещет кровь. Дела капитана совсем нехороши. Смерть глядит ему в самые очи и ухмыляется. Гном Табарин, отчаянно сквернословя, рассерженным петушком наскакивает на третьего гоблина.
— Агдалон!
— Сейчас! Во-от…
Громкий шип, и от верхушки его посоха отрывается легкое облачко пара. По обличию своему пар этот — кровная родня банному… Третий гоблин ловким ударом сбивает с Табарина шлем, но тот ничуть не замедляет бешеных наскоков. Наконец Беатор, призвав Илуватара и все его небесное воинство на помощь, бьет деревянным молотком по непослушному воротку. Тот разлетается на части, содрогается станина баллисты, и с верхнего самострела сходит тяжелое метательное копье. Зато на нижнем заедает пусковой крюк…
Копье летит, кажется, прямо в лоб гоблину, сражающемуся с Хаддаром. Но потом оно попадает почему-то совсем не в лоб, а в огромное гоблинское ухо. Брызги уха разлетаются во все стороны, гоблин завывает дурным басом, подпрыгивает, долбит каменной палицей по земле, поминая Мелькора, драконий навоз и блудливую Шелоб. О капитане он ненадолго забыл. Хаддар подлетает к повозке и кричит:
— Спрыгивайте!
Все они втроем — Беатор. хоббит и эльф — мигом исполняют его приказ. Хаддар в одиночку, сверкая в сумеречной темени белками глаз, ворочает станину баллисты, пытаясь прицелиться получше, а потом разрубает мечом непослушный крюк. Копье сходит с левого самострела, устремляется к цели, пробивает гоблинский доспех и входит в живот до середины острия.
— Мертв… — меланхолично замечает эльф.
— Во-от… во-от… во-от… — принимается кудахтать Агдалон. Что-то у него, кажется, получилось. Маг направляет посох на противника Табарина. На кончике вяло загорается пламя, затем хлопает шутиха, неведомо откуда раздается бодрое «кукареку!», пламя превращается в белку, та, разумеется, прыгает и приземляется точнехонько на макушку гоблину.
Гоблин заходится истеричным хохотом, не переставая тем не менее вовсю махать шипастой дубиной. Он чуть не лопается от хохота…
* * *
Гонец из Форноста застал зеленый отряд в Эрегионе.
Шел дождь. Наследник вчерашнего дождя и предок завтрашнего. Ручьи и канавы наполнились холодной водой, черное небо отражалось в них с утра до вечера. Трава подчинилась естественному закону смены сезонов, трава смешалась с мокрой землей и превратилась в бурую кашиц)’. Но деревья не желали признавать ненастья, они будто бы и знать не знали поздней осени и уж тем более не чаяли прихода зимы. Ни один лист не упал еще на землю… Беатор, починявший баллисту, размышлял о странностях здешних мест. Когда-то, после победы над прошлой Тенью, эльфов, почти покинувших этот благословенный край, попросили вернуться. Чуть ли не сам Кирдан Корабел. То ли, может быть, Элессар — теперь об этом знают немногие. Мол, не должно очищенное лежать впусте… Эльфы вернулись — понимая, что от них ждут защиты всего края от разбойных шаек и опасной нечисти с севера. Уж очень хорош Эрегион, преступно бросать такую красот)'. Лет пятьдесят назад, говорят, Эрегион был полон эльфийскими селениями, и лето длилось тут по полгода, а зимы обходили стороной эту землю. Потом времена обмелели, и эльфы вновь потекли то легчайшими струйками, а то полноводными ручьями к западным гаваням. Тонкое устройство погоды сломалось, но леса и сады, воспитанные перворожденными, еще не привыкли к этому.
С тех пор как Беатор присоединился к отряду Хаддара, он дважды побывал в Эрегионе, и жило тут сейчас всего пять эльфийских семейств, упрямо державшихся за прекрасные древние леса и за юные сады. Еще здесь был Остров, основанный двадцать или двадцать пять лет назад, когда с севера потянулась мутными потоками остаточная нечисть, почуяв новый исход эльфов.
Деревянная крепостица: частокол, окружавший несколько дворов на опушке Эрегиона, там, где обрывистый берег возвышался на бешеным потоком реки Бруинен; три больших деревянных же дома для зеленых отрядов (один из них сейчас и занимали люди Хаддара): кузница, конюшня, амбары, погреба, пивоварня, оружейная. Беатор видел острова Ожерелья, из которых вырастали настоящие города. Но здешние места — глушь, людей мало, эльфов почти нет, гномов совсем нет. Жизнь едва-едва теплилась в острове, величаво названном Адангорд…
Если бы наместник государя Соединенного королевства, сидевший в северном оплоте Форносте, не присылал сюда припасы, люди скоро покинули бы остров.
Года три назад Беатор был тут в первый раз. Тогда какой-то дунаданский князек объявил себя королем Энедвайта, и рать с юга с большим трудом вразумила его, обильно полив кровью вересковые пустоши Дунланда.
Повсюду шла какая-то странная война, вчерашние друзья резались не на жизнь, а на смерть, и Беатору сделалось тоскливо: то, от чего он убежал, оставив теплое и сытое морское побережье, настигло его здесь, на севере… Рыцари четырех отрядов стояли тогда в Адангорде и готовы были двинуться на помощь гондорской рати. Но приказ от Первого Звена Братства, Кирдана Корабела, все не шел и не шел, связь по Великому Западному тракту надолго прервалась. Пропитание кончилось, ели раз в два дня, и того б не было, если бы местные эльфы не помогали им тогда. Один эльфийский отряд, один роханский, один гондорский и один — Хаддаров — смешанный, всего тридцать пять крепких, опытных бойцов. Кирдан тогда медлил, все никак не мог решиться. Потом от него пришло краткое послание: «Пролитие крови в междоусобных сварах — не дело рыцарей Ожерелья…» Тогда у Беатора, всего несколько месяцев как попавшего в Братство, появилось счастливое чувство: он оказался там, где ему и надлежит быть. Благодарение Илуватару.
Маленькие твердыньки Братства рассыпаны по всему Западу Средиземья, от бывшего Мордора до Голубых гор, но в этих местах острова можно пересчитать по пальцам. Ну, Адангорд. Еще один остров Ожерелья был в Раздоле, и, попадая туда, Беатор испытывал беспричинное счастье. Еще один — у самого нагорья Эттенблат, но там ему не пришлось быть ни разу. Туда, к темным ангмарским землям, рассаднику колдунов и орков, посылают лучшие отряды, самые сильные. А Хаддаровы рыцари, по правде говоря, лучшими не считались никогда. Средними. Да, пожалуй. Именно средними. Или чуть хуже средних. Самую малость. Табарин, а он тут с самого начала, как-то рассказал, мол, прежде в Братстве было восемьдесят зеленых отрядов, и Хаддару достался чуть ли не худший. Уж в последнем десятке — точно. Теперь отрядов всего сорок три. Нет, конечно, никакого особого счета, кто сильнее, а кто слабее и за кем заслуг числится больше. Нет, это одна пустая болтовня. Нет, старики глупости говорят. Но если послушать эти глупости, то теперь люди капитана Хаддара вроде бы стали двадцать пятыми по какому-то странному, никем не утвержденному счету. Главным образом потому, что ухитрились выжить…
Шел дождь. Данно Акайн, как водится, не закрывал рта. Он развешивал мокрую одежду над очагом, но все никак не мог сосредоточиться, — слишком занимал его разговор, — и дело у него не ладилось. То плащ сползал на пол, то штаны оказывались чуть ли не в самом пламени. Арнорец поправлял одной рукой, глядя не на одежду, а на собеседников, другой рукой все поглаживал несчастные свои ребра, обласканные гоблином. Сейчас же опять что-нибудь сползало, подгорало, падало, и он вновь пытался делать два дела одновременно.
— …А я говорю, бесполезный он тип. Ни на что не годный. Даже вредный. Надеешься на него, надеешься, а как до дела дойдет, один пшик!
— Говорили бы вы потише, сударь, я насилу уговорил нашего мага сходить за водой, хотя очередь как раз его, заметьте, я сразу скажу, чья когда очередь… а ну как вернется быстрее, чем вы ожидаете? Уж он-то вам не спустит. Хотите заполучить какую-нибудь магическую гадость?
— Не боюсь я его, сударь хоббит. Да и отчего бы одному из нас бояться другого?
— Я и не говорю вот так прямо… чтобы, мол, бояться. Я говорю, может быть, стоит чуть поостеречься?
— Признаться, надоело мне остерегаться его. Если взять, к примеру, нынешний наш поход. Вышли мы из Форноста, и было у нас четыре задания. Первое — это сумасшедший меч, который взялся невесть откуда и повадился резать скотину у твоих сородичей в Шире…
— Экая погань.
— Меч-то? Известное дело…
— Да нет, родня моя тамошняя. Жуткие оборванцы и транжиры, даже за скотиной как следует приглядеть не умеют.
— Второе — это, я напомню вам, истребление двоицы гоблинов, злодеев и кровопийц. Третье — фальшивый волк-оборотень на Великом Западном тракте. Четвертое, до чего, стало быть, мы еще не добрались, — это Компания Семи, славная разбойничья шайка.
— Правду сказать, с мечом у Агдалона вышла известная неловкость…
Беатор хмыкнул. Ему не хотелось влезать в бесконечную говорильню двух записных болтунов, но к их беседе он тем не менее прислушивался. В другом углу захихикал Табарин. И захихикал, надо сказать, очень противно.
— О чем это ты говоришь, Кэбидж?
— О нашем маге, сударь Акайн, о ком же еще?
— Нет, положительно я ослышался. Кажется, речь шла о какой-то неловкости… Друзья мои, не стряслась ли злая беда с моими бедными ушами? Не стал ли я глохнуть? Ужели я старею? Годы мои, как видно, совсем уже не те… Беатор, ты чистая, не замутненная корыстью и всяческими мыслями душа, скажи, боевой друг, ведь кто-то говорил об… «известной неловкости»?
— Сам ты глупец. А говорил Кэбидж.
— О да! И мне так показалось… А ты, славный Табарин…
— Да хоббит, хоббит говорил!
— А вы, молчаливый рыцарь лесов и мудрейший перворожденный, вы что скажете?
Дэлагунд ничего ему не ответил, слишком занят был: второй день, почти не прерываясь, работал над флейтой. Эльфы из Эрегиона даровали ему кусок дерева, к которому он по каким-то тайным перворожденным причинам отнесся с благоговением. Беатор, глянув на эту вещицу, ничего не понял: деревяшка и деревяшка. А Дэлагунд сначала пошептал едва слышно то ли стихи, то ли одному ему ведомые эльфийские моления да и принялся за работу — извлекать волшебный, по его словам, инструмент простым ножом из непростой, по его же словам, деревяшки… Ничего не ответил арнорцу Дэлагунд. Зато живо откликнулся Торн:
— Давно бы пора тебе захлопнуть клюв, сорока трепливая…
— Спасибо, мои боевые друзья. Иного я от вас и не ждал. Итак, двое свидетелей подтвердили: слова «известная неловкость» действительно прозвучали при всем честном народе.
— Да я… — заикнулся было хоббит.
— О, я знаю, славный невысоклик. по доброте сердечной ты пожалел этого балбеса, который в одиночку вызвался укротить сбрендивший меч, а потом бежал от него добрых полторы мили, взывая ко всем магическим и детородным силам Средиземья. Кажется, меч этот проклятый легче было располовинить, чем отыскать в чащобе и успокоить славного бойца Агдалона…
Теперь хихикал Беатор, а гном уже хохотал во всю глотку.
— Но! — сделал паузу Акайн. — Разве есть предел истинному геройству? Эта смертоносная кукарекающая белка… магическое существо высочайшей пробы…
Беатор хохотал, а гном визжал и хрюкал, катаясь по полу. Кэбидж попытался было вступиться за мага:
— Да ты и сам там был… вроде смертоносного ползателя по кустам…
— Я? Я бился геройски! Но иногда даже лучшим бойцам чуть-чуть не везет. Зато на фальшивого оборотня я первым накинул сеть! А этот магических дел мастер, с позволения сказать, что сделал он? Он громовым голосом, словно какой-нибудь маг седой древности, произнес заклинание обез… обес… обесхвощивания? А? Обез… чего, Кэбидж?
— Обездвиживания, сударь Акайн. Но, кажется, самую малость перепутал…
— Точно. Самую малость. Обездвижить никого не удалось. Зато с первого же раза у бедного волчины отпал хвост. Со второго выпало два зуба, наверное, больных… Потом на месте старого доброго волчьего хвоста вырос петушиный. Если бы капитан не велел Агдалону заткнуться — очень вовремя, кстати, — что бы выросло на месте старых добрых волчьих зубов? А? Назгулья пищалка? Знатного, говорят, шороху наводила…
Беатор перешел к визгу и похрюкиванию, гном же только и мог, что натужно сипеть.
— Ох, сударь Акайн, злы вы на язык! И, пожалуй, не дам я вам меду, положенного всему отряду на ужин. Стоит ли услаждать такой язык? Хотя, правду сказать, от этой магии разве приходится ожидать чего-нибудь путного? Одна сплошная ненадежность и пакостность. Так еще мой батюшка говорил, да и батюшка батюшки так тоже говорил, а он был зятем самого хоббитана, и не взял бы его хоббитан в зятья, не будь он почтенным и разумным хоббитом.
— До сих пор мы с нашими железяками управлялись складнее. Кто как думает? Я не смеюсь, мне интересно, кто как думает. Вот ты, Торн, ты не шуми тут на меня, ты скажи…
— Меч вернее.
Гном в сомнении покачал головой:
— Видали мы таких страшилищ, что без магии их, кажется, никак не взять. Агдалон же с нами в первый раз, надо бы переждать его неудачи. Как знать, не пригодится ли он нам потом? Хаддар вот не хотел его брать…
— Не хотел? Правда не хотел? — изумленно воскликнул Беатор.
— Точно. Слышал я один разговор… пересказывать его было бы нехорошо… это чужой секрет, и мне он достался случайно. Одним словом, нашего капитана обязали сходить в один или два похода с Агдалоном. Да только я не о том. Еще мы как следует не рассмотрели его в деле, клянусь бородой, рано судить.
Дэлагунд и тут ничего не сказал.
— Вы все знаете… я… до того как попал сюда… я… был младшим архивариусом в Минас-Аноре… вы знаете… так вот, мне попалась запись одной древней легенды… древней легенды… а записали совсем недавно, при государе Элессаре Телконтаре… всего… лет пятьдесят назад… но я… я… не с того начал… нужно было начать с другого…
— Дружище Беа разговорился, — с приличествующим случаю удивлением в голосе отметил арнорец.
— Да не мешай ты ему! Пусть скажет. Ты только не волнуйся… Отчего ты волнуешься так сильно, Беатор? Клянусь бородой, это не прибавляет ясности твоему рассказу.
— Да, Табарин, да. Просто… я ужасно не люблю всю эту магию. В этом мире каждая былинка возникла по воле Илуватара, и каждое живое существо обязано ему своим существованием. Следовательно, все магическое имеет тот же источник. Посланец Илуватара может зачерпнуть силы его и пролить немного в мир… я… уверен, если очень попросить Его, то Он может снизойти к просьбе самого ничтожного существа. Но чаще всего маг, наловчившийся брать силу там, где брать ее не надо бы, бросает вызов этому миру. Магу хочется нарушить запрет, он спать спокойно не будет, если не станет нарушителем запретов… Зачем ему нужна магия? Чтобы преодолеть законы мира, созданного Илуватаром, изувечить его гармонию, надругаться над повседневным добром, наполняющем его…
— Если память мне не изменяет, кое-кто обещал нам историю. То есть легенду. В смысле, корм для архивных червей.
— Сейчас, Акайн. Сейчас. Я… помню ее почти наизусть. Я прочитал ее восемь или девять раз и помню ее…
— Долго ли ты собираешься томить нас? — с укоризной сказал гном.
— Все. Вот. История об Итрин Луин. В сказании об Истари рассказывается, что Итрин Луин, Синие Волшебники, пошли на Восток с Куруниром, но так и не вернулись. И неведомо было людям Запада, остались ли они на Востоке ради каких-то лишь им ведомых целей, или погибли, или попали в лапы к Саурону и стали его слугами. Известно об этих двух Истарах лишь то, что на Западе они звались Алатар и Палландо. Алатар был в числе первых Майар, внявших призыву Манвэ отправиться в Средиземье. А Палландо был ему другом и пошел по зову дружбы. Одни считают, что оба они служили в Валиноре Оромэ Охотнику. Но другие говорят, что Алатар служил Мандосу, а Палландо — Ниэнне. Истина здесь неведома, ибо многое, связанное с Истарами, по сей день окутано тайной.
Когда Война Кольца завершилась и мощь Королевства продвинулась на Восток, кое-кто вспомнил о двух сгинувших там волшебниках. Но много выяснить не удалось. Ученые мужи пришли лишь к тому печальному выводу, что Итрин Луин потерпели поражение в своем великом деле. А кое-кто заподозрил, что именно от них пошла магия восточных земель, — та, которую, как вскоре выяснилось, Саурон не создавал и которая жила после его падения, ничуть не умалившись в силе. Так идут годы, и никто не ведает правды о Синих Волшебниках. Но есть одно сказание, неверный слух, дошедший от дальних пределов Востока — передаваемое у Истерлингов сказание о Двоих, пришедших с Запада. Говорят, будто те Двое пришли примерно в начале второго тысячелетия Третьей Эпохи. Саурон в то время скрывался в Темном Лесу, и восточные племена забывали о нем, хотя кое-кто еще и поклонялся ему. Мощь же Двоих ужасала. Ибо им были подвластны звери и небесные птицы, и в сердцах людей и даже Диких Эльфов читали они с легкостью, как темные боги. И чем дальше шли они по землям Востока, тем сильнее являли свою мощь. Сперва, как говорят, они пытались прикинуться обычными людьми и выказывали силу, лишь защищая себя. Но когда слух о них разошелся, то племена стали являться к ним, и приносить дары, и просить защиты от темных богов и злых соседей. Двое дары сперва отвергали и откликались на просьбы из одной своей благости. Светлыми Богами — Ах-Тангир — звали их истерлинги, ибо одежды их были цвета небесной лазури, и сила их была силой Света, отгоняющего Тьму.
И со временем они привыкли к почтению и признались, что они подлинно боги, явившиеся в мир, и дары приходились им теперь по душе, ибо подлинно подобали их достоинству. И говорили они так: «Да, если вам так угодно, мы Боги Света.
И мы пришли избавить вас от власти Богов Тьмы. Пока вы — дети, и вам нужны боги. Пусть же боги ваши живут в Свете, а не во Тьме. Чтобы вырасти и самим стать для себя богами, вы должны встать с нами против Тьмы».
Тогда многие племена откликнулись на их призыв и стали изгонять слуг Саурона. А Ах-Тангир примиряли эти племена с эльфами-авари из рассеянных по Востоку колен Морвэ и Нурвэ, хотя немало труда пришлось им к этому приложить, ибо люди и эльфы ненавидели друг друга с давних времен. И, собрав великое войско, пошли они на Восток, к древней родине эльфов и людей. Тот гористый край в то время находился под властью Фанкила, прежнего наместника Моргота на Востоке, соперничавшего в мощи с Сауроном. Многие людские племена поклонялись Фанкилу, и Ах-Тангир отняли у него жертвы и поклонение. Потому сам он начал собирать войско, и у подножия высокой горы на западе своих владений встретил своих врагов. Великий страх овладел войском Ах-Тангир, эльфами и людьми, и они разбежались. Подлинно ужасным было войско Фанкила. Были в нем и люди, и орки, и гномы, и даже отступники-авари, служившие Тьме со времен гибели короля своего Нурвэ. И драконов вызвал Фанкил, живших в опоганенных Тьмой реках и озерах Востока. Но Ах-Тангир не дрогнули и вступили в битву. Нашлись у них и воины для брани. Ибо по их слову слетелись со всех окрестных краев птицы, и сбежались звери, и стали биться насмерть с чудовищным войском Фанкила. А с самим вождем вступили в битву Светлые Боги, и чары их оказались сильнее. Своими жезлами поразили они могучего темного бога, и сковали его мощь, и запечатали его в горе, под сенью которой происходила битва. Тогда все его воинство простерлось ниц перед победителями. Ах-Тангир пощадили гномов и людей, а драконов сковали чарами — так что все эти побежденные стали им верно служить. Лишь отступников-авари перебили без пощады. Что же до орков, то долго совещались новые боги, и наконец старший из них сказал: «Лютый вы народ, и мало надежд на добро от вас. Но нам нужны воины, чтобы биться под небом, ибо Саурон могуч, а на степных людей и диких эльфов надежды мало. Потому сами вы убьете каждого второго из своей среды, а после соединитесь в один народ с людьми, которые бились вместе с вами. И для тех, и для других будет это достаточной карой. Но нам принесите клятву верности».
Малой карой это показалось оркам, а людям приходилось выполнять и худшие веления Фанкила. Но кое-кто из авари тогда решил, что и в сердца Двоих закралась Тьма. Не все, однако, — ибо авари стыдились своей трусости и потому готовы были к преданной службе Двоим, да и сами суровы нравом. В глубинах той горы, где был запечатан Фанкил, сотворили Двое великолепный чертог и назвали его на языке эльфов Запада Сам-Бал, то есть Палаты Власти. Там воссели они на каменных тронах под защитою гномов, и драконов, и эльфов, и нового многочисленного племени, происшедшего из смешения людей и орков. Из этого племени и взяли они себе первых учеников. «Ибо, — говорили они, — должны вы быть сильны, обладать хотя бы частицею нашей силы, чтобы противостоять Тьме, если мы потерпим поражение».
Впрочем, не хотели они более воевать с Тьмой в открытую. Тайные посланцы, несущие тайное знание Двоих Учителей из Мира Света, разбредались по разным краям Востока.
До самого Кханда и Ближнего Харада донесли они это знание, и Саурон забеспокоился. Когда пришел он сам на Восток, изгнанный из Темного Леса (было это в начале третьего тысячелетия Третьей Эпохи), то послал против Сам-Бала могучее войско из вновь порабощенных степняков. Но все они пали в боях, и тела их были скормлены драконам гномами или растерзаны свирепыми воителями из Горного Племени, унаследовавшими орочий нрав. Иных, впрочем, как говорят, увели в подземелья Сам-Бала, пред очи Двоих, и страшна была их судьба. Ибо Свет, исходивший от Двоих, затмился, и Светлые Боги стали более жестоки и менее милосердны, чем прежде. Говорят, что дух Фанкила витал в подземельях и к нему направляли Двое своих учеников. «Ибо, — говорили они. — в борьбе с Тьмой надо познать самое Тьму. Оба рода дел должны испробовать вы, чтобы сделать выбор».
В честь того духа, чтобы задобрить его и получить от него наставления, вершились ужасные деяния. Но и сами Боги сурово мстили за любое неповиновение и требовали от всех подданных и учеников щедрых даров. Саурон больше не посылал войск на Восток, и мощь Двоих возросла. Но тайная война не прекращалась — до самого падения Барад-Дура. Тогда внезапно ослабла сила Двоих, и за несколько месяцев на глазах изумленных рабов превратились они из полных сил величественных старцев в высохшие мумии. В ужасе многие тогда бежали из Сам-Бала, и власть Палат Власти ослабла. Тогда многие ученики, рассеянные по странам Востока и Юга, стали чародействовать и призывать темных духов без оглядки на Учителей и творить немало зла себе и другим. Но говорят, что доселе возвышается в Восточных Горах Чертог Власти, Сам-Бал Ах-Тангир, и туда сходятся для ученичества и посвящения чародеи со всех концов Средиземья. И говорят также, что в самых глубоких глубинах Сам-Бала, в зале Ах-Гилта, где мощнее всего ощущается дух Фанкила, восседают на черных престолах в светлых одеждах два мертвых тела с живою душою, сжимая в костлявых руках потемневшие от времени посохи. Пред их вечно живые очи, глаголющие без слов, являются алчущие высшего посвящения, и познают там тайну Единства Света и Тьмы, и выходят из темного зала, оставив свой человеческий жребий… Так говорят на Востоке.
Теперь молчали все, кто слушал Беатора. Плащ Данно Акайна беззвучно подгорал, Кэбидж помешивал деревянной ложкой с длинной ручкой мясное варево в котле, Табарин шумно чесал в бороде, но никто не посмел вставить хотя бы словечко.
Тогда прозвучал меланхоличный голос эльфа:
— Я не знал этой легенды, сударь Беатор.
— Для меня это лучшая похвала… — начал было гондорец, но его сейчас же прервали:
— А я вот знал.
Оказывается, Агдалон успел войти, поставить ведра и услышать… сколько он слышал? Половину? Треть? Неважно. Узкое смуглое лицо мага излучало гнев. Смотрелся он жалко: хламида из тонкого полотна с разноцветными ленточками и таинственными серебряными бляшками, нашитыми тут и там, промокла насквозь, у ног Агдалона накапала порядочная лужа. Черная бородка усеяна была крупными росинками. Красные руны, начертанные на белом тюрбане, медленно расползались — как видно, нет такой магии, которая была бы способна превратить неводоотталкивающие чернила в водоотталкивающие… Ноздри нервно трепетали над тонкими губами, но впечатление смазывалось огромной каплей воды, повисшей на самом кончике носа. И только глаза, мраморно-серые глаза Агдалона, еще способны были внушить кое-кому ощущение грядущих неприятностей. Но и мажьим глазам не дали как следует развернуться. Домовитый Кэбидж запричитал:
— Ай-яй-яй! Что ж вы плащик-то не надели, сударь маг? Дело ли это — шляться под дождем в таком невразумительном виде! А? Очень исправный плащик, сносу ему нет, спасибо Кирдану Корабелу!
— Я знаю эту легенду!
— А не хотите ли табачку, сударь маг? Живее согреетесь…
Агдалоновы глаза несколько притухли, но гнев его все еще жаждал пищи:
— …И я знаю, как гондорские школяры и профаны исказили ее! Потому что был в тех местах и поклонился Двум. И в тело мое вошел неземной восторг, и ладони мои сверкали молниями, и чистый свет исходил от моих глаз. Это была радость, святая и древняя, благороднейшее золото древности. Кто, как не сам творец Арды, мог оставить неисчерпаемый кладезь силы в дикой глуши? Кому, как не ему, подвластно умение доставлять любому существу моментальное счастье? Истина в том, что Двое были подлинными посланцами его, не понятыми и не принятыми землею, погрязшей в невежестве. Я знаю, я испытал!
И хотел было Беатор возразить магу: мол, и Тень, царствовавшая в Мордоре, способна была на многое. Да и прислужники ее не лыком шиты. А до нее была еще тень пострашнее и помогущественнее… Да только заколебался гондорец. Нет, он не боялся мага. Но нужно ли затевать ссоры и споры внутри отряда? Хаддар за это по головке не погладит. И пока Беатор колебался, дело решилось само собой.
В дверь постучали. Табарин:
— Кто б ты ни был, можешь войти.
Староста деревни, жившей в Острове и поддерживающей его в должном состоянии, когда там не стоял на постое ни один зеленый отряд, привел человека с бледным, измученным лицом, в плаще, отяжелевшем от воды, и сапогах, искупавшихся в жидкой грязи по самые отвороты. На поясе у него красовалась маленькая медная пряжка в форме восьмилучевой звезды. Такие же, только серебряные, носили все Хаддаровы люди, да и вообще все бойцы зеленых отрядов. А золотая была у одного человека — Первого Звена.
— Откуда ты, гонец? — осведомился Табарин, поправляя одежду и пытаясь придать лицу серьезный вид.
— Из Форноста. Мне нужен капитан двадцать второго зеленого отряда. Немедленно.
— Так уже и двадцать второго? Месяц назад мы были двадцать пятым… — удивился Табарин. Впрочем, гном не мешкая сходил в соседнюю комнату, где отсыпался Хаддар. Тот вскоре вышел, весь в повязках, представился, сонно щуря глаза, и пригласил гонца к себе. Их беседа длилась недолго. Как видно, вестник привез только устный приказ, короткий и ясный…
Гонец не пожелал остаться, просушить одежду над очагом, поесть и отдохнуть. Он лишь сообщил Хаддару волю Первого Звена, выпил вина и вновь вышел на дождь. Вскоре снаружи послышалось шлепанье копыт по глубоким лужам.
— Ишь ты, торопится…
— Точно, Кэбидж. Как видно, не мы у него последние, — ответил Акайн. Руки его тем временем уже поправляли одежду, руки знали: не одному гонцу придется сегодня вдоволь нарадоваться дождю.
Хаддар:
— Собирайтесь, срочно возвращаемся в Форност.
— А как же Компания Семи?..
— Либо потом, либо не нам достанется, Беатор. Собирайся.
* * *
Двенадцать рослых светловолосых всадников обгоняли повозки зеленого отряда. Все в длинных плащах неприметных оттенков: серые, буроватые, цвета опавшей и подгнившей листвы. Все на тонконогих лошадях, каждая из которых была по роду своему знатнее гондорских владык. Все в кольчугах, посверкивавших живым серебром. Если не мифрил, то нечто необыкновенно похожее на него. Все дивно красивы, как могут быть красивы только перворожденные, и никогда — люди. Как бывают красивы перстни или броши, сделанные на пару искусным ювелиром и не менее искусным магом.
— Добрые коньки, — негромко произнес Кэбидж, обращаясь к Данно. — Да и сбруя у них справная. У нас, конечно, получше бы сделали, так то у нас… А больше нигде, пожалуй, сбруи лучше этой не сыщешь.
— Что ты шепчешь?
Хоббит не ответил. В другое время Данно пошутил бы, наверное, приободрил бы друга-товарища, только сейчас ныла у него грудь, болели сокрушенные ребра, а от чужаков несло неясной угрозой… или, может быть, силой, от которой хотелось приглушить голос, а лучше того — лишний раз не открывать рта…
Моросило. Мелкое дождевое сеево никого и ничто не оставило сухим. Лошадиные копыта сочно разбрызгивали грязь безымянной боковины Западного тракта. Перворожденные обогнали первую и вторую повозки молча, не произнеся ни слова, не поворачивая даже голов. В присутствии неутомимых эльфов Хаддаровы бойцы сильнее почувствовали собственную усталость. Чистые точеные лица, ровный шаг, прямые спины… Лишь дунадан, широкоплечий и тяжелый, на своем чудовищном жеребце и с Молчаливым Другом на боку, казалось, был им под стать, — такой же величественный воин древности, неприступный и надежный, словно башня из крепчайшего камня.
Но вот предводитель дюжины поравнялся с повозкой Хаддара. Миг — и зазвучала звонкая эльфийская команда. Перворожденные придержали коней. Тот, первый из них, спешился, по щиколотку в грязи шагнул к повозке. Капитан спрыгнул и пошел ему навстречу. Высокий, светловолосый витязь и кряжистый человек обнялись. Человеческая кровь с промокшей повязки на предплечье капитана испачкала эльфийский плащ.
— Здравствуй, Хаддар.
Когда говорит перворожденный, кажется, будто каждый куст в лесу, каждая травинка в поле, каждая птица в небе и каждый зверь в норе вторят ему. Перворожденный печально улыбается. Капитан ответил эльфу севшим голосом:
— Здравствуй, Элладан. Я очень устал, друг.
* * *
Зеленый отряд Хаддара можно разделить на группы разными способами. Так, например, были в отряде любители поговорить и любители помолчать. К числу первых относились друзья-неразлейвода Кэбидж и Данно Акайн. К числу вторых — сам капитан, Агдалон, дунадан Торн и Дэлагунд. Посередке оказывались гном и Беатор.
Можно было поделить всех на хороших бойцов и на бойцов так себе. И тут первыми бы числились как раз молчуны (кроме Агдалона), да еще, пожалуй, неутомимый Табарин. А вот из болтунов… что вышло, то вышло. Из болтунов вообще редко получаются приличные бойцы. Зато Агдалон, хоть и был молчуном, пока особой ретивости и прыти не проявил. Что в остатке? Да все тот же Беатор, знатный драчун на дубинках и на ножах, да еще умелец делать всяческие боевые механизмы, но никудышный лучник и еще того хуже — мечник. Он было высказался как-то с досады, мол, талант и для меча, и для дубинки нужен. На это Хаддар ему возразил: «Талант нужен для всего. Но биться на мечах — искусство, а драться дубьем — забава». Для поднятия духа капитан в тот же день показал Беатору три особенных финта в дубинном бою, и синяки болели потом с полмесяца…
Еще в отряде были ветераны и новички. Матерыми считались сам Хаддар, Табарин, Дэлагунд, Торн и Кэбидж. Из новых людей числились арнорец да все тот же маг. Кто остался в серединке? Опять Беатор.
Если же делить отряд на персон, смыслящих в словесной премудрости и древних знаниях, то первыми оказывались Дэлагунд, Агдалон и Торн. О Хаддаре никто никогда не мог сказать, что ему известно, а о чем капитан не имеет понятия. Такой уж это был человек — закрытый ото всех, и от своих людей в том числе. Гном и хоббит наукам не навычны, больше им нравился эль; арнорец же всяческие премудрости древних времен презирал, не умел читать и тем гордился. Точнехонько между первыми и вторыми попадал… Беатор. Все-таки бывший архивариус и большой книжного слова любитель. Жаль, читал он когда-то бессистемно и беспорядочно и теперь мог иногда вытащить из памяти своей какую-нибудь диковинную подробность, но привязать ее ни к чему не мог. Вот, например, был когда-то могущественный царь Тар-Анкалимон, сын Атанамира. А уж чего ради оный царь запомнился и что он, царь этот, делал, Беатор, сколько ни бился, припомнить не умел.
Красавцев в отряде хватало… Первым изо всех, конечно, был Дэлагунд. Человек никогда не превзойдет в красоте рассвет, или, скажем, ручей, или ветер в листве старого клена; перворожденный тоже не превзойдет, но эльф хотя бы способен сравняться с ручьем, и кленом, и с рассветом, а человек — нет. Хотя некоторые и способны уподобляться дубу, свинье, крысе… Хаддар и Торн — оба хороши тяжкой и смертоносной красой мастерски откованного клинка. Тощий черноволосый Данно Акайн — воплощенное шальное веселье, вечная ярмарка, а она крепко жжет женские сердца. Агдалон столь похож на мудрецов древности, как рисуют их нынешние живописцы Средиземья, что поневоле хочется поклониться ему. Хотя бы и чувствовалось, что красота мудрости разбавлена в нем сладкой водицей текущего века. Табарин и Кэбидж, кажется, даже среди своих красавчиками не слывут. Впрочем, говорят, хоббиты такого понятия между собой до сих пор не завели, а гнома-красавчика свет не видывал со времен царя Балина. И тут Беатор попадал в серединку! Он был не хорош собой, но и не дурен. Высокий, широкий в плечах, с крепкими руками, телом он напоминал деревенского здоровяка. Тонкие губы, высокий лоб и особенный разрез глаз придавали его лицу налет задумчивой мечтательности. Да только скулы для столь умственной физиономии выходили широковаты. Беатора на улицах Минас-Тирита принимали за сущую деревенщину…
Если бы пришло кому-нибудь в голову посчитать, кто в отряде считается старшим, а кто младшим, кто повыше, а кто пониже, повторилась бы та же история. Младшими считались прежде всего новички: арнорец и маг. Главным был, разумеется, сам капитан Хаддар, и во всех делах при отсутствии Хаддара замещал его Табарин. За Кэбиджем оставалась незыблемая власть над продуктами и иными припасами. А за Торном — право первого совета Хаддару. Когда-то, по слухам, сам Кирдан Корабел, Первое Звено Братства, долго колебался, выбирая, кого из двоих поставить командиром нового зеленого отряда: Торна или Хаддара. Один был опытным следопытом и непобедимым бойцом на мечах, а другой славился холодной отвагой и хитроумием… В конце концов Кирдан обратился к ним с вопросом, не желает ли кто-нибудь уступить. Дунадану старинное благородство помешало требовать старшинства. Он сказал, что подчинится Хаддару, если того назначат капитаном. Хаддар ответил: «Благодарю тебя, Торн», — и сейчас же выгнал из отряда двоих лишних, по его мнению, хоббитов (оставил лишь Кэбиджа), попросил найти ему мастера машин (отыскали, хоть и не сразу, Беатора), потребовал, чтобы кое-кто сменил оружие на более исправное… словом, и мига не прошло, как он обрел над отрядом власть, словно командовал им уже не один год. Словно мать родила его двадцать пять лет назад на далеком Харадском пограничье только для того, чтобы он сделался капитаном зеленого отряда…
Торн как-то сказал Беатору: «Все случилось в точности так, как и должно было случиться. Быть человеком власти — редкий талант, и нет его ни у кого в отряде, помимо Хаддара. Можно учиться власти, можно искать совершенства в обладании ею, но природный талант все равно всегда будет выше и сильнее. Возможно, такие вещи разумным существам дарит сам Илуватар». Торн и Хаддар никогда не спорили между собой и отлично понимали друг друга. Дунадан не был ни заместителем капитана, ни его помощником. Но если в трудных обстоятельствах он подавал Хаддару совет, чаще всего выходило по слову его… Кто в остатке? Эльф Дэлагунд, никогда не интересовавшийся даже крупицею власти и влияния на человеческие дела, да круглый середняк Беатор.
Именно поэтому Беатор несказанно удивился, когда капитан Хаддар, добравшись до Форноста и отведя отряд на ночлег, поискал глазами нужного человека и назвал его имя:
— Беатор! Завтра утром я иду к Первому Звену. Ты со мной. Приведи одежду в порядок.
Не Торн, не Кэбидж, не Табарин, прежде не раз ходившие с капитаном на разные важные встречи, а именно он, простой человек и круглый середняк. Почему?
* * *
Они шли по улицам Форпоста от Зеленого дома у восточных ворот, где жили бойцы десятка отрядов, возвращавшихся из походов в Форпост, к Дому Братства в самом центре. Там их ожидал Кирдан Корабел.
Беатор был без памяти влюблен в этот город. Гуляя по его улицам, он испытывал желание гладить камень мостовых и домов, гладить нежно и успокоительно, как гладят родного человека, когда ему отчего-то нехорошо. Форност, отстроенный еще при Арагорне, прежнем государе Соединенного королевства, иногда называли Белой Звездой Севера. Город был чудо как хорош. Выстроили его из белого камня с тонкими прожилками эльфийского-неведомо-чего, отсвечивавшего золотом. А мостовые выложили черными квадратными плитами с такими же прожилками, но только искрившимися не золотом, а серебром. На одну лишь цитадель гондорского наместника пошел грубый бурый камень с Северного нагорья. Впрочем, на то она и цитадель, чтобы выглядеть неласково… Рядом с главными ее воротами — в назидание потомкам — оставлены были в целости и сохранности руины старого Форноста, познавшего славу в дни цветения Арнорского княжества, а впоследствии покинутого и заросшего лесом.
Туда-то и свернул Хаддар с прямой дороги к Дому Братства. Капитан уселся на мшистый валун, выпавший когда-то из нижней части крепостной башни, и жестом пригласил гондорца устроиться рядом.
— Послушай меня, Беатор. Ты знаешь, как родилось Ожерелье островов?
— Приблизительно.
— Значит, ты ничего не знаешь. А мне давным-давно рассказал Элладан. Когда я ему спас жизнь. Дважды. И он мне — один раз… Так вот, это его затея.
— Элладана? Теперь он всего-навсего капитан одного из отрядов…
— Не перебивай. Это теперь… А в целом его судьба совершенна: нам бы всем такую судьбу. Элладан — сын Элронда, государя эльфов Раздола, и сам прямой наследник престола. Он дрался на Пеленнорском поле, когда прежняя Тень грозила Средиземью. А потом перворожденные, почти все, кто еще оставался на этой земле, отправились в гавани крайнего запада и пустились в плавание к заветной счастливой стране, Блаженному Краю. Здесь им вроде бы больше нечего было делать. Ладно, уплыли они. Тут их осталось всего ничего… Но у острова Тол Эрессэа Элладан и брат его Элрохир почувствовали беспокойство. Это мы с тобой, Беатор, побеспокоимся-побеспокоимся, но если явной причины никакой не видно, то и забываем обо всем. Эльфы устроены иначе. Когда кто-то из них чувствует неладное, значит, в мире появилась трещина. Элладановы корабли спустили паруса, и они с братом принялись держать совет. Говорит, совещались три дня. Вышло так, как мы бы с тобой ни за что не додумались, мы по-другому думаем. Они решили, будто здесь, в Средиземье, осталась еще малая часть эльфийской судьбы. Может быть, на один глоток. Но если так, части народа перворожденных следует вернуться и выпить этот глоток. Оба они считали, что наша земля нечиста. Есть одно слово в эльфийском… у него два значения: «искаженный» и «оскверненный». А в общем, скорее всего — «нечистый». Здесь бушевали войны и осталось полным-полно смертоносной магии, опасных вещей, хищных тварей… Это он мне так говорил. Они решили: кому-то надо вернуться и очистить Средиземье, чтобы потом даровать его людям как идеально ограненный драгоценный камень. Вот он, последний глоток эльфийской судьбы…
— И как, вернулись?
— Вернулся Элладан и его корабль. А Элрохира он отпустил, обещав, что встретится с ним, если не погибнет, если выполнит свою задачу и если доплывет до сокровенной счастливой страны запредельного запада… Здесь он повстречал Кирдана Корабела в Серебристой гавани. А тот призвал еще самого Элессара, старого хоббитана Перегрина Тукка из хоббитского Шира, кое-кого из гномьих князей. Элладан отказался от своих прав на Раздол, да и от всякой власти вообще, разве только исключая власть над маленьким отрядом. Кирдан стал Первым Звеном. Арагорн отвел на своих землях места Для островов Ожерелья и велел наместникам и вождям всех народов, населяющих его державу, оказывать помощь нашему Братству. Хотя командир у нас один — Первое Звено, а над ним никого нет, и даже король над Братством не властен. Кирдан поселился тут, в Форносте, и к нему потекли сначала одни только эльфы.
Пойми ты, важная вещь: в первое время Братство было делом эльфов, и только эльфов. Потом туда стали допускать хоббитов и людей, а в последнюю очередь — гномов. Их объединяли в зеленые отряды. И сейчас-то эльфийских, в смысле чисто эльфийских, двадцать шесть отрядов, человеческих — одиннадцать, гномьих — три, гномьих пополам с хоббитами — два, а смешанный только один. Наш. Ну или вроде того, последних новостей я не знаю. Всего без малого пять сотен бойцов, из них эльфов целых три сотни. Да такую силищу их государи не всякий раз собирали. И вот я думаю, Беатор, давно и крепко думаю: а не слишком ли они привыкли к Средиземью? В последнее время нам все больше мелочь попадается, разбойничье семя, ведьмы да шайки орков. Наверное, мы бы и сами — люди, я имею в виду — управились бы. И эльфы должны это понимать. Понимают, но не уходят. Почему? Может быть, не нужна им там, за морем, бесконечная жизнь? Может, нужно им здесь красиво умереть? Подумай, триста перворожденных чувствуют себя единым ювелирных дел мастером, собравшимся вырастить кристалл невиданной чистоты… За это стоило бы умереть. Или я все-таки ошибаюсь? Или им еще рано?
— Зачем ты взял меня с собой, капитан? Ты знаешь их давно, их порядки, обычаи, их мысли…
— Да! В том-то и дело. Я знаю эльфов слишком давно. Я ловлю себя на том, что иногда начинаю думать как эльф. Ты — другое дело. Сегодня слушай Кирдана, смотри на Кирдана. Он — соль Братства. Сам же он эльф, в нем бродит настроение перворожденных, и Кирдан склонен выговорить вслух то, чего другой эльф не произнесет. Он… вроде меня, выходит. Я поэльфел, а он малость очеловечился. Слушай. Твои уши… посвежее моих. Слушай. Потом скажешь мне, до каких мыслей дослушался.
…Кирдан встретил их в зале Утренних Ирисов. Хаддар и Первое Звено учтиво приветствовали друг друга, а Беатор молча поклонился. Затем все трое уселись в резные дубовые кресла.
— Благородный капитан Хаддар! Ты давно в Братстве, и я позволю себе опустить все приличествующие случаю предисловия. Отряд перворожденного Араглина погиб в Ангмаре, отыскав один очень опасный предмет. На поиски его отправлен был отряд Дайна Клевца, лучший из гномьих. От Дайна нет вестей, и я полагаю, что он тоже погиб. Наши неудачи на севере — знак чего-то более значительного и опасного, быть может… Ангмар и Харад — вот главная боль нашего Братства. В Форносте и тяготеющих к нему областях — двадцать отрядов, да еще набирается несколько новых. В Минас-Тирите — еще шестнадцать. Восток давно замирен и тих, в Лесной Крепости Галадон всего пять отрядов. О Хараде ты знаешь более меня, и речь между нами пойдет об Ангмаре. Несколько месяцев назад ко мне стали приходить печальные известия: там собирается нечисть всякого рода и поднимается тьма. Поговаривают, будто там объявился старинный злодей и предатель Логран. Нашего передового отряда в Эттенблатских горах уже не хватает, он слишком слаб, и я намерен в самом скором времени отозвать его оттуда; мне предстоит общий совет с наместником гондорским в Форносте, ближайшими князьями арнорскими и хоббитаном о судьбе Ангмара. Стоит ли туда отправить большую общую рать Севера, дабы в очередной раз очистить эту землю от скверны, или же мудрее укрепить границу и приготовиться к набегам — ведь удержать и населить Ангмар мы не в состоянии…
— Позволь мне задать вопрос, сиятельный Кирдан! Почему все же не заселить его?
— Нет сил защищать.
— Те, кто отправится туда жить, сами защитят его.
Беатор взглянул на эту пару и восхитился: сколь сильно они отличаются друг от друга! Оба в простых одеждах, но у Первого Звена плащ заколот золотой фибулой, а на правой руке — точная копия кольца Нарья с рубином. Само кольцо прежде обладало великой магической силой, теперь же сила иссякла, но осталась необыкновенная тонкость древней эльфийской работы, точно переданная в копии. Гэндальф подарил ее Кирдану в Серебристой гавани. Значительнее этого предмета мало что есть в пределах Арнора.
Хаддар не носит никаких украшений. Никогда. Кирдан Корабел сохранил породистую стать и величавую красу древней крови; он ходит, говорит и даже думает, наверное, как госуДарь тысячелетней давности. Высокий, тонкий в кости, светловолосый — но без единой сединки. Длинные изящные пальцы эльфа. И Хаддар: среднего роста, коренастый, широкоплечий, тело его, налитое силой, способно к грации ратоборца и ни к какой иной. Кареглазый, русоволосый, смугловатая обветренная кожа лица. Капитан родился в Харондоре, как раз на Харадском пограничье, и в его медлительную, упрямую гондорскую кровь невесть как затекла капелька стремительной и жестокой варварской крови харадцев. Говорит и думает, будто бьет, скупо отсчитывая силу, необходимую для правильного нанесения удара.
— Такая мысль не приходила мне в голову. Я обещаю подумать об этом. Но сейчас я хотел бы вернуться к делам более насущным. Араглину дано было задание разведать, почему стая черного воронья вновь ищет себе гнездовище именно в Ангмаре. От него прилетел почтовый голубь с посланием, там говорилось, что в развалинах Карн-Дума отыскался некий Проклятый венец; что вокруг него и роится тьма; что сам Араглин попытается выбраться, но надежды мало. Это все. Я взялся за поиски объяснения: откуда взялся этот Проклятый венец, чем он так притягателен. В «Тайной хронике Артедаина, Рудаура и Нового Форноста» отыскалось несколько важных мест… Их выписали по моей просьбе специально для тебя, благородный Хаддар.
Он протянул свиток. Хаддар пробежал написанное глазами и передал Беатору. Гондорец углубился в чтение.
«…Говорят, будто именно в Ангмаре вывел Моргот древнюю расу великанов — вернейших и могущественнейших своих слуг. Самыми первыми из них были облеченные его волей в исполинскую плоть духи, сошедшие с ним из заоблачных высей. Старейший же и высочайший из всего великанского рода был Гилим Длинная Шея. «Зима» означает имя его на древнем языке, и властвовал он над холодом и снегом. После бегства Моргота от Валаров Гилим убрался из-за моря, из Эрумана, где долго жил, и воздвиг себе ледяной чертог на севере Мглистых Гор. Так говорят, и думается, что был этот чертог на востоке Ангмара, где по сей день немало живет великанского отродья. Саурону великаны уже не служили, но все равно Гилимово племя — немалое зло. К тому же им сродни и тролли, а эти-то были первейшими слугами и Второго Врага.
Куда сгинул Гилим, и сгинул ли вообще — неведомо. Во Вторую Эпоху о нем уже не слыхали. Зато появились орки, разбежавшиеся после осады Ангбанда, и с тех-то пор Гундабад стал столицей всех гоблинов Мглистых Гор. Но, вопреки лиху, поселились в тех краях и люди, истерлинги из колена Бора, что находятся в родстве с лоссохами залива Форохел. Они-то и заложили основания Карн-Дума. А потом пришли нуменорцы. В пору своего величия нуменорцы селились далеко в глубине Средиземья. В Карн-Думе царствовал нуменорский наместник, родич короля. И соплеменники, и покоренные туземцы боготворили властительного принца, звавшегося Амрунахором — Владыкой Востока. Но за долгие годы жизни возросла и его гордыня, и он стал алкать больших богатств и большей власти и отказался повиноваться Нуменору. В довершение же всего увлекся он моргулом — черным знанием Моргота, и напитал заклинаниями все переходы и залы Карн-Дума. Немногие нуменорцы, оставшиеся Верными, покинули его — или погибли. Все же прочие только склонялись перед его силой, и сами творили не меньшее лихо. А потом, прожив изрядно даже по нуменорскому счету, ушел он на юг, и долгое время не видел его тот край. Уже после узнали, как глубоко и по какой причине пал Амрунахор. Ибо он принял дар Саурона — Кольцо, н оно растлило и развоплотило его, так что обернулся он призраком-назгулом, но не простым, а первым и сильнейшим среди них. Лишь как Короля-Чародея помнит его теперь история, и ужас навевает это имя на то племя, что дало жизнь отступнику.
Король вернулся в Карн-Дум спустя не одну тысячу лет — примерно в 1300 году Третьей Эпохи это было. К тому времени немало бурь пронеслось над Средиземьем, но Ангмар оставался все таким же — глухим заснеженным краем под сенью холодных гор, кишащим орками и лиходеями. Все здешние обитатели склонились перед вернувшимся владыкой и снова воздвигли по его велению залы Карн-Дума. Хорошо известно, что было дальше — многолетняя война Арнора с Ангмаром. Силы Северного Королевства были разобщены. Претендовавший на корону правитель Рудаура заключил союз с Ангмаром. В 1356 году погиб правитель Артедаина Аргелеб, а в 1409-м — сын его Арвелег. Рудаур отошел к Ангмару, и был истреблен княжеский дом Кардолана. Но тогда эльфы из Лориэна, Раздола и Линдона отразили натиск Чародея. Война, однако, не затихала, и в 1974 году Король-Чародей нанес Арнору последний, смертельный удар. Тогда погибло Северное Королевство, а Назгул обосновался в Форносте и объявил себя королем дунаданов — давно был ему вожделен этот титул.
Однако недолго наслаждался он им. Арнора было уже не вернуть, но гондорское войско, прибыв по морю, объединилось с остатками арнорцев и эльфами Кирдана и выбило врага из нуменорских земель. На подходах к Карн-Думу узурпатора перехватила гондорская конница и отряд Глорфиндела из Раздола. Тут пришел конец королевству Ангмар, и сам Король-Чародей показал спину Глорфинделу. На юг, в Мордор бежал он, чтобы уже никогда не вернуться в свое королевство. Многие ангмарцы тогда ушли на восточные рубежи королевства, в верховья Андуина. Но в 1977 году на них обрушился Фрумгар, вождь Эотеода, искавший для своего рода новых мест, — и остатки злосчастного племени разбежались по северным горам. Но не выкорчеваны остались корни ангмарского лиха. В руинах легло Северное Королевство, а эльфам не хватало сил, да и желания, разорить весь лихой край. Орки продолжали плодиться под Гундабадом, и скоро уже весь горный край до самого Исенгарда познал их злобу. Тролли и великаны бродили по холодным пустошам. Шайки уцелевших ангмарцев ютились в жалких хижинах под склонами гор и лелеяли злобу на всех Верных, отвергая всякую мысль об обращении к Свету. Да и некому было обратить их — до прихода Короля. Когда же Король вернулся, Ангмар был покорен, и нечисть скрылась в горах. Люди же начали перенимать лучшие обычаи, л даже в Карн-Думе одно время сидел королевский наместник. Но Карн-Дум остался лихим местом, и по-прежнему край этот — средоточие всякого лиха. Слишком уж буйно взошли семена, посеянные Королем-Чародеем во владениях Гилима».
Пока гондорец читал, капитан и Первое Звено продолжали беседу.
— О венце здесь ничего нет, сиятельный Кирдан.
— Кое-что я не решился доверить писцам и перескажу на словах. Проклятый венец откован был по приказу Короля-Чародея, разорившего старый Форност. Он наполнил венец темной магией. Всякий, кто наденет его на голову, будет видеть глазами и слышать ушами любого человека, имя которого назовет. Это будет очень сведущее существо.
— Как выглядит?
— Серебряная диадема с пятью зубцами спереди — в форме пяти крепостных башен. Еще к нему прикреплена серебряная же черненая маска, закрывающая половину лица.
— Увезти или уничтожить на месте?
— Послушай меня, благороднейший Хаддар. Никакая сила не позволит тебе уничтожить это на месте. Кроме того, венец не зря называют Проклятым. На нем лежит простое и злое проклятие: он притягивает со всех сторон врагов своего хозяина и наполняет их, а заодно и прочих окружающих страстным желанием завладеть такой сильной вещью.
— Иными словами, взять венец нетрудно, а вот удержать его сколько-нибудь долго почти невозможно.
— Именно так. Вам следует захватить его и бежать, бежать, бежать. Одновременно придется приглядывать друг за другом: всегда отыщется нестойкая душа, способная соблазниться голой силой.
— Это я понимаю. Дайн?
— За ним я отправлю другой отряд. Братство постарается спасти его, но не вам надлежит думать об этом. Для вас главное — вернуться в Форност.
— У кого сейчас венец?
Кирдан сделал паузу, но потом честно признался:
— Я не знаю.
По выражению его лица гондорец понял: человеку власти трудно признаться в неведении.
— Сиятельный Кирдан! Я, разумеется, отправлюсь в Ангмар и постараюсь сделать дело. Но я был бы рад, если бы кто-нибудь рассеял мое недоумение. За последнее время… года два или три… не было ничего значительнее этого самого Проклятого венца. Отчего ж на поиски его отправляется отряд, который никогда не считали лучшим?
— Изволь же, благородный Хаддар, я отвечу тебе. Лучший гномий отряд пропал. Лучший эльфийский отряд погиб. Второй лучший эльфийский отряд сейчас сидит в Эттенблатских горах и ожидает смены. Его сменит лучший отряд из воинов-людей. Третий лучший эльфийский отряд будет искать Дайна…
— Я не слышу ответа.
Кирдан помолчал, то ли примиряя себя с дерзостью капитана, то ли печалясь о чем-то.
— Да. Истинный ответ звучит иначе. Древние символы и знаки еще живы; одни вы во всем Ожерелье можете быть уподоблены иному братству, некогда спасшем Средиземье от великой беды. Я полагаю, вы отмечены для напоминания о том, что существует нечто неизменное в мире Предвечного Властителя.
— Древние символы и знаки мертвы. Земля преобразилась. То время ушло. Я уверен, сиятельный Кирдан, древние символы и знаки утратили силу и смысл. Они мертвы.
— Нет.
— Хорошо. Мой долг — повиноваться, и я не испытываю желания отступиться от дела. Когда нам следует покинуть Форност?
— Не позднее завтрашнего полудня.
— Значит, сегодня вечером от меня придет список всего того, что мне необходимо.
Выйдя из чертогов Кирдана Корабела, Хадцар спросил:
— Ну, удалось ли тебе расслышать что-нибудь?
— Мне кажется, он очень холоден. Но все-таки ведет себя, как друг людей, тут ничего не скажешь.
— Еще хоть что-нибудь?
— Кирдан… искренне уверен в необходимости того, что делает. Да. Ему надо довершить дело, а тяги к смерти я никакой не вижу.
— Ты прав, — задумчиво ответил Хадцар. — Я тоже ее не увидел. И все же…
* * *
Большой Пограничный перекресток встретил их неласково. Дул пронизывающий ветер, голые по осенней поре деревья недружелюбно раскинули ветви, вот уже день, как отряд не встречал по дороге никаких следов человеческого жилья. Вся эта глухая арнорская окраина выполнена была в двух цветах: грязно-белым по серо-бурому. Бурая влажная земля, светло-серые стволы деревьев, тускло-серое небо, темно-серая приграничная речушка без названия; белые червяки снега, недавно выпавшего и еще не полностью растаявшего на таком холоде, слепое беловатое пятно солнца. У моста в землю была врыта гранитная глыба с простой надписью: «На этом берегу заканчивается земля северного княжества Арнор. Наместник Суламир». Мощный кедр простер над рубежным камнем темную лапу.
Отряд миновал обветшавший мост через речушку.
— Хотелось бы видеть здесь хотя бы подобие дозора или стражи… — проворчал Табарин.
— Эту реку в дюжине мест курица перейдет, не замочив перьев, — откликнулся Данно Акайн.
— Ты знаешь эти места?
— Я родился тут, неподалеку.
Сразу за рекой дорога разделялась на три. Основной тракт с глубокими колеями, правда сильно попорченный паводками и размытый дождями, уходил на северо-восток, прямо к старинной твердыне Ангмара, Карн-Думу. Старая крепость была разрушена еще в давние времена, когда гондорские и эльфийские дружины очищали северный край от полчищ Короля-Чародея. Но сейчас там, по слухам, одно за другим появлялись новые селения, а в пределах древнего Карн-Дума, на высокой скале, невесть кто выстроил сторожевую башню. Налево уходила от основного тракта совсем захолодевшая, едва различимая дорога, скорее даже тропа. Когда-то, как написано в дорожных трактатах, она огибала Северное нагорье и устремлялась к морю. А теперь, наверное, пропадала в болотах и чащобах на полдороге. Направо вела хорошо наезженная колея, и ее в Братстве знали как нельзя лучше, поскольку заканчивалась она точнехонько перед воротами маленькой крепости Амонбарад в Эттенблатских горах. Это был самый северный остров Ожерелья, и отправляли туда лучших из лучших. Сейчас там должен был стоять гарнизоном отряд эльфа Тураниэля из двадцати бойцов.
У самого моста, слева, из земли торчал четырехгранный столб черного камня. На нем красовалась надпись на всеобщем языке: «Дети королевства Ангмар ждут возрождения. Это наша земля». В специально вытесанный паз вставлен был лисий череп, выкрашенный в черный цвет.
Хаддар приказал:
— Повозкам остановиться. Агдалон, это твоя работа. — Капитан указал на столб. — Акайн и Торн, подойдите ко мне.
Маг подошел поближе к ангмарской меже, направил на нее посох и прошептал заветные слова. Бледная звездочка сорвалась с кончика посоха и заплясала вокруг столба сумасшедшим светляком.
Тем временем Хаддар совещался с дунаданом и арнорцем.
— Левое… ответвление… Акайн, как долго оно еще продолжает быть дорогой, а не просто частью пустоши?
— Миль на двадцать-тридцать, капитан.
— Торн?
— Двадцать шесть гондорских миль по равнине и еще семь по горам. Дальше не осталось даже козьей тропы.
— Дальше эти дороги как-нибудь соединяются?
— Да есть тут одна просека…
— Торн?
— С Эттенблатского тракта можно свернуть где угодно, а с основного… с основного — точно, в одном месте.
— И там не больно-то пройдешь, капитан.
— Хорошо. Агдалон, что?
— У всякой магии есть свои цвета, оттенки, масти, школы…
— Да? — по голосу Хаддара чувствовалось, как хотел бы он утопить разом все масти и оттенки в каком-нибудь гнилом море Рун. На худой конец, в реке Андуин.
— Здесь нет цветов, благоприятных для нас. Ничего благожелательного…
— Вот новость-то, — пробормотал арнорец.
— Но и значительной силы, столкнувшись с которой нам неизбежно пришлось бы отступить, я не чувствую, — продолжил маг, не удостоив его ответом. — Здешняя магия темна и слаба. Правда, боюсь, теперь некто знает о нас.
— Некто?
— Маг, или магическое существо, или группа магических существ…
— Или группа магов… — добавил арнорец. — Или группа магов и магических существ.
— Иными словами, ты не знаешь?
— Нет магических приемов, способных дать прямой и ясный ответ на этот вопрос, капитан. Главное же состоит в том, что я не вижу угрозы подавляющего свойства.
— Что ж, отлично. Акайн, Торн, Табарин, Беатор, — столб срыть и отправить в реку.
…Фонтан брызг.
— Повозкам: как договаривались, по основному тракту!
Они тронулись с места, и сейчас же снежные мухи вновь закружились в воздухе.
* * *
На ночлег встали в лесистой низине, так, чтобы холмы прикрывали от ветра. Беатор мысленно возблагодарил Предвечного Властителя за доброе здравомыслие капитана Хаддара. Почти все отряды Братства были конными, в то время как Хаддаровы люди передвигались на трех крытых повозках и тащили за собой маленький табун запасных лошадей. При этом двое-трое бойцов, сменяя друг друга, ездили верхом. Они составляли маленькую разведку отряда. В такую погоду ночевать у костра в поле, до утра подтягивая одеяло и одежду то так, то эдак, чтобы змейка холода не ужалила лишний раз, — развлечение для сумасшедших. А в повозке, рядышком с жаровней, за стенами из плотной ткани, все-таки жить можно…
Лошадей привязали к деревьям, покормили и напоили. Развели костер. Кэбидж, поколдовав положенное время, выдал королевский ужин: по миске горячей просяной каши с кусками солонины.
Хаддар велел до утра дежурить посменно. Первым сторожить прочих выпало Беатору и дунадану. Агдалон громко, стараясь привлечь к себе всеобщее внимание, предложил:
— Доверьтесь моей силе. Полагаю, не столь уж трудно поставить вокруг нас и лошадей наших такого рода охранные заклинания, чтобы ни одна тварь не посмела сунуться. Есть приемы магической защиты, годные для любого случая, поверьте, нет ни малейшей надобности отрывать ото сна…
— Отлично, — угрюмо ответил Хаддар. — Пусть будут еще и заклинания. Торна и Беатора сменят Дэлагунд и Табарин. А теперь давайте-ка, расходитесь по лежанкам.
Агдалон очертил концом посоха непрерывную линию вокруг их маленького лагеря, а потом принялся высоким голосом, чуть завывая, речитативить на абсолютно незнакомом Беатору языке. В тех местах, где проходил маг, взрытая посохом линия начинала малиново поблескивать, совершенно как угольки в костре, когда все способное пылать уже прогорело. Замкнув кольцо, Агдалон наконец влез в повозку и угомонился.
…Беатор вертелся у костра, стараясь отогреть все тело сразу и притом не влезть в самое пламя. Тело отогревалось местами: один бок зарумянился, чуть-чуть, и корочкой покроется, а другой подло мерзнет. Хорошо ногам — плохо спине. Хорошо рукам — плохо тому, что пониже спины.
Дунадан сидел, не шевелясь, словно холод и тепло были ему безразличны. Гондорец завистливо бросил:
— Дунадану мороз не в новинку…
— Мороз? — непонимающе откликнулся Торн. И Беатор махнул рукой.
Так сидели они довольно долго в молчании, поглядывая в черноту леса. Потом дунадан усмехнулся и сказал:
— Видишь ли, друг Беатор, нам всем помогает король-Следопыт, лучший изо всех следопытов, вечный, как лес. Мой народ уходит в прошлое. Дунаданы — вроде эльфов, нам нет на этой земле достойного пристанища. Когда мы все… сойдем на нет, друг, останется одинокий король, последний дунадан. Лесной скиталец. Да и сейчас он оберегает каждого из нас в дальнем походе. От холода, от голода, от нелепой случайной смерти.
— Последний дунадан? Никогда не слышал.
— Мне когда-то рассказал о нем отец. И я передам историю короля-следопыта своему сыну… если он у меня будет.
— Я… хочу знать. Это можно?
— Отчего ж нельзя? Отец говорил, будто двух сыновей оставил после геройской своей кончины Халбарад Следопыт, прославленный в Пеленнорской битве. Второй звался Халлатан, и о нем довольно известно всем — о Наместнике Северного Королевства, восстановителе Форноста и самого Аннуминаса Королевского. Первым же был Халлакар, и о нем, должно быть, вы знаете гораздо меньше. Ибо о нем, кроме самого имени, может быть, не рассказывается в летописях. А предания передаются лишь тихим шепотком среди тех, кто способен понять их душой.
Когда Серый Отряд, вернее, выжившие из него, вернулся на Север вместе с Митрандиром и принес весть о воцарении Короля, иные дунаданы вздохнули с облегчением, но иные были опечалены, ибо жизнь изменилась и со многим приходилось прощаться. Вскоре Халлатан, сопровождавший отца в походе, а отряд в возвращении, получил от первого же гондорского гонца королевскую грамоту и послал своего брата на Север, обустраивать Форност к приезду Короля. Но Халлакар отказался: «К иной жизни привык я, и не по мне стоять одесную владыки в блистающих палатах, хотя бы и питал я к нему великую любовь». Так он ответил, и многие тогда решили, что он обезумел от смерти отца. Но думается мне, и не мне одному, что вовсе не в том было дело. И когда уже многие дунаданы Севера обрели надежный дом и королевское жалование, Халлакар так и оставался странником-следопытом. Едва ли не один зимовал он в укрытом лесными дебрями отцовском доме. А в остальное время бродил по краю, от Бри до подножий Хитаэглира, добывая еду охотой и сражаясь с уцелевшим его злом. Не все сородичи понимали его — все меньше и меньше было таких, — но все уважали, и Королевство ценило его помощь. Но пришло время, и люди распахали Дикий Край, и города и селения покрыли землю Арнора, и мало места осталось на ней для таких, как Халлакар. Тогда лишь явился он в Фор-ност, — чтоб тепло попрощаться с братом и уйти затем далеко на юг, в леса Минхириата. Там прожил он еще долго — среди тамошнего скрытного племени, не знающего ни письма, ни металла, живущего охотой и не помнящего, есть ли нуменорская кровь в их жилах…
Однако прошли годы — и Халлакар вернулся. Был он стар и сед, и годы уже клонили его к земле. И многие решили, что пришел он, чтобы умереть на родине. Тогда пришел к нему в лес Халлатан, тоже уже состарившийся и не чаявший увидеть брата живым, и передал приглашение Короля: погостить у него в Форносте. «Не будет он неволить тебя службой и житьем за каменными стенами, раз она столь тягостна. Однако всем нам больно от разлуки с тобой. Ему же, быть может, стократ больнее, ибо ты, кажется, единственный, кому не принесло радости его воцарение».
Не было на самом деле в этих словах упрека, но Халлакару они принесли боль, и он склонился перед Наместником и братом, признавая вину. Но ответил так: «Пойми, однако, и ты меня. Не из отвращения не пришел я в сияющие залы королевского города. Просто боюсь я, что соблазны их перевесят память об этих лесах. А потеряв их, зачахну я быстрее, чем старюсь сейчас. Ибо, потеряв леса эти, — потеряю себя. Но ныне времени остается мало, как ни смотри. Поэтому, может, через день ты услышишь иной ответ, если Силы не рассудят иначе».
Но через день не нашел Халлакар брата на прежнем привале, и не было о нем более никаких вестей, и никто не видел его тела или могилы. И Великий Король был опечален. Говорят, однако, что не мог последний из Вольных Следопытов Севера покинуть страну, которую так любил. Не мог, говорят, и через тысячу лет. Для того и вернулся он в наши края, чтобы не покидать их никогда. Ты думаешь, это ручей журчит в ночной тишине? Как знать, может, это его голос напевает нам песнь о древних временах, что позабыты ныне. Прислушайся и внемли словам, не смущаясь! Ты думаешь, это ветерок пригнул траву между дерев? А может, это он прошел по лесу, невидимый неверящим взорам? Но те, кто помнят, — видят и слышат…
— Печальная история, но красивая. Вот и половина нашей смены миновала… Кругом, кажется, мирно, а я уж было забеспокоился из-за того столба… у реки.
— Кругом не мирно. Пока я болтал, к Агдалонову кругу подходил сначала орк, потом вооруженный человек. Оба они старались не наделать шума, и оба не сумели пройти магическую стену, друг Беатор. Еще раньше совсем недалеко отсюда медведь точил когти, но прошел стороной и не заинтересовался нами. Зверью-то мажьи заклинания нипочем, этот гость добрался бы до наших коней…
— Но я ничего не слышал!
— Я слышал.
— Следует разбудить капитана…
— Он не спит. Уже давно. И правильно делает.
— Правильно?
— Слишком много желающих навестить нас. И шум. Вон там. И запах псины. Как там твои вертушки? Принеси-ка сюда две пары.
Беатор повиновался. Он вез из Форноста восемь прекрасно отлаженных самострелов с тетивами столь тугими, что натянуть их он мог лишь с помощью специального крючка. Кто-то назвал их вертушками, и название прижилось.
Гондорец уже сунулся в повозку и нащупал одну из вертушек, но тут снаружи послышался жуткий рев.
«Что за зверь такой?»
Он выскочил, лихорадочно пытаясь натянуть тетиву, выронил крючок, поднял крючок, выронил стрелу… У границы, начертанной Агдалоном, видны были пять или шесть человеческих фигур. Ба! Вся компания чужаков стояла голышом. Торн вытащил меч из ножен, Хаддар дунул в писклявую тревожную дудку и тоже встал рядом, обнажив клинок. В повозках заворочались, вскакивая и подбирая оружие. Беатор опустился на корточки, пытаясь нащупать стрелу. Нашел. Вставил в специальный желобок. Поднял глаза. О!
За малиновой линией, порыкивая, по земле катались две твари. Да что за… Шерсть, уши, хвосты. Наконец, из травы поднялись два огромных волка. Остальные оборотни тоже пали на землю, покатились, обрастая шерстью. Все это происходило невероятно быстро, слишком быстро для Беатора. Вожак, матерый волчище, перешагнул линию Агдалона безо всяких для себя неудобств. «Зверью… нипочем…» Гондорец вскинул самострел, прицеливаясь. Шипнула стрела. Дэлагунд. Для него-то нет ничего слишком быстрого… Волк-оборотень взвизгнул, и в этом звуке Беатору почудилась чисто человеческая интонация: «Как же так? Обидно!» Зверь повернул назад и затрусил в чащобу на трех лапах. Беатор выстрелил ему вслед, но, кажется, промахнулся. Оборотни, сбившись в стаю, устремились за вожаком.
— …ни одна тварь, говоришь…
— …бывают… исключения…
— …вот задрал бы лошадь…
— …не предусмотришь… мелочей…
До рассвета больше никто не пытался попробовать их на зуб.
* * *
Минула ночь, а потом еще день. Развиднелось. Выглянуло солнышко.
— …Время покатилось под гору, — завел обычную волынку Беатор. Гондорцы, видя, как утекает из их королевства древняя слава, склонны брюзжать о худых временах, наставших после ухода Арагорна. Скоро десять лет, как государем гондорским стал его сын Элдарион, и все эти десять лет гондорцы брюзжат.
Впрочем, дела и впрямь не ладятся у добрых людей.
— Даже погода испортилась. Разве раньше когда-нибудь шли такие ливни в осеннюю пору? Разве зимы бывали такими холодными? Когда мне шла шестая весна, выпал снег. Я думал, так и должно быть, но отец мой испугался, и дед мой испугался еще того пуще. Откуда, говорили они, такая напасть? Прежде не шел в Гондоре снег…
— А дерево? — ласковым голосом спросил его Акайн.
— Что — дерево? В каком смысле — дерево? Отпрыск Древнейшего из Дерев цел и невредим. Посреди Фонтанного двора, в величайшей цитадели Средиземья, оно…
— Я говорю, — перебил его арнорец, — дерево, наверное, было деревяннее, когда тебе шла шестая весна?
Выдержав обидное хихиканье гнома и хоббита, сидевших здесь же, рядышком, Беатор с укоризной произнес:
— Откуда тебе знать историю нашей державы, грубый северянин? Зачем тебе ее тонкости и ее потаенный смысл?
— Ну, вершину успехов светлых сил не то что в твоем Гондоре, а и по всему Средиземью я знаю очень хорошо. Этого мне, поверь, достаточно.
— Что же за вершина, сударь Акайн? — осведомился гном. И арнорец ответил ему совершенно серьезно, притом очень печально:
— Вчера вечером преславный брат мой но оружию, сын доблести, господин Кэбидж вместо разваренной крупы, как обычно, расщедрился на вяленую свинину из своих запасов…
Теперь захихикал и сам Беатор.
— Нет проку в болтунах, так мне батюшка говаривал. Не тот пес хорош, который лает, а гот, который кусает… — пробурчал хоббит.
— Впрочем, времена и впрямь хуже некуда, — продолжил Акайн. — Где, в каком древнем сказании писано, чтобы истинные герои, мужи, исполненные отваги, искусные в воинском деле и служащие свету, чистили рыбу?
Тут он как раз расправился со своей. Плюх! — ушла на дно котла его рыбина.
— Если бы кое-кто мог ее ловить, как я. или уж хотя бы как господин Торн, то он уж, верно, не потрошил бы ее… — мстительно заявил Кэбидж.
— В одном ты прав, сударь мой Беатор, — вмешался эльф, сидевший поодаль. — Наша Эпоха — в трех шагах от полуночи. Наслаждаться миром затененным, исковерканным войнами и овеваемым ветрами древней, нерассеивающейся злобы, может лишь тот, чей век короток. Я родился позже того утра Арды, когда…
— …Эльдар тулиэр, — тихо произнес дунадан.
— Да, когда народ перворожденных пробудился. Я не видел многих чудес древности. Но я слышал песни Лутиэн, я знал свет на ладонях владычицы Галадриэль, я помню Белый Город Осгилиат во дни его величия. И ныне такой красоты почти нет, остались жалкие ее клочки. Поэтому в последние два века столь много кораблей уходит из Серебристой гавани в Блаженный Край запредельного запада. Мы чувствуем, что иссякла наша судьба на равнинах Средиземья.
Воцарилось молчание. Его нарушал один только шум ветра в кронах деревьев да еще журчание ручья, распластавшегося на перекатах в десятке шагов от костра.
— Откуда вы ожидаете Новую Тень, уважаемый Дэлагунд?
— Не могу ответить вам точно, уважаемый Табарин. Для этого нужны истинные мудрецы, обладающие способностью проницать умом своим дела будущего. Но когда-то я присутствовал при поединке Эктелиона, великого воина Гондолина, с ужасающим Готмогом, старшим среди балрогов, духов огня. Оба она пали. Но участь эльфов была столь ужасна в тот день, в день разгрома славного Гондолина, что никто из нас, чудом спасшихся из кровавой бойни, не мог убедиться, вполне ли мертв Готмог. До меня доходили странные известия… — Дэлагунд замолчал, не желая больше говорить о Новой Тени. Видно было, сколь неприятен ему этот разговор. Он предпочел лечь на дорожный плащ, разложенный поверх сырой травы, и любоваться тусклым северным солнцем.
— А я думаю, проще время — проще и Тень, — ответил на его предположение арнорец. — На востоке, говорят, собирает уцелевших орков, да беглецов харадримских, да разного рода низменный сброд некто Гшах Рунский Разбойник. Я слышал, на его сторону перекинулся какой-то князек из моих мест. Князьков много нынче, согласия в них нет, видно, не досталось этому выродку доли в семейных владениях…
— А еще есть некий Логран Смуглолицый Маг, — добавил Беатор. — Всегда сыщется кто-нибудь.
— Или, например, мой сосед Бо Норкине. Отъявленный мерзавец и любитель очищать чужие огороды!
— Кэбидж, не будь я Табарином, сыном Барахана, сына Били Широкозуба, ты серьезно это или шутишь?
— Да уж куда серьезнее, сударь мой гном.
— Чем же ты еще докажешь, что именно твой сосед, огородный воришка, и есть Новая Тень, угрожающая всему Средиземью? Давай выкладывай свои доказательства. Изволь говорить всерьез!
Все заулыбались. Даже Хаддар.
— Разве вы, сударь гном, видели хотя бы одного хоббита, способного разговаривать с почтенными людьми не всерьез?
— Я и видел-то всего одного хоббита, да и тот — ты.
— Желаете доказательств, сударь Табарин? Так вот они: кто еще, кроме Черного Властелина, мог выбрать себе в жены первейшую стерву и сплетницу во всем Уделе, Глаксинью Кроттон? Что ответите мне на это, милейший господин гном? — И хоббит победно посмотрел на Табарина.
Тот и растерялся перед неотразимой силой такого аргумента. Тогда поднялся со своего места дунадан, подошел поближе и молча протянул Беатору тонкую серебряную пластинку, прямоугольную по форме.
— Тут какое-то клеймо, Торн. Знак новой Тени?
— Всего лишь надпись на моем родном языке, адунаике. Здесь написано: «Я, князь Гимилзор Молодой, подтверждаю: здесь четыре дангаба доброго арнорского серебра».
— И что же, тут есть какая-то ловушка? Серебра меньше? Этот Гимилзор… разбойник или хитрец? Интересуется темной властью?
— Князь Гимилзор, потомок Охтара, оруженосца короля Исилдура, и мой дальний родственник — честнейший, притом безобиднейший человек во всех землях севера.
Акайн забрал пластинку у гондорца и передал ее магу:
— Посмотри-ка, Агдалон, какая тут магия.
Агдалон подошел к делу серьезно. Он внимательно осмотрел вещицу со всех сторон, прикоснулся к ней посохом, поднес к уху, едва слышно произнес несколько слов, от которых по всей полянке прошел зябкий ветерок…
— Чем я заслужил ваши насмешки?
— Насмешки? Не было тут никаких насмешек.
— Не могу поверить в это. Серебро не содержит следов какой-либо магии.
— Может быть, есть разновидность магии, которая тебе неизвестна?
Агдалон, если б мог, — так и заморозил бы арнорца взглядом. Но тому самые ужасные мажьи взгляды не страшнее петушиного крика.
— Вряд ли. Я не принадлежу к числу невежд вроде тебя. Если бы у меня была хотя бы капля сомнения, я сообщил бы об этом. Да и к чему было кому-то затевать работу над столь бессмысленной вещью? Не знаю человека, способного найти ей применение. Для украшения она слишком грубо сделана. Для…
— Она для обмена, — перебил его Торн.
— Для обмена? — переспросил арнорец. — Для какого обмена?
— Пищу и одежды нам дает земля через руки земледельца и городского ремесленника. Оружие дает гора — через руки горного мастера и кузнеца. Коней дает вольный ветер — руками пастуха. Воду и огонь мы получаем даром. Тот, кто не работает на земле, все равно сыт, одет и всегда может заночевать в своем доме. Но откуда мы берем все необходимое? От государей наших или от верховных людей Ожерелья Островов…
— Да нет, все больше от скупердяя Кэбиджа… — пробормотал Акайн.
Словно не заметив его слов, дунадан продолжил:
— …А им, в свою очередь, отдают часть добытого своим трудом земледельцы, пастухи, искусники горного дела. Для чего знаменитые мастера наши делали самые красивые предметы? Либо кому-нибудь в дар, либо же как святыню. А если пищи, руды или, скажем, строительного камня не хватало одному народу, он мог выменять это у другого народа, отдав то, чем заинтересуются соседи. Так было испокон веков. И даже какой-нибудь трактир или постоялый двор не имел хозяина, но только содержателя, поставленного следить за расходами от государя или общины. Теперь другое дело. Власть правителей ослабла, не могут они уследить за всеми нуждами своих подданных, иные заботы умножились… Земля родит скуднее, чем прежде. Каждый старается сам позаботиться о себе. Все меняются со всеми. Не во всяком трактире нальют тебе пива просто так, чаще спросят, что можешь дать взамен. Серебро и золото пригодятся каждому, вот и ходят клейменые пластины по южному Арнору от края до края и добираются даже до северного Гондора. Правда, пока мало пластин, подобной этой, но число их растет скорее новорожденной кошки. И люди берут их — ведь за внутреннюю доброту металла поручился самый добросовестный князь арнорского корня, а для обмена лучшей вещи не придумаешь…
Табарин воскликнул:
— Клянусь бородой! У нашего народа, особенно у синегорских гномов, да еще у морийцев были такие штучки, от них, наверное, и люди переняли обычай… Но прежде никто из человеческих князей не чеканил такого.
Вещица пошла по кругу. Наконец пластинку забрал капитан Хаддар, повертел ее в руках и спросил:
— Торн, при чем тут Новая Тень? Где здесь Новая Тень?
— Ты держишь ее в руках.
* * *
Отряд спешил на северо-восток. После той ночной стычки с оборотнями никто не тревожил людей Хаддара. Кто-то приглядывал за ними, это чувствовали Торн, Агдалон, эльф, да и сам Хаддар. Приглядывали, но не совались с предложениями близкого знакомства. Погода сходила с ума: то шел снег, то лил дождь, то появлялось солнце и нещадно жарило пожухшую траву — совершенно как летом.
Утром четвертого дня зеленый отряд наткнулся на место последней стоянки другого зеленого отряда. Дайн Клевец и пять его гномов были убиты, обобраны, обглоданы. Торн, побродив по поляне, сказал:
— Всего дня три назад, зверье не успело растащить. Тело Дайна волочили по земле, увечили, чуть ли не рвали на куски… А раздели и ограбили только потом, когда успокоились… Даже у орков для такого бессмысленного зверства должна была иметься особенная причина. Понимаешь ли ты, Хаддар. о чем я говорю?
— Взял, но не смог уйти?
— Именно так.
За кустами обнаружился свежий могильный холмик. Капитан, глядя на него, задумчиво произнес:
— Значит, в том числе и люди. Уже понятнее. Агдалон?
— Ни одного мага, капитан. Ни даже капельки магии.
Они задержались еще на полдня, предав земле тела рыцарей Братства.
* * *
Не доезжая до Карн-Дума, отряд свернул в лес и там расположился на маленькой полянке. По сведениям, которые получало Братство из Амонбарада, стоявшего всего в нескольких днях пути от Карн-Дума, бывшая ангмарская столица стала оживленным местом. Рядом с ней выросло несколько человеческих и орочьих деревень. В развалинах видели целые семьи гоблинов.
Беатор понимал, чего опасается Хаддар: рано или поздно зеленый отряд обязательно найдут и вряд ли обрадуются незваным гостям. Чем позже это произойдет, тем лучше.
В Карн-Дум отправились на разведку дунадан, арнорец и маг. Особые надежды возлагались на последнего: Проклятый венец — вещь, по определению излучающая магию, и Агдалон должен был почувствовать эти эманации издалека. Перед самым выходом в Карн-Дум маг придал внешности всей троицы иллюзорное сходство с орочьей.
Разведчики вернулись до странности быстро, еще до заката. Агдалон и арнорец выглядели ошарашенными. Особенно маг. Так что суть дела рассказал Торн.
— В развалинах полно вооруженных людей, орков, есть тролли, гоблины и какие-то редкие страшилища. Как только мы зашли внутрь, вся Агдалонова ворожба рассеялась. Мы стали… кем мы есть. Но это не вызвало ничего, кроме смеха.
— Смеха? — переспросил озадаченный Хаддар.
— Именно так. Вот, мол, и этих принесло. Что ж, мол, имеют право попробовать свои силы. Нас проводили к Проклятому венцу. Он там лежит на краю развалин, посреди коридора, открытого с обоих концов. Просто лежит на земле, а вокруг полным-полно трупов.
— Свеженькие есть и не очень. Один совсем истлел… — вставил свое слово Данно Акайн.
— …И кто-то вас туда тоже приглашал. Кто-то из наших провожатых, там была целая толпа. Мол, остальных, которые в лесу спрятались, тоже сюда ведите…
— Толпа? Начинаю понимать. Претенденты на венец?
— Да. Взять его нетрудно, только вот уйти с ним — задача не из легких. Они друг друга сторожат. И всех пришлых.
— Ясно. Нарисуй-ка мне, Торн, как там что расположено, откуда и на чем можно подойти или, скажем, подъехать.
Торн принялся чертить палочкой по земле. Арнорец и маг иногда поправляли его. Капитан задавал вопросы, стараясь как можно лучше представить себе тот участок Карн-Дума.
— Агдалон, что-нибудь по твоей части?
— Там есть маг. Сильный. И я уже когда-то чувствовал присутствие этого существа. Должно быть, кто-то известный.
— Дело усложняется. Дайте мне подумать.
Чуть погодя капитан подошел к гондорцу.
— Придется нам с тобой поработать. А остальные помогут. Работали они полночи.
* * *
Это и впрямь был коридор, выложенный из больших блоков дикого горного камня. Некоторые выпали из стен и потолка, образовав бреши, через которые скудно сочился солнечный свет. Ничего особенного. Старая цитадель, мрачная и неуютная, как все заброшенные крепости.
Беатор ехал на первой повозке. Когда они подобрались вплотную к коридору и развернулись, как уговорено, у ближнего конца стояли Хаддар и Агдалон. В середине коридора шумела толпа претендентов, но никто из них даже не глядел на этих двоих, да и на повозки не обратили особого внимания. Капитан и маг подошли первыми, потом с дальнего конца коридора прямо к Проклятому венцу ринулись два всадника — Торн и Данно Акайн. Толпа развернулась к ним, послышались ехидные крики: «Неглупо! Хорошая попытка! Правда, уже было, пробовали!»
В этот момент Дэлагунд наложил на лук стрелу, к которой была привязана тончайшая эльфийская веревка, почти невесомая. Перворожденный спустил тетиву, кажется, не целясь. Беатор не видел никакого венца на расстоянии двух сотен шагов, да еще в сумраке коридора. Но негромкий звяк услышал. Попал! Острие Дэлагундовой стрелы только что стало частью венца. Есть у эльфов редкие металлы, неведомые людям. И есть своя магия, о которой от начала времен никто не мог с точностью сказать, то ли это действительно магия, то ли дар Предвечного Властителя, — видеть и делать то, к чему не способно естество других существ. Одним словом, металл эльфийской стрелы сросся с металлом венца. Дэлагунд быстро обрезал веревку и конец ее привязал к деревянному воротку, приделанному Беатором к баллисте специально для такого случая.
«Тэнг!» — поет тетива верхнего самострела баллисты. Копье сходит с желоба, и за ним тянется такая же тончайшая веревка, намотанная на вороток. Вороток стремительно вращается и утягивает венец прямо из-под носа у претендентов. Толпа замечает неладное, кое-кто поворачивается назад, пытается догнать венец, подпрыгивающий от ударов о землю и о мертвые тела. Догнать невозможно. Толпа разражается оскорбленными воплями.
И тогда откуда-то из бокового коридора выходит человек в темной мантии, высокий, величественный, вооруженный посохом мага.
— Логран!.. — с отчаянием восклицает Дэлагунд.
Чужой маг направляет посох в направлении веревки. Кто знает, хотел он просто перерубить веревку каким-нибудь магическим лучом или же завладеть венцом… Ошибка его состояла в том, что он пренебрег Агдалоном. Когда-то владетельный князь и редкий злодей, Логран считался чуть ли не самым опасным магом на всем Севере. Ему ли бояться волшебника-середняка, недоучку Агдалона!
Тот не стал оказывать какое-либо магическое противодействие. То ли от природной сообразительности, то ли от растерянности Агдалон избрал самый эффективный образ действий, то есть попросту изо всех сил врезал Лограну собственным посохом по темени. Логран качнулся и рухнул как подкошенный.
— Вот тебе и магический поединок… — вякнул Беатор.
— А по-моему, все вышло очень достойно, — возразил хоббит.
Толпа ахнула и на несколько драгоценных мгновений потеряла интерес к венцу. Гибель Лограна Смуглолицего как громом поразила претендентов. Тем временем Хаддар и Агдалон вскочили на коней и с места взяли в галоп; венец добрался до первой повозки, перелетел было через нее, но тут его схватил Кэбидж. Беатор моментально обрезал обе веревки.
— Ну, готово дело живо-два, — прокомментировал хоббит.
Повозки понеслись к условленному месту. Там их уже ждали дунадан и арнорец. Что ж, унести и впрямь оказалось нетрудно…
* * *
— Хорошая работа! Клянусь секирой Торина, отличная работа! Да не будь мои предки лучшими ювелирами Серогорья, великолепная работа! — восхищался Табарин, поворачивая венец так и эдак, приглядываясь ко всяческим деталям, чуть только не принюхиваясь. — Чернение! А? Какое чернение!
Наша, гномская работа! И маску тоже делал гном, да. Да! Так больше не умеют делать!
Беатор подергал его за локоть:
— Э-э, сударь Табарин, лучше бы вам не допускать… э-э… приятных мыслей по поводу этой штуки. Как знать, не схватит ли она тебя?..
— Да не-ет! Впрочем… — Гном насторожился. — Клянусь бородой… Но кто же ее тогда понесет?
— Э! А? Что вы все уставились на меня? Что, второго Фродо нашли? А? А? Не будет вам никакого второго Фродо, никакой я вам не Фродо! Не желаю совершенно… — тут хоббит запнулся, глядя на лица друзей, потупил взор и тихонько добавил: — Ну что вы так смотрите? Если для дела очень нужно, то… хотя… конечно… я… мог бы…
— Оставьте Кэбиджа в покое, — голос Хаддара звенел от напряжения. — Некогда рассусоливать! Табарин, приторочь венец к оглобле у второй повозки. Намертво. Эта тупая деревяшка и будет нашим Фродо.
* * *
Отряд гнал днями и ночами, не разводя костров, останавливаясь только для того, чтобы поменять лошадей в упряжках и накормить их. Слева и справа от Эттенблатского тракта тянулись каменистые пустоши. Ни деревни, ни одинокой хибары, ни даже овечьего стада. Один раз вдалеке заметили смолокурню, вонючий дым стелился от нее по всей равнине. Другой раз проехали каменоломню, покинутую вроде бы совсем недавно.
По ночам над их головами кружились огромные летучие мыши. Позади мелькали группы конников. Кто-то из претендентов — а может быть, и вся банда — знал о передвижениях отряда. Впрочем, посреди пустошей их никто не пытался задрать. Чуть только Хаддаровы люди въехали в полосу лесистых предгорий, нападения пошли одно за другим. Их загоняли, словно сильного и опасного зверя. Помогало только то, что претенденты никак не могли сговориться между собой. Атаковали по одному, по двое, по трое, бросались среди бела дня, потеряв здравое разумение, к заветной оглобле. Потом организовались и атаковали уже целыми дюжинами. Беатор держал все восемь вертушек заряженными. В одном из ночных боев чужой дротик прошил бедро Дэлагунда, и тот, обливаясь кровью, упал под копыта коню. Дальше его везли на повозке.
Выбрав открытое место, где никто не сумел бы незамеченным подобраться к повозкам, Хаддар остановил отряд и велел перевязать Дэлагунда. Перевязать, промыть и… сделать… все, что нужно.
Капитан никогда ничего не понимал в искусстве врачевания. Дар целителя был только у самого эльфа, но сейчас он метался в бреду, терял кровь и постанывал. Беатор припомнил пару лечебных трактатов, когда-то проглоченных им впопыхах.
— Я… попробую, раз больше некому.
Хаддар взглядом спросил у Агдалона, мол, ты можешь что-нибудь сделать? Маг отвернулся.
— Освободите Беатору место!
Все расступились.
Гондорец разорвал на эльфе одежду, велел согреть воду, промыл рану, как умел, отворачивая лицо от кровавых брызг, потом плюнул и перестал отстраняться. Он с отчаянием копался в мешочках Дэлагунда, отыскивая траву, которая способна остановить кровь, потом другую траву, которая способна не допустить к ране чужую вредоносную магию, потом искал порошок, выгоняющий гной и гниль. То ли он нашел? Или ошибся? Взывал к Илуватару, орал Торну, чтобы тот поближе поднес факел, ночь, собственных рук не видно… Потом занялся повязкой, но все выходила какая-то ерунда, то повязка сползала, то опять начинала сочиться кровь. Колени дрожали у Беатора. Дэлагунд пришел в себя и, едва шевеля бескровными губами, подал ему пару советов. Дело пошло на лад.
Наконец, Беатор, совершенно обессиленный, опустился рядом с перворожденным и тяжко вздохнул. Гондорец сделал все от него зависевшее.
— Накрой меня… одеялом. Мне… ужасно… холодно.
«Совсем как человек», — подумал Беатор, повинуясь.
— Благодарю… тебя. Я… так не хочу… умирать.
— Тебе больно? Потерпи, должно полегчать.
— Мы… умеем избавлять себя от боли, но… платить приходится… слабостью. Я… сейчас… как младенец.
Они помолчали.
— Беатор… мы много веков учились… распоряжаться… своей жизнью… так же легко, как смертные… не бояться… потерять ее, поставив на кон… из-за пустячного дела… как мы сейчас… Да. Да. Музыка… пронизывающая мир… изменилась… в ней… нет прежней величавости и благородства… но… она не стала хуже… просто… стала другой… Да. Так. Как будто… играли… многие существа… и первая партия была… за нами… вот… мы… ушли… уходим… и арфа замолкает… теперь… первая партия за людьми… мне… нравится волынка и пастушья свирель… диковато… но… есть своя краса… надо… просто вчувствоваться… я… прирос к миру человеческого Средиземья… я… отучился презирать смерть… к сожалению. Это ведь… видишь ли… считается у нас позорным…
— Ничего, ничего. Утешься, нет неуязвимых, всесильных существ. Все мы бываем то сильными, то слабыми. Всем нам нужно сочувствие. Я вот… признаться… родился в деревне. Только никому не надо рассказывать об этом, слышишь?
— Слышу.
— В маленькой рыбацкой деревне у самых развалин Осгилиата. Там, конечно, отстроили кое-что, но развалины так огромны, а восстановили только самую серединку. Мы играли там… мы, тамошние мальчишки… И мне представлялось нечто высокое… Я мечтал совершить что-нибудь достойное державной древности.
— Осгилиат? Да мы с тобой… земляки. Я… родился там же… правда… несколько раньше… самого города. Среди перворожденных я считаюсь молодым, хотя…
Дэлагунда прервал шум драки. Табарин отчаянно поливал кого-то отборной бранью на языке серогорских гномов.
— Прости, Дэлагунд!
Гондорец выскочил и увидел, как Табарин и Хаддар безо всякой жалости лупят Агдалона, Кэбидж схватил мага за руки и держит мертвой хваткой, а Данно Акайн пытается кушаком заткнуть ему рот. Агдалон выл и отбивался. На несколько мгновений он освободился из цепких объятий арнорца.
— Я только хотел посмотреть, что делают наши вра…
Капитан сокрушил ему скулу нещадным прямым ударом.
Акайн вновь занялся кушачной борьбой. Дунадан отыскал на земле Проклятый венец и принялся заново прилаживать его к оглобле.
— Помощь нужна? — поинтересовался Беатор.
— Руки ему вяжи! Быстрее! — крикнул капитан.
— И крепче, — добавил хоббит.
Наконец мага связали по рукам и ногам. Хаддар в сердцах бросил его посох в костер.
— Попался же один мерзавец! Не зря Кирдан предупреждал: «Отыщется нестойкая душа…»
— И кто! — вторил ему арнорец. — Ото всей его магии пользы было только одно: другому магу деревяшкой проломил череп!
Захохотал гном, потом Беатор, к ним присоединились сам капитан и даже Торн. Они смеялись в полный голос, и вместе со смехом из них выходили ужас и усталость последних дней. А устали они смертно. Наконец Хаддар жестом остановил всеобщий хохот. Не сразу, но остановил все-таки.
— Руки и ноги ему не освобождать ни при каких обстоятельствах. Рук ему хватит, чтобы наколдовать семь смертей, — мы и глазом моргнуть не успеем. Кормить его будут трое. Табарин подносит ложку, Торн держит руки на горле, а Беатор — заряженную вертушку у самого уха. Существуют очень короткие заклятия, но от того не менее смертоносные. Не давать ему лишней руны сболтнуть! В туалет сходить запросится… с ним двое: Табарин и Беатор. И смотри, Беатор, болт на твоей вертушке не должен опоздать ни на миг! Агдалон! Если у тебя сохранилась еще капля разума, не рыпайся и доживешь до суда в Форносте.
На следующий день отряд вошел в горы. Дорога петляла, разветвлялась, упиралась в развалины старых селений. Арнорец и Торн знали потаенные пути, и благодаря этому отряд сумел оторваться от погони. Поздно вечером три повозки въехали в ворота крепости Амонбарад. Беатор камнем повалился на соломенный тюфяк…
Утром он проснулся раньше прочих, встал, отправился к лошадям. Во дворе гондорец случайно услышал беседу, не предназначенную для чужих ушей. Некий эльф, наверное, старший в амонбарадском гарнизоне, горячился и никак не хотел позорно оставлять крепость на разграбление «этим тварям». Да, их тут осталось всего пятеро из двадцати двух ратников, зато они положили немало врагов под стенами крепости, навели страх на орков и могут продержаться до подхода смены. А уж с помощью Хаддарова отряда… тут и беспокоиться не о чем. Хаддар ему резонно отвечал: во-первых, не пятеро, а четверо. Капитан ваш, Тураниэль, ранен и валяется в беспамятстве, надо бы его срочно отсюда увозить, иначе умрет. Во-вторых, отряд здесь не останется. На этот предмет (наверное, руку протянул в сторону венца) претенденты собираются, как пчелы на мед. Сейчас их тут, поблизости, не менее полутора десятков, а завтра будет, допустим, сорок, а послезавтра — полторы сотни… Двигаться надо, двигаться, спасение наше в бегстве. А ваше спасение — держаться от нас подальше. В-третьих, сможете и нас выручить, и самих себя, и Тураниэля, если тайно выйдете отсюда, найдете отряд — он должен идти за нами по тракту от Большого Пограничного перекрестка на Карн-Дум — и скажете, мол, те, кого они ищут, уже погребены, а Хаддар с игрушкой резво бежит вот сюда и вот так (наверное, чертит носком сапога на земле). В-четвертых, нам сильно полегчает, если вы заберете с собой одну магическую куклу по имени Агдалон… Эльф возражал: дней через десять-двенадцать здесь будет смена. Лучше отсидеться в Амонбараде Хаддар: ни нам не поможете, ни крепость вчетвером не удержите… Эльф: нет, и все тут! Тогда капитан ему напомнил, что во всей округе есть только один живой, пребывающий в здравом уме и твердой памяти офицер Братства. Он сам. И эльф обязан подчиниться его приказу. Тот помолчал немного и ответил, мол, хорошо. Мол, трое уйдут с Тураниэлем и Агдалоном во вьюках. Нетрудно отсюда выбраться по тайному ходу, там высоко, можно пройти и с лошадями; но он, перворожденный Вингиант, останется. Крепость не будет сдана оркам, покуда он жив. И никакой приказ не сдвинет его с места. Хаддар коротко заключил их беседу: «Хорошо. Ты в своем праве».
Все вышло по слову Хаддара. Отряд успел как следует отоспаться, поесть, позаботиться о лошадях. Еще до полудня его вывели по тайному ходу за пределы острова Амонбарад. Торн отыскал на изгибчивом тракте едва заметный поворот и назвал его: «Украденная тропа. Лучший путь, самый короткий».
Хаддар пояснил:
— Мы не пойдем по Эттенблатскому тракту, здесь нас догонят и перебьют. Мы не пойдем по основной дороге, здесь произойдет то же самое. Попробуем ускользнуть по Украденной тропе, а там, дальше, по заросшему Морскому тракту. И вот что: если вам дорога жизнь, не щадите ни себя, ни коней.
…Они мчались как угорелые на ровных местах. Они толкали повозки на подъемах. Они забывали о высоте, проезжая по узким карнизам. Они не знали отдыха. Через день петляющая тропа вывела их на основной тракт. Отряд пересек его и углубился в болотистую равнину, двигаясь почти без дороги. Еще через день его заметили оборотни в облике летучих мышей.
Два дня бойцы Хаддара выбивались из сил и не видели за собой погони. Шли так, как никогда прежде не ходили. У одной из повозок колесо сошло с оси, пришлось ее бросить. Остальные две держались на честном слове.
Но повозка слишком сильно проигрывает в скорости всаднику, особенно если всадник рехнулся от желания заполучить магическую вещичку ценой в город. К тому же зеленый отряд подводила местность. На третий день шайка претендентов была тут как тут. Хаддар с отрядом как раз добрался до Морского тракта, повернул по нему на юг и уперся в горы. Здесь они были обречены проиграть во времени… До сумерек отряд успел пройти миль пять. Ночью двигаться капитан запретил.
— Встанем здесь и завтра сразимся с ними. Надо как следует отдохнуть. Ночью к нам никто не сунется.
Беатор огляделся. Хаддар был прав. Даже сумасшедший не рискнул бы карабкаться сюда в ночную пору. Дорога забирала резко кверху, затем делала перерыв, образуя широкую горизонтальную площадку. Здесь-то Хаддар и поставил свои повозки. Дальше дорога шла по еще более крутому уклону вверх. С одной стороны — отвесная скала, с другой — обрыв. Правда, как раз к площадке примыкал участок более или менее преодолимого откоса, но для тяжеловооруженного воина это было худшее направление атаки изо всех, какие только можно себе представить. Если бы нашелся обезумевший от алчности лучник или пращник, которому вздумалось бы обойти отряд сверху, по кручам, и безнаказанно обстрелять его оттуда, то старания пропали бы даром: скальный козырек большим каменным щитом загораживал площадку от нападения с этой стороны.
Уже в полусонном состоянии гондорец сменил Дэлагунду повязки…
* * *
С утра Хаддар отдал три распоряжения: во-первых, закопать проклятый венец под повозками, на тот случай, если отряд перестанет существовать. Во-вторых, отпустить лошадей: либо не выживут, либо все равно достанутся неприятелю. В-третьих, подняться засветло и как следует поесть, но не набивать брюхо. Капитан сказал своим ратникам следующее:
— Я надеюсь выжить и победить. Сейчас не те времена, чтобы героическая смерть стоила хотя бы миску жидкой похлебки. Их больше, но и бойцы они — с бору по сосенке. Если мы будем тверды, они дрогнут.
Чуть только круглое пятно серебристой мути, которое в Ангмаре называют солнцем, поднялось из-за гор, претенденты пошли на приступ. Они шли по дороге, и там их скоро настигли стрелы Беаторовых вертушек. Кэбидж перезаряжал, гондорец стрелял, и, после того как белесую придорожную пыль поцеловало четвертое тело, атакующие сменили тактику. Они полезли по каменистому откосу горы, прямо по осыпям, цепляясь за редкие кустики и хоронясь за валунами. Беатор расстреливал их как птиц. Дэлагунд, едва справлявшийся с собственным луком, послал несколько стрел. Еще четыре тела…
Претенденты откатились. Время от времени снизу, от самой подошвы, прилетали вражеские стрелы. Но оттуда до позиции зеленого отряда было никак не меньше трех сотен шагов. Жала обессиленно лупили в горный камень, тенькали по доспехам, царапали борта повозок.
— Напрасный, однако, расход… Зачем так злиться? — пробормотал Кэбидж и принялся собирать чужие стрелы.
Чуть погодя снизу послышалось: «Урукхай! Урукхай!»
— Этого еще не хватало… — заворчал арнорец.
Рослые орки шли по дороге, закрывшись высокими деревянными щитами.
— Специально, что ли, для таких случаев припасли? — ни к кому не обращаясь, пробормотал Беатор. Его услышал Торн и объяснил:
— У них была целая ночь.
Гондорец и эльф опять принялись за работу. Однако теперь их стрелы застревали в щитах и не наносили врагам особенного урона. Двоих орков им удалось поразить в лодыжки, но и все. Это нисколько не остановило стремление копейщиков. Торн и Хаддар совместными усилиями раскачали большой камень… Урукхай расступились, повинуясь команде старшего, и глыба пролетела мимо, не причинив им ни малейшего вреда. То же произошло и со вторым камнем. Наконец Табарин, подняв с земли тяжелый булыжник, метнул его вниз обеими руками. Орк, принявший удар на щит, не удержал равновесия, рухнул и покатился по склону. Однако на смену ему моментально встал другой боец из второй шеренги.
— Беатор… надо… выше…
— Что? Что? Я не слышу тебя.
Дэлагунд повторил:
— Поднимись выше…
А куда тут выше-то карабкаться? На скалу? Она почти отвесная.
— Повозки, Беатор…
Он вскочил на повозку. Ничего не дает. Поднялся на борт, поставив ступни на деревянные щиты, сходившиеся под прямым углом, — левую на один, правую на второй. Это была очень удобная позиция… для перворожденного. У эльфов врожденное чувство равновесия. Жаль, людям оно не досталось от Создателя… Точно, отсюда было отлично видно, как поднимается вслед за урукхай вся остальная толпа, поругиваясь и потрясая оружием. До них, пожалуй, можно было достать, стреляя поверх орочьих голов. Беатор подстрелил двоих — как минимум двоих, отсюда плохо видно, — пока урукхай не добрались до верха. После каждого выстрела гондорцу приходилось соскакивать вниз и вновь подниматься. Теперь, когда оркам совсем немного оставалось до боя на мечах, эта забава потеряла смысл.
Из рядов урукхай вышел старший, огромный пегий орк, одна глазница пустая, в руке шипастая дубина. Он обратился к Хаддару:
— Отдай венец, червяк, и будешь жить. Мое слово — закон.
Капитан шагнул к нему с явным намерением зарубить.
Старший орк так и не успел понять это.
— У нас осталось больше тридцати бойцов против твоих сопля…
На этот раз баллиста сработала идеально. Беатор не стал экономить метательные копья: еще не успело распластаться на дороге тело одноглазого, а первый ряд урукхай недосчитался еще одного рослого воина. Копье пробило щит и пришило его к ребрам орка. Акайн повернул голову и крикнул гондорцу:
— Беа, это в духе отряда!
Урукхай, лишившиеся вожака, нерешительно топтались.
Из-за спин орков вышли два существа. Во-первых, старый, весь в трещинах и пятнах лишайников тролль. «И свет ему не во вред, надо же, заклятие какое-то, вернее всего, наложено…» У Беатора было оружие против тролля, но только одноразовое. Не дай, Илуватар, промахнуться! Этакую образин)' не берет ни стрела, ни меч, ни копье, ни секира… И отсюда, из этой позиции гондорец никак не мог поразить тролля. Надо подождать. Зато у Табарина нашлось чем пощекотать нервы ходячей скале. Он положил неизменную свою секиру наземь, пошарил в повозке и достал тяжелый молоток или, скорее, молот, заостренный с одной стороны. Ни слова не говоря, гном подскочил к троллю и принялся охаживать его молотком, да так, что посыпалась каменная крошка. Кулаки тролля молотили воздух, а Табарин наскакивал и уходил в сторону, не задерживаясь ни на миг, заходил сбоку, сзади, пригибался, прыгал… О тролле можно было не беспокоиться. Пока. Во-вторых, сразу же за троллем на площадку перед повозками вышел эльф. Судя по одежде — из народа авари.
И при его появлении вся орочья шваль притихла. Как видно, кое-кого тут хорошо знали и побаивались… Походка и особенная соразмерная плавность движений выдавали в эльфе опытного бойца. Высокий, лицо белое — подобно мякоти наливного яблока, черные кудри. Нечеловеческую красоту его портил шрам, изуродовавший подбородок и нелепо раздвоивший нижнюю губу эльфа. Он назвал свое имя, и Беатор нахмурился: это имя гремело по всему северу. От хоббитского Шира до Мории и от Ангмара до Сирых равнин не сыскалось бы более искусного мечника… Почему такой мастер прибился к шайке двуногой грязи?
— Я не ищу пользы от венца Короля-Чародея, мне это не нужно. Меня интересует лишь одно: совершенство. Моими учителями становятся лучшие бойцы, приходящие сюда. Моя плата за урок — скорая и милосердная смерть. Итак, я хочу убить лучшего из вас. Пусть он выйдет.
У Беатора чесались руки угостить мерзавца стрелой. И почему до их пор не спустил тетиву Дэлагунд? Гондорец было потянулся к болту, но тут сообразил: такому воину нетрудно будет уклониться от любого выстрела. Впрочем, пока мастер меча вещал, гондорец все-таки взвел вертушку и убил еще одного орка. Какое ему дело до того, почему они уступили место эльфу и смотрят на него, раззявив пасти? Подставился — получай!
Копейщики урукхай разом встали на одно колено и прикрылись щитами. Сколько их там осталось — десять? двенадцать? Беатор зарядил болт в толпу, стоявшую за урукхай. Промахнуться было невозможно.
Тем временем Хаддар и Торн обменялись несколькими словами. Совсем не громко, никто не услышал, о чем они говорят. Капитан вышел к эльфу.
— Я Хаддар. Если хочешь убить кого-нибудь, начни с меня.
У кого-то в толпе претендентов не выдержали нервы, и стрела полетела в Хаддара. Тот без труда уклонился.
— Не мешать! — приказал эльф ледяным голосом. И неведомый лучник не посмел ослушаться его. Впрочем, при всем желании он и не смог бы: Дэлагунду понадобилось несколько мгновений, чтобы выделить его и убить…
Эльф и Хаддар с невероятной быстротой принялись работать мечами. Простой смертный ни за что не сумел бы уследить за их выпадами, замахами и финтами; Беатор, например, хотя и пытался, но не смог. Дуэт мастеров быстро удалился с площадки на склон, и вскоре гондорец уже не видел обоих.
Дэлагунд свалил еще одну жертву. И сейчас же в вороненый орочий шлем ударил свинцовый шарик, отправленный пращой Кэбиджа. Бойцам урукхай не хватало вожака, чтобы подняться в атаку. Толпа швали, стоявшая за ним, могла с равной вероятностью побежать и броситься вперед. И то и другое было бы спасительным: от стрел пострадала уже добрая дюжина бойцов, и, если бы претенденты продолжали топтаться на дороге, у самой площадки, Беатор и Дэлагунд со спокойной совестью положили бы всех. Обычная разбойная шайка, прикинул гондорец, разряжая вертушку в очередной раз, Давно бы отступила. «Вот и вам пора бы…» Но он не угадал. Наверное, венец притягивал их к себе. Претенденты начали лупить орков ногами и древками копий, подзуживая к драке. Те рассвирепели и действительно бросились вперед, а вслед за ними все остальные. Тех и других вместе было с четверть сотни…
Но численное превосходство не очень-то помогло нападающим. Дорога у самого верха сужалась, а там как раз сцепились Табарин и тролль. Этих бойцов опасливо обходили. Претенденты все-таки не настолько обезумели, чтобы сунуться под молот гнома или, еще того хуже, под кулак тролля. Наверху их встретили Торн и Данно Акайн. Им приходилось драться против двух-трех бойцов одновременно, но не более того.
— Кэбидж, берись с другой стороны!
Гондорец и хоббит вдвоем сдернули попону со странного сооружения из дерева, кожаных ремней и воловьих жил. Оно чуть-чуть напоминало гигантского паука, из внутренностей которого торчала колоссальная деревянная ложка. Ею, наверное, мог бы зачерпывать похлебку какой-нибудь древний великан. Беатор осмотрелся, подобрал камень потяжелее и положил его прямо на великанскую ложку.
— Думаешь, поможет?
Гондорец закрыл глаза и мысленно взмолился: «О, Илуватар, не оставь без помощи своей в этом проклятом краю…»
— Будем надеяться, Кэбидж.
Специальным воротком Беатор натянул ремни. Переложил станину немного правее… потом немного левее… потом опять правее… опять левее… Прицелиться как следует все никак не удавалось — тролль вертелся, не стоял на месте. Тогда гондорец плюнул и воскликнул в сердцах:
— Не тебе, урод, так другим достанется!
С этими словами он отпустил вороток.
Попал? Не попал?
Голова тролля со страшным грохотом разлетелась на добрую сотню кусков. Табарин оторопело застыл на месте, обломки каменного черепа забарабанили по его шлему.
Впрочем, претендентов это не устрашило. Сразу трое или четверо из них кинулись на гнома.
— Все, сударь хоббит, пора нам лезть в общую свалку…
— Только тебя и жду, сударь Беатор!
Они спрыгнули с повозки и ринулись навстречу претендентам.
Некоторое время гондорцу казалось, что рядом с ним происходит настоящее чудо. Пять бойцов сдерживали натиск двух с лишним десятков. Мерно работал тяжелым мечом Торн, и усталость будто не знала, как уязвить его. Столь же неутомимо крушил орков молотом Табарин. Арнорец беспрестанно сквернословил, уходя от чужих ударов и угрожая ловкими выпадами. Кэбидж сцепился со смуглокожим харадцем на равных. Сам Беатор тяжкой шипастой палицей держал неприятеля на расстоянии. Отряд жил. Отряд противостоял натиску ангмарской ходячей грязи. Отряд не собирался уступать. Три или четыре тела претендентов легли под ноги сражающимся…
Беатор потерял ощущение времени. Кажется, их рубка продолжалась бесконечно долго. Устали нападающие, устали обороняющиеся. Устали даже урукхай… И тут чье-то тяжелое копье вошло в горло Данно Акайну, острие его вышло с другой стороны, разбрызгивая кровь и ломая хребет арнорца. Тот выронил оружие, но все еще стоял — упасть ему не давало копье, покуда поразивший Акайна претендент не нажал мертвецу ногой на грудь. Арнорец упал наземь, и по его телу прошли пять или шесть претендентов, заходя в тыл к Торну и всем прочим. Беатор не успел увернуться и получил чудовищный удар в левое плечо. Похоже, не один он предпочитал палицу мечу… Гондорец явственно услышал хруст собственных костей, и пыльная дорога отвесила ему пощечину.
«Все. Мертвец. Хорошо хоть пытать не будут, чтобы дознаться, куда мы дели венец…»
Ощутимый пинок в больное плечо. Гномья ругань.
Табарин стоял над ним, как несокрушимый утес, принимая на себя удары за двоих и раздавая их за троих.
— Вставай же ты, гондорская немощь бледная!
Левая рука… считай, сегодня не понадобится. Правая рука… жива. Улучив удобный момент, Беатор вскочил и хорошенько вмазал кому-то палицей, безо всяких финтов и хитростей, как вмазала бы истинная деревенщина, мстя за причиненную боль. Кто-то, кому досталось, завыл по-орочьи и выпал из схватки.
Гондорец с гномом спина к спине отбивались от врагов, обступивших со всех сторон. И так же чуть поодаль хоббит и Дунадан вдвоем резались с целой толпой. Жизни всей четверки оставалось настолько, насколько смогут они откладывать неизбежный шаг чужака и удар чужого оружия, направленный в незащищенное место. Скоро их прикончит немощь, приходящая с усталостью… Дело времени. Но пока они дрались, пока они намеревались выжить и победить.
И тогда над местом гибельной схватки запела флейта Дэлагунда. Этот звук заставил всех на несколько мгновений опустить оружие. Этот звук оторвался от земли, от крови и металла. Этот звук полетел к тусклому небу Ангмара, к нищему солнцу севера…
Флейта Дэлагунда пела о прекрасных днях юной земли, об ослепительно белых песках Альквалондэ, о чудесных садах Аваллонэ, о шелковых парусах на кораблях Нуменора, о божественном голосе Лутиэн, о старинных и совсем недавних героях, честью считавших отдать жизнь за светлый дом Средиземья, о серебряных нитях благородства, скреплявших народы перед лицом очередной Тени. Флейта Дэлагунда напоминала погибающим бойцам: нет равновесия, но смысл есть… Флейта Дэлагунда пела о том великом смысле, ради которого умирал сейчас в неуютном северном краю маленький отряд. Флейта Дэлагунда пела о том, что не исчезли древние символы и знаки и не напрасно поход капитана Хаддара уподоблен был подвигам Братства Кольца. Флейта Дэлагунда пела о неумирающей красоте Творения, о великой незаконченной мелодии, звучавшей и звучащей во всех живых существах этого мира. Флейта Дэлагунда пела о звенящем рае неискаженного. Флейта Дэлагунда писала невидимыми рунами судьбу зеленого отряда — одной маленькой строкой в великую хронику Противостояния. Флейта Дэлагунда пела узор из трав и шорохов леса, из шагов лисицы и запаха свежеиспеченного хлеба, из городских башен и легчайших крыльев мотылька, из доброго вина и пения птиц, из счастья и лесных троп, из стрекоз над прудом и милосердия… Узор этот ткался над головами сражающихся, принимая очертания истины, которую можно выбрать.
Флейта пела. Но бой возобновился, и вскоре песня ее захлебнулась. Лишь последние несколько звуков отчаянно рванулись ввысь из деревянной трубочки в руках убиваемого Дэлагунда.
Но едва смолкла флейта, как ей ответил гневный голос рыцарского рога. Полумертвый от боли и усталости Беатор сумел бросить взгляд на дорогу. Снизу, от самой подошвы горы, поднимался конный отряд. Светловолосые всадники в серебристых кольчугах.
— Ну, теперь держись, гондорец, — прохрипел Табарин, — это рог Элладана.
Им пришлось отразить еще по два-три удара. После этого претенденты посыпались вниз, по откосу, бросая оружие и падая на осыпях. Их скопище быстро редело под гибельным дождиком из эльфийских стрел…
* * *
Рано утром его разбудил Хаддар.
— Одевайся. Нам опять назначил свидание Первое Звено. Сходи подними Табарина. Пусть среди нас будет хотя бы один целенький.
Беатор все никак не мог привыкнуть к эльфийскому саду, разбитому в самом центре Белой Звезды Севера — города Форноста. Здесь все было устроено так, как прежде в Эрегионе. С той лишь разницей, что сад в Форносте до сих пор не узнал ни холодных ливней поздней осени, ни зимнего снега. Во всем городе могла заметать улицы вьюга, мог хлестать ледяной дождь, да хоть град, буря, ураган, право же… Невидимая стена отделяла сад от внешних неприятностей. Здесь солнце всегда бывало ласковым, здесь всегда цвели цветы и пели птицы.
Посреди сада стоял Дом Братства в виде большой каменной ладьи. Покои Первого Звена занимали место капитанской каюты. Гостевые палаты — по соседству, на корме. Идти — всего ничего, но троица собиралась долго. Табарин помог гондорцу облачиться в парадное рыцарское одеяние. Тот закусил губу и старался ничего не задеть сломанной рукой. Получалось не очень… Лучшие лекари Форноста, в том числе перворожденные и один древний премудрый гном, немало времени потратили на Беатора, но пообещали твердо лишь одно: срастется как надо. Вот только боль уйдет не скоро, а потом еще будет возвращаться, возвращаться и возвращаться… Хаддар, чеканно-белый, как добротное полнолуние, путался в повязках, путался, путался, но от помощи гнома отказался. «Надо привыкать быть здоровым, иначе станешь себя жалеть, а это совсем ни к чему».
Хаддару досталось крепко. Еще не зажила как следует рана, полученная в стычке с гоблинами, а эльф-отступник продырявил его тело еще в трех местах. Чудом не убил. И удалился очень огорченным: надо же, противник стоит на ногах, кровь хлещет из него во все стороны, а добить все никак не получается, живуч капитан Хаддар… Дэлагунд, исполосованный мечами и ножами, казалось, был обречен. Однако тело перворожденного — не чета человеческому. «Там, за гранью, я видел холм, весь поросший лиловыми колокольчиками. И я лег лицом к небу, ожидая, что меня заберут. Но тут мне в голову пришла странная мысль: есть в колокольчиковом холме какая-то незавершенность. Вот если бы здесь росли еще лютики или какие-нибудь другие желтые цветы, тогда… тогда, значит, узор моей судьбы сложился до последней черточки. Но нет, пока нет…» Кэбиджу рассекли щеку и снесли верхушечку правого уха. «Ужасно обидно, сударь Беатор. Ни одна приличная хоббитиха теперь… простите… не взглянет на меня… разве что какая-нибудь вдовушка…» Торн, когда его извлекли из доспехов, был иссиня-черным: железо не дает другому железу разрубить тебя, но от тяжести ударов не спасает. Плюс сломанное ребро. «Синяком больше, синяком меньше… Не о чем говорить». Табарин, бившийся в самой гуще, не получил ни единой царапины. «Почему это по мне не попадали? Обязательно попадали, клянусь бородой. Но крепка, знать, гномья шкура…» И только арнорец был непоправимо мертв. И только Агдалон оказался непоправимо чужим.
…Кирдан не постеснялся обнять их всех по очереди.
— Благодарю… — начал было он, однако Хаддар перебил его:
— Где венец?
— Его уже не существует, капитан. Огненная гора не понадобилась, хватило гномьей кузницы и эльфийских знаний. Сейчас это превратилось в несколько дюжин серебряных бусин.
— Несказанно рад такому известию. И прости, что перебил тебя, мне хотелось сразу узнать суть.
Кирдан покачал головой, показывая, что он понимает и не осуждает. Однако после этого лицо Первого Звена приобрело более суровое и торжественное выражение.
— Я позвал вас, рыцари Братства, дабы сообщить о милости покоя. Ожерелье островов оказывало ее не раз и не два. Людям, гномам или иным существам, отважно служившим Братству и пролившим за него кровь, из снисхождения к их ранам и заслугам нередко предлагается эта милость. Вы можете оставить службу меча отныне и навсегда. Братство поселит вас на одном из островов, где пожелаете, и дарует средства к существованию до самой смерти. Иных наград Ожерелье не знает, и вам должно быть известно об этом. Вы можете не торопиться с ответом.
Хаддар взглянул на своих спутников.
Табарин пожал плечами:
— Мне это не требуется, Торну и подавно. А старина Кэбидж не далее как вчера сказал мне, мол, сударь гном, пора бы нам опять отправляться в дорогу, сидим без дела всего-то несколько дней, а уже тоскливо…
— Беатор?
— Я своей жизнью доволен, капитан. Именно такой она мне и нужна.
Хаддар обратился к Первому Звену:
— Ты видишь ответ. Мы пробудем здесь ровно столько, сколько нужно для окончательного выздоровления. А потом мне понадобятся новые бойцы. И новое дело.
— Что ж, мелодия жизни подсказывала мне: иным ваше решение быть не может. Во всяком случае, пока… Но и слова свои я не могу и не желаю забрать и отменить. Возьмете обещанное, когда потребуется. Вы ведь теперь легенда. Еще одна маленькая легенда Братства.
— Одна строка… — пробормотал Беатор те слова, которые услышал двадцать дней назад в пении Дэлагундовой флейты.
— Что? — переспросил Кирдан Корабел.
— Одна строка из хроник Средиземья.
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ Два меча
Позабыты старые боги,
Позабыты герои времен.
Екатерина ОверчукО находке нового древнего города на севере Челябинской губернии Дмитрий Храбров узнал от своего приятеля-археолога Витюши Костина, вечно пропадавшего в экспедициях. На этот раз Витюша неожиданно приехал в Москву на несколько дней, чтобы пополнить запасы продовольствия для группы археологов, изучающих «страну древних русских городов» на Южном Урале, а заодно и выклянчить кое-какое дополнительное оборудование в институте. И надо же было так случиться, что и Дмитрий в это время оказался в столице. Естественно, они встретились у Витюши дома, — жил археолог в двухкомнатной квартире в новом комплексе «Олимпия» в Строгине, — и тот поведал приятелю историю находки.
Первое из поселений «страны городов» — Аркаим — было обнаружено шестнадцать лет назад экспедицией челябинского археолога Геннадия Борисовича Здановича. Аркаим раскопали быстро и увидели удивительную картину, с воздуха напоминающую структуру живой клетки. С тех пор археологи, привлекшие для своих нужд аэрокосмическую технику, нашли еще двадцать два города эпохи бронзы, то есть существовавшие в степях Урало-Казахстанского региона две с половиной тысячи лет назад.
Открытие такого количества городищ стало сенсацией для историков, в большинстве своем не подозревавших о наличии двадцать пять веков назад в этом районе крупного культурного центра, который не уступал таким признанным центрам раннегородской цивилизации, как Дашлы в Северном Афганистане и Троя VI на северо-западе Малой Азии. Уникальная сохранность городищ и огромная научная ценность находок заставили съехаться на юг Урала многих известных ученых. Не отстал от них и Витюша Костин, доктор археологии, кандидат минералогических наук, в свои сорок три года выглядевший если и не мальчишкой, то скорее студентом, нежели серьезным научным работником. Ему посчастливилось участвовать в раскопках городищ Синташта и Любище, современниц египетского Среднего царства, крито-микенской культуры и Вавилона. И это он обнаружил еще один город на севере аркаимского заповедника, в ста семидесяти километрах от Аркаима, названный в его честь городищем Костьра.
— Он крупнее Аркаима, — похвастался Витюша, довольный произведенным на Дмитрия эффектом. — Его диаметр — больше километра, в то время как у Аркаима и Синташты всего сто пятьдесят — сто восемьдесят метров. И домов в нем насчитывалось не шестьдесят, как у других городов, а триста с лишним. Однако главное — курган в центре. Мы его еще не раскопали, думали, что это VIP-захоронение, но, судя по всему, это какое-то культовое сооружение типа святилища или храма. Я, собственно, и приехал в Москву за интраскопом, чтобы мы могли просветить курган и выяснить, что там внутри. Не хочешь принять участие в раскопках?
Дмитрий задумчиво взвесил в руке бокал с вином.
— Вообще-то предложение заманчивое, хотя у меня уже есть маршрут.
— Куда, если не секрет?
— В Китай. Хочу проверить гипотезу одного моего приятеля, что знаменитая Китайская стена на самом деле строилась не китайцами.
— А кем?
— Древними гиперборейцами. Точнее, их потомками, одной из веточек древних русичей.
— Бредятина!
— Ничуть не бредятина, — не обиделся Дмитрий. — Ты хоть знаешь, что бойницы Китайской стены смотрят не наружу от территории Китая, а наборот? Словно строители ждали как раз набегов с востока. А на востоке-то — Китай.
Витюша допил вино, махнул рукой.
— Может быть, ты и прав. Но уверяю тебя, наши находки интереснее. Мы готовы взять тебя на довольствие. Ты хороший боец и мастер рукопашки, а там у нас не все… — Витюша замялся, почесал нос, понимая, что проговорился.
— Что? — полюбопытствовал Дмитрий.
— Да понимаешь, мешает нам какая-то зараза!
— Местные власти?
— Да нет, они-то как раз не препятствуют, потому как заинтересованы в наших изысканиях, туристы в заповеднике стали приносить доход в местную казну. А вот церковники и бандиты житья не дают.
— Ну, бандиты понятно почему, а церковники? Им-то чем ваши раскопки помешали?
— Не знаю. Только уже трижды к нам наведывались попы и сочувствующие им граждане, то с уговорами, то с угрозами, пытались запретить нам работать. Анафеме предали. — Витюша хихикнул.
— Странно, церковь обычно в мирские дела не вмешивается. Тут что-то не то. Может, место, где вы нашли городище, связано с какой-нибудь древней легендой?
— Есть такая легенда, — закивал Витюша, осоловевший от вина. — Даже не одна. По нашим прикидкам, все города такого типа принадлежат пришедшим с севера язычникам или, точнее, огнепоклонникам— протоарийцам. И вот когда на Руси началось брожение, связанное с насильственным крещением — в том числе огнем и мечом, — якобы в этом месте и произошло последнее сражение между язычниками и христоносцами. Город, который мы копаем, практически весь сгорел. Мы нашли там много разного оружия и даже остатки колесницы.
— А останки воинов?
Витюша взъерошил волосы на голове.
— Тут у нас нестыковка. Ни одного трупа! То есть скелета. Будто никакого сражения не было. И ни одного захоронения! Может, курган и есть братская могила? Хотя, с другой стороны, огнепоклонники своих мертвых не закапывали, а сжигали…
— Действительно, загадка. — Дмитрий почувствовал возбуждающий запах тайны. Подключившаяся интуиция предсказывала немало чудес и открытий, таящихся в найденном городище. Стоило повременить с поездкой в Китай, чтобы поучаствовать вместе с Витюшей в раскопках древнейших русских городов. А поскольку Дмитрий не зависел ни от каких обстоятельств и самостоятельно решал, в какие края ему податься, то и принимал решения без особых колебаний.
Вообще же за его спиной были десятки других экспедиций по Крайнему Северу России и по Дальнему Востоку. Он был не только известным путешественником, но и специалистом по выживанию в экстремальных условиях.
В октябре Дмитрию исполнилось тридцать лет. Был он высок, поджар, сухощав, изредка отпускал усы и бородку — во время экспедиций, носил длинные волосы и выглядел скорее монахом-отшельником, нежели мастером воинских искусств и выживания, способным без запасов воды и пищи преодолеть сотни километров по пустыням, горам и джунглям. В двадцать два года он закончил журфак Московского госуниверситета, полтора года проработал в одной из подмосковных газет, женился, но потом познакомился с путешественником Олегом Северцевым, учеником знаменитого Виталия Сундакова, увлекся путешествиями, и семейная жизнь его закончилась. Жена не захотела ждать мужа неделями, а то и месяцами, да и зарабатывал он как журналист очень мало, не хватало даже на приличную косметику. Правда, впоследствии, когда он стал знаменит, за его репортажи, заметки, статьи и фильмы стали платить значительные деньги, но к этому моменту Дмитрий был уже в разводе.
— Когда ты отправляешься? — спросил он клюющего носом Витюшу.
— Завтра, — ответил археолог заплетающимся языком. — Самолет летит в четырнадцать сорок, из Домодедова.
— Билеты вы уже взяли?
— Билеты не нужны, мы летим на военном транспортнике, Паша Кочергин, я и Эдик Решетов.
— Я с вами.
Витюша оживился.
— Тогда я с утра пойду к начальству, пусть оформит тебе командировку. Успеешь собраться?
— Чего мне успевать? — засмеялся Дмитрий. — Галстук завязал — и в путь. — Он встал. — Все, до завтра, пойду домой, кое-кому позвонить надо и кое с кем повидаться.
— Могу заехать за тобой. Нас институтская машина будет отвозить в аэропорт.
— Прекрасно, буду ждать. Позвони, когда выйдешь из дома.
Дмитрий пожал приятелю руку и направился к выходу, размышляя над Его Величеством Случаем, распоряжающимся судьбами людей. Хотя в глубине души он был уверен, что случай на самом деле — лишь свидетельство непроявленной закономерности. Уже не раз бывало, что он круто менял целеустановки Дмитрия, направляя его по первому впечатлению в иные сферы человеческого знания, которые потом приводили к значительно более впечатляющим результатам.
О том, что протоарии — такие же потомки гиперборейцев, как и древние русичи, — пришли в Южную Азию откуда-то с севера, имелись свидетельства в таких памятниках древнеиранской и древнеиндийской культур, как Ригведа и Авеста. Находка «страны городов» на юге Урала подтверждала эти указания. Но дело было даже не в этом. Дмитрий давно искал следы гиперборейцев, исходив чуть ли не весь Крайний Север России, а теперь ему представилась возможность еще раз убедиться в истинности гипотезы о предках русского рода, пришедших с севера. Город, обнаруженный отрядом Витюши, и в особенности курган, судя по всему уцелевший от современных хищников — «черных» археологов, рыщущих по стране в поисках драгоценностей, вполне могли дать ответы на многие вопросы современной исторической науки. Короче, Дмитрий загорелся идеей поработать в экспедиции Витюши, зная, что такие шансы даются провидением не каждому и не часто. Оставалось найти деньги для поездки, предупредить начальника группы, собравшейся в Китай, что он не полетит с ними, и подготовиться к новому маршруту.
Наутро он был готов к походу.
Однако в назначенный час Витюша не позвонил.
Дмитрий подождал пять минут, десять, пожал плечами, размышляя над своей готовностью мчаться сломя голову на край света ради жажды приключений и открытий, потом почувствовал смутное беспокойство. Несмотря на внешнюю безалаберность и неубедительный вид, Витюша Костин был человеком дела и никогда товарищей не подводил. Он мог задержаться на минуту, на две, в самом крайнем случае на пять, но при этом всегда существовали объективные причины опоздания, о которых он предупреждал заранее. А так как до отлета самолета в Челябинск оставалось всего два с половиной часа, Витюша не мог отнестись к этому обстоятельству безответственно.
Дмитрий набрал номер археолога.
Витюша не ответил. Молчал и его мобильный телефон.
Дмитрий подождал еще несколько минут, прикидывая варианты своих действий, затем быстро упаковался, повесил через плечо чехол с карабином, взял сумку с вещами и спустился во двор, где стоял его старенький «Мицубиси-Паджеро». На время отсутствия в городе Дмитрий обычно загонял его в гараж соседа, старого приятеля отца, что было удобно.
Через полчаса он был в Строгине. Оставил джип возле бело-синего микроавтобуса, напротив центрального входа в подъезд. Консьерж-охранник, сидевший в стеклянной будочке на входе, приветливо махнул ему рукой, зная в лицо.
— Костин не выходил? — спросил Дмитрий.
— У него какие-то гости, — ответил консьерж.
— Да, я знаю, должны были заехать ребята из института. Давно они у него?
— Уж с час. Только это не ребята из института, я тех знаю. Один — священник в рясе, второй — парень в черном кожане, показал удостоверение.
— Какое удостоверение?
— Я особенно не приглядывался, — виновато шмыгнул носом консьерж. — Но оно такое серьезное, малинового цвета, с золотым тиснением. Там еще буквы были РПЦ…
— Русская православная церковь. — Дмитрий хмыкнул. — Никогда не видел у попов никаких удостоверений. Ладно, разберемся.
Он зашел в лифт, нажал кнопку двенадцатого этажа.
Дверь в квартиру Витюши оказалась открытой.
Дмитрий толкнул ее от себя, шагнул в прихожую и увидел летящий в голову предмет. Инстинктивно уклонился, нырнул вниз, действуя на бессознательном уровне. Предмет оказался бейсбольной битой и намеревался достать голову гостя, летая как живой. Лишь потом Дмитрий понял, что бита имеет продолжение — человеческую руку. Последующие события происходили как бы помимо его воли, почти без участия сознания, так как тело подчинилось боевому трансу, выбирая наиболее оптимальные положения и ответы.
Бита вылетела из руки нападавшего и словно сама собой опустилась на его круглую голову. Парень упал. В прихожую выглянул мужчина в рясе, молодой, с усами и бородкой. Глаза у него были не просто прозрачные, а чуть ли не белые, и сквозь недоумение в них просверкивал огонь жестокой воли и угрозы. Он мгновенно понял, что происходит, сунул руку в складки рясы, вытащил длинный тесак, сделал выпад в сторону Дмитрия. Тот едва успел отскочить, но тесак снова устремился к нему, и Храброву пришлось несколько мгновений уворачиваться от лезвия, грозящего проткнуть его насквозь. Затем он двумя ударами выбил у монаха тесак (ну и ножичек, таким слона убить можно!) и от души врезал ему битой по шее, так что тот кувыркнулся через голову, влетая в гостиную.
Дмитрий прыгнул следом и увидел связанного Витюшу, сидящего на полу у дивана. На лице археолога красовались свежие царапины и красноватые припухлости, из носа шла кровь. Его явно допрашивали, хотя что хотели выпытать у него странные пришельцы, нельзя было даже представить. Дмитрий подскочил к нему, приподнял голову. Витюша открыл глаза, застонал.
— Ты?! Хорошо-то как…
Дмитрий оглянулся на монаха. Однако тот вдруг с непостижимой быстротой метнулся из гостиной в прихожую, раздался треск, ругань, шаги, хлопнула дверь. Нежданные гости ретировались. Дмитрий хотел было броситься за ними вдогонку, но стон приятеля остановил его. Он забежал в ванную, намочил полотенце и вытер лицо Витюши, остановил идущую из разбитого носа кровь. Потом развязал археолога и уложил на диван.
— Рассказывай, что тут произошло.
Витюша дотронулся до вспухшего носа, скривился.
— С-сволочи!.. Я даже сказать ничего не успел, сразу по роже получил… Сколько там натикало?
— Без десяти час.
— Черт, опоздаем! — Он, кряхтя, поднялся.
— Тебе в больницу надо.
— Какая, на хрен, больница! Без меня группа останется на бобах, лететь надо. Поехали в аэропорт.
— Ты же говорил, что за тобой должны заехать твои сотрудники.
— План поменялся. Они заезжали утром, забрали мои вещи и направились в одну контору за аппаратурой. Я хотел брать тачку и ехать за тобой, но тут приперлись эти…
— Кто они? Чего от тебя добивались?
— По дороге расскажу… — Витюша наткнулся на тесак, брошенный монахом, с удивлением поднял его. — Ни фига себе! Да это же дага!
Дмитрий подошел ближе.
— Интересная форма у ножичка. Первый раз такой вижу.
— Это испанская дага, кинжал для левой руки, известен с шестнадцатого века. Видишь, лезвие раздвигается. Но у этой даги необычная крестовина, с обратной дужкой. Такие носили, насколько мне помнится, странствующие монахи-миссионеры.
— А вид у кинжала такой, будто его только что изготовили.
— Возможно, это новодел. Давай возьмем с собой?
— Как хочешь, только тащи его сам.
Дмитрий помог приятелю переодеться, и они спустились к машине Храброва.
— Ты на своей? Это славно, не опоздаем. Жми! В аэропорту оставим на стоянке, никуда не денется.
Дмитрий погнал джип через Строгино, выехал на МКАД, надеясь, что им удастся не попасть в пробку.
— Так что они от тебя хотели?
— Сначала потребовали отдать находку. — Витюша потрогал синяк под глазом, криво улыбнулся. — А когда я сказал, что не понимаю, о чем идет речь, они начали меня лупить.
— И монах?
— Особенно монах. У него такие глаза страшные!.. Как у колдуна! — Витюшу передернуло.
— Ничего, я его найду, — пообещал Дмитрий, вспоминая взгляд монаха. — Интересно, что они имели в виду? Ты действительно нашел что-то ценное?
— В том-то и дело, что ничего существенного, если не считать фрагмент скелета, черепки, остатки колесницы и оружие — ножи всякие бронзовые, топоры, палицы… Кстати, их, по-моему, интересовало именно оружие. Когда ты пришел, Ионах допрашивал меня, куда я дел мечи.
— Мечи?
— Именно мечи, — кивнул Витюша.
— Зачем попам мечи?
— Это ты у них спроси.
— А вы их находили?
— Железяк было много, точнее, бронзовых изделий, я кое-что привез в институт, но мечей не было.
— Странная тяга у православных попов к оружию. Ведь наша религия вроде бы запрещает воевать, в отличие от ислама.
— Ты плохо представляешь основы христианской религии. Из всех мировых религий это особо жестокая, чтобы ты знал, ее апологеты убили миллионы людей, носителей иной веры, в том числе славянских язычников.
— При чем тут христианская религия? У нас же православие…
— Православие — калька христианства, прикрывшая и исказившая нашу истинную веру. Принятие христианства, равно как и обращение народа в мифологическую марксистскую веру, убило душу наших языческих и ведических верований. Внедрение этих чуждых инородческих идейных систем сопровождалось таким диким насилием, которое даже не с чем сравнить!
Дмитрий с любопытством покосился на Витюшу, ставшего угрюмым и сердитым.
— Ты так близко это принимаешь к сердцу?
— Потому что давно интересуюсь заговором против русской истории и знаю больше, чем другие. Ранние христиане, вторгшиеся на Русь с помощью предательства князя Владимира. — чтоб ему пусто было! — уничтожили всю нашу корневую элиту, все жреческо-волхвовское сословие. Оттого Русь до сих пор не может оправиться, встать с колен. А ведь была величайшим государством в мире!
— Ты имеешь в виду Гиперборею?
— Гиперборея больше миф, нежели реально существовавшая система. Хотя не исключено, что мы действительно являемся потомками гипербореев. Для меня это огромная загадка — почему исчезла гиперборейская система мироустройства, самая справедливая и светлая. Что случилось? Какой катаклизм ее уничтожил?
— Может быть, война с Атлантидой?
Витюша усмехнулся.
— Это всё легенды.
— Легенды не появляются на пустом месте, — возразил Дмитрий. — Дыма без огня не бывает. Вы ведь тоже свой город нашли, проверяя легенду? Хотя насчет христианства я с тобой согласен. Его вековечное клеймо — космополитизм и обрезание национальных корней, это мне еще мой учитель по русбою говорил.
— Плюс беспримерное религиозное самовозвеличивание и фанатизм, — добавил Витюша. — Чего никогда не было у языческой веры.
— Я не знал, что ты язычник.
— Я не язычник, но Иисус Христос — не мой бог! Давай быстрей, а то опоздаем. Самолет ждать не будет, мы и так с трудом уговорили военных летчиков взять нас с собой.
Дмитрий увеличил скорость.
К самолету они прибежали, когда посадка группы закончилась, и у трапа «Ила-76» маялись на холодном ветру один из членов экипажа и Паша Кочергин, заместитель Витюши.
— Наконец-то! Что случилось? — Паша с удивлением уставился на избитое лицо начальника группы.
— Потом расскажу, — оскалился Витюша.
Они забрались в самолет. Трап убрали. Люк закрылся, и самолет порулил к взлетной полосе. Через двадцать минут они были уже в воздухе.
В Челябинске самолет приземлился в девять часов вечера по местному времени.
Здесь отряд Витюши уже ждал фургон экспедиции, и, погрузившись в него, отряд двинулся в ночь, уставший от не слишком комфортного полета и высадки. Разговаривали мало. Кое-как уместившись в салоне «Баргузина», все умолкли и смежили очи. Забылся и Дмитрий, привыкший к «прелестям» походной жизни. Проснулся он от того, что качка и рев мотора прекратились, фургон остановился.
— Приехали, — сообщил Витюша, звонко шлепнув ладонью по борту машины; он уже вылез и разминался снаружи.
Все выбрались из фургона, потягиваясь и поеживаясь.
Наступило утро.
Солнце только-только показалось над слоем тумана, скрывшего восточный горизонт. Над полями и перелесками также возникли столбы и облака тумана, постепенно поднимаясь вверх и редея. Было прохладно и тихо.
Фургон стоял у подножия низкого холма, заросшего пожелтевшей травой и кустарником. Слева под холмом текла небольшая речушка, обрамленная стенами тростника, камыша и осоки. Справа за холмом к горизонту уходила цепочка таких же холмов, превращаясь на пределе видимости в пологие горы. Там начинались отроги Южного Урала.
— Быстро доехали, — заметил Дмитрий, разминая кисти рук.
— От Челябинска всего сто десять километров, — сказал Витюша. — Нам повезло, болота пересохли, везде можно проехать. До ближайшей деревни вообще двенадцать километров.
— Что за деревня?
— Малый Брень называется, — рассмеялся Паша Кочергин. — Тут в округе много таких названий. Есть и Большой Брень, и Змеиный Погост, и Раменье, и даже Острая Лопа.
Засмеялся и Дмитрий.
— Поизощрялись предки с этимологией, давая названия своим поселениям. Интересно, как они называли это городище? Кстати, где оно?
— На холме, — показал рукой Витюша. — Поднимемся, увидишь. А вообще этот холм пользуется в местном народе дурной славой. В середине пятидесятых здесь стояла церковь, но сгорела после грозы. Ее отстроили, она опять сгорела. С тех пор люди называют это место Горелым Лбом и обходят стороной.
— А вы как сюда попали?
— Решили проверить легенду.
— О битве?
— Да, я тебе рассказывал. Ехали искать поле боя, а нашли городище. Ребята, разгружаемся. Я сейчас пришлю остальных на подмогу.
Витюша взял свою сумку и брезентовый сверток, Дмитрий вытащил свое имущество, они поднялись на холм, и Дмитрий увидел панораму древнего города, точнее, его основания, освобожденного почти полностью от верхнего слоя почвы.
Конечно, он видел много археологических раскопов деревень, поселений, городов и памятников архитектуры прошлых столетий в разных концах земного шара, однако здесь находился древнерусский город, строившийся два с половиной тысячелетия назад, и осознание важности открытия захватывало дух.
— Возможно, это была столица местного царства? — сказал Витюша, покосившись на спутника. — Помимо поселения, крепости и металлургического завода он представлял собой астрономическую обсерваторию немыслимо высокой для тех времен точности. Если знаменитый Стоунхендж фиксировал только шесть позиций Солнца и Луны, то наш Костьра — аж восемнадцать!
— Откуда это известно?
— У меня в группе работает Костя Быструшкин, известный палеоастроном, он и вычислил. Стены города неплохо сохранились, хотя, судя по всему, он и в самом деле был когда-то сожжен.
— Когда?
— Примерно тысячу лет назад. Легенда утверждает, что здесь была битва, и, похоже, это соответствует действительности. Хотя мы пока не определили, с кем воевали наши предки и почему ушли отсюда.
— Холм в центре и есть ваш курган?
— Мог бы не спрашивать.
— Не больно-то он и здоровый.
— Семьдесят метров в диаметре и двадцать один в высоту. Тебе мало?
Дмитрий поскреб макушку.
— Видал я курганы и побольше.
— Ничего, нас и этот устраивает, — не обиделся Витюша. — Пошли, бросим вещи в палатку и позавтракаем. Потом начнем работать.
Они двинулись мимо валов свежевынутой земли к палаточному лагерю археологов. Из палаток — всего их насчитывалось семь одинаковых, трехместных, и одна большая, армейская, где размещались столовая и хозблок, — начали выползать сонные археологи, поднятые Пашей Кочергиным. К вновь прибывшим подошел бородатый мужик неопределенного возраста, со всклокоченными волосами, сунул корявую руку Витюше, потом Дмитрию.
— Бумагу привез? — спросил он хриплым басом.
— Привез, — ответил Витюша. — Знакомься, это Дима Храбров, мой друг, раскапывал Аркаим в свое время. Дима, это Керджали Баймухаметов, специалист по археометаллургии. Что случилось. Джал? У тебя вид, будто ты что-то потерял.
— Вчера вечером опять черноколпачная компания наведывалась, — отвел узкие глаза Баймухаметов. — Пообещала предать нас анафеме и сжечь лагерь.
— Какая делегация? — не понял Дмитрий.
— Монахи, наверное, приходили, — погрустнел Витюша. — Местный приход. Ума не приложу, за что они на нас взъелись. Мы же им ничем не мешаем.
— Значит, мешаете.
— Вот ты и разберись.
— Попробую, — пожал плечами Дмитрий. — Охрана у тебя есть?
— Какая там охрана, — махнул рукой археолог. — Дежурим по ночам по очереди, вот и вся охрана. Денег нет нанять настоящих сторожей.
— Не помогает такая охрана, — пробасил Баймукаметов осуждающе. — Почитай каждую ночь по палаткам кто-то шарит, по раскопу гуляет.
— Вы что же, находки свои не охраняете? — удивился Дмитрий.
— Всё самое ценное сразу увозим, — нехотя сказал Витюша. — А остальное храним в моей палатке. Ко мне тоже залезали? — спросил он у бородатого.
Баймухаметов сплюнул.
— Разрезали брезент в торце, унесли все ножи. Мы еще три штуки нашли.
— А как же сторож? — хмыкнул Дмитрий. — Проспал?
Специалист по палеометаллургии сверкнул глазами, еще раз сплюнул и потопал с холма к машине.
— Он сам и дежурил, — сказал Паша Кочергин.
— Бардак, однако! — сказал Дмитрий, сочувственно глянув на приятеля. — Лагерь охранять надо всерьез. Да и с попами надо бы выяснить отношения.
— Времени все нет сходить к батюшке, пожаловаться.
— Тогда так и будете конфликтовать.
— Надеюсь, не будем, — рассеянно отмахнулся Витюша, занятый мыслями о предстоящей работе. — Не бери в голову, интуиция мне подсказывает, что мы на пороге каких-то открытий. Шлиман раскопал Трою, Зданович — Аркаим, а я, возможно, раскопаю не менее важный центр. Не отставай, путешественник, нас ждут великие дела!
Они направились к большой палатке лагеря, у которой уже дымила походная кухня.
Завтрак оказался таким, какого и ждал Дмитрий. В принципе в походных условиях он и не мог быть иным. На первое — овсяная каша, на второе омлет, на третье ягодный кисель.
— Откуда яйца? — поинтересовался Дмитрий, с удовольствием съевший омлет.
— Деревенские поставляют, — сказал Витюша, на которого то и дело косились члены экспедиции, в основном молодые девушки; синяки на лице их предводителя превращали его в подравшегося спьяну бомжа.
После завтрака он собрал пятиминутное совещание, быстро разобрался с накопившимися деловыми вопросами и повел гостя к кургану, торчавшему посреди раскопок.
Часть кургана была уже удалена, поэтому можно было судить о том, что скрывала под собой песчано-каменистая толща земли. Двухметровой ширины раскоп уперся в стену, сделанную из больших не то каменных, не то саманных блоков, обретших за тысячелетия плотность и твердость камня. В стене был виден проем, представляющий собой то ли ворота, то ли пролом в древнем сооружении, который был явно заделан камнями позднее, так как они отличались по цвету от блоков стены.
— Мы дальше копать не рискнули, — сказал бородатый Баймухаметов, заменявший, очевидно, начальника в его отсутствие. — Мало ли какие сюрпризы там ждут. Но, судя по всему, это никакой не храм, а нечто вроде подворья. Мы прозондировали курган сверху, однако крыши не нащупали.
— Она могла просто рухнуть, — сказал Витюша. — Я привез ЭМ-сканер, сейчас распакуем и начнем просвечивать курган. Копать продолжим, если увидим что-нибудь интересное.
— Могу помочь со сканером, — предложил Дмитрий. — У меня большой опыт работы с подобного рода аппаратурой.
— Заметано, — согласился Витюша. — Ну, начнем, благословясь?
До обеда они занимались просвечиванием кургана, меняя места установки электромагнитного интраскопа, а после обеда составили общую панораму того, что обнаружил прибор. Обнаружил он не так уж и много, хотя интерес исследователей от этого только увеличился. На экране монитора, подключенного к сканеру, компьютер высветил внутренности кургана, и археологи долго разглядывали некую полость в форме вытянутого купола, находившуюся в центре кургана, три двери во внешней стене, охватывающей небольшую площадь с куполом, и какие-то закорючки внутри него, похожие на скелеты людей.
— Это все-таки храм, — сказал Паша Кочергин, налюбовавшись картинкой. — Или, скорее, куд.
— Какой куд? — не понял Дмитрий, увлеченный созерцанием синтезированного изображения не меньше остальных.
— До внедрения княжеско-христианских догматов древние русичи строили не церкви, а куды — святилища богов, по большей части — в форме фаллоса, так как он почитался как самый мощный оберег. Срамной эту форму сделали уже христоносцы. Так вот, в центре кургана, по всей видимости, стоит именно куд.
— А внутри что?
— Докопаемся — узнаем, — уверенно сказал Витюша. — Меня гораздо больше беспокоит вопрос: почему все три входа в стене, которая окружает куд, заделаны камнями?
Дискуссию свернули и вернулись к кургану. К вечеру удалось углубиться внутрь холма на пять метров. Дальше копать не рискнули, для укрепления стен и потолка тоннеля требовались дополнительные крепления, а их в наличии не оказалось. Нужно было идти в ближайший лес и пилить деревья, преимущественно — засохшие, так как они обладали большей прочностью.
Уставший Дмитрий, работавший наравне с другими, сходил к реке, искупался вместе с археологами, с которыми успел сблизиться всего за один день, поужинал и подсел к костру, у которого собрались самые молодые члены экспедиции. Подошел и Витюша, довольный успехами отряда. Вечер наступил тихий и душный, небо заволокли облака, что указывало на скорую перемену погоды. Дмитрий сказал Костину об этом, и Витюша озабоченно посмотрел на облака.
— Да, ты прав, осень на носу. Успеть бы разрыть курган до холодов и дождей.
Девушки, поглядывающие на нового коллегу, принялись петь под гитару «старые песни о главном». Одна из них была очень даже симпатичная, сероглазая, с длинными ресницами, пухлыми губками и ямочками на щеках, и Дмитрий даже подумал, не пригласить ли ее погулять по окрестностям, но постеснялся делать это при всех. «Еще будет время», — подумал он, автоматически отвечая на вопросы приятеля.
Вечер прошел в дружеской обстановке. Попели песни, поговорили о находках, о легенде, которая, по сути, и привела экспедицию в эти края, о предполагаемых открытиях, ждущих археологов в центре кургана, и после десяти часов разошлись по палаткам. Ушла и миловидная сероглазка, которую звали Катей, бросив на Дмитрия заинтересованно-лукавый взгляд. Он понял, что чувства девушки совпадают с его собственными, и сердце забилось сильней. Появился дополнительный стимул сидеть в глуши, далеко от городского уюта, и грызть лопатой землю в надежде добраться до тайны древнего городища.
— Пожалуй, я тоже пойду лягу, — сказал Витюша. — Да и ты ложись, почитай сутки на ногах без отдыху.
— Ничего, я быстро восстанавливаюсь, — сказал Дмитрий, проводив глазами фигурку Кати. — Могу даже подежурить, поохранять лагерь.
— Ладно, оставайся, — легко согласился археолог. — А я предупрежу Пашу, чтобы он сменил тебя в два часа ночи.
— В два рано, часа в четыре.
Витюша хлопнул ладонью по подставленной ладони Храброва и удалился в свою «командирскую» палатку, стоявшую ближе всех к раскопанному городищу. Мелькнул свет фонаря и потух. Начальник экспедиции залез в спальник. Еще некоторое время слышались приглушенные голоса женщин, но и они стихли. На лагерь спустилась тишина. Лишь потрескивали сучья в костре, стреляющие угольками.
Дмитрий посидел немного у костра, глядя на пляшущие языки огня, подбросил веток, мечтая, что вот сейчас к костру выйдет Катя и они заведут беседу, полную намеков и недосказанностей. Однако прошел час, а девушка так и не появилась. Зато вдруг объявился гость, которого Дмитрий не ждал. Случилось это событие так.
Дмитрий обошел лагерь, включив «третий глаз» для обнаружения всякого рода потоков внечувственной информации, предупреждающих появление опасности, ничего подозрительного не учуял и несколько минут простоял у палатки Кати, прислушиваясь к дыханию спящих. Потом поднялся на холм, к городищу, подумав, что его стоит обнести забором и поставить сторожей. Речь все-таки шла уже не о частном интересе, а о государственном, так как найденный город древних русичей являлся ценнейшим источником исторических сведений о прошлом Руси. Вернувшись в лагерь, Дмитрий обнаружил сидящего неподалеку от костра человека.
Это был седой, длинноволосый и длиннобородый старик в белой рубахе, подпоясанной кушаком, и в полосатых штанах, заправленных в мягкие сапоги. Он пошевелил прутиком головешки, стрельнувшие струйками искр, оглянулся на Дмитрия и степенно поднялся, оказавшись выше путешественника чуть ли не на голову.
— Здрав будь, человече, — проговорил он глубоким, бархатистым баритоном, вовсе не похожим на старческий голос.
— Добрый вечер, — слегка поклонился озадаченный Дмитрий. — Присаживайтесь, погрейтесь у костра. Чаю хотите?
— Не откажусь, — усмехнулся в бороду гость.
Дмитрий подвесил над костром котелок с водой, подбросил нарубленных заранее полешков. Достал кружки, заварку, конфеты.
— Вам с сахаром?
— Нет, спасибо.
Где-то в районе раскопок послышался стук, будто на землю упал камень. Оба посмотрели в том направлении.
— Сторожить, однако, треба, — сказал старик укоризненно. — Много лихоимцев кругом, порушить войский покой могут, тогда беды не миновать.
Дмитрий внимательно присмотрелся к гостю.
— Кто вы? И что такое войский покой?
— Издалече я, — уклонился от прямого ответа старик. — Хожу по миру, правду ищу.
— И как, нашли?
— В душах чистых она еще светится, а вообще дело плохо. Потеряла Русь опору в правде-то, поддалась наветам и законам пришлым. Но это отдельный разговор. А войский покой — это по-нонешнему воинский памятник. Сражение в этих местах ведоша тьму лет назад. Отступили мы, а покой остался.
— Кто же с кем сражался?
— Витязи бились, русичи, меж собой, но один — княжеский вой Чернага, веру христианску принявший, а второй — Боривой, защитник рода и веры древней.
Наступило молчание. Дмитрий не знал, как относиться к откровениям ночного гостя, поэтому задавать вопросы не торопился. Спросил через минуту:
— И чем же закончилось сражение?
— Ушли оба в Навь.
— То есть погибли. Что же они не поделили, если оба были русскими воинами?
— Не дележ то был — битва за Веру! — покачал головой старец. — Христианство пришло к нам с огнем и мечом, чтобы мы забыли свое родство с Родными Богами, потеряли связь с ними и подчинились чужому распятому богу. Да только бог ли он? Наши боги — суть Силы Природы, Солнце и Небо, Всё Сущее. Попробуйте-ка распять Солнце — и вы поймете, что такое истинный бог!
— Ну и где же они? — не вытерпел Дмитрий. — Наши боги? Почему отреклись от нас, бросили на произвол судьбы? Значит, бог-пришелец сильнее оказался?
Старец улыбнулся, хлебнул чая, но к конфетам не притронулся.
— Хорошие вопросы задаешь, Дмитрий Олегович. Только нет у меня на них ответов. Сам ищу уже который десяток годков. Но верю, что былое могущество русичей вернется и уйдет с нашей земли чужое семя. Русь достойна лучшего будущего, нежели ее мертво-христианское настоящее, даже если оно православием называется. Да только православие ли это, если ревнители сей веры чужому богу служат?
— Согласен, — сказал Дмитрий. — Хотя так откровенно я еще ни с кем не разговаривал о религии. Но откуда вы знаете мое имя?
— Знаю, Дмитрий Олегович, иначе не пришел бы.
— А зачем рассказываете… о вере, о битве?
— В тебе спит сила русская, — просто ответил старец. — Разбудить ее надобно, и случай скоро представится. Однако и Предупредить тебя не мешало, чтобы знал свои корни и ведал Правду. Курган, который вы разрыли, скрывает не просто могилу двух воинов, но — Родовой Искон! Нельзя допустить, чтобы русским мечом завладел инородец, беда будет великая.
— Каким мечом?
— Мечом витязя Боривоя. Не меч это даже — символ святости и силы. Правильно о нем сказано. — Старец протяжно и с глубокой болью в голосе, так что у Дмитрия мурашки побежали по спине, прочитал:
Скрыт от глаз в тысячелетиях, Спит вдали от всех морей, Сказами увековеченный, Меч твой — Рус-Гиперборей!Помолчали, глядя на затухающий костер. Допили чай.
— Почему я? — спросил наконец Дмитрий. — Почему вы уверены, во-первых, что в кургане лежит меч, а во-вторых, что я тот, кому он предназначен?
— Может, я ошибаюсь, — легко отступил гость; глаза его сверкнули по-особому, и Дмитрий почувствовал, как под черепом прошумел щекотный ветерок. — Но ты можешь справиться, если вспомнишь, что ты внук Даждьбога. — Старец снова нараспев продекламировал:
Сила русская — Вера Вещая, Что от предков нам завещана! Не рабы мы — внуки Даждьбоговы, Громовержца Перуна наследники!Дмитрия качнула странная воздушная — в безветрии — волна. Он изумленно прислушался к себе, встретил взгляд старца, в глазах которого прыгнули веселые искры, и выпрямился, стараясь выглядеть достойно.
— Я постараюсь, — хрустнувшим голосом сказал он. — Хотя не очень понимаю, что должен сделать…
— Сберечь силу, таящуюся в мече. До поры до времени.
— Как?
— Это уже ты решишь сам. Но берегись, охота за мечом уже началась, и тебе будет нелегко. Кстати, ни в коем случае не дотрагивайся до меча Чернаги. Он тоже проводник силы, но способен высосать душу, превратить человека в нежить.
— Тогда его надо уничтожить.
— Нам не удалось сделать это тысячу лет назад. Может, удастся тебе.
— Старец поднялся. — Прощай, Витязь. Я свой пост сдал, теперь твой черед вести Русь.
Встал и Дмитрий, смущенный таким оборотом дела.
— Я не очень понимаю…
— Поймешь позже. Я верю тебе. Сунь-ка руку в огонь.
Дмитрий недоверчиво заглянул в глаза старика, в которых мерцало пламя костра, помедлил и подставил ладонь под язык огня. И не почувствовал боли! Только легкое покалывание! Огонь обтек руку и погас. Дмитрий поднес неповрежденную руку к глазам, перевел взгляд на собеседника…
— Вы… вы…
— Я волхв, — кивнул старец. — И знаю слово. Но и ты не простой путешественник. А теперь прощай.
— Скажите хотя бы, как вас зовут.
— Зови меня Хранителем.
Старец вдруг исчез и объявился уже у палаток, постоял немного — белая светящаяся фигура на фоне темного неба — и пропал в темноте.
— Интересно, мне все это приснилось? — пробормотал Дмитрий глубокомысленно, пытаясь разглядеть старика. — Или крыша поехала?..
Где-то на холме звякнуло о камень железо.
Дмитрий очнулся, сбросил оцепенение. Хотел было подняться к городищу, потом вспомнил совет Хранителя и вернулся к палатке, в которой спал Витюша, вытащил свой карабин и только после этого бесшумно поднялся на холм.
Здесь хозяйничали чужие.
Перейдя на «внутреннее зрение», Дмитрий сразу увидел три светящиеся в инфракрасном диапазоне фигуры, которые время от времени исчезали под землей у кургана с очищенной частью стены. Изредка они включали фонарик, и тогда в слабом отсвете становились видны земляные кучи, лопаты и какие-то серебристые ниточки.
Беззвучно выругавшись, Дмитрий метнулся было к городищу и вдруг почувствовал неприятный холодок, лизнувший спину. Кто-то смотрел в его сторону, невидимый и опасный, как затаившаяся в траве змея. Это был, очевидно, четвертый член шайки, орудовавшей на раскопе, который стоял «на стреме» и стерег подходы к городищу.
Можно было сразу поднять тревогу, пару раз пальнуть из карабина в воздух, чтобы грабители древних могил — а это скорее всего были именно они, «черные» археологи — убрались отсюда и больше не приходили. Но Дмитрий сделал иначе.
Преодолев внутреннее сопротивление, — напрягаться и действовать на пределе боевых кондиций ужасно не хотелось, — он вошел в измененное состояние сознания и бесплотной тенью скользнул к городищу, обходя его справа, ощущая все электрические и ментальные токи природы.
Четвертого члена группы удалось обнаружить через несколько минут: он сидел на каменной глыбе за валом земли, у внешней стены городища, и бдительно следил за окрестностями, почти не шевелясь, лишь изредка ворочая головой, сам напоминая камень. И он тоже знал приемы психофизического восприятия и манипулирования, как и Дмитрий, поэтому появление путешественника не стало для него неожиданностью.
Он резко свистнул, и фонарик в руках его сообщников сразу погас. Они замерли, обратившись в слух.
Сторож спрыгнул с глыбы и вытянул вперед руку, внезапно удлинившуюся каким-то узким предметом. Тусклый блик, отразившийся от предмета, — в лагере археологов ярче вспыхнуло пламя костра — подсказал Дмитрию, что это сабля или шпага.
— Не шали! — негромко проговорил он, направляя на незнакомца в темной накидке или плаще ствол карабина. — Пристрелю!
Человек молча бросился на него с быстротой молнии. Расстояние, разделявшее их, он преодолел за доли секунды. Ошеломленный таким проворством, Дмитрий выстрелил, не целясь. И тотчас же ночной гость изменил направление бега, птицей кинулся с холма вниз, исчез за стеной кустарника. Пропали и его сообщники, кинулись врассыпную, побросав инструмент. В течение двух секунд Дмитрий остался у городища один, сжимая в руках карабин и готовый к новой атаке неизвестных. Однако они не рискнули связываться с охраной раскопок, не зная, сколько людей охраняет городище и чем они вооружены. А Дмитрий вдруг подумал, что плащ атаковавшего его незнакомца больше похож на монашескую рясу. Вспомнился священник, с которым он столкнулся в квартире Витюши. Тот тоже двигался очень быстро и был вооружен кинжалом. Может быть, это один и тот же человек?..
Послышались голоса, сверкнули лучи фонарей. К городищу поднимались разбуженные выстрелом археологи. Первым к Дмитрию подбежал растрепанный Витюша в накинутой на голое тело ветровке.
— Ты стрелял?! Что тут произошло?
— Гости пожаловали. — Дмитрий рассказал о встрече с неизвестными, упустив только известие о визите волхва-Хранителя. — У кургана копались.
— Пошли посмотрим.
Они всей возбужденной компанией приблизились к кургану и увидели брошенные лопаты странной формы — трехзубые и длинные металлические стержни на рукоятках.
— Смотри-ка, зонды. — Паша Кочергин в одних спортивных штанах спрыгнул в раскоп, подсвечивая фонарем, протянул Витюше стержень. — С датчиком сопротивления. У нас таких нет. — Он скрылся в тоннеле, проделанном археологами, который вел к центральной полости кургана. За ним спустился Витюша.
Прошло несколько минут. Археологи, поеживаясь от ночной прохлады, переговаривались между собой, кидая уважительно-заинтересованные взгляды на виновника переполоха. Среди них была и Катя, успевшая надеть рабочий комбинезон. Она тоже посматривала на Дмитрия, и он даже хотел подойти к ней, заговорить, пошутить, но в это время из раскопа вылез Витюша.
— Они успели прокопать два с лишним метра. Хотели, наверное, добраться за ночь до купола.
Девушки окружили начальника экспедиции, забросали вопросами:
— Кто это был?
— Чем они крепили стены и потолок?
— Что им надо?
— Почему они лезут к нам?
— Может, милицию вызвать?
— Стоп! — поднял руки над головой Витюша. — Никакую милицию мы вызывать не будем. Будем сторожить. Я позвоню в институт, объясню ситуацию, и нам кого-нибудь пришлют на помощь. А теперь все по палаткам. Утро вечера мудренее. Останусь я и…
— Я, — вызвался Дмитрий. — Время моего дежурства не закончилось. Не бойтесь, они сюда больше не сунутся.
Археологи, перебрасываясь шутками, гурьбой повалили к лагерю. Катя оглянулась, но Дмитрий этим не воспользовался, так как Витюша держал его под локоть, бормоча что-то о «проклятых гробокопателях, чуявших наживу».
— Надо было давно организовать охрану городища, — сказал Дмитрий со вздохом, — а не экономить деньги.
— Какое финансирование — таков и результат, — окрысился расстроенный Витюша. — Хорошо еще, что мне удалось уговорить начальство взять тебя на полный кошт. Буду звонить, конечно, просить помощи. Действительно, оборзели, гады. Ты хоть кого-нибудь разглядел?
— Темно было, — уклонился от ответа Дмитрий, вспоминая сторожа в монашеской рясе. — Я бы вообще прожектора вокруг городища поставил, пусть освещают территорию. Да пару человек с ружьями. И все проблемы решатся.
— Где мне их взять, прожектора? — пробормотал Витюша. — А тем более охранников с ружьями.
— Пусть Москва побеспокоится по этому поводу. Или местное руководство. Позвони в Челябинск, обрисуй ситуацию, глядишь, и получится.
— Разве что, — поскреб в затылке начальник экспедиции.
Они заново развели костер, повесили котелок.
Археологи разошлись по палаткам, улеглись спать. В лагерь вернулась тишина.
В четыре часа утра Дмитрия и Витюшу сменили Паша Кочергин и Керджали Баймухаметов. Однако покой археологов больше никто не нарушил. Остаток ночи прошел тихо и мирно.
Наутро отряд снова занялся работой. Погода начинала портиться, поднялся ветер, и все спешили, чтобы закончить основной цикл раскопок до осенних дождей.
На кургане работали в основном мужчины, сменяя друг друга. Дмитрий присоединился к ним чуть позже, в десять часов утра, когда тоннель углубился в тело кургана на двенадцать с лишним метров. Трехзубые лопаты, брошенные неизвестными грабителями могил ночью, оказались легкими, прочными и очень удобными. С их помощью работа пошла быстрее, и к обеду археологи вплотную подобрались к центральному куполу сигаровидной формы, внутри которого электромагнитный сканер разглядел чьи-то скелеты. Лишь Дмитрий знал, что означают эти скелеты, но делиться своим знанием он ни с кем не стал, даже с Витюшей.
Пообедали в два часа дня. Дмитрию наконец удалось «случайно» поговорить с Катей, убедиться в том, что и девушке интересно общаться с ним, и это обстоятельство сильно сказалось на его настроении. В положительном смысле, разумеется. Поездка в «страну городов» теперь и вовсе обрела романтический ореол, подчеркивая известную сентенцию — «случайных встреч не бывает». Дмитрий и в самом деле был уверен, что его появление здесь определено судьбой. Витюша — Катя — грабители могил — старец-волхв, — все эти встречи складывались в одну таинственную цепь, которая вела внутрь кургана, к русскому мечу, предназначенному защитить русскую землю от нечисти.
Сомнения в душе Дмитрия насчет собственной принадлежности к некой касте Витязей, о чем говорил Хранитель, почти исчезли. Пришло ощущение грядущего открытия, а вместе с ним — уверенность в своих силах. Путешественник был готов к встрече с предком-Витязем, пусть и не прямым, который тысячу лет назад пытался преградить путь насильственным крестителям земли русской.
К вечеру тоннель достиг цели — стены куда, сложенной из таких же блоков, что и внешняя стена святилища, скрытая толщей земли. Возбужденные археологи хотели немедленно пробить отверстие и заглянуть внутрь купола, но Витюша не разрешил.
— Поздно уже. Завтра продолжим, со свежими силами и ясной головой. Дежурить у раскопа будем парами, по два часа. Первыми пойдут Паша и Слава, потом…
— Несправедливо, Виктор Фомич, — перебила его одна из Девушек отряда, рослая и сильная; ее звали Ниной. — Мы тоже можем дежурить не хуже мужчин. Я и стрелять умею. А то вы вскоре все схудаете, не с кем будет песни петь.
В толпе археологов послышались смешки.
— Давайте и нас назначайте, — поддержала подругу Катя. — Мы можем вместе с мужчинами раскоп охранять. — Она кинула взгляд на Дмитрия.
Археологи снова загалдели, засмеялись, посыпались шутки.
— Хорошо, — уступил подчиненным Витюша. — Пусть будет по-вашему. С десяти до двенадцати подежурю я. Все равно еще не все спать лягут. Потом Славик и… Нинель. Потом…
— Я, — вызвался Дмитрий.
— И я, — подняла руку Катя.
— Не возражаешь? — посмотрел на Храброва Витюша.
— Нет, — быстро сказал Дмитрий.
— Хорошо. С четырех до шести пойдут Паша и Мария, а после шести Баймухаметов и Софико. Вопросы есть?
— А мы? — раздались недовольные голоса.
— Нам здесь не одну ночь гужеваться, успеете все подежурить, пока не пришлют охрану из центра. Всё, пошли ужинать.
В лагерь Дмитрий возвращался уже вместе с Катей. Стеснение куда-то ушло, он был своим среди своих и чувствовал себя легко и непринужденно, отвечая на вопросы и шутки подруг Кати с неожиданным даже для себя самого юмором. Спать он так и не лег. Быстро восстановил силы, «подзарядившись» токами природы по методу Шерстенникова, посидел с Витюшей у костра, пока остальные купались в реке и приводили себя в порядок, а потом подошла Катя, переодетая в чистый джинсовый костюмчик, и все остальные заботы и мысли отошли на второй план.
Витюша в двенадцать часов сходил к городищу в сопровождении Паши и лег спать. На дежурство заступили Кочергин плюс худенький и подвижный Славик Путин, которого все за глаза прозвали «президентом» за сходство с настоящим главой государства. Они развели у городища второй костер, и таким образом Дмитрий и Катя оказались предоставленными самим себе.
Сначала свою жизненную историю поведала девушка, недавно закончившая Московский историко-археологический институт и попавшая в экспедицию Витюши Костина по распределению. Это был ее первый самостоятельный «профессиональный» выезд на раскопки.
Затем настал черед Дмитрия. Время текло незаметно, два часа пролетели как один миг. Оба не скрывали своего интереса друг к другу, и Дмитрий вскоре понял, что встретил ту, которую ждал много лет.
В два часа ночи они сменили Пашу и Славика и, не сговариваясь, обошли городище, постояли у кургана, освещая фонарем устье свежего тоннеля в его склоне. Вернулись к костру, делясь впечатлениями о находках на раскопе. Поцеловались они как-то совершенно случайно, когда шутливо отпихивали друг друга от нагретого камня, где сидели до них первые сторожа. Наверное, Дмитрий мог бы пойти и дальше, возбужденный и разгоряченный близостью с красивой и податливой девушкой, но не рискнул испытать разочарование, боясь обидеть ее. Да и нужны ему были не флирт ради флирта, не короткая, ни к чему не обязывающая вспышка страсти, а нечто большее, что связало бы их на всю жизнь. Хотя об этом в данный момент он тоже не думал, просто чувствовал грань, которую переступать был не вправе.
Они целовались бы, наверное, долго, если бы не отрезвившее Дмитрия острое чувство тревоги. Словно невидимая птица спикировала вдруг из тучи ему на голову и клюнула в спину. Он оторвался от Кати, замер, сжимая ее в объятиях и прислушиваясь к ночной тишине.
— Ты что? — не поняла девушка.
— Тихо! — выговорил он ей на ухо одними губами. — Кто-то смотрит на нас… не шевелись… делай вид, что ничего не происходит…
— Я и в самом деле ничего…
— Молчи… через минуту я пойду к раскопу, а ты останешься… подбросишь веток… потом спустишься в лагерь и разбудишь Витюшу… э-э, Виктора Фомича… В случае чего — стреляй из карабина, вот он лежит.
— Поняла… но лучше я пойду с…
— Делай, как я сказал!
— Хорошо, — уступила девушка.
Дмитрий легонько поцеловал ее в губы, отодвинул и громко произнес:
— Посиди, я еще дровишек принесу и бутылку вина, у меня есть в загашнике.
Нарочито гремя камнями, он спустился вниз, но к лагерю не пошел, метнулся к реке, обходя холм, и поднялся на него с Другой стороны, переходя в боевое трансовое состояние.
Он не ошибся со своими предположениями. Городище снова навестили непрошеные гости. Возможно, это были те самые «гробокопатели», что потревожили сон археологов прошлой ночью. Они бесшумно подкрались к кургану в центре городища и спустились в тоннель, прорытый археологами.
Сколько их было всего, Дмитрий не знал, но оценил по напряжению ментального поля — человека три-четыре. И один из них снова играл роль часового. Он прятался за валом земли и смотрел на костер, возле которого сиротливо сидела Катя.
«Ну, блин, шакалы, я вам покажу кузькину мать! — поклялся в душе Дмитрий. — Навек закаетесь древние могилы грабить!»
Превратившись в тень, он за несколько мгновений переместился к сторожу банды и, несмотря на то, что тот в последний момент учуял опасность и оглянулся, одним ударом в лоб отправил его в глубокое беспамятство.
Вопреки ожиданиям, мужик оказался не монахом, а… милиционером в форме, с погонами сержанта. Каким образом гробокопателям удалось переманить его на свою сторону, было непонятно. Хотя скорее всего здесь, как и во всех подобных случаях, главную роль играли деньги. Стражи правопорядка не брезговали никаким заработком.
Сержант был вооружен штатным «Макаровым» и тесаком наподобие того, что Дмитрий добыл в бою с монахом в квартире Витюши. Вынув обойму, Дмитрий выбросил ее в кусты, вложил пистолет в руку владельца и в прежнем темпе вернулся к кургану.
Его не ждали.
Троица, возможно, та же, что посетила городище прошлой ночью, продолжала увлеченно возиться в раскопе, вынося наружу камни и блоки; очевидно, грабители могил уже разобрали часть стены купола. Подождав, когда из тоннеля покажется очередной «археолог», Дмитрий свалился ему как снег на голову и особым приемом зажал шею. Подергавшись немного, «археолог» потерял сознание. Не теряя ни секунды, Дмитрий шмыгнул в отверстие тоннеля, освещенное где-то в глубине рассеянным светом фонаря, и встретил еще одного «археолога», волокущего полуметровый блок с отбитым краем. Он был одет в пятнистый комбинезон и вязаную шапочку, натянутую на уши. Увидев перед собой Храброва, «археолог» не сразу сообразил, кто перед ним, и Дмитрий воспользовался секундной нерасторопностью копателя. Прыгнув ему навстречу, он ударом в подбородок отбросил парня назад. «Археолог» опрокинулся на спину, роняя тяжелый блок себе же на ногу. Раздался тихий вскрик, и все стихло.
— Что там у вас? — прошипел, оборачиваясь, четвертый член шайки, который вынимал блоки из стены купола. Он тоже был одет в камуфляж-комбинезон, разве что на голове носил не вязаную шапочку, а танковый шлем.
В стене, освещенной фонарем, виднелось метровой ширины отверстие. Грабителям оставалось чуть расширить проход, чтобы войти в святилище под курганом.
— Привет, — вежливо проговорил Дмитрий. — Вас разве не учили в школе, что воровать нельзя?
«Танкист» перестал вытаскивать из кладки блок, сунул руку за пазуху, и Дмитрий в прыжке нанес ему удар по руке, а затем в голову. Чужак, уже немолодой, в годах, заросший седой щетиной, ударился затылком о стену, закатил глаза, сполз на неровный пол тоннеля. Из его руки выпал пистолет «ТТ».
— Это вам не мелочь по карманам тырить, — назидательно сказал Дмитрий, проделывая ту же процедуру, что и две минуты назад, то есть вынимая из пистолета обойму. Затем поднял прислоненный к стене фонарь и посветил в отверстие, проделанное ночными гостями, из которого в тоннель просачивались запахи пыли, смолы и химической горечи. Странные запахи, честно говоря.
Луч фонаря высветил абсолютно пустое помещение со стенами, испещренными какой-то рунической вязью, и две застывшие друг против друга фигуры в старинных воинских доспехах. Лишь приглядевшись, Дмитрий понял, что эти воины убили друг друга, да так и остались сидеть — на одном колене, вонзив в тело врага свой меч.
— Пресвятая матерь! — прошептал Дмитрий. — Не соврал Хранитель! Здесь и в самом деле была битва…
Под чьими-то ногами захрустел в тоннеле песок.
Холодея, Дмитрий резко обернулся, осветив подкрадывающегося сзади человека, увидел загородившуюся от света ладонью Катю с карабином в другой руке, с облегчением расслабился.
— Я же приказал тебе сидеть у костра!
— Мне показалось, что тебе требуется помощь, — виновато шмыгнула носом девушка. — Да и страшно там одной… Кто это? — Она увидела лежащие в тоннеле тела «археологов».
— Любители антиквариата, — усмехнулся Дмитрий.
— Они… живы?
— Живы, живы, только испугались маленько, сознание потеряли от страха. Там наверху третий лежит, разве ты его не заметила?
— Нет.
— Сбежал, наверное, паразит. Ладно, фиг с ним, иди зови наших.
— Можно я тоже посмотрю, что там? — Катя принюхалась, сморщив носик. — Как здесь странно пахнет… химией…
— Этот куд не вскрывали тыщу лет. — Дмитрий подвинулся, подсветил фонарем. — Смотри.
Катя заглянула в дыру и вдруг одним движением впорхнула в помещение, прислонила к стене карабин, всплеснула руками.
— Господи, это же древнерусские воины! Как живые!
— Не трогай ничего! — Дмитрий был вынужден пролезть в святилище вслед за девушкой. — Прошла тьма времени, как они тут бились, но кто знает, какие ловушки оставили предки, чтобы уберечь могилу.
— Какие на них доспехи! Бармица… кольчуга… наручи…
— Сама сказала — это древнерусские доспехи, и надписи на стенах сделаны славянской вязью, глаголицей. Даже, наверное, прочитать можно.
— Почему они убили друг друга? Они же русские…
— Не знаю.
— А почему их похоронили в такой позе? Они даже не сгнили и не высохли! Забальзамированы?
— Возможно, была использована какая-то магия.
— Я в магию не верю, — отмахнулась девушка, жадно разглядывая неподвижные фигуры. — Посмотри, один из них, наверное, знатный воин, а второй нет, у него и доспехи попроще, без украшений и наворотов. И рукоять меча совсем простая, ремешком обтянута. А у того — с золотом и драгоценными камнями.
— Это Чернага, княжеский сотник. А его противник — русский светлый воин Боривой.
— Откуда ты знаешь?
— Сорока на хвосте весточку принесла.
Дмитрий подошел ближе, разглядывая мечи, которыми воины проткнули друг друга. Оба меча — черный и льдисто-металлический — свободно пронзили кольчуги противника и вышли из спины того и другого бойца.
Дмитрий протянул руку к застывшему Боривою, лицо которого, в отличие от искаженного лица противника, было спокойным и умиротворенным, хотел потрогать меч, но почувствовал ледяной озноб, отдернул руку.
И тотчас же в святилище объявился новый гость, монах в рясе, с мощным фонарем в одной руке и помповым ружьем в другой. Дмитрий узнал его — это был тот самый монах, что навещал Витюшу Костина в Москве и который, очевидно, сидел в засаде у городища прошлой ночью.
— Стоять! — каркнул он, красноречиво оскалясь. — Назад!
Дмитрий послушно попятился. Ему показалось, что от последних слов монаха меч Боривоя засветился изнутри и погас.
— Ты тоже! — Ствол ружья повернулся в сторону Кати.
— Кто вы такой? — возмутилась девушка. — По какому праву командуете? Что вам здесь надо?
— Назад, я сказал!
— Отойди, — мягко посоветовал Дмитрий, поискав глазами карабин и жалея, что тот недоступен. — Это прямой потомок распинателей.
— Кто?!
— У тебя шибко умный дружок, — скривил губы монах. — Чересчур умный. Такие долго не живут. К стене!
— Да что вам нужно?!
— Ему нужен меч, — сказал Дмитрий.
Оскал монаха стал шире.
— Правильно, господин Храбров. Мне нужен Меч Крестителя. Он еще послужит нашему Делу. А вот ты зря встрял в эту историю, да и знаешь больше, чем нужно. Придется оставить тебя здесь. — Монах хихикнул. — Еще на тысячу лет. И девку твою тоже.
— Вы не посмеете… — дрожащим голосом проговорила Катя, отступая вдоль стены к проему, из которого вылез гость.
— Стой, где стоишь, а то умрешь раньше времени. А ты, мастер, встань на колени, руки на затылок.
Дмитрий помедлил, прикидывая свои возможности. Он мог бы в прыжке достать гостя, но вряд ли это позволило бы ему увернуться от пули.
— На колени! Быстро!
Дмитрий опустился на одно колено.
Монах перестал сверлить его яростными белыми глазами, подошел к застывшим в последнем движении воинам, оглядел их, ощерясь, и вдруг толкнул ближайшего к нему в плечо. Тела воинов со стуком упали на пол святилища и… рассыпались в прах! Зазвенели раскатившиеся по полу мечи.
Дмитрий вздрогнул.
Тихо вскрикнула Катя, сделав еще один маленький шажок к дыре в стене.
Монах сбросил с головы монашеский клобук, открывая бритый наголо череп, шевельнул носком сапога меч Чернаги, длинный, черный, с богатым эфесом, потом осенил себя крестом и одним движением поднял меч над головой. С рукояти меча стекла ему на лоб голубая электрическая змейка. Он вскрикнул, пошатнулся, однако на ногах удержался. Глаза его засияли, как два рубина.
— Он мой! — прорычал монах хрипло. — Он мой! Теперь я — Креститель! Я буду карать и миловать! Я довершу то, что начали предки, да не закончили! Я стану…
Его речь прервал выстрел.
Пуля вжикнула мимо уха монаха, влипла в стену.
Катя успела-таки схватить карабин, играя испуганную до смерти женщину.
Монах оглянулся в недоумении, ощерился, вытянул в сторону девушки меч.
— Отдай!
— Держи его на мушке! — быстро сказал Дмитрий, вскакивая. — Этот новоявленный Навуходоносор запросто может отправить нас на тот свет!
С кончика черного меча сорвалась молния, угодила прямо в карабин Кати. Та вскрикнула, отшатнулась, бледнея и роняя оружие, и осела по стене на пол. Закрыла глаза.
— Не-е-ет!..
Луч фонаря уперся в Дмитрия.
— Теперь твоя очередь, мастер. Сможешь ли ты теперь посоревноваться со мной?
Новая молния сорвалась с кончика меча.
Но Дмитрий уже подчинялся трансу боя и начал действовать, не давая противнику времени насладиться победой.
Прыжок в сторону, нырок на землю, перекат…
Молния опалила волосы на виске, но пролетела мимо.
Еще прыжок.
Рукоять меча Боривоя легла в ладонь. Судорога свела руку, сладкая боль вонзилась в сердце, аж искры из глаз посыпались! И тут же в голову хлынула удивительная холодная ясность, а в мышцы — неукротимая жгучая сила. Это включился меч, доверившись человеку, который взял на себя ответственность за будущее Рода.
— Умри! — выдохнул монах, бросаясь к лежащему Дмитрию, обрушил на него черный меч.
Клинки скрестились, высекая длинные шипящие искры.
Дмитрий сделал разножку и подбил противника под колено, заставив его отступить. Вскочил разгибом вперед, отбил еще один выпад и ударил монаха ногой в грудь.
Он давно не брал в руки холодное оружие, со времени ухода из Школы и тренировок с учителем, но верил, что тело само вспомнит приемы фехтования и ответит адекватно. А еще он чувствовал необыкновенную легкость в теле, уверенность и силу, стекающую по мечу в руку и дальше — в сердце.
Глаза монаха метнули молнии.
Дмитрий ощутил удар в лоб, зрение на секунду помутилось.
Дьявол! Это не простой монах, это колдун! Так он запросто может подобраться ближе и укокошить, не ведая стыда!
Дмитрий отскочил, автоматически выполняя «мельницу» — прием веерной защиты. Прием сработал. Монах вынужден был отступить. Но тут же снова бросился в бой.
Длился этот бой не меньше четверти часа.
Фонарь, упавший на пол святилища, не погас и помогал бойцам видеть друг друга. Хотя в состоянии боевого транса Дмитрий мог обходиться и вообще без света. Впрочем, как и его могучий противник.
Если бы не умение уходить в пустоту измененного состояния сознания и не хорошая школа кэндо, которую прошел в свое время путешественник, он не смог бы на равных сражаться с новым хозяином черного меча. Монах же рубился умело и яростно, его тоже подпитывала энергия меча, и Дмитрию пришлось какое-то время биться на пределе физических и психических возможностей, отбивая не только выпады меча, но и магические удары противника. Лишь научившись впитывать силу своего меча и предвидеть атаки монаха, он смог наконец остановить беспрестанные атаки противника.
Однажды он чуть не поплатился жизнью, отвлекшись на застонавшую Катю (жива, душа моя!), и получил удар в бок, еле уйдя от выпада. Меч монаха скользнул по ребру, разрезал кожу и вспорол мышцы. Особой боли в горячке боя Дмитрий не почувствовал, но понял, что с потерей крови потеряет и жизнь, и удвоил скорость движений. Но и монах не собирался уступать, налитый злобой и бычьей силой, понимая, что время играет против него. В любой момент к кургану могли прибежать археологи, и тогда ему пришлось бы или убивать всех, что вряд ли было выполнимо, либо бежать.
Кровь продолжала струиться из раны, и Дмитрий решил использовать тридцать восьмую китайскую стратагему, которая позволяла обмануть противника, заставить его играть по твоим правилам. Он сделал вид, что теряет силы, стал отступать, спотыкаться, уклоняться, неловко атаковать, и монах, воспрянувший духом, усилил натиск.
Удар, удар, звон мечей, снопы искр, гул, свистящее дыхание… силы на исходе… держись, парень, конец близок…
Еще удар!
Дмитрий неловко отклонился, упал на колено…
Монах взревел, поднимая меч, бросился на него… и споткнулся о протянутую ногу Кати. Качнулся вбок, вытаращив глаза. В то же мгновение Дмитрий взвился вверх, на лету выбил меч из руки противника и обратным движением своего меча отрубил монаху кисть правой руки.
Монах взвыл, кинулся было за упавшим мечом, норовя схватить его левой рукой, но удар ногой в лицо отбросил его к стене. Он упруго вскочил — из раны толчком выплеснулась кровь, — снова закричал… и метнулся к дыре входа, исчез в ней.
— Я найду тебя! — донесся его удаляющийся голос, и все стихло.
Дмитрий сел на пол, ощутив волну слабости. Посмотрел на девушку, подтянувшую к груди колени и глядевшую на него огромными черными глазами.
— Ты ранен?!
— Пустяки. Спасибо за помощь. Ты вовремя подставила ему ногу.
Катя нашла в себе силы подползти к нему, обняла.
— Он мог нас… убить!
— Мог, — согласился Дмитрий, чувствуя в ушах нарастающий звон. — Но не смог.
— Я не знала, что ты можешь так сражаться…
— Я еще вязать могу, — улыбнулся Дмитрий через силу, — и первое готовить. Пойдешь за меня замуж?
— Пойду, — сказала Катя. И поцеловала его. Губы у нее были холодные как лед, пришлось их отогревать.
Потом она перевязала ему рану собственной кофточкой, и они с трудом поднялись на ноги.
— Что будем делать?
— Будить наших. Только сначала спрячем мечи.
— Зачем?
— Это не простые мечи, в них спит сила. Они не должны попасть в плохие руки.
— Мы же не имеем права…
— Имеем! — твердо сказал Дмитрий. — Там в коридоре я видел мешок, принеси его. Но сначала посмотри, где эти… заговорщики.
Катя покачала головой, однако послушалась и вскоре принесла обычный холщовый мешок, в котором лежали какие-то крючья, мотки бечевы, нитяные перчатки и рулон толстой полиэтиленовой пленки черного цвета.
— Там никого нет.
— Сбежали со своим командиром. Тем лучше.
Дмитрий вытряхнул содержимое мешка на пол, удовлетворенно кивнул.
— Они знали, за чем шли, и подготовились.
Он полюбовался своим оставшимся чистым, сверкающим мечом, с неохотой опустил его.
— Дай подержать, — загорелась Катя.
— Не стоит, — покачал он головой. — Это оружие мужчин.
Натянув перчатки, он осторожно завернул мечи по отдельности в пленку, перевязал бечевой.
— Пошли.
В тоннеле ему стало плохо от слабости, но Катя поддержала его и помогла вылезти из раскопа.
— Что теперь?
— Черный меч мы притопим в реке, а второй я заберу с собой.
— Зачем?
— Ты мне веришь?
— Верю.
— Тогда помогай мне и ничего не спрашивай. Обещаю позже все рассказать, все, что знаю сам. Только никому ни слова! Это очень важно.
Катя подошла к нему и молча обняла.
В облаках над головой обозначился просвет, на замерших людей глянули яркие звезды. А в душе Дмитрия проросла вдруг уверенность, что все только начинается и что его спокойной — в каком-то смысле — жизни путешественника пришел конец. Мечи, олицетворявшие собой два разных подхода к жизни и к человеку, две разных веры, вышли на волю. Сможет ли он сохранить их?
Сверток в руке Дмитрия шевельнулся как живой. Тоненький лучик невидимого света протек от меча Боривоя по руке к голове путешественника. Меч словно успокаивал вновь обретенного друга. Затем волна света прянула от него во все стороны, осветила городище и погасла. Изумленные молодые люди молча смотрели на меч и молчали. Они не знали, что сказал им русский меч, но в силу врожденного оптимизма еще верили, что все могут изменить к лучшему.
В этой жизни.
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ Тайранский перевал
Глава 1
Стротан Туриг смотрел, как омерзительная голубая змея хархской пехоты медленно ползет по извивам его Новой дороги, и мучительно сознавал собственную вину. Новая дорога была на самом деле новой и лучшей дорогой через протянувшийся с севера на юг Большой хребет. Именно он, Туриг, проложил эту дорогу. Это его усилиями был расчищен Тайранский перевал. Это именно по его проекту построен надежный каменный мост через Щель взамен старого канатного.
А теперь этот труд должен погубить его Реану. Его мирную, немного беспечную, веселую Реану. Именно он, стротан Туриг, в строительной гордыне безнадежно сгубил свою страну. Если Всевидящий Реорн в следующей жизни сделает Турига в наказание червем, это будет справедливо. Несомненно, справедливо…
Впрочем, Реорн его, возможно, и простит, но как Туриг простит себя сам? Он представил горящие дома, текущую кровь, предсмертные крики женщин и детей. И надо всем этим грохот деревянных хархских подошв…
Червем, Реорн! Только червем!
Единственное, чего он хотел и мог сейчас сделать, — это умереть здесь, на Тайранском перевале. Смерть была, несомненно, лучшим выходом. Туриг истово молился Реорну, и слезы текли по его щекам.
Кто-то положил руку ему на плечо. Туриг вздрогнул от неожиданности и обернулся. Это был мальчик-бооринг Фрохальк, родственник жены его брата Хорига. Сама Рудильда умерла, но ее боорские родичи все еще были частыми гостями семьи реанского тана. Хотя многие во дворце и смотрели на это косо — боорингов не жаловали.
Фрохальк серьезно и немного торжественно смотрел на Турига.
— Мы что, встанем здесь, у этого моста?
— У моста? — Туриг вздохнул. — Послушай-ка, мальчишка, зачем тебе умирать? Это я должен остаться здесь у неразумно построенного мною моста. Я здесь… один… — Турига душили слезы. — Если доберешься до своего деда Хродрига, расскажи ему все. Может быть, старый скурд Хродриг их остановит. Передай, что я прошу его отомстить хархам за Реану. Иди же!..
— Стротан, почему ты меня прогоняешь? Мы ведь должны остановить Харх? Используй же меня в сражении. Я буду полезен. Обещаю.
— К чему лишние жертвы? — махнул рукой Туриг. — Мы не в силах сдержать хархов. — Он указал Фрохальку на неотвратимо поднимающуюся по серпантину дороги вражескую колонну. — Их много, как муравьев. А у меня всего полторы сотни человек. И только треть — солдаты. Советую быстрее уносить ноги, Фрохальк!
Туриг отвернулся, стыдясь своих слез.
— Стротан, не надо! Не надо… — пробормотал Фрохальк. — Я остановлю Харх. Я знаю, как это сделать. А предателя Бокэция тан Хориг должен повесить на площади перед дворцом. После этого никто и никогда не посмеет больше попрекнуть Двесциев боорской кровью. Народ Реаны узнает, какие из боорингов воины!..
Два дня назад стротан Бокэций предательски увел готовые к бою полки на юг, оставив практически беззащитной всю центральную область Реаны. Тан Хориг, узнав об этом, тут же пустился ему вслед, чтобы вернуть войска. Родному брату тана стротану Туригу было поручено разрушить Тайранский мост и сдерживать хархов до подхода армии. Однако исчадия ада хархи оказались слишком быстры. Судя по всему, Бокэций и стоящие за ним южные магнаты добились-таки своего. Династия Двесциев больше не будет править Реаной. Не будет и самой Реаны. Ее вытопчут хархи. Неужели глупцы этого не понимают?
— Туриг, мы остановим врагов, — зудел над ухом глупый Фрохальк.
— О Великий Реорн! — вспыхнул стротан. — Как, как мы их задержим?! Как? Фрохальк, пойми, даже вся наша реанская армия не в силах остановить их, если они спустятся вниз. Здесь, у Щели, это еще возможно. Если бы я пришел вовремя… А теперь Реана погибла. Полностью. Безвозвратно… — Туриг перестал стесняться катившихся по щекам слез.
— Еще не погибла, стротан! Мы встанем насмерть и, может быть, одержим победу — я знаю особый способ…
Этот Фрохальк поистине был родственником Рудильды. Туриг хорошо помнил ее неукротимый нрав. Ее яростные вспышки стоили множества седых волос его брату тану Хоригу. Говорили, что их с Хоригом боорская прабабка Агульда была не лучше.
— Юноша, настоящий воин должен уметь отступить, когда противник сильнее. В тебе кипит кровь, толкая тебя на безнадежную битву. Ну скажи мне, как нам задержать хархов, как? Если твой совет будет дельным, брат Хориг сделает тебя своим стротаном! Я обещаю!
— Ты, наверное, испытываешь меня, Туриг?.. Зачем сокскурду предлагать жалкую должность реанского стротана? Я ведь внук Хродрига, скурда Бооры! Придет время, и я буду драться за право надеть белый пояс скурда. А пока… Просто прошу, доверь мне командовать твоими людьми! Я задержу хархов. И, возможно, даже до завтрашнего заката.
— Это не твоя война, Фрохальк. Зачем тебе умирать?
— Моя, Туриг! Моя тоже. Ты знаешь, что наш бог, Солнечный Копьеносец Воорг, с начала дней воюет с Отцом Тьмы, Змеем Свеиргом. Для боорского воина встать на сторону Воорга — святой долг и большая честь. Но, стротан, запомни, если в битве со Свеиргом воин совершает подвиг, в своем посмертии он будет жить в чертогах Воорга. Для воина это — счастье! Не лишай меня этого. Прошу!
— При чем тут Свеирг? Известно, что хархи — дети Йирха. Они и сами это говорят.
— Иирх! Туриг, хархи молятся своему Червю Иирху, когда заходит солнце. Во тьме. Нетрудно догадаться, что их Иирх — всего лишь сменивший обличие Свеирг. В Бооре это уже многие поняли. Стротан Туриг, позволь мне совершить подвиг!
— Хм-м… Мне жаль тебя, мальчик. Но…
— Я — твой должник, Туриг! Ты скоро увидишь, как дети Свеирга побегут. Побегут, словно дворовые псы, по ошибке напавшие на волка. Я сам… Позволь командовать твоими людьми. И я обещаю, что свершу подвиг!
— Великий Реорн! Командуй. Муций! Муций!..
Капитан Муций служил в охране стротана Турига, сколько себя помнил. Начал еще мальчишкой. Отец, капитан гвардии Хорига Доброго, как-то показал ему младшего сына тана и объяснил, как и что надо делать. Шестилетний Муций все понял. Он стал защитой Турига в жестоких детских играх. Словно терпеливая нянька, он утешал его, рыдающего, в минуты горестей. Расстались они на время только тогда, когда Турига отослали в Хермонскую Академию. Муций за это время успел съездить в Нипею и с отличием окончил там Школу Воинов.
Но молодой Туриг его подвел. Он возвратился домой, так и не получив вожделенное звание сотхера. Наверное, чего-то ему для этого недоставало.
А без звания сотхера стать таном Туриг уже не мог. Никогда. Даже в случае — упаси Реорн! — если с его старшим братом что-нибудь случится. Муций в душе тогда простил Турига. Он и сам понимал — для слабого и честного Турига танство противопоказано. Особенно в Реане.
Строителем же Туриг стал поистине великим. Мосты, портовые причалы и иные сооружения, возводимые под его руководством, поднимались словно сами собой. Туриг вкладывал в работу всю душу.
Муций постепенно научился гордиться своим стротаном. Но что он мог чувствовать сейчас, когда Туриг категорически отказался уходить с перевала и сам искал здесь смерти? Да еще и подчинил Муция этому мальчишке. Такое не только обидно, но и оскорбительно…
Однако капитан Муций не думал сдаваться на милость обстоятельств. Бороться надо до конца. Так учили его в Школе Воинов.
Он хорошо знал, что в бою переживет мальчишку-бооринга. И вообще капитан Муций не позволит своему стротану Туригу просто так умереть под хархским мечом.
Фрохальк поставил лучников широким полукругом у входа на Тайранский мост, а гвардейцев выстроил в три шеренги перед ними. Первая шеренга рубит мечами. Вторая колет длинными копьями. Третья шеренга — резерв.
Фрохальк, надевший белый панцирь из секретного боорского металла, залез на огромный валун.
— Реанские воины! — сказал он. — Через этот мост вскоре двинутся враги. А здесь, е этой стороны моста, ваша земля. Ни одного харха не должны мы пропустить на реанскую землю. Даже если для этого придется сложить у моста свои головы!.. — Фрохальк пристально глядел в лица замерших солдат. Никто из стоявших не отводил взгляда. — Мы сделаем так. Я встану один на том конце моста. Я буду страшен! Но вы не должны меня бояться. Вы будете мне помогать. Если некоторые хархи прорвутся сюда, вы должны будете убить их. Вы!.. — повернулся он к вольно стоящим лучникам. — Вы будете следить, чтобы хархи не подобрались ко мне сзади. Для вас это главная задача! Есть вопросы?
Вопросов не было. Каждый из солдат уже успел помолиться и смирился с неизбежной смертью.
Туриг стоял, привалившись к огромному обломку скалы, и смотрел, как голова голубой змеи-колонны осторожно продвигается по проложенному его руками серпантину. Выше, выше и выше. Еще немного, и она скроется за дальними скалами. Туриг знал — там, за скалами, скрывается еще один виток серпантина. И все. Преодолев его, хархи окажутся наверху.
Наверху.
— О, Мудрый Реорн, не ввергай мою душу в Бездну Незнаемую! Умоляю, прошу!..
Муций видел слезы, текущие из глаз стротана Турига, и сердце его сжималось от жалости. Проклятые хархи еще заплатят за эти слезы. Капитан Муций это устроит.
Бооринг-мальчишка что-то бубнил солдатам, забравшись на большой камень. Муций его не слушал. Он сам прекрасно знал, что предпринять. Ему, Муцию, не требуются указания зтого дикаря.
Если бы он обратил немного больше внимания на то, что говорил Фрохальк, он бы понял, что не все еще потеряно. Но он видел лишь слезы своего стротана. Только их…
Фрохальк, громыхая блестяще-белым боорским панцирем, подошел к Туригу.
— Стротан, пошли рабочих вниз на заготовку факелов.
— Какие факелы? Нужно отпустить людей. У них останется шанс спастись.
— Факелы нужны. Если битва затянется допоздна, мы должны будем освещать мост, чтобы видеть врагов. Ты ведь сам предусмотрел в парапете гнезда для факелов. Это очень удобно. Ты очень искусный строитель.
Сколько ни пытался Туриг, он не смог ощутить в словах бооринга ни капли иронии.
— Допоздна?.. — Стротан покачал головой. — Ладно, факелы тебе принесут. Всё?
— Нет. У меня есть еще одна просьба. Совершенно особая просьба. Поможешь?..
— Конечно, помогу. Где я должен встать?
— У вождей другая роль в битве. Вот!
Бооринг Фрохальк протянул к Туригу широкую ладонь. На ней лежала неровная горошина бурого цвета.
— Нет! — сказал Туриг. — Нет.
— Но…
— Нет! Мальчик, я не хочу быть демоном-бордвооргом! Никогда. Реорн добр. Может быть, он простит меня и найдет мне место в нашем мире. Не принуждай меня губить свою душу!
— Постой! Это не йора, а хьора! Туриг, ты ошибаешься…
— Не надо! Если я умру здесь бордвооргом, моя душа канет в Бездну Незнаемую. Я виноват, но не настолько же!
— Послушай меня, Туриг! Не бойся, это не черная йора. Это хьора — ядовитая железа белого дракона. Они живут в восточных горах. Позапрошлым летом мы специально ходили туда, и я убил троих. Хьора намного лучше йоры — ядовитой железы каменного дракона. Человек, съевший хьору, не будет кусаться, словно дикий зверь. Нет! У этого человека сохраняется достаточно памяти и рассудка. В то же время он станет очень сильным и бесстрашным. Он будет соквооргом.
Соквооргом. Так в Бооре называли человека, съевшего хьору. Соквоорг — значит, сын Воорга, в то время как бордвоорг — пес Воорга, бегущий у его ноги.
— Сын… Воорга?..
— Кроме того, ты будешь соквооргом недолго. Совсем недолго. Столько, сколько надо будет, чтобы поднять меня с моста и спрыгнуть со мной в Щель.
— Зачем в Щель?! — В этой пропасти под мостом где-то на невероятной глубине глухо ревел водный поток. Туриг содрогнулся.
— Понимаешь, у меня есть еще две хьоры. И я сейчас съем одну. Я буду там, — Фрохальк показал на мост, — сдерживать врагов. Если случится, что я окажусь сильно ранен, то постараюсь сам прыгнуть в Щель. Холодная вода внизу сразу остудит соквоорга, и я тогда умру человеком. Но… Туриг, может ведь так получиться, что меня искалечат. Если ты вдруг увидишь, что я не могу встать, тогда съешь хьору и спаси мою душу! Если ты прыгнешь со мной вниз, мы оба умрем людьми. Прошу!..
— Я не брошу тебя, Фрохальк, клянусь душой! Не брошу… — От волнения слезы снова покатились по щекам стротана.
Хьору стротан Туриг положил в поясной кошель и крепко завязал тесемку. В этот момент наверху показались первые хархи. Ну, вот и все.
— …Приготовиться! По места-а-ам! — Фрохальк бежал к мосту, выкрикивая команды. Но солдаты уже и так занимали свои места. Достигнув моста, бооринг взял со своей ладони губами нечто. И проглотил.
Фрохальк еще не успел преодолеть середину моста, когда в душе его родился первый ликующий крик. Страшный крик соквоорга.
— О-о-оа-а-ао-о-о! Й-йе-ех-х-хр-р! — кричал он.
Кровь бешено забурлила во вздувшихся жилах. Тело его приобрело твердость гранитного валуна. Оно стало горячим, словно огонь. Соквоорга переполняло ощущение собственной непомерной силы. Он знал, что он самый лучший.
Там, впереди он видел врагов. Там его ждала битва, и это было единственным счастьем его короткой жизни. Сейчас он нападет на них и начнет убивать, убивать…
— Ор-р-рх-х-х! О-оау-у-у!
Соквоорг добежал до конца моста и остановился, несмотря на то, что все его естество рвалось вперед — туда, где между скалами появлялись все новые и новые враги.
У соквооргов всегда есть цель. И сейчас он твердо знал, что будет убивать врагов только здесь. Чтобы враги не смогли сделать плохого своим — стоящим за его спиной воинам в сером. Свои — для соквоорга главное!
У соквоорга есть цель, есть свои и обязательно есть враги. Потому он и соквоорг…
Какой-то человек бежал к ним навстречу по мосту и завывал. Перебежчик? Нет, не перебежчик. Может быть, сумасшедший?..
Может быть. Крокаш уже не один раз видел, как люди сходили с ума от страха. Известно, что если кипятить котел с маслом в присутствии жертвы, то человек вполне может свихнуться. Такой становился совершенно нечувствительным к боли, и церемония жертвоприношения Иирху лишалась самого интересного. За это, бывало, наказывали. Бывало, что палач сам становился жертвой.
Сумасшедший добежал до конца моста и остановился. Он потрясал мечом и выкрикивал угрозы. Меч был белый, не бронзовый, и панцирь на смельчаке был из того же металла, похожего на серебро. Крокаш догадался — он князь!
Одного Крокаш никак не мог понять: пусть этот реанец — военачальник, но зачем он в одиночку побежал вперед? Впрочем, это можно будет выяснить и позже. Хорошо, что солдаты не нападали на него и даже попятились. Реанского князя убьет сам Крокаш! Об этом потом расскажут Глазу Йирха Бугашу. И Крокашу на ночь обязательно дадут женщину.
— В сторону! В сторону! Он мой!
Громко хлопая деревянными подошвами по камню, Крокаш ястребом налетел на серебристого воина. Никто ничего не понял. Серебристый человек, стоящий на мосту, слегка повел плечами, а потом дернул мечом. И сразу отступил в сторону, пропуская две половинки забияки Крокаша мимо себя.
Разрубленный надвое Крокаш покатился по каменным плитам моста.
А серебристый воин опять жутко завыл, потрясая своим страшным мечом.
Муцию стало очень неуютно, когда он понял, что стояло перед ним на мосту. Легендарный северный демон бордвоорг, жуткий убийца — вот кого вызвал в свое тело этот самонадеянный мальчишка Фрохальк. Когда-то давно в Нипее Муцию рассказывали о бордвоорге. И сейчас Муций лихорадочно вспоминал полузабытые сведения.
Век демона бордвоорга короток. День? Нет, кажется, еще меньше. Но сейчас важно другое. Важно, что бордвоорг — это свирепое и тупое животное. Зверь. Если хархи побегут, бордвоорг может броситься за ними, а может обернуться и начать резать своих. Что тогда делать? И как ему тогда защищать стротана?..
Ага, кажется, вспомнил! Вода! Обычная вода… В бурдюках она есть. Что еще? Кажется, его надо стукнуть по затылку… Да, точно! Хороший удар, и демон становится полностью обездвиженным. На все оставшееся время жизни. Правда, у этого демона на голове был рогатый шлем. Ну, что ж! Шлем придется сбить. Крепись, капитан! Это еще не конец.
— Третья шеренга! Слушай мою команду!.. Перед нами демон. Лучше оружие против демона — холодная вода. Взять в руки бурдюки! Держать бурдюки наготове!.. Лучники! Не пускать демона назад по мосту. Стрелять, если он попытается прорваться!..
«Это их великий воин, — понял командир передовой сотни Шобекаш. — Ждать подхода лучников? Но он там только один! А у меня целая сотня обученных солдат. Ну, потеряю пятерых… Иирх за это не накажет! Зато как звучит: «Сотня Шобекаша с ходу взяла перевал!»
— Благодарю тебя, отец Воорг! Ор-р-рх-х! Оа-ау-у! — радостно закричал соквоорг. Наконец-то враги решились броситься На него. Их было много. Соквоорг предвкушал величайшее наслаждение, которое получит от драки. Однако он не забывал Цель.
Соквоорг встал слева около самого парапета моста и начал быстро вращать мечом. Когда враги приблизились, он стал понемногу продвигаться вправо. Серебристый меч гудел, солдаты атаковали соквоорга, а тот двигался из стороны в сторону’ перед их первыми рядами. Туда-сюда, туда-сюда… Понемногу волна солдат остановилась и отхлынула. Они бросились назад, издавая вопли ужаса. Потому что несколько их первых рядов уже лежали на черных гранитных плитах, образовав уродливый кровавый вал.
Прорвались только двое. Они лежали за спиной демона, утыканные реанскими стрелами. Соквоорг отдал их своим.
Шобекаш был очень опытным командиром сотни, но сейчас случилось нечто превосходящее его понимание. С нечленораздельными воплями ужаса его солдаты трусливо бежали назад. А реанский воин на мосту хрипло хохотал. Ему было хоть бы что.
Два с половиной десятка солдат! И когда он успел столько намахать? Это больше чем позор! Шобекаша не просто засмеют на вечернем ритуале победы, его могут… Нет! Лучше рискнуть прямо сейчас!
— Рийхль! Тугош! Войр! — вызвал он. Эти трое были, несомненно, лучшими разведчиками в Голубой колонне. Его, Шобекаша, личная гордость.
Они стояли и оценивающе глядели на серебристого воина. Даже на безопасном расстоянии этот воин излучал волну смертельной угрозы. Такого они на своем нелегком, покрытом кровью пути еще не встречали.
Они посмотрели на Шобекаша, и он понял — у них большие сомнения.
— Я вас поведу!
Тугош пожал плечами. Рийхль вздохнул. Что ж, командиру виднее.
Наконец-то, враги снова двинулись к нему! На этот раз их было немного. Но это явно были сильные враги. Они не набегали, будто стадо, а скользящими движениями обволакивали, обтекали соквоорга со всех сторон, чтобы ударить одновременно.
Соквоорг даже застонал от наслаждения. Он замер в экстазе. Он ждал. А в тот момент, когда его враги тоже замерли, подобно четырем сжатым до предела пружинам, жутко захохотал. Захохотал и крутанулся вокруг собственной оси.
На этом все кончилось.
Только один из четверки, очень быстрый маленький Войр, успел подставить меч. Страшной силы удар вышиб бронзовый меч у него из рук, и тот, вращаясь, беззвучно канул в Щель. Но сам Войр этого не видел. Так же как и Тугош, и Рийхль, и Шобекаш. Все они были разрублены пополам.
Неодолимый ужас охватил передовую сотню хархов, когда лучшие из лучших, а среди них и командир, были убиты одним ударом стоящего на мосту чудовища. И передовая сотня, не выдержав, побежала.
Донельзя довольный соквоорг лишь хохотал им вслед. Но потом замолчал — коварные враги снова убегали от него. Когда же они еще нападут? Сколько их ждать?!
Сотник Юшгур был сильно озадачен — отборная сотня Шобекаша, дико вопя о каких-то демонах, неслась сломя голову. А ведь им говорили, что реанцы — слабые воины. Ну и ну!
— Лучники! — гаркнул он. Его ребята хорошо знали свое дело. Сейчас эти реанцы почувствуют на себе мощь залпа хархской стрелковой сотни!..
Но где реанцы? Лишь далеко впереди на мосту маячила странная серебристая фигура.
Это засада, сразу понял Юшгур. Реанцы хитры. Но и он, Юшгур, не прост. Сначала он выяснит, где враг. И лишь потом примет решение, как его уничтожить…
Но где друг Шобекаш? Неужели убит?
Реанцы за это заплатят! Кровью!..
Хархи концентрировались у похожих на гигантские драконьи зубы скал. Там очень долго кричали, а потом вынесли огромные, сверкающие начищенной бронзой щиты. Из щитов составили стену, и эта стена начала продвигаться вперед. Между бронзовых щитов там и сям торчали змеиные жала стрел.
Что ж, вот и конец, подумал стоящий на валуне Туриг. Ведь им противостояла целая армия, и рано или поздно одинокий соквоорг был обречен на поражение. А с ним неминуемо обречена его Реана. Но он, Туриг, выполнит свое обещание. Сейчас он проглотит хьору, возьмет на руки утыканного хархскими стрелами соквоорга и вместе с ним прыгнет в Щель.
Туриг вновь вслушался в исходящий из этой бездны глухой рев. Он бодрился.
Соквоорг жадно смотрел на приближающуюся к нему стену бронзовых щитов. Он думал о том, как медленно, невыносимо медленно она приближается. Скорее же, скорее, торопил он врагов.
И тут из-за блестящих бронзовых щитов со свистом вылетел рой стрел.
Этого он совсем не понимал. Они его что, дразнят? Они что, так и будут обстреливать его с безопасного расстояния? Это же скучно. Соквоорг прекрасно видел стрелы, и увернуться от них не составляло для него никакого труда.
Из любопытства он поймал одну из них… Ага! Кажется, додумался! Соквоорг наметил узкую щель между двумя центральными щитами и метнул стрелу обратно.
Не попал.
Так!.. Это уже интереснее!
Умудренному жизнью Юшгуру после первых двух залпов стало ясно — махровое колдовство. Вообще-то это было делом Бугаша — разбираться с вражеским колдовством. Ну что Юшгур может сделать, если этот демон чувствует себя среди его стрел, словно под дождиком? Он их почти не замечает!
Мало того, он начал возвращать стрелы назад. Да так, что щиты гудели! Двое не ко времени высунувшихся воинов никогда больше не натянут свои луки.
Итак, надо ожидать Бугаша. Это ясно.
Хотя… имеется один способ! Пусть он трижды демон или колдун, но если с близкого расстояния летит сотня стрел одновременно…
Это надо попробовать, причем обязательно!
Это были какие-то скучные враги. Они не приближались и совершенно перестали стрелять. Соквооргу приходилось теперь подбирать стрелы с плит моста. Но кидать их теперь тоже было не в кого. Коварные враги прятались. Они мучили соквоорга ожиданием.
Соквоорга сжигала жажда битвы, но он стоял, ждал и скучал. И в конце концов дождался. Стена щитов разом упала, а за ней было очень много врагов. Враги выстрелили в него одновременно, и соквооргу пришлось даже два или три раза отмахнуться мечом. Когда уходить от стрел стало некуда, выручил меч.
Врагов было очень много, и соквоорг, конечно, не вынес этого соблазна. Испустив нечеловеческий вой, он атаковал.
Руим с ловкостью Юшгур скомандовал. Его лучники сделали все, как полагается, и демон скрылся за тучей стрел. Но потом он вдруг появился снова, причем в самой гуще людей Юшгура. Воины, крича в ужасе, умирали один за другим, а этот колдун или демон рубил их своим длинным мечом. И при этом выл.
Сотня, конечно же, не выдержала и побежала, и вместе со всеми бежал старый Юшгур. Он смог добежать до начала спуска на серпантин. На повороте он запнулся и упал. И был затоптан своими же солдатами.
Фрохальк не зря рискнул своей бессмертной душой и стал соквооргом. После того, как боорский демон разгромил лучников и погнал их вниз, Туриг даже на мгновение поверил в возможность победы. Но потом, переведя взгляд на продолжающую подниматься к перевалу чудовищную голубую змею, отбросил иллюзии.
Однако в этот момент голубая змея странно задергалась и начала тормозить.
Вообще остановка любой змеи — всегда процесс. Тем более если змея — длинная колонна пехоты на горной дороге. Голова змеи уже замерла, а ее хвост все продолжает и продолжает ползти. Но вот замер и хвост…
Соквоорг, отводя душу, яростно рубил врагов и скатился за ними на серпантин. Он смог взять себя в руки, лишь когда, оглянувшись назад, не увидел своих. Он вспомнил о стоявшей перед ним цели и заставил себя вернуться назад. Потом он снова встал, как и раньше — на мосту. На мосту он провел все оставшееся ему время жизни, а затем умер.
Глава 2
Это была хоть и маленькая, хоть и временная, но все же победа. Насколько Туригу было известно, хархи еще ни разу не терпели поражения на суше. Бооринги топили отдельные их корабли, но на суше Харх оставался непобедим, и Туриг знал основные причины этого. Во-первых, такое количество солдат, какое было у них, мог выставить разве что весь Тарийский мир, да и то если каждого взрослого мужчину поставить в строй, что, конечно, было невозможно. Вторым козырем хархского войска была железная дисциплина, основанная на страхе. Говорили, что проявивших трусость во время сражения жрецы Червя Иирха живьем опускали в кипящее масло. Это, конечно же, было преувеличением, но факт оставался фактом — хархи боялись жрецов пуще любого противника. Это подтверждали все.
«Интересно, — думал Туриг, — как они осмелились бежать от демона? Выходит, страх, внушаемый им демоном соквооргом, еще сильнее? Хм…»
Стротан Туриг на некоторое время задумался над этим важным вопросом и в конце концов пришел к выводу, что на каждый страх можно придумать другой, еще более сильный страх. А стало быть, все, основанное на страхе, изначально не надежно.
Эта мысль Туригу очень понравилась, и он задумал на досуге написать на эту тему философское эссе. Однако тут же понял, что подобное желание — мягко говоря, глупость. У него не будет никакого досуга и никакого эссе. Даже то, что он завтра в очередной раз увидит восход солнца, казалось невероятным. Единственное, о чем он мог мечтать, — сохранение его бессмертной души. Только это!
— Червем, о Всепрощающий Реорн! Червем!..
Стротана Турига, воздевшего глаза к небу в страстной молитве, привлек сильный шум. Его лучники и гвардейцы что-то кричали и показывали пальцами на мост. Мост был пуст, за исключением большого количества лежащих на нем трупов.
«Прозевал! Прозевал!.. Куда делся Фрохальк? Спрыгнул?.. Или…» — Туриг сорвался с места и, ругая себя страшными словами, побежал туда, где несколько минут назад несокрушимым утесом стоял соквоорг. На бегу он лихорадочно обшаривал взглядом лежащие на плитах моста груды тел.
В конце концов он заметил то, что искал. Соквоорг лежал, перевалившись через кучу своих бывших противников, а его ноги беспомощно торчали вверх. Подбежав, стротан Туриг попытался приподнять или хотя бы перевернуть вверх лицом тяжелое тело соквоорга, однако не смог этого сделать. Потревоженный Фрохальк пришел в себя и открыл глаза.
— Стротан!.. Стротан Туриг! Ты?.. Мне плохо… Стротан, где я?.. — чуть слышно прошептал Фрохальк.
Агония и смерть демона соквоорга — тяжкое испытание для человека. В результате прошедший через это испытание теряет память. Соквоорг Фрохалька простился с жизнью тихо и спокойно, поэтому потеря памяти у бооринга была относительно небольшой. Он помнил, как поднимался по широкому тракту к сияющим вершинам Большого хребта, но вот дальше в его памяти зиял провал. Однако все должно было быстро восстановиться.
Лишь одного человек не может вспомнить никогда — что он делал, будучи соквооргом. Ибо его душа в это время находится за пределами нашего мира — в Бездне Незнаемой.
Лучники и гвардейцы все еще опасались подходить к соквооргу — этому нечистому порождению Сфиргуса. Только верный Муций, как всегда, сделал именно то, что от него требовалось. Он взвалил тело Фрохалька себе на спину и перенес поближе к костру. Бооринг глухо стонал и шипел сквозь зубы от боли.
Потом, когда Фрохальк лежал на набитой травой подстилке, стротан Туриг очень подробно рассказал ему о событиях этого воистину безумного дня. Капитан Муций в это время стоял рядом и молча смотрел на бооринга. Казалось, он глубоко задумался о своем.
Стоило Туригу закончить рассказ, как Фрохальк, зашевелившись, сказал, что хархи, скорее всего, до завтра не двинутся.
— Сейчас они наверняка приносят человеческие жертвы Йирху. Варят в масле тех, кто бежал… А с утра жрецы напоят их бешеным зельем. Тогда они обрушатся лавиной!..
— Откуда ты все это знаешь? — неожиданно спросил молчавший до этого момента Муций.
— Так они вели себя, когда осенью брали Тир. И так же, когда сожгли столицу луров Кавелур.
Капитан Муций смотрел на лежащего Фрохалька и выразительно молчал. И Фрохальк не выдержал этого молчания.
— Да, я понимаю, о чем вы думаете. В это тревожное время я не из праздного каприза приехал навестить тарийских родичей. Ты прав, капитан. Я внук скурда Хродрига, здесь же я по его воле!
Муций продолжал молчать, и Фрохальк вынужден был добавить:
— Боора готовится к войне, и скурд Хродриг, естественно, хочет узнать о хархах как можно больше. Внуки Хродрига — его глаза! Что в этом плохого, капитан?
— Все хорошо, — успокоил юного бооринга стротан Туриг. — Если… ну… что нам передать Хродригу?
— Просто расскажите, как было. Да! Стротан!
— Слушаю.
— Скажи брату Хоригу, пусть отправляет в Боору большое посольство. Пусть просит Хродрига открыть вам секрет железа! Если этого не будет сделано, вам не выстоять.
— Но вы ведь столько раз отказывали нам в этом!..
— Сейчас не откажем. Бооринги — воины, но не дураки. Мы понимаем, что сокрушить детей Свеирга сейчас главное. Устал… завтра снова… пойду… — бормотал бооринг. Голова его упала, и стало ясно, что он спит.
Капитан Муций, тяжело вздохнув, заботливо укрыл юношу походным одеялом.
Туриг долго не мог уснуть. Они сидели с капитаном Муцием у костра и разговаривали. О соквоорге. О бордвоорге. О свершившихся за день чудесах. О глубине Щели. О далекой и очень холодной стране Бооре. О приплывших откуда-то с запада хархах…
Только об одном стротан Туриг не сказал Муцию — о своей хьоре. Он знал капитана Муция и не хотел лишиться законного права умереть на Тайранском мосту.
Туриг заснул лишь под утро, а вскоре после этого хархи двинулись на перевал.
…Строгана разбудили крики гвардейцев и громкий топот ног. Невыспавшийся Туриг с трудом протер глаза и увидел, что у дальних скал горит сигнальный костер. Сами сигнальщики уже бежали по дороге к мосту.
Откуда-то раздавался могучий ритмический гул. Боевые барабаны хархов! Туриг был изрядно наслышан о них. Когда били барабаны, хархи катились на противника лавиной и ничто не могло их останавить — ни стрелы, ни копья, ни кипящая смола.
— Реорн! Я обязан быть на посту! — всполошился стротан Туриг. — Быстрее же! Надо быстрее… — подгонял он себя.
Нацепив пояс с мечом, он взобрался на валун и увидел вдали голубые ряды хархов. А на другом конце моста виднелась мощная фигура в серебристых доспехах. Соквоорг потрясал своим мечом и что-то кричал, подняв лицо к небу.
Сердце стротана рвалось, звало встать рядом с Фрохальком там, на мосту. Ему было стыдно — ведь мальчишка-бооринг, жертвуя душой и жизнью, бьется за будущее его Реаны, а он, представитель династии танов Двесциев, позорно отсиживается за чужой спиной.
Но тут Туриг вспомнил, что сейчас именно он — последняя страховка юноши. Он не имел права обмануть Фрохалька. Это значит, что он снова будет неподвижно стоять на огромном камне, стараясь не прозевать мгновение, когда сраженный врагами могучий соквоорг падет на мост и более не сможет подняться.
Командор Голубой колонны Ноцайр и Глаз Йирха Бугаш до поздней ночи обсуждали сложившуюся ситуацию. Они сидели в шатре бывшего тысячника Непобедимой тысячи Поркуша. Поркуш был разжалован и связан. Его дальнейшая судьба была незамысловата — стать козлом отпущения на предстоящем судилище в Бодаше. Судьба весьма незавидная.
Но ситуация на перевале до сих пор оставалась туманной и какой-то дурацкой. Реанский герой-одиночка — уму непостижимо! — успешно сдерживал на узком мосту лучшую хархскую армию. Очевидцы говорили, что он якобы не человек. Возможно, демон или же пришедший на помощь своим детям реанский бог.
Тщательное дознание почти ничего не дало. Бугаш и Ноцайр допрашивали выбранных по жребию солдат из двух разгромленных сотен. В то время как храмовые палачи потихоньку поливали их кипящим маслом, они, вопя и визжа, рассказали все подробности этого поистине невероятного боя.
Собранные таким способом сведения сводились к следующему. Сила колдуна просто невероятная — одним ударом разрубил четверых. Быстрота — ловит рукой стрелы на лету. И оружие, и панцирь из серебра. Но это особо прочное серебро. Оно легко рубит большие щиты. И осталось совершенно непонятным, в чем же уязвимое место этого воина или демона.
Ноцайр с Бугашем так и не пришли к единому мнению. Пока они решили просто держаться проверенной в битвах тактики. И посмотреть на чудо-воина собственными глазами.
Барабаны все били и били, шеренги копейщиков шли и шли вперед, а соквоорг работал и работал своим страшным мечом. Это даже нельзя было назвать битвой. Это была изматывающая, чрезвычайно кровавая работа. Скучная и монотонная.
Соквоорг методично совершал челночные перемещения поперек моста — туда-сюда, туда-сюда. За один проход он уничтожал одну шеренгу солдат. Эти солдаты, совершенно не боялись смерти. Даже когда над ними молнией взлетал безжалостный меч, они тупо продолжали ломиться вперед, лишь наконечники копий поднимались и старались ткнуть соквоорга. Поэтому первым ударом соквоорг обрубал наконечники, а вторым — рубил наступающих солдат. За все это время только чуть больше десятка вражеских воинов избежало его страшного меча. Он отдал их своим, не сожалея.
Чужие солдаты все шли, и глаза их оставались такими же пустыми. Наконец поперек моста вырос кровавый вал, через который наступающим стало трудно перебираться. Они спотыкались и падали, а соквоорг все так же методично отнимал у них жизни.
Туда-сюда, туда-сюда…
И барабаны, признав поражение, замолкли.
— Они не врали, — мрачно выдавил Ноцайр, — он и вправду не человек. Здесь наверняка замешано какое-то колдовство. Как ты полагаешь, Бугаш?
Бугаш медленно отвернулся и долго смотрел на вздымающиеся слева гигантские горы. Это было красивое, величественное зрелище, и оно помогало Бугашу успокоиться.
— Говоришь, колдовство? Ну-ну… Если ты, Ноцайр, задумаешь объяснять перед Хухаром свою неудачу колдовством, сам знаешь, лучше приготовить достаточно веские доказательства. Иначе непременно придется доказывать это собственной шкурой. Запомни, варенной в масле шкурой… Знаешь, о чем мне сейчас подумалось?
— О собственной шкуре?
— Не совсем. Ты видел, как он легко разделывался с копейщиками? Ты видел?
— У копейщиков не было шансов. Ни одного.
— Но почему? Потому, Ноцайр, что они кололи по очереди. Только по мере того, как он добирался до них. Но представь, Ноцайр, что у них в руках не копья, а луки!
— Луки?.. Идущие фалангами лучники? Бугаш, это даже не смешно! Ни один командир…
— Да знаю, знаю, Ноцайр! Что так никто никогда не делает. Однако… Вспомни, никто и никогда еще не попадал в такое положение, когда один боец уничтожает армию. Твою армию! А если ему и дальше позволять это — уничтожит полностью. Уничтожит! И тогда ты, дружище Ноцайр, с подобающими случаю криками пойдешь жертвовать свою кожу Йирху.
— Ну, хорошо. Допустим, у них луки. И что?
— Хм… Хотя бы то, что вся шеренга сможет наносить удары. Представь, сразу вся шеренга! А не только те, кто ближе к нему. Я думаю, в этом случае вторая и третья шеренга тоже смогут поддержать первую. Понял? Кто-нибудь да попадет!
— Наверное. Умно, Бугаш. Но знаешь… вчера он легко разделался с лучшей стрелковой сотней. Что от нее осталось?
— Паника! В сотне началась паника. Они не сопротивлялись. Они бежали, а он резал их сзади, как волк ягнят.
— Как ты думаешь избежать паники, Бугаш? Не давать же лучникам сойру. От сойры все плывет перед глазами, можно только копьем тыкать… Хотя, конечно, я понимаю, все в воле Иирха! Авось кто-то и попадет…
— Не тревожь имя Иирха всуе! Помни, именно нашими руками вершит Иирх свою волю. И мы обязаны не жалеть усилий. Сойра, конечно, плоха. В этом главная сложность. Но существует еще один способ. Хотя это мое дело! Ты же расставь сотни полторы лучников и хорошо объясни им задачу. Прямо сейчас!
— Ладно… сделаю.
— Сделаешь, если желаешь, чтобы твоя кожа и дальше оставалась на тебе, дружище Ноцайр!
Соквоорг делал все как надо. Он не пропустил врагов к своим, и враги отдали ему положенную дань. Он посмотрел на недавно сотворенный им высокий вал кровавых тел.
Все идет как надо!
Но что-то уже было не так. Изменения начались в нем самом. Все сильнее чувствовалась отвратительная тянущая боль в руках и ногах. Он неожиданно понял, что безвозвратно потерял ощущение легкости и точности движений. Особое ощущение, которое и делало его тем, кем он был. Страшная правда молнией пронзила его — он начал умирать! Откуда он знал о приближении смерти? Нет, над этим вопросом он не думал. Однако принял очередное испытание, как подобает сыну Воорга, — стоя на боевом посту.
Единственным его желанием было уничтожить возможно больше врагов. Чтобы помочь своим.
А глупые враги торопливо строились, очевидно, снова собираясь идти в атаку. В стане врагов поднялась суета. Солдаты встали плечом к плечу и подняли над головами бронзовые щиты. На образовавшейся из этих щитов площадке появился человек. Он воздел руку и заговорил, а солдаты встречали каждую его фразу восторженными криками. Группа воинов стала затаскивать наверх какой-то завернутый в голубую ткань предмет. Предмет установили на щитах и сорвали с него ткань.
Взору присутствующих открылась тонкая, ярко-голубого цвета колонна, вокруг которой обвивался толстый розовый червь. Червь угрожающе поднял увенчанную золотой короной голову. Из его широко раскрытой пасти торчали острые зубы.
— Йирх! — завопила толпа. — Йирх! О-о-о-о!..
Со своего валуна Туриг наблюдал, как соквоорг противостоял затяжному, воистину нескончаемому штурму хархов. Подобно несокрушимому утесу, демон перегородил Тайранский мост. И враги оказались бессильны.
Но ощущение безнадежности не покидало стротана Турига. Он со своего места отлично видел ждущую своего часа хищную голубую змею. Он понимал, что количество солдат у противника почти не уменьшилось.
И еще он знал, что демон соквоорг скоро умрет.
Чувство безысходности придавливало стротана Турига к каменистой земле, грызло его душу. Острыми зубами оно вцепилось стротану в самое сердце…
Стротан будто наяву увидел пылающие дома реанцев, слышал их мольбы о помощи. Хархи не пощадят их!
«Интересно, — задумался он, — смог бы я пожертвовать своей бессмертной душой, чтобы спасти Реану?»
Спасти Реану!.. Спасти Реану!.. Спасти!.. — билась и билась в голове отчаянная мысль.
И тут он увидел, как над толпой вражеских солдат вознеслась колонна с обвившимся вокруг нее Червем Иирхом.
Соквоорг увидел своего главного врага и теперь был в полной растерянности. Он совершенно не знал, что ему делать дальше. Он узнал хищный оскал Отца Тьмы Свеирга на этом вознесшемся над головами солдат идоле. И он серьезно засомневался в правильности своей цели.
Он понимал: не пускать врагов на мост было важным делом. Однако неизмеримо важнее была победа Воорга над Великим Врагом. И если сын Воорга поможет своему Отцу в Вечной Битве, разве это не будет достойным завершением его короткой жизни?..
Мысли, грохоча, перекатывались в голове соквоорга и постепенно спекались в прочный монолит решения.
— Йирх! Йирх! А-а-а-а-а! — продолжала реветь медленно обретающая божественное единство толпа.
— Во-о-о-ор-рг!!! — что было сил, протяжно и страшно закричал соквоорг. Он обрел уверенность.
Соквоорг сменил цель. Теперь он знал, что делать.
Возможно, его бросок прозевали, а возможно, он слишком быстро преодолел отделяющее его от солдат расстояние. Но когда он, рыча, как тысяча драконов, ворвался в строй лучников, те были в полнейшей растерянности.
Некоторые из них пытались неловко отмахиваться луками, у некоторых в руках появились небольшие бронзовые мечи. Но все они умирали. Хотя их смерть теперь не была целью соквоорга. Просто они стояли на его пути, а он пробивал себе дорогу к своему главному врагу — Змею Свеиргу. Он желал одного — совершить большой подвиг.
Человек наверху метался, сердито крича, но его не было слышно за общим шумом. Могучим прыжком, преодолевая нарастающую боль в ногах, соквоорг взметнул свое тяжелое тело на площадку из бронзовых щитов и заревел. Человек, который там стоял, крича, махнул бронзовым мечом, и соквоорг небрежным движением отсек человеку руку.
Его жалкая жизнь была совершенно не нужна соквооргу.
Соквоорг поудобнее перехватил меч и с ликующим криком ударил по колонне. Но меч со звоном отскочил. Соквоорг снова размахнулся и рубанул по розовому телу Червя Йирха.
Меч со звоном отскочил!
— А-а-ао-о-оу!!! — завыл умирающий соквоорг.
Он понял, что самонадеянно ввязался в битву самих Богов, где обычные удары мечом бесполезны. Здесь надо делать что-то другое.
И соквоорг широким жестом отбросил ставший ненужным серебристый, боорской ковки меч.
По-медвежьи обхватив голубую колонну руками, он со скрежетом вынул ее из отверстия в большом щите. Щит задвигался, и из-под него послышались негодующие крики. Соквоорг, качаясь от тяжести, поднял колонну над головой и швырнул ее в сторону Щели. А затем прыгнул за ней сам.
Острая боль в надорванных сухожилиях терзала его. Но осталось совсем немного. И соквоорг обязательно пройдет свой последний и самый главный путь!
Глава 3
Туриг дрожащими руками развязывал свой поясной кошель и никак не мог развязать. Он до сих пор не удосужился надеть панцирь, а теперь делать это было слишком поздно. В хархском лагере с той стороны моста творилось что-то неописуемое. Соквоорг сбросил идола Йирха на землю и потащил его сквозь толпу к мосту. Было видно, как его бьют, но он не сопротивлялся.
— Прости меня, Реорн! Мне никогда больше не придется испытать твою милость. Но я должен рискнуть!.. — Туриг сильно дернул завязку, и та порвалась. Кошель распахнулся.
Хьора оказалась жирной и чуть солоноватой. Он легко проглотил ее.
Вскоре Туриг испытал удивительные ощущения. Все части окружающего мира — снежные ники, скалы, кусты, скользящие по небу облака — словно бы приблизились. Он не просто видел их, а ощущал всем телом. Он теперь был естественной и необходимой частью этого мира, а мир был продолжением его самого.
Туриг ощутил никогда до сих пор не испытанную им абсолютную уверенность в своих силах. Уверенность в своих возможностях — они безграничны! Уверенность в своей правоте — я безусловно прав! Уверенность в своей победе — как же может быть иначе? Яд хьоры сбросил с его мятущейся души непомерный груз знаний и избавил ее от печали. Хьора уже корежила его сознание, затуманивала память и выводила из подвалов его души простейшие желания. Соквоорг, который раньше был Туригом, понял, в чем состояла его цель. Впрочем, он знал ее и раньше.
Его худое тело наполнилось небывалой мощью. Жидкий огонь разливался по жилам и мышцам его рук и ног. Он кричал, и мощный крик его, отраженный от гранитных утесов, возвращался к нему многократно.
— А-а-аэ-э-эй-й! — возвещал соквоорг миру о себе, мчась через мост туда, где тяжко ворочался в толпе хархских солдат идол Червя Йирха.
Если бы он оглянулся назад, он бы увидел, как закаменело лицо Муция и как капитан жестоко ударил себя в лоб привыкшей к рукояти меча рукой.
Соквоорг умирал. Умирало и сплошь покрытое ранами тело Фрохалька. Вопрос был лишь в том, что произойдет быстрее. Тяжелая колонна с Червем невыносимо давила на его плечо, ноги его с трудом передвигались.
Соквоорг защищал лицо, прикрываясь от ударов левой рукой. Это все, что он мог. Пальцы правой руки, придерживающей проклятую колонну, уже были отрублены. Левая кисть, которой он отмахивался от солдат, была разворочена ударом копья.
Его выручало только то, что солдаты, доведенные до исступления, толкались и мешали друг другу. Отчасти помогали ему и чудесные боорские доспехи. Но, несмотря на это, сейчас из всех щелей доспехов сочилась горячая кровь. У него начало темнеть в глазах.
Несколько хархов, преодолев робость перед святыней, схватили Иирха за голову и дернули. Соквоорг качнулся, пропустил сильный удар в лицо и упал под тяжестью навалившихся врагов. Он понимал, что встать ему уже не дадут.
— Отец Воорг! — взмолился умирающий демон. — Я… не смог…
— Вставай!!! — этот наполненный жизненной энергией рык был ему почему-то знаком.
Что-то свалилось сверху, потом еще.
Соквоорг открыл глаза. Исполненный ярости серый вихрь крутился меж ним и вражескими солдатами. И под нечеловеческим напором этого вихря стена хархов прогибалась и отступала.
Соквоорг, который был Фрохальком, столкнул с себя два трупа и, покачиваясь, встал. Потом приподнял конец голубой колонны, зажал его под мышкой и упрямо поволок к уже близкому провалу Щели.
Ругать себя было поздно и бессмысленно. Сейчас надо было выручать стротана Турига. Но как это сделать, Муций пока не знал.
Можно убить демона. При помощи хорошего удара по затылку или бурдюка с водой. Но после этого проклятые хархи прикончат их всех. И стротана тоже. Оставить все как есть, и пусть демон делает свое дело? Это тоже не выход. Во-первых, демон долго не продержится — умрет. А во-вторых, это риск. Душа стротана может навсегда остаться там, в Бездне Незнаемой.
Муций вертел возникшую ситуацию так и эдак. И в конце концов пришел к единственному оставшемуся ему решению — находиться рядом и действовать по обстоятельствам.
Он построил гвардейцев правильной фалангой, лучникам приказал держаться сзади и двинул отряд вперед.
Ноцайр наотмашь лупил мечом своих же солдат и почти охрип от крика. Ничего не помогало. К тому же из-за моста пришел второй демон, и один Иирх знает, сколько их еще осталось у реанцев в запасе. Первый же демон, изрубленный его солдатами, продолжал ползти со своей добычей — колонной Йирха. Ноцайр делал все возможное, но остановить его, похоже, было нельзя.
Второй демон оказался сильнее первого. Первый только и мог, что стоять на мосту, второй же сразу перешел в атаку, яростно кромсая мечом хархских солдат. И мало того, он нашел себе еще один меч и теперь вертелся, сея смерть обеими руками.
А Бугаша не было — его уже унесли вниз полумертвого, без правой руки. Теперь вся ответственность за исход битвы на перевале лежала на Ноцайре.
«Иирх, я же старался, старался, как мог!» — мысленно молился он.
Но было ясно, что потерю колонны Хухар ему не простит. Зуб Йирха Хухар с удовольствием воспользуется этим случаем, чтобы принести кожу командора Ноцайра в жертву Червю.
А может быть… обмануть мерзавца Хухара? Лишить его величайшего наслаждения?
Это, пожалуй, справедливо. Это будет наградой Ноцайру за долгую службу.
Он обхватил ладонью истертую рукоять меча и медленно пошел туда, где в гуще его солдат ярился и жутко рычал серый реанский демон.
Соквоорг легко исполнил его последнее желание, и Ноцайра не стало.
Соквоорг, бывший некогда боорингом Фрохальком, доволок тяжеленную колонну до парапета моста, а затем, расходуя последние силы, прислонил ее к парапету так, чтобы ее вершина нависла над пропастью. У него оставались считанные мгновения отпущенной ему жизни, и он пытался успеть перевалить идола через парапет.
Обхватив основание колонны руками, он с огромным трудом начал выпрямляться. И тяжелая колонна в конце концов поддалась его усилиям. Она все больше и больше нависала над пропастью. Потом она перевернулась и исчезла в бездне. По дороге колонна сильно ударила еле живого соквоорга основанием в лицо.
Капитан Муций был воином и, кроме того, реанцем. Поэтому он не смог бросить товарища, когда тот был беспомощен, а душа его маялась в Бездне Незнаемой.
Капитан Муций с огромным трудом приподнял тяжелое, закованное в броню тело Фрохалька и перевалил его через гранитный парапет моста.
— Воорг… Друг… — неслышно шептали разбитые губы бооринга, когда капитан Муций опускал его тело в Щель.
Так завершился земной путь Фрохалька, внука Хродрига, предсмертные подвиги которого легли в основу знаменитой боорской саги «Битва соквоорга со Змеем».
Соквоорг, некогда бывший стротаном Туригом, ясно видел перед собой цель и изо всех сил стремился ее достичь. Растоптать и отбросить с порога Реаны хищную голубую змею — вот что он хотел. Он хотел это каждой клеточкой своего тела, хотел всем существом. Он перешел в атаку.
Приобретенные когда-то давным-давно в Хермонской Академии рефлексы фехтовальщика возродились в нем. Он не просто убивал своими двумя мечами, он жалил ими. Он наносил врагам жгучие раны, заставляя их в панике бежать. Это было гораздо легче и эффективнее.
Соквоорг гнал, жестоко гнал своих врагов. Ему не требовалось их убивать.
Сразу за соквооргом следовали свои — гвардейцы, ведомые Муцием. Они шли ровной, блестевшей начищенными бронзовыми щитами стеной. Через каждые несколько шагов они ударяли мечами по своим щитам, выкрикивая «Хур-р-р!».
Соквоорг завывал, как голодный дракон, и в ярости мотал головой. Он был страшен.
…Ецхар был возмущен до глубины души. На перевале явно шла битва. И серьезная — Глаз Йирха Бугаша недавно пронесли на носилках, и было видно, что он уже не жилец. Ноцайр сидел там безвылазно. А всю воинскую славу получит, как всегда, тысячник Непобедимой тысячи Поркуш!
Разве не справедливо было бы, чтобы и небольшой избранный отряд Молниеносной тысячи с ним, Ецхаром, во главе внес достойный вклад в общую победу? Но Поркуш загородил дорогу кордоном, поставленным якобы по распоряжению Ноцайра. Командир кордона, как ни упрашивал его Ецхар, на вопросы не отвечал и постоянно прислушивался к чему-то наверху. А звуки оттуда доносились иногда весьма непонятные.
«Интересно, — подумал Ецхар, — кто это так воет?»
Его люди говорили о каких-то демонах. Но известно, о демонах солдаты болтают всегда, когда маются бездельем вместо того, чтобы участвовать в хорошей схватке с противником.
Вдруг командир кордона и тысячник Ецхар одновременно вздрогнули. Сверху Послышался долгий торжествующий вопль, в котором не было ничего человеческого. Мурашки пробежали по спине Ецхара — вопль приближался!
Он напряженно и сосредоточенно смотрел вверх, словно пытаясь увидеть за черной скалой картину происходящего. И в этот момент на глазах Ецхара с верхнего витка серпантина стали падать люди — вначале редко, один за другим, а потом сплошным потоком.
— К оружию! — жесткий командирский бас Ецхара разорвал ровный ропот зарождающейся паники. Но только на миг. Потому что сверху на них неслась все сметающая на своем пути вопящая масса, в которую превратились солдаты Непобедимой тысячи Поркуша.
И вой!
Молниеносная тысяча тоже дрогнула и подалась назад. Побледневший Ецхар с горящими глазами бросился навстречу катящейся толпе, но был смят обезумевшими людьми. Они больше боялись другого — того, что неотступно следовало сзади и исторгало ужаснейшие крики из отставших.
Демона!
В расположении бывшей Молниеносной тысячи возникла жестокая свалка. Дорога оказалась узка, и тех, кто послабее, безжалостно выталкивали за пределы серпантина. Солдаты сыпались вниз. Словно горох.
— Горный демон! Горный демон! — зловещий слух скатился по загаженным извивам Новой дороги и никак не хотел умирать. Командиры всячески пытались удушить этот вздорный слух, однако ничего не помогало. Пронесли полумертвого Бугаша, и слух набрал новую силу.
Вайц, тысячник Наводящей Ужас тысячи, судил в шатре болтуна-паникера, когда его срочно вызвали наружу. Покинув шатер, он увидел, что все задрали головы вверх и пытаются что-то рассмотреть.
Вначале он мало что заметил — просто какое-то движение наверху. Но потом, как следует присмотревшись, увидел.
Между витками серпантина постоянно проскальзывали голубые точки. Как будто падал снег. Но это был не снег, а солдаты. Солдаты-выскочки Поркуша. И у тысячника Вайца волей-неволей возникла крамольная мысль.
«Хм… возможно, на этом перевале вправду демоны?» — подумал он.
Соквоорг оказался существом совсем не глупым. Муций с гвардейцами уже давно помогали ему гнать противника, и он не бросался на своих с двумя бешено крутящимися в руках мечами. Наоборот, его действия были целенаправленны.
— Хермонская мечевая школа, — тихо завидуя, шептал Муций, глядя на фантастические фигуры и красивейшие каскады, получающиеся у демона словно сами собой.
Капитан Муций когда-то учился в Нипее и привык иметь в левой руке небольшой щит. Но ведь и стротан, сколько Муций его помнил, всегда носил на боку один меч. Муций пожалел, что никогда не видел, как стротан фехтовал.
Однако в данный момент все фехтовальные таланты соквоорга тратились впустую. Хархи в диком ужасе бежали от неистовствующего демона с такой скоростью, с какой только могли, а паника распространялась еще быстрее. Муций сверху видел, как целые хархские сотни срывались со своего места и, бросая войсковое имущество, скатывались вниз.
Вскоре медленно и тяжело начали двигаться нижние тысячи. Они организованно сворачивали свои шатры и удалялись по дороге походным строем.
«Пора!» — понял Муций.
Он еще раз оглядел свое воинство. Похоже, гвардейцы уже хорошо поняли, что от них требуется. Они тыкали копьями в спины убегающих, и если бы не болтающийся под ногами демон, то эффективность их действий была бы гораздо выше. Их можно было бы построить во всю ширину дороги, и хархи покатились бы вниз лавиной.
Но вой, вой!..
Капитан Муций ощущал, что нечеловеческий вой демона был сейчас едва ли не самым важным фактором их успеха.
— Надо, значит, надо. Ради большого дела можно и повыть, — решил капитан Муций. — О Великий Реорн, не бросай своего верного Муция!..
Теперь следовало найти камень.
Чудовищно медленно, невыносимо медленно уходила проклятая голубая змея с Новой дороги. Слишком уж много врагов на ней скопилось. Соквоорг с печалью в глазах смотрел, как осторожно ползут вниз нижние тысячи. Он недавно понял, что никак не успевает сделать то, что было необходимо. Он умирал.
Тягучая боль в руках и ногах, один раз возникнув, уже не отпускала, а лишь нарастала со временем. В силах ли он сделать то, что задумал? В силах! Должен, значит, может. Он может все — в этом не было никаких сомнений. Именно он уничтожит голубую змею, пропахав ее кровавым плугом до самого кончика хвоста.
Он с интересом наблюдал, как ловко перепрыгивают спасающиеся враги на нижний виток серпантина. Они летели и размахивали руками. Они-то смогли. А он? Ведь он — соквоорг! Он легко сделает то же, что делают они. Он обязан добить змею!..
Соквоорг принял решение.
Процесс умирания соквоорга для людей — загадка. Известно лишь, что он влияет не только на физические способности Демона.
Соквоорг остановился и расширившимися глазами посмотрел вниз. Панорама заросшего лесом Тайранского ущелья с втягивающейся в его горловину колонной хархских солдат завораживала его. Соквоорга тянуло туда, в ущелье. Он чуть-чуть наклонился…
«Пора! Другого такого удобного момента не будет!» — подумал капитан Муций и с размаху ударил демона камнем по затылку. Капитан старался бить аккуратно — все же это было тело стротана, и он не хотел его повредить.
Муций ловко подхватил обмякшего демона и почувствовал исходящий от него нечеловеческий жар.
«Может, лучше его водой? — подумал он. — Хотя зачем? Нет, пусть умрет так, потом стротану станет легче».
Положив обездвиженного демона в тень скалы под присмотром двух верзил-гвардейцев, Муций сам возглавил наступающее войско. Это был сейчас самый важный участок — хархов следовало дожимать!
Капитан построил гвардейцев правильной фалангой, встал впереди нее и принялся изображать буйнопомешанного. Он зловеще рычал, делая выпады, и настолько мерзко выл, что содрогались даже его собственные гвардейцы. При этом он еще успевал молотить мечом направо и налево. Словом, Муций выглядел вполне сносным демоном.
Если кто-то думает, что выглядеть буйнопомешанным и валять дурака — одно и то же, пусть попробует сам. Капитан Муций был замечательно тренирован, закален, подтянут, но не молод. Ему приходилось нелегко. Спустя короткое время он уже всем телом чувствовал навалившуюся усталость, но, несмотря ни на что, не прекращал неистовствовать. Этот буйный танец являлся основным оружием Муция.
И капитан добился того, чего хотел. Вдоль конвульсивно вздрагивающего тела голубой змеи-колонны пронесся новый слух о новом, еще более кровожадном и невыносимо жутком бронзовом демоне.
Реанские лучники непрерывно, как заведенные, стреляли через головы убегавших врагов, а также пускали стрелы вниз, на следующий виток серпантина. Трофейных стрел не жалели.
Бравые гвардейцы через каждые семь шагов хрипло рявкали тарийский боевой клич — «Хур-р-р!» — и безжалостно кололи копьями отстающих хархов.
Солнце постепенно перешло зенит и начало клониться к западу, когда измученный неподвижностью соквоорг простился с жизнью. Все это время он очень сильно страдал, ибо понимал, что никогда не достигнет цели и не добьет смертельно опасную змею. Он неподвижно лежал в тени скалы и наконец тихо умер.
Когда стротан Туриг очнулся, его первой мыслью стала мысль о собственной смерти. Ему было до невозможности плохо. Его нетренированное тело, надорванное нечеловеческой нагрузкой, превратилось в один большой синяк. Турига жестоко тошнило, но он не мог даже пошевелиться. Он лежал на жестких и неудобных камнях, лежал, как ему показалось, бесконечно долго.
И все же организм выдержал. К вечеру, когда подул мягкий, прохладный ветерок, черты его лица разгладились, и он, так и не поняв, что с ним, уснул.
Он все еще спал, когда его положили на носилки. Не проснулся он и тогда, когда уставшие гвардейцы понесли его на перевал. Капитан Муций сначала хотел сам взяться за носилки, но не смог — так он был вымотан.
За ними смеющейся толпой валили лучники. Они скалили зубы и наперебой обсуждали, как на последнем участке спуска устроили показательный шабаш. Жуткие танцы, потрясание мечами, вопли, от которых кровь стыла в жилах…
Солдаты вспоминали, как быстро бежали в лес хархи — хвост злосчастной голубой колонны. Солдаты-реанцы возвращались, чувствуя себя победителями, и имели право вспоминать об этой поистине чудесной победе.
Стротан Туриг очнулся к вечеру следующего дня. Его тело жутко болело, но он уже мог шевелиться. Тут же к стротану приблизился Муций и немедленно окружил его заботами. Он кормил Турига с ложки бульоном и рассказывал то, что ему следовало знать о происшедших событиях. Стротан понимающе кивал головой, но верил с трудом. Лишь когда он смог сесть, то заметил, как отряд солдат, ловко орудуя кирками, рушит мост. Позорный мост!
А хархов нигде не было видно. И Туриг наконец поверил.
Когда он очнулся снова, стоял жаркий полдень, а Тайранский мост был разрушен. Туриг все-таки заставил себя встать и приказал подошедшему Муцию немедленно послать гонца на равнину — разузнать, что с его братом и где войско. Только это оказалось лишним — гонец уже был здесь. Тан Хориг выслал его вперед — предупредить брата, что у него все хорошо и что он будет на Тайранском перевале через шесть дней.
Туриг, выслушав сообщение гонца, сдержанно кивнул. В самом деле, что в их положении шесть дней? Они могут продержаться и дольше.
КАРЕН НАЛБАНДЯН Осень Париса
Парис сидел на каменной скамье у своего дома. Гранит, сплошь в серых пятнах лишайника, покрылся мхом — порыжевшим и сухим. Небо было по-осеннему пронзительно-голубым, по-осеннему мягко грело солнце, лаская выжженную за лето растрескавшуюся землю. Воздух, всего месяц назад пыльный, горячий, напитанный настоем ароматов разогретых горных трав и пота, был чист и прохладен. Ни единого звука не разносилось в нем в этот ранний час, только где-то вдалеке в наступившей пустоте тихо звенел родник.
Был именно тот день, который ясно отделяет лето от осени, первый день ранней осени.
Осень была на душе у Париса.
«А как хорошо сейчас в лесу! Лечь на спину и смотреть, смотреть в небо, где лишь изредка раздается клекот ястреба. Удивительно… Приятен этот звук, но как боится его лесной народ. Так и с человеком… Каждому — свое. Когда же я был в лесу последний раз? Наверное, лет двенадцать назад. Позже все было некогда, а потом… Потом началась Осада. И остается издали смотреть на лес — как герою одной, неведомой сейчас повести. И еще человек по имени Камилл — который близок пне более всех современников. Но он будет бессмертен, а я…
Я из тех людей, которых не хочет носить земля. Не хочет, но носит — до срока. А когда этот срок истечет, со мной погибнут все, кто рядом, кто принял меня и доверяет мне.
Первой была Кассандра. Был у нее свой расчет, когда она назвала никому не известного пришельца именем давно умершего старшего принца. Не было тогда в Городе человека, который не поверил бы слову жрицы Аполлона. Не то, что теперь. Слишком поздно поняла сестричка, что бывают люди, с которыми нельзя заигрывать. Став наследником, я не хотел быть ставленником Коллегии. Конечно, в тот день она спасла меня, но первым-то мог быть только один.
Вот что делают с человеком власть и обстоятельства. Всегда знал, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах, — но Случай не оставлял выбора.
А все началось раньше, по иронии судьбы в тот день, когда был зачат Ахилл Непобедимый. Да, неудачным стал для Трои тот летний день. Я — тогда еще просто Александр — сидел в тени, а разомлевшее от жары стадо паслось рядом, на склоне Иды. Вдруг они появились прямо передо мной — три богини и Гермес с яблоком, которое позже назовут «Яблоком раздора». Не было в нем ничего сверхъестественного, яблоко как яблоко — аппетитное, большое, красное. И на боку четко виднелось торопливо процарапанное: «Прекраснейшей». Помнится, подумалось озорно: «Взять да и съесть самому».
…Парис был не первым и не последним человеком, в чьей жизни яблоки сыграли роковую роль. Еще бедняга Адам расплатился за излишнюю любовь к фруктам из чужого сада суровой ссылкой на Землю. «Сегодня они едят яблоки из моего сада — завтра до меня доберутся», — должно быть, решил Господь. А на память об обжорстве первого на свете мужчины его потомки прячут под галстуком острый угол щитовидного хряща, более известный под названием адамова яблока.
Прямо в яблочко, лежащее, вот в чем загвоздка, на голове у родного сына, всадил арбалетную стрелу Вильгельм Телль, а другое яблоко, свалившись на голову Исаака Ньютона, сбило его с размышлений о лондонской чуме на закон всемирного тяготения — закон, который сполна испытал на своей шкуре Геракл, поддерживая небесный свод вместо Атласа, добывавшего яблоки с той же яблони, что и фрукт трех богинь. Вполне возможно, что именно этот вклад яблок в науку навел группу молодых людей на мысль назвать фруктовым названием фирму «Эппл — Макинтош». И другая молодая группа тоже выбрала своим символом яблоко — и стала легендой шестидесятых. «Битлз» пришли к вершине славы, но не выдержали испытания ею. А город Нью-Йорк назвали Большим яблоком не Лаки Лучиано или легендарный дон Корлеоне, которые и вправду делили его, как большое и аппетитное яблоко. Это название дали городу заезжие джаз-банды.
Бывало, яблоками травили. Так, первое известное в истории отравление совершила древняя королева, разрезавшая яблоко для своей молодой конкурентки ножиком, смазанным с одной стороны ядом. Быть может, именно эту историю использовал Пушкин при написании «Сказки о мертвой царевне». История повторилась в виде фарса, когда повар Джорджа Вашингтона попытался отравить президента «золотым яблоком» — помидором — с соответствующим результатом.
И уже возвращаясь к нашей истории, вспомним, что знаменитая Венера Милосская держала в одной из утраченных рук яблоко. То самое.
…Передо мной стояли три богини — юная и прекрасная Афродита, величественная и грозная Афина, и третья, постарше с виду, гордая и стройная Гера. Они были очень разными, но было в них что-то общее — презрение к смертному, читавшееся в их глазах. Не знали они, что в эту минуту я ощутил себя на перепутье дорог, каждая из которых вела к лютой смерти на тридцать третьем году жизни.
Я мог бы принять Азию, положенную у моих ног Герой. Мог бы — но не захотел. Потому что ни одному смертному не под силу держать в кулаке столько стран и народов, не проливая рек крови и не построив одного-двух ГУЛАГов. А без этого та дорога опять привела бы меня в Трою — столицу моей Империи. Только варвары, осаждающие ее, пришли бы не с Запада. И конец был бы столь же ужасен, но погибла бы не только Троя — катившаяся за мной с Востока волна обрушилась бы на беззащитный пока Запад, отбросив цивилизацию на много веков назад.
А что мешало мне принять непобедимость, остановив свой выбор на Афине, как поступит, например, спустя века царь Дикой пока Македонии? Пройти сквозь свое время, как раскаленная игла, покорить весь мир, нести цивилизацию другим народам и начисто быть забытым на Родине, которую прославил. И — разочарование.
Этот путь кончается в дворцовой палате чашей с ядом, поданной лучшим другом.
Был и еще один вариант — отказаться от суда богов, остаться собой. Через тринадцать веков так решит мой младший брат, которого еще нет. Но на тридцать третьем году и он не сможет жить по-прежнему и пойдет по страшной дороге нищеты и страданий… к бессмертию. Крест, словно перечеркивающий всю прожитую жизнь.
Иногда я жалел, что не пошел тем путем. Но по натуре я не был мучеником, я был романтиком. И выбрал любовь прекрасной Елены… Удивительно нездешней была она: неземная красота сочеталась в ней с красотой душевной, появление которой в наше время было такой же ошибкой, как и мое собственное. И она, она досталась скотине Менелаю.
Елена. Душа человеческая — загадка. Кто знает, что чувствовала она — однажды похищенная в детстве, дважды разыгранная в жребий? Кто знает, кто спрашивал? Никто — не тот век, не те времена.
Я узнал об этом за день до того, когда мне следовало сделать свой выбор. Помню, в каком бешенстве я был, как хотел спасти ее. И вот он — Шанс… Никогда не забуду той ярости, с которой посмотрела на меня Гера, той короткой молнии, которая сверкнула в непроницаемом взгляде Афины Паллады, когда было произнесено слово: «Афродите». Если гнев Геры был гневом оскорбленной женщины, то во взгляде Афины вообще не было ничего человеческого. В нем ясно читался смертный приговор.
Затем они исчезли. Последним — Гермес, бросив на меня странный, соболезнующе-понимающий взгляд.
И все стало так, как было пять минут назад, — и жара, и навозные мухи, и лениво жующее стадо, и мощный хор цикад. Все оставалось по-прежнему, но я выбрал свою судьбу.
Впереди, я знал, были самые веселые годы моей жизни, годы торжества Разума — когда силой разума я одержу побед) в борьбе с сильнейшими мужами Трои, когда буду строить первый троянский корабль, прообразом которого стала «Катти-Сарк» — корабль-птица, когда совершу на нем путешествие, аналогов которому в мое время нет и которое будет настолько неправдоподобным, что ни один летописец не расскажет о нем, боясь прослыть лжецом.
Во времена Париса море было опасной и непредсказуемой стихией. Плавали по нему, опираясь на берег, держа его в виду и приставая на ночь. Долгие месяцы добирались греки до Трои. Парис же был первым, кто решился пойти прямым маршрутом. Для своего времени это было таким же походом в никуда, какими казались современникам путешествия Колумба, а потом — Магеллана. И совсем неудивительно необычайное количество плохих примет и предсказаний, сопровождавших его. В основном рождались они среди недовольных старцев в Трое и в матросских трюмах. Кстати, интересно знать, каким способом нашел Парис команду для своего корабля. Португальскому королю Энрике Мореплавателю пришлось для этого запастись как минимум папским отпущением грехов на всю команду.
Само же путешествие было спокойным и быстрым.
Впереди был мой звездный час. Впереди была и расплата… Оставалось только ждать. Елена… А еще друг, хотя, казалось бы, какой друг может быть у человека, наделенного Абсолютным Знанием. Мемнон был больше, чем преданным другом, — был как второе я. Помнишь… Спина к спине в ночь Мятежа. Рейд в Спарту. Открытие Академии. Бок о бок в боях на стенах. А потом тот день, когда Ахилл, обезумевший от бешенства и потому невероятно опасный, как зверь, попробовавший человеческой крови, рвался в Трою. Тогда Мемнон первым бросился к воротам, чтобы не дать этому монстру войти в Город. И я почувствовал страшную тоску, потому что знал, что случится дальше. Я видел, как Мемнон крадется к закованному в металл чудовищу, подобравшись, как богомол перед броском. Потом его согнутая рука распрямилась, и тонкое острие треугольного клинка проскочило в едва заметную щель в доспехах. Ахилл резко развернулся к нему — впервые на этой войне ранили его, и теперь он жаждал мести. До сих пор перед моими глазами стоит страшный, окровавленный клинок, сверкнувший красным отсветом в лучах заходящего солнца. Неизвестно, откуда тогда у меня в руках появился лук. В первый раз в жизни я перестал быть собой, всезнающим Парисом, — остался только человек своего времени, и он мстил…
Но разум оставался холодным, мозг необыкновенно ясно и быстро рассчитывал угол, поправку на ветер, на бьющее в глаза солнце. Доспехов стреле не пробить, придется выбирать крупную артерию, благо на секунду он раскрылся. Тетиву отпускать плавно. И все. Прощай, Ахилл!
Умирая, бедняга кричал, что никто не смог бы поразить его без помощи богов, обвинял во всем Аполлона… Эх, Ахилл, Пелеев сын… Восемьдесят килограммов великолепных мышц, закованных в не менее великолепную скорлупу из почти неизвестной в наше время стали, и совсем немного примитивных мозгов, неспособных даже вместить возможность своего поражения.
Не стоит забывать, что вся эта история происходила еще в бронзовом веке. Железо, притом весьма дурного качества, добывали в немногих странах примитивным сыродутным путем, и ценилось оно на вес золота. Лишь очень редко к кузнецам попадало почти химически чистое метеоритное железо. Так появились знаменитые доспехи Ахилла — а с ними легенда о его неуязвимости. Современникам, привыкшим к тусклой бронзе, сталь должна была казаться ослепительно блестящей. А что касается прочности… Умный, опытный боец Гектор в поединке с Ахиллом сделал ставку на удар, которым он не раз пробивал и щиты, и доспехи. Он никогда бы не решился расстаться с копьем, если б не знал твердо, что этим броском ставит последнюю точку. Но технический прогресс был на стороне грека — и Гектор проиграл.
«Ахилл. Удивительная штука — человеческая память: ведь именно эта безмозглая горилла останется в ней победителем Трои. Войну начал Менелай, средства на ее организацию выделил сказочно богатый царь Агамемнон, а победит в ней военный гений Одиссея. Но победителем по праву должен был стать я, ведь Сила была на моей стороне. А вот Судьба — против. И я погибну… Когда?»
«Сегодня», — незамедлительно пришел ответ.
У Париса вдруг задрожали ноги, его охватил звериный страх, безумное желание бежать, скрыться. До него неожиданно дошел смысл этого слова во всем его ослепительном значении.
«Где бы я ни был, что бы я ни делал — до заката я не доживу. Завтра все будет так же, но вот меня больше не будет».
От этой мысли все его тело напряглось в рефлекторном, животном крике: «Не хочу!!!» Огромным усилием Парис собрался и вырвал из себя страх — одним движением, как вырывают гнилой зуб. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы унять противную дрожь. Страх пропал, осталась лишь тоска.
«Смерть чем-то сродни сну, только больнее. Но одно дело знать, что будет новый день, и совсем другое дело, когда сознание гаснет навсегда. Нет надежды». Эту мысль сменила другая: «А как будут рады троянцы! Ненавистный, страшный, пугающий своей непонятностью принц Парис наконец погибнет… Дети, — усмехнулся он, — будут радоваться, и никто не вспомнит, что именно благодаря мне Троя легко переносит десятый год осады. Стены, спроектированные мной, неприступны. Стратегия — почти непобедима. Благодаря нашей дипломатии со всех концов света к нам идут союзники, греческие шпионы не успевают пройтись по Городу и трех минут, а мои сеют рознь в лагере греков, еще больше ослабляя их. Но держится здесь все только на мне. И стоит мне погибнуть, как они немедленно перегрызутся с соседями и сдадут всех шпионов грекам — чтоб не пришлось платить. Что ж, я не настолько глуп, чтобы считать, что мне удастся победить их вековые предрассудки и суеверия. А царь Приам… Ненавидит меня сильнее остальных, забыв о том, как во времена его детства одна дружина греков с ходу взяла Трою. Забыл… Но пока я жив — Город будет стоять наперекор всем, и людям, и богам!»
От грустных мыслей Париса отвлек прибежавший раб. Немного отдышавшись, он сказал:
— Господин, Лаокоон просит тебя прийти в храм. Принесли раненых.
— Скажи, сейчас буду.
Раб убежал. Парис неторопливо встал и зашагал к храму Аполлона, где находился госпиталь.
Один из самых древних богов Греции — Аполлон — был богом троянским. Бог света и культуры, бог путешествий — его культ как никакой другой подходил Парису. Недаром все его действия были так тесно связаны с этим богом. Да и на культе Аполлона мы чувствуем отпечаток, который наложила на него личность Париса. Аполлон, как и Парис, охранял стада и предсказывал будущее. Жрецами Аполлона Парис назначил умных, преданных людей, таких, как Лаокоон.
А еще Аполлон был богом-врачевателем. Врачом был и его сын Асклепий.
Недаром клятва Гиппократа начинается словами: «Клянусь Аполлоном-целителем, Гигией и Панагией…»
Парис осматривал раненых. Там, где он проходил, раненым становилось легче дышать, появлялась надежда. Всего несколькими словами он мог вселить бодрость в усталого, волю к жизни — в сдавшегося, дать силу слабому. Казалось, перед ним отступала сама смерть. Но иногда он проигрывал.
«Я знаю, что нужно, чтобы лечить их, но у меня ничего нет… Легче всего было приучить жрецов к правилам асептики — для них это просто еще один ритуал. Удалось наладить и сортировку раненых — элементарную истину военной медицины. Жестокими, воистину драконовскими мерами заставить жителей осажденного города выполнять требования гигиены — это я молодец! Можно вправить вывих, зафиксировать перелом, обработать рану, сделать несложную операцию… Наркоз — молотком по голове. Тьфу! Приготовить десяток-другой лекарств, слабый антибиотик — из плесени. Но что мне делать с этим?..»
Раненый смотрел на него с надеждой и ненавистью. Внезапно он спросил:
— Господин, зачем ты не принял мира?
— Трион, даже если бы я и принял его, мир был бы недолгим. Слишком много ахейцы вложили в эту войну. Теперь их надежда — сокровища Трои.
— Господин, ты же велик, сделай так, чтобы победили мы!
— Против нас боги, Трион. Что бы я ни сделал — это лишь ускорит наше падение, — терпеливо, как ребенку объяснял Парис.
«Зря это я, зачем? Не подумал…»
— Но раз ты не можешь помочь нам, зачем ты здесь, госпо-ди-и… — Неожиданная судорога оборвала воина.
Парис дал Триону морфия, и тот успокоился. Больше ничего сделать было нельзя. Не так давно стали появляться такие раненые — с искаженными лицами, корчащиеся в адских муках долгой агонии. Это началось после появления под Троей Гнилоногого. Его стрелы, начиненные ядом гидры, несли страшную смерть и сеяли ужас среди троянцев. Парис в отчаянии думал: «А я не могу ничего поделать. У меня ничего нет. Человек страшнее яда. Ведь не всегда же Филоктет был Гнилоногим. Таким его сделала жизнь. Его психика надломлена, он озлоблен. Трудно не озлобиться, будучи преданным, брошенным друзьями и проведя десять лет полупарализованным на необитаемом острове. От всего этого можно сойти с ума, а он выдержал. Вынес и второе предательство, и «лечение» Одиссея, когда тот одним ударом меча отсек ему больную ногу. Его трудно винить… но он убивает наших, а я не могу лечить их».
Тени укоротились. Парис посмотрел на солнце.
«Скоро полдень, а у меня еще много дел».
— Лаокоон…
Жрец оторвался от раненого и подошел к двери.
— Безнадежен. Проклятый Гнилоногий!
— Лао, — Парис запнулся, не зная, как начать. — Лао, когда… нет, если меня убьют, ты будешь здесь за меня. Ты знаешь, что делать. Не забудь того разговора. Вряд ли у тебя что-то выйдет — но попробуй. И позаботься о Елене, об этом я прошу тебя особо.
Парис вышел из госпиталя: ему хотелось хотя бы напоследок побыть с Еленой. В ее покоях как всегда было светло, прохладно и тихо. В углу валялся свиток — одна из книг, которые должны появиться только в будущем. Парис иногда переводил и записывал их для Елены. «Трудно быть богом», — прочитал он на футляре. Это была ее любимая повесть, но, судя по всему, отложили этот свиток уже давно…
Услышав шаги, Елена подняла глаза и грустно смотрела на Париса. Его поразило ее лицо. «Ее нужно предупредить», — подумал он.
— Ну, благородная донна, — начал он бодро и безнадежно фальшиво, — честь имеем доложить — осада идет, а мы сидим в…
— Не надо, Пар, я была в госпитале. Когда это случится?
— Не сейчас, но…
— Ради Аполлона, не надо. Я выдержу.
— Сегодня.
— Когда?
— Вскоре после полудня.
— Значит, всего час… Через час ты уйдешь, а я опять останусь безнадежно одна в этом мире. Ты был единственным, с кем я могла быть собой, с кем мне не приходилось притворяться. И ты любил меня, ты был тогда во дворце Менелая единственным, кто понял, что скрывается под маской капризной красавицы… И еще ты был единственным настоящим мужчиной в этом детском саду неандертальцев. Что мне делать теперь? Жить долго и счастливо?
— Жить… — сказал он и осекся. Но ведь действительно, проживет она еще очень долго.
— Как? Помнишь, ты рассказывал мне про Филоктета, как он десять лет жил на диком острове один. Но у него была надежда на то, что все будет хорошо, а у меня нет. Боль будет, одиночество будет, а надежда — нет. И будет кое-что похуже. Пар, здесь меня все ненавидят. Я для них — виновница всех их несчастий, да еще и чужеземка. Только благодаря тебе они не смеют ничего сделать. Как же я выживу в этом осином гнезде без тебя? И ты никогда не задумывался, что для того, чтобы «жить», мне придется вернуться к Менелаю? Я буду вынуждена оправдываться, зная, как ты презирал тех, кто оправдывается, говорить, что ты удерживал меня колдовством, и заливисто смеяться, когда эти питекантропы будут пересказывать мне мерзкие анекдоты про тебя. Только в глубине души носить память о тебе, вечно любить тебя… Навсегда надеть на себя ненавистную маску королевы Спартанской. Ты говоришь «Живи», — но это уже не будет жизнью. Жить после того, как я предам тебя… Парис!
Парис не мог, не хотел вспоминать следующие полчаса. Думать о том, что он больше никогда не увидит Елену… Нет, нельзя…
Теперь он лежал на гребне крепостной стены, у страшного самодельного оружия, готовясь к своему последнему бою. В прицеле он видел тупые потные лица, бронзовые доспехи, бронзовое оружие. «Стрелять или нет? — размышлял он. — Но ведь не в них дело. А в чем? Они же были мальчишками, когда пришли сюда. Что они вообще видели в жизни, кроме крови, грязи и крепостных стен? И кто в этом виноват?» Потом он увидел одноногого воина. «Филоктет. Сделать доброе дело и прикончить его? Но ведь дело и не в нем. Его стрелы возьмет кто-нибудь еще. И все же…» Палец его застыл на гашетке. Париса поразила новая мысль: «Зачем? Зачем еще жертвы? Вот тот воин… В будущем он расскажет о нас. Им будут зачитываться и через сотни, и через тысячи лет. Кажется, его зовут Гомером. В сущности, это дети — пусть грязные и жестокие, но вырастет из них одна из самых прекрасных цивилизаций в мире. И мы были не самыми плохими людьми — просто нам не повезло. Да, боролись, ненавидели и любили, но жили до чьей-то эры — какое-то призрачное существование. И нас уже ничего не спасет. Люди против нас, боги разъярены, но даже если мне удастся победить и тех и других, этим я лишь немного оттяну нашу гибель. Я чувствую, в воздухе пахнет странной, жуткой грозой. И я больше не хочу убивать».
Он последний раз посмотрел на Филоктета. Тот, весь напрягшись, чего-то ждал. В следующую секунду Парис понял, чего. Спокойным движением он сбросил свое оружие со стены и стал спускаться. Он шел по улицам выпрямившись, сбросив с себя весь груз, который нес десять лет. Троянцы молча смотрели на него. Взгляды скрещивались на оперении отравленной стрелы, торчавшей у него из плеча. Мрачно смотрела на смертельно раненного брата Кассандра, с уважением — воины и с ненавистью пополам с радостью — Приам. Салютом по полной форме провожал погибающего противника посерьезневший Одиссей.
Беспрепятственно выйдя из осажденной крепости, Парис пошел к лесу Иды. Греки расступались перед ним — их парализовал его взгляд, обращенный туда, откуда уже не возвращаются.
А Парис переставал быть Парисом. Только сейчас он понимал, что такое Абсолютное Знание и как мало он знал раньше. Теперь он был всемогущ — он смог бы лечить смертельно раненных, смог бы спасти Трою. Но его это уже не интересовало. Он уходил все выше, и все более незначительным казалось то, что терзало его. Лишь сверкнуло болью Слово и пропало. Наступила бесконечность.
Когда тело его нашли, пастухов поразила улыбка на необезображенном лице — всезнающая, мудрая и немного детская.
А что было дальше? Да в общем-то ничего. Трою взяли довольно быстро. Благое намерение жреца Лаокоона осталось благим намерением: как только его разоблачения стали достаточно опасными, а доказательства — обоснованными, его с Двумя сыновьями обнаружили на берегу с явными следами смерти от асфиксии. И кто уж тут разберет, кто придушил их — пара удавов, посланных Афиной, как разъясняла населению многочисленная агентура Одиссея, или пара же опытных боевых пловцов. Не было судебно-медицинской экспертизы в тот век.
Сам Одиссей вернулся на Итаку и счастливо избег участи Агамемнона, убитого женой, согласно классическому сюжету: «Возвращается муж из командировки…» Впоследствии он встретился со своим старым однополчанином Гомером. Так и родилась знаменитая «Одиссея» — из объяснений Одиссея, где его носило десять лет, и Пенелопы — что делала у нее дома буйная толпа мужиков, благо ни одного из них Одиссей не позаботился оставить в живых. Сам же он жил долго и достаточно счастливо, пока не был убит собственным сыном во время пиратского налета, совершенного Одиссеем по причине плохих штурманских способностей на родной остров. Елена не забыла того, чему научилась за годы жизни с Парисом. Эта сильная, умная женщина точно освоила тот принцип троянского принца, который гласил, что каждый человек сам определяет свою судьбу.
Когда на Менелая нашла вдруг опасная задумчивость, она угостила его зельем из макового сока, которое в Трое давали смертельно раненным. Так что остаток своей жизни Менелай провел, по меткому выражению летописца, «в райских садах», в полной зависимости от жены.
Она же разработала для своей страны знаменитые принципы, усовершенствованные и введенные суровым Ликургом и сделавшие Спарту — Спартой.
Это была славная месть.
И лишь один человек остался полузабытым — принц Троады Парис.
АРТЕФАКТ
ГЕНРИ ЛАЙОН ОЛДИ Рука и зеркало
«Но, господин мой, — возразил капитан, — откуда вы можете знать, что ваша рука находится там?» — «Я знаю, — только и ответил рыцарь. — Моя судьба там!»
После этих слов он упал в обморок. А солдаты, отправившись в указанное место, с удивлением обнаружили железную руку своего господина спокойно лежащей на столе. При этом капитан отметил в донесении, что владельцы дома — пожилые супруги — были найдены мертвыми в своей спальне, причем у них на горле явственно проступали синяки от удушения».
Максимиллиан Шварц. Тайны замка ХорнбергРука сжимает горло Отраженья:
Одно неосторожное
Движенье —
И в зеркале оскалится не-я…
Ниру БобовайКыш!
Крыса шмыгнула острым носиком.
— Кыш, чтоб тебя!
Сверкнув бусиной глаза, крыса подошла ближе. Она совсем не боялась Петера, и надо отдать должное крысиной проницательности: испугаться бродягу-лютниста сейчас могла разве что мокрица, выбравшаяся из щели меж камней. Длинный и голый хвост волочился по полу, выражая живейший интерес к узнику замка Хорнберг; лоснилась серая шерстка, а морда заострилась от дружелюбия. Слепой поймет: в этих казематах крысы питаются славно, чтоб не сказать — жируют.
— Кыш, зараза!
Обидевшись, крыса удрала в угол, где сидели Ганс Эрзнер и его мальчик. В профиль мерзкий грызун напоминал молодого барона Фридриха: радушие с клыками, гостеприимство с подвохом, и все мелкое, мерзкое, противное… Волею судьбы оказавшись в Байройте, пожалуй, самом дорогом городе Баварии, Петер Сьлядек к концу первой недели прожился вчистую, мыкаясь по кабакам и сочиняя похабные куплеты за миску кислой капусты. Клянчить подаяние мешала совесть, а досточтимые байройтцы с удовольствием слушали песни и даже плясали под лютню бродяги свои скучные танцы, но, увы, — позже выяснялось, что кошельки они неизменно забывали дома. Надо было уходить — быстро! не оглядываясь!.. — да только Петер подвернул ногу, спасаясь от злобного пса, и теперь изрядно хромал. Требовались новые струны; «Капризная Госпожа» намекала также на приобретение запасного ремня, ибо старый протерся у пряжки, грозя лопнуть в любой момент.
Ну и последней каплей бед оказалось участие Петера в высокоморальном диспуте, когда бродячий проповедник Михель Фрейд на площади Оловянной Трясогузки пустился в рассуждения: «Могут ли девицы и женщины без греха и угрызений совести показываться на улице и в церквах с обнаженною шеей и раскрытой грудью?»
— Могут-могут! — крикнул рядом со Сьлядеком какой-то мерзавец и удрал, а Петер с тех пор заимел славу распутника.
Даже кличку подвесили: Петер Блуд.
Поэтому встречу с тремя бравыми вояками из Хорнберга, сопровождавшими даму в черном, Петер воспринял как дар судьбы. Его досыта накормили, позволили играть что угодно, выражая удовольствие буйными криками, похабщину не заказывали, и даже попросили на бис сыграть «Канцону о пряничном домике» задом наперед, то есть от конца к началу. Просьбу Сьлядек воспринял как вызов своему мастерству и исполнил в наилучшем виде. Дама в черном благосклонно кивнула, старший из вояк отозвал лютниста в сторонку и предложил посетить замок его господина. Молодой барон, дескать, меценат и покровитель разного рода искусств. Минезингеров золотом осыпает.
О замке Хорнберг говорили разное. Большей частью прохаживались насчет старого барона — нет, не так! — Старого Барона, ибо тот, скончавшись восемь лет назад в страшных муках, коих никто не видел, но все о них знали, окончательно сделался легендой. Обладатель железной руки, ползающей ночами с целью взять кого-нибудь за глотку, искатель древних капищ и знаток кощунственных обрядов, чернокнижник и колдун, разбойник и мятежник, грабитель с большой дороги и завзятый острослов, скончавшись восьмидесяти двух лет от роду в собственной постели, при большом скоплении чудес, чертей и сплетен. Старый Барон по сей день занимал умы всей Баварии. Говорили, что проклятый рыцарь облачен в доспехи и закутан в плащ из мрака, с заката до рассвета прогуливается по стене замка, а с первым лучом зари взмахивает мечом, скрежещет зубами и, стеная: «Прощай! Прощай! И помни обо мне!..» — растворяется в туманной дымке. Очевидцев этих прогулок было столько, что Петер иногда завидовал популярности мертвеца. Впрочем, лютниста занимало другое: как еретик, бунтовщик и пособник дьявола ухитрился благополучно дожить до преклонных лет, не попав под жернова знаменитой «Каролины», она же «Уголовно-судебное уложение императора Карла V», статья 44-я?
Последнее было куда изумительней, чем хоровод железных рук, танцующих на погосте, или явление призрака в соборе Св. Марка. Ведь, цитируя вышеупомянутую статью, сделка с дьяволом суть преступление исключительное, а посему для обвинения достаточно одних только слухов. Со слухами у чернокнижника все было в порядке давным-давно. Если бы за каждый слух платили пфенинг, подвалы замка ломились бы от сокровищ. А вот поди ж ты! — инквизиция его магическими изысканиями брезговала. И даже после Крестьянского Бунта, где рыцарь успел отличиться сразу с обеих сторон, предавая союзников с завидной легкостью, Хорнбергского владетеля вскоре опять взяли на имперскую службу.
Удача, знаете ли, девка со странностями.
Молодой же барон Фридрих, племянник Старого Барона, умершего бездетным, ничем особым не отличался. Не колдун, не забияка, мятежей избегал, грабить опасался, обе руки самые обычные, ноги тоже. Из «родимых пятен» в зачет мог пойти разве что год учебы в Виттенбергском университете, где юный Фридрих якобы отличился не тягой к знаниям, а знакомством с неким Мартином Лютером, по прозвищу Король, ославленным как «дважды семикратный еретик», но проверке это не поддавалось. Жил племянник Железной Руки уединенно, скромно, поводов для сплетен не давал, а значит, интерес к нему был лишь в связи с окаянным родством. Отчего ж не потешить скучающего дворянина музыкой и песнями?
«Потешил…» — мрачно думал Сьлядек, вздрагивая от сырости.
По стене ползли грузные капли, похожие на слизней. За ними оставался мерцающий след. В крохотное оконце под потолком, утопленное в толще камня, заглядывал месяц. Влажная солома шуршала от сквозняка; этот шепот грозил свести с ума. Сьлядек поминутно трогал лютню и вместо радости ощущал ужас. Почему не отняли? Почему оставили?! Если человека без малейшей причины, обещая отвести в комнату для ночлега, бросают в темницу, — как не отнять у бедолаги великое сокровище, его «Капризную Госпожу»? Или решили запытать лютню насмерть тюремной сыростью?! А ведь все складывалось наилучшим образом: барон изволил хлопать в ладоши, дама в черном кивала, улыбаясь под вуалью, потом заказала «Дождливую Чакону» Найзидлера, но снова задом наперед, и по завершении одарила виртуоза серебряной солонкой в виде корабля. Кто ж мог знать, что ужин закончится казематом…
Писк крысы, в котором слышался удивительный, противоестественный восторг, отвлек от грустных мыслей. Взглянув в угол, Петер обнаружил, что мальчик Ганса Эрзнера держит грызуна за шкирку и внимательно смотрит крысе в глаза. Малыш, худышка лет семи-восьми, был сухоручкой, но это отнюдь не мешало его правой, больной, руке справляться с крысой. Пальцы клещами вцепились в складку шкуры на загривке, морда крысы скалилась вплотную к малоподвижному, туповатому лицу ребенка, — самое странное, крыса при этом не пыталась вырваться или укусить наглеца. Она извивалась едва ли не сладострастно, словно щенок под лаской хозяина, и писк выражал райское блаженство.
Петер не удивился.
Малыш за время заточения трижды ловил крыс, подолгу глядя им в глаза, потом отпускал и замирал в прежней позе. Сам же Ганс относился к проказам дитяти равнодушно. Видимо, привык. Этого огромного, костистого старика бродяга приметил еще во дворе замка: Ганс выходил из замковой часовни, держа ребенка за плечо. «Каждый год является, — буркнул старший вояка, шагая рядом с лютнистом. — Как лето на перелом, так он шасть в Хорнберг! Полдня в часовне сидит. Небось за душу покойного хозяина молится. При Старом Бароне в доверенных слугах числился, сызмальства. Молодой-то его прогнал взашей, вот и злобствует…» Сьлядек обратил внимание, что дама в черном тоже пристально разглядывает Ганса, будто встретив давнего, успевшего забыться знакомца, но вуаль мешала разобрать: хмурится дама или просто сосредоточена.
— Ганс Эрзнер, — наконец сказала дама. Имя на ее губах скрипело и лязгало; Петеру вдруг почудился отголосок битвы.
Лютнист вздрогнул, а дама добавила совсем туманно:
— Ясный Отряд Оденвальда. Значит, судьба…
Когда Сьлядека бросили в каземат, Ганс с ребенком уже были там.
Отпущенная на волю крыса уходить не желала. Ребенок пнул ее ногой, обутой в грубый башмак. Куртка, одолженная Гансом, свалилась с плеч, и старик заботливо укутал мальчика по новой. Месяц в окошке вымазал лицо ребенка белым гримом, превращая жертву в карлика-фигляра. Вдалеке громко выла собака.
— Крыс хватать нельзя, — сказал Петер невпопад. Хотелось живым голосом хоть чуть-чуть заглушить гнусный вой. — Укусят, будешь знать. Или чумой заразишься.
От каменного истукана проще было бы добиться ответа, чем от малыша.
— Ты что, совсем не боишься?
Тишина. Капает вода. Воет собака.
— Немой он у тебя, что ли? — спросил Петер старика. — Или слабоумный?
— Не твой, — внятно ответил мальчик.
Ганс лишь улыбнулся: сам видишь…
— Сын? Внук? Приемыш?
— Внук. Грета скончалась родами, вот он со мной и остался. Одни мы на свете. Барон умер, Грета умерла, а он родился.
Ночь была такая… Кому смерть, кому жизнь. Темная, значит, ночь.
— А правда, что ты у Старого Барона в доверенных ходил?
— Ходил, — на лоб старика наползла тень, растекаясь в морщинах. — Еще с Франконии. Когда монастырь Аморбах грабили, барон меня и приблизил. За былые заслуги. Это ведь я ему руку отрубил, под Нюрнбергом…
— Ты сумасшедший? — равнодушно осведомился Петер. Сидеть в темнице с безумцем — верней, сразу с двумя безумцами! — было не страшно. Умирать, и то было не страшно. Куда страшней выглядела неизвестность, хлопая в ночи кожистыми крыльями.
— Да, — согласился Ганс Эрзнер. — Я сумасшедший. Это все знают.
— Не все. Я не знал.
— Хочешь, расскажу?
За время дальнейшего рассказа мальчик не проронил ни слова. Зато поймал еще пять крыс.
* * *
Сухая гроза шла от Байройта к Хорнбергу, обугливая небо поцелуями. Вечер сгорал в пламени страсти. Так любят старики: без слез, без рыданий, редко падая на колени, измученные костогрызом, но молча и страшно выгорая изнутри от позднего пожара. Шальная молния ударила в матерый бук у подножия холма, служившего замку основанием; подсвечен снизу живым факелом, Хорнберг напоминал шута-урода, когда тот подносит свечу к подбородку. Впадины бойниц, щербатые челюсти стен, главная башня вытягивает шею, пытаясь оглядеться в сумерках, и долина внизу корчится от ужаса под взглядом дракона.
А за дверью кричала Грета.
Меряя шагами коридор, Ганс Эрзнер старался не думать о дочери. Лучше о сухой грозе. О дьявольском наваждении, идущем по следу жертвы с неотвратимостью своры легавых. Гром и молния, издевательски лишенные дождя, — ливня! потопа! воды, живой и клокочущей!!! — преследовали Ганса Эрзнера с самого детства. Сын оружейного мастера из Нюрнберга, он был еще подростком, когда сухая гроза пала на город. Вместе с ней пришел Старый Барон. Впрочем, в те дни никто не вздумал бы назвать Хорнбергского владетеля старым. С юных лет переходя от одного князя к другому, меняя сюзеренов как перчатки, предавая курфюрстов в угоду герцогам, барон полагал вассальную клятву не более чем средством заработка. Буйные попойки и разбой на дорогах являлись смыслом его жизни. Однажды имперский суд рискнул было привлечь сумасброда к ответственности за нарушение земского мира, но рыцарь расхохотался в лицо судьям, заперся в неприступном родовом замке и плевал со стен на все обвинения, пока дело не заглохло само собой. На следующий год, словно желая сквитаться, Старый Барон принялся грабить нюрнбергских купцов, чтобы позже, в запале жадности, осадить город. Насмерть испуганному Гансу выдали из городского арсенала протазан, тяжелый и ржавый, сын оружейника трясся от страха у южных ворот, стуча зубами, вместе с прочими ополченцами, пока створки не сдались на милость тарана.
Господь водил рукой юноши.
Один-единственный раз, ополоумев в горячке боя, Ганс Эрзнер успел махнуть протазаном, прежде чем упасть под копыта коней.
Рядом с ним упала десница в латной перчатке.
Город выстоял. Раны зажили, страх забылся, но никто не верил Гансу, что это именно он искалечил барона фон Хорнберга. Люди, если их не ткнуть хорошенько носом в сердцевину чуда, обычно бывают поразительно близоруки. Да и приписать спасение Нюрнберга какому-то прыщавому недорослю — это, знаете ли, слишком. Спасителей оказалось много, они делили славу и золото, их любили женщины, ими восхищались дети, а значит, глупому Гансу не было среди них места.
Он не настаивал.
Помогая отцу разрабатывать колесный замок для пищалей, Ганс радовал семью молчаливостью и усердием. Это он подсказал размещать курок с ввинченным куском серного колчедана за сквозной полкой, чтобы спуск происходил в сторону стрелка, а не в обратную, как раньше. Новый замок почти никогда не давал осечки; к сожалению, кое-где новшество попало под запрет как опасное. Тогда Ганс предложил отцу наладить производство ладенбухсов — двух- и трехствольных аркебуз. И не ошибся: заказы посыпались градом.
— Кого ждешь? Мальчика? Девочку?
Нагловатый вопрос конюха Эрнста, прозванного Дылдой, разрушил воспоминания. За дверью кричала Грета. Гром кашлял за холмом. Рыжий и пьяный, конюх ухмылялся прямо в лицо, дыша гнилыми зубами.
— Мне все равно. Лишь бы родила.
— Во-во! Лишь бы внука, правильно?
В словах Дылды крылась гнусная насмешка. Грета выросла Недалекой, простоватой, можно сказать, слабоумной девицей, после смерти матери неотлучно находилась рядом с отцом, не мечтая о женихах, — и ребенка нагуляла невесть от кого. Многие терялись в догадках, раздавая лепестки чужой невинности направо и налево; в подозреваемых хаживал даже Старый Барон, но сукин сын конюх твердо полагал отцом будущего дитяти именно Ганса. Дескать, блудливый папаша при взгляде на дочернюю прелесть не утерпел. Развязал, значит, поясок. Дважды Эрнст был крепко бит Гансом за подобные намеки, отчего лишь утвердился в своем мнении.
— Пошел вон, скотина!
— Ну-ка, ну-ка, мне бы внука! — запел Дылда треснутым басом, удаляясь.
Догонять насмешника Ганс не стал. Лишний раз почесать кулак о толстый затылок сквернавца — удовольствие из последних. Присев на табурет у окна, старик закрыл глаза. Возраст. Проклятый возраст. А надо жить, надо поднять ребенка на ноги, кто бы ни родился, надо следить за бедняжкой Гретой, которая боится всего на свете: крыс, ящериц, молний… Мысли свернули в накатанную колею: сухая гроза, гром без дождя. Второй раз сухая гроза настигла Ганса Эрзнера в дни Крестьянского Бунта. Отец к тому времени скончался, за ним ушла матушка, самого Ганса судьба завертела в диком танце и выпустила лишь в Ясном Отряде Оденвальда. Бывший оружейник плохо понимал, с чего бы это ему обретаться меж бунтовщиков, но с судьбой спорить — себе дороже. А вскоре случилось невозможное: Ясный Отряд возглавил барон фон Хорнберг, рыцарь-мятежник.
Опытный солдат, барон мигом превратил толпу в войско.
Он даже принял активное участие в составлении «Декларации двенадцати статей», выражавшей чаяния восставших. Вскоре Ясным Отрядом был взят штурмом и разграблен монастырь Аморбах. В темном небе полыхали молнии, раскаты сотрясали дубовую рощу у реки, но ни капли не упало на разоренную обитель. Настоятель рыдал, молился, пытался укрыть от захватчиков хоть что-то из имущества, наконец спрятал под рясу серебряный кубок, но фон Хорнберг заметил это, отобрал кубок и заявил, ударив монаха кулаком в грудь:
— Полноте, святой отец! Берите пример с меня! Я неоднократно терял все, однако, как видите, не унываю! Человек способен привыкнуть ко всему!
Отнятый кубок барон подарил стоящему рядом бунтовщику.
Молодому человеку по имени Ганс Эрзнер.
Ганс не успел опомниться, как стал доверенным слугой рыцаря. Единственный из отряда, он сопровождал обозы с добычей в Хорнберг, где следил, чтоб сокровища зарыли в специальных тайниках. Часть свидетелей по приказу господина Ганс убил собственноручно. Казалось, дареный кубок перелили из Иудиных тридцати сребреников, чтобы спустя много лет купить душу никому не известного нюрнбергца. Всякий раз, находясь рядом с бароном, он трясся от ужаса, пред которым страх во время осады Нюрнберга смотрелся мелким, дрянным страшишкой. Узнал? Вспомнил? Ласкает, чтоб больней ударить?! Рыцарь привечал новоиспеченного фаворита, щедро одаривал из награбленного, в шутку заставлял носить модные шаровары, иначе плудерхозе, мешком свисавшие между ног, и громко пел «Новую жалобную песнь старого немецкого солдата на мерзкую и неслыханную одежду — шаровары». Ганс подпевал, а рыцарь дружелюбно хлопал слугу по плечу…
Рукой хлопал. Правой. Железной.
Которая отлично умела не только ласкать, но и рубить наотмашь.
Ганс смеялся в ответ. Кланялся, скрывая истинные чувства. Сын оружейника и сам оружейник, за два года бунта он изучил протез до мельчайшей детали. Рыцарь словно нарочно подсовывал железную руку под нос слуге, давая вглядеться. Большой палец протеза, похожий на крюк или коготь, был закреплен намертво, а остальные четыре пальца неведомый мастер приспособил для попарного движения. Каждая пара — безымянный и мизинец, указательный и средний — имела возможность последовательно закрепляться в четырех различных положениях при помощи рычажка на запястье.
Если Старый Барон и прикасался к этому рычажку, то в шутку.
Рука слушалась хозяина, будто верный пес.
Примерно в это же время Ясный Отряд заполучил Черную Женщину. Ведьма благословляла мятежников, заговаривала от Клинков и стрел, насылала порчу на врагов, — частенько Ганс видел, как колдунья вспарывает животы убитым дворянам, желая заполучить человечий жир для своих противоестественных надобностей. При встрече с бароном Черная Женщина всегда старалась погладить его железную руку. Если удавалось прикоснуться щекой к металлу, колдунья целый день выглядела счастливой. Рыцарь не мешал ей, относясь к странной причуде с присущим фон Хорнбергу юмором, еще более черным, чем одежда ведьмы. Много времени барон проводил в палатке чертовки, ведя беседы с глазу на глаз, и Ганс старался в такие дни находиться подальше от хозяина.
Вскоре барон без зазрений совести предал Ясный Отряд, выторговав амнистию у командующего имперской армией. Вернувшись в замок под домашний арест, он взял с собой Ганса. Куда пропала ведьма, никто не знал.
— Чего сидишь? Сбегал бы в Укермарк, за повитухой!
Теперь воспоминаниям помешала кухарка, Толстуха Магда.
Добровольно взяв на себя труды повивальной бабки, она выпила слишком много пива, чтобы действительно быть полезной роженице. Вся дворня Старого Барона страдала запоями. Трезвому трудненько сохранить ясность рассудка в таком месте, как Хорнберг, особенно по ночам, когда в любом шорохе тебе чудится рука из металла, ползущая к твоей глотке. Хотя надо отдать должное: в самом замке никогда не происходило никакой чертовщины. Ганс это знал лучше прочих. Единственный, кто знал и не пил. Остальные начинали с утра. Барон прощал челяди мелкие слабости, бранясь редко и без последствий; сейчас же, состарившись, но пребывая бодрым, он и вовсе махнул рукой на эпидемию пьянства.
— А ты?! — рассердился Ганс. — Ты на что, дурища!
Магда колыхнула умопомрачительной грудью:
— Ну, тогда сиди! Авось яйцо снесешь!
— Ну и сижу…
— Чурбан! Дождешься, помрет девка!..
— Я уйду, а она родит…
— Дурень! Оглобля рябая! Ей еще рожать и рожать…
Вскоре Ганс Эрзнер, вооружась закрытым фонарем, шел в направлении Укермарка. До деревни было меньше часа пешего ходу. За спиной, уже неслышно, кричала Грета. Над головой, в надвигавшейся тьме, хохотал гром. Бок о бок шла память.
Пять лет барон фон Хорнберг жил под тяжестью взыскания. Имперским указом ему было запрещено ездить верхом, покидать границы майората и выходить ночью из дома. Окунувшись с головой в местные стычки и разбой, рыцарь тем не менее ухитрялся указ блюсти в точности: грабил днем, ходил пешком и нападал на проезжих исключительно в границах родовых владений. Видимо, за послушание бывший военачальник мятежников вскоре оказался снова на службе империи, разъезжая по государственным делам от Гента до Мюнхена, по дубовой Тюрингии, сосновой Саксонии, бузинной Вестфалии и хмельной Баварии.
Возле господина всегда находился верный Ганс.
А за железноруким рыцарем, из города в город, тянулась цепочка трупов. Удавленники, которых находили в постелях собственных домов, задушенные бродяги, блудницы со сломанной шеей и посиневшие бюргеры…
Плащ удачи покрывал Старого Барона. Единственной карой чернокнижнику и убийце служила людская молва. Инквизиция помалкивала, увлеченная громкими делами секты хоргин-порченниц и священника-душепродавца из Барготты, обманувшего своего демона во спасение жизни римского понтифика; император Карл преступно благоволил к блудному рыцарю — впрочем, чего ждать от сына Филиппа Мертвеца и Хуаны Безумной, сперва возившей труп мужа по всей Кастилии, а позже преследуемой виденьями черного кота-людоеда?! Неуязвимый фон Хорнберг обретался в мире, как червь в орехе, смеясь над проклятьями. И никто, кроме Ганса Эрзнера, не видел, никто, кроме бывшего оружейника, не слышал, как вечерами хорнбергский владыка кричит на свою искусственную руку. Страшно кричит. Надсадно. На чуждом людям языке. Так кричат на пса, не желающего выполнять приказ. Так вынуждают к покорности раба-ослушника. Так, наверное, превращают тихоню в палача.
Сухая гроза царила над жизнью двоих: господина и слуги.
Сухая гроза держала обоих за горло одной рукой: железной.
— Добрый вечер…
— Добрый…
— У меня дочь рожает…
— Далеко-то идти?
— В Хорнберг.
Ганс был уверен, что повитуха откажется идти в заклятый замок. Да еще на ночь глядя, с чужим громилой. Но одноглазая бабка оказалась не из робкого десятка. «Снасильничаешь? — ехидно оскалилась карга, демонстрируя молодые, острые зубы. — Или чертям скормишь? Идем, душегуб, родим человечка…»
Пока они возвращались, с неба не пролилось ни капли дождя.
В замке кривая повитуха мигом взяла дело в свои руки. Кухарка Магда протрезвела от одного взгляда на старуху и отправилась греть воду, вернувшийся было позубоскалить конюх Эрнст огреб гору проклятий, мышкой шмыгнув прочь, а Грета-роженица благодарно стонала, забыв о воплях. Ганса прогнали вон: карга вытолкала его взашей, под ночное небо, превратив из бдительного стража в обыкновенного старика, дожидающегося, пока он станет дедом. Даже память удрала куда-то в темный угол, перестав мучить.
— Иди напейся! — бросила вслед повитуха, ухмыляясь.
Совет был хорош. Но до входа в винный погреб Ганс дойти не успел. Небо, почуяв визит повивальной бабки, все-таки разродилось дождем: мелкой, жалкой моросью, похожей на нищего бродягу, чудом пробравшегося на пир молний с громом. Огибая главную башню, скользя на мокрых камнях, Эрзнер сыпал бранью, кашляя, и вдруг остановился как вкопанный.
— Саддах Нё! Осэ гмур Кад’дмот махзаль-хннум! Саддах, махзирит!
В верхних покоях барона горела свеча. Тусклый огонек, пасынок небесных костров, давал больше теней, чем света, окно выглядело приглашением в чистилище, а внутри, в мешанине хмельных призраков, рыцарь фон Хорнберг кричал на свою руку. Так страшно, словно делал это впервые. Не зная языка, жесткого, будто подошва ландскнехта, щелкающего, как бич палача, гортанного, словно грай воронья над Виселичным Холмом, верный Ганс дрожал загнанной лошадью. Страх вернулся, победив привычку. Последний раз он слышал этот чудовищный разговор хозяина с протезом пять месяцев назад, в Аспельте, и утром они уехали раньше, чем удалось выяснить: был ли в городе ночью задушен кто-то из местных? Впрочем, ответ Ганс знал и без сплетен. Барон, в позапрошлом году разменяв девятый десяток, выглядел бодрым живчиком, глаза рыцаря сияли, он изволил шутить и даже припомнил давнюю осаду Нюрнберга, вслух поблагодарив неведомого «дланереза» — жаль, последний счел за благо скрыться от баронской благодарности.
Ничего, у фон Хорнберга руки длинные…
Намек был чертовски прозрачен. У кого иного от сказанного три дня понос бы кишки наружу выворачивал. Но Ганса смущало другое. В его возрасте, хотя он был на двадцать лет младше господина, мало боишься смерти. Да, хочется дождаться внука или внучку, поднять дитя на ноги. Грета тоже требует опеки… И тем не менее. Смерть так долго ходила рядом, что привык к ледяному дыханию за спиной. Сдурей барон под грузом возраста, захоти наконец отомстить Эрзнеру — пускай. Не жалко. Удивительно другое: в словах насчет благодарности крылась искренность, невозможная, небывалая искренность, и Ганс неожиданно для себя подумал: а что, если Старый Барон однажды приблизил некоего нюрнбергца, чья судьба в противном случае утонула бы в крови при разгроме Ясного Отряда Оденвальда, — не из извращенного чувства мести, а действительно желая сказать спасибо?
За что?!
Вторую руку ему отрубить — приемным сыном сделает?!
— Хаш! Гуруг ас-саддах!
Дождь мокрым щенком тыкался за пазуху. Стены обступали старика, будущего деда, верного слугу. Замок сжимался в кулак — вокруг крика хозяина, вокруг власти и властности, неожиданно ударившейся об упрямое, бессмысленное (стальное?) сопротивление. Власть усиливалась, властность нарастала, в самой сердцевине своей дав предательскую трещину. «Жить! Жить хочу!» — слышалось Гансу в чуждых словах, меньше всего похожих на заклятье. Эрзнер помотал головой, намереваясь как можно быстрее оказаться в винном погребе, где напьется до синих гульфиков…
Но случилось чудо.
— Хаш! Ха-а-а…
Хрип заполнил покои барона. Моргнув, умер огарок свечи, зубастая молния вцепилась в небо над долиной, и казалось, это хрипит небо, зигзаг огня в тучах, дождь под ногами, зубцы стен над головой. Хрип брал Хорнберг штурмом. Один за другим падали защитники цитадели, таран с горловым бульканьем разнес ворота вдребезги… Смерть вступила в замок. Тихая, надменная смерть, знающая, что вскоре крик новорожденного изгонит ее прочь, но пока торжествующая победу.
Ганс не знал, сколько времени он простоял, не в силах Двинуться с места.
Скрип оконной рамы. Скрежет по камням башни: ниже, еще ниже.
Когтистый паук спускался к жертве.
Когда что-то шлепнулось в грязь рядом со стариком, он сумел лишь опустить глаза, — а хотелось бежать, нестись, мчаться без оглядки к спасительным бочкам с вином, дарующим забытье. В луже корчилась железная рука. Ганс готов был поклясться: сволочной протез смотрит на него, хотя как можно смотреть без глаз, он затруднялся объяснить. Видимо, оценив слугу как тварь безобидную и бесполезную, более того, знакомую и оттого не вызывающую сомнений, протез двинулся дальше. Закрепленный намертво большой палец цеплялся за выбоины, подвижная четверка остальных пальцев шевелилась на манер ножек насекомого, но двигалась рука плохо. Ее судорожное шевеление напоминало раненого, умирающего солдата. Знакомая картина: несчастный ползет к ручью, волоча за собой потроха. Глоток воды, а там пусть рай. пусть пекло — все равно.
Рука ползла, истекая невидимой кровью, а за рукой брел верный Ганс.
Как много лет подряд шел за чернокнижником-бароном, не спрашивая куда.
Впрочем, сейчас он знал — куда. Железная рука ползла в замковую часовню. Призрак безумия шел бок о бок, издевательски подмигивая: что, бунтовщик? Что, пособник колдуна? Смотри, наслаждайся: удушив господина, адский протез хочет помолиться за упокой его грешной души! Составишь компанию?!
В двадцати шагах от входа в часовню силы покинули руку. Кисть из металла, убийца и дитя геенны, она валялась в луже, слабо ворочаясь. Приблизясь, Ганс снова ощутил на себе взгляд. Просьбу, отказать в которой значило предать самое сокровенное, что еще оставалось в погибшей душе. Это смотрел солдат на солдата, не сумев добраться до ручья. Умирающий на здорового. Убитый на выжившего. Плохо понимая, что делает, Ганс подошел к руке, взял протез за большой палец — железо было теплым, почти горячим, напоминая тело больного лихорадкой, — и направился к часовне.
Дождь не рискнул сопровождать безумца.
Сводчатая дверь. Малая ниша при входе, где, нимало не беспокоясь темными делами рыцаря-колдуна, стоял вырезанный из дуба св. Альмуций, возложив ладонь на голову кающемуся упырю. Дальше, дальше… Когда, раздвинув завесу, старик опустил руку на алтарь, протез барона фон Хорнберг шевельнулся напоследок, ответив мощным, благодарным пожатием. На пороге смерти Ганс Эрзнер вспомнит, как во тьме часовни проклятого замка сжимал пальцы чудовища-душителя, словно прощаясь с родственником.
Снаружи его ждали.
Двое.
Увидев их, Ганс потерял сознание, потому что жизнь закончилась. Рано или поздно любой грешник должен платить по счетам. И если наверху умер Старый Барон, то почему бы внизу Гансу Эрзнеру не составить хозяину компанию?
Жаль только, что Грета еще не родила.
— Давай-давай, Зекиэль! Шевели копытами!
Брань была первым, что услышал Ганс, очнувшись. Мир вокруг распался на куски и спустя бесконечно малую долю вечности вновь сложился в отвратительную мозаику. От такой картины волосы вставали дыбом, а сердце погружалось в пучину отчаяния. Единого взгляда достаточно, чтобы сомнений не осталось: ад. Преисподняя. Обитель скорби…
— Налюбоваться не можешь?
В рыке собакоголового дьявола явственно слышалась издевка.
Да уж, залюбуешься…
Небом служил низкий свод, покрытый бурой коростой. Временами свод подпрыгивал, вызывая у зрителя тошноту, после чего рушился едва ли не на макушку. Причуды неба угнетали, плющили; казалось, ты — осенний виноград в бадье, под босыми ногами мучителя-винодела. Вдобавок свод терзали гноящиеся язвы, откуда сочилась сукровица. Тягучая капель источала поистине адское зловоние. Кругом громоздились скалы самых безумных форм, и в расщелинах полыхали отсветы багрового пламени. Но скалы не стояли на месте! Перемалывая друг друга, раскалываясь и вновь соединяясь в еще более противоестественных сочетаниях, утесы двигались в бесцельном хороводе хаоса. Меж ними возникали потоки раскаленной лавы. Один рассек твердь совсем рядом; на Ганса пахнуло нестерпимым жаром. Слух терзал зубовный скрежет и душераздирающий грохот; измучены какофонией, уши вознамерились усохнуть, скукожиться и опасть в прах сухой осенней листвой. Землю лихорадило, дрожь передалась телу: заныли зубы, а желудок обернулся вулканом, готовым извергнуться.
Будучи человеком рассудительным и честным, Ганс Эрзнер не числил себя праведником. Но все же робко надеялся на милосердие Господне. Хотя бы в Чистилище… Или это оно и есть? Мысли путались, глаза слезились от серного дыма, в мозгу скрежетали гранитные челюсти. Видимо, поэтому старик плохо понимал, о чем говорят конвоиры.
— …опять в пересменку попали. Придется самим отводить.
— …бездельники! В конце концов, мы с тобой Гончие, а не Цепнари…
— …ладно, идем. Потом на Серное махнем, искупаемся.
— …А ты, сволочь, что уши развесил? Тоже на Серное хочешь?
— Помечтай, помечтай!
— Псалом тебе в утробу, а не Серное! Еще раз залетишь, падла, — вечняк схлопочешь!
— Все, хорош пялиться! Двигай…
Семипалая лапа чувствительно толкнула в спину. Ганс понуро заковылял вперед, спотыкаясь и оскальзываясь на предательском крошеве. Его медлительность явно раздражала сопровождающих дьяволов; вскоре на беднягу градом посыпались тычки и затрещины. Эрзнер молча терпел, сжав зубы. Это ведь еще цветочки. Худшее впереди — в последнем бедняга уверялся с каждым шагом. Вскоре на пути образовался «ручей» из лавы. Оба дьявола с видимым наслаждением перешли его вброд, а когда Ганс, зажмурившись от страха (раньше надо было бояться, грешная твоя душа!), скакнул через пышущий жаром поток, оба уставились на жертву с нескрываемым изумлением. «Вот сейчас возьмут и кинут в самую жуть! Небось грешникам положено вброд, ради мук телесных, а я, дурень…»
Пронесло. Не кинули.
Лишь один цыкнул сквозь желтые клыки слюной, зашипевшей на камнях:
— Извращенец…
А второй скосил круглый, вороний глаз. Моргнул странно, едва ли не с уважением. Как на смертника, что палачу в лицо кровью харкнул. Сравнение было непривычным, чужим, и Ганс, как ни старался, не смог понять: откуда оно забрело в голову?
Путь продолжили в молчании.
А пейзаж вокруг — если только хаос можно назвать пейзажем — исподволь менялся. Скалы еще вздрагивали, словно силясь выворотить корни из земляных глубин, но с места на место уже не бродили. Трясти стало заметно меньше, да и провалы с реками из огня остались за спиной. Воздух посвежел, очистился; лишь теперь Эрзнер ощутил, что от жутких исчадий явственно несет серой и еще почему-то — мокрой псиной. Не самые изысканные благовония, надо сказать. Впрочем, от Гончих Ада, наверное, и должно пахнуть разной дрянью. Не ладаном же?! Свод затянуло свинцовой пеленой, точь-в-точь набухшие дождем тучи, зато вонючая пакость больше не капала. Завалы камней раздались в стороны, расступились, под ногами зашелестел мертвый серый песок. Вся троица шла дальше, огибая дюны и барханы, из которых местами торчали уродливые колючки. Песок чем дальше, тем больше наливался желтизной, колючки попадались чаще и уже не казались столь безжизненными; купол над головой отдалился, посветлел, и Гансу померещилось, что в разрыве белесой мглы мелькнул клочок голубого неба.
Небо?
В аду?!
Дьявольское наваждение, не иначе! Дабы у отчаявшегося грешника вновь проснулась надежда — тем тяжелее будет вновь потерять ее, рухнув в пламя геенны! Вот сейчас под ногами разверзнется земля…
Земля разверзаться медлила. Обогнув ближайший бархан, Ганс на всякий случай протер глаза: впереди возвышался пологий холм, и верхушка его явственно курчавилась зеленью. Зелень была редкой, как остатки кудрей на лысине великана, по брови ушедшего в землю, — но трава! Господи, настоящая трава!
Зеленая…
Дьяволы-конвоиры заметно приуныли, ссутулились, даже вроде бы слегка усохли. Двигались они с усилием, волоча мосластые ноги.
— Пшел, сука! — зло прохрипел псоглавец.
Взобравшись на холм, Ганс Эрзнер глянул вниз — и обомлел.
Ад закончился. Если бы не Гончие, тяжело и смрадно дышавшие в затылок, старик решил бы, что весь кошмар ему попросту приснился. Что он дома, в замке Хорнберг, или лучше, в предместьях Нюрнберга… Увы! Такой идиллии он ни разу не встречал на грешной земле. Хотя — многое ли успел повидать верный Ганс? Может быть, в Хенинге, или в Силезии, или в Каталонии, или в графстве Д’Артуа, о которых рассказывали купцы и пели минезингеры… Малахитовая зелень луга пестрела разноцветьем полевых цветов; луг плавно спускался от холма к узкой говорливой речке. Вода, кучерявясь бурунчиками, подмигивала Гансу игривыми бликами. Через речку выгибался аккуратненький мостик с резными перилами. Шишечки на опорных столбиках блистали позолотой. Не мост — игрушка. Загляденье! Небось еще одно наваждение.
Словно подтверждая эту мысль, на мосту капризно блеяла овечка.
Неестественно белый и чистый агнец.
Наваждение простиралось и далее, за речку. Там раскинулся поселок: две идеально прямые улицы крестом, вдоль них — ряды веселых домиков под черепичными крышами. Палисаднички, клумбы, флоксы и георгины, дорожки для прогулок, крашеные оградки — не от воров, а так, ради общей прелести; деревья выстроились шеренгами, как гвардейцы на параде, кусты подстрижены… Жаль, на улицах — ни души. И церкви нет. Не по зубам, видать, адским отродьям храм божий оказался, даже в наваждении не посмели…
Благочестивые мысли Ганса Эрзнера были прерваны самым грубым и прозаическим образом.
— Узнаешь обитель скорби? Пошла третья ходка!
Мощный пинок в зад отправил жертву кувырком вниз по склону холма. Эрзнер покорно катился, ежесекундно ожидая сковороды или котла с кипящей смолой. Однако угодил всего лишь в заросли душистого горошка и долго лежал, вдыхая пряные ароматы. Потом уставился на указательный палец, испачканный цветочной пыльцой. Оглянулся. Адских Гончих и след простыл. Да были ли они? Луг, цветы, деловито жужжат пчелы. Речка, мостик, овечка, у овечки хвостик…
«Пекло? Скорее уж наоборот…» — робко подумал Ганс.
И до чертиков, до кома в глотке испугался подобной мысли. Слишком велик был соблазн уверовать в нежданное, а главное, незаслуженное спасение.
Отказать себе в удовольствии искупаться он не смог. Очень уж хотелось смыть чертову пыль и копоть, а заодно избавиться от серной вони, казалось, пропитавшей тело насквозь. Выбравшись из речки, старик медленно оделся и направился через мостик к поселку. Все выглядело настоящим. Гадкие бесы оказались настолько искусны в наведении чар, что отличить явь от мары не представлялось никакой возможности. Помнится, бродячий монах-францисканец рассказывал в харчевне: грешникам, особо отличившимся на поприще зла, сперва нарочно показывают рай, дабы последующие страдания были стократ мучительней.
Господи, спаси и сохрани!
Душистый ковер луга закончился, под ноги легла дорожка, мощенная гладкой плиткой. Плитки лежали стык в стык, как по ниточке. По такой дорожке идти — одно удовольствие. Даже брусчатка на улицах Мюнхена выглядела корявым убожеством в сравнении с этим совершенством. У королей в парках, небось, такие дорожки, у герцогов… Еще в Эдемском саде, наверное. Словно в унисон благочестивым мыслям, в вышине раздалась чудесная музыка. Хорал? Гимн? Увы, в музыке Ганс Эрзнер разбирался примерно так же, как и в обустройстве королевских парков. Приятно, душевно — и слава богу! А дома, дома-то! Вот бы в сем чуде пожить: нежная побелка стен, приветливо распахнуты ставенки с резными сердечками, на двери — изящная ручка из бронзы. Флюгер-петушок на крыше, палисадничек, а за углом…
Эрзнер свернул за угол прекрасного домика и охнул, пустив от испуга ветры.
Правду говорил монах!
Перед Гансом стоял дьявол. Рядом с этим исчадием Гончие Ада вполне могли сойти за милых дворняг, вставших на задние лапы. Глянцевая кожа монстра лоснилась чахоточным румянцем, клыки блестели металлом, из пасти несся жаркий смрад. Дюжина иззубренных рогов торчала из уродливой башки, торс бугрился шипастыми мышцами, опираясь на мощные львиные лапы, и голый хвост, сделавший бы честь любой крысе (если у крыс бывают хвосты добрых шести локтей в длину!), лениво извивался по дорожке. Передние лапы с когтями-кинжалами дьявол сложил на груди и склонил голову набок, оценивающе глядя на гостя двумя парами глаз: костяные воронки, на дне каждой — смоляная бусина.
Монстр явственно принюхивался.
— А я ведь тебя предупреждал, Зекиэль, — с воистину адской печалью пророкотало чудовище. — Опять с завязки сорвался? Впрочем, я и сам хорош, — дьявол понурился; два левых глаза прослезились. — Ладно, топай за мной, дурила. Сам знаешь: тут отлынивать — себе дороже. Благословят от щедрот, будешь в карцере арфой выть… Да еще и срок накинут.
Икая от страха, на подгибающихся ногах, Ганс безропотно следовал за дьяволом. Несомненно, обитатель пекла вел душу на вечные муки, но мысль о побеге не пришла Эрзнеру в голову. Из ада бежать далеченько станет… Только почему все — и Гончие, и печальный кошмар — упорно зовут его Зекиэлем? Может, так здесь называют любого грешника? Спросить, что ли? Но у кого — не у этого же?!
Они подошли к длинному приземистому строению, заметно отличавшемуся от прочих домов. Ряды стрельчатых окон светились изнутри, стены сияли радужным перламутром, над крышей весело трепетала серебряная рыбка, ловя вздохи дня. И музыка в поднебесье вроде как явственней зазвучала. Ангелы здесь должны жить, не иначе!
Дьявол толкнул дверь: вместо скрипа или стука мелодично зазвенели колокольцы. Ганс глубоко вздохнул и шагнул за порог.
— О, Зекиэль!
— По новой ходке?
— Рад тебя видеть…
— Цыть, шушера! Это ж сам Хват Зекиэль!
— По какой статье лямку тянешь?
— Здравы б-бу… б-бу-будьте… — лепетал Ганс в ответ, уставясь на толпу «ангелов». Когти, клыки, шипы, рога, чешуя, броневые пластины, липкая слизь, кожистые крылья нетопырей, огонь в глазницах, слюнявые пасти, рыла свиные, собачьи, львиные, драконьи и совсем уж безбожные, небывалые, щупальца, хвосты, хоботы, копыта, лапы когтистые и суставчатые, шелест, шипение, щелканье, скрежет, хрип — все смешалось в доме нечестивых, голова пошла кругом, сердце сжал знакомый железный кулак, и бедняга-грешник рухнул в спасительную колыбель беспамятства.
— Эк тебя скрутило, с отвычки-то, — рокотнуло в вышине.
Ганс шевельнулся и убедился, что тело слушается хозяина.
Глаза открывать не хотелось совершенно. С тайной надеждой, что сейчас проснется в винном погребе замка, старик разлепил веки.
— Попустило? — с участием осведомился кошмар, хвостом трогая лоб жертвы.
— П-по… по-попо… — едва выдавил Ганс.
— Тогда давай, брат, за работу. Иначе худо будет. Сам знаешь — не впервой ведь.
Когтистая лапа упала на плечо. Эрзнер зажмурился, но исчадие ада, вместо того, чтобы разорвать грешника на куски, одним рывком поставило бедолагу на ноги.
— Твое место третье, от края. Помнишь небось? Эх, бывали дни веселые…
Ганс исподтишка огляделся. Кое-кто из чудищ косился в сторону новичка, но большинство было занято делом: точили, строгали, плели, сколачивали, лепили. «Мастерская, — догадался Ганс. — А я? Мне что делать?» Перед Эрзнером, на облезлом верстаке с глубокими отметинами когтей (клыков?!), лежали куски пеньковой веревки, обрезки стальной проволоки и бычьи (Ганс очень надеялся, что все-таки — бычьи!) жилы. Новопреставленный грешник украдкой покосился на соседа-четырехглаза. С выражением скорби на морде дьявол сосредоточенно плел какую-то чепуху, раня пальцы острой проволокой и страдальчески морщась.
— Что, Зеки, память отшибло? Забыл, как интриги плести? — перехватил он озадаченный взгляд Ганса. — Вот ведь приложило!.. Повязали-то где?
— В часовне, — честно признался Ганс.
— Ясно, — с пониманием кивнул дьявол. — Хуже нет, если в часовне. Ничего, держись. Через пару дней очухаешься. Хотя, знаешь, иногда думаю: лучше б и не вспоминать! Ладно, гляди сюда…
Это оказалось проще простого: вплетаешь проволоку в пеньку, скручиваешь жилами и сворачиваешь в замысловатые узлы и петли, какие на ум придут. Лишь бы не развязывалось. Готовые интриги следовало класть в берестяной короб, прибитый к краю верстака. За день, сказал четырехглаз, полагалось наполнить короб доверху. Иначе — карцер и арфа. «Только и всего? — дивился про себя Ганс, скручивая кукишем очередную интригу. — И это адские муки?! Воздаяние за грехи тяжкие? Да мне отхожие ямы горстями выгребать — и то за счастье… Ну, проволока пальцы царапает. Ерунда. По-любому лучше, чем в котле кипеть! Правду говорят: не так страшен черт…»
Однако, глядя на трудившихся вокруг дьяволов, создавалось впечатление, что непыльная, в общем-то, работа доставляет им изрядные страдания. Что ж их так корежит, бедолаг? Ганс поймал себя на сочувствии к страхолюдным «товарищам по несчастью». Или что немцу — здорово, то бесу — смерть? Может, и так. Нелюди, одно слово. Почему же тогда его определили сюда, а не к другим грешникам?
Людей, кроме Ганса Эрзнера, в сатанинской мастерской не наблюдалось.
— Зря ты, Зеки, Договор порушил, — промычал четырехглаз, толкнув соседа локтем в бок. Слова дьявола удалось разобрать с трудом: закончив очередную плетенку, тот с жалобным стоном сунул в пасть изодранные в кровь, дымящиеся пальцы. — У тебя ж срок к концу подходил! Сколько б твой барон еще протянул?
— А черт его знает! — искренне ответил Ганс.
Дьявол кивнул:
— Вот я и говорю. Ну, пять лет. Ну, шесть. Или в люди выбиться надумал? Зря. Суеверие это. Брехня. Да и от Гончих шиш уйдешь.
— Простите, господин мой, не понимаю, — отважился промямлить Ганс. Кажется, дьявол был настроен вполне дружелюбно, и это придало Эрзнеру толику храбрости. — О чем вы. И почему вы называете меня этим… Зеки? Зекиэлем?
— Шутишь, Зек?! — искренне изумился рогач. — Это же я, Калаор! Бельмач Калаор, из Пентаграмматона! Мы ж с тобой вместе срок мотали: ты по второй ходке, я — по первому залету! Рядом сидели, как сейчас. Неужто забыл?!
Ганс честно попытался вспомнить.
Увы.
— Плохо дело. Это все часовня, будь она неладна! На кой ты туда полез? Или думаешь в бессознанку упасть? Лазарет, то да се…
— Разговорчики! — рявкнули вдруг над ухом. — Языки чешем, бездельники?! Опять норму завалите, а весь мед на голову кому? Старшему барака Азатоту?! А ну, работать!
Над Гансом навис тихий ужас. Тихий, потому что Азатот замолчал, раздраженно хлопая парой изломанных, угловатых крыльев. А после его воплей даже труба Иерихона показалась бы тихоней.
— Все, Зекиэль! Завязывай с интригами! — совершенно непоследовательно заявил старший барака. — Марш препоны чинить! А то Шайбуран один не справляется. Калаор, сидеть! Будешь пялиться — четные зенки подобью! Пальчик он поранил, бедняжка! Тут тебе не Жарынь и не Сульфурикс! Искупай честным трудом — глядишь, зачтется…
Чинить препоны оказалось ненамного сложнее, чем плести интриги. Знай стучи молотком да проверяй, чтоб шаткая конструкция из досок и брусочков не развалилась от первого же пинка. Мрачный карлик Шайбуран, ублюдок паука и черепахи, воспрял духом: с его конечностями препоны чинились из рук вон плохо, а Гансу плотничать было не впервой. Вдвоем дело пошло на лад. Жаль, Шайбуран часто попадал себе молотком по жвалам и загонял под когти занозы.
«Неуклюжие они, эти бесы», — мельком отметил Ганс.
Потом Эрзнера определили лепить чернуху — уродливые фигурки из вязкой, аспидного цвета глины. Но скульптор из грешника оказался аховый, чтоб не сказать хуже, только руки зря перепачкал. Умница Азатот быстро переставил его строить козни. Ганс еле успел войти во вкус, размахивая мастерком и покрикивая на напарника: «Раствор! Раствор давай!» — как работу прервал гулкий удар колокола.
От звона у трех дьяволов случились судороги.
— Обед, — пояснил Бельмач Калаор, оказавшись рядом.
Однако Эрзнер не заметил никакого воодушевления среди Дьяволов. Работники уныло плелись к выходу, напоминая обычных каторжан, и Ганс последовал за всеми, ловя себя на мысли, что уже начинает привыкать к здешней жизни. Во всяком случае, вид бесовских образин больше не вызывал омерзения.
В адской трапезной оказалось чисто и светло.
В каждой харчевне бы так!
Длиннющий стол занимали блюда со свежим хлебом, плошки с медом, кувшины… Ганс решил поначалу, что в кувшинах вино, а оказалось — парное, еще теплое молоко. Обеденные же приборы — кубки! тарели! вилки-двузубцы! — были сделаны из серебра. Такой роскоши Эрзнеру не доводилось видывать даже у Старого Барона. Слегка удивляло отсутствие мяса и пива, но поведение бесов удивило много больше. Будто не на трапезу, а на пытку явились. Обреченно расселись по скамьям, с отвращением глядя на харч. Вот черепаук Шайбуран протянул тонкую лапу, уцепил сдобный калач. Принялся, морщась, жевать; скривился, словно тухлятины отведал. Ганс с опаской взял краюху. Понюхал. Откусил. Чудесный хлебушек! Белый, пышный, с румяной корочкой. При жизни нечасто едал эдакую вкуснятину!
Ощутив жуткий голод, он, разом позабыв о бесах, набросился на еду. Ломоть хлебца в мед — и в рот. В мед — и в рот. Объеденье, братцы! И молочком парным из кубка запить. Вряд ли в раю кормят лучше! — пришла в голову совершенно крамольная мысль, и Ганс поспешил заесть крамолу пышкой с тмином.
А за столом тем временем творилось весьма неприглядное действо. Явно проголодавшиеся бесы через силу глотали, давились, икали, харкали, плевались, отчаянно кривились и гримасничали; двоих стошнило прямо на пол. Приятель Калаор трижды кряду пытался уцепить когтями серебряный кубок с молоком — и всякий раз, шипя, отдергивал пятерню. Наконец скрипнул клыками, вцепился в заклятую посуду (явственно запахло жареным!) и опрокинул кубок в пасть, но случайно задел краем нижнюю губу.
Визг, вой; чуть не плача, дьявол смотрел на разлитое молоко.
Пострадавшая губа вспухла дыней.
— Помочь?
Дьявол уставился на Ганса, как на сумасшедшего. Быстро склонился к уху товарища:
— Цыть, Зеки! Хочешь, чтоб срок накинули?! За милосердие, будь оно неладно? Что ж я, распоследняя овца — друга подставлять?!
— Но я же вижу, как ты мучаешься! — горячо зашептал в ответ Ганс. — Давай пособлю.
— Осторожней!
Но Ганс Эрзнер, не слушая четырехглазого рогача, уже наполнил кубок молоком до краев. Подмигнул четырехглазу:
— Разевай пасть!
— Плюнь! Плюнь туда! — прохрипел Калаор.
Жаль было портить прекрасное молоко, но раз человек… тьфу! — дьявол просит… Именно что — тьфу! Молоко с плевком ухнуло в глотку Калаора. В утробе беса громко заурчало. Давясь, он зажевал корочкой хлеба и тяжко выдохнул облако гари.
— Эх, Зекиэль… хороший ты чертяка…
Внезапно дьявол умолк и пристально уставился на руку Эрзнера, все еще сжимавшую кубок. Ганс без видимой причины смутился, разжал пальцы и поспешил спрятать руку за спину. Но Калаор еще долго не сводил с него взгляда и, как показалось Гансу, вновь начал принюхиваться. Наконец четырехглаз помотал уродливой башкой, словно пытаясь стряхнуть наваждение.
Хмыкнул.
Отвернулся.
После обеда в мастерскую не пошли: вечером бесам полагалось заметать следы. А если по-простому — подметать улицы и дорожки поселка. Гансу тоже всучили метлу. На дорожках откуда ни возьмись объявилась палая листва, сухие ветки, пыль и прочий мусор, так что дьяволам нашлось, чем заняться. Мусор собирали в ямы, прикрытые стальными крышками в форме венца. Затем в яму выливалась бадья воды, и туда же бросались неприятного вида обрубки, которые разносил Азатот. Обрубки шевелились.
Это называлось «прятать концы в воду».
Ничего трудного в подобной работе Эрзнер не нашел. Дурацкая? — да, но никак не мучительная. Однако бесам и тут приходилось несладко. Пыль ела им глаза; лапы, сжимавшие метлы, то и дело сводило судорогой; двигались дьяволы хромая, страдая одышкой. А от музыки в небесах их прямо-таки Корежило. Ганс же особых неудобств не испытывал, а потому споро подмел выделенную ему дорожку, после чего помог запыхавшемуся Калаору.
Наконец последний «венец» с лязгом водворили на место. Небесные гимны смолкли, и Калаор устало вытер пот со лба.
— На сегодня — все. Шабашим, — объявил он.
— Тяжелый денек выдался? — Ганс сам не понял: это был вопрос или сочувствие?
— Да уж… А тебе, смотрю, все нипочем! Ни соль в пыли, ни метла осиновая, ни столовое серебро… Прежний Хват Зеки: в святой воде искупай, скажет — серная ванна! Хорохоришься, старина, двужильного строишь… Надолго ли хватит? В прошлый раз, помнишь, едва не загнулся…
— Не помню, — признался Ганс Эрзнер. Он больше не боялся четырехглаза. Ни капельки. — Да и ты, как я вижу, ни черта не помнишь. Я ведь не дьявол Зекиэль. Я человек Ганс Эрзнер, слуга барона…
— Дьявол? Ясное дело, ты не дьявол, Зеки! Ты демон, честный демон-Талисман. А что слуга барона… Не любил ты этого слова: «слуга». Никогда не любил. Но барону служил верно. Зря только Договор нарушил. Потом отдохнул бы, в Лимбе отлежался… Эх, Зек, тебя учу, а сам!..
— Разуй уши, Калаор! Я человек. Понимаешь: че-ло-век! Ганс Эрзнер. Да посмотри же ты на меня! Разве я похож на демона?! Ни рогов, ни копыт, ни чешуи…
Эрзнер осекся. Он впервые видел, как демон смеется. Можно сказать — заходится от хохота. И нельзя сказать, чтобы это было самое приятное зрелище в его жизни! Казалось, внутри четырехглаза случилось землетрясение.
— Ну ты и шутник, Зекиэль! — прохрипел Калаор, отсмеявшись. — Эк тебя часовня приложила! Человек он, понимаешь! Рогов у него нет, понимаешь! Умора!
Демон вновь затрясся от хохота, и тут очертания его начали меняться. Сперва перед Гансом залилась смехом полногрудая красотка, весело подмигивая оторопевшему старику. Однако любоваться пышными формами Гансу довелось недолго. Красавица превратилась в седовласого горбуна с бородавкой на носу, горбун — в слизистую тварь, тварь — в барона фон Хорнберга, барон — в дракона, дракон — в вороного, как смоль, единорога… Ни драконов, ни единорогов Ганс живьем, на свое счастье, не встречал, однако опознал по виденным в замке гобеленам.
Метаморфозы завершились так же внезапно, как и начались. Перед Эрзнером вновь стоял Калаор в знакомом обличье, пыхтя, словно после быстрого бега.
— Маскарад это, Зеки. Кого ты думал обмануть? Гончих? Меня?..
Неожиданно демон умолк. С донышек его глаз-воронок всплыла тень сомнения. Он еще раз принюхался.
— Ну-ка, присядем. Устал я…
Эрзнер послушно опустился на скамейку.
— А ведь ты не врешь… Зеки? Или не Зеки? — Калаор говорил сам с собой, и Ганс не решился прерывать демона. — Пахнет от тебя странно. Вроде Зекиэлев запах, а вот сейчас… Точно, человечьим духом потянуло! Говоришь, в часовне тебя взяли?
— Ну да, на выходе…
— Что ты там делал?
— Руку нес на алтарь!
— Умом рехнулся? Какую руку? На какой алтарь?!
— Железную руку! Баронскую! Она барона придушила, из окна выпала. Я гляжу: в часовню ползет. По лужам. Надрывается… Ну, я и помог. Жалко стало…
— Чистая скверна! Чтоб мне нимбом накрыться! Значит, у Зекиэля все-таки получилось? Значит, не байки? Не суеверие?! Хват, дружище! Обвел Гончих вокруг хрена!
Калаор беззвучно кричал, вскинув лапы к темнеющему небу. Потом упал на скамью, мечтательно улыбаясь. На миг морда исчадия показалась Гансу почти человеческой.
— Теперь ясно. Пахло от тебя Зекиэлем. Можно сказать, разило. Оттого и повязали. А рога, не рога — это видимость. Ерунда. Ну, выходит, тебе здесь недолго куковать. День, много — два.
К Гансу разом вернулись прошлые страхи. Лоб покрылся испариной.
— И что тогда? В котел? На сковородку?!
— Почему?! — изумился Калаор. — Отпустят тебя. Домой. Еще небось отступного подкинут: годков лишних с десяток…
В голосе демона трепетала плохо скрываемая зависть.
— Так я же умер?
— Умер, шмумер… Гончие, конечно, со злости и рады будут тебя живьем на куски порвать, да когти у них коротки. Не положено. Иначе сами сюда угодят. Рассказать, что здесь с Гончими делают? Не бойся, приятель, вернут, где взяли! Как, говоришь, тебя зовут?
— Ганс. Ганс Эрзнер.
— Считай, повезло тебе, Ганс. Живьем в Пандемониум — и обратно… Большой фарт!
Насчет фарта у Ганса были серьезные сомнения.
— Знаешь, Калаор… Когда меня сюда вели — все понятно было. Ад, Преисподняя, огонь, сера… А тут вдруг — трава, речка, дома… Гимны играют. Медом кормят. И работа легкая… Почему?
Демон скривился, как от оскомины:
— Легкая, говоришь? Вот теперь точно вижу: не Зекиэль ты. Тюрьма это, человек. Каземат отравный. Тебе молоко, а мне бы — кровь с молоком! Мед этот, век бы его не видел… Мясца бы, свежатинки! — Калаор мечтательно облизнулся черным жалом. — Или в Серном озере искупаться. Ну, это как тебе — в речку по жаре нырнуть. А нашему брату — огня подавай, смолы, серы… Уразумел?!
Молчали долго. Ганс тщетно старался переварить услышанное, демон же думал о чем-то своем, явно невеселом.
— Выходит, рука баронская… Ну, Зекиэль твой! В тюрьму без дела не бросают. Разве что по ошибке. Или по доносу лживому. А у вас иначе?
— И у нас — за дело. Отщепенцы мы. Уроды. Один против Договора пошел. Другому кровь напрасная, грехи нашептанные, души загубленные поперек глотки встали. А нас за хвост и сюда! Искупать! Потому как честный демон обязан искушать, осквернять, губить, с пути сбивать… Тот же Зекиэль — у него третья ходка была бы. А по четвертой — все, вечняк. Пока не загнешься. Я, братец, сам по третьей мыкаюсь. Не стерпел. Добро бы шашни крутить или там склоки завязывать… Раз плюнуть. Жаль, чернокнижнику, что меня вызвал, этого мало было. Ему, тварюге, веселье подавай… с подливкой…
Демон зашелся в утробном кашле. Тело густо испятнала сыпь, и Калаор, хрипя, свалился наземь. Забился в судорогах на чисто подметенной дорожке, харкнул пеной:
— Превращения! Силу отняли… нельзя было… Кончаюсь, Зеки… все…
Ганс заметался, не зная, чем помочь. Вокруг начали собираться остальные каторжане.
— Подыхает, сучье семя, — угрюмо бросил Азатот, глядя на Калаора, бьющегося в корчах. — Жаль. Мы с ним еще с потопа… старые дружки…
— Может, тово? Оклемается? — с робкой надеждой пискнул тщедушный Шайбуран. — Силища ведь тово! Немереная!
— Ага, силища… на третьей ходке любая силища — козлу под хвост!..
Сжав кулаки, Ганс взвыл от безнадеги:
— Да что ж вы стоите, дьяволы рогатые?! Бесы вы или слюнтяи?
— Серцы бы ему… смолюшечки… — пожевал синюшными, вислыми губами демон, похожий на жабу с копытами. — Огоньку ядреного… Враз бы очухался…
— Там! Есть! — Ганс махнул рукой в сторону геенны, откуда его привели Гончие. — Огонь, сера!.. Навалом!
Азатот со злобой ударил крыльями:
— Поди сунься туда, Зекиэль! Совсем память отшибло?!
— Стража? Не пустят?!
— Какая стража, стервь ушастая?! Что ты мелешь?! Пентаграмма вокруг! Сгоришь, и вякнуть не успеешь…
— Сам вякай, урод! Плошку мне! Живо! Что я вам, смолу в ладонях таскать нанялся?!
— Хват! — двинул игольчатой бровью Азатот. — Ну ты и хват, братец…
Шайбурана будто чихом сдуло. Вскоре черепаук, протолкавшись сквозь толпу, сунул в руки Гансу плошку и в придачу — глиняный горшок с широким горлом.
— Серцы! Серцы прихвати! — с надеждой заглядывал в глаза жабодемон.
Ганс Эрзнер кивнул и припустил к околице поселка. Арестанты, сгрудясь над умирающим Калаором, молча глядели ему вслед. Как бойцы осажденной крепости — на добровольца-лазутчика, вызвавшегося привести подмогу.
На верную смерть идет, орел…
Миновав мостик с блеющим во гневе агнцем, взбираясь по склону памятного холма, Ганс чувствовал, что задыхается. В его-то годы по адским пустошам да косогорам скакать! Однако продолжил упрямо карабкаться дальше. Ага, вершина. Слева, из-за барханов, ползли серые клочья дыма, и Эрзнер заспешил туда, по щиколотку увязая в песке. Только бы не потерять направление, найти дорогу обратно! Держись, четырехглаз, я уже… я бегу!..
До малого, десяти локтей в поперечнике, озерца смолы он добрался на удивление быстро. В середине смола бурлила, чадила, булькая горячим черным дымом, готовая вот-вот вспыхнуть, но у берега была вязкой. В горшок набиралась с трудом. Не донести. Застынет по пути, и какой тогда с нее прок? Огонь нужен. Факел. Горшок в дороге греть. Или на месте… Сухое дерево, скрученное руками великана в жгут, валялось поодаль. Отломить пару веток. Теперь — в смолу… Огня! Дайте огня! Не бежать же к «ручьям» из лавы?! Далеко, в срок не обернуться.
«Боже, помоги! Дай мне огня!..» — Ганс сам не понимал, кощунство это или молитва, бессвязные, отчаянные вопли срывались с губ, разбиваясь о равнодушное молчание свода над головой. Старик кричал, плакал, молился и проклинал…
Небо насупилось, громыхнуло. В спину ударила волна жара. Ганс обернулся. Смоляное озеро горело, подожженное ударом молнии.
Чудо? Удача?!
От жарких языков пламени смола пошла пузырями. Бормоча слова благодарности, Ганс сунул в огонь одну из просмоленных веток. Занялось сразу. Серы бы еще… Он огляделся. Опустил взгляд себе под ноги… Да вот же она, сера! Угловатые грязно-желтые кристаллы. Плошку старик обронил по дороге, да и рук на все не хватило бы, поэтому Эрзнер сунул горсть кристаллов за пазуху. Капли смолы с факела обожгли запястье. Плевать. Дальше пекла не зашлют. Скорее, скорее…
Возвращение запомнилось плохо. Кажется, пытаясь срезать путь, он заплутал среди барханов. Пришлось сделать изрядный крюк, чтобы выйти на собственные следы. В правом боку кусался злой хорек, от чада факела першило в горле, глаза слезились от песка…
Холм!
Факел угасал. Ганс зажег от него второй. Накатила дурнота, стальная пятерня сдавила затылок. Стой, душа пропащая! Не смей падать! Не смей! Луг скакал жеребенком-двухлеткой, норовя сбросить, выбить из седла, но Ганс Эрзнер шел и бранился, бранился и шел. Спотыкаясь, едва переставляя ноги, а казалось — бежит, спешит, торопится, летит на крыльях…
Мостик с овечкой!
Поселок, будь ты трижды неладен и благословен!!!
Башмаки гулко бухают по деревянному настилу. Чертов поселок совсем взбесился: еле тащится, вместо того чтобы вихрем нестись навстречу! Почему перила плывут мимо еле-еле, качаясь, как во сне? Почему мост дрожит? Неужели столбики подломились, мост упал в речку и его несет прочь? Настил скрипуче расхохотался, норовя исподтишка ударить в лицо. Но пара мощных лап помешала Гансу упасть.
— Ты сделал это! Клянусь Зубом Ваала, ты принес огня! Хорал мне в печенку!
В небе парила счастливая морда Азатота, сияя иглозубой ухмылкой. Ноздри старшего по бараку жадно втягивали аромат горящей смолы.
— Давай! Давай скорее!
— Там… сера… за пазухой…
— Вижу, вижу! Ох, и пахнет! Вкуснотища!
Ганса бережно уложили на траву. Старик зажмурился, готов умереть от блаженства. Цветы, шелест травы под легким ветром. Плеск реки. Отзвук гимнов в вышине. И ничего не надо делать, никуда не надо спешить — можно просто лежать… Успел? Опоздал?! — об этом он старался не думать.
— Человек Ганс Эрзнер! — набатом ударило в уши.
Ганс дернулся, открыл глаза.
— Человек Ганс Эрзнер, сучий ты потрох! На выход! С вещами!
Сказать, что громоподобный лай был злым и раздраженным — значит ничего не сказать. Плохо, скрываемое бешенство пропитывало его насквозь. Шайбуран, семеня лапками, подбежал, помог Гансу встать. Указал на давешний холм, являвший собой границу узилища. Там в нетерпении приплясывали знакомые псоглавцы.
Гончие Ада.
— Ты их не бойся, — шепнул, склонившись к уху, черепаук. — Если ты не наш, пусть подавятся, заразы. Сами лопухнулись, ягнята курчавые. Теперь обязаны обратно доставить. В целости и сохранности. А языком тово… языком пускай костерят. Не страшно.
— Ага! — подмигнул демону Ганс. — Пусть язык засунут знаешь куда?
— Знаю. Ну, поминай лихом! Прощай.
— Прощай.
Очень хотелось спросить, что с Калаором, но — не стал. Боялся услышать в ответ…
— Шевелись, паскуда! Наизнанку выверну!
От поселка раздался вой, визг, и Ганс, переходя злополучный мост, не выдержал: обернулся. Демоны изощрялись в презрении к Гончим: свистели, каркали, хлопали себя по задницам, коротышка-Шайбуран скакал и строил рожи, приставив к голове два пальца на манер рожек, — видимо, позабыв про вполне достойные рога, доставшиеся от рождения! Факела, горшка со смолой, равно как кусков самородной серы нигде видно не было: то ли спрятали, то ли успели использовать по назначению… Калаор, четырехглаз, ты жив?
Теперь это навсегда останется тайной для Ганса Эрзнера.
Мучаясь одышкой, он взобрался на холм.
— Давай, мертвечина! Топай!
С превеликим наслаждением Ганс сунул кукиш в харю псоглавца:
— Сам топай, шакал! А я полежу… устал я с вами… Хочешь домой вернуть? Неси!..
И со счастливым лицом потерял сознание.
* * *
— А дальше? — еле слышно спросил Петер.
История безумца, страшная и смешная, перемешав страх и смех в одном ведьмином котле, полностью завладела вниманием бродяги. Наверное, подспудно мечталось о продолжении: жили они долго и счастливо… Вот только кто — они? Поверить рассказу Ганса означало расписаться в помрачении рассудка, но очень хотелось дослушать до конца. Даже если сказочные Ганс и Грета не сумеют удрать из пряничного домика колдуньи, как положено в сказках. Ладно. Пусть призрак Старого Барона по ночам, таинственные огни на башнях или рыцари, калечащие сами себя в надежде обрести стального душителя, пускай что угодно, но замкнуть историю в кольцо…
В тишине звякнул металл.
Петер Сьлядек вздрогнул. Честно говоря, он подзабыл, где сидит. Эх, жили долго и счастливо в Хорнбергском каземате и умерли в один день… От возбуждения почудилось: сухорукий мальчик щелкнул пальцами, а пальцы-то — железные. Но нет, мальчишка всего лишь играл звеньями цепи, вделанной в стену. В отличие от истории Ганса цепь действительно заканчивалась кольцом. Ржавым обручем. И крысы разбежались. Даже месяц исчез из окошка. Наверное, рассвет скоро. Холодно, сыро. И все буднично до омерзения: темница, вонь прелой соломы. Троица грязных, усталых людей. Ночь без сна. Ужас бродит от стены к стене на мягких лапах, втянув когти. Заслушался, вот и притих. Теперь опять, небось, полезет за шиворот: царапаться.
Ганс Эрзнер криво ухмыльнулся:
— А никакого дальше не было, парень.
— Так не бывает.
— Много ты знаешь… Бывает. Живу вот. Грета родами померла, бедняжка. Старый Барон помер, кривая повитуха, царство ей небесное, доброй душе, тоже… А я живу, старый грешник. И внук мой живет. Сам видишь…
Ничего особого не видя, лютнист все же рискнул спросить:
— А протез фон Хорнберга?
— Протез? Нашли его утром, в часовне. На алтаре. Решили: Старый Барон ночью, прежде чем скончаться, отнес зачем-то. Хозяин со странностями, с такого любая дурь станется. Барон-то, оказывается, в завещании велел: протез после кончины моей везите без промедления в монастырь Файльсдорф. К святым отцам. Пускай, дескать, хранят и молятся за грешную душу. Вот и подумали: из часовни — в обитель… разумно, мол… И безопасно. Иначе зачнет по ночам шастать…
— Передали в Файльсдорф?
— Нет. Молодой барон сказал: семейная реликвия. Приказал оставить в часовне замка на веки вечные. Меня полгода донимал: что да как. А когда уразумел, что ничего я ему интересного про дядю-покойника не расскажу, — выгнал. Зачем нахлебника с младенцем даром кормить? Я в Укермарке осел: здоровье, слава господу, есть, ремесло помню. Значит, на хлеб заработаю. Бабка-повитуха сперва на постой пустила, по старой памяти, а там скончалась и домишко нам с внуком отписала. Хорошо хоть в замок наведываться не запрещают: помолиться за хозяина… Могли б в тычки погнать. Самолюбивый он, барон Фридрих. Дураки все самолюбивые, если вдобавок к уму силенкой обделили…
Наверху лязгнул засов.
Дюжиной крыс взвизгнули ржавые петли.
— Эй, мерзавцы! На выход! — рявкнул, протирая заспанные глаза, бравый вояка. Один из тех гостеприимцев, кто привел лютниста в Хорнберг, обещая милость немереную. С похмелья, опухший, синий, он дивным образом напоминал адского псоглаца. — Самограйку свою не забудь, гнида! Удавлю!
Последнее относилось к Петеру.
В предрассветной сырости люди не шли — сочились червями сквозь серую, влажную глину. Обогнув громаду центральной башни, выбрались к часовне. Вояка загнал пленников внутрь, но сам заходить не стал. Просто запер дверь.
— Рада тебя видеть, Эрзнер! — сказала дама в черном.
Ганс вызывающе плюнул себе под ноги. Плевать в часовне — грех, но сейчас священное место выглядело испоганенным. Кругом горели свечи: толстые, жирные, истекая сальными слезами, они вызывали отвращение. Статуя Св. Альмуция была перевернута самым похабным образом: лежа на спине, святой поглаживал ладонью макушку упыря, навалившегося сверху. Из боковых нефов мерзко несло тухлятиной. Завесу отдернули; на алтаре, ладонью кверху, словно прося милостыню, лежала железная рука рыцаря-чернокнижника. Сейчас протез не вызывал страха: мертвый, перевернутый на спину краб высох под солнцем, бессилен и жалок. Рядом с рукой валялось зеркальце в простой оправе из рога. Что зеркальце делает на алтаре в компании хорнбергской реликвии, Петер не знал.
Дама в черном зашлась мелким, старушечьим смешком:
— Ах, Ганс, Ганс-Простак! Зря, что ли, гусей кличут Гансами? Ну что ж, воистину дьявольская шутка: тебе, битому гусаку, сдохнуть именно сегодня вместе с твоим худосочным гусенком…
— Бросьте, милочка, — брюзгливо прервал даму молодой барон Фридрих. Он совершенно не боялся старика с ребенком, а уж лютниста и подавно. Дело крылось не в мече, оттопыривавшем полу баронского плаща. Просто врожденное, благородное презрение к черни столь глубоко въелось в душу, что барону даже в голову не могла прийти мысль о возможном сопротивлении жертв. — Поверьте, у меня нет ни малейшего желания выслушивать ваши плоские остроты. Извольте начинать, я тороплюсь.
— Не вмешивайтесь, господин наследник. Вы хотели Талисман? Вы его получите. Хотели дядюшкину фортуну? Получите тоже. И руку отрубать не придется. Или вы настаиваете? Если да, у нас есть превосходный, опытный рукорез…
— Забываетесь, фрау ведьма!
— Ничуть. А сейчас помолчите. И если ваша дворянская гордость взыграет не вовремя, напомните дуре: кто такой Фридрих фон Хорнберг — и кто такая Черная Женщина Оденвальда!
Видимо, гордость все чудесно поняла и заткнулась. Петер смотрел на молодого барона — надувшийся от обиды, разодетый, как на бал, кочет-юнец, втайне мечтающий стать владыкой курятника, — и думал, что большинство дядиных тайников племянничек раскопать не сумел. Как ни старался. А верный Ганс не озаботился доложить. Вот и купается наследник в зависти к покойнику: богач к еще большему богачу, трус к воину, презренный к наводящему страх. Кипящая, отравная купель — зависть. Эй, бродяга! Опомнись! Странные думы думаешь — в чудовищном месте перед чудовищной смертью. Или надеешься на чудо? Зря… Страх ушел совсем, оставив взамен пустоту на месте сердца; ноги сделались ватными, и в гулкой, выеденной сердцевине поселилось безразличие. Не воин, не дерзец, лютнист ясно понимал: да, выполню любой приказ. И спорить не возьмусь. После чего подставлю шею под лезвие.
Не волк — баран, влекомый на бойню. И даже не баран — овца. У барана хоть рога есть.
Щегол ты, братец, певчий комочек…
— Эй, ты! — дама в черном швырнула Петеру несколько листков, скрученных в трубку и перетянутых нитью. — Прочесть сможешь?
Во всяком случае, поймать — точно не смог. Подобрал с пола: вроде как поклон земной отдал. Долго мучился с узлом. Наконец нить смилостивилась: лопнула. Вгляделся. Спасибо маэстро д’Аньоло, доброму венецианцу: научил разбирать ноты! Сыграть на пороге гибели — что может быть лучше? Вот зачем добрые люди оставили «Капризную Госпожу»…
Инструмент доверчиво прижался к боку.
— Да, госпожа. Это переложенный для лютни хоральный прелюд «Cantus firmus». Иначе «Из бездны взываю я к тебе». Я слышал, сей хорал исполняется в «дни покаяния». Здесь двумя темами сопоставляется земной, человеческий зов и ответ иных сфер…
— Болван! Оставь глупые разглагольствования! Исполнить сумеешь?
— Думаю, что да.
— А задом наперед?
— Вы шутите?
— Если мне захочется пошутить, я предупрежу заранее. Отвечай!
— Наверное…
— Ты уж постарайся, красавчик! Ты очень, очень постарайся… Если выгорит, оставлю жить. Мне личный виртуоз будет весьма кстати. Что губы жуешь? Думаешь: уцелею, мигом побегу с доносом? Полно, дружок! Кто святой хорал наизнанку выворачивал? Кто с геенной в тайном сговоре? Кого святая инквизиция за шкирку и в костерчик? Или пожизненное вкатят… Сообразил?
— Да, госпожа.
— Приступай!
Петер Сьлядек расчехлил лютню. Опустился на пол, устраивая «Капризную Госпожу» поудобнее. Ноты он примостил перед собой, выложив листки веером. Кружилась голова: должно быть, от пряной вони свечей. Гулко сопел барон Фридрих. Или кровь стучала в висках? На Ганса с внуком бродяга старался не смотреть. А еще очень старался не думать: что произойдет вскоре в испоганенной часовне? Это было легче легкого. Вообще не думать. Ни единой мыслишки. Ты уже умер, Петер Сьлядек. Ты взываешь из бездны. Или нет, наоборот: бездна взывает из тебя. Ты ведь знаешь, что не ошибешься ни в едином звуке. Правда?
Пальцы тронули струны.
Хорал двинулся из начала в конец, нарушая привычный ход бытия.
Ворочались тени в нефах. Отблески свечей толкались в зеркальце на алтаре. Бубнила невнятицу дама в черном. «Cantus firmus», «ведущий голос», идя в противоестественном направлении, звучал чуждо, туманя сознание. Вместо парения тема обретала вязкость, тянула к земле, ниже, ниже, в сырую, пронизанную корнями глубину, обрастая искаженными вскриками других голосов. Горбился молодой барон, опустив ладонь на рукоять меча. Сквозняк прошелся между собравшимися в часовне. Стылый, кладбищенский вздох. «Капризная госпожа» отдавалась музыке, словно девственница — сатане.
Бормотание Черной Женщины взметнулось выше, затрепетало под сводами часовни. Алтарь дохнул в ответ струйками пара, сперва сизого, но быстро налившегося тьмой. От облака исходил явственный жар; там, внутри, билось, ища выхода, незримое пламя. Странным образом этот адский огонь заморозил тело лютниста: Петер лишь чудом продолжал играть. Кисти рук превратились в ледышки. Дернись невпопад — отломятся, упадут на плиты, брызнут сотней острых осколков…
Лютня надрывалась из последних сил. Призыв дамы в черном, казалось, сделался оборотнем, превратился в волчий вой — так стая идет по следу подранка. Темное облако застывало фигурой, еще расплывчатой, неясной; окаменел Ганс Эрзнер, закрыв собой безучастного ребенка. Только барон Фридрих со скучающим видом взирал на действо, ковыряя пальцем в ухе: похоже, вокальные упражнения колдуньи не прошли для него даром. Наконец барон зевнул. Он жаждал чудес и откровений, леденящих душу зрелищ и инфернальных картин, а больше — удачи, славы и могущества для себя лично. Пока что наблюдался откровенный балаган. Таких облаков мрака вам любой шарлатан за марку серебром целое небо нагонит…
С финальным аккордом мрак распался лоскутьями, впитавшись в пол.
У алтаря стоял демон. На львиных лапах. Огромный, косматый, с багрово-лоснящейся кожей, под которой бугрились чудовищные мышцы. Клыкастая пасть дышала смрадом, дюжина рогов украшала и без того массивную голову, а на дне четырех глаз-воронок горели смоляные огни.
— Ты, что ли? — без приязни рыкнул гость из ада, глядя на Черную Женщину. — Еще не окочурилась, сучара?
— Поговори мне! — в тоне ведьмы сверкнули нотки базар ной склочницы. — Я тебя, тварь, переживу!
Демон мрачно буркнул:
— Хвалилася кума…
Фридрих фон Хорнберг почесал в затылке, сняв берет. И решил, что пора наконец выйти на сцену главному действующему лицу. Ему то есть. Молодой барон подбоченился, выступая вперед:
— Явись и служи, мятежный дух!
Мятежный дух покосился на крикуна левой парой глаз.
— Уже явился, дурында! Зенки протри…
— Явился, так работай! — шикнула на хама ведьма. — Знаешь, зачем звали?
— Чего там знать… Срок-то хоть какой?
— Пять дюжин.
— Обычных?
— Шиш тебе! Чертовых.
— А не облезете?!
— Закрой пасть! Твое дело — исполнять. Скажи спасибо, что не век вытребовали!
— Спасибо им… — демон почесал когтями под мышкой. — Хрена им… С редькой. Куда подселять будете?
Колдунья кивнула в сторону алтаря. Четырехглаз подслеповато сощурился всеми очами.
— В руку? Не пойдет: она уже траченая. Дохлая. Разве что на крови отпустить? Если надо, могу этому горлопану откусить…
Монстр двинулся к барону, но вмешалась Черная Женщина:
— Какую руку, идиот! Рядом!
— Это ты кобелю будешь командовать: рядом, мол… В зеркало, что ли? Так бы сразу и сказала. Разгавкались тут…
— С тобой, собака, не гавкает, а говорит и повелевает твой господин! — надувшись спесью, возвестил барон Фридрих, чувствуя, что о нем несправедливо подзабыли. Увы, демон пропустил реплику мимо ушей.
— Ладно, куда от вас денешься, — тяжко вздохнул он. В воздухе явственно запахло гарью. — Жертву приготовили?
— А то как же! — осклабилась колдунья.
— Этот шмендрик? — демон в упор уставился на Сьлядека, будто только сейчас заметил его. — Маловато будет. Ишь, тощий! На такой срок…
— Не этот! Лютнист еще нужен!
— Может, толстяка? — демон с надеждой покосился на барона, скучавшего в горделивой позе.
— Вон, парочка. Жри и полезай в зеркало.
Демон угрюмо перевел взгляд в угол, где ждали старик с внуком. Долго смотрел. Очень долго. Протер лапами второй и третий глаз. Подумал и протер первый.
— Зуб даю! Зуб Ваала! Ганс, ты?!
— Калаор?!
— Дружище! Сколько лет…
— Избавь нас от сантиментов! — терпение у колдуньи лопнуло. — Жри и отправляйся служить!
— Да ты вообще соображаешь, Чернуха, кого притащила?! Это ж мой дружок Ганс! Мы ж с ним в одном бараке! Молоко из одного кубка! Он меня в Кущах от смерти спас! Да я скорее тебя, блудню, порву…
— Порвешь?! Меня?! — зашипела ведьма в ответ, скалясь не хуже адского исчадия. Неизвестно, кто в этот момент выглядел страшнее. — Договор! Нарушишь Договор, вечняк схлопочешь! Понял, ублюдок? Приступай!
Увлекшись скандалом, оба не заметили, что к ним подошел сухорукий мальчишка. Возможно, это видел барон, но не придал никакого значения. Ведь не бежит щенок? Напротив, сам к алтарю лезет…
Харя четырехглаза треснула жутковатой ухмылкой.
— Договор? А зачем мне его нарушать? Вызов-то — не именной! Кто заказчик, кто жертва? А? Забыла помянуть, дрянь?! Договор я исполню, в лучшем виде…
Под вуалью не было видно, но сейчас Черная Женщина Оденвальда побледнела впервые в жизни. Отступив на шаг, вскинула руки:
— Нарьяп с’уруган, Аш’Морид Калаор хьо…
Мальчишка протянул руку. Сухая, больная рука ребенка легко прорвала накидку и платье на спине ведьмы. Вошла глубже. Сжались пальцы: так берут палку. «Хребет! Боже, это ее хребет!» — с запоздалым ужасом понял Сьлядек. Ведьма осеклась, истошно заверещала. С прежним невыразительным лицом внук Ганса Эрзнера потряс кулаком: словно крысу держал.
Скрипучий хруст.
Крик смолк.
Сухой рукой мальчишка поднял обмякший труп. Повернул лицом к себе, испытующе заглянул в стеклянные глаза колдуньи. Равнодушно отбросил прочь. Другой рукой, здоровой, взял с алтаря зеркало.
— Аш’Морид Калаор! — сухим, наждачным голосом сказал ребенок. — Сотх ум-карх! Саддах Н’ё!
— Думаешь, у меня выйдет? — с надеждой спросил демон.
Малыш кивнул.
Когда Калаор вцепился в барона Фридриха, Петер Сьлядек наконец потерял сознание.
Очнулся Петер в Укермарке, в доме Эрзнера. Как он попал сюда, как Ганс вывел (вынес?!) его из замка, минуя стражу, — этого лютнист не помнил. А старик помалкивал, отпаивая гостя молоком. Лишь когда бродяга, набравшись сил, решил идти дальше, Ганс обратился с просьбой: сыграй, мол, напоследок детскую песенку о Крысолове. Дескать, матушка давным-давно певала. Внук слушать песню не стал. Ушел на околицу: гулять.
Оставляя Укермарк, Сьлядек долго искал глазами мальчишку: хотел проститься.
Нет, не нашел.
* * *
Четырнадцать лет спустя Петер Сьлядек окажется в Куэнсе, в самый разгар громкого процесса над доктором Эухенио Торальбой. Бывший слуга кардинала Содерини, знаток медицины и философии, а ныне — обвиняемый в ереси и сношении с врагом рода человеческого, Торальба утверждал, что у него в подчинении обретается некий Зекиэль, «темный ангел из разряда добрых духов». Дух сей помогал доктору исключительно в делах богоугодных, как то: являлся в виде белокурого юноши, одетого в наряды телесного цвета, дарил шесть дукатов еженедельно, открывал тайны снадобий, склонял к благочестию, извещал о скорой смерти близких и друзей, возил в Рим по воздуху верхом на трости, а также помог изгнать блудника-мертвеца, донимавшего по ночам благородную донью Розалес.
Вскоре после того, как кардинал Вольтерры и великий приор ордена Св. Иоанна попросили доктора уступить им на время своего демона, а доктор отказал, — Торальбу арестовали по доносу и подвергли пытке.
Процесс затянулся на три года. За опального врача хлопотали высокие лица, в том числе Эстебан Мерино, архиепископ Бари, и его высочество герцог Бехар; им противостояли лица не менее высокопоставленные, например, дон Антонио, великий приор Кастилии, чей родной брат выступил с доносом и обвинением, — писцы изнемогали, скрипя перьями над томами этого дела. Создавалось впечатление, что инквизиторы пользуются доктором для выяснения взглядов «темного ангела» по любому вопросу. Например, допросчики имели слабость спросить у Торальбы: что думает Зекиэль о личностях и учении Лютера Ересиарха и Эразма Гуманиста. Обвиняемый, ловко пользуясь невежеством судей, ответил, что таинственный дух осуждал обоих, с той разницей, что Лютера он полагал человеком дурным, а Эразма — умницей и ловкачом; это различие, по словам духа, не мешало, однако, их общению и переписке по текущим делам.
В начале четвертого года со дня ареста Торальбы в Куэнсу, по личному приглашению Федерико Энрикеса, адмирала Кастилии, явился знаменитый Балтазар Эрзнер, «охотник за ведьмами». На счету Балтазара было больше оправдательных приговоров, нежели обвинительных, но даже Святой Трибунал не рисковал брать под сомнение выводы сего юноши, прозванного «Зерцалом Господа». Сухорукий, медлительный, с лицом малоподвижным и всегда чуть-чуть улыбающимся, он напоминал слабоумного, если бы не взгляд — пронзительный и беспощадный, словно копье.
В спорных случаях Балтазар Эрзнер клал обвиняемому на плечо свою больную руку, — потом у человека надолго оставались следы пальцев, похожие на шрамы, — а другой рукой, здоровой, подносил к лицу арестанта зеркальце. Маленькое зеркальце в дешевой оправе из рога, с каким не расставался нигде и никогда. Заглянув в это зеркало, истинный колдун начинал кричать. Многие ведьмы сходили с ума, чернокнижники принимались каяться, рыдая. Дважды инквизиция поднимала вопрос о зеркальце, намекая на сомнительность методов Эрзнера, и дважды из Рима приходил недвусмысленный ответ: прекратить.
— Глупец, — скажет Балтазар, после того как доктор Торальба без труда вынесет испытание. — Твое тщеславие тебя погубит.
И, повернувшись к судьям:
— Честолюбцы не горят. Он хотел славы, он ее получил.
Весной этого же года доктора приговорят к отречению от ересей, тюремному заключению и временному санбенито, а также заставят подписать отказ от сношений с духами. Еще через шесть месяцев Торальба, подтвердив свое раскаяние, будет амнистирован, — вернувшись к должности личного врача адмирала Кастилии.
В жизни редко случаются счастливые финалы; это же — один из таких.
«Поразительный человек, — напишет позднее о Торальбе некий каноник с правом исповедовать женщин, доктор права, выпускник университетов в Сарагоссе и Валенсии, а также автор нравоучительной мелодрамы «Отвращение к браку». — Сознайся он еще на первых допросах во лжи с целью прослыть некромантом и стяжать всеобщее уважение к своей особе, — он вышел бы из тюрьмы инквизиции раньше чем через год и вместо пыток или тягот заключения подвергся бы только легкой епитимье, поддержан могущественными покровителями. Поразительный пример глупостей, на какие человек способен решиться, если сильнейшее желание привлечь к себе внимание публики делает его нечувствительным к печальным последствиям суетности. Впрочем, гордец добился желаемого, будучи упомянут в поэме Луиса Сапаты «Знаменитый Карл», а также в некоей пародии, гнусным образом высмеивающей благородство истинно рыцарских романов, автором коей явился калека-наемник, едва не отлученный от церкви, обуян корыстной целью: заработать деньги на содержание семьи…»
Впрочем, этого Петер Сьлядек не застанет.
Покидая Куэнсу, он столкнется на улице с сухоруким юношей. Случай? судьба?! — кто знает… Железные пальцы тисками сожмут плечо лютниста, и у самых глаз Петера сверкнет зеркальце.
— Играешь жизнь задом наперед? — спросит охотник за ведьмами.
— По сей день ловишь крыс? — спросит в ответ бродяга.
Сьлядек никому не скажет, что видел там, в глубине отражения.
Возможно, самого себя.
Возможно, нет.
Но очевидцы подтвердят, что лютнист оставит Куэнсу, улыбаясь. Врут, должно быть. Очевидцы, они всегда врут. С чего бродяге радоваться? С новой дороги?!
АЛЕКСАНДР ЗОРИЧ Серый тюльпан
На бранном поле, остро пахнущем гноем и кровью, сидел, обхватив руками колени, варвар по имени Фрит.
Его волосы были скрыты под кайнысом — бесформенным головным убором из некрашеного войлока, похожим на шляпку бледной поганки. Да и сам Фрит был бледным и поганым — последнее, конечно, относилось к его моральным качествам.
Мародеры, которых в той местности звали по-простому, «дергачами», оставили поле еще вчера вечером.
Некоторые едва шкандыбали, сгибаясь под тяжестью мешков с добычей. Другие — те, кто был достаточно удачлив, чтобы исповедовать лентяйский принцип двух «д» (драгметаллы плюс дензнаки), — шли налегке и посвистывали. Смекалистые делали из попон волокуши и, нагрузив их доспехами, оружием и златотканым платьем, содранным с благородных гиазиров, впрягались в них вместо лошадей и тащили добро, тяжело пыхтя, к реке. Там хлюпали брюхами вместительные лодки, отходили баркасы с остатками войск: победители вниз по течению, побежденные — вверх.
К ночи равнина совершенно обезлюдела — смельчаков, которые отважились бы провести ночь в Полях, как обычно, не сыскалось.
Потому, что в гробу карманов нет.
Потому, что жизнь дороже денег.
В общем, лишь воронье, проклятое-помянутое в сотнях сотен баллад и застольных песен — такие песни на свадьбах не поют, только на тризнах, — с опытным видом шарилось над остывающей сечей.
Про то, что творится в Полях три ночи после сражения, ветераны рассказывали страшные вещи — не диво, что они первыми драпали восвояси, когда становилось ясно, кто кого. Даже калеки, и те старались поспеть затемно, хоть на своих троих.
Местное население ветеранским рассказам вторило. И хотя всегда находились образованные молодые люди из уважаемых семей, склонные всё презирать и подвергать сомнению (особенно же рассказы о призраках, демонах земли и хищном ветре), правду знал каждый: по истечении третьего дня трупы людей и животных, погибших в сражении, куда-то деваются.
Вот деваются — и всё. Земля их, что ли, жрет?
Первая ночь с ее хмурыми чудесами прошла.
А поутру в Поля явился Фрит. По молодости он и сам пробавлялся дергачеством, так что вид сотен распотрошенных тел не был ему внове. Тем более, в отличие от других дергачей, он знал, что из ловушки Полей, погруженных в трехдневное призрачное бешенство, все-таки можно выскользнуть. Нужно только быть чистым, не брать чужого и уметь говорить так, чтобы тебя слышали там. И знать лазейки.
Фрит пришел с рассветом и потратил почти полдня на поиски Эви — отменно сложенного серого жеребца чистых аютских кровей.
Нашел.
Нашел своего серого сокола, птицу быстролетную, лапушку-заю, дурилу хвостатого — как он его только ни величал.
Некоторое время Фрит сидел аутичной обезьяниной и смотрел в землю, ничего не говоря, ничего не выражая. И лишь когда порыв ветра сковырнул шапку с его варварской башки, он распрямил спину и вытянул затекшие ноги.
— Уф-ф!
Он придвинулся ближе к коню и погладил его по узкой морде с белой проточиной до самых ноздрей. Черным алмазом горел застывший конский глаз — он смотрел прямо на Фрита.
Эви был мертв — еще в начале сражения ему переломали хребет двуручной секирой. Метили, конечно, в седока. Но лезвие безымянного наемника князя-самозванца Мергела оке Вергрина, оскользнувшись об оплечье добротного кожаного доспеха супостата, соскочило вниз, срезало бахрому с потника, ворвалось в тугое конское мясо и, протиснувшись между позвонков, перерубило горемычному животному спинной нерв.
Конь лежал, вытянув далеко вперед шею, свитую из холодных мускулов, — будто готовился к последнему прыжку. Он подогнул под брюхо ноги с широкими копытами, опушенными поверху длинной серой шерстью, и сердито обнажил желтые зубы — не иначе как саму старуху-смерть укусить пытался, да не случилось.
— Эви-Эви, птица моя быстролетная… А ведь шестнадцать лет — не возраст! Не уберег… Не сохранил… — скорбно приговаривал Фрит, перебирая пальцами конскую гриву мягкости необычайной — куда до нее холеным косам иных красавиц. — Но ничего. Это еще не конец. Мы еще встретимся с тобой, погуляем. В Слепой Степи встретимся. Я, Фрит, обещаю! Клянусь!
Нет, он не принимал участия во вчерашнем сражении. Отсиживался в осиннике за несколько лиг к северу и трясся, как оный же лист, — как бы княжеские разъезды не приняли его за шпиона, со всеми вытекающими.
Сыскав себе пустующую землянку зверовщиков, Фрит устроил у закопченного очага жертвенник. Кое-как разжег огонь, воскурил последнюю щепоть благовонной смеси. И торопливо зарезал на нем двух недомерочных, с тусклым летним мехом хорьков. А когда земля насытилась кровью, возложил на жертвенник четыре дородных желудя, прутик омелы и горстку сахара — все как положено. Он даже окропил жертвенник честным вином! Когда жертва была принята, Фрит обстоятельно помолился — он просил бога войны Куриша пощадить Эви, волею злого случая оказавшегося в Полях.
Не помогло.
Наверное, жертва показалась худосочной. Или на мольбы профессиональных трусов вроде Фрита Куришу, патрону всех отчаянных рубак, было плевать с высоты шестнадцатого яшмового неба, где, и это Фрит знал совершенно точно, располагались его чертоги, снизу доверху облицованные разбитыми в бою щитами.
А может, жертву нужно было приносить, как и всегда, господину Рогу, богу-табунщику, покровителю всех всадников и всех коней на свете?
По рыжей проселочной дороге, которая поднималась на взъерошенный ветром холм, шли две девочки.
Одна — русая, ясноглазая, с кроличьей улыбкой — шлепала босиком.
Другая была обута. Ее увесистые каштановые кудри художественно удерживались на затылке шпильками, а кожаные сандалии с чужой ноги хоть и были ношеными, но все же выглядели почти по-городскому.
Обувь была ей велика, да вдобавок и стара, кожаная подошва некстати расслоилась надвое. То и дело нижняя челюсть сандалии зачерпывала, как лопатка, сухой и мелкий дорожный песок, вздымая чихательное облачко. И тогда щеголиха — именем Гита — шипела: «Ш-ш-шилол тебя задери!»
Ее русую спутницу звали Меликой.
Мелике было двенадцать. Гите — на полтора года больше. Обе жили в поселке, который остался у них за спиной.
— А что ты своим сказала? — спросила Гита.
— Что мы купаться.
— А что со мной, сказала?
— Не-а. Мать меня залает. Она говорит, что ты испорченная. — Мелика посмотрела на Гиту, как бы извиняясь, и пожала плечами.
— Ис-пор-чен-на-я? — с издевкой поинтересовалась Гита.
— Ну… вроде как ты… Это из-за твоей матери… Что она… ну, за деньги, с мужчинами. — Щеки Мелики запунцовели. Чувствовалось, что объяснение далось ей не без труда.
— А что тут такого? — с хорошо отрепетированным спокойствием парировала Гита и добавила: — Нам деньги нужны.
— Ну, вы могли бы выращивать земляной орех. Как все. В городе дают хорошие деньги…
— Тоже мне — деньги! Да моя мама за один вечер заработает столько, сколько они за месяц. Особенно если перед праздником… — Гита спесиво задрала нос. — И в грязи она не ковыряется. У нее белые руки.
— Ну Гиточка, ну маська, не злись! Пожа-а-алуйста! — прижав руки к груди, протянула Мелика и, остановившись, добавила: — Я тоже думаю, что они это от зависти говорят. И ты никакая не испорченная.
Гита тоже остановилась и посмотрела в глаза Мелике — не лукавит ли?
— А я и не злюсь. Скажешь еще! — Гита нервно расправила оборки на линялом платьице, перешитом из некогда фасонистого туалета недорогой куртизанки, и снова зашагала. Сама невозмутимость!
Некоторое время они шли молча.
Гита нервно теребила стеклянные бусы с разноцветными костяшками и думала об огородничестве. Ей не нравилась грязь. И земляные орехи она тоже не любила. Впрочем, Гита не считала слова Мелики пустыми. Орехи не орехи, но можно ведь, например, шить. Бабушка рассказывала, что мама умеет шить. И что когда-то она была белошвейкой в поместье у одной благородной госпожи. И, верно, кроила бы по сей день рубахи, если бы не Один Подлец. Он подарил скромной белошвейке слишком нескромный подарок.
А Мелика думала о том, какой ужасный скандал будет, если родители узнают, где они с Гитой были.
Ходить в Поля было запрещено. И староста не далее как вчера обещал посадить на кол всякого, кто осмелится ослушаться запрета.
Потому что нельзя нарушать покой павших на бранном поле, пока не пройдет три лунных ночи и три дня.
Почему нельзя? Этого Мелика точно не знала.
«Наверное, потому что призраки».
Но призраков Мелика не боялась — главным образом потому, что их не боялась Гита. «Днем призраков не бывает!» — уверяла она Мелику.
Это была идея Гиты — пойти в Поля сразу, не дожидаясь, пока минет положенное время.
Мелике нравилось все, что предлагала Гита. Мелике очень нравилась Гита.
Фрит был узкоплеч, высок ростом и глядел на мир орехово-карими глазами.
Одет он был опрятно и не без затей — на шее у него красовался амулет, чей скромный вид компенсировался невероятной магической силой. Концы же серо-голубого плаща скрепляла на правом плече застежка: гадюка, скрутившаяся кукишем. Штаны, рубаха и ремень Фрита остро пахли хорошей кожевенной мастерской. Если бы не шапка-кайныс, его можно было бы принять за северного грюта, тянущегося к наукам и прочему просвещению.
Но Фрит не собирался расставаться с шапкой. Настоящий мужчина должен носить кайныс, ибо кайныс был первым подарком богов людям-всадникам. Так считал Фрит. И точка.
Однако даже дикарский кайныс облик Фрита почти не портил. И люди просвещенные — например, варанцы — часто делали Фриту комплименты. Что, мол, для варвара он весьма элегантен.
Соплеменники, напротив, редко шли дальше малоумных обобщений — говорили «обабился».
«Да что с них, малохольных, взять, — думал Фрит. — Веру дедовскую забыли, обычаи не блюдут, от правды отпали. Даже жертвы пошли у них, как у всех «просвещенных» — бескровные. Но разве богам нужны бескровные жертвы? Это как псов сторожевых гороховой кашей кормить…»
В общем, Фрит предпочитал общаться с варанцами и аютцами — те хоть и отступили от заветов дедовских, но, по крайней мере, этого не скрывали. Фрит не любил лицемерие. К сожалению, кроме как о лошадях, с деловыми аютскими мамашами Фриту говорить было не о чем. А варанцы чересчур любили воевать — и промеж себя, и с грютами, и с кем попало.
Когда дело доходило до междоусобий, на которые те времена были до мерзкого богаты, Фрит отсиживался в провинции, предпочитая жутко исторические городишки. Он заметил: некоторые из них война, даже самая людоедская, упорно обходит стороной, обтекает — как ручей высокую кочку.
Скоро Фрит вывел свое личное Правило Безопасного Места. Правило было простым, но работало, как небесная механика, — если городишко упоминается в «Хрониках Второго Вздоха Хуммера», написанных в пятьсотзачуханном году, значит, там бояться нечего.
Город поленятся осаждать, в него не войдет неприятель, в нем не встанет на зимние квартиры озябшая армия. Даже цены на зерно и масло вырастут лишь для проформы — вот, дескать, у нас тоже военная истерия и бесчинствуют спекулянты.
«Хроники» Фрит всегда возил с собой в дорожной сумке вместе с самым необходимым — жертвенной чаркой, лекарством для Эви, солью и честным вином. Время было нервным, Фрит любил путешествовать, и неудивительно, что книгу он перечитывал многократно.
Некоторые особенно богатые топонимами места (вроде «егда бо грядеши на грютов Радагарны, Гирны, Согирны и Умугамы с войною» или «прохождение между Урталаргисом и Белой Весью, искусиша воеводу лицемеры фальмские») Фрит успел заучить наизусть.
Благодаря этому он не раз сходил за своего в компании действительно образованных людей.
Фрит ненавидел войну. Он приторговывал лошадьми, покупая здесь, перепродавая там. А на войне таким, как он, делать было нечего. На войне ничего не покупали, там тратили и изводили, словно на спор — кто быстрее — купленное загодя.
Но главное, война, по мнению Фрита, была богам не угодна. Да, кровь там лилась рекой. Но река эта впадала не в то море…
В войне Фрит видел пустое расходование ценного продукта — человеческой крови. Что толку для Куриша, Рога или Гуда, бога небесной ярости, в том, что одна тысяча варанцев забьет в землю другую тысячу под истеричный грохот барабанов? Боги любят тонкости и тишину, боги любят слова, сказанные с чувством и вовремя. Боги любят, когда все совершается обстоятельно, а не с бухты-барахты.
Боги любят, когда кровь проливают ради них, а не ради спорного урочища, промысла или рудника…
В Поля Фрита не занесло бы никогда и ни за что, если б просвещенные варанские скоты именем Князя и Истины не конфисковали у него Эви, когда он следовал в абсолютно безопасный городишко Корсис (Он упоминался в «Хрониках» дважды!).
Это произошло четыре дня назад.
Все четыре дня Фрит тайком следовал за войском князя Занга оке Ладуя — все пытался вызволить свою лапушку, свою серую птицу, Эви.
Звал его и свистом, и словом, и любимым его лакомством, выкладывая из земляного ореха целые пунктирные тракты, оканчивающиеся в безопасных кустах — авось заметит, поймет, вырвется. Пытался подкупить конюхов. Даже стражу пробовал усыпить.
Но хрен там.
Сопалатник оке Ладуя Ингар — тот самый, что затеял конфискацию, когда Фрит отказался взять за Эви предложенную баснословную цену (а затем отказался снова, когда Ингар цену удвоил) — знал толк в скакунах.
Его было не обмануть неказистой сбруей и нечищеными боками. Челядинцы Ингара не спускали с конфискованного коня глаз — ведь гиазир Ингар выразил желание идти на нем в смертный бой!
И что?
В Полях погибли и сам Ингар, и оке Ладуй, и Эви. И князь, так сказать, и истина.
А для Мелики и Гиты эта история началась вот как.
— Недавно у нас ночевал один мужчина. Его звали Лид, — рассказывала Гита. Они сидели на бревнышке у гнилого озерца и грызли семечки. — Мама говорит, он жрец храма Элиена Звезднорожденного. Мама его всегда хвалит. Он постоянный клиент. И потом, он хорошо платит и ничего не требует.
— Совсем ничего? — с подначкой спросила Мелика. Ей нравилось, когда Гита говорит цинично, и она использовала всякую возможность подбить Гиту на «правду жизни». Ей было интересно.
— Ничегошечки, — Гита отрицательно замотала головой. — Ему только надо, чтобы мама его слушала. А всякие нежности — это ему не надо.
— Он старый?
— Не очень. Просто ему не нравятся женщины. Вообще никакие.
— Вот дурак! — хихикнула Мелика.
— Нет, он не дурак, — серьезно возразила Гита. — Наоборот, Лид ужасно умный! Он знает, как называются все звезды. И может говорить как иноземцы.
— И как варвары?
— А то! Он даже меня научил.
— Ну тогда скажи что-нибудь по-варварски!
Гита скорчила рожу — искривила губы, выпятила нижнюю челюсть и нахмурила брови, — она хотела походить на Куриша, варварского божка войны, свирепую рожу которого видела однажды на нагруднике случайного маминого клиента. И патетически провозгласила:
«Гыгрыфыр фурбабыр!» А потом еще раз: «Гыгрыфыр фурбабыр!»
Впечатленная Мелика отреагировала не сразу.
— И что это значит? — спросила она, выдержав одобрительную паузу.
— Это значит «Мелика — коза», — взгляд Гиты враз озорился, если позволительно так сказать о двух озорных солнышках, что сверкнули в ее глазах. И она рассмеялась писклявым девчачьим смехом.
— Сама ты коза, — для виду надулась Мелика. Надолго ее не хватило — вскоре они хохотали вместе.
— И что этот жрец? — спросила любознательная Мелика, когда веселье унес порыв ветра:
— Рассказывал про Серый Тюльпан.
— Серый?
— Ага, — кивнула Гита и, по-родительски глянув на Мелику, добавила уже другим тоном: — У тебя лушпайка на верхней губе прилипла. Сними.
Мелика мазнула пальцами по мордашке. Еще раз мазнула. Порядок.
— А что, разве бывают серые цветы? — спросила она.
— Сто пуд!
— И где тогда они растут?
— В полях. Таких, как наше Поле. Там, где была битва, — Гита понизила голос. — Серый Тюльпан вырастает в том месте, где умер человек, который подумал о цветах перед самой-самой смертью.
— Как-то непонятно это, — Мелика лениво зашвырнула в воду голыш.
— Что тут непонятного? — взвилась Гита. — Вот тебя проткнули мечом. Так?
— Так.
— И ты умираешь. Представила?
— Представила.
— И кишки у тебя вываливаются наружу, такие коричневые.
— Блуе-е… — Мелика закатила глаза, перегнулась пополам, вывалила черный от семечковой гари язык и спазмически дернулась — словом, сделала вид, что ее сейчас стошнит. Она научилась этой ужимке у Гиты и втайне ужасно гордилась тем, что смогла превзойти наставницу.
— Ну ладно. Кишки — это не обязательно, — с авторитетным видом заверила подругу Гита. — Главное, ты знаешь, что сейчас умрешь. Представила?
— Ну.
— О чем ты будешь думать?
Мелика гадательно закусила нижнюю губу и засопела, подыскивая ответ.
— Ну… Буду звать на помощь…
— Бесполезно!
— Тогда про папу. Или лучше стану думать, что сейчас я усну. А проснусь уже там, где бабушка. Или буду вспоминать, как тот благородный гиазир катал нас в своих санях с колокольчиками. Помнишь?
— Да помню! Я не про то! — Гита досадливо махнула рукой и добавила: — Вот у таких, как ты, Серый Тюльпан в жизни никогда не вырастет! Никогда!
— Это еще почему?
— Потому, что ты — приземленная! А Серый Тюльпан вырастает только рядом с теми, кто думал о тюльпанах.
— И что с того? Что с того, что тюльпан вырастает, — подумаешь, радости такой! — Мелика сделала плаксивое лицо, ей стало обидно, что Гита, ее Гита, говорит о ней так пренебрежительно. — Да оно и некрасиво — серый цветок!
— При чем тут «красиво»? Серый Тюльпан может оживлять мертвых, — со значением сказала Гита и пристально посмотрела на Мелику. — Это мне сказал Лид.
— Враки.
— Никакие не враки.
— Не верю!
— Ну и коза. Ты лучше подумай, что, если правда? Лид говорил, что Серый Тюльпан — это дар. Дар Матери Трав тому, кто вспомнил о ее детях перед смертью. Может, ты и в Матерь Трав не веришь?
Мелика закинула в рот целую горсть семечек и принялась сосредоточенно их перемалывать. Матерь Трав была покровительницей ее рода. И имя «Мелика» означало в древности «росистая». Росистая трава, надо полагать.
— И как его достать — Серый Тюльпан? — спросила наконец Мелика.
— Для этого нужно пойти в Поля на следующий день после битвы. И найти цветок. Лид говорил, что всегда, всегда есть человек, возле которого такой цветок вырастает. Всегда!
— Так почему твой Лид сам туда не пошел? Ему что, такой цветочек не требуется?
— Потому что нужно, чтобы человек был нецелованный.
— Как это — «нецелованный»?
— Тьфу ты! Нужно, чтобы его никто никогда не целовал. И он чтобы никого.
— А мама считается?
— Мама не считается.
— Тогда все равно не понимаю, почему Лид сам в Поля не ходит.
— Потому что он целованный, дурочка ты с переулочка. — Гита дернула Мелику за тощую косицу.
— Ты же сказала, что ему женщины не нравятся! Кто же его тогда целовал?
— Мужчины. Что тут непонятного?
— Тю, — Мелика рассеянно сплюнула колючий шарик лузги, он ляпнулся прямо между ее босыми ногами.
— Все равно — Лиду нельзя. А нам — можно!
— Подожди-ка… Ты же говорила, что тебя тот благородный гиазир целовал?! — Мелика требовательно прищурилась.
— Ну… говорила.
— Соврала?
— Вроде того.
— Фу, какой страшный. — Мелика противно скривилась, указывая на мертвого молодого лучника.
Голова вояки со зверски выпученным красным, оплывшим глазом была аккуратно отделена от тела при помощи варанского меча хорошей заточки и лежала сравнительно близко от туловища, ухом вверх. Туловище и голову разделяло пол-локтя пустоты, но Мелике на секунду померещилось, что у молодчика длинная, невидимая шея.
— Этот еще страшнее. — Гита ткнула носком сандалии зарывшегося лицом в пыль толстяка. Его незащищенная доспехами спина была нещадно исполосована рублеными ранами, как подсохшая на солнцепеке лужа — тележными колесами.
Сандалия расклеилась еще больше, и ее носок стал похож на широко распахнутый клюв утенка. Гита наклонилась, чтобы этот клюв прикрыть. В ноздри ей ударил резкий аммиачный запах.
— Еще и описался тут…
— Папа говорил, это всегда так, — вздохнула Мелика.
— А откуда он знает?
— Он в солдатах был.
— Князь обрил?
— Не-е. Нанимался в дружину баронов фальмских.
— Небось денег заработал?
— Небось. Только они с дядьями все по дороге пропили.
Мелика ненадолго примолкла, присев на корточки над раздетым до подштанников щуплым благородным гиазиром с длинными кудрями цвета спелой пшеницы.
Гиазир лежал среди декадентских кустов прошлогоднего репейника в некотором, намекающем на занятную батальную коллизию, отдалении от основного скопления трупов. Ветер играл с его роскошной гривой в свои некрофилические игры.
Судя по тому, что на теле павшего было не различить смертельной раны, одни только синяки и ссадины, гиазир свернул шею, свалившись с ополоумевшего от страха коня. А уж затем дергачи помогли ему избавиться от платья.
Затем Мелика рассматривала татуировки на полном, мускулистом предплечье пехотного сотника: паук сладострастно смокчет мушиную кровь, ворон с аппетитом завтракает волчатиной, морская гидра душит в объятиях грудастую купальщицу с безобразно оттопыренными сосками. Еще были многообещающие короткие надписи. Впрочем, Мелика была неграмотной и насладиться глубиной философских обобщений, записанных на мертвом теле, ей не случилось.
— А что я нашла! — гордо провозвестила из кустов Гита. Ее карие глаза сияли.
— Покеж?!
— Вот!
— Меч? Ничего себе!
— Да ты прицени — какой! — Зашуршала трава — это Гита, надув от натуги щеки, выволакивала из кустов настоящий полуторник. Преувеличенно массивное яблоко меча было облеплено зелеными гранатами разной величины и формы. Лезвие меча — чистое, незазубренное, неоскверненное — дало на солнце ослепительный отблеск.
— Ухтышка! — всплеснула руками Мелика. — И где он был?
— Да тут, в траве лежал. Эти балбесы его не заметили.
— А он… а он чей?
— Теперь — наш!
— Наш?
— А чей же еще?!
— И что мы с ним сделаем?
— Зароем где-нибудь, — решила Гита, к чему-то мысленно примеряясь. — Возле Тухлой Балки, на нашем месте. Там никто не найдет.
— А потом?
— А потом продадим! Деньги поделим. — Гита сделала паузу и пояснила: — Поделим поровну.
— А сейчас куда его девать? Он же тяжеленный! А нам еще Тюльпан искать… И надо бы пошевеливаться. А то как стемнеет, у-у. — Мелика угрюмо поежилась. — Сроду не была трусихой, но… понимаешь… мне тут иногда кажется, что меня кто-то сзади того… По шее пером щекочет…
— А давай его просто в землю воткнем! — предложила Гита, страхи Мелики показались ей ерундовыми.
— Ты что! Ты что! Мне папа говорил, этого нельзя делать ни в коем случае! — запротестовала Мелика.
— Потому что мечу это не нравится — торчать в земле!
— Подумаешь, не нравится! — Гита артистично закатила глаза. — В трупе ему, значит, нравится торчать. А в земле — нет, не нравится!
Гранатовое яблоко меча ответило словам Гиты приглушенным изумрудным сиянием, но ни одна из девочек этого тревожного обстоятельства не заметила. Обе были увлечены спором.
— Земля ему лезвие портит. Вот ему и не нравится! — пояснила Мелика. — Так что давай лучше в трупяка его воткнем. Тогда и видно его будет отовсюду!
— Как же! Отовсюду! Вот дойдем до вон того флажка — и ни фига уже нам видно не будет, — засомневалась Гита.
— Тогда давай заволокем труп на труп. А сверху еще один труп положим. Чтоб была башня. А в самого верхнего воткнем меч. Так мы точно его откуда хочешь заметим! — проявила сообразительность Мелика.
Так и сделали — татуированный стал фундаментом, одноглазый и пшеничноволосый — этажами.
Фриту было что вспомнить. Он гладил Эви по узкой мор Де, и прошлые дни являлись перед ним, настоящим, как будто и сами были живы.
Он не утирал слез — ведь траур должен быть со слезами.
Про то, что мужчины не плачут, пусть рассказывают изнеженные варанцы, которые чуть только кашель, мозоль или озноб — кличут врача с дзинькающими в сумке шарлатанскими микстурами и черными пиявками. Варанцы, которые считают, будто лошадь глупей конюха. Что ж… Вот они и валятся из седел, как погремушки из рук дитяти, стоит только коню скозлить или чуток подыграть задом, а уж если скакун понесет, то тут сразу «Шилол, помоги!», а то и вовсе «мамочки!». Так говорят только ни во что не верящие варанцы, которые на застольях толкуют про пользу единодержавия и честят никчемных поэтов вместо того, чтобы обсуждать действительно насущные темы: как угодить богам, как обезопасить себя от завидущих и вооруженных до зубов соседей.
Фрит знал наверняка: мужчина должен плакать, когда умирает конь. Потому что нет у него никого дороже.
Сколько раз Эви уносил Фрита от разбойного люда, от песчаной бури, от чреватого низким чувством женского взгляда? Увы, Фрит умел считать только до ста.
А сколько раз чутье Эви выводило обессилевшего от голода Фрита к человечьему жилью? Даже в непроглядное ненастье, даже в метель Эви умел разбирать дорогу. Он не боялся ни молнии, ни зверья, ни конокрадов.
Эх, сколько золотых монет было взято Фритом на спор — ведь Эви действительно был самым быстрым, самым выносливым, самым-самым…
С кем только Фрит об заклад не бился! Даже с племянницей аютской принцессы! И выиграл! Он всегда выигрывал!
И, между прочим, в одиночку, без такого помощника, как Эви, торговое дело Фрит попросту не осилил бы. Это Эви стерег купленных, Эви водил их за собой и учил держаться гоголем перед покупателем, а когда Фрит никак решить не мог, стоит ли лошадка тех денег, Эви завсегда давал знак. Мол, «на вид хороша, а нрав гнилой»…
«А ведь поначалу-то не сказать было. Заморыш заморышем», — вздохнул Фрит и криво улыбнулся.
Когда Эви родился, кобыла не желала признавать сынка, даже морды к нему не поворачивала. А сам жеребенок уж до чего был слабенький — к сосцу материнскому и то подойти был не способен…
Это он, Фрит, обсыпал склизкого нескладеныша отрубями да подволок к матке — и лишь тогда дурында облизала его, признала… Фрит помнил все, будто вчера, и запах прелого сена, в тот год такие дожди лили, что взопрели все сеновалы. Да что сеновалы! Даже перины в доме и те…
Он заезжал и оповаживал Эви сам, никого к нему не допуская. Он выучил его всему, что должны знать верховые кони, — И тайным посвистам, и ладному, собранному ходу. А когда Эви исполнился третий год и он вошел в стать и силу, Фрит покинул отчий дом, чтобы не возвращаться в него больше никогда.
Фриту не нужны были ни братья, ни сестры, ни жена, ведь у него был Эви. Разве сравнится пахнущий кухней поцелуй женщины с безгрешным тычком волосистой конской морды?
В Эви, высокого, крепконогого, неутомимого, вложила судьба все, что нравилось Фриту в земляках, — и вольный нрав, и правдивую, нутряную преданность, и жизненную силу, идущую от земли к небу.
С таким товарищем, как Эви, можно было жить хоть бы и во всем мире сразу. И не скучать ни по ком.
Солнце уже вскарабкалось на свою полуденную верхотуру и теперь в окружении свиты тщедушных облачков следовало на запад.
Ненароком Гита и Мелика собрали неплохой урожай: кошелек, нафаршированный Медяками, и охранительный амулет. Попервой он пытливо зыркнул на Мелику своими глазищами-аквамаринами, но вскоре присмирел и, как всегда, прикинулся неодушевленным. Также были найдены дамский кинжал с монограммой «исс Вергрин» и парчовая, расшитая чудными рыбами сумка, полная верительных грамот, — молодой парень с простоватыми чертами честолюбивого провинциала перед смертью прижал ее к груди, будто в ней было все его спасение.
Сумку можно было и не брать. Но от глянцевитых печатей на грамотах веяло чуть ли не княжеским дворцом, а пергамен так приятно щекотал щеку… А уж рыбы и вовсе глаза забирали — они плыли сквозь голубую парчу в самые Чертоги Шилола, такие важные, такие вельможные!
— Лид говорил, рыбы приносят богатство, — прошептала Гита.
Однако избыток впечатлений быстро утомил девочек.
— Гита, а Гита… — заныла Мелика.
— Ну чего тебе? — Гита нехотя оторвалась от осмотра карманов упитанного латника, судя по гербу на нагруднике — из личной охраны Занга оке Ладуя.
— Я устала!
— Потерпи. Что я тебе — мамка, в конце концов?
— Есть очень хочется!
— Пожуй травки. Ты же у нас коза! — зло буркнула Гита.
У нее тоже от голода кружилась голова. Но не уходить же из-за этого с Полей, где столько всего!
— А попить у тебя есть?
— Да откуда?! Из лужи вон попей…
— Фу-у…
— Тогда кровушки пососи, — сказала Гита, с недоброй усмешкой присаживаясь возле трупа копейщика, чье лицо было старательно обезображено вороньем. — Я вот пососала — так мне сразу того… есть и расхотелось.
— Ну Гиточка! — заныла Мелика. — Не пугай меня!
— А ты не ной!
— Хорошо. Не буду, — сдалась Мелика. С минуту она молчала, подавленно рассматривая свои грязные ногти. А потом вдруг сказала, резко изменив интонацию: — Знаешь, Гита, что я думаю? Я думаю, что, наверное, хватит все эти вещи брать… Это как-то нехорошо… Проклятое это дело — дергачество. Мне папа говорил, что дергачей потом проказа поедом ест.
— Да разве ж это дергачество? — возразила Гита. Получилось не очень-то убедительно. — Мы просто взяли то, что никому не нужно…
— Ну да. Только сдается мне… в общем, если мы сейчас же не прекратим, то это… проказа будет… Носы отвалятся. Если ни чего похуже. — И Мелика всхлипнула так натурально, что даже Гиту пробрало.
— Чур меня! Чур!
— И руки-ноги будут все в чирьях… — добавила Мелика, как в сомнамбулическом трансе. Ее голос был таким тихим и по-новому убедительным, что Гита вдруг осознала: наивными устами Мелики говорит нечто такое… нечто такое, чего лучше послушаться.
— Тогда, может, давай все это выбросим? — предложила Гита.
— Давай.
— И кошелек тоже?
— И кошелек… Придется…
И, сложив свои трофеи кучкой, присмиревшие девочки продолжили поиски Серого Тюльпана.
— Тюльпа-ан! А Тюльпанчик? Ты где?! — позвала Мелика.
Они доплелись до махрово-зеленой низины, где прошли последние часы ставки Сиятельного князя Занга оке Ладуя — правителя законного, но несчастливого.
Тут дергачи поработали особенно старательно — большинство покойников лишилось всей одежды, обуви и белья, а вместе с ними и той жалкой благообразности, которая бывает свойственна трупам, — слишком уж тщательно их обыскивали, слишком часто переворачивали. Вот они и лежали раскоряками, раками, пьяницами, а вовсе не павшими героями. Вид сизых и розовых раздетых тел, не до конца утопленных в изумрудной шерсти земли, был сюрреалистичен, гадок. Зато Гиту и Мелику больше не искушали бесхозные кошельки и «потерявшиеся» кинжалы…
— Ты чего кричишь? — настороженно спросила Гита.
— Так, ничего. Просто. Тюльпан зову… В шутку!
— А-а, в шутку… А я уже думала, ты того… В уме повредилась. — Гита задрыгалась, изображая расслабленного.
— А что, тебе этот твой Лид не объяснил, как быстрее Тюльпан искать?
— Не-а. Говорил, сам найдется. — Гита все больше мрачнела. В глубине души она уже начала раскаиваться в том, что повелась на жреческие побасенки. Да еще и подругу подбила.
— Ну, значит, так оно и будет, — радостно согласилась Мелика. — Лучше давай подумаем, что мы с ним сделаем, когда найдем.
— Ну… Как это — что? Можно будет кого-нибудь оживить!
— Кого?
— Да кого угодно!
— Ну кого, например?
— Ну, например, Борака.
— Это кузнеца, что ли? Со Старой Заимки? — удивилась Мелика.
— Ну да.
— А зачем его оживлять? Он уже старый был, когда умер. И кривой… А неприветливый какой — жуть! Я ему в предзимье ножи носила, подточить. Стоял такой морозище… Воробьи на лету падали! А он даже не зазвал в хату. Так в сенях со свиньями до полудня и простояла как колода — думала, мне там карачун придет. Зачем такого оживлять?
— Он маме денег должен!
— Много?
— Два серебряных авра!
— Ого…
— Вот-вот.
— Должен-то он, может, и должен… Только ты думаешь, что отдаст, если оживет?
— Может, и не отдаст… С козляры станется… Пожалуй, жирно ему будет — Тюльпан еще на него тратить! — резюмировала Гита. — А ты б кого оживила?
— Я? Ну… наверное, бабушку.
— Так ее уже и черви слопали, небось, — скептически отозвалась Гита, загибая для счету пальцы на левой руке — сколько же это месяцев прошло? И, остановившись на мизинце правой, она заключила: — Стопудово слопали! До самых до костей уже догрызлись…
— Ну… И что с того, что слопали? Ну, догрызлись даже — пускай. Нельзя, что ли, оживить?
— Нельзя.
— Это еще почему?
— Лид предупреждал, что оживить можно только того, кто умер не больше одной луны назад.
— Тю… Так бы сразу и сказала. — Мелика разочарованно поджала губы. — Тогда я бы оживила Лилу.
— Эту малую, что ли? — Гита недоуменно вытаращилась. — Которую Хромоножка по осени родила? Это еще зачем?
— Знаешь, Хромоножка так плакала, когда Лилушка умерла…
— Подумаешь, плакала! Она же дура! И на руку нечистая — это всем известно. Не пойму вообще, что ты в ней нашла! — ревниво заметила Гита.
— Зато она добрая, знает разные истории и… И мне ее жалко.
— Жалко у пчелки!
— Все равно. Все равно.
— А я, может, против — на какую-то Лилу переводить волшебный цветок! — объявила Гита и для убедительности подбоченилась.
— Не станешь же ты Лилу оживлять без моего согласия? А моего согласия на эту Лилу нету!
— Ах вот ты какая?! — В глазах Мелики блеснули слезы.
— Да! Такая! Вот такая вот! — выпалила Гита, но, заметив, что Мелика готова разреветься, она спешно проявила благоразумие. Ведь все-таки она была старше. Тут, в Полях, только рыдающей Мелики не хватало. Но главное, что толку спорить, как распорядиться Серым Тюльпаном, когда они его еще не нашли?
Гита великодушно заулыбалась и, переменив тон, сказала:
— Ладно, ну котенок… не дуйся, а? Ты лучше сама подумай. Вот оживишь ты Лилу. И что с ней Хромоножка делать будет? Разве Хромоножке станет легче? Ей и самой-то жрать нечего. Горшки она выносит за всякими уродами, а ей за это котелок облизать разрешают! Ну поплакала-поплакала, так зато она теперь снова свободная девица! Авось кто просватает. А с Лилу кому эта Хромоножка нужна? Так что ты лучше не про Лилу, а про Хромоножку свою побеспокойся. Да не реви же ты, дурочка!
Но увещевания Гиты на Мелику не подействовали — может, потому, что слегка запоздали. А может, потому, что Мелика чувствовала себя измученной, голодной и виноватой. Правда, плакала она недолго.
— А если, допустим, оживить жену старосты? А староста нам за это… ну, что-нибудь хорошее сделает? — предложила Мелика и невинно высморкалась в льняной подол платья.
— Ага. Сделает он тебе хорошее, как же, — проворчала Гита. — На кол посадит. За то, что в Поля ходила, хоть заповедано это. — И Гита неожиданно игриво подмигнула Мелике. Она была рада, что та наконец успокоилась. — Забудь ты про старосту! Я тут кое-что получше сообразила!
— Мелика любознательно хлюпнула носом.
— Давай оживим того парня, которого, помнишь, возле плотины застрелили солдаты!
— Помню…
Мелике вдруг увиделось все очень отчетливо. Через кусачие заросли крапивы продирается мужчина, оголенный по пояс, — у него потом вся кожа вспузырилась чесучими крапивными волдырями. Широкий лоб перевязан выцветшей засаленной тряпицей. Задыхаясь, мужчина бежит в лес, который один только и может скрыть от преследователей затравленное неистовство его движений.
Мелика вспомнила и шрамы, которые заползшими под кожу червями извивались на его резко очерченных скулах. Что они с ним делали, интересно? Пытали? И розово-красные следы от цепи на шее и запястьях (правда, их они разглядели позже, когда беглец был уже мертв — арбалетный болт пробил ему горло навылет, побег в каком-то смысле удался). И двоих всадников — по виду служилых людей, — метущихся по глинистой насыпи плотины с гортанным хищным гиканьем. Один из всадников раскручивал над головой аркан, каким ловят скотину. А его приотставший товарищ на скаку делал заметки на восковой табличке — и как только умудрялся?
— Тот хоть красивый был. И сильный.
— А что нам толку с того, что он сильный? — прагматично поинтересовалась Мелика.
Она решила бить Гиту ее же оружием — «пользой», «толком», «рассуждением».
— Ну… Он будет нам обязан. И станет нашим рабом. Будет исполнять наши прихоти… — протянула Гита, мечтательно теребя бусы.
— Как же, как же! Станет он тебе рабом! Мне папа говорил, что он из Крепости сбежал. Видать, не по нутру ему было в рабах ходить. И тебе он служить не будет, я думаю.
— Откуда тебе знать?
— Ниоткуда. Просто если его в Крепости держали, значит, он был опасный. Может, ограбил кого-то. Или убил.
— Напугала, тоже мне! Да тут вот, — Гита обвела Поля широким жестом, — каждый кого-нибудь да убил. Ты ж их не боишься…
В этот момент нить, соединявшая Гитины бусы, некстати лопнула, и стекляшки разноцветным градом хлынули на землю. Отбарабанив по листу лопуха, бусины шустро бросились врассыпную.
Гита тотчас же принялась собирать.
Мелика тоже встала на колени и засуетилась, снося в ковшик ладошки несъедобные, несминаемые черничины, вишенки, волчьи ягодки. Но мысли ее были заняты совсем другим.
— Так что это получается, Гиточка?
— Получается, те, кто умерли, нам, живым, здесь совсем не нужны? Умерли — значит, туда им и дорога? Пусть лучше там и будут? — серьезно спросила Мелика. — Выходит, справедливость есть?
— Справедливость? — рассеянно спросила Гита, она была поглощена облавой.
— Ну да. Выходит, хоть в жизни справедливости и нет, но в смерти справедливость очень даже есть?
— Ну ты как скажешь… Точно как Лид, Шилол тебя задери! — отмахнулась Гита.
Когда воспоминания оставили Фрита, он встал во весь рост и вынул из сумки флягу с терпким сладким вином.
Это вино называлось у варваров честным, и выжато оно было из винограда, чьи лозы взросли на костях праведников. На вес серебра ценилось честное вино — что, впрочем, неудивительно, ведь и в стародавние времена, когда боги еще говорили с людьми запросто, праведников все равно было раз два и обчелся.
Следом из сумки вынырнула серебряная чарка для жертвоприношений — лишь ее взял в странствия Фрит из погрязшего в нечестии отчего дома.
Бока чарки были покрыты недурственной чеканкой — диким галопом гнали по серебряной пустоши ладные скакуны, гнали друг за другом, намечая бесконечный хоровод, своего рода круговорот коней в природе. Дно же чарки давно потемнело — ведь еще прапрапрадед Фрита унаследовал ее от своего деда (если, конечно, не соврал).
Лицо варвара враз посмурнело, будто кожа стала вдруг слюдяной, — именно таким, по мнению Фрита, должно быть лицу мужа, обращающегося к господину Рогу.
Он медленно, чтоб не утерять ни капли, налил на дно чарки вина и, прошептав «прими!», плеснул вязкой винной сладостью в сторону западную. Затем окропил север, юг, восток. И пригубил из чарки сам.
Когда вино торжественно вползло в желудок, Фрит закрыл глаза и прислушался.
Теперь самое важное. Если птичий крик раздастся справа от него — значит, Рог принял жертву. Если слева — не принял.
Он ждал долго, пока не услышал со стороны дальнего оврага, заросшего нетронутыми битвой дикими злаками, перепелиный крик: «Подь-полоть!», «Подь-полоть!»
Зов донесся отчетливо, но овраг, как ни крути, располагался от него слева…
«Наверное, вина господину Рогу мало. Что ж, и впрямь Эви заслужил большего!» — решил Фрит и аккуратно взрезал ладонь кинжалом. Хлынула кровь, которую Фрит аккуратно собрал в чарку. И тут же, не обращая внимания на рану, которая исправно кровила, повторил жертвоприношение — запад, север, юг, восток.
Но перепел снова возвестил: жертва Рогу не угодна.
В отчаянии Фрит отшвырнул чарку прочь.
Пожалуй, в тот миг не было никого несчастней Фрита под Солнцем Предвечным.
Ибо жертва эта свершалась ради Эви.
Больше всего на свете Фрит желал Эви хорошего посмертна. Чтобы Эви не пропал в Стране Теней, но возродился в Слепой Степи, где тысячи таких, как Эви, тысячи любимых коней Рога, его возлюбленные табуны, носились по сияющим неземным светом полям — вечно молодые и вечно сытые.
О, если бы Рог принял жертву, Фриту не о чем было бы беспокоиться! Он бы знал: Эви хорошо, он среди своих, ему не скучно, и он ждет его, Фрита, который придет за ним, в Слепую Степь, когда умрет сам, — как это делали самые смелые и удачливые из его предков. И тогда Фрит с Эви будут вместе навсегда.
Но господин Рог был неумолим. Господин Рог требовал от Фрита заповедной жертвы, как будто знал — ради Эви Фрит свернет горы. А впрочем, ведь недаром говорят, что боги все знают. — Нет, Фрит не даст своему Эви сгинуть — это только варанцы не оплакивают своих коней и не заботятся об их бесхитростных душах.
Он, Фрит, не такой. Ради Эви он устроит настоящее царское жертвоприношение. Слепая Степь, где пылят сладчайшим нектаром цветущие травы и где ветер можно пить, как воду, того стоит. И пусть ради этого придется просидеть в проклятых, безлюдных Полях несколько дней — он сильный, он дождется. Ведь премноготерпие угодно богам. Тем более — и это Фрит чувствовал очень явственно — Рог тоже не откажется от большой жертвы и поможет ему.
Наверняка поможет.
Чтобы скрасить ожидание, Фрит достал из дорожной сумы «Хроники» и принялся читать, водя пальцем по строкам.
Грамоте он тоже выучился благодаря Эви. Когда в столице объявили карантин — вовсю свирепствовал сап и кони ложились целыми конюшнями, — Фрит безвылазно торчал у окна случайной гостиницы. Он не спускал глаз с Эви, для безопасности которого выкупил у хозяина гостиницы всю людскую, которую самолично превратил в сносный денник. Фрит бдительно следил за тем, чтобы никто не приближался к Эви — ни дети, ни бабы, ни доброхоты. Убийственная зараза рыскала повсюду и даже, говаривали, умела перелетать с места на место по ветру.
В одной комнате с Фритом жил энергичный немолодой виршеплет — завзятый книжный червь, имени которого Фрит почему-то не запомнил. «Если ученье — свет, то книга — светильник. Да-да, молодой человек! Светильник!» — талдычил Фриту сожитель, обуянный неутолимым преподавательским зудом. Когда стало ясно, что карантин продлится до весны, Фрит все-таки сдался. И выучил причудливый варанский алфавит, каковой, по уверениям гиазира поэта, являлся идеальным маслом для всякого светильника…
Они так постарались, собирая бусы, что даже вспотели.
К розовому, чистому лбу Мелики прилипла русая прядка. Гита, на висках которой тоже блестели хрусталиками крохотные капли пота, подцепив двумя пальцами рюши на горловине своего платья, дергала его туда-сюда, туда-сюда — для охлаждения.
Ветер, донимавший их все утро, как назло, куда-то исчез. В поисках ветра Гита бросила взгляд назад, через плечо. И обомлела. Солнце стояло над горизонтом, возвещая близкий вечер. И куда только подевалось столько времени?
— Может, домой? И есть хочется… — снова принялась канючить Мелика.
— А мне уже расхотелось. И потом, до темноты еще часа три.
— А вдруг тут раньше смеркается?
— Знаешь… Просто жалко вот так уходить… Без Тюльпана… Мы еще вон там не были. — Гита указала в сторону кручи, что спускалась к самой реке.
И они зашагали быстрей, перепрыгивая через не вытоптанные конницей куртинки тимофеевки и лисохвоста, перешагивая через тела и сломанные пики.
— А как он выглядит, этот Серый Тюльпан?
— Как обычный тюльпан. Только серого цвета.
— А листья серые?
— Да нет. Листья, наверное, зеленые, — неуверенно сказала Гита. — У всех тюльпанов листья зеленые.
— У всех тюльпанов зеленые. А у этого — серые, — задумчиво сказала Мелика.
— У какого — у «этого»? — бдительно поинтересовалась Гита.
Она не видела никакого тюльпана. Там, где стояла Мелика, ничего не росло.
Там, возле перевернутой телеги, лежал молодой, безусый парень, одетый в неброское, светло-коричневое платье, такое старое, что даже «дергачи» им побрезговали. Взгляд юноши был неуместно восторженным, почти живым — в том смысле, в каком можно назвать «живым» лицо на портрете, написанном большим мастером. Однако на воина-профессионала тщедушный юноша никак не тянул — скорее уж на какого-нибудь гонца, молодого сопалатника, дальнего родственника разорившегося барона…
Гита пригляделась. В лице мертвого ни кровиночки. Заостренные смертью черты, нос острый и белый, как будто вырезан из куска дорогого мыла. Руки крестом сложены на груди. Рукава рубахи пропитаны кровью. Они стали бурыми и затвердели — в груди мертвеца зияла широкая рубленая рана.
— Меч нечестивого вошел прямо в сердце, — тихим, не своим голосом произнесла Мелика. — И смерть пришла быстро.
— Эй, Мелика, ты чего несешь? Трупа, что ли, никогда не видела? — нарочито грубо окликнула подругу Гита.
— …Ее дух был восхищен и легок. Она пришла в Поля без оружия и умерла беззащитной. — Мелика подняла к небу тяжелый, недевичий взгляд и замерла.
— Мелика… котенок… — голос Гиты дрожал, ей вдруг стало очень страшно. — Почему ты все время говоришь «она», когда это никакая не «она»?
Но и без объяснений подруги Гита, подошедшая ближе, наконец заметила под мужским платьем мертвеца две залитых спекшейся кровью груди.
— Живому кристаллу ее души больше не светить в черной ночи человеков, — медленно проговорила Мелика, даже тембр ее голоса теперь изменился, стал низким, хрипотным. — Но человекам останется Тюльпан, пыльцой которого оборотился серый бархат ее нежности. Он напомнит про нее всем. И благоухание Тюльпана однажды сделает живым то, что было мертвым…
— Да где же он, где? — почти кричала Гита. — Где Серый Тюльпан? Почему я его не вижу?
Но Мелика ей не отвечала.
Она неспешно встала на колени перед покойницей, закрыла глаза, протянулась к ее развороченной груди и, остановив руку совсем близко от раны, сжала двумя пальцами нечто упругое, невидимое.
С явным усилием Мелика повлекла это нечто кверху.
И лишь спустя несколько мгновений обомлевшая Гита начала различать в руке у подруги, которою по-прежнему владел (хотя и безмолвствовал теперь) вещий дух, призрак цветка — серебристый и дымчатый.
Недораспустившийся сизо-серый бутон, бахромчатые лепестки которого походили на язычки сменившего колер пламени, был совсем невелик, вдвое меньше самого малого из тюльпанов садовых, которыми оптимистически пестрели поселковые палисадники всего месяц назад. И стебель его, толстый и короткий, был сплошь покрыт какими-то неопрятными, липкими, как паутина, волосками — почти как стебель колдовской сон-травы.
«Ну вот… Такой ценный — и совсем некрасивый…» — разочарованно подумала Гита.
— Нам, по-моему, слишком везет, — сказала Мелика. Она была очень бледна, но, по крайней мере, больше не говорила чужим голосом. — Тюльпан вот нашли…
— А чего, нельзя?
— Наверное, нельзя! Сама рассуди — если б было можно, тут бы, при дармовщине, уже все наши толкалась…
— А может, мы просто смелые? Смелые и везучие?! — с вызовом сказала Гита.
— Вот я и говорю, что какие-то мы слишком везучие. — Мелика шла, прижимая к груди цветок, который окончательно обрел материальность и походил теперь скорее на дорогую безделицу, сработанную ювелиром из серебра, стекла и тусклого февральского утра.
— Ничего не слишком. В самый раз. Может, все-таки дашь посмотреть? — уже в третий раз спросила Гита, кивком головы указывая на цветок.
— Пока нельзя. Вот из Полей выйдем — тогда будет можно.
Гита не стала спорить с Меликой — после всего, что было, разве с ней поспоришь? Все-таки правильно она придумала Мелику с собой взять. Самой ей Тюльпан было не найти, прошла бы в двух шагах — и ничего бы не увидела. Верно Лид говорил — нецелованным надо быть, нецелованным. Как Мелика.
Вот уже и лесок замаячил — совсем близко. А там — бегом домой, благо под горку идти легче. Небось уже и стадо с косогора привели… При мысли о теплом парном молоке у Гиты сладко засосало под ложечкой. Молоко, творог, дырчатый спелый сыр — Гита замечталась об ужине и едва устояла на ногах, оскользнувшись на луже наемницкой кровавой блевотины.
Теперь они шли молча. Экономили силы — Поля оказались слишком уж обширными.
— Вот сейчас за этот холм зайдем — а там уже и дорога, — пообещала Гита.
Но она ошиблась. Никакой дороги за холмом не было. Лишь новые невеселые картинки.
— А вот наш меч стоит… Постой, но он же в другой стороне вроде остался. Так?
Найденный и покинутый меч, венчающий татуированную, пшеничноволосую башню, светил мертвенным зеленым светом, от которого на глазной сетчатке словно бы тухлая испарина выступала — так казалось Мелике. А Гите привиделось, будто меч издевательски подмигнул ей своим вредным зеленым глазом — в этот момент ею овладело почти непреодолимое желание забрать найденыша, забрать несмотря даже на отчетливое, невесть откуда идущее «нельзя».
— Неужели заблудились? — не сводя с меча глаз, спросила Гита.
— На то похоже, — апатично отвечала Мелика, но вдруг замерла, привстала на цыпочки и перешла на шепот: — Смотри, там, кажется, кто-то есть.
В двадцати шагах от них возле трупа серого с черной гривой коня сидел мужчина в дурацкой войлочной шапке. Мужчина выглядел совершенно невозмутимым и вдобавок… читал толстенную книгу!
«Варвар, что ли? — подумала Мелика и на всякий случай спрятала Серый Тюльпан за пазуху. — Хотя… разве варвары умеют читать?»
— Отличненько. Вот у него дорогу и спросим, — резюмировала Гита, нехотя отрывая взгляд от притягательной зеленой жути.
— Милостивый гиазир! — крикнула Гита. — Эгей!
Варвар обернулся и жестом пригласил девочек подойти поближе — мол, не слышно.
Те тотчас послушались — сказать по правде, обе были до судорог рады встретить в Полях живого человека. Книга и опрятный вид незнакомца тоже внушали доверие. По крайней мере, не дергач какой-нибудь с отвалившимся проказным носом.
— Извините, милостивый гиазир, — сказала Гита, ее дыхание было тяжелым от волнения. — Но вы не знаете случайно, как отсюда выйти? Нам нужно к дороге, что на Корсис.
— К дороге?
— Да, — хором подтвердили девочки.
— К дороге — в другую сторону, — варвар указал на северо-восток. — Но на вашем месте я бы мне не поверил, — недобро усмехнулся он.
— А вы кто?
— Я — Фрит. Торговец.
— Как-то непонятно, — меланхолично сказала Мелика. — Почему на нашем месте вам нельзя верить, если вы не колдун и не дергач, а торговец?
— На вашем месте я бы точно подумал, что разговариваю с призраком, — совершенно серьезно сказал Фрит.
— Но вы же не призрак!
— Не призрак.
— Значит, вам можно верить?
— Есть охота — верьте… Я указал вам верную сторону. Да что вам проку? Из Полей вам просто так не выйти.
— Это еще почему?
— Потому что это место — проклятое. Разве вам не говорили взрослые?
— Говорили. Только…
— Только мы в это не верим! — подхватила Мелика.
— Тогда ступайте, если не верите, — равнодушно сказал Фрит. — Все равно заблудитесь. Пропадете, когда стемнеет. Нужно знать лазейки, чтобы выйти. Так что доброго вам пути, ни во что не верящие!
— А если… А если мы верим? — осторожно спросила Гита. — Тогда что?
— Тогда можете остаться со мной. Мне еще рано уходить. Я хочу попрощаться с Эви. А потом мы пойдем все вместе. Втроем… Я знаю лазейки. Мои боги научили меня выходить из проклятых мест. Это нетрудно, если твое сердце свободно от корысти, — объяснил Фрит.
— Я согласна. То есть мы согласны! — сказала Мелика.
Фрит смог расположить ее к себе. Во-первых, он был похож на ее двоюродного дядю, разве что лицо у Фрита было бледным и безбородым. А во-вторых, глаза варвара хотелось рассматривать, рассматривать запоем — как платья благородных барышень. Какая-то в них была важная, красивая тайна, как во взгляде той девушки, возле которой… из которой рос Серый Тюльпан. «С таким, как этот Фрит, можно дружить, — неожиданно подумала Мелика. — Такому, как он, можно позволить… ну, например, поцеловать ладошку — как это делают в городе. Интересно, варвары умеют целовать ладошку?»
Гита посмотрела на нее с любопытством — с каких это дел Мелика, всегда такая осторожная, вдруг взяла да и согласилась?
Гита хитро заулыбалась, и Мелика почувствовала неловкость. Пауза затягивалась. Ей начало казаться, что еще несколько секунд — и ее секретные мысли прочтет не только Гита, но и красивый варвар.
— Это… это ваш конь? — спросила Мелика, краснея.
— Мой, — сказал Фрит, и его губы плотно сжались, а лоб прорезала морщина. — Был.
— Вам, наверное, его немножечко жалко, — участливо предположила Мелика, чтоб не молчать.
Фрит поднял на нее взгляд, который вдруг стал обжигающим. Мелике показалось, что она сморозила чудовищную глупость и варвар сердится — ведь она дерзнула заподозрить его в девчачьем малодушии.
— Скажешь тоже — жалко! — хмыкнула Гита и, напустив на себя опытный вид, кокетливо подмигнула Фриту, дескать, не судите строго. — Это же скотина, а не человек! Вот тебе жалко свинью, когда ты ешь парциду с базиликом?
Мелика на секунду задумалась. Вспомнила пряный вкус парциды. Вспомнила сладкий розовый пар, идущий из хлева, в котором только что закололи кабанчика. Вспомнила, как однажды свинья по кличке Шонка укусила ее за палец. Взвесила все это в уме и сказала:
— Нет, не жалко. — И неожиданно для себя добавила: — А вот коня мне было бы жалко.
Взгляд варвара вдруг заострился на ее, Мелике, переносице. Он выпрямил спину, подвинулся чуть вправо и освободил место рядом с собой.
— Ты добрая девочка, Мелика. Иди сюда, — сказал он, похлопывая по земле ладонью.
— Кто, я? — испуганно уточнила Мелика и посмотрела на Гиту в поисках моральной поддержки.
— Ты-ты. Кто ж еще!
— Зач-ч-чем?
— Просто посидим. Я хочу с тобой рядом посидеть. Не бойся.
Мелика сделала неуверенный шаг в сторону варвара и снова обернулась к Гите, как будто и впрямь надеялась, что, буде Фрит захочет, к примеру, овладеть ею прямо на брюхе мертвого животного, Гита поможет, заступится.
Тело плохо слушалось ее, но Мелика все же села, подобрав под себя грязные, исцарапанные ноги.
Варвар приобнял Мелику за плечи, наклонился к самому ее уху и принюхался. Даже по привередливым меркам Фрита Мелика пахла отменно — свежим снегом, необмолоченным зерном, первой, любимой скворцами садовой вишней. Фрит одобрительно оскалился. Да, именно то, что ему нужно. Именно она. Фриту очень захотелось рассказать Мелике про Эви.
Дыхание девочки участилось — все это было слишком непривычно. Но в каком-то смысле даже приятно. Ее никто и никогда не обнюхивал так тщательно — даже знахарь, к которому ее возили родители, когда она болела сенной нежитью.
— Посмотри на него, Мелика, — шепотом сказал Фрит, указывая пальцем в сторону бездыханного коня. — Видишь?
— Вижу, — испуганно подтвердила девочка. — Он мертвый.
— Правильно. Его убили. Он умер вчера. И вместе с ним умер Фрит.
— Так вы что — все-таки призрак? — непонарошку леденея, спросила Мелика и боязливо отпрянула, насколько могла, в сторону.
— Нет же. Никакой я не призрак. — Уголки губ варвара пошли вниз, и он властно, хоть и без грубости, вернул Мелику назад. — Но тот Фрит, что был жив вчера, — умер вместе с Эви. Потому что Фрит без Эви — больше не Фрит. Когда я уйду с Полей, я возьму себе другое имя. Так будет честнее. И с этим другим именем я буду жить до тех пор, пока не встречу Эви снова, в Слепой Степи. Наверное, я говорю слишком сложно для тебя? — предположил варвар.
— Не знаю. Но я поняла, что Эви — это имя коня. Что вам его очень жалко. И что вы встретитесь с ним, когда умрете, — с ученической обстоятельностью повторила умница Мелика.
— Ты поняла правильно, — кивнул варвар.
Мелика по-своему, по-кроличьи просияла.
— А можно мне сесть с вами? — вдруг спросила Гита. — А то у меня ноги устали. И… мне страшно.
— Садись возле Мелики. — Фрит привстал с места. — А я пока сделаю важные дела. А потом мы пойдем. Все вместе.
— А попить у вас есть?
— Только вино… Но оно совсем не крепкое! — торопливо заверил девочек Фрит и потянулся за своей флягой.
Для этих девочек ему было не жаль честного вина. Для этих девочек ему вообще ничего было не жаль.
Стоило Фриту приметить две нескладные фигурки, кружащие по заколдованным Полям, как он понял: вот она, жертва, угодная Рогу. Сама идет к нему.
И еще он понял: теперь за Эви беспокоиться нечего. Потому что искони не знал его народ жертвы лучше девственницы. А уж тем более — двух…
Недоброе, низкое ликование прямо-таки распирало Фрита, учащало дыхание, румянило ему бледные щеки. Но он быстро взял себя в руки. Ведь жертва — это не убийство. Жертва должна быть предложена как полагается — без слез и воплей, без грязи и страха.
Нельзя испугать славных Мелику и Гиту, невесть за какой выгодой забредших в самую пасть к Хуммеру. Лучше если они сами не заметят, как умрут. И здесь вино окажется очень даже кстати…
— Пейте, хорошие. Согревайтесь, — поощрил девочек Фрит.
Храбрая Гита присосалась к фляге и сделала три больших глотка.
Мелика ограничилась одним. Винная сладость была тяжелой, но приятной, ласкающей. Она пила спиртное в первый раз и, конечно, с непривычки поперхнулась. Гита стукнула подругу по спине, приговаривая «дурочка, дурочка».
Фрит лишь искоса поглядывал на них, разгуливая поодаль.
К жертвоприношению нужно было еще приготовиться — очертить круг, омыть руки, очистить огнем меч, обратиться к Рогу. Он, конечно, все видит, но вдруг что-нибудь неотложное отвлекло его — какой-нибудь пропавший в горах табун?
Наскоро собрав сухой травы и приблудных деревяшек явно обозного происхождения, Фрит принялся разводить костерок, время от времени с умилением поглядывая на Мелику и Гиту, — он испытывал к обеим нечто вроде тихой, не выразимой по-человечески нежности.
Девочки размякли от хмеля и теперь чирикали без умолку.
— А красивая шкура у Эви, правда? Такая мягкая, — говорила Мелика, поглаживая вдоль шерсти надувшийся, пыльный конский живот.
— Красивая. Сразу видно, кровленый конь! — с многознающим видом причмокнула Гита.
— Как это «кровленый»?
— Это значит хороших кровей.
— А если б плохих кровей, то что?
— Плохих был бы похож на вашего Серко. Шея толстая, ноги короткие, с козинцом, хвост ободранный и рожа разбойная.
— Во-первых, Серко не наш… А дядин, — уточнила Мелика. — А во-вторых, он мне все равно нравится… Он знаешь, какой хитромудрый! Хотя Эви, конечно, покрасивей будет…
Фрит расплылся в улыбке. Все идет чудно да гладко. Лучше н быть не может. Как хорошо, что девочкам нравится конь! Значит, их легкости будет нетрудно ради него уйти из этого неправильного мира в промытые Солнцем Праведных чертоги господина Рога. А ведь это так отрадно — когда жертва совершается естественно, без скрежета зубовного, без воплей.
Фрит осторожно водрузил на трескучий дымный язычок костра лезвие короткого меча.
— Если бы у меня был такой конь, как Эви, и его бы убили, я бы, наверное, сильно плакала, — предположила Мелика.
— Да тебе плакать — что с горы катиться, — хохотнула Гита.
— А что тут плохого?
— А то, что на каждый чих не наздравствуешься. А на каждого покойника — не наплачешься.
— Какая же ты бессердечная! — строго сказала Мелика. — А вот если бы я умерла, ты плакала бы?
— Ясное дело!
— Честно? Вот скажи честно! — не отставала Мелика.
— Да плакала бы! Плакала!
— Поклянись здоровьем!
— Клянусь. Здоровьем. Ну честно клянусь! И даже здоровьем мамы! — Гита подвинулась к Мелике и обняла ее за плечи, как недавно Фрит.
Сентиментально хлюпнув носом, Мелика обвила руками талию Гиты и прислонила голову к ее шее — еще по-отрочески худоватой, но уже по-женски томной. Она игриво потерлась носом там, где за ушком отмель белой кожи обтекал невесомый каштановый пушок не доросших до прически волос, и умиротворенно смежила веки. От Гиты пахло мамиными духами. Мелика набрала полные легкие сладкого апельсинового эфира и тихо-тихо заскулила — от усталости, от вина, от избытка чувств. А потом выпростала голову, уложила ее на плечо Гиты и закрыла глаза. Так ей было покойно и тихо, словно бы в волшебной колыбели или в июльской речной воде, да-да, в воде — теплой, желтой, пузырящейся и цветущей среди земляных берегов, ощетинившихся аиром. Гита тоже смолкла, притаилась и закрыла глаза.
Так они и сидели молча, обнявшись.
Алел закат, обливая равнину червленым золотом.
Аккуратно обтерев закоптившееся лезвие о край своего серо-голубого плаща, Фрит приближался к девочкам сзади. Он держал меч наготове.
Идеальный миг. Лучшего не будет.
Снести головы обеим можно одним ударом. Только замахиваться нужно со стороны Гиты. Потому что, если лезвие меча попадет на растрепавшуюся косицу Мелики, волосы пресекут скорость и тогда визгу не оберешься. Церемонное благолепие момента куры лапами загребут.
Неслышно ступая, варвар шепотом воззвал к господину Рогу.
Жизненные соки прилили к его мышцам, сердце оглушительно грохнуло. В последний раз Фрит посмотрел на Эви, чуть задержавшись взглядом на проточине, что зрительно делала его длинную тонкую морду с черными кратерами ноздрей еще более длинной. Сколько лет он гадал, на что она, эта проточина, похожа! Но теперь отгадка пришла к нему сама. На засов она похожа. На засов, что запирает намертво Железные Ворота, через каковые только и можно попасть в Слепую Степь, туда, в рай коней. На засов, который ему нужно отодвинуть.
Фрит медленно поднял меч… И в последний раз спросил себя — все ли в порядке?
Слова сказаны, пусть и шепотом. Сердце — подвешено в священной пустоте. Оружие — чисто.
Но что-то все же не так.
Фрит помедлил. Ах да! Шапка! Да кто же совершает жертвоприношение в шапке!
Свободной рукой Фрит стянул с макушки кайныс и, не глядя, зашвырнул его за спину.
Небрежно спланировав, шапка коснулась куста полевой ромашки и на нем уселась — гигантский гибрид южной бабочки с океанской медузой. Возмущенно зажужжал запертый под войлочным куполом шмель. Когда мохнатый узник сообразил, что его глас не был услышан, он грузно стукнулся о войлочную стену всем своим полным телом и затем сделал это снова и снова — дескать, отоприте!
Смутно, дремотно уткнувшись носом в затылок Мелики, Гита подобрала под себя ногу, да как-то не слишком ловко — на ее сандалии тихо лопнул хлипкий ремешок.
Странное дело, но эти едва различимые звуки кое-что переменили в торжественном спокойствии мира. Мелика подняла голову с коленей Гиты. Звонко чмокнула ее в щеку. И сказала:
— Знаешь, я тут что подумала?
— Ась? — Гита приоткрыла один глаз.
— Я уже все придумала!
— Что еще?
— Давай оживим Эви!
— В смысле?
— Ну, у нас же есть Серый Тюльпан! Вот и давай его оживим!
— Давай завтра… — глаза Гиты снова закрылись, не было сил бороться с дремотой.
— Такой прекрасный конь… Мне будет приятно… И Фрит — то-то он обрадуется! Он ведь его так любит! В сто раз больше нас! А в-третьих, если Эви оживет, мы быстро-быстро доедем домой! А то там, наверное, мои уже страсть как переживают…
Фрит опустил меч. Фрит затаил дыхание. Серый Тюльпан? Да откуда он у них? Да они что, на грядках самого Шилола огородничали, девоньки эти? Господин Рог, разве такое возможно? Разве такое… разве?
Мелика не стала дожидаться, пока Гита скажет «да» или «нет». Встав на четвереньки, она живо подползла к конской морде и вынула из-за пазухи чудесный цветок.
— Милый, миленький Эви, вставай, пожалуйста. — Мелика коснулась конского лба венчиком Серого Тюльпана. А затем — удало провела им вдоль хребта, облизала языками серых лепестков все тело, да так уверенно, на одном дыхании, словно занималась этим всю жизнь, от самого рождения. — Ты самый красивый! Самый быстрый. Ну пожалуйста, вставай!
Мир прожил несколько беззвучных минут. Шмель под фритовым кайнысом притих, поворотился задом кверху и полез, цепляясь лапками за войлок — наугад в кромешной тьме.
Фрит с изумлением глядел на смелую девочку, которая не иначе как помазана была запросто творить чудеса, да она просто сделана была из небесной благодати, это же видно, у нее даже кожа светится! А может быть, это сам господин Рог принял обличье деревенской босячки, чтобы посрамить маловера Фрита? Не в силах вымолвить ни слова, Фрит опустился на колени. А Гита… Гита просто спала, сложив ладошки под щекой.
— Вставай же, дубина стоеросовая, — строго приговаривала Мелика, нахмурив брови. Она по-свойски тянула коня за хвост и пинала его по тяжелому, неодушевленному еще крупу босой ногой. — Вставай, ушастый! Не то я тебе сейчас такое! Я тебе сейчас такого!.. Мало не покажется!
В звонком голосе Мелики звучала несокрушимая вера, и сомневаться в том, что все происходит правильно, просто не получалось.
А потому, когда брюхо Эви тяжело пошло вверх, когда его ослабевшие от слишком долгого сна передние копыта наконец оперлись о землю, когда он с усилием поднял холодную шею и, брезгливо фыркнув, искательно уставился на Фрита — мол, что они тут со мной вытворяют? — тому ничего не оставалось, как начать невпопад браниться.
Потому что никакие слова больше не подходили к случаю. Никакие.
Эви пронес Мелику, Гиту и Фрита через погружающиеся в сумерки Поля до самой лазейки.
Он шел медленно, истерически прядал ушами, то и дело спотыкался и однажды едва не упал, неловко сиганув через канаву с глинистыми, ненадежными краями. Но Фрит не смел ругать его — потому что даже сквозь мышистый туман, обстоятельно наползавший с реки, было видно: земля оживает. Попробуй-ка побегай по спине у кита, подхватившего пневмонию, даже на четырех ногах-то! Идти было трудно — дважды они едва не свалились все вчетвером в самые объятия к призракам, среди которых Мелика, будь она повнимательней, различила бы немало знакомых лиц, взять хоть, например, того самого гиазира с пшеничными волосами.
Но судьба хранила их и сохранила.
Когда они выбрались из Полей, Фрит неожиданно запел — громко и неблагозвучно. Слов было не разобрать, да и пел он так плохо, что даже Эви прижал к голове уши с черными кисточками, которые-то и отличают чистокровных аютских скакунов от полукровок лучше всяких родословных грамот. Мелика и Гита не были научены прижимать уши, а потому им ничего не оставалось, как покорно внимать.
— Что это он такое поет, а? — спросила Мелика.
— Видать, какую-то колдовскую песню.
На самом же деле Фрит горланил гимн во славу господина Рога. А когда слова гимна окончились, он принялся приспосабливать к его грозной мелодии начало последней главы «Хроник»: «Никтоже есть в краю твоем иже силу сию вышнюю утерпит…»
Неспешный, убаюкивающий шаг коня и усталость быстро завлекли сознание Гиты в дремотные дали. Следя за тем лишь, чтоб не свалиться, Гита думала о найденном мече — может, все-таки стоило его забрать, одних гранатов там — как виноградин в грозди. Но думать о мече было как-то жутковато, и она принялась сожалеть о потерянной сандалии — как назло, пропала та, что была целой! И когда только пропала? А еще Гита размышляла о том, что варвар, хоть даже и одетый щеголем, все равно остается невеждой и дикарем, взять хоть эту манеру драть котофея, когда самое умное — просто помолчать. И что только Мелика в нем нашла?
А Мелика, ощущая крестцом теплый живот их спасителя, гадала, что скажет отец, если увидит их в обществе варвара или, того хуже, учует винный дух. Концерт небось закатит… Но, странным образом, Мелику это почти не тревожило.
В глубине ее души все еще саднило ощущение грозной опасности, которой они лишь чудом избежали. Там, среди немудреных домашних тревог и простых летних желаний, разлагались теперь громокипящие воспоминания о Сером Тюльпане — он исчез в тот миг, когда Эви спросонья чихнул.
В душе у Мелики колобродили теперь страх, желание и восторг. Как с ними теперь жить, зачем они ей?
— Давай лучше не будем говорить, что мы купаться ходили, — предложила Мелика, когда густая, еще безлунная чернота впереди прорвалась знакомым лаем поселковых собак.
— Давай, — широко зевая, согласилась Гита. — Все равно никто не поверит.
МАРИНА И СЕРГЕЙ ДЯЧЕНКО Мизеракль
Опасного она заметила сразу. Сидит в углу, не откидывая капюшона, постреливает взглядом из-под черных слипшихся волос, длинные пальцы с обломанными ногтями крошат хлеб на столе… Хорош. Знаем, чего от таких ждать. На всякий случай велела Сыру, чтобы приглядывал.
Ужинали нервно. Хоть и говорят, что разбойников якобы повывели и что, мол, юная дева, да хоть с мешком золота, да хоть среди улицы может ночевать, и никто не тронет… Хоть и говорят все это и пишут на вывесках у входа в королевство — а все-таки доверия нет. Чужие места, чужие люди, чужой неприятный выговор знакомых слов. Грязная харчевня. Наверное, еще и клопы в матрацах. Знаем мы…
Сыр остался поболтать с хозяином — Доминика поощряла. Пусть почешут языки, может, и просочится сквозь ворох болтовни что-нибудь небесполезное. Нижа тем временем поднялась наверх, взбивать перины, готовить комнату.
Доминику шатало от усталости, и вина, наверное, не стоило пить. Весь день в трясучей карете, обедали на ходу… И, конечно, от вина разморило. Ступеньки высокие, темно и воняет жиром. Рука скользнула по перилам, брезгливо отдернулась — липко…
Вот тут-то из темноты и выступил тот, в капюшоне.
Закричать?
Темный коридор, лестница, внизу гудят пьяные голоса. Где-то там, в глубине дома, в переплетении коридоров — Нижа с ее перинами. Нижа не поможет, а Сыр не услышит…
— Я напугал вас?
Доминика не видела его лица. Только силуэт: в глубине коридора горел фонарь.
— Госпожа, у меня к вам очень важный и очень короткий разговор. Подойдемте к свету.
Незнакомец отступил в глубь коридора, остановился под фонарем, тогда она впервые увидела его лицо — широкие скулы, длинный узкий рот. Шрам на лбу. «Фазаньи лапки» вокруг глаз. Сколько ему лет?
— Прошу вас…
Она повиновалась, как завороженная.
Незнакомец вежливо, но решительно взялся за край ее плаща. Рванул подкладку — так, что нитки не выдержали. Тр-ресь…
Под подкладкой что-то было. Доминика, как ни было ей страшно, все-таки присмотрелась; на изнанке плаща обнаружилась вышивка размером с крупную монету. Огромная вошь. Золотыми нитками.
Не паниковать. Соблюдать достоинство. Достоинство прежде всего…
Ломкими пальцами отстегнула застежку. Плащ тяжело свалился на пол, лег к ногам, сразу же сделавшись похожим на падаль.
— Это, конечно, не мое дело, — сказал незнакомец. — Но лучше сжечь.
— Да, — сказала Доминика.
Плащ купили неделю назад, когда в карете поломалась ось, и пришлось тащиться под дождем до ближайшей деревеньки. Доминика в тот день вымокла, как крыса, полы старого плаща сделались тяжелыми от налипшей грязи, и очень кстати пришлось предложение портного купить у него совершенно новый, подходящий по размеру…
Потом уже оказалось, что плащ ношеный, но возвращаться назад и разыскивать портного не стали.
— Мое почтение, госпожа.
Он поклонился и ушел в темноту. Доминика осталась стоять, и тяжелый ключ, висевший у нее на шее на цепочке, подпрыгивал в такт биению сердца.
Прошло минуты две, прежде чем она смогла крикнуть:
— Нижа!
Молчание. Доминика попыталась вспомнить номер отведенной ей комнаты. Три? Или пять?
— Ни-жа!
Скрип несмазанных петель. Несносная гостиница. Наверняка клопы в матрасах…
— Госпожа изволили звать?
Нижин длинный и бледный нос вопросительно торчал из приоткрытой двери. Тень служанки падала наружу — угловатая, настороженная тень.
— Возьми вот это. — Доминика трясущимся пальцем ткнула в лежащий на полу плащ. — Сожги.
И, не слушая возражений, шагнула через высокий деревянный порог — в комнату.
Пахло свежей соломой. Нет здесь никаких перин, и слава Небу; соломенный тюфяк, полотняная постель, простое, даже бедное убранство. Чисто. Огонек в маленькой печке. Доминика тяжело опустилась на табурет.
В дверях встала Нижа с плащом в руках:
— Госпожа! Зачем сжигать? Может, мне отдадите, если, это… опротивел он вам или как?
Доминика облизнула сухие губы. Именно сейчас у нее не было сил на объяснения.
— Отнеси. К себе. Сожги. В печке. Проверю.
Нижа засопела, как ветер в печной трубе. Ни слова не говоря, закрыла дверь.
Доминика обняла себя за плечи.
Кто он? Наверняка маг. Разумеется. Может быть, он сам из тех, что шьют эти плащи… Хотя нет. Говорят, что золотых вшей, а также пауков и жаб вышивают исключительно женщины-ведьмы, да не всякие, а те, что живут по триста лет под землей, доят древесные корни, свисающие с потолка в их пещерах, и пьют зеленое молоко, а кто спилит доеное дерево и сделает из него хоть дом, хоть стол, хоть даже свистульку — занеможет и сляжет, и после смерти сам превратится в жабу…
Доминика перевела дыхание. Зачем незнакомому магу предупреждать ее насчет плаща с меткой? «Не мое дело…» Это точно. Не его дело. Пожалел? Ой, не верится, здесь никто никого просто так не жалеет. Тем более маг. Завтра, стало быть, подкатится снова — за вами, госпожа, должо-ок…
Она решила ни за что, ни при каких обстоятельствах не заговаривать больше с лохматым колдуном. Она не просила его о помощи — стало быть, ничем не обязана. Хотя, если подумать, что было бы, проноси она этот плащ еще хотя бы неделю…
Доминика глубоко вздохнула. Ее подташнивало, и неизвестно, чем более вызвано недомогание: скверной магией плаща или же страхом и отвращением.
Отвлечься, вяло подумала Доминика. Занять мысли чем-то другим.
На круглом столике оплывала свеча. Доминика не без брезгливости взялась за круглую ручку подсвечника. Ничего, вроде бы чистая; она подняла свечу повыше и огляделась.
Так. Замочная скважина входной двери. Сундук в углу; скоба для замка есть, самого замка не видно. Окно запирается на засов… И больше в комнате нет ничего, что можно было бы запереть и отпереть снова.
Дверная скважина слишком велика, не стоит и пытаться. Правда, в темном коридоре полным-полно дверей, не меньше десяти. И в каждой — замочная скважина…
Но мало ли кто там встретится, в коридоре. Давешний колдун вполне может там поджидать. Или кто похуже…
Не давая себе времени на раздумья, Доминика приоткрыла дверь и, держа перед собой свечу, выглянула.
Фонарь горел по-прежнему. Плаща на полу не было — Нижа его утащила. А что, подумала Доминика, если жадность служанки одолеет ее преданность… ерунда, какая там у Нижи преданность, видимость одна… и дуреха припрячет плащ для себя?!
Слышно было, как внизу, в зале, гудят и хохочут гуляки.
Не прикрывая дверь в комнату — и вообще стараясь от нее не удаляться, — Доминика быстро прошла по коридору, касаясь пальцем дверных скважин. Эта большая… Эта и того больше… Вот эта разве что… да и то — сомнительно.
Привычным жестом она стянула с головы цепочку. Нервно огляделась: вряд ли кто-нибудь поверит вранью о том, что молодая госпожа ошиблась дверью…
Сунула ключ в замок чужой комнаты; не влезает. Чего и следовало ожидать.
В этот момент коридором хлестанул отчаяный вопль. Доминика, чьи нервы и без того были напряжены, дернулась и чуть не сломала торчащий в чужом замке ключ.
Крик повторился. Источник его находился в комнате прислуги, имя источнику было Нижа, хотя Доминика и не сразу узнала ее голос.
— Черти зеленые, что там еще? — послышалось из-за той самой двери, замок которой Доминика только что пыталась отпереть.
Голоса гуляк внизу притихли. В конце коридора распахнулась дверь:
— Пожар? Грабители? Что такое, черт вас забери?!
Доминика, задержав дыхание, пыталась вытащить ключ из замка, но он — возможно, от ее неосторожного движения — застрял и не желал повиноваться.
В комнате прислуги кто-то подвывал вполголоса. Доминика дунула на свечку — и едва успела отшатнуться, когда дверь с застрявшим в скважине ключом распахнулась, и в проеме возник грузный, по-видимому, мужчина: Доминика видела только огромную тень, вывалившуюся в коридор.
— Эй! Хозяин! Что там еще?
Доминика молчала, вжавшись в стену за распахнутой дверью.
— Проклятые бабы, — пробормотал толстяк, вслушиваясь в приглушенные причитания. — Крыса ее, что ли, укусила…
Постояв еще и ничего не дождавшись, закрыл дверь. И дверь в конце коридора закрылась тоже. Доминика зажмурилась, стараясь успокоиться.
Погасшая свеча дымила на редкость смрадно. Причитания Нижи перелились в едва слышное монотонное нытье. Доминика сперва вызволила — со всеми предосторожностями — застрявший ключ и надела цепочку на шею, и только потом отправилась посмотреть, что за крыса укусила служанку.
Комнатка прислуги помещалась напротив той, где поселили хозяйку, и отличалась от Доминикиной только размерами. Одной свечки было достаточно, чтобы целиком осветить крохотное помещеньице; свечка стояла на Нижином сундучке с рукодельем. Хозяйка сундучка сидела, с ногами забившись на кровать. Злосчастный плащ валялся на полу, по ткани расползались темные блестящие пятна, и все вокруг было замарано кровью.
— Я же велела сжечь, — простонала Доминика.
— Госпожа?..
Сыр стоял за ее спиной, в коридоре. Прибежал на крик. Может быть, даже узнал Нижин голос.
— Дай света, Сыр…
Густая кровь продолжала сочиться из чуть надрезанной ножичком золотой вши.
— Я подумала, — бормотала Нижа, дрожа всем телом. — Я подумала, чего же ниткам пропадать… Золотые все же… Я подумала — ниточки выпорю, а плащ сожгу, как вы велели… Про ниточки-то ничего не говорено…
— Дура, — просто сказал Сыр. — Дурища безмозглая. До свадьбы не доживешь, видит Небо, схрупает тебя леший где-нибудь на болоте!
— Перестань, — попросила Доминика. — Пусть молчит…
— Только пискни, — свирепо предупредил Сыр, и рукодельница Нижа застыла, зажав себе рот обеими ладонями.
Сыр осторожно, двумя пальцами поднял плащ; осмотрел. Рванул — снова затрещали нитки, Доминика вздрогнула, Нижа икнула. Сыр оглядел две получившиеся половинки, разорвал каждую еще пополам; покосился на Доминику:
— Вы, госпожа, идите-ка к себе… Незачем вам на такое… А эта дура пусть смотрит! В следующий раз станет думать, прежде чем колдовскую метку ножиком пырять…
— Я не знала, — простонала Нижа сквозь сомкнутые ладони. — Не знала я! Я только подпороть хотела… А кровища как брызнет… И теплая кровища, о-ох…
— Заорешь — придушу, — снова предупредил Сыр.
— Тихо, — сказала Доминика. — Тихо. Мы пойдем… А ты, как закончишь, в дверь постучи, ладно?
— Как прикажете, — пробормотал Сыр, присаживаясь перед печкой и раскрывая дверцу. — Только пятна на полу пусть сама затирает.
Доминика разглядывала обширную темную лужу вокруг сундучка с рукодельем. Большей частью это была ее, Доминикина, кровь. И, может быть, чья-то еще… Кто носил плащ до нее? Как долго носил? И мог ли портной не знать?..
Сыр раздувал угли.
Доминика взяла Нижу за плечо и вытолкала в коридор. Плотно прикрыла дверь; в конце коридора мелькнула тень. Или показалось?..
* * *
Что за сон может быть после такого происшествия? Доминика лежала, зажав в кулаке ключ на цепочке; под окнами прокричала ночная стража — два часа ночи. Три часа ночи…
Неподалеку от гостиницы, на той стороне реки живет мастер-кузнец, чьи механические игрушки славятся на десяти базарах десяти больших городов. Если он не выполнит просьбу — никто не выполнит, и Доминике придется скитаться до конца дней своих и, засыпая, всякий раз видеть перед глазами череду замочных скважин…
Она поднялась рано, оделась без помощи служанки и спустилась к завтраку прежде всех постояльцев. Так ей, по крайней мере, казалось; тем не менее, стоило ей появиться в пустом и холодном обеденном зале, как в углу — на том же самом месте — обнаружился вчерашний незнакомец, черноволосый колдун, оказавший Доминике услугу.
Возвращаться было поздно. Доминика гордо выпрямилась и прошествовала между темными и липкими деревянными столами к тому единственному, что был накрыт скатертью. У этого господского стола стоял единственный стул; Доминике волей-неволей пришлось усесться лицом к залу. Колдун — на этот раз без плаща и капюшона, в темной кожаной куртке, простоволосый — смотрел на нее из своего закутка. Отводить теперь взгляд было бы невежливо, прямо-таки вызывающе; Доминике вовсе не хотелось ссориться с колдуном. Вот как бы помягче дать понять, что она не считает себя обязанной?
Она кивнула — пожалуй, слишком по-приятельски. Пытаясь загладить оплошность, нахмурила брови и отвернулась. Теперь вышло слишком высокомерно; за стойкой тем временем не было ни хозяина, ни прислуги, никто не спешил желать Доминике доброго утра, не интересовался, что именно она желает съесть на завтрак…
Чуть помедлив, колдун поднялся из-за стола. Неторопливо пересек зал. Остановился перед стойкой. Мельком глянул на Доминику; чуть усмехнулся и вдруг грянул кулаком по дереву — так, что затрещали доски, подскочили пивные кружки, а одна из них охнула и раскололась пополам.
В двери кухни сейчас же возник хозяин. Очень бледный, насколько могла судить Доминика.
— Госпожа желает завтракать, — сказал ему черноволосый.
— Сию минуту, — просто ответил хозяин.
Доминика разглядывала скатерть. Что, благодарить еще и за эту нежданную услугу?..
— Вы позволите? — Колдун был уже рядом. Взялся за скамейку, стоявшую у соседнего стола, без усилия подтянул ее поближе, уселся напротив Доминики. — Сожгли? — спросил, глядя ей в глаза.
— Да, — сказала Доминика, наблюдая, как заспанный мальчишка-поваренок собирает черепки расколовшейся кружки.
— Я хотел бы узнать, добрая госпожа, где проживает купец, который продал вам плащ.
— Портной, — пробормотала Доминика.
— Портной. Вы носите плащ недавно, вы путешествуете небыстро, стало быть, мерзавец обретается неподалеку?
Пауза затягивалась. Доминика никак не могла выбрать правильный тон.
— Селение называется Погреба, — сказала она наконец. — Портной там один, направо от постоялого двора… Но он мог ничего не знать.
Незнакомец кивнул:
— Разумеется, добрая госпожа, он мог ничего не знать… Все возможно.
Кухонная девушка уже расставляла посуду. Поваренок принес хлеб и фрукты; странный собеседник Доминики поднялся:
— Приятной трапезы, добрая госпожа, и легкой дороги… К сожалению, я покидаю этот гостеприимный кров прямо сейчас.
И, слегка поклонившись, двинулся к выходу. На ходу подбросил, не глядя, большую золотую монету; вертясь волчком, монета описала дугу и упала на ладонь хозяину, за мгновение до этого показавшемуся в дверях кухни.
Хозяин быстро справился с оторопью. Оглядел монету, спрятал куда положено, потер ушибленную ладонь. Запоздало поклонился в сторону закрывшейся двери.
Доминика только сейчас сообразила, что этот, ушедший, так и не назвал своего имени.
* * *
Мастер-кузнец долго рассматривал ключ. Поворачивал то так, то эдак, смотрел на просвет.
— Позвольте, госпожа, подмастерьям показать?
— Зачем?
Кузнец смутился:
— Ну… Редкая вещица. Они такого в жизни не видывали, так пусть бы поглядели… Но ежели не хотите, — добавил, следя за ее лицом, — так и не покажу. Как скажете.
— Я не на смотрины его принесла… За работу возьметесь?
Мастер задумчиво подергал себя за длинный седовато-рыжий ус:
— Новые ключи к старым замкам — делал, как не делать. Но вот чтобы новый замок к старому ключу…
— Возьметесь? — резче спросила Доминика.
— Н-ну, — кузнец теперь держал ключ на ладони, как в колыбели. Руки у кузнеца были огромные, потому ключ казался куда меньше, чем был на самом деле. — Ну как вам сказать, госпожа… Ключик-то… не простой. И замочек к нему полагается не простой… Невесть сколько провожусь, все другие дела брошу…
— Сколько?
— Не о том речь. — Мастер нахмурился. — Работы много. Заказы. Ярмарки опять же. Не сделаю — что мне скажут? Скажут — шельма. Доброе имя — оно дороже…
— Вы попробуйте, — сказала Доминика. — Если не выйдет — задаток оставите себе.
— Задаток, — кузнец с опаской потрогал острую, как бахрома сосулек, бородку ключа. — Задатка мало… Работу сделаю, время потрачу…
— Ну, все деньги оставите.
— Ежели все деньги — что мне за выгода стараться? Я, может, и пробовать не буду, а вам скажу — не вышло…
— Давайте так. — Доминика сжала кулаки. — Если ничего не выйдет — все деньги за работу возьмете себе. А если выйдет… Тогда я вас отдельно поблагодарю. Еще приплачу — вдвое… Пусть только дело будет!
Последние слова она почти выкрикнула. Мастер наконец-то перестал разглядывать ключ и перевел взгляд на Доминику:
— А вам, стало быть, большая надобность?
— Большая, — глухо уверила Доминика.
* * *
Выйдя от кузнеца, она едва держалась на ногах. Прославленный мастер — а перед этим плащ-жизнесос — постарались на славу.
В последний момент сделка едва не сорвалась: кузнец поставил условием передачу ключа в мастерскую на все время работы. «А как прикажете иначе к нему делать замок?..» — удивлялся он громко и чуть фальшиво; Доминика представила, что за радость будет подмастерьям разглядывать диковинку, обсуждать ее и неумело копировать. Она вообразила себе, как от неосторожного обращения ключ ломается пополам; она почти увидела, как в лавку при кузнице пробираются грабители, как их привлекает холодный блеск ключа… И, разумеется, она отказала мастеру. Сделайте копию, сказала она.
Все началось сначала. Только когда Доминика отчаялась и собралась уходить, кузнец вдруг сдался. Ключ был с великими предосторожностями оттиснут на алебастре и возвращен хозяйке…
— Госпожа, — сказал Сыр, когда, тяжело опираясь на его руку, она брела обратно в гостиницу.
— Что?
— А чего это хозяин гостиницы все меня расспрашивает — вернется тот колдун или не вернется? Откуда мне знать, как вы думаете?
— Не знаю, — призналась Доминика. И, помолчав, добавила: — Наверное, он решил, что мы знакомы.
* * *
Прошла неделя в безделье и ожидании; наконец от мастера прибежал мальчишка с известием, что «работа для госпожи готова».
Доминика, прежде ни на секунду не верившая, что у кузнеца что-то может получиться, вдруг впала в горячечную надежду. Собираясь, наступила на подол собственного платья и оторвала его — пришлось спешно переодеваться. Дорога до кузницы показалась длинной до невероятности.
Мастер встретил Доминику на пороге лавки, довольный, преувеличенно почтительный:
— А ведь, госпожа, и хитрый ваш ключик оказался… Ох и хитрый… Ну да мы хитрее. Извольте-ка!
И выложил на прилавок большой навесной замок в форме подковы. На черной стали светлели, как глаза, большие круглые заклепки. Дужка была обильно выпачкана оружейным маслом, резкий запах его заставил Доминикины ноздри вздрогнуть.
Неужели, подумала она растерянно. Конец пути?..
Кузнец еще что-то говорил — кажется, похвалялся; не глядя ни на кого, Доминика сняла с шеи цепочку с ключом. Ей казалось, ее торопят; как настрадавшийся от жажды человек спешит поднести к губам кружку с водой — так ключ спешил навстречу этой скважине. Скорее…
Впервые за много попыток ключ вошел в скважину без усилия, легко. Доминика вдруг испугалась; что будет, если замок сейчас откроется? Как это произойдет? Что подумает кузнец… Впрочем, разве важно… Унести замок, попробовать в укромном месте… Может быть, как-то себя подготовить, придумать подходящие слова…
— Да у вас руки трясутся, — осуждающе заметил кузнец. — Дайте-ка я…
Она отстранила его. Взялась за ключ крепче; ничего не происходило. Стальные грифоны врезались в кожу. Ключ не желал поворачиваться.
— Эх, — сказал кузнец, и в голосе его ясно прозвучало мнение обо всех на свете неумехах. — Позвольте…
На этот раз она безропотно уступила и ключ, и замок. Мастер долго возился, пробовал так и эдак — ключ не поворачивался.
— Да что же за дьявол! — рявкнул наконец, не смущаясь присутствием заказчицы. — Да не может же такого быть!
Вытащил откуда-то копию — точно такой же ключ, только тусклый, оловянный. Вставил в замок, повернул — дужка отскочила.
— Вот! Ну что я говорил! — положил на прилавок оба ключа, оригинал и копию, обернулся к Доминике, собираясь что-то доказывать; она вяло махнула рукой.
Мастер, уязвленный, втолковывал ей, что заказ выполнен как нельзя лучше — вот ключ, вот замок… Второй ключ ничем не отличается от первого, а если она пожелает, можно сделать и стальную копию… А коли она недовольна — сама виновата, просили же ее оставить для работы ключ-оригинал…
Доминика взяла с прилавка то, что принадлежало ей. Ни слова не говоря, надела на шею цепочку. Повернулась и вышла из лавки.
* * *
В тот вечер лил дождь. Доминика сидела в обеденном зале, за единственным столом, покрытым скатертью, и вяло ковыряла вилкой остывшее мясо.
Неудача была сокрушительной. Прежде она уговаривала себя не надеяться особенно — и, как ей казалось, преуспела; теперь, когда положение окончательно прояснилось, сделалось ясно, какой живучей и цепкой была ее надежда.
Можно еще невесть сколько таскаться по дорогам, хоть всю жизнь. Шарить, как воровка, в поисках замочных скважин, и однажды, как воровку, ее и поймают… Она содрогнулась, вспомнив тот случай на постоялом дворе — два месяца назад. И ведь едва сумела вымолить пощаду… Вернее, не столько вымолить, сколько откупиться.
…Или ключ не выдержит. Сколько раз Доминике снился этот сон: головка ключа у нее в руке, бородка — в замке…
А мир велик. И может быть, — она содрогнулась, — может, в ее скитаньях ей однажды встретится нечто, перед которым даже плащ-жизнесос окажется безделицей. Может быть, ее ждет судьба стократ худшая, нежели…
Дверь в обеденный зал распахнулась, будто ее пнули ногой. Немногочисленные едоки одновременно повернули головы; Доминика увидела сперва сапог, заляпанный грязью по голенище, потом мокрый капюшон с выбивающимися из-под него темными спутанными волосами, потом тусклую пряжку набрякшего водой плаща.
В дверях кухни появился хозяин — будто чуял, будто ждал; новоприбывший встряхнулся, как пес, и, не откидывая капюшона, направился к своему обычному месту — в темном углу.
Доминика опустила глаза.
Собственно, что ей за дело? Она завтра уезжает…
Почему он вернулся? Неужели он был у портного? Неужели портной знал? И что сказал ему колдун, и что портной ответил? Как объяснил?..
Может быть, портной тоже колдун? Вряд ли, ой, вряд ли…
Поваренок уже тащил новому гостю поднос со всякой всячиной — как будто тот заранее дал знать, чего хочет. А может, так оно и было?
Хоть бы к камину сел, подумала Доминика. Он же вымок, как жаба…
Тьфу, некстати жаба вспомнилась.
* * *
Поздним утром, когда счета были оплачены, вещи собраны и все, казалось, готово к отъезду, Сыр обнаружил вдруг трещину в рессоре. Ругать его за небрежение было поздно, тем более что он клялся всеми добродетелями, мол, вчера еще смотрел со всей тщательностью, и никакой трещины не было в помине…
Доминика стояла посреди двора, погруженная в апатию. Принимать решение было не о чем — предстояло вернуться в постылую гостиницу, проторчать здесь еще невесть сколько дней и потратить невесть сколько денег, потому что Сыр утверждал, будто поломка серьезная…
Знакомец, чьего имени она не знала, сидел теперь на ее обычном месте — за столом, покрытым скатертью. Капюшон его был откинут на спину; засохшие прядки волос торчали во все стороны, как иголки большого ежа. Доминика вошла — и остановилась в замешательстве.
Хозяин, которому уже доложили о неприятности с каретой, радушно поклонился. Мельком глянул на колдуна, крошащего хлеб за господским столом; подозвал служанку, что-то сказал ей на ухо, та умчалась — за еще одной скатертью, подумала Доминика.
Тем временем колдун отвлекся от своего занятия и поднял глаза.
Должок, в ужасе подумала Доминика. Он играет, как кошка с мышью — все эти приезды, отъезды… А случайно ли треснула рессора — именно сегодня? Ни с того ни с сего?..
Чего он хочет от меня, подумала Доминика. Я ничем-ничем ему не обязана. Близятся теплые дни, я велела бы Ниже спрятать плащ в сундук. И он пролежал бы там до осени. А что случилось бы осенью — никто не знает, может быть, к тому времени мы нарвались бы на разбойников, и плащ сделался бы их добычей. Или нас растерзали бы звери в лесу, и плащ так и сгнил бы вместе с прочими вещами под слоем опавших листьев…
Да что ему надо, подумала Доминика. Что есть у меня такого, что он пожелал бы сделать своим? Сундук с тряпками, поломанная карета… И ключ. Ключ!..
Она едва удержалась, чтобы тут же, при всех, не сжать ключ в ладони. Плотнее запахнула шаль на груди; двинулась к лестнице — в ее прежней комнате еще никого не поселили, стало быть, она получит возможность любоваться знакомым узором трещин на потолке…
Наверху горничная бранилась с Нижей. Доминика остановилась на пороге: матрас был выпотрошен, солома валялась по всей комнате, постельное белье грудой высилось в углу. Старательная девушка взялась за большую уборку, едва за постоялкой закрылась дверь…
Не слушая бранящихся служанок, Доминика повернулась и вышла. Спустилась вниз; в конце концов, почему она должна прятаться?
Близился обед. На кухне гремели посудой; зал понемногу наполнялся мастеровыми и лавочниками, становилось шумно и душно. Доминика сидела за столом, покрытым серой скатертью, а вокруг жевали, хлебали, стучали кулаками и ложками, болтали, смеялись чужие, неприятные люди. У одного лавочника был с собой сундучок, и Доминика, как ни старалась, не могла отвести взгляда от маленького замка в стальных петлях…
За спиной резко, бесцеремонно расхохотались сразу несколько голосов. Доминика с трудом сдержалась, чтобы не обернуться. То, что смех предназначался ей, сомнения не вызывало.
Загрохотала отодвигаемая от стола скамейка; из-за плеча Доминики выплыл и остановился напротив подмастерье лет пятнадцати, плечистый, как молотобоец, и красный, как девчонка. Уши, выглядывавшие из-под длинных светлых волос, алели рубинами; видимо, проспорил, обреченно подумала Доминика. Сейчас начнет дерзить — на радость публике… А Сыр на заднем дворе возится с каретой. Позвать хозяина?..
Парнишка вытер ладони о куртку, подошел к столу почти вплотную, наклонился над Доминикой, собираясь — но все еще не решаясь — произнести заранее придуманную речь. Открыл рот. Вдруг из красного сделался белым. Согнул колени. Исчез.
Сзади не смеялись.
Доминика повернула голову. Колдун сидел рядом; на лице его таяло выражение терпеливой брезгливости.
— Добрый день, — сказал колдун, встретившись с ней глазами. Пальцы его, секунду побарабанив по столу, нашли корочку хлеба и тут же принялись крошить. — Так и не уехали, госпожа?
— Рессора.
— А-а-а, — протянул колдун, поддевая ногтем одну особо удачную крошку. — Сочувствую…
Крошки под его пальцами выстраивались, образуя смутно знакомый символ; Доминика всматривалась, нахмурив брови.
— Может быть, мы могли бы немного погулять? — спросил колдун, не отрываясь от своего дела. — Здесь становится… шумно.
Доминика молчала. Колдун мельком взглянул на нее, смел крошки ладонью. Поднялся. Молча предложил ей руку.
Осторожно, кончиками пальцев, она оперлась о его локоть.
Нижа, по какой-то надобности оказавшаяся во дворе, уставилась на странную пару ошалелым взглядом яичницы-глазуньи. Доминика семенила, никак не в состоянии приладиться к широким шагам сопровождающего.
— Вы напрасно полагаете, что чем-то мне обязаны, — сказал колдун.
— Я вовсе так не… — запротестовала Доминика и осеклась. Получилось невежливо.
Колдун кивнул:
— Разумеется. Если бы я на ваших глазах шагнул бы, не зная дороги, в трясину… Вы предостерегли бы?
Доминика молчала, смутившись. Молчание затянулось.
— Вы видели того портного? — спросила она, пытаясь преодолеть неловкость.
— Да.
— И… что?
Колдун помолчал, прежде чем ответить.
— Ничего, — сказал наконец. — Вы правы: он ничего не знал.
И чуть заметно улыбнулся; улыбка не понравилась Доминике.
— Зачем же было трудиться? — спросила она резковато. — Ездить, расспрашивать…
Колдун пожал плечами:
— Я человек свободный… Дорога — мой дом. Отчего не съездить?
И улыбнулся снова, на этот раз светлее.
— Почему вас так занимают мои дела?
— Нисколько не занимают. Я просто не люблю, когда направо и налево продают беспечным людям плащи-жизнесосы.
— Как… направо и налево?
— Это полемическое преувеличение.
Доминика нахмурилась:
— Значит, портной…
— Драгоценная госпожа, зачем вам тревожиться из-за пустяков? В любом случае, портной — дело прошлое.
— И… что вы с ним сделали?
— А что я должен был с ним сделать? — удивился колдун.
Доминика промолчала. Десять шагов… Двадцать шагов…
— Вы маг, конечно?
— Конечно, — просто согласился ее собеседник.
— Тогда почему вы бродяжничаете, вместо того чтобы жить в своем замке?
— А вы? Вы происходите из хорошей семьи, не стеснены в средствах — почему вы, выражаясь вашими же словами, бродяжничаете?
— Я путешествую, — сказала Доминика устало.
— И я путешествую.
Они прошли вдоль улицы до самой окраины. Дома закончились; дальше было поле, мост через узкую речку и лес.
— Может быть, вы разыскиваете зло, чтобы его покарать? — в голосе Доминики скрипнул жесткий, почти старушечий сарказм. — Может быть, поэтому вы сказали мне про плащ и потом навестили беднягу-портного?
— Может быть, — колдун глядел на дорогу, где в синих лужах отражалось небо. — А может быть, у меня есть другая причина… Как и у вас… Только не пугайтесь. Вы всякий раз так вздрагиваете, что мне неловко делается, честное слово.
Не говоря ни слова, Доминика повернула назад в поселок. Обратный путь проделали молча; уже подходя к гостинице, Доминика спросила:
— И много вы знаете… о моей причине?
— Зависит от того, много ли вы хотите услышать…
— Все, — сказала Доминика почти грубо. — Я хочу услышать все.
— У вас с собой некая вещь.
— Понятно и ребенку. Я его не особенно прячу, к тому же мои слуги… и кузнец… и…
— Разумеется, — покорно согласился колдун. — Все знают, направо и налево, что у вас с собой ключ. Никто не знает, что это такое.
— А вы?
Он остановился. Некоторое время Доминика смотрела на него снизу вверх, упрямо и требовательно:
— Вы знаете, что это?
— Это и есть причина, по которой вы не ведете соответствующую вашему положению достойную размеренную жизнь, но скитаетесь по дорогам.
Доминика сжала ключ в кулаке — сквозь шаль:
— А вы знаете, что я никому его не отдам?
— А вы знаете, что я не собираюсь его у вас отбирать? У меня своих забот хватает, зачем мне предмет с темной историей, для меня бесполезный?
— Тогда чего вы от меня хотите?
— Ничего. — Колдун вздохнул. — Это как история с плащом… или, к примеру, болотом. Человек тонет на твоих глазах, но правила приличия требуют, чтобы ты смотрел в другую сторону…
— Я тону, по-вашему?
— Да. За вами уже тянется дурная слава. В той гостинице, где портной всучил вам плащ, все убеждены, что вы воровка. Кто-то видел, как вы пытались открыть своим ключом хозяйский сундук…
— Я… — Доминика покраснела.
— А горничная нашего хозяина приходится двоюродной племянницей кухарки с того постоялого двора, где вас застали у дверей чужой комнаты… И, возможно, она уже написала — среди прочих новостей — обо всех ваших приключениях. И письмо уже в дороге.
— Я немедленно уезжаю. — Доминика развернулась.
— Куда? У вас же рессора…
— Откуда вы знаете? Это вы?!
Он развел руками, как бы говоря: уж от таких-то подозрений меня избавьте.
Обеденное время подошло к концу. Из дверей трактира вываливались во двор последние насытившиеся посетители.
— Что же мне делать? — спросила Доминика шепотом. Скорее себя спросила, нежели собеседника.
— Меня зовут Лив, — сказал колдун. — Во всяком случае, это лучшее из моих имен.
* * *
Все время, пока он рассматривал ключ, Доминика не выпускала из рук цепочку.
— Вы мне не доверяете?
— Вы ничем не заслужили мое доверие…
— Правда?
Доминика смутилась.
— Итак? — спросил колдун по имени Лив, возвращая ей ее собственность.
— Это не просто ключ, — сказала она.
— Я догадался.
— Мне нужно… мне непременно нужно найти какой-нибудь замок, который открывается этим ключом.
— И вы перебираете подряд все замки, которые попадаются вам по дороге?
— А что мне делать?
— Как давно вы путешествуете?
Доминика молчала.
— Судя по состоянию вашего гардероба, — безжалостно заметил колдун, — а в особенности судя по теням под вашими глазами… путешествие оказалось долгим.
— Вы можете чем-то помочь мне, Лив? Или просто так насмехаетесь?
— Как я могу вам помочь, если вы ничего мне не рассказываете!
— Я и так уже сказала слишком много.
— Тогда я сейчас уйду и оставлю вас в покое, Доминика. Через несколько дней, когда рессору на вашей карете наконец поменяют, вы продолжите свое безнадежное дело.
— Оно не безнадежное!
— Оно безнадежное. Для этого ключа в мире нет скважины.
Она поднялась:
— А ну-ка повторите.
Он тоже встал. Стол, разделявший собеседников, качнулся. Дернулись язычки двух свечей в подсвечнике.
— Для этого ключа в мире нет скважины, — сказал Лив, глядя Доминике в глаза. — Но, может быть, есть другой путь.
Она посмотрела на ключ.
Сейчас, в полумраке, при свете колеблющихся огоньков, морды стальных грифонов казались живыми. Широкая бородка ключа отблескивала хищно и строго.
— Я слушаю, — сказал Лив тоном ниже.
Доминика села. Лив склонился над ней, упираясь ладонями в стол:
— Это человек, да?
— Да, — Доминика через силу кивнула.
— Он вам дорог?
— Он мне нужен. Не важно, зачем… Вы сказали, есть другой путь?
— Погодите, Доминика… Кто это?
— Какая разница. — Она с силой потерла лицо. — Какая разница, кто он… Что такое этот ваш другой путь? Или вы сказали о нем просто затем, чтобы развязать мне язык?
Лив выпрямился:
— Все. С меня довольно. Худшего врага себе, чем вы, Доминика, редко встретишь на этой земле… Удачной дороги.
— Да погодите вы!..
Он обернулся в дверях.
— Это мой сводный брат, — сказала Доминика.
Лив стоял одной ногой на пороге.
— После смерти матери мой отец женился второй раз…
Колдун слушал, не трогаясь с места.
— Сын моей мачехи… был такой, знаете, нескладный… но милый. Вечно лежал в гамаке, ел вишни, стрелял косточками… И в пятнадцать лет, и в двадцать пять…
Доминика замолчала.
— И что?
— И однажды явился прохожий. С виду бродяга, каких много.
— Среднего роста, борода с проседью, на правой руке нет мизинца?
— А вы его… — Доминика подалась вперед, — знаете?
Лив вернулся к столу. Уселся. Побарабанил пальцами, будто в поисках хлебной корки; корки не было.
— Если это тот, о ком я подумал… Вероятно, он имел беседу с жертвой… с вашим братом?
— Да, брат был любитель поболтать с прохожими. Кабаки…
— Опасная привычка, — Лив усмехнулся.
— Да… С этим, без пальца, они встречались несколько раз. Почти по-приятельски; на упреки отца брат возражал, что, мол, бродяга забавен, бродяга складно врет и вообще оригинал…
— А в последнюю встречу? Вы знаете, что эти двое друг другу сказали?
— Нет. Не было свидетелей… почти. Остался ключ, который провалился в ячейку гамака и едва не потерялся в траве. И остался мальчишка, некстати воровавший вишни. Когда его сняли с дерева, он был в трансе… говорил чужим голосом, будто повторял заученный текст.
— Что именно?
Доминика зажмурилась:
— «Человек, не имеющий цели, подобен ключу, не имеющему замка. Когда замок откроется ключом — Гастону вернут человеческий облик…» Гастон — это его так звали. Моего брата.
— Когда это было?
— Четыре года и три месяца назад.
Лив кивнул:
— Понятно. Бродягу, лишенного мизинца, зовут Рерт. Он спятил, возомнив, что все на свете имеет цель, явную или скрытую… Таких ключей, как вы носите на шее, в мире не один десяток, смею вас уверить.
— Вы знаете, как его вернуть? Гастона?
Колдун сощипнул со свечки каплю мягкого оплывшего воска. Помял в пальцах; вылепил шарик, похожий на тусклую жемчужину.
Доминика ждала ответа. За тонкой перегородкой гудел обеденный зал; за дверью на лестнице топтался Сыр, хмурый и настороженный. Сыр не доверял чародеям.
— Все зависит от того, как сильно вам нужен ваш сводный брат, — проговорил наконец Лив.
— Я очень к нему привязана, — быстро сказала Доминика.
Лив поднял брови:
— Привязаны настолько, что выждали три года — и только потом пустились на поиски подходящего замка?
Доминика поджала губы:
— Есть и другая причина. Полтора года назад мой отец умер. Наследство — а отец был человек небедный — отписал нам с братом, в равных долях… При условии, что брат явится к нотариусу в человеческом обличье.
— Ваша мачеха…
— Ну разумеется! Она настояла на внесении этого пункта, а умирающий не хотел ее обижать.
— Трогательно.
— Я ее понимаю. — Доминика вздохнула. — Сама она уже не в том возрасте и не того здоровья, чтобы таскаться по дорогам и шарить в поисках замочных скважин…
— С чего вы взяли, что замок надо искать, путешествуя?
— Уважаемый Лив, в нашем городке не осталось ни одной скважины, к которой мы не примеряли бы наш ключ. Кузнечные лавки, часовые мастерские — все было испробовано…
— Значит, вы рискуете здоровьем — а иногда и жизнью — ради наследства вашего батюшки?
— Я не стану врать, что делала бы это просто ради Гастона. Но он все-таки мой брат, хотя и сводный, и, в общем-то, всегда был со мной приветлив… А кроме того — это ведь страшно и отвратительно, превращать людей в ключи просто так… ради каприза…
— Понятно. — Лив покивал. — Доминика, приготовьтесь к тому, что наследства вы не получите.
— Как!.. Вы же сказали, что есть другой путь…
— Да, но это надо ехать к Рерту домой, разговаривать с ним, может быть, сражаться…
— Мне сражаться?!
— А вы хотели бы?
— Нет. — Она сцепила пальцы. — Я не хотела бы вступать в бой с колдуном… То есть магом. Ведь он тоже маг?
— О да. — Лив повел плечами. — Более того — он маг с твердыми принципами. Это ужасно.
— Лив, — проникновенно сказала Доминика, — а что бы вы… нет, не так. Что могло бы вас… Гм.
— Вы хотите спросить, что я взял бы от вас в обмен на драку с Рертом?
— Да. Приблизительно так.
— Ничего. Потому что драка сама по себе бессмысленна. Чтобы вернуть вашего брата, необходимо заставить Рерта изменить его мнение о людях… Хоть чуть-чуть.
— Все. — Доминика бессильно откинулась на спинку стула. — Я больше не могу. Спасибо вам, Лив, за интерес к моей скромной персоне… Поеду дальше.
— Поедемте вместе.
— Что?!
Колдун вздохнул:
— Так случилось, что я сейчас совершенно свободен… Могу съездить с вами к Рерту. Это не так далеко.
* * *
— Заведет он вас в ловушку. Безумие это, госпожа.
— Все безумие, Сыр…
— Или вам жизнь не дорога? Может быть, он сам вам тот плащ и подсунул. А потом через него в доверие вошел. А потом…
— Зачем так сложно? Что с меня взять?
Сыр, не находя аргументов, засопел. Раздраженно подергал себя за волосы. Ссутулился; поклонился. Вышел.
С его уходом решимость Доминики поиссякла. Она взвесила в руке приготовленный Нижей узелок (только самое необходимое, чтобы унести в руках). Тяжело опустилась на край кровати. Закрыла глаза.
«Никакой кареты, — сказал колдун. — Никаких слуг, никаких громоздких вещей. Двинемся быстро — пешком». — «Пешком?!» — поразилась Доминика. «Как все бродяги», — усмехнулся Лив. «В какую авантюру вы меня втравливаете?» — «Ни в какую. Я никуда вас не втравливаю. Вы идете со мной сами, по доброй воле и по собственной надобности… Разве нет?»
Еще не поздно отказаться, подумала Доминика. Сжала ключ в кулаке — стальная бородка впилась в ладонь.
* * *
Они вышли в путь на рассвете, как это делают все бродяги. Нижа и Сыр остались ждать в гостинице, но если Сыр до последнего момента пытался удержать госпожу от безрассудного поступка, то служанка рвения не проявляла — спала и видела, как без помех займется рукодельем, а денег, оставленных Доминикой на прокорм, должно было хватить надолго…
Они вышли в путь на рассвете. В молчании миновали последние дома поселка; перешли мост (сквозь широкие щели Доминика видела, как несется под ногами бесшумная быстрая вода) и углубились в лес.
На вырубке у дороги уже стучали топорами чьи-то работники; их лица представляли собой сплошную бороду с тремя дырами — для рта и глаз. При виде пеших путников лесорубы призадумались было, но, встретившись взглядом с колдуном (а Лив шел впереди, капюшон надвинут на лоб, край плаща явственно оттопырен ножнами), поспешно вернулись к работе. Доминика прошла мимо, держа голову высоко и неподвижно, будто лебедь, мучимый мигренью.
Ключ покачивался на груди в такт шагам. Поскрипывал под ногами песок, из которого торчали, как жала, опавшие хвоинки. Впереди — в пяти шагах — маячила спина колдуна.
Почему я ему поверила, смятенно думала Доминика. Как случилось, что я иду по дороге пешком, как сроду не ходила, тащу на плече узелок с пожитками, будто нищенка или погорелец… Он взял меня на простую приманку — немножко помощи, немножко сочувствия, немножко страха… Святая добродетель, неужели я и сейчас не поверну назад?
Она сделала еще шаг и остановилась. Лив, слышавший ее шаги, оглянулся:
— Вы устали?
— Да.
— Это самая утомительная часть пути… Хотя и не самая неприятная — все же прогулка по лесу, солнце, птицы…
— Вот что, — сказала Доминика. — Я не сделаю больше ни шага, пока вы не объясните мне, что вам за выгода — помогать мне.
Колдун, помедлив, откинул капюшон на спину. На хищном его лице Доминика увидела кислое, почти брезгливое выражение:
— То есть вы останетесь тут стоять навеки? Или пойдете назад одна, мимо тех лесорубов?
Доминикино сердце прыгнуло раненой жабой:
— Вы признаете, что завели меня в ловушку?
— Я веду вас к Рерту. Остановившись на полдороге, вы можете попасть в ловушку — просто потому, что мир жесток, моя госпожа…
Он вытер лоб тыльной стороной ладони. Вдруг зевнул, небрежно прикрывая рот:
— Ладно, слушайте. У меня в самом деле есть свой интерес в этом деле; помогая вам, я помогаю себе… Искусство превращения человека в вещь интересует меня с давних пор. Никто из магов, владеющих этим искусством, не преподаст мне урока по доброй воле. Но если я стану свидетелем обратной метаморфозы вашего друга — я получу ценнейшую информацию и смогу самостоятельно превращать людей в ключи и обратно. Или в книги, например. Да хоть в подставки для обуви… Не пугайтесь, вас это не касается. Но вот портного, по договору с ведьмой продающего людям плащи-жизнесосы, я с удовольствием превратил бы в швейную иголку. Нет?
— По договору с ведьмой?!
— Это я так. К примеру…
Доминика молчала. Лив покосился на высокое уже солнце и снова накинул капюшон:
— Госпожа Доминика, не смешите мои сапоги. Если бы я хотел зачем-то погубить вас — вы бы уже были надежно погублены… Мы идем к Рерту или нет?
Доминика кивнула. Лив, ни слова не говоря, повернулся и зашагал вперед. Доминика потащилась следом.
Она не привыкла ходить пешком. Узелок натирал плечо, тянул к земле; Доминика совсем выбилась из сил, когда идущий впереди колдун вдруг свернул направо — с дороги, в лес.
Доминика споткнулась:
— Лив!
— Там поляна, видите?
Доминика ничего не видела. Лес казался совершенно непроходимым; исцарапав руки и надорвав подол, она все-таки выбралась вслед за Ливом на круглую, как блюдце, полянку.
— Привал, — колдун уселся на обломок пня.
— Я далеко не уйду…
Доминика огляделась, выбирая место. Трава на затененной поляне росла кое-как, ствол давно упавшего дерева был трухляв и изъеден червями. Доминика потрогала пальцем склизкую кору, вздохнула и села, подобрав юбку.
— Не очень-то вы устали, — сказал колдун. — Иначе плюхнулись бы, где стояли, прямо на землю.
— Сколько нам еще идти?
— Нисколько. Уже пришли.
Доминика содрогнулась. Огляделась вокруг; глухой лес, дубы и елки, высокие пни, покрытые мхом, никто не придет на помощь… Колдун наблюдал за ней со скептической ухмылкой:
— Я имею в виду, что дальше мы поедем, а не пойдем… Вы странный человек, Доминика. Это сколько же вам наследства причитается от батюшки?
— Много, — сказала она еле слышно.
— Земли? Замки?
— Все. Земли, озеро… Деньги, золото… Дом… Много. Все.
— А без него вы никак не можете?
Доминика молчала.
— Мне просто жалко смотреть, как ради завещания вашего батюшки вы готовы подвергаться немыслимым опасностям — все равно, настоящим или воображаемым. Я-то вас не съем… но вы ведь верите, что вполне могу съесть. И все равно идете. Чудеса.
Доминика молчала.
— Еще не поздно вернуться, — сказал колдун совсем другим, жестким, деловым тоном. — Впрочем, вернуться не поздно никогда. Если у самых ворот Рерта вы скажете, что передумали…
— Нет, — сказала Доминика.
Колдун потянулся, как кот:
— Хорошо…
Он поднялся. Небрежно отряхнул плащ. Нашел в траве суковатую палку. Вышел на середину поляны, наклонился, разгреб палкой слой прошлогодних листьев и хвои. Присев на корточки, забормотал, и Доминикины ноздри дернулись: в стоячем воздухе леса возник резкий, неприятный запах.
— Доминика, — позвал Лив. — Вы в погреб спускаться не боитесь?
— В погреб?
— Идите сюда…
Она остановилась в пяти шагах. Колдун взялся за железное кольцо, невесть как появившееся в земле, с усилием потянул; открылась, как крышка кастрюли, черная дыра в земле.
Доминика отшатнулась.
— Был такой человек, — сказал Лив, обрывая свесившийся в подземный ход пучок бурой травы. — Как его звали, никто не помнит, а прозвище было Крот… Понимаете почему?
— Я туда не пойду, — сказала Доминика, отступая на шаг.
— Это не то, что вы подумали… Это самый скорый путь в любой конец света. Ну, почти в любой. Только так мы доберемся до Рерта и сможем расколдовать вашего братца…
Доминика отступила еще. Она была близка к тому, чтобы бежать без оглядки.
— Я спущусь первым, — сказал Лив мягко. — Зажгу огонь. Если вам не понравится — останетесь наверху. Но это значит, что бедный Гастон будет ключом до конца дней своих… и ваших. Решайте.
— Наверняка есть другой путь, — сказала Доминика.
— Есть. Обратно в гостиницу. Через неделю вам починят, я надеюсь, рессору.
Доминика отступила снова, запнулась пяткой о корень и грянулась навзничь.
* * *
Шахта вела прямо вниз, как печная труба. И была, как труба, узкой — двоим здесь не разминуться; Ливу приходилось прижимать локти к бокам и придерживать ножны. Доминика мучилась с юбкой, которая топорщилась и задиралась, и это было особенно неприятно, потому что внизу был Лив и у него в ладони был огонек — тусклый, единственный свет в давящей темноте.
А над головой у Доминики была светлая точка — вход в шахту. Теперь она казалась далекой, будто звезда.
— Доминика, как поживаете? Мы прошли больше половины…
Она молчала. Перехватывала ржавые перекладины железной лестницы. С каждым шагом, с каждым перехватом опускалась все ниже и ниже, к ведьмам, к подземным тварям, в преисподнюю…
— Доминика, я спустился. Жду вас. Уже близко. Не спешите.
Легко сказать «не спешите»; чем глубже опускалась Доминика, тем страшнее ей было находиться на лестнице, тем сильнее хотелось выбраться из колодца, и движения, поначалу дававшиеся с трудом, приобретали сбивчивую, лихорадочную поспешность.
Лестница закончилась. Доминику осторожно взяли за талию и втянули… куда-то, она поняла только, что здесь есть воздух — совсем свежий, по сравнению с духотой, царившей в «трубе». Она огляделась; ее окружала пещера с низким ровным потолком, со множеством нор-тоннелей, ведущих во все стороны. Под ногами поблескивала толстая ледяная корка (странно, Доминика вовсе не чувствовала холода), в углах смутно белели глыбы оплывшего льда.
— Этот самый Крот, — сказал колдун, все еще придерживая Доминику за локоть, — владел редким искусством подземных путешествий, но совершенно не умел постоять за себя. Еще в юности он стал пленником некоего, гм… вы все равно его не знаете. И этот некто заставил Крота работать всю жизнь — для того, чтобы его жадный хозяин мог появляться, как из-под земли… ха-ха. Как из-под земли — всюду, где его не ждут.
— Значит, — сказала Доминика, цепляясь за руку Лива, — значит, мы влезли в чужое владение. И хозяин, этот самый некто, вполне может…
— Нет, что вы. Дороги Крота давно перестали быть собственностью его зловещего хозяина. Теперь любой, кто сумеет открыть дверь, может войти сюда и прокатиться… Злоупотреблять не следует, да. Но я не был здесь давно, ой как давно…
Огонек на его ладони дрогнул и раздвоился. Одна искорка поднялась под потолок, другая поплыла к дальнему ходу-норе и остановилась над ним, как бы приглашая войти.
— А… у вас никогда не было знакомых магов, да, Доминика? — тихо спросил Лив.
— Никогда, — призналась она, наконец-то выпуская его руку. — Лив… Если вы меня обманете, это будет… очень нехорошо с вашей стороны.
— Дорогая госпожа Доминика. — Колдун меланхолично вздохнул. — Вы и сами не верите в то, что говорите. Жизнь — это война, а на войне нет хороших и плохих… есть только сильные и слабые. Мы с вами заключили сделку — и будем выполнять ее условия по мере возможности… Идемте.
* * *
В тоннеле стояли сани — огромное резное корыто, поставленное на полозья. Доминика остановилась в нерешительности; Лив тронул сани рукой — они двинулись легко, как по воде.
— Сами влезете или подсадить? — спросил Лив.
— Мы поедем на этом?
— Удобнейший транспорт. Садитесь.
Доминика неуклюже перевалилась через высокий бортик. Внутри не было ничего — голое деревянное донце. Доминика уселась, скрестив ноги, на собственный узелок с пожитками.
— Держитесь там за что-нибудь, — сказал снаружи Лив.
— А вы?
— Я запрыгну на ходу…
Доминика уперлась в стенки саней растопыренными руками и коленями. Лив снова забормотал; слова его сливались в одно длинное неприятное слово, и Доминикин нос зачесался: запах похож был на вонь от горящей ветоши.
Сани плавно двинулись вперед. Некоторое время Доминика слышала шаги — Лив бежал рядом, толкая сани, разгоняя, как мальчик, решивший прокатиться с горки; потом последовал толчок, темная тень мелькнула над Доминикиной головой, и сани стали вдвое тяжелее.
Лив, нисколько не сбивший дыхания, опустился рядом.
Доминика, притихшая, напуганная, слушала шум ветра по обе стороны саней. Зажженные Ливом огоньки остались позади; сани неслись сквозь темноту. В темноту. В никуда.
Потом вернулся свет. Доминика сперва зажмурилась и только потом разглядела в руках у сидящего рядом Лива — стилет; на треугольном острие горел, нервно подрагивая, язычок пламени.
— Страшно? — спросил Лив.
Доминика, не отрываясь, смотрела на стилет в его руках.
Колдун вздохнул:
— Ни один конь не может нести человека с такой скоростью… Я боюсь, что даже ездовой дракон — если бы даже рассказы о ездовых драконах не были сказками — не способен на это. Вы мужественная женщина, госпожа Доминика, с вами легко…
— Я трусиха, — сказала Доминика.
Лив хмыкнул.
Теперь, при свете, была видна резьба, покрывавшая сани изнутри. Деревья, знаки, животные, птицы; одно изображение перетекало в другое, и вместе они образовывали третье. Доминика засмотрелась.
— Это для красоты?
— И для красоты тоже.
— Сани тоже делал Крот?
— Нет. Для работы по дереву у него были другие… существа.
— А почему здесь лед?
— Для скорости… Сядьте удобнее, Доминика. У вас затекут ноги. Нам ехать не очень-то долго, но достаточно, чтобы…
Он вдруг замолчал. Прислушался; резко дунул на свой стилет. Огонек погас.
В темноте слышно было, как шелестит ветер и постукивают полозья. И все.
— Что… — начала Доминика.
— Ш-ш-ш…
Некоторое время Доминика ждала, стиснув пальцы. Потом Лив забормотал; Доминика зажала нос. Шум и постукивание сделались тише: сани замедлили ход. Остановились совсем.
Лив бесшумно поднялся. Доминика встала на колени.
Пещера теперь не была темной. Потолок ее, поросший сосульками, отблескивал красным, и свет становился с каждой секундой ярче.
— Ну вот, — сквозь зубы сказал Лив. — Как на заказ.
— Что?!
— Ничего особенного, госпожа Доминика… Просто переждите. Сделайте вид, что заняты размышлениями… в разговор не вступайте.
— С кем?
— А сейчас придет…
Доминика втянула голову в плечи. Сосульки на потолке вспыхнули цветными огнями, свет сделался нестерпимым — и почти сразу пригас; глядя поверх резной кромки саней, Доминика успела увидеть, как из бокового хода — а у тоннеля был боковой ход! — выскочило животное, похожее одновременно на пантеру и паука; на спине чудища помещался всадник, которого Доминика даже рассматривать не стала — просто легла на дно саней, закрыв лицо ладонями.
— Привет, Мизеракль, — сказал глуховатый отрывистый голос.
— Привет, Соа, — невозмутимо ответил Лив.
— Все маешься?
— А ты ревнуешь?
Чужой голос хохотнул:
— Твоя беда — это только твоя беда, Мизеракль.
— Рад был тебя видеть, — все так же ровно отозвался Лив.
— Ты уже уходишь? Как жаль… И совсем не хочешь угостить меня этой старой девой?
— Совсем не хочу, Соа. Более того — уверен, что ты пошутил.
Сделалось тихо. Так тихо, что удары Доминикиного сердца казались набатом, созывающим деревню на борьбу с пожаром.
— Ну ладно, Лив, — совсем глухо и очень отрывисто сказал чужой голос. — Захочешь еще раз прокатиться Кротовыми норами — милости прошу…
Послышался скрежещущий звук, будто провели пилой по камню. Ударил ветер. И свет померк.
Чуть приоткрыв глаза, Доминика успела заметить в последних отблесках этого света, как Лив прячет под плащ странный предмет, отдаленно похожий на пастушью свирель.
* * *
— Последнее усилие! Р-раз!
Над их головами открылась крышка, впуская восхитительный воздух, впуская свет солнца и запах травы; Лив вылез первым и помог выбраться Доминике, вернее, вытащил ее, как пробку из бутылки.
Доминика глубоко дышала, запрокинув голову.
— Ну вот, — сказа Лив бодро. — Если мы осмотримся вокруг, что мы увидим? Степь. Совершенно безлюдную, и это правильно. Зато в двух шагах отсюда, в замечательно живописном месте на берегу реки, живет мой хороший знакомый, у которого мы переночуем в комфорте и безопасности… Госпожа Доминика, вы меня слышите?
Доминика с трудом села. Тряхнула головой. Поморщилась; вокруг в самом деле простиралась степь до горизонта, солнце опускалось с каждой секундой все ниже, морем ходила высокая трава. Ледяное подземелье с санями, и зловонные заклинания колдуна, и то чудовище верхом на другом чудовище, что обозвало Доминику «старой девой», — все это казались дурным сном.
— Нельзя раскисать, — посоветовал Лив. — Вот там, видите — деревья? Туда можно добраться за полчаса, если идти, не сбавляя шага… Доминика, вставайте. Помните о цели — вам нужно получить наследство, земли, воды, золото… что там еще?
Доминика поднялась, беззвучно заплакав.
* * *
Дорога заняла час. Оказавшись в просторном дворе незнакомого дома, Доминика застонала и опустилась на землю — где стояла.
— Вот теперь верю, что вы устали, — одобрительно заметил Лив.
Хозяин дома был невысок, ростом Ливу по плечо, щупл и немногословен. Стук в ворота — окрик — ответ Лива — распахнутые створки — короткое рукопожатие. Хозяин степного хутора либо знал о предстоящем визите, либо всегда был готов принять в своем доме Лива — с кем бы тот ни явился.
— Здесь есть какие-то слуги? — спросила Доминика, не поднимаясь. — Служанки?
— Увы. — Лив развел руками. — Здесь не такое место, чтобы жить посторонним… Если я донесу вас до постели — вы не будете шокированы?
— Я хотела бы помыться, — слабо возразила Доминика.
— Глупости, — беспечно заметил Лив. — Усталый человек сначала спит, а уж потом занимается галантереей… Есть-то вы будете?
— Есть? — Доминика приподняла голову. — Буду…
— Вы прирожденная путешественница, — восхитился Лив. — Идемте в гостиную, Наш-Наш уже накрывает на стол…
— Наш-Наш?
— Это одно из его имен… Но вообще-то он Егор.
— Тогда я буду звать его Егором…
— И правильно сделаете. — Лив протянул ей руку. — Вставайте. Здесь замечательно готовят, поверьте слову знатока…
— А вымыть руки?
Лив поморщился:
— У вас странные привычки… Бочка с водой в углу двора, рядом черпак. Если будете настойчивы, то найдете это самое… пемзу.
* * *
Доминика проснулась и долго таращилась в потолок, пытаясь вспомнить, где она и что с ней произошло.
Вспомнив, ужаснулась. Спустила ноги на пол; постель была удобная и чистая, чего не скажешь о Доминикиных ногах, вчера вечером так и не дождавшихся бани. Чудо еще, что, укладываясь на покой, она ухитрилась стянуть с себя одежду; в отсутствие служанки платье и нижняя юбка не пожелали развешиваться на спинке стула, а лежали так, как их бросила Доминика — грудой на полу.
Доминика поднялась (тело отозвалось мышечной болью). Подошла к окну; окно выходило на противоположную от фасада сторону, в сад. Густые кроны поднимались выше второго этажа; яблони цвели, соцветья покачивались под весом пчел. Доминика захотела открыть окно — но рама оказалась заколоченной.
В дверь стукнули:
— Госпожа Доминика? — спросил Лив. — Мы с Наш-Нашем уже позавтракали, ваш завтрак ждет вас на столе… Ведь мы не собираемся отдыхать здесь весь день, правда?
Доминика со стоном признала его правоту.
Ей удалось-таки выпросить у хозяина таз и кувшин разогретой воды; после купания она почувствовала себя лучше, а одевшись и причесавшись, и вовсе воспряла духом. Обеденный стол стоял на веранде под навесом; Доминика ела творог с медом, закусывала свежевыпеченным хлебом и слушала гудение пчел. Лив сидел на крыльце, свесив руки между коленями, и, покусывая губу, смотрел в небо. Его черные волосы казались лохматой, надвинутой на глаза шапкой.
Хозяин Егор, называемый также Наш-Нашем, работал в саду — окапывал деревья; время от времени в бело-зеленом мареве мелькала его ярко-красная рубаха.
— Лив, — негромко позвала Доминика.
— Да? — отозвался колдун, по-прежнему глядя в небо.
— Я ведь вовсе не старая дева.
— Я знаю.
— Этот…
— Я прошу вас, не надо о нем. Мне он тоже неприятен.
— Это он держал в плену Крота?
— Как вы догадались?
— Он считает Кротовые норы своей собственностью…
— Он может считать все, что угодно…
— Кто сильнее — вы или он?
— Ах, Доминика… Это ненужный разговор, уверяю вас.
— Извините, — пробормотала она. — Как вы думаете… Наш-Наш, то есть Егор, не будет против, если я немного погуляю по саду? Здесь очень красиво…
Лив наконец-то отвлекся от созерцания облаков. Мельком взглянул на Доминику:
— Вообще-то можно… Если вы будете только гулять. Если не попробуете, например, сорвать веточку с цветами, чтобы приколоть к прическе…
— Да? — смущенно спросила Доминика, которой как раз пришла в голову мысль, что хорошо бы отломить цветущую веточку. — Я понимаю, хозяин… он, наверное, будет против…
— Наш-Наш тут ни при чем… Сад будет против. Это очень своеобразный сад, Доминика. Лучше, если вы будете гулять со мной или с Наш-Нашем.
Доминика посмотрела на сад.
Мирно покачивались соцветия. Гудели пчелы. Негромко напевал, работая, садовник; маленькие яблони стояли, опустив ветки к земле, большие, напротив, поднимали их к солнцу.
Небо черными точками пересекли две вороны. Описали круг; закаркали, переговариваясь. Одна опустилась вниз, выбирая, на какую бы приземлиться ветку; Доминика глянула на Лива, собираясь о чем-то его спросить, — и краем глаза уловила быстрое движение. Обернулась; ветви распрямились. Между обильных яблоневых цветов черным снегом кружились, падая на землю, вороньи перья. Доминике показалось, что кое-где соцветья стали красными… Но это могло быть обманом зрения, потому что уже через несколько секунд все лепестки вернули свой первоначальный бело-розовый цвет.
Сверху, с голубого неба, ошалело каркала вторая ворона.
— Нет, — пробормотала Доминика.
— Да, — Лив кивнул. — Самая большая беда — это бродяги. Раз в месяц кто-то забредает, не верит знакам-предупреждениям и забирается через забор… Или ведет подкоп.
— И… что? — в ужасе спросила Доминика.
— Съедают, — коротко объяснил Лив. — Они плотоядные.
— Я не буду там гулять.
— Напрасно… Если сад увидит, что вы с Наш-Нашем, — вас не тронут, даже не попытаются.
— Я все равно не буду там гулять…
— Как хотите.
Песенка садовника слышалась теперь совсем близко. Наш-Наш орудовал лопатой; красная рубаха прилипла к его спине темным пятном пота.
— Он тоже маг?
— Нет. Он просто работник. Работяга.
— Почему же сад…
— Он хозяин.
— Он его купил?
— Он его выходил. Старый хозяин умер много лет назад, сад никому не позволил его похоронить — так и оставил себе… Одичал, зарос, оскудел. Надо было быть Наш-Нашем, чтобы, во-первых, прийти сюда без страха, во-вторых, взять лопату, удобрения, садовый нож, черенки…
Доминика с новым интересом взглянула на садовника. Тот продолжал работать; ветви над его головой не шевелились.
— Сад, который ест птиц? А насекомые?
— Насекомых здесь нет… Кроме пчел, разумеется.
— Кроме пчел. — Доминика усмехнулась, будто что-то вспомнив. — Скажите, Лив… Почему…
Она запнулась.
— Ладно уж. — Лив вздохнул. — Спрашивайте.
— Почему он… этот— называл вас Мизераклем?
Колдун беспечно усмехнулся:
— У меня много имен, Доминика. То из них, которое мне нравится, я вам назвал.
* * *
Садовник вышел попрощаться. Махнул широкой ладонью, указывая направление:
— Вдоль речки. Там увидишь.
Он был немногословен, Доминика давно заметила.
Дорога вдоль полноводного по весне ручейка, гордо именуемого речкой, оказалась поросшей кустами и кое-где размытой; неизвестно, когда ею пользовались в последний раз. Доминика брела рядом с Ливом, время от времени опираясь на его руку. Лив не возражал.
— Может быть… вы все-таки расскажете о себе? Хоть несколько слов?
— Я очень скучный человек, Доминика.
Хутор с хищным садом остались позади и плавно опустились за горизонт. Солнце склонялось все ниже, собираясь последовать вслед за хутором. В степи вокруг не было признаков жилья.
— Мы будем ночевать на голой земле? — осторожно спросила Доминика.
— По моим расчетам, сегодня мы ночуем у Рерта, — отозвался Лив.
— Где?!
— У Рерта… Терпение, Доминика.
И пошел вперед.
Иногда он останавливался, чтобы разглядеть случившееся по дороге одинокое дерево. Пока все встреченные ими деревья были из породы плакучих — стояли у берега, опустив ветки в бегущую воду, оплакивая неведомую беду.
Примерно за час до заката Лив наконец-то нашел, что хотел. Это было высокое, ветвистое, некогда мощное дерево; речушка, понемногу выгрызая свое глинистое ложе, разрушала его мир, и теперь дерево стояло будто на границе — часть его корней висела над потоком, пытаясь дотянуться до воды. Половина кроны была сухая и голая, другая половина пыталась делать вид, что ничего не происходит, и шелестела листьями, сверху серебристо-зелеными, с изнанки темными, как болотная вода.
Доминика, в чьей памяти все еще свежа была история хищного сада, на всякий случай не стала приближаться к дереву; пользуясь каждой секундой покоя, села на жесткую траву, а потом и легла, вытянув ноги. Подумать только — два дня назад к ее услугам были все перины гостиницы… Пусть не самой уютной, но удобной и чистой… С теплой водой в бочках… С горничными…
Тяжелый ключ соскользнул с груди на плечо. За ним щекотно потянулась цепочка.
Она ждала с тяжелым сердцем, что колдун окликнет ее и надо будет вставать. Но Лив, по-видимому, всерьез заинтересовался деревом — все бродил вокруг, пробовал ветки, постукивал носком сапога по могучим обнаженным корням. Ну что же, какая ни есть, а все передышка…
Доминика легла на спину и заглянула в небо. В самом центре его стояло единственное большое облако; игра цветов на его волнистых боках завораживала, холодные тона сочетались с теплыми и оттенялись ослепительно белым. Доминика на секунду увидела город с башнями и рынками, флюгерами, колокольнями, садами…
Прекрасное наваждение пропало, когда ноздрей ее коснулся отвратительный, пробирающий до костей запах. Доминика задержала дыхание, потом схватила воздух ртом — и села.
Лив стоял на коленях. В правой его руке был кинжал, в левой — стилет; бормоча и напевая, он то проводил лезвием по земле, то легонько поддевал острием приподнявшийся над поверхностью древесный корень. Корни подергивались и потрескивали. Доминика зажала нос.
— Идите сюда, — позвал Лив, не отрываясь от своего дела. — Умеете лазать по веткам?
— Что вы делаете?
— Открываю вам путь к наследству… Можете встать мне на спину. Я подсажу.
— Я доверяю вам во всем, и если вы меня обманете…
Доминика замолчала. Лив почесал затылок рукояткой стилета:
— То что?
Доминика, стиснув зубы, взялась обеими руками за ветки. Чуть не закричала — ветки были теплые, почти горячие.
— Погодите. — Лив уже спрятал свое оружие и теперь стоял рядом.
— Что…
— Наденьте мой плащ поверх своего. Будет холодно.
Не решаясь сопротивляться, она приняла на плечи шерстяной груз. Плащ почти не имел запаха, да и то незначительное, что Доминика унюхала, было каким-то странным: как будто колдун, таскавший эту вещь день изо дня в любую погоду, был растением, а не мужчиной.
— Давайте-ка…
Она встала ногой на его сцепленные ладони и через секунду уже сидела на нижней ветке. Ветка странно подрагивала.
— Она дрожит!
— Так и надо, лезьте выше!
Он подал ей ее узелок и взбежал по стволу, как муха. Доминика разинула рот.
— А-а…
— Выше, — сказал колдун, и ветка под ним затряслась. — На той стороне, где листья. Пристегну вас ремешком.
Сквозь просветы в листьях Доминика видела, как один за другим выдергиваются из земли, суетятся, подобно огромным червям, живые корни полумертвого дерева. Остатки корней над обрывом тоже двигались — странно и страшно, как парализованные ноги.
Лив на секунду обнял Доминику, а когда отстранился, она была уже привязана к ветке ремнем.
— Держитесь, — посоветовал Лив серьезно. — Это так… Видимость одна, а не страховка.
Доминике не требовались советы. Наверное, по собственной воле она не могла бы выпустить ветку — пришлось бы разнимать пальцы силой. Дерево выбиралось из земли, осыпало в ручей камни и глину, ворочало корнями, как слепой великан; Доминика не кричала от ужаса только потому, что у нее пересохло в горле.
Лучше бы мы спустились в Кротовые норы, подумала она, когда дерево, последним усилием вырвав последний корень, стряхнуло с него чьи-то истлевшие кости.
— Па-ашел! — невесть кому рявкнул колдун, и, глянув на него, Доминика поняла, что Лив доволен. Прямо-таки счастлив.
Дерево, перебирая корнями, двинулось прочь от ручья — в степь. Доминика болталась на ветке, как плохо закрепленный фрукт. Земля вздрагивала; из травы метнулся линялый заяц, в панике припустил прочь. Доминику начало мутить.
Хрустела трава, сминаемая переступающими корнями. Неужели мы так и будем идти до самого Рерта, тоскливо подумала Доминика. Почему бы не взять лошадь… Лошадь быстрее… Но куда приятнее…
Будто услышав ее мысли, дерево зашевелилось с удвоенной резвостью. Трава и комья земли взлетали по обе стороны идущего чудища, позади тянулась борозда, как от исполинского плуга. Сухие ветки, не выдержав, падали одна за другой. Крона идущего дерева походила теперь на ущербную луну — половина в силе, половина — призрак.
Лив что-то прокричал — наверное, успокаивал. За грохотом и треском Доминика его не услышала.
Дерево неслось теперь, как никакой лошади мчаться не под силу. Доминика, как ни страшно ей было, успела поразиться — корни сливались в движении, будто спицы катящегося с горы колеса, дерево наклонилось вперед, как бегущий человек, кора под Доминикиными пальцами сделалась почти нестерпимо горячей. Никогда прежде Доминике не приходилось двигаться так быстро; горизонт прыгал, ветер выл в ушах, сносил зеленые листья. За несколько секунд здоровая половина дерева сделалась неотличима от мертвой. Пояс впился Доминике в тело; если бы не пояс, мельком подумала она, — я слетела бы, осталась лежать в этой жуткой борозде…
Земля вдруг накренилась. Доминика увидела степь сверху — траву, чахлый кустарник, жирную черную линию — как будто степь треснула пополам и в глубокой трещине шевелятся разбуженные черти…
И место, где линия прервалась.
И корни дерева, обломанные, измочаленные, все еще переступающие, как бы по привычке — в воздухе.
Дерево летело. Дерево поднималось с каждой секундой выше; капюшон Лива то падал Доминике на лицо, то отлетал назад, и управлять его движениями Доминика никак не могла, потому что судорожно цеплялась за ветки обеими руками. Край юбки хлопал звонко и пугающе, взлетал выше колен, падал и снова взлетал, и с этим нельзя было ничего поделать, совсем ничего…
Тем временем земля, залитая вечерним солнцем, становилась все обширнее. Лишенное листьев дерево было теперь прозрачным; Доминика увидела селения, о которых прежде не имела понятия, развалины, отбрасывающие изломанную тень, темно-зеленое пятно незнакомого леса. Ручей, вдоль которого они с Ливом тащились полдня, превратился сперва в ниточку, а потом слился с равниной.
Дерево рывком поменяло направление полета. Доминике хлестанул в лицо ветер, она готова была задохнуться, но дерево повернулось вокруг ствола, как вокруг оси, и Доминика понеслась теперь спиной вперед. Так, спиной, влетела в сырое холодное облако, закашлялась в плотном тумане; облако, подсвеченное солнцем, вдруг вспыхнуло битым стеклом, Доминика зажмурилась и несколько минут не открывала глаз — пока не ощутила, что дерево накреняется.
Пояс снова врезался в тело — на этот раз ощутимее и глубже. Дерево летело, почти лежа в воздухе, будто снесенное топором небесного лесоруба, но беда была не в том. Доминика, разинув полный ветра рот, увидела, что Лив висит, уцепившись обеими руками за самую нижнюю ветку, что его тело развевается на ветру, как ленточка, и сам он почти не принадлежит летающему дереву — ветер хочет оборвать его с ветки, как плод, и получить в свое полное распоряжение.
Доминика закричала — и не услышала своего голоса, зато Лив, будто ощутив ее взгляд, поднял голову и посмотрел на нее.
Он смеялся. У него было азартное, сияющее, вдохновенное лицо — как у игрока, ощутившего за карточным столом покровительственное прикосновение судьбы. Доминика вдруг в ужасе поняла, что сейчас он разожмет руки…
Дерево плавно выпрямилось, опустив корни, как и подобает, вниз. Лив подтянулся, поставил ногу на развилку, уместился между сучьями удобно и естественно, как книга на знакомой полке. Помахал Доминике рукой; она вдруг увидела, что земля гораздо ближе, чем была минуту назад, и продолжает приближаться. Мелькнули перекрещенные дороги, потом светлый прямоугольник поля — и потянулся лес, сперва редкий, потом все более густой, без полян и просек, мрачный непроходимый лес с красными верхушками, подсвеченными заходящим солнцем.
Лив стоял теперь, обхватив руками ствол. Смотрел вниз. Верхушки елок мелькали под самыми корнями несущегося дерева; иногда особенно высокая верхушка задевала за длинный корень, и летающее дерево опасно тряслось.
Доминика совсем отчаялась, когда дерево вдруг резко нырнуло в лес. Стволы неслись по обе стороны, сливаясь в один непроходимый забор. Ветер стал тише и теплее, в нем обозначились запахи. От сильного толчка Доминика стукнулась головой о ветку и едва не прикусила язык; в следующую секунду стало ясно, что дерево не летит, а бежит по лесу, причем бежит по прямой, неведомым образом избегая столкновения.
Движение становилось медленнее с каждым взмахом корней.
Дерево качнулось — и остановилось. В ту же секунду в лесу стало почти совсем темно — вероятно, за невидимым горизонтом наконец-то угомонилось солнце.
Доминика обвисла на ветвях, как мертвая русалка. Капюшон Лива закрыл ее лицо до подбородка; как хорошо было бы на секунду заснуть — очнуться в постели, в чистоте и тепле, и в безопасности, святая добродетель, в безопасности!
Дерево стояло, подрагивая, похрустывая, покачиваясь. Стояло, хотя Доминика на его месте давно уже повалилась бы набок, сделавшись добычей плотника.
— Госпожа Доминика, мы на месте… Между вами и вашим наследством остались сущие пустяки. Давайте-ка руку…
— Привет, Зубастик, — сказал сухой незнакомый голос, который Доминика — она была в этом уверена! — уже когда-то слышала.
Она вздрогнула и откинула с лица тяжелый Ливов капюшон.
Бывшее летающее дерево стояло перед каменным крыльцом большого, зловещего с виду строения, похожего одновременно на руины и новостройку. С верхней ступеньки крыльца смотрел человек — смотрел, по счастью, на колдуна, а на не на Доминику. Человек был среднего роста, и Доминика могла поклясться, что борода у него с проседью и на правой руке нет мизинца.
— Ты испоганил мне аллею, Зубастик.
— Привет, Рерт. — Лив расстегнул ремень, удерживавший безвольную Доминику от падения. — Мы нуждаемся в ужине, отдыхе, неторопливой беседе.
— Кто это «мы»?
— Твой старый друг и прекрасная девушка трудной судьбы… Доминика, разжимайте-ка пальцы. Мы уже прилетели.
Дерево, кажется, вздохнуло, стряхнув с себя ездоков.
В полутьме — после заката в лесу наступили глухие сумерки — Доминике удалось разглядеть два идеально ровных ряда елей, образовывавших узкую аллею. Аллея брала начало от каменного крыльца; конец ее терялся в темноте.
* * *
Ключ лежал на кожаной скатерти, делавшей стол похожим на огромную книгу. Стальные грифоны тускло поблескивали глазами. Хищно и остро топорщилась бородка.
— Зачем тебе это нужно, Зубастик? — Рерт прошелся вокруг стола, заложив руки за спину.
— У меня есть имя, Рерт. Оно мне нравится.
Хозяин дома наконец-то угнездился в кресле. Своды потолка нависали над его головой, как обрывки каменной бахромы. В углу журчал, перекатываясь с камня на камень, ручеек, тонул в миниатюрном озерце. Поверхность озерца время от времени беспокоил всплесками большой рыбий хвост; жилище колдуна Рерта походило на пещеру. Удобную, теплую, жилую пещеру.
Лив помещался за маленьким столом у камина — пальцы его привычно крошили хлеб. Доминика, усаженная на покрытую шкурами скамью, массировала запястья и боролась со слабостью.
— Хорошо. — Беспалый колдун ухмыльнулся. — Хорошо… Зачем тебе это надо, Лив?
— Дружище Рерт, разве это имеет значение?
Рерт глянул на Доминику. Оглядел ее с ног до головы (святая добродетель! На кого же она похожа после безумного полета на дереве?!), щепоткой подергал себя за седеющую бороду.
— Благородная госпожа… Как вы думаете — зачем этот совершенно чужой вам человек тратит время, силы… Рискует, между прочим… Зачем?
— У него есть свой резон, — хрипло сказала Доминика.
— Какой же?
Доминика посмотрела на Лива. Тот развел руками, всем своим видом показывая: чего только не делает с людьми любопытство.
— Спросите у него, — порекомендовала Рерту Доминика. — Пусть он сам скажет.
Рерт снова поднялся, прошелся по комнате; зачерпнул воды из озерца, выпил, умылся. Подошел к камину; остановился перед сидящим Ливом, снова заложил руки за спину:
— Зубастик… У тебя свои принципы, но у меня — свои. Я не дразню тебя Мизераклем, но и ты не вправе требовать, чтобы я изменил однажды принятое решение. Это понятно?
— Вполне. — Лив кончиком пальца расставлял крошки на столе.
Рерт почему-то разозлился. Качнулся с пятки на носок и обратно:
— Этот ключ не имеет скважины! Его давно пора перековать на что-то полезное — на шило, например… Если его не перекуют на шило — он так и останется бесполезным хламом до скончания веков!
— Если ты не вернешь ему человеческий облик, — вполголоса добавил Лив.
Рерт подошел к нему вплотную, наклонился, тяжело опираясь на стол ладонями, задышал в лицо:
— Я не верну ему человеческий облик, Лив.
Лив наконец-то оторвался от созерцания крошек:
— А если я попрошу?
— А ты не проси, — сказал Рерт еле слышно. — Соарен наступает тебе на пятки… Не проси, Зубастик… — И добавил фразу, которую Доминика не расслышала.
Лив приподнял брови. Рерт резко выпрямился, отошел в угол, в темноту; Доминика слышала, как он звенит посудой и шелестит страницами, по-видимому, книги.
— Одна деталь, от которой зависит многое, — пробормотал Лив, разглядывая крошки. — Скажи мне, Рерт… Скажи мне, сколько лет этому ключу? Как давно он в последний раз разговаривал с тобой?
— Четыре года, — сказал беспалый из темноты. — Он был бессмыслен и безмыслен, как пудель.
— Неправда, — резко сказала Доминика.
Лив быстро повернул голову:
— Что неправда? Не четыре года, меньше?
— Неправда, что он был бессмыслен, — сказала Доминика.
Лив прищурился:
— Вы же сами говорили мне, что ваш сводный братец был преимущественно стрелок вишневыми косточками… и все.
— Он был бессмыслен! — провозгласил Рерт, появляясь из темноты с аптечной бутылочкой в руках. — Все они появляются из ниоткуда, не зная, зачем родились. Всем им кажется, что жизнь — всего лишь ящик без стенок и дна. Они не делают ни малейшей попытки осознать свое предназначение, они плывут, куда гонит их ветер, катятся с глупой улыбкой и довольны собой, полагая, что в этом-то и заключается мудрость!
— Он не сделал вам ничего плохого, — злобно сказала Доминика.
— Он вылил на мою голову полную бочку отборной чуши — о бессмысленности всего на свете, о том, что мертвое умирает навсегда, что миром правит случайность…
Доминика подобралась, как перед прыжком:
— Он вовсе так не думал! К тому же… Вам-то какое дело? Не он явился к вам в дом — вы пришли к нему!
— А теперь вы пришли ко мне, — бросил Рерт, разглядывая бутылочку на просвет.
— Эдак к любому человеку можно придраться и во что-нибудь превратить! Будем превращать всех?
— Моя бы воля — и превращал бы, невзирая на пол и возраст, — Рерт сопел, отдирая от пробки сургуч. — Жаль, что я редко выбираюсь… Спина болит от прогулок, голова кружится от высоты, а Кротовые норы… — Он раздраженно махнул рукой.
— Одного я не могу понять, — пробормотал Лив, собирая крошки ребром ладони. — Со сроком выходит неувязка.
— Со сроком?! — Рерт зубами выдернул пробку из узкого бутылочного горлышка. — Она врала тебе от начала и до конца!
— О благородных дамах не говорят «врала». — Лив сбросил крошки в камин, отряхнул ладони. — Говорят — «не открывала всей правды».
Он сунул руку за пазуху, выудил странный предмет, отдаленно напоминающий свирель; Рерт отскочил:
— Проклятый Мизеракль!
— Лив, я не врала! — выкрикнула Доминика почти одновременно с ним. — Я…
— Не так уж важно. — Лив покачал головой, надевая «свирель» на пальцы правой руки.
Рерт поспешно приложился к горлышку бутылки и сделал глубокий глоток. Глаза его закатились, рот разинулся, в щели между потрескавшимися темными губами вспыхнула искра; искра превратилась в сверкающий клубок, в котором Доминика — мгновение спустя — вдруг опознала кроличью голову.
Ни один из кроликов, прежде виденных Доминикой, не выглядел так зловеще. Свалявшаяся шерсть его была покрыта комочками темной смазки, глаза смотрели холодно и мертво, зазубренные уши казались орудиями убийства. Не ожидая команды к бою, кролик ударил огнем из ноздрей — так, что голова Рерта, все еще служившая чудовищу оболочкой, мотнулась назад.
Доминика, невесть как оказавшаяся в самом дальнем углу, успела увидеть, как слегка прокопченный Лив поднимает руку, и очертания огромных зубов вдруг заполняют пространство Рертова жилища.
Кролик вырвался на свободу. Хвост его оказался непропорционально длинен и подобен хвосту скорпиона; момент удара Доминика видеть не могла — таким стремительным был каждый бросок.
Брызнуло стекло, рассыпаясь осколками; зашипел и высох ручеек. Чудовищные зубы, одновременно реальные и призрачные, несколько раз сомкнулись впустую, потом послышался хруст, кролик забился, перекушенный пополам, и вдруг взорвался, опрокинув Рерта в бассейн и отбросив Лива к стене.
— Ты проиграл мне желание, Рерт. — Лив расстегнул пряжку у горла и сбросил на пол обгорелые лохмотья, прежде бывшие его плащом. Край ткани вспыхнул; Лив наступил на него ногой.
Беспалый с трудом выбрался из бассейна. Уголки его рта кровоточили, темные струйки сбегали по седеющей бороде.
— Мизеракль, — просипел он с откровенной ненавистью. — Проклятый Мизеракль… Ты не сможешь меня принудить.
Лив поднял брови:
— Почему это?
— Потому что раньше меня придется убить!
— Доминика. — Глаза Лива нашли ее там, где она пряталась, в темном углу за сундуком. — Во-первых, можете выйти… А во-вторых — давайте подумаем, как нам быть. Не слишком ли высокую цену нам приходится платить за ваше наследство?
— Я не врала вам!
— Милая Доминика, я не стал бы связываться с вами, если бы вы не врали. Но теперь наступил момент истины: давайте сюда ключ… Кстати, когда вы успели его взять?
Доминика посмотрела на свои руки. В правой зажат был ключ. Прежде чем забиться в щель за сундуком, она успела-таки схватить со стола свою драгоценность, унести подальше от греха…
— Рерт, — сказал Лив мягко. — Прости меня, если я в чем-то не прав.
Беспалый, не глядя на него, разводил огонь в камине. Промокал уголки рта рукавом рубахи.
— Доминика, — Лив обернулся, — зачем вы рассказали мне всю эту историю про наследство? Ладно, молчите, я догадываюсь. Вам казалось, что в истинную причину никто не поверит. Что она не покажется серьезной.
Доминика молчала.
— Вы видите, я сделал все, что пообещал вам. Почти все. Рерт думает, что я не могу его принудить, — он ошибается.
В камине занялся огонь. Рерт не торопился подниматься, сидел, обхватив себя за плечи, подставив теплу мокрый бок. От одежды его поднимался пар; Доминика не могла видеть его лица, но видела руку, нервно сжимающую и разжимающую перепачканные кровью пальцы.
— Итак, Доминика, прежде чем я начну принуждать Рерта… А я твердо решил добиться своего… Скажите мне: почему вы ждали три года, прежде чем отправиться на поиски скважины для вашего ключа?
— Вы не поверите, — пробормотала Доминика.
— Правду, — резко бросил Лив.
— Этот человек — на самом деле не мой сводный брат…
— Я догадался.
— Его имя — не Гастон…
— Его имя не имеет значения.
— Он был аптекарь. Самый скучный и смирный человек на свете. Когда я проходила мимо, он странно на меня смотрел…
— Теплее.
— И однажды пригласил прогуляться… Но у меня были гости, и я отказалась.
— Какая жалость.
— Больше он не тревожил меня. Я была только рада. Нам с ним не о чем было разговаривать… К тому же родственники были бы против такой дружбы, ведь мы неровня…
— Разумеется. Что же потом?
— Потом к нему в аптеку зашел господин Рерт. — Доминика покосилась на побежденного колдуна. — Остался ключ на полу… и мальчишка, забившийся под прилавок. Видите, в этой части рассказа я вам не врала… «Человек, не имеющий цели, подобен ключу, не имеющему замка. Когда замок откроется ключом — Денизу вернут человеческий облик…»
— Никогда, — глухо сказал Рерт, поворачиваясь к камину другим боком.
Лив побарабанил пальцами по столу:
— Не похоже, чтобы из-за этого скучного безродного человека вы готовы были пожертвовать всем на свете, Доминика.
— Прошло три года. Брат Дениза разбогател и задумал перестроить дом. Когда ломали чердак, нашли коробку, на которой было написано мое имя. Брат Дениза человек на редкость порядочный — он просто передал коробку мне.
— Подарки?
— Письма. Десятки писем, на каждом дата. Ни одно не отправлено.
— Зачем вы их читали?
— Я тоже себя спросила… потом. Я была любопытна, Лив. А письма были адресованы мне. Я прочитала сперва одно. Потом другое. Потом все остальные.
— Что дальше?
— Я испугалась и сожгла их. И решила о них забыть.
— Но не получилось?
Доминика в отчаянии помотала головой:
— Я не могу объяснить… Я ходила мимо его аптеки, кивала в окошко — и понятия не имела, что… Задаром. Вы понимаете? Навсегда! Он такой… честный в этих своих письмах, острый на язык, умный, щедрый… И понимает меня лучше, чем… Но я-то, как я могла догадаться… когда он уныло пялился на меня из-за своего унылого прилавка?!
— Вы хотите сказать, что влюбились в него по уши, начитавшись романтических писем?
— Нет. — Доминика поморщилась. — Этих-то слов я и боялась. Любовь тут вообще ни при чем… А письма вовсе не были романтическими… Конечно, легче поверить в наследство.
— Уж простите мне некоторую пошлость формулировки. — Лив посмотрел на Рерта. Под его взглядом тот тяжело поднялся — хмурый, бледный, в бороде застряли сгустки крови.
— А теперь я скажу: ваш дружок — пустоцвет, и пустоцвет говорливый. Звенел своими склянками и рассказывал — мне, мне рассказывал! — что смысла нет ни в чем. Тогда я спросил его, есть ли хоть капля смысла в его собственной жизни…
— Провокация, — подбросил Лив.
— Это нечестно! — выкрикнула Доминика. — Он был в отчаянии… Он разуверился… Он страдал, в конце концов! А у того, кто страдает, не может не быть цели!
Рерт с силой вытер окровавленный рот.
— Если у него была цель — значит, где-то есть скважина для этого ключа. Надо только хорошо поискать.
— Я искала!
— Значит, у него не было цели.
— Дружище Рерт, — мягко сказал Лив. — Я не стану разубеждать тебя. Я не стану ничего тебе доказывать. Я даже не стану перекусывать тебя пополам. Но если ты откажешься помочь нам по доброй воле — поможешь по недоброй. Выбирай.
— Каким бы дураком ты ни был… — пробормотал Рерт, снова усаживаясь перед огнем.
— Ты вернешь ему человеческий облик?
— Нет.
Доминика отшатнулась: Лив метнулся в длинном, не уловимом глазом движении. По комнате прошел ветер, Доминика захлебнулась от густой вони; Рерт, все еще сидящий у камина, захрипел — и вдруг лопнул, как воздушный шарик. На месте, где он только что сидел, брякнулся о пол огромный замок с фигурной черной скаважиной.
— Быстрее! — приказал Лив. — Ключ!
Доминика опустилась на четвереньки — ноги не держали ее. По-деревенски разинув рот, она смотрела на бывшего человека, бывшего колдуна, оказавшегося теперь ржавым куском стали.
— Да отпирайте же! — раздраженно торопил Лив. — Это та самая скважина!
Доминика попятилась. Перевела взгляд с замка на ключ, с ключа на Лива, с Лива на замок.
— Вы… лгали мне. Вы умеете превращать людей. Это отвратительно… как вы…
— Но ведь и вы мне лгали!
Доминика помотала головой:
— У меня была причина…
— Но ведь и у меня была причина! Вам не понять… Или, наоборот, понять слишком хорошо… Но я Мизеракль, и Мизераклем умру!
— И очень скоро, — сказали из камина.
Грохнули, разлетаясь во все стороны, поленья. Погнулась чугунная решетка; легко переступив через ее обломки, в комнату шагнул некто, кого Доминика узнала сразу же. На этот раз при нем не было верхового животного, похожего одновременно на пантеру и паука, и сам он выглядел почти по-человечески, если не считать третьего глаза на лбу — но не над переносицей, как можно было бы ожидать, а над левой бровью.
Все три глаза лихорадочно блестели.
— Привет, Мизеракль… Что ты сделал с моим другом Рертом?
— Привет, Соа, — сказал Лив, делая шаг по направлению к замку.
Незваный гость протянул руку:
— Стой! Зачем? Ты и без того принес моему другу слишком много зла… Ты испоганил его аллею — я видел! Ты превратил его в эту дрянь. Не удивлюсь, если узнаю, что ты съел его кролика!
— Да, я съел его кролика, — устало подтвердил Лив. — Соарен, ты пьян. Осторожнее.
Новое неуловимое движение, новая волна смрада; замок будто взорвался, разрастаясь и принимая форму человеческого тела. Мгновение — и Рерт со стоном сел, держась за голову.
— К тебе гости, — сказал ему Лив.
Рерт невидящим взглядом скользнул по Доминике. Тяжело посмотрел на Лива, потом уставился на трехглазого и тяжело задышал.
— Фу-у! — трехглазый замахал ладонью перед лицом. — Ну и смердят же в наше время добро и справедливость! Здравствуй, друг Рерт. Тебе не надоел еще Мизеракль? Мне надоел смертельно.
— Он в моем доме, — хрипло сказал Рерт.
— Я заметил, — подтвердил трехглазый. — И что он с тобой делает — в твоем-то доме! Но я — другое дело. Я пришел не зубами с ним меряться, я кое-что принес… Вот! — И он вытащил из-за пазухи две покрытых воском доски для письма, а из кармана — два острых деревянных стержня.
Безобидные эти предметы произвели странное впечатление на Рерта и в особенности на Лива; Доминика, привычно забившаяся в щель за сундуком, имела возможность видеть его лицо. В комнате было достаточно света для того, чтобы разглядеть бумажную бледность поверх несколько застывшей невозмутимости.
— Не надо, — сказал Рерт.
— Надо! — провозгласил тот, кого звали Соареном. — Я давно ждал этого дня! Там, — он ткнул пальцем в сводчатый потолок, — наконец-то сочли, что нам с Мизераклем пора выровнять чаши весов… Окончательный поединок — вот что я принес в подарок моему другу Зубастику. Сядем же и нарисуем пару формул!
— Погоди, — сказал Лив.
— Немедленно. Чистый и окончательный счет. Выбирай оружие, Мизеракль, честно говоря, мне все равно — эта доска или та…
Доминика смотрела, утратив представление о смысле происходящего. Трехглазый Соарен уселся за низкий стол перед камином — тот самый, где недавно крошил свой хлеб Лив; через всю комнату бросил одну доску, и Лив поймал ее левой рукой, а правой подхватил летящий стержень.
Рерт, которому тяжело было двигаться после превращения в замок и обратно, отошел к бассейну (ручеек, едва пришедший в себя после полного испарения, журчал теперь тихо и как-то неуверенно), сел на краю и свесил руки ниже колен.
Лив молчал. Глаза его были стеклянно-отрешенными, и Доминика вдруг поняла, что боится за него — до холодного пота.
Соарен положил вощеную доску на стол. Вольготно вытянул ноги, взял в правую руку стержень; искоса, нехорошо взглянул на Лива.
Лив слепо огляделся. Не увидел Доминику. Пододвинул к стене стол, покрытый кожаной скатертью (стол был огромный, Лив сдернул его с места, будто пушинку), сел прямо, как школьник. Взял стержень в левую руку. Уставился на свою доску, словно рассчитывая прочитать подсказку на нетронутой вощеной поверхности.
— Ты готов? — отрывисто спросил Соарен.
— Я готов, — эхом отозвался Лив, и Доминика не узнала его голоса.
— На счет «пять» начинаем, — сказал Соарен. — Рерт, посчитай.
— Раз, — глухо сказал Рерт. — Два, три, четыре… пять.
Два стержня одновременно коснулись досок. Доминика замерла; поначалу ничего не происходило.
Соарен усмехался. Его стержень постукивал о доску, выводил письмена, рождая при этом зеленоватый пар; пар вырывался с силой, струйки его шипели, как обваренные змеи.
Лив все еще сидел очень прямо. Левая рука его выводила совершеннейшие, с точки зрения Доминики, каракули; только что проведенные линии через секунду таяли на воске, будто впитываясь. На их место ложились новые; Доминика никогда бы не могла себе представить, что решающий магический поединок выглядит именно так.
Рерт сидел, сгорбившись, переводя взгляд с одного писца на другого. Иногда его глаза останавливались на Доминике, и тогда она всей кожей чувствовала исходящую от Рерта неприязнь.
Потом Соарен начал рычать — вероятно, от азарта. Третий глаз его над левой бровью сделался совершенно красным — даже маленький острый зрачок потонул в прилившей крови. Зеленый дым из-под его стержня повалил гуще.
Лив сидел, не шевелясь, не издавая ни звука. Только рука его летала и летала над доской и метались, пролагая ей путь, глаза.
— Отойди от него, — сказал Рерт.
Доминика не сразу поняла, что обращаются к ней.
— Отойди от него, разнесет. — Рерт дернул рукой, будто приглашая. Доминика подумала — и не двинулась с места; Рерт отвернулся, всем своим видом говоря: я предупреждал.
Соарен плотоядно урчал, нанося на доску линии и символы. Соарен лоснился удовольствием; казалось, он гонит добычу. Казалось, рот его полон горячей сладкой слюны; он раскачивался на стуле, его танцующий грифель плевался молниями, и там, где коленчатые стрелы попадали в столешницу, возникали горелые пятна.
На лице Лива лежало такое страшное, такое непосильное напряжение, что Доминика избегала на него смотреть. Давай, бормотала она, сжимая кулаки до боли в ладонях. Давай, давай, ну пожалуйста…
Соарен с рыком начертил на своей доске округлую, судя по движению его руки, петлеобразную фигуру. Лив вдруг отшатнулся, будто его ударили по лицу. Деревянный грифель в его руке вспыхнул, как щепка в костре, грифель горел, но Лив продолжал писать, и с лица его не сходило мучительное выражение человека, решающего тысячу задач одновременно…
Потом грифель рассыпался пеплом. Лив удивленно глядел на свою доску, потом на руку и снова на доску; Соарен, хохоча, завершал комбинацию. Росчерк — Лива отбросило, будто толчком, затылок его ударился о стену…
Тогда Доминика зарычала сквозь зубы и нащупала шпильку в своих волосах. Подавшись вперед, вложила теплое острие в упавшую руку Лива.
Рука дернулась. Пальцы сжались вокруг железного стержня.
Соарен выписывал свою победу, над его доской дрожал воздух, закручивался смерчиками, подхватывая обрывки зеленого пара; Лив медленно, будто ломая ржавчину в суставах, выпрямился. Рука, сжимающая Доминикину шпильку, упала на стол рядом с гладкой (все впиталось!) вощеной доской.
Соарен занес свой стержень. И, прежде чем опустить, мельком глянул на побежденного.
Лив снова сидел по-школьному прямо. Удивленно смотрел на свою доску.
Соарен опустил руку, ставя точку. За мгновение до оглушительного стука, с которым орудие Соарена коснулось доски, Лив, будто проснувшись, подался вперед, и угловатые, рваные символы полились на воск.
Соарен рыкнул, на этот раз раздраженно. Он полагал схватку оконченной; добивая раненую жертву, он выписывал и черкал, рисовал и снова выписывал, казалось, на стержне его путаются безумные кружева…
Лив сидел, будто надетый на черенок лопаты, прямой и неподвижный. Рука, вооруженная Доминикиной шпилькой, летала с удвоенной скоростью.
Соарен замычал, мотая головой. Забранился; в комнате пахло дымом и раскаленным воском.
— Давай! — закричал вдруг Рерт, о существовании которого Доминика забыла. — Мизеракль!
Соарен наклонился над доской, почти касаясь ее подбородком. Стержень его надсадно визжал, кричал почти человеческим криком — все громче и громче.
Лив сидел как статуя. Только рука металась, нанизывая одну формулу на другую. Быстрее, еще быстрее; Доминика перестала видеть руку. Видела только капли пота, падающие со лба и кончика носа; касаясь доски, капли шипели и испарялись.
Соарен взвыл.
В вое этом не было ничего человеческого; тем не менее Доминика сумела разобрать слова «Мизеракль» и «Будь проклят».
А потом утробный рев Соарена распался на многоголосый вой внезапно возникшего хора; басовитые раскаты сменились сначала криком теноров, а потом нестройным визгом множества мелких тварей.
Соарен опрокинулся на бок — вместе со стулом. Из тела его один за другим вылетали, как брызги, крошечные существа, похожие на членистых червячков; каждое из них кричала, проклиная Мизеракля, грозя и ругаясь.
Тварей было несчетное количество; они вырывались из тела, как струи фонтана, падали на деревянный пол и исчезали в моментально прогрызенной дырочке. Через несколько секунд писклявые крики стихли — тело Соарена оседало, будто из него выпустили воздух, и вскоре осело совсем. Осталась одежда — рубаха, вложенная в жилет, жилет, вложенный в куртку, штаны, вложенные в сапоги…
Доминика шумно хватала ускользающий воздух.
Лив, сидящий за столом, не пошевельнулся. Рука по инерции нанесла несколько знаков — и замерла. И остановились глаза.
Рерт встал. По широкой дуге обошел то, что осталось от тела Соарена. Подошел к сидящему Ливу, наклонился, тронул за плечо:
— Мизеракль…
Лив не двигался.
— Мизеракль. — В голове Рерта был страх. — Эй, Зубастик…
Доминика подошла, не чуя под собой пола. Остановилась за другим плечом сидящего; увидела доску — воск, освобожденный от чар, оплывал, и последние строчки, написанные несколько секунд назад, скатывались мутными потеками.
— Лив, — сказала Доминика, не решаясь коснуться его плеча. — Лив, вы… ты меня слышишь?
Рерт протянул руку. Взял из застывших пальцев Лива покореженную шпильку; подержал на ладони. Перевел взгляд на Доминику.
— Ему нечем было писать, — сказала она, будто оправдываясь.
Рерт что-то пробормотал — она не разобрала слов.
Левая рука Лива лежала, впечатавшись в теплый воск. Под ногтями запеклась кровь. Синие жилы казались раздутыми, как весенние реки.
— Что значит «Мизеракль»? — спросила Доминика.
— «Чудо, совершаемое из жалости», — глухо отозвался Рерт.
— Из… жалости? — не поняла Доминика.
— Они называют «жалостью» все, что не приносит прямого дохода, — сказал Лив, качнулся вперед и упал лицом в стол, покрытый кожаной скатертью.
* * *
Дерево, наполовину умершее еще у себя на родине, проделавшее долгий путь по земле и по воздуху, испоганившее в конце пути лесную аллею Рерта, — это дерево все еще стояло, более того: его натруженные корни потихоньку укреплялись в сытной почве леса.
Доминика, повидавшая слишком много за последних два дня, не удивилась даже тому, что у дерева хватило сообразительности не врастать в землю прямо перед крыльцом: оно отбрело немного в сторону, где и хозяину не мешало, и в то же время оставляло за собой шанс поймать полуденный лучик солнца.
В дальнем конце аллеи появился Рерт. На плече у него лежала лопата; он шел, подволакивая ногу, беззвучно разговаривая сам с собой.
— Что было бы, если бы я открыла моим ключом тот замок… в который вы его превратили?
— Ваш друг снова стал бы человеком.
— А Рерт?
Рерт шагал по направлению к крыльцу. На светлом лезвии лопаты высыхали комочки земли.
Лив вздохнул, покачивая левую руку на перевязи:
— Он был бы унижен… Все эти шутки с превращениями — неприятная рискованная игра.
Доминика невольно взялась за ключ на своей груди. Лив усмехнулся:
— А вы уверены, что он вам нужен — живой? Что тот человек, открывшийся вам в письмах, сможет точно так же открыться, глядя вам в глаза? Вы не боитесь разочарования?
— При чем тут мое разочарование? Я хочу, чтобы он жил…
У нижней ступеньки крыльца Рерт воткнул лопату в землю. Оперся на нее, как на посох.
— Все.
— Не все, — мягко напомнил Лив.
Рерт поднял некоторое время разглядывал стоящих на ступеньках Лива и Доминику.
— Ты обязан этой женщине жизнью, — сказал он наконец.
— Я знаю.
— Я тоже обязан ей… Хоть она понятия не имеет, чем рисковала. И что бы с ней сейчас было, если бы Соарен…
Он запнулся. Вытер губы, будто желая очистить их от только что произнесенного имени; по Доминикиной спине пробежали крупные холодные мурашки — от поясницы к затылку.
— У этого ключа есть скважина, — тихо сказал Рерт. — Теперь я знаю точно. Она есть.
— Где? — быстро спросила Доминика.
Рерт зажмурился, будто что-то припоминая; запекшийся уголок его рта дрогнул — и снова начал кровоточить. Рерт перевел дыхание, открыл глаза, промокнул губы и бороду мятым зеленым платком.
— У него есть цель. Ты создала ее. Или увидела заново.
— Где его скважина?
— Там. — Рерт махнул рукой. — Та, которую ты изберешь… Ты придала его жизни смысл — ты найдешь ему скважину.
— Спасибо, друг, — тихо сказал Лив.
Доминика недоуменно оглянулась на него:
— Он издевается!
— Нет.
— Он…
— Пойдемте, Доминика. Мы и так злоупотребили гостеприимством нашего хозяина… Идемте. Я объясню.
* * *
— Госпожа! — причитала Нижа, и на ее крики в минуту сбежались все слуги и постояльцы гостиницы. — Вернувшись! Святая добродетель, мы уж не чаяли! Исхудали-то как! А осунулись! А где же…
Проталкиваясь сквозь толпу любопытных, Доминика прошла в дом, поднялась в знакомую комнату на втором этаже — и повалилась на кровать, как умерщвленное лесорубами дерево.
Рука ее сжимала ключ, висящий на шее, на цепочке.
* * *
Ветер ходил по полю, гоняя темно-зеленые и светло-зеленые волны. На дорожном указателе, криво приколоченном к столбу, сидела ворона.
— Я боюсь, — призналась Доминика.
— Понимаю.
— Я не знаю, что ему говорить…
— Он будет не в себе в первые дни. Лучше, если вокруг окажется спокойная привычная обстановка, знакомые лица… Кстати, что скажут родичи при виде его возвращения?
— Обрадуются… наверное.
— Даже если не обрадуются — ничего страшного. Привыкнут.
Карета, на козлах коротой сидел Сыр, укатилась далеко вперед и теперь поджидала хозяйку у моста, на другой стороне поля.
— Лив, я боюсь. Мне хочется найти первую попавшуюся скважину — и…
— Вы можете это сделать хоть сейчас. Правда, потом придется везти домой совсем беспомощного человека… Но у вас ведь экипаж.
— Нет. Я просто хочу попробовать, Лив. Просто увериться, что Рерт не лгал, и теперь любая скважина…
— Рерт не лжет мне. Он же не сумасшедший.
Доминика нервно рассмеялась:
— А я вам солгала.
— Я даже догадываюсь, зачем.
— Для правдоподобия. Скажи я правду — кто бы мне поверил?
— Я.
Доминика отвела глаза:
— Мизеракль.
— Да. Я сам не всегда понимаю, Доминика, что мною движет. Одно могу сказать совершенно точно: ничего в своей жизни я не совершил из жалости.
— Я вас обидела?
— Ну что вы.
— Вы ведь тоже солгали мне, Лив. И были правы. Если бы вы признались тогда, что хотите мне помочь, — я только уверилась бы, что это ловушка.
— А почему, собственно?
Доминика сцепила пальцы:
— Действовать, не преследуя выгоду, — противоестественно. Зато разбойник, у которого слишком мало сил, чтобы напасть в открытую, прежде всего предложит помощь — и проводит до ближайшей рощицы… Разве не так?
— Так.
— И нормальный человек скорее поверит в наследство, чем в стопку писем, от которых к тому же ничего не осталось, кроме горстки пепла.
— Вы помните их наизусть.
— С чего вы взяли?
Лив чуть заметно усмехнулся:
— Знаете что? Не говорите никому, что это вы его спасли. Придумайте что-нибудь. Груз так называемой благодарности способен погубить что угодно, тем более — такой груз…
— Но ведь это вы его спасли. Это я вам благодарна.
Лив хмыкнул. Вытянул откуда-то покореженную, закопченную шпильку:
— Узнаете?
— Еще бы…
Лив бросил шпильку в траву. Земля разошлась с негромким треском; на месте, где упала шпилька, поднялся, как змеиная головка, росток. Секунда — и молодое дерево неизвестной породы стояло, покачиваясь на ветру, поводя клейкими листочками, удивляясь само себе.
— На память, — сказал Лив.
— Почему здесь?
— Здесь раздорожье. Место, где мы разойдемся.
— Погодите, Лив… Что заставило вас сесть с ним… с этим… за эту доску? Кто? Почему он показывал пальцем… вверх, в потолок?
— Кто его знает. — Лив беспечно улыбнулся. — Он суетился, он размахивал руками… Как мы теперь догадаемся, что он имел в виду?
Ворона смотрела с дорожного указателя — насмешливо, как представлялось Доминике. Время шло; каждая уходящая секунда трогала волосы на голове — как ветер или как сильный страх.
— О чем еще вы хотите меня спросить?
Доминика оглянулась на карету в отдалении. Сыр не маячил больше на козлах — видимо, спустился вниз поболтать с Нижей.
Тогда она поднялась на цыпочки и крепко обняла своего спутника. И снова поразилась, обнаружив, что он почти ничем не пахнет. Разве что древесным соком и небом после молнии — чуть-чуть.
— Куда вы теперь?
— Я ведь бродяга, Доминика, вы помните. Дорога — мой дом…
Он осторожно высвободился. Церемонно поцеловал ей руку:
— Прощайте, моя госпожа. Берегитесь сомнительных портных и никогда не говорите вашему Денизу, что произошло с ним на самом деле.
— Я еще увижу вас… когда-нибудь?
* * *
Этот вопрос она задавала себе потом — много раз.
Особенно он мучил ее ночью, когда, просыпаясь рядом со сладко сопящим мужем, она прогоняла свой сон.
Ей снилось, что ворона слетает с дорожного указателя, садится на верхушку молодого дерева и, широко разевая рот, отрывисто каркает:
— Привет, Мизеркаль!
НАУКА ВОЛШЕБСТВА
СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО Плетельщица снов
Третью неделю стояла беспогодица. Ни дождя, ни солнца, серая хмарь в небе и тяжелый мертвый воздух у земли. Пыль над дорогой поднималась лениво, с неохотой, но уж поднявшись — опускаться не желала, тянулась пухлой серой змеей от самого горизонта.
Девочка замерла у колодезя, опустив полную бадейку на бревенчатый приступок. Пыльная змея все ползла и ползла по дороге, будто сказочный дракон, разучившийся летать. Девочка давно уже не боялась дракона, но сейчас с тревогой оглянулась на недалекое село. Пыль поднималась слишком быстро для каравана — торговцы не станут зря гнать груженых лошадей… Девочка быстро запустила руку за ворот.
Оберег под холщовым платьем девочки не нагрелся — значит опасности не было. Девочка переступала босыми ногами в теплой пыли, ждала. Пыльная змея обрела облик — грязные бородатые лица в железной раме поднятых забрал, обрела голос — перестук лошадиных копыт и звяканье сбруи, обрела размер — сотня с лишком скакала мимо деревни.
Девочка не умела считать до ста. Но и она, приоткрыв рот, смотрела, как проносятся мимо, ни на нее, ни на деревню внимания не обращая, самые первые и самые нетерпеливые рыцари в запыленной броне. Все рыцарство королевства выступило в путь — и стража Южных Лесов в зеленых плащах, и отважные Морские Рыцари в голубых шлемах, и надменные Королевские Защитники в серебристых доспехах.
Один из рыцарей остановился у колодезя. Хриплый голос произнес:
— Позволишь ли напиться воды, милое дитя?
Девочка не ответила, лишь отступила на шаг. Звякнули доспехи, когда рыцарь спрыгнул с коня и поднял бадейку. В его руках она казалась игрушечной. Конь, пользуясь минутной передышкой, опустил голову и принялся щипать траву.
Остановился второй рыцарь — конь пританцовывал на обочине, конь не устал и рвался в путь.
— Оставь и мне, — попросил второй голос, веселый и молодой. — Эй, селянка! Это и есть деревушка Последние Холмы?
Девочка несмело кивнула. Второй рыцарь ей понравился больше — его доспехи ярко блестели, эфес меча украшали разноцветные камешки. А первый все еще пил — струйки воды мыли дорожки на пыльном нагруднике.
— Слыхала ли ты о Плетельщице Снов, девочка? — спросил Молодой, принимая бадейку. — Нет ли в деревне женщины, носящей это имя?
Девочка покачала головой.
— Говорят, ваша колдунья красива и обладает великой силой, — продолжал Молодой. — Быть может, это ее имя?
Девочка прыснула от смеха. Снова покачала головой.
— А правда ли, что дальше по дороге притаился дракон? — вытирая губы, поинтересовался первый рыцарь.
Девочка улыбнулась. Рыцарь был такой старый, а верил в сказки!
Остановились еще несколько. Бадейка переходила из рук в руки. Гремело железо, недовольно фыркали кони, чуявшие воду.
Коней к воде не пускали.
Девочка застенчиво, исподлобья, поглядывала на рыцарей.
— Немая, — предположил кто-то. — Друг на дружке женятся-мужатся, вот и ходит полдеревни немых.
— Горелый Замок — он далеко? — спросил старый рыцарь.
Девочка замотала головой, ткнула рукой — даже в этой хмари видны были белые стены на далеком холме.
— И впрямь, — щурясь, сказал рыцарь. Взмыл в седло — легко, будто и не неся на себе тяжелого железа. Девочка подумала, что такому сильному человеку ничего не стоит поднять из колодезя десяток полных бадеек. — Спасибо, милое дитя, да хранят тебя боги!
И вот уже рыцари унеслись вслед за товарищами. Опустевшая бадейка лежала в пыли у дороги. Изредка, подстегивая коня, проносились вслед отставшие. Некоторые, посовещавшись, даже свернули в деревню.
— Вовсе не немая, — прошептала девочка вслед рыцарям.
Встав на цыпочки, она перевалила бадейку за сруб. Подождала, пока бешено крутящийся ворот не остановился, а из колодезя не донесся гулкий плюх. Ухватилась за рукоять и медленно, с натугой сделала первый, самый тяжелый, оборот. Трудно носить воду от дороги, но здесь самый глубокий и чистый колодезь.
— Погоди… — Ладонь в металлической перчатке перехватила рукоять.
Девочка зачарованно смотрела, как молодой рыцарь крутит ворот. Сильно, но неумело, будто этот труд был ему непривычен.
— Я почему вернулся, — рассуждал вслух рыцарь. — Время у нас есть, успеем. А такой крошке тяжело носить воду. Надо же чем-то отблагодарить тебя, правильно?
Девочка подумала и улыбнулась.
— А ты пока расскажи мне про деревню, — попросил молодой рыцарь.
Горелый Замок отряд окружил на закате. Ров высох и зарос бурьяном, проломленные стены уже начали осыпаться.
— Здесь нет дракона, — сказал старый рыцарь, слезая с коня. — Тридцать лет назад я проезжал в этих местах, тогда дракон еще был. Теперь его нет.
— Но легенды… — возразил Молодой. — Злой дракон, отважный герцог и его красавица-дочь…
Старый усмехнулся:
— Легенды говорят, что стены черны от огня, а призрак старого герцога бродит ночами окрест…
Железный лязг оглашал округу. Большая часть рыцарей уже спешилась. Некоторые вошли во двор замка через разрушенные ворота, ведя в поводу коней. Другие расположились на поросшем травой холмистом лугу.
Век, а может быть, чуть меньше миновало с тех пор, как на месте этих холмиков стояли дома.
— Но село-то сгорело, — кивая на луг, сказал молодой рыцарь.
Старый кивнул:
— Приметливый… Села всегда горят. Но поверь, мы не найдем в этих руинах драконицы по имени Плетельщица Снов. А те, кто остался в деревне, не найдут мудрой колдуньи, носящей это имя.
— Там есть колдунья, — заметил молодой рыцарь.
Старый зевнул и принялся расседлывать коня.
— Колдуньи есть всегда… Много наших осталось в деревне?
— Пять… десять… — Молодой стал расстегивать доспехи. Кожаные ремешки затянулись в тугие узлы, и ему приходилось нелегко. — Ты уверен, что она вообще есть?
— Плетельщица Снов? — Старый рыцарь засмеялся. — Конечно. Верховный маг никогда не шутит.
— Разучился шутить, — поддержал его Молодой.
— Никогда не умел. — Старый снял седло. Посмотрел на молодого рыцаря. — Скажи, почему ты решил стать Верховным магом?
— Хорошая работа, почет, уважение. Достойно служить людям острым мечом, но еще интереснее послужить им волшебными чарами. А ты?
Старый рыцарь засмеялся:
— Моим костям становится неуютно в седле. Может быть, им больше понравится на троне из слоновой кости в башне горного хрусталя? Пусть другие ищут драконов… там, где их давно нет. Заглянем в замок?
Молодой поморщился — он только успел снять доспехи.
— Они нам не понадобятся, — успокоил его старый рыцарь. — Ты же не думаешь всерьез, что нам придется махать мечом? Ослабь мне завязки на спине…
Пока Молодой помогал Старому выбраться из доспехов, тот негромко произнес:
— Быль никогда не нуждается в небыли, друг мой. Не увлекайся небылью.
— О чем ты? О драконе?
— Сказочном? Который сожрал герцога и влюбился в его дочь? — Старый рыцарь засмеялся. — Ты говорил о…
— Звере! Я говорю только о чудовищном звере, разорившем замок!
— Ну давай посмотрим твоего зверя, — миролюбиво согласился Старый.
Привязав лошадей и оставив рядом доспехи, рыцари пошли к замку. Старый снял и куртку, оставив от стеганого гамбизона только штаны, а из оружия — кинжал в поножах. Молодой упрямо шел в коже и перепоясавшись мечом.
— Какая красота, — оглядывая замок, говорил Старый. — Сейчас так уже не строят.
Молодой с сомнением смотрел на руины. А когда они входили в зияющий провал ворот, провел рукой по камням.
— Гляди!
На пальцах остался мелкий белый пепел.
— Пожар был, — согласился Старый. — Вот только при чем тут драконы?
Во дворе царила радостная суета. Кто-то из рыцарей обнаружил, что половина дворцовой библиотеки уцелела от пожара. Тяжелый деревянный шкаф тут же вытащили наружу, и теперь искатели приключений делили находку.
— Вдруг там есть… — начал Молодой.
— Книга «Плетельщица Снов»? — усмехнулся Старый. — Да, если умеешь читать, то можно и поискать.
— Рыцарь Взыскующий Мудрости умеет, — напомнил Молодой. — Он был в монахах.
— Пошли. — Старый засмеялся. — Пошли в пиршественный зал. Твоя драконица могла уместиться только в нем.
По ветхим лестницам и закопченным переходам они прошли в зал — и пиршественный, потому что тут были остатки огромного стола, и тронный — потому что каменный трон уцелел от огня.
Здесь, в скорбном молчании, десяток рыцарей собрались вокруг исполинского скелета. Череп драконицы лежал на каменном сиденье трона, рассыпавшийся позвонками хвост пробил витражное окно. Чешуя большей частью прикрывала скелет, но кое-где уже осыпалась на пол.
Один из рыцарей, опустившись перед скелетом на колени, плакал — и не скрывал своих слез.
Старый рыцарь нагнулся, подобрал хитиновую чешуйку. Повертел в руках, поскоблил кинжалом. Пробормотал:
— Девять колец. До тысячи не дотянула, бедная…
— А ты говорил — нет тут драконов! — возмутился Молодой.
— Это не дракон, это костяк, — парировал Старый. — Драконов чуешь за пять-шесть лиг. Они выдыхают сернистый газ, вонь стоит повсюду. Эта уже лет пять как сдохла, раз все выветрилось. На!
Он протянул Молодому чешуйку.
— Зачем?
— Тарелку сделаешь, сноса не будет. Или возьми большую, от загривка. Хороший мастер окует железом, выйдет славный щит.
— А золото? — спросил Молодой. — Монеты, цепочки, кольца…
Старый нагнулся, с натугой выломал из лапы коготь. Тот был размером с хороший кинжал.
— И как ты это себе представляешь? Такими лапами — кольца с трупов снимать?
Молодой подозрительно посмотрел на Старого.
— Ладно, покажу. — Старый подобрал обугленное, но еще прочное древко от давно истлевшего флага, пошел вдоль скелета. На середине остановился, пинками и ударами палки выломал десяток чешуек, протиснулся в образовавшуюся дыру между кривых желтоватых ребер. Рыцари возмущенно повернулись в его сторону.
Через минуту Старый вернулся, весь в пыли и каких-то лоскутках, похожих на старый пергамент. В руках у него был увесистый золотистый слиток.
— Вот. — Он протянул слиток Молодому. — Фунтов двадцать будет. Дракон жрет людей целиком, без разбору. Вместе с одеждой, оружием, украшениями. У него девять желудков, и там все переваривается — кроме золота, серебра и драгоценных камней. Все это сплавляется в комки и остается внутри. Ну, как у гусей в зобу камешки…
— «Ганс, златых дел мастер…» — с удивлением прочитал Молодой клеймо на выступающем из слитка бокале. — Пшла прочь! — Он пнул выскочившую из драконьего костяка прямо ему под ноги крысу.
— Крысолов бы здесь не помешал, — согласился Старый. — И все-таки крыс очень мало, кто-то их жрет…
Продолжая беседовать, они вышли из пиршественного зала. За их спиной рыцари принялись ломать чешую.
Солнце уже зашло, а во дворе прибавилось рыцарей. И не только рыцарей — среди них стояли древний ссохшийся старец и юная девушка — бледная, большеглазая и красивая. Старый и Молодой подошли ближе.
— Цирюльник пустил папе кровь, и ему полегчало. Ночью мы ушли из города и странствовали ночами, пока не наткнулись на эти руины, — рассказывала девушка. — Люди боялись приходить сюда, и мы обрели пристанище. Потом чума прошла, но мы уже привыкли. Папа ловит кроликов в силки, а я собираю дикие травы… Вы не обидите нас?
— Вам нечего бояться, милая дама, — воскликнул кто-то из самых молодых и пылких. — Вас никто не обидит!
— Если только вы сами не попросите об этом, — сострил кто-то менее романтичный и сам же засмеялся.
Старый улыбнулся, похлопал Молодого по плечу:
— Идем… надо напоить коней. Завтра снова в путь.
— Думаешь, та драконица — не Плетельщица Снов? — оглядываясь на девушку, спросил Молодой.
— Нет. Ее звали Глупая Ленивица. Драконы не дают имена зря — только глупая и ленивая молодая драконица позволила бы себя убить.
— Убить?
— А что же ты думаешь, она поперхнулась герцогской короной?
Старый рыцарь долго чистил коня, потом мылся в ручье сам, потом достал брусок и принялся править кинжалы. Молодой сидел и задумчиво смотрел на темный силуэт замка. В небе появлялись звезды: крупные, цветные, отрада астролога и звездочета. На лугу осталось не больше двух десятков рыцарей — остальные решили ночевать в руинах замка.
Где-то над замком тоскливо и прощально крикнула сова.
Молодой рыцарь бесшумно поднялся. Взял меч — и исчез в ночи.
Он то шел, то бежал, скрываясь в ночных тенях. Прижимаясь к обгорелым до белого пепла стенам, прошел во внутренний двор.
Костры уже потухли, багровым светом сочились угли. Некоторые рыцари спали под открытым небом, некоторые — в палатках. Молодой рыцарь достал меч из ножен и пошел на тихий чмокающий звук. По пути он дважды натыкался на закутанные в походные одеяла тела товарищей.
Но те не просыпались.
Лезвие меча коснулось горла девушки, когда та пила кровь из шеи Рыцаря Взыскующего Мудрости.
— Как тебя зовут, ночная тварь? — спросил Молодой.
Вампирша повернулась — ее лицо уже не было бледным.
— Что тебе мое имя? — прошептала она.
— Если ты — Плетельщица Снов, то я не стану тебя убивать.
Вампирша на миг задумалась. В темных глазах что-то мелькнуло — зеленые лужайки, детские качели, солнечный свет…
— Когда я еще была дочерью герцога, — сказала вампирша, — меня звали Эвели. Но если ты хочешь, я сплету для тебя самые удивительные сны…
За спиной Молодого два отточенных кинжала вонзились в спину старого герцога. Из горла вампира хлынула чужая свежая кровь, и он рухнул на землю — все еще продолжая тянуться к Молодому.
— Убивай, — посоветовал Старый. — В ней нет мудрости, которую мы ищем.
Вампирша закричала голосом тоскующей птицы — и те из рыцарей, кто еще оставался в живых, тревожно заворочались в своем колдовском сне.
Молодой ударил мечом.
— Колья — это суеверие, — сказал Старый. — Но я и сам ужасно суеверен. У стены растет осина, обруби две ветки потолще…
Взыскующий Мудрости застонал во сне — и оскалился в нехорошей гримасе.
— Три ветки, — с грустью поправился Старый.
Утром поредевший отряд двигался по горной дороге. Рыцари молчали.
Старый и Молодой скакали в хвосте. Здесь земля была слишком камениста и пыль почти не поднималась.
— Герцог жестоко отомстил драконице, — негромко сказал Старый. — Не знаю, помогла ли ему колдунья… если так — то позор ее цеху! Но скорее всего он нашел вампира и сам попросил об укусе. Они с дочерью пили кровь драконицы долгие годы, они сполна расквитались с глупой и ленивой тварью. И все-таки поразительно! Такое мудрое племя — и такая постыдная смерть. В семье не без урода…
— Откуда ты это знаешь? — спросил Молодой.
— Прочитал когда-то.
— Ты же не умеешь!
— Кто тебе сказал? — возмутился Старый.
Отряд поднимался все выше и выше в горы.
— Спасибо, что помог, — признался Молодой.
— Не за что, — усмехнулся Старый.
— Я тоже хочу помочь тебе, — серьезно сказал Молодой. — Я понял, чего добивался Верховный маг.
— Ну-ка, ну-ка! — заинтересовался Старый.
— Он указал нам направление и велел искать Плетельщицу Снов. — Молодой фыркнул. — Якобы только она может превратить рыцаря в великого мага. Странно, да? Никто и никогда не слышал о такой… мастерице. А есть ли она вообще?
— Начало хорошее, — одобрил Старый.
— Думаю, дело не в ней, — предположил Молодой. — Магическая сила — она в нас самих, в глубинах нашей души. Путь заставляет нас лучше познать самих себя, найти эту скрытую силу!
— Что же будет дальше? — вздохнул Старый.
— Дальше — новое испытание, — предположил Молодой. — Вероятно, никакой Плетельщицы Снов мы не найдем. Но тот, кто постигнет самого себя, найдет в душе и мудрость, и отвагу, и человеколюбие…
— Постой! — оборвал его Старый. — Что-то творится впереди!
Он пришпорил коня и унесся вперед.
Дорога уходила в ущелье, ущелье перегораживала каменная стена в рост высотой, сложенная из бревен и валунов.
Ехавшие первыми рыцари вели переговоры со стражей баррикады.
— Мы посланы Верховным магом в опасный и трудный поход! — кричал один из самых уважаемых рыцарей, бывший королевским защитником на четырех последних турнирах. — Позвольте нам проехать!
Как ни странно, но его собеседником была женщина. Немолодая, но еще красивая. И очень, очень воинственная.
Одетая лишь в кожаный жакет и соблазнительно короткую юбку, она стояла на стене.
— Ни один мужчина не войдет в наше селение! — отвечала она. — Мы ушли сюда от ваших притеснений и отстоим свою свободу! Если угодно торговать — мы обменяем сукно и шкуры на стрелы и зерно! А ваши вонючие объятия нам не нужны!
Молодой рыцарь в восторге посмотрел на Старого.
— Во дает!
— Иногда это болезнь, но бывает и дурная привычка, — кивнул Старый. — Однако девочки настроены воинственно.
— Не нужны нам ваши объятия! — возмутился королевский поединщик. — Я хочу поговорить с главным… с главной… кто тут у вас управляет?
— Старшая из Сестер, Прядильщица Основ! — отвечала женщина. — Но она не снизойдет до разговора с мужчинами!
Рыцари заволновались. Поединщик отъехал к товарищам.
— Плетельщица Снов… Прядильщица Основ… — доносилось от сгрудившихся в толпу рыцарей. — Верховный маг давно уже косноязычен!.. Но пристойно ли нам, рыцарям, выйти на бой…
Молодой рыцарь обернулся.
Старого рядом не было.
Молодой развернул коня и неспешно двинулся прочь из ущелья. Кто-то из товарищей его окликнул — он с готовностью разъяснил:
— Проверю местность, нет ли засады!
Тропинка, ведущая в обход ущелья, была такой наезженной, что Молодой даже удивился — как ее сразу не заметили.
Смирный конь старого рыцаря шел первым, спокойно и неторопливо. Горячий гнедой Молодого то и дело норовил ускорить шаги, невзирая на открывающуюся внизу пропасть.
— Жак, тихо, — бормотал Молодой на ухо коню. — Тихо, Жак…
Старый рыцарь с улыбкой поглядывал на молодого.
Наконец тропинка расширилась и стала пологой. Рыцари поехали рядом.
— Еще одно испытание, — с удовольствием рассуждал Молодой. — Сразу понял. Ну, почти сразу… Все уже устали от пути — и с удовольствием поверили в схожесть имен.
Старый одобрительно кивнул.
— А про тропинку ты тоже читал? — спросил Молодой.
— Нет. Но сам посуди — если дорога не заброшена, а безумные бабы никого дальше не пускают, то должен быть обходной путь.
Они ехали вверх, путь был еще труден, но уже не слишком опасен. Иногда снизу доносилось эхо воинственных кличей.
— Страж была симпатичная… — вздохнул Молодой. — Чего же нам ждать дальше?
— Перевала, — меланхолично ответил Старый. — Маги и волшебники, особенно имеющие страсть к учительству, обычно селятся у перевалов. До вечера мы найдем Плетельщицу.
— Так быстро? — поразился Молодой.
Старый вздохнул.
— Верховный маг отвел нам на поиск ровно неделю срока. Мы в пути уже три дня.
Молодой нахмурился.
Они проехали еще с лигу, когда тропинка вывела их к перевалу. Чуть в стороне от дороги, притулившись к скале, стояла маленькая белая башня. Рядом крошечным водопадом падал со скалы ручеек, в сарайчике квохтали куры, в маленьком садике тянулись из бедной земли зеленые перья лука и бурые листья салата.
Окна башни светились ярким колдовским светом.
Старый рыцарь остановился. Здесь было так холодно — особенно под железными доспехами…
— Ты же не станешь бить меня в спину? — спросил он Молодого, отставшего на несколько шагов.
— Нет! — пылко воскликнул Молодой. И тут же признался: — Не стану врать, мне пришла в голову эта подлая мысль… Нет и нет!
— Так что же мы сделаем? — спросил Старый. — Ведь только один из нас получит от Плетельщицы Снов дар магии?
— Давай мы решим этот спор честным поединком! — предложил Молодой. — И не до смерти, а как на турнире, тупыми копьями…
Старый рыцарь вздохнул:
— Что ты… Силой и ловкостью ты превосходишь меня. Конечно, коварными приемами я могу взять верх, но это не будет честным поединком… — Он развернул коня, посмотрел на товарища: — Езжай ты первым.
— Ты мудр и опытен, — пробормотал Молодой. — Что же, меня там ждет засада?
— Нет, — развеселился Старый.
— Тогда в чем подвох? Видимо, это испытание на благородство? И пропуская меня первым, ты тем самым становишься достоин…
Старый рыцарь засмеялся:
— Да что ты… Я надеюсь лишь на то, что у тебя нет склонности к магии. Или же ты не понравишься Плетельщице Снов и она тебя ничему не научит.
— Слово рыцаря?
— Слово чести, — серьезно ответил Старый. Спешился и стал заботливо отирать бока коню.
Молодой спрыгнул с коня, тоже достал тряпицу, нетерпеливо поглядывая на белую башню.
— Иди уж, — добродушно сказал Старый. — Почищу и твоего гнедого, мне не зазорно.
Молодой рыцарь отворил незапертую дверь и вошел в башню Плетельщицы Снов.
Мед и вереск, душица и кардамон, мята и джусай, анис и тимьян — сотни запахов наполняли воздух, сливаясь в единый аромат.
Жизни бы не хватило различить в нем каждую отдельную ноту — столько трав отдало свой запах в колдовское варево.
Хозяйка сидела за столом, спиной к очагу. Над жарким огнем булькал закопченный котелок, источая дурманящие запахи. Молочно-белым светом сиял хрустальный шар, водруженный поверх стопки старых пергаментов. Сушеные травы и корешки лежали на столе рядом с маленькими аптекарскими весами, а еще тысячи пучков свисали с потолка и гирляндами опоясывали стены.
Плетельщица Снов была очень стара. Но в глазах ее светилась мудрость, а черты лица — исполнены такого благородства, что Молодой упал перед ней на колени.
— Приветствую тебя, Плетельщица Снов, — прошептал он. — Я — один из рыцарей, посланных в поиск Верховным магом королевства. Верховный маг устал от трудов, и ему нужна смена…
Плетельщица Снов вздохнула.
Ободренный, молодой рыцарь продолжил:
— Я прошел через все испытания, Плетельщица Снов. Вначале я помог маленькой девочке набрать воды. Это мелочь, да, но ведь маг должен быть добрым даже в мелочах!
Старуха одобрительно кивнула.
— Потом, — продолжил Молодой, — мы достигли Горелого Замка. Все считали, что в замке живет страшный дракон. Но дракон давно издох. Это тоже урок, верно? Память о зле живет куда дольше самого зла. Любое зло — глупо и лениво, оттого и обречено. Вот что я вынес, увидев останки драконицы!
— Хм, — сказала Плетельщица Снов.
— Но в замке мы встретили еще и старого герцога с дочерью, — с жаром продолжил Молодой. — Они спаслись от драконицы и решили отомстить. Для этого им пришлось стать вампирами… они убили чудовище и попытались убить нас. Наши мечи принесли им упокоение. И это — это очень важный урок! Когда добро пытается победить зло его же методами — оно превращается лишь в еще большее зло, отвратительное и безобразное!
— Ого, — прошептала Плетельщица Снов. Старческие глаза с удивлением взирали на молодого рыцаря.
— И, наконец, последнее испытание! — живо воскликнул Молодой. — Торный путь был закрыт перед нами. Все… почти все рыцари предпочли обмануться и приняли безобидную больную женщину за тебя, Плетельщицу Снов. А в это время узкая горная тропа вела меня к твоей башне. Это испытание на терпение! Нельзя поддаваться соблазну легких и широких путей. Вот…
Плетельщица Снов размышляла.
Молодой рыцарь встал с колен. Глаза его сверкнули отвагой и юношеским восторгом.
— Итак, в чем же заключалось задание Верховного мага? — воскликнул он. — Думаю, в том, чтобы достойный рыцарь прозрел и возмужал в пути! Ведь человек — это не вещь в себе, человек — мера всех вещей, он может и должен постичь самого себя! Теперь я чувствую в себе силу настоящего мага! Ты ничего не можешь мне дать, Плетельщица Снов! Я уже всего добился! Я вернусь — и стану новым Верховным магом!
Плетельщица Снов потупила глаза.
— Я прав? — торжествующе спросил молодой рыцарь.
— Ты сам все сказал, — призналась старуха.
— Благодарю тебя! — И низко поклонившись, Молодой вышел из башни.
Старый посмотрел на Молодого — и улыбнулся.
— Ты достиг своей цели?
— Да! — Молодой вскочил на протестующе заржавшего коня. — Спасибо… став Верховным магом, я никогда не забуду твоих советов!
— Я рад. — Старый вздохнул. — Ты уже уезжаешь? Я предпочел бы переночевать.
— Спешу. — Молодой виновато развел руками. — Отдохни, друг. Буду рад тебя видеть в башне из горного хрусталя!
Он пришпорил коня и опасно быстро поскакал назад по тропинке.
Старый рыцарь вздохнул, потрепал коня по морде и вошел в башню Плетельщицы Снов.
Старуха сидела в той же позе.
— Здравствуй, Плетельщица, — уважительно склонив голову, сказал старый рыцарь. — А ты совсем не изменилась. Время не властно над тобой.
— Здравствуй, повзрослевший рыцарь, — улыбнулась старуха. — Время — это сон. Я помню вчерашние сны… помню и тебя.
— Он хороший рыцарь, — махнув рукой на дверь, сказал Старый. — Очень быстро все схватывает.
— Вот только не умеет слушать. — Старуха покачала головой. — Ищет лишнее… сновидение в сновидении… смысл в смысле…
— Все мы так поначалу… — Старый рыцарь сконфуженно оправил бороду. — Ладно, Плетельщица. Меня послал Верховный маг, он хочет удалиться на покой. Как заведено, созвал он лучших рыцарей и велел найти Плетельщицу Снов, дабы одарила она достойнейшего магической силой…
— Я Плетельщица Снов и, как заведено, награждаю достойнейшего магической силой, — кивнула старуха. — Сними же котелок с огня и выпей волшебный отвар.
ПЕТР ВЕРЕЩАГИН Когда рушится мир
Вокруг королевы лесов бушевал ураган рыданий и скорби. Она же так и не обронила ни одной слезы.
Эдвард Дансени. Слезы королевыМир был маленьким, чистым и уютным. Днем светило солнце, ночью — звезды и луна. Луна иногда была круглой и яркой, иногда исчезала вовсе, а иногда становилась узким серпиком с рогами вверх или вниз. Короткие дожди были такими же теплыми и ласковыми, как полуденный ветерок, и деревья и травы с радостью принимали их свежие объятия.
Вокруг мира плескалось бескрайнее море. Черное и зеленое, синее и лазурное, лиловое и серое, оно всегда было могучим, но мягким и добрым, я часто ныряла в волнах не хуже рыб и взмывала с пенных гребней как белокрылая чайка. Изредка волны становились острыми и холодными, а небо затягивали тучи; тогда я вылезала на берег и ждала, когда шторм успокоится.
Папа не велел быть в море, когда шторм. Я слушалась папу.
Мы всегда были вдвоем, он и я. Всегда, с самого первого дня. Я плохо помню то время, но иногда мне снился белый дракон с пестрыми крыльями, и люди, что показывают на папу странными блестячками, и один, такой же бородатый, как папа, но его мантия и длинная палка белые, а не черные; он небрежно кивает на берег, папа кивает в ответ, он невеселый, и тогда человек в белой мантии поднимает папину черную палку и ломает надвое, и люди с блестячками радостно кричат. Потом мы с папой остаемся на берегу, а дракон пропадает вдали.
Не люблю вспоминать тот день, это огорчает папу. Он никогда не показывал этого, он улыбался и даже смеялся, но я же не слепая, я же вижу!..
Зато я могла сделать так, чтобы он улыбнулся по-настоящему. Вот тогда все становилось хорошо.
…Мир был маленьким, чистым и уютным, а море плескалось вокруг него, могучее и бескрайнее.
А потом из моря появился красный дракон с серебряными крыльями, и мира не стало.
Дым. Сладкий. Противный.
Папа, папа!.. три дня прошло, а я уже прожила три вечности, три раза солнце всходило над миром и покидало его, а для меня это было одним бесконечным мгновением, серым, соленым от крови в прокушенной губе, глухим от грохота в ушах…
Тебя больше нет.
Нет! не хочу! Так не бывает!..
Так не будет, я не хочу этого!
Море шумит, глубокий рокот должен утешить меня — я не хочу утешения! Я не ребенок, чтобы мне пели колыбельную…
Я безразлично смотрю на то, что осталось от красивого красного дракона, на угли, на дым, на обрывки серебряных крыльев. Половину останков успели прибрать ветер и волны, остальное скоро будет там же, исчезнет без следа. Как исчезли те, что явились с драконом…
Папа ничего не успел сделать. Он даже не пытался.
Все сделала я.
Папа, папа… если б ты хоть раз сказал, ЧТО дракон может принести сюда, если б ты не запрещал мне игры с водой и песком, — ты и теперь был бы со мной. Хоть раз спроси я, дура — а что там, за краем мира, за морем? — да, ты бы промолчал, но из этого молчания я бы узнала все, что нужно! Да ни один дракон из-за горизонта не успел бы вынырнуть!
Они называли себя героями.
Они хвастали, что раскрыли убежище Василиска, что Высший совет проявил беспечность и ненужное милосердие, когда позволил ему — тебе, папа! — живым покинуть пределы земли, взяв только обещание не возвращаться, пока не позовут. Они исправили досадную ошибку. Они, эти «герои», хотели потешиться и над телом… но тут пришла я.
Последний, когда стоял на коленях, когда жизненная сила покидала его, капля за каплей, — он почему-то не о себе подумал, а обо мне. Ему казалось, что меня тут быть просто не может. Он считал, папа, что ты пришел сюда один, что ты всегда был один, иначе для тебя никак невозможно, ни одно существо не способно находиться рядом с тобой, ведь один твой взор — смерть, медленная или быстрая — это уж как ты сам захочешь… они для того и пришли с пластинами блестящего металла, чтобы отразить смерть, которая жила в твоем взгляде, папа… а они пришли сюда не для того, чтобы умереть, совсем не для того, даже наоборот, до чего же глупо и неправильно все получилось…
Мысль героя умерла вместе с ним. Я отправила тело к остальным, но накрепко запомнила все, что увидела.
Папа, неужели ты действительно всегда был один? Неужели именно поэтому ты никогда не глядел на море, словно боясь за тех, на кого сквозь водную толщу падет твой взор? Неужели они были правы?.. Но если так, папа, то кто же я?
Нет! не надо, не отвечай!.. я боюсь услышать этот ответ!..
Наш маленький мир был уничтожен три дня назад. Ветер, солнце, луна, звезды, море, деревья, трава, песок — они останутся, но только они. Еще шесть дней — и пропадут последние следы, оставленные тобой, папа.
И я тоже пропаду, ведь верно?
Ведь ты просто выдумал меня, чтобы не быть одному, чтобы тебе не было скучно ждать, пока тому, настоящему миру снова понадобится твое могущество — лишнее и опасное в дни мира, но незаменимое в дни войны.
Ты выдумал меня, ты выдумал мою привязанность и любовь, мои сны о былом и знания о грядущем, мои умения и детскую жажду интересного… это ведь так, папа?
Не отвечай, Василиск. Не нужно.
Я поняла это три дня назад.
И выдумала красного дракона с крыльями цвета серебра.
ВЛАДИМИР РОГАЧ Право
Какая горькая память —
Память о том,
О том, что будет потом…
И. Кормильцев. Чужая земляВоины в черных доспехах, шлем каждого из которых венчал перевернутый ущербный месяц рогов, а щиты сверкали семизвездным узором Карающей Длани, указывающей путь к закату, вырвались из ночи лоскутами темных снов, сея вокруг себя сны без сновидений, лишая спящих пробуждения, даруя успевшим открыть глаза последние грезы.
Ночь рвалась в клочья, вспыхивая криками боли и страха. Ночь убивала молча, душа боевые вопли редких защитников…
Воины в черном пришли не за добычей — в селении почти нечего было взять. Воины в черном принесли страх — чтобы оставить его здесь, чтобы прочие боялись увидеть сон про рвущуюся на лоскуты ночь и платили за возможность проснуться.
Что в твоем сне, воин?
Я не вижу снов.
Тогда проснись.
Зачем?
Чтобы уснуть снова…
Немхез не видел снов — служба отучила его от этого. Немхезу было уже за четыре дюжины — и он был отпущен на покой. Однако воинская привычка оставалась — и ночь не дарила ему снов.
Все еще не считающий себя старым рубака, опытный ветеран, которого долго не хотели отпускать, ценя умение и доблесть, — он проснулся рывком, выхватив себя из забытья, словно клинок из ножен…
Костер показал темному небу язык и рассыпался трескучим искристым смехом, на миг украшая темный свод парой сотен новых звезд. И рядом с Карающей Дланью на протяжении целого вдоха застыла еще одна рука — словно протянутая для пожатия. Но — мелькнула и пропала, сжавшись в кулак, бессильно опустившись вниз.
— И он проснулся и всех их победил? — спросил мальчишка лет пяти у рассказчика, чьими знакомыми ему с колыбели чертами сейчас играли отблески пламени, превращая лицо в забавную и жутковатую маску. — Ведь он мог? Да, дед?
Дед усмехнулся, и морщины, сплетаясь с тенями, изобразили на лице добрый десяток сменивших друг друга масок, каждая из которых была совершенно отлична от предыдущей и нисколько не похожа на следующую.
— Он мог. Но этого мало.
— Но ведь он победил?
— Потом… — На морщинистом лице сменилась еще дюжина масок.
— Потом победил?
— Потом доскажу. Отправляйся спать.
Мальчишка вздохнул. Хотелось дослушать — чуть ли не так же сильно, как хотелось спать. Тем более что дед после всех привычных сказок начал рассказывать про Право.
— Он ведь имел Право их победить? — уже согласившись с неизбежностью сна, спросил мальчик.
— Потом…
Старики всегда рассказывают детям о Праве. Чтобы знали. Потому что Право имеет каждый. И каждый может им воспользоваться. Как Немхез…
Никогда эту историю не рассказывают сразу до конца. Пусть думают о том, что будет потом. Пусть думают уже сейчас — потому что имеют на это право.
Пусть думают, что будет потом. Всегда думают. Это тяжело — иметь Право.
— Ты обещал рассказать, дед! Что потом? Он проснулся и всех их убил?
— А ты бы убил? Всех?
— Но ведь они убивали!
— Но ведь он — не они.
— Но он же имел Право!
Это так просто — когда имеешь Право. Ты можешь убить всех.
— Тебе сегодня в школу. Там тебе расскажут лучше.
— Но ведь там это расскажут другие! И не сразу — потом! Вон, старший брат уже год в школе — а молчит. Я, говорит, думаю, что тебе пока рано. Потом, говорит, может быть…
— Я расскажу. Сегодня. После школы.
— Ладно.
Наряду с грамматикой, математикой, риторикой, музыкой, физической подготовкой и богословием во всех школах есть отдельный курс — занятия по Праву. Это очень важно. И начинают с этой же истории, не дорассказанной старшими дома, — с истории про Немхеза, воспользовавшегося Правом.
Ночь убивала молча — но не тихо. Многие не хотели умирать, успев все-таки проснуться. Их крики и подбросили старого рубаку с кровати. Меч уже в руках — он заменит и одежду и броню.
Едва ли кто из воинов в рогатых шлемах мог бы выйти с ним один на один — и Немхез знал это. Да даже и дюжина…
Дверь, издав предсмертный вопль, рухнула внутрь, впуская ночь в дом. На голове ночи — перевернутый месяц, в руке — кусок темного небесного свода с Карающей Дланью, в другой — меч…
Рогатый не успел поднять клинок — и тихо опустился сам, заливая пол кровью из рассеченного горла. Но за ним шел еще один… И еще…
А потом безумная ночь разорвала с коротким свистом пленку, затягивающую узкое окно.
Стрела вошла под левую лопатку и выглянула из груди. Да так и остановилась, замерла, увидев очередной лоскут ночи, врывающийся в дверной проем.
— Право… — прохрипел рубака, опускаясь на колени перед надвигающейся тьмой.
И тьма испугалась — но не отступила, а ринулась вперед, надеясь успеть — заткнуть глотку хрипящему, порвать, дотянувшись хотя бы кончиком лезвия, не дать вылететь словам… Без замаха, без страха самому напороться на клинок, что все еще сжимают руки смертельно раненного врага — всего себя, как стрелу, кидает вперед воин в рогатом шлеме — и не успевает.
— Право на месть… — захлебываясь собственной кровью, успевает выплюнуть умирающий.
И все, ничего не исправишь. Лезвие достигшего цели меча ломается о преграду с твердостью камня. Право на месть священно.
К утру все было кончено — и можно уходить.
— Он успел произнести просьбу о Праве?
— Да…
Оба воина в рогатых шлемах угрюмы, их лица сумрачны вопреки оторвавшемуся от окровавленного горизонта солнцу.
— Кто ж мог подумать… — вздыхает один. — Но, может, обойдется? Право-то оно право, но вдруг брехня все это про божественный дар?
— А ты видел его тело?
Все видели. Тупили клинки о камень, пытались расплавить глыбу в кузничном пламени, раздробить другими камнями… Все перепробовали. Бесполезно. Право на месть, данное богом, священно.
И кто-то им, наконец, воспользовался.
— Я останусь. Может, он удовольствуется одним мной? А то еще и остановлю его…
— Как знаешь.
Корабли с полумесяцами на носах и Карающей Дланью на черных парусах спешили прочь. Прочь от места, где их враг решился воспользоваться Правом.
Он прав по-своему. Он не думал о том, что будет потом, — Для него никакого потом уже не было. Он просто решился произнести слова — и успел.
— Может, он удовольствуется одним?
Меч лупит по каменной фигуре, высекая искры. Семь Искр — маленьких звездочек — складываются на миг все в ту же Карающую Длань. От этого теперь никуда не деться, не скрыться — ни за морем, ни за небом. Только одна надежда:
— Может, он удовольствуется одним?
Воин в черном снимает шлем и доспех. Время у него есть. А потом…
— Может, он удовольствуется одним?..
Ожидание смерти хуже самой смерти — это всем известно. Наверняка то же можно сказать о мести и о ее ожидании.
Усидеть на месте воин смог только пару часов после отплытия кораблей с полумесяцами на носу, уносящих его товарищей по набегу. Да, конечно, с детства были тренировки, на которых неподвижность важнее скорости, а расслабление дается тяжелее любого усилия. Но в том-то и дело, что теперь не тренировка.
Ожидание мести.
И даже сама месть не сможет быть хуже.
Рогатый шлем, щит с семизвездьем Карающей Длани, вороненый доспех и черный на зависть ночи плащ аккуратно сложены в стороне, и тот, что был скрыт ими, теперь оказался совсем обычным человеком. Может, заметно бледнее, чем у местных жителей, кожа, может, чуть тоньше черты лица, чуть выше рост, чуть темнее волос — но ведь такой же точно человек. Даже говорит на том же языке.
А что говорит то ли с безмолвным каменным болваном, то ли с самим собой — ну, с кем не бывает?
— Ты пойми, — говорит он себе и каменному болвану напротив, в которого вперился взглядом, будто надеясь разглядеть, что же у того внутри, под непробиваемой твердью каменной кожи. — Ведь ничего против тебя и деревни твоей проклятой. Не вы, так другие. Но вышло так, что не другие, а вы. Князья спорят — на холопах шкуры трещат да головы летят. Мы оба с тобой холопы. Не ты, так я, но кто-то должен был умереть этой ночью. Но вышло так, что не я, а ты. Да, ты теперь в Праве — но прав ли ты? Подумай, болван ты каменный! — заорал вдруг, еще сильнее бледнея от злости, обладатель лежащего в стороне рогатого шлема, ударяя кулаком по недвижимо застывшей перед ним, так похожей на человека глыбе, рассекая кожу на костяшках, размазывая по непробиваемой маске свою кровь. — Ты умер! Ты не должен!..
Так же внезапно, как сорвался на крик, человек успокоился. Отошел в сторону, поднял меч, провел несколько выпадов, разрубил на части кинувшийся на него порыв ветра, несколькими взмахами завертев вихрь вокруг себя, заставив перемешанный с пеплом песок взвиться облаком и осесть снова.
— Я не пропущу тебя, — пообещал он, не оборачиваясь к каменному болвану. — Тебе ведь хватит одного меня? Жизнь за жизнь?
Словно услышав, глыба, похожая на человека, дрогнула — будто кто толкнул ее. А потом каменная маска треснула поперек уродливой щелью — там, где должен быть рот.
Злобная ухмылка, осыпающаяся каменной крошкой, была ответом на вопрос.
— Я в своем Праве, — прогудел каменный болван, разбрасывая в стороны мелкие и острые осколки своей неуязвимости.
Ожидание завершилось — а значит, хуже уже не будет. Бледнолицый не спеша обернулся.
Он узнал стоящего перед ним. Тот же самый рубака, положивший троих на пороге своего дома и встретивший его словами о Праве, — словно не у бога, а у врага своего просил о последней милости.
Из груди у него так же, как и ночью, струилась кровь, стекая с высунувшегося на палец наконечника стрелы. Стрелы? — удивился воин, разглядывая противника, но потом отогнал Г эти мысли — не до того теперь. А потом кровь остановилась, и пальцы вышедшего из каменного кокона человека извлекли ^ стрелу, бросив ее под ноги. Раны у него на груди не было.
— Я в своем Праве, — поднимая меч, произнес вышедший из камня.
— Ты просил о Праве не у бога — твои слова были обращены ко мне, — сказал бледнокожий, опуская клинок. — Используй свое Право — и уходи прочь.
Бывший Немхезом недобро усмехнулся — словно трещина вновь пересекла каменную маску. Короткий взмах — и через грудь бледнокожего тянется алая полоса.
— Тебе не страшно? — удивляется он, заметив, что противник даже не шелохнулся — словно и не было этой медленно расползающейся раны.
— Я уже знаком с ожиданием — мне ли бояться долгожданного? — ответил тот. И все-таки поднял меч. Это не было отчаяньем — это была плата мучительному, но завершившемуся наконец ожиданию. Теперь, когда ждать больше нечего, оставалось только умереть. Может быть, он удовольствуется одним…
Клинки сталкивались, высекая искры друг из друга, кружились в удивительном танце — и мир замер на миг, глядя на них.
А потом бледнокожий, разрисованный жутким переплетением алых полос, опустился на колени и выпустил иззубренный страшными ударами меч. Взгляд его снова споткнулся о стрелу — ту самую, что вынул из своей груди вышедший из камня. Всего лишь стрела — но раненый никак не мог оторвать от нее глаз, будто не было ничего важнее этого куска дерева, украшенного оперением и наконечником из меди.
— Бог мой… — прошептал он, протягивая руку к стреле. Неправильной стреле — ведь воины в рогатых шлемах…
Немхез не дал ему дотянуться. Замах, удар — и голова катится прочь, пряча страх в стекленеющем взоре.
Стрела указывала на запад — туда, откуда приплыли воины в рогатых шлемах.
Немхез не удовольствовался одним.
— Я в своем Праве.
Ему не с кем и не с чем было прощаться — деревня была сожжена дотла, а те, кто в ней жил, все до одного были мёртвы. Кроме него — получившего Право.
Он шагнул навстречу волне — одной из бесчисленных волн, принесших вчера на берег корабли с полумесяцами на носах и семизвездьем карающей длани на крыльях парусов, а нынче несущих их обратно.
Море тоже было виновно — а потому он мстил и морю, бредя по не смеющей, не умеющей поглотить его глади, прячущей в себе бездну, бессильную перед ним, униженную им…
Он в своем Праве.
Право на месть священно.
— Остановись!
Пришелец молчал. И откуда он только взялся? Весь день не было даже тени паруса на горизонте, ни одно судно не ткнулось носом в берег — но чужак вот он, здесь. Пешком, что ли, измерял морской простор?
— Остановись!
Молчит — и продолжает идти. Дозорный поправил рогатый шлем, потянулся было к сигнальному рожку на поясе…
Поднимать тревогу из-за одного полуголого бродяги, выброшенного на берег бездонным? Ха!
— Ты чужой на этом берегу, — сурово произнес страж. — Я вправе убить тебя.
— Я в своем Праве, — пришелец поднял взгляд пугающе глубоких глаз цвета бушующего моря. Взгляд мазнул по лицу дозорного, оставив пылающий след.
— Да кто ты такой?!
Меч как сквозь масло прошел от левой ключицы наглеца. вниз, рассекая грудь, но застрял там, где сердце, звякнув, будто ударился о камень.
— Вы убили мой род. Вы убили меня. Я в своем Праве…
И ладонь чужака смыкается на лезвии вонзившегося в его грудь меча, смыкается, вынимая клинок — словно не из тела, а из воды.
Крови нет.
До того момента, пока лезвие поменявшего хозяина меча, развернувшись, не перерубает пополам дозорного в рогатом шлеме, пытающегося дотянуться, успеть пронзить небо тревожным воем сигнального рожка, висящего на поясе…
Не успел. И кровь бьет фонтаном, раскрашивая равнодушное лицо пришедшего по волнам убийцы жутким узором.
— Я в своем Праве, — произносит Немхез, снимая с пояса убитого сигнальный рог. — Вы в моей власти.
И тревожный вой пугает небо, взывая о помощи.
— Вы в моей власти, — повторяет Немхез, отнимая умолкший рог от перепачканных чужой кровью губ, встречая взглядом бегущих к нему воинов в шлемах, увенчанных полумесяцами, на чьих щитах — Карающая Длань. — Я в своем Праве.
А потом он убивает их всех — одного за другим. А потом идет в поселок — и убивает остальных. Воинов, мастеровых, земледельцев, купцов, нищих… Мужчин, женщин, стариков, Детей…
Он в Праве. Право на месть священно — оно даровано богом.
Серый с подпалинами пес, больше похожий на волка, молча обнажает клыки, заступая дорогу убийце, перешагнувшему через тело его хозяина, чтобы войти в дом его хозяйки. Так же молча пес взмывает в воздух — и зубы смыкаются на глотке врага…
Вкус крови не пьянит пса — потому что это его собственная кровь, хлещущая из порванной голыми руками шеи.
— Я в своем Праве, — рычит человек с каменным сердцем, омываемый чужой кровью. Пес пытается дотянуться до босой ноги переступающего через него врага — и захлебывается последним выдохом…
Женщина на пороге безоружна.
— Пес… — говорит она с жалостью, глядя на умирающего в луже собственной крови зверя. — Пес! — шепчет она с ненавистью, глядя на не желающего насытиться чужой кровью человека.
Она кричала, когда он входил в нее.
Она молчала, когда он ее убивал.
Она была мертва, когда он убивал ее детей.
Он в своем Праве.
Есть тактика ведения войны, которую кто-то назвал «выжженной землей». Ее используют против заведомо превосходящего противника, оставляя на его пути ничто, не давая ему того, за чем он пришел. Только черные остовы выжженных селений. Только ядовитый вкус воды в отравленных колодцах. Пустота загубленных полей и садов, пустота хранилищ и кладовых… Враг не встречает сопротивления — только пустоту и смерть, но не те, которые несет сам, а те, что ему оставляют.
Вожди в рогатых шлемах после гибели трех поселков от руки Получившего Право решили использовать похожую тактику. Они назвали ее «выжженный взгляд».
И следующее селение встретило чужака равнодушием. Его не видели, на него не обращали внимания, не замечали. Даже когда он убивал — они не сопротивлялись.
Двое стариков беседуют о былом. Голова одного слетает с плеч. Второй поднимает ее — и продолжает говорить, словно ничего не произошло, словно все так же, как прежде… Потом умирает и второй — так и не подняв руки для того, чтобы защититься от удара.
Юноша и девушка неумело и неловко смыкают губы в поцелуе… Когда лезвие меча пронзает ей сердце, она лишь крепче прижимается к парню — и тот отвечает ей тем же, словно не замечая, что клинок не останавливается, вонзается и в его грудь.
Дети кувыркаются в придорожной траве. Один из них поднимается, падает — и больше уже не встает. Остальные не пытаются убежать, они продолжают свою игру — дальше, до самого конца…
Месть не приносит удовольствия. Но только кто решил, что мстят для удовольствия?
Убив последнего, Немхез лишь пожимает плечами, переступает через труп и идет дальше.
Мстят не для удовольствия — не прав был уже тот, первый, оставшийся дожидаться его возрождения в сожженном поселке на берегу. Немхез не мог удовольствоваться одним. При чем здесь удовольствие?
Мстят ради мести.
И Право на месть священно.
Тактика «выжженного взгляда» его не остановила. Ничто не могло его остановить.
Только осуществленная месть. А границы своей мести каждый определяет сам. Бог дает только Право. Только Право на месть.
Они вышли ему навстречу — те, кто решился выйти. И он убил их — всех.
Они бежали от него — те, кто не решался встретиться с ним в бою. Но он убил и их — всех.
— Ты ради этого живешь? — спросил у Немхеза смуглолицый купец, привезший свой цветастый товар в земли воинов в рогатых шлемах.
— Я — живу? — спросил у него Немхез. А потом убил и купца. Раз уж тот приплыл в поисках прибыли сюда, к возвращающимся из разбойных набегов дружинам с Карающей Дланью на щитах — значит, и он виновен в гибели рода Немхеза.
Значит, и он заслуживает мести. Значит, и его семья, и его Народ, и его страна…
Немхез ступил на водную гладь — и униженное море было вынуждено нести его на себе: оно тоже виновно. До сих пор виновно — ибо носит на себе корабли купцов, получающих прибыль от набегов разбойных дружин, пусть при этом и не сражающихся с ними в одних рядах.
— Я в своем Праве…
— Что за глупость? Так ведь получится, что он имеет право уничтожить весь мир, учитель! — Мальчишка удивлен так, что даже забывает встать, обращаясь к преподавателю.
— Он имеет Право, — спокойно отвечает учитель. Он уже привык к подобному удивлению — и этот мальчишка далеко не первый.
— А что потом? — спрашивает, вспомнив наконец подняться, удивленный ученик.
— А что потом — думай сам, — отвечает учитель. — Расскажешь нам всем на следующем уроке.
Какая-то девчонка за первым столом смеется — и мальчишка краснеет от досады. Да как она смеет?..
И с губ готова сорваться формула просьбы, обращенной к богу.
— Право… — шелестом отвечают касанию пересохшего языка пересохшие губы. И — все. Он замолкает, не договорив — потому что задумывается о том, что будет потом.
Подавится ли девчонка своим гадким смехом? Или он сам порвет ей горло голыми руками, запихивая обратно насмешку? И ведь никто не остановит и слова не скажет — он будет в Праве…
Или придется убить и учителя — улыбающегося с пониманием и сочувствием? И весь класс, хихикающий в кулаки? И этого… Министра образования! За то, что придумал школы и классы, в которых над тобой может смеяться какая-то пигалица с первой парты! И еще…
А что — потом?
— Право… — падает с губ такое тяжелое слово. И — все. Он не решается договорить. Пусть даже и шепотом.
Он думает — что будет потом.
— Хорошо, учитель, на следующем уроке я расскажу, что будет потом.
— А мы все послушаем, — соглашается учитель, напряженно следивший за беззвучным движением губ мальчика. — И я думаю, что и остальные расскажут нам об этом — о том, что будет потом…
После урока девчонка с первой парты подошла к нему:
— Извини. Я не хотела… Просто смешинка в нос влетела…
— Сейчас и в глаз еще влетит, — бормочет мальчишка, насупившись. И вдруг с удивившей его самого смелостью спрашивает, густо краснея: — Давай дружить?
— Давай! — улыбается она. И смеется. Совсем не обидно.
А потом они смеются вдвоем. Смешинка в нос влетела. Что там будет потом?
— Я в своем Праве, — равнодушно пожал плечами Немхез, давая старику в белоснежных одеждах заглянуть себе в глаза и увидеть пустоту.
— Но при чем здесь мой народ? — хрипел старец, умирая, даже не успев поднять для защиты ставший слишком тяжелым за последнюю дюжину лет меч.
— Вы счастливы. А у меня это отняли — мой народ, мое счастье, все.
— Ты безумен!
— Я в своем Праве.
Он мстил миру — всему миру. Каждому: счастливому — за счастье, богатому — за богатство, любящему — за взаимность, проигравшим — за возможность переиграть…
Он не мог переиграть, вернуть, повторить — только отомстить.
Немхез не знал, что привело его к началу — к сожженному поселку на берегу, где он когда-то попросил и получил Право.
Тело того — первого — истлело, рогатый шлем покрылся ржавчиной, меч кто-то утащил, прельстившись иззубренным лезвием, не похоронив погибшего владельца оружия.
— Здравствуй, мой первый враг, — опустившись на колени рядом с белеющим скелетом, произнес Немхез.
Он смотрел в пустые глазницы, видя отражение собственного взгляда, видя пустоту. И он рассказал мертвецу о том, как реализовал полученное Право. Шаг за шагом, жертву за жертвой, смерть за смертью, муку за мукой, боль за болью, страх за страхом…
— Почему же я не могу успокоиться, Первый Враг, надеявшийся, что я удовольствуюсь тобой одним? Месть не приносит удовольствия — но почему же и успокоения она не дарит? Я мщу не так? Мщу не тем? Не за то? Не тогда, когда надо?
Мертвец молчал. И белеющая на солнце кисть тянулась к чему-то незаметному, скрытому песком — тянулась, так похожая на Карающую Длань, украшавшую когда-то щит, что носила эта рука.
— Что там?
Наконечник стрелы, древко которой истлело от времени. Стрелы, убившей тебя, неугомонный мститель.
— Ты призвал бога, когда умирал — почему же сам не попросил его о Праве? Может быть, я и удовлетворился бы одним…
Наконечник стрелы, вращаемый гибкими и сильными пальцами, рассек кожу при неловком движении — и упал обратно в песок, отброшенный от неожиданности.
— Бог мой! — удивился Немхез, разглядывая царапину на' пальце. — Кровь?
Он забыл об этом — о любой, даже самой невыносимой боли. А потому эта, такая ничтожная — стала нестерпимой.
Вновь найденный наконечник лег на ладонь под пристальный взгляд. Что в нем такого — в этом кусочке металла?
Почти ничего — мелочь. Клеймо кузнечное, едва заметный знак…
И острым ножом через прошедшие годы бесконечных убийств, кромсая память, ожила перед глазами картина. Потом другая.
Охваченный пламенем родной поселок… Селение бледных воинов в рогатых шлемах… Второе… Третье… Последнее…
Белолицые не пользовались луками. Их воины всегда давали противнику шанс, приближаясь на расстояние удара — и только тогда били. Глупый обычай предков — глупый, но чтимый веками. Славные мечники, воины в рогатых шлемах не брали в руки метательное оружие. Всегда лицом к лицу…
Наконечник стрелы был местной ковки. Просто кто-то был не против прихода несущих Карающую Длань на щитах и знаменах. Подлец ли, безумец — какое это теперь имело значение?
— Я мстил… Не тому? Не тем? Не за то? Ни за что? Бог мой…
Право на месть священно — оно дано богом.
Кому ты будешь мстить, Немхез — человек, обладающий Правом?
— Кому могла быть выгодна гибель селения? Тем более что рогатые перебили в нем всех!
— Кто-то просто не подумал, что будет потом.
— Что ж тут думать? — усмехнулся юноша.
— Тот кто-то думал так же. Подлец или просто безумец — но он хотел помочь своим врагам. Он помог. Но сражающиеся лицом к лицу, не признающие луков и стрел — им ли было щадить предателя, пусть даже и помогшего им?
Преподаватель Права закрыл свои книги и теперь протирал платком линзы очков, близоруко оглядывая притихший класс и единственного стоящего ученика, не желающего понять то, что было когда-то. Это даже хорошо — значит, он первым задумается о том, что будет потом…
— Что же это за бог, дающий такие права? — спрашивает этот парень возмущенно, словно спрашивает самого этого неправильного бога.
— Дающий такое Право, — поправил его учитель, водружая очки на место. — Единственное Право. Право на месть.
— Глупый бог! — восклицает мальчишка. — Он не имел права давать такое Право людям…
— Ты сам все понял. Он не имел Права. Он дал его людям.
Право на месть священно — ибо даровано богом. И этого у бога уже не отнять — не отнять этого Права, которого сам он лишен.
Бог не имел Права…
Немхез кричал. Долго, страшно, бессмысленно — разрывая в клочья тишину, убивая все прочие звуки вокруг…
Перепуганное солнце нырнуло за горизонт — и через некоторое время алый шрам, деливший море и небо, зарос бурой коркой, а после и вовсе пропал. И дыры звезд, и две луны — не понять, где верх, где низ, где небесный свод, где водная гладь. И — две Карающие Длани, две огромные ладони, разведенные для оглушительного хлопка…
Немхез шагнул в звезды. Море? Небо?
Шаг за шагом — вверх? Вниз?
Право на месть священно — и не знает никаких границ и преград.
Немхез шел к богу, давшему ему это Право. Шел, чтобы расплатиться за дар — расплатиться сполна.
Неловкий поцелуй неожиданно приятен. Казалось бы — что такого? Губами в губы чмокнул. Но кружится голова, даже в глазах рябит…
— Ты совсем не умеешь целоваться! — тихо смеется она, боясь, что кто-то может услышать их в безмолвии ночного парка. Кто? Такие же парочки, пугающиеся звука собственных голосов и поцелуев?
— Можно подумать, ты умеешь совсем! — с легкой хрипотцой бормочет юноша, продолжая удерживать девушку в объятиях и боясь услышать, что обниматься он тоже не умеет. Совсем не умеешь. А с кем ему было учиться? С напарниками на тренировках по гаси-до? «Бросить бы тебя через бедро с захватом…»
— Не умеешь, не умеешь! — смеется она, а ее губы — сладкие, теплые, мягкие — запечатывают ему рот, и этот поцелуй вдруг сводит его с ума…
А в голове скребется злобная мыслишка: «Где научилась-то?» Неслышно почти скребется и очень далеко, но…
Но ведь сам-то он не умеет целоваться. Совсем. Так откуда же она…
— И откуда ты такая… — вздыхает он и начинает учиться. — Сейчас зацелую до смерти… Вот отсюда, — в левую щеку. — Досюда, — в губы и в правую щеку.
— А теперь обратно! — шепчет она, и губы сливаются снова. И кто теперь скажет, что он не умеет целоваться?
«Но сама-то где научилась? — скребется где-то на самом краю сознания. — Сама-то…»
Только закончилась разминка — новички тяжело дышали, старшие высокомерно поглядывали по сторонам, гордясь ровным дыханием после получаса бега, прыжков, подтягиваний, кувырков…
— Разбиться по парам! — приказал тренер.
Когда партнеры в образовавшихся парах приняли положенные стойки «Немхез замер в ожидании перерождения» — или хотя бы подобия стоек, — последовала следующая команда — название упражнения, для многих еще пока нового:
— «Немхез вырывает сердце, стоя перед богом»! Следите за ногами! Первое базовое движение бедер, корпус держим прямо, дыхание пока можно произвольное, руки начинают двигаться одновременно с бедрами, глаза устремлены на шею противника и чуть дальше, держа его целиком в поле зрения, но ни на чем не задерживаясь. Сосредоточить внимание на положении кистей!
Ладони стоящих в парах соприкасаются, один двигает руки вперед, переходя при этом из задней в переднюю полустойку, левая рука, на миг уступив напряжению правой ладони напарника, плавно начинает движение вперед — от своего сердца к его подбородку, преодолевая сопротивление партнера. Потом рука движется вниз, на уровень пояса, где правая ладонь удерживает левую руку противника. А дальше — движение, словно выхватываешь меч, и клинком-ребром ладони — в шею…
Потом партнеры меняются ролями.
«Немхез вырывает сердце, стоя перед богом». Надо побыть и тем, и другим.
Это уже боевая техника. После базовых движений рук, ног и бедер, основных видов перемещений — по квадрату, по прямой, по кругу… «Немхез скользит по глади моря», «Немхез дотягивается до горизонта», «Немхез шагает в небо»…
И вот теперь — «вырывает сердце, стоя перед богом». Но к чему это последнее движение — от правого бедра к горлу противника? Он что — голову богу отрубил?..
Тренировка длится два часа. После базовых движений и комплексов — спарринги, потом упражнения на дыхания и легкий самомассаж.
И все это — «Немхез». Шагает, скользит, ударяет… Вырывает сердце, стоя перед богом — и движение от бедра, словно выхватываешь меч…
Что потом?
— У тебя здорово получается, — улыбается она, дождавшись его после тренировки, за которой она наблюдала, сидя у дальней стены зала. Все знали, на кого она смотрит, все завидовали. Сменявшие друг друга партнеры пытались победить его у нее на глазах — чтобы взглянула и на них… Особенно тот, во втором спарринге — когда пришлось ударить почти в полную силу.
— Меня учат как и всех, — пожимает парень плечами, изо всех сил стараясь казаться равнодушным к похвале. Очень стараясь — но даже дыхательные упражнения не помогают до конца унять радостно барабанящее сердце.
— Ты, наверное, учишься не как все, — продолжает она улыбаться, отлично понимая, что сейчас с ним происходит, но довольная своей властью, обоим до конца не понятной, но такой увлекательной, просящей испытать себя снова.
— Давай сходим куда-нибудь? — как всегда краснея и чуть запинаясь, спрашивает он, кое-как справившись с ураганами, бушующими у него внутри.
— Не хочу сегодня никуда, — вдруг отвечает она, даже сама не зная почему. — Может, научишь меня так же?
— Как же? — мрачно интересуется он.
— Как «Немхез вырывает сердце, стоя перед богом».
— Девчон… Девушкам это не к лицу, — сделав серьезное лицо, отвечает парень, стараясь подражать интонациям наставника. Получилось довольно похоже. Только, похоже, она недовольна.
— Ну, конечно! — сердито встряхивает девушка головой, отворачиваясь (власть! власть!). — Девчонкам надо ждать, пока появится какой-нибудь очередной Немхез, придет, изнасилует, убьет…
— Ладно, я научу, — вздыхает он. — Только глупостей всяких не говори… «Изнасилует, убьет»! Немхез один такой был, кто Права попросил…
— А другие что же — не могут попросить?
— А другие думают, что будет потом…
Она вдруг заливается смехом — звонким, радостным… Но почему-то обидным. А потом говорит нечто еще более обидное, чем этот смех. Глупость говорит, продолжая смеяться, не глядя в его сторону:
— А другие все думают — что же будет потом? Некому даже изнасиловать бедную девушку!
И смеется.
«Дура», — хочет сказать он, чувствуя, как кровь бьет в лицо, как растекается по всей коже алыми пятнами — словно кто тебя в кипящую воду окунул… Но не говорит он ей этого.
Просто берет за плечи и разворачивает к себе. И целует — так, как не целовал никогда. И она отвечает — так же…
А потом он говорит то, что никогда не говорил:
— Я люблю тебя…
Она не отвечает. Но и не смеется, когда он, сделав шаг назад, исполняет «Немхеза, вырывающего сердце, стоя перед богом». Нет — его движения плавнее, а последнее не напоминает удар мечом. Он отдает ей свое сердце, донеся на ладони от своей груди к ее груди…
Широко распахнутые глаза — и губы, выдыхающие изумленно:
— Ты научишь меня? Так же?
Парень только кивает, удивленно вспоминая то, что сделал сейчас. Нет, наставник не узнал бы в этом движении своего «Немхеза»…
Так никто не умеет, подумал он вдруг.
Так никто не умеет — только я.
Так никто не умеет, понял он, глядя в широко распахнутые глаза той, которой сказал «люблю». Даже она не умеет — так…
Вырвать свое сердце — и отдать. Не расплата, а дар. От всей души…
Смогу ли я научить ее так же?
Вырвать сердце — и отдать?
Отдаст ли? — заныло в груди, где своего сердца уже не было, где было страшно и пусто от ожидания. Отдаст ли?
И что будет потом?
— Что произошло между Немхезом и богом? — спросил он на следующем уроке. — Откуда это движение в гаси-до? — вспомнив вчерашнюю тренировку, добавил парень, глядя учителю в глаза.
— «Немхез вырывает сердце, стоя перед богом»? — догадался преподаватель Права, в сухой фигуре которого не зря угадывались скрытые гибкость и сила. Не зря — потому что учитель повторил это движение в соответствии со всеми канонами, как учили на тренировке. И, конечно, не так, как парень изобразил это перед своей девушкой. Потому что в конце — удар, а не дар. Месть, расплата…
«Удара-то я и не нанес», — подумал он, глядя на застывшего учителя Права, но не видя его, а вспоминая сумбурный вечер накануне, свое признание, ее молчание…
— Да, это самое движение, — сказал он учителю, терпеливо ждущему, пока парень перелистает свои воспоминания. — Это самое.
— А ты не догадываешься? — улыбнулся преподаватель улыбкой человека, который давно все знает и только ждет, когда же его кто-то спросит. — Наверное, пора рассказать. Немхез добрался до бога…
Небо не смело сбросить его — оно тоже было виновно, а потому и небу он мстил, попирая ногами облака и звезды.
— Здравствуй, бог! — бросил он в спину облаченному в сверкающий доспех воину, которого встретил за последним облаком, под последней звездой.
Конечно, это был бог — кому еще здесь быть? Только богу. И Немхезу — раз уж пришел…
— Ты ко мне? — не спеша обернуться навстречу гостю, спросил бог. Блеск доспехов на нем слепил глаза. На голове — шлем. Не с рогами — это было бы странно и даже смешно. С гребнем из конского волоса. А бог задал новый вопрос: — Зачем ты здесь?
— Я в своем Праве, — ответил Немхез, не решаясь приблизиться к не спешащему повернуться ему навстречу богу-богатырю. — Ты сам дал мне его.
— Знаешь, почему?
Вопрос бога сбил с толку, как хороший удар, сбивающий с ног.
— Знаешь, почему я дал вам это Право?
Бог обернулся. Лицо мертвеца. Посиневшие, распухшие губы, налитые болезненно-красным глаза, пугающе бледная кожа — следы отравления одним из редких ядов, секрет приготовления которых давно уже забыт. Помнят лишь следы, которые он оставляет. Бледность лица, посиневшие губы, красные глаза…
— Я был лучшим из воинов, — слетело с распухших губ. — Я выходил один против армий — и побеждал. Мне не было равных — прежний бог дал мне Право на силу. Но я был один — а один в поле не воин. Пока я побеждал армии, кто-то вырезал моих родных. Пока я защищал и нападал, оберегал и разрушал, укреплял границы и расширял их — кто-то губил моих друзей. Я был один — и не мог быть всюду и со всеми, не мог защитить всех и каждого… Я даже отомстить не мог — не знал кому. А потом меня просто отравили — представляешь, Немхез? Не армии, не чародеи, не могучие герои, способные выйти со мной один на один — вытяжка какой-то травки, даже названия которой я не знаю… Я и тогда оставался сильным — я был в своем Праве. Но отомстить — не мог! Не траву же косить мечом! Ты хоть представляешь себе, что это такое — мечтать о мести, и не иметь возможности ее осуществить? Я умирал три дня — и ко мне никто не пришел. Потому что меня отравили случайно — представляешь? Перепутали приправы… Мне некому было мстить. Я поднялся до бога — и оказался сильнее его, потому что был в своем Праве. Это был совсем немощный божок… А вам я дал то, чего был лишен сам, — Право на месть.
Глаза бога горели. Сила есть — ума не надо… Чем ты думал, бог?
— Это твоя месть нам? За что? — спросил Немхез, не веря в то, что слышал.
— Это моя месть — которой я не смог насладиться! Но смог ты! Мне некому было мстить — а тебе? Разве ты не рад? Ты смог то, чего не смог твой бог, Немхез! И каждый из живущих — сможет…
Старый рубака устало смотрел в лицо бога, подарившего людям свою месть. Не тем? Не за то? Ни за что?..
— И зачем ты богом-то стал?
— Чтобы дать вам Право!..
Немхез ударил коротко и резко — бог отшатнулся, но не упал. Не упал, потому что бил старый рубака не его — себя. Может, и не смог бы он пробить собственную плоть, неуязвимую для стали, но помогла трещинка, оставленная предательской стрелой, и вот уже в ладони лежит холодный, как камень, комок — сердце. Как камень холодный и твердый…
Рука опустилась к поясу — вот-вот выронит.
Не выронил. Замах — словно меч из ножен — и камень сердца комком ссохшейся грязи летит в мертвенно-бледное лицо растерянного бога.
— Подавись своим Правом, убожество!
Он не думал, что будет потом.
Он отдавал Право, данное богом — богу. Богу — богово…
И небо не удержит не имеющего прав…
И море не остановит полет…
И все кончится…
Но он не думал уже, что будет потом. Даже богом стать не хотел — как этот отравленный дурак. Чтобы — не дай бог! — не дать людям подобного Права. Подобного данному этим…
Он уже не думал, что будет потом. Но остальные пусть думают. Пусть помнят, что было, — и думают…
Они все еще имеют Право. И Право священно, но…
Пусть думают.
За последним облаком, под последней звездой сидел недоумевающий бог, сжимая в руке холодный камень — сердце получившего от него Право.
— Я дал им Право, — бормочет бог. — А дальше пусть думают сами.
Он не понимал. Это был очень сильный, но очень глупый бог — куда ему было понять, что Немхез отомстил и ему. Бросив даром в лицо — отомстил. Отказавшись от божественности — отомстил. Погибнув вопреки Праву — отомстил.
Бог не понимал этого. И у людей по-прежнему было Право. Но было и кое-что еще — они могли думать о том, что будет потом. Богу этого было не дано. Этого тоже — но он не понимал…
Он купил цветы. Она любила именно эти — белые розы. А еще он купил наконец кольцо. А еще…
— Я люблю тебя, — сказал он. И не надо было изображать «Я вырываю сердце, стоя перед богиней, и отдаю его ей» — как он назвал это движение, что придумал сам почти год назад, в тот вечер сумбурных признаний, когда она так и не ответила ему тем же…
— Прости… — шептала она теперь, стараясь вернуть кольцо. — Я… не люблю тебя. Прости.
А потом, когда она уже закрывала дверь, — его губы дрогнули.
— Право…
Она не смела отвернуться — и в ее глазах был страх. Страх безумный, страх, сводящий с ума, страх, напугавший даже его самого.
— Право… — вновь шевельнулись пересохшие губы, выбрасывая наружу режущее глотку слово.
Твердые как сталь пальцы бьют в грудь — в свою, кажется, опустевшую за миг до этого, — и вырванное сердце, продолжающее биться, протянуто Ей…
— Право… на любовь…
Он уже не думал, что будет потом.
Он уже был богом.
Наверное, глупым — как и тот, что дал людям Право на месть. Ведь глупый же был бог?
«Я не буду таким же», — думал он, отдавая Ей свое все еще бьющееся сердце. Отдавая свое Право на любовь.
Право на месть позволяет мстить — пусть не тем, пусть не за то, пусть ни за что…
Право на любовь — позволяет любить. Не того, не за то, ни за что…
Не быть любимым — только любить. И глупого нового бога не стало. Но Право осталось.
Право на любовь.
И можно вырвать сердце из своей груди — и протянуть его Ей…
Глупый был бог.
НИК РОМАНЕЦКИЙ Оплошка вышла!.
Станимир Копыто проснулся в очень тяжком похмелье. Это было чудно́.
Поскольку заказов вечор не оказалось, они с Рукосуем Молчаном решили пересидеть легкое безработье в трактире. Отправились, по обыкновению, в «Затрапезье», ибо владелец оного питейного заведения был постоянным клиентом Станимира, хорошо относился к обоим волшебникам и ввек не наливал им сивушного. Душа-человек, словом…
Однако, кажись, вчера душа-человек явно изменил своим принципам, потому как ныне с памятью Станимира сотворилось нечто аховое.
— Слезыньки горючие, придется проучить мерзавца, — пробормотал Станимир, кликнул Купаву и велел подать рассолу.
Экономка слегка замешкалась (рассолу хозяин требовал нечасто), однако вскоре принесла — литровую корчажку. Станимир, стуча зубами, выпростал посудину и снова улегся, дожидаясь, покудова перестанут трястись руки.
Наконец трясучка ушла, а мысли прояснились до такой степени, что Станимир вспомнил — заблаговременные заказы ныне имеются токмо на вечер. До вечера же еще далече. А значит, можно прибегнуть и к более действенному средству исцеления.
Опосля чего Купава принесла хозяину уже медовухи.
Медовуха справно помогла телу, но память ей, увы, не подчинилась. Впрочем, желания проучить мерзавца явно поубавилось.
Ладно, решил Станимир. Встретимся через день-другой с Рукосуем, все вспомним. А и не вспомним — так не умрем!
* * *
День выдался на диво спокойным и безденежным. Народ к Станимиру шел редкий да несерьезный — все больше сглаз, порча, любовные присушки… Заклятья привычные и для квалифицированного волшебника несложные.
Одна молодица, правда, к вечеру прибежала вдругорядь, пожаловалась, что любушка Ярослав, встретившись, даже не посмотрел в ее сторону… Пришлось объяснить глупой бабе, что присушка — заклятье не сиюминутное: на изменения время требуется; что присушка по пуговице с рубашки желанного менее результативна, чем присушка по его волосам. И что буде у нее, молодицы, есть, скажем, физический изъян, противный любезному Ярославу, то заклятье может и вовсе не подействовать. Молодица, левую грудь которой боги пометили родимым пятном размером с пятак — Станимир ясно различал его сквозь платье и наперсенник, — взвилась, потребовала объяснить, на что это тут сударь волшебник намекает и вообще… Еле-еле успокоил дуру, сказав, что буде присушка не поможет, он обязательно вернет клиентке деньги.
Наконец наступил вечер, и пошла работа настоящая. Станимир обновил с десяток охранных заклятий на амбарах и складах переяславских купцов; поставил магический защитный барьер кузнецу-одиночке, дабы на того не навели порчу конкуренты-цеховики; вылечил неожиданно простудившегося сына местного квартального (малец перекупался в Трубеже); наложил отвращающее заклятье на спальню дочки знакомого воеводы — девица была на выданье, и отец не хотел, чтобы в постель к дочке залез неугодный ему кавалер. Слава богам, похмелье прошло, и Станимир работал споро и без устатка. Акустические формулы заклинаний творил с удовольствием, Волшебную Палочку инициировал как никогда легко. В общем, получал от работы истинное наслаждение и серьезный доход.
* * *
Утром его разбудил неугомонный звон сигнального колокольчика. Купава, видать, ушла на рынок, и посему пришлось подняться. Накинул халатину, вышел в сени, снял с двери охранное заклятье.
Тут же дверь едва не слетела с петель — в сени ворвался вчерашний воевода. Мундир накинут на голое тело, глаза выпучены, рот корытом.
— Я чародею пожалуюсь, муж-волшебник! — Срамное выражение. — За что я выложил вам вечор такие деньги? — Срамное выражение.
Воевода, по-видимому, изрядное время служил на ордынских рубежах. Ошарашенный Станимир захлопал глазами:
— Слезыньки горючие, в чем дело, сударь? Что случилось?
— Он еще спрашивает, что случилось!.. — Срамное выражение. — Это я должен спросить вас, что случилось! Почему, заглянув ночью в спальню к дочери, я обнаружил там соседского сынка? И теперь дочка заявляет, что она выйдет замуж токмо и токмо за него. А ведь я вас и нанял, чтобы избежать этого. Очень мне нужен зять-лоботряс!..
— Годите, годите… Надо разобраться! Может, ваша дочь наняла другого волшебника, и он снял мое заклятье?
— Айда со мной! — Срамное выражение. — Разбирайтесь на здоровье… Но буде обнаружится ваша вина, я вас… — Срамное выражение.
Станимир оделся, подхватил баул с колдовскими атрибутами и, сопровождаемый воеводой, с уст коего теперь срывались одни срамные выражения, вышел на улицу.
Перед крыльцом стояла бричка, и добрались они быстро.
Столь же быстро Станимир обнаружил, что его заклятье пребывает в полном порядке. Акустическая формула заклинания звучала в ушах радостной песней. Ти-ти-та-ра-а-а, ти-ти-та-ра-ра-а!..
— Позовите своего денщика, — сказал Станимир воеводе.
Явился денщик. Черные усищи словно серпы, на лице готовность жизнь отдать за отца-командира.
— Войдите в эту дверь!
Денщик посмотрел на отца-командира, по-прежнему готовый отдать жизнь. Воевода кивнул. Денщик шагнул к порогу. Аки на лобное место отправился.
Сейчас его станет корчить, сказал себе Станимир.
Корчить денщика и не подумало. Он легко открыл дверь и спокойно шагнул в комнату. Правда, тут же раздался притворный девичий визг, и денщик вылетел назад, аки варом обданный. В дверь изнутри что-то ударилось и шлепнулось на пол.
— Ага! — заорал воевода.:— Убедились?! — Срамное выражение.
Станимир сделал вид, будто задумался. Теперь ему было ясно, что заклятье не работает, но вот причины сего безобразия он в упор не понимал. Ведь присутствия чужих заклятий в спальне девицы не ощущалось. Вестимо, если бы перед ним стоял клиент-дурак, Станимир обвинил бы дочь воеводы, которой невтерпеж, и дело с концом. Однако воевода — не дурак. Он тут же пригласит переяславского чародея, и тот с легкостью определит, что никаких волшебников, опричь Станимира Копыта, в доме воеводы не было. За сим последует надлежащее наказание. В лучшем случае, отберут на три месяца лицензию…
— Слезыньки горючие, я немедленно верну вам деньги и выплачу неустойку, — сказал он воеводе, когда тот отослал денщика и успокоил дочь.
— Мне не деньги нужны. — Срамное выражение. — Мне нужна дочь-девственница.
Увы, подобное было не в силах Станимира, и распрощались они с воеводой в состоянии необъявленной войны. И буде обманутый отец останется при своем мнении, назавтра следовало ждать вызова к чародею.
* * *
Слезыньки горючие, едва он вернулся домой, выяснилось, что на винный склад к купцу-клиенту ночью пробрался тать. К счастью, тать был местным забулдыгой. Убыток купцу он нанес невеликий — украл всего лишь бутылку водки, которую и распил тут же. Потом, похоже, занимался рукоблудием, поскольку заснул на складе со скинутыми штанами, а нагажено не было. Пришлось пообещать выплату неустойки и купцу.
Больше происшествий у клиентов не случилось, но перепугавшийся Станимир быстренько проверил все свои вчерашние заклятья. И обнаружил, что, хотя акустические формулы заклинаний пребывают в абсолютном порядке, ни одно из них положенным образом не работает.
Опосля этого ему ничего не осталось, как сдаться чародею, не дожидаясь, покудова на него пожалуется обманутый доченькой воевода.
* * *
Чародей Микула Веретено принял Станимира без задержки. Выслушал гостя, тряхнул выбеленной годами гривой и спросил:
— Какой акустической формулой вы, брате, воспользовались?
— Формулой номер пять, брате чародей.
— Давайте-ка глянем… Повторите ваши действия.
— Ти-ти-та-ра-а-а, — сотворил формулу Станимир. — Ти-ти-та-ра-ра-а!..
Микула Веретено всмотрелся в ментальную атмосферу.
— Что-то у вас не то получилось, брате… Какую школу вы закончили?
— В Ростове Великом.
— Ага… — Чародей прищурился. — Воспроизведите-ка формулу еще раз!
— Ти-ти-та-ра… — начал Станимир.
— Нет-нет, — перебил его Микула Веретено. — В обычной акустике.
— Фа-фа-соль-ля, — пропел Станимир. — Фа-фа-соль-ля-ля!
— Интересно, — сказал чародей, — почему это у вас вместо соль звучит си-бемоль, а вместо ля и вовсе до второй октавы? Давайте-ка проверим другие формулы. Тоже в обычной акустике.
Станимир пожал плечами и принялся петь.
Чародей слушал со все возрастающим изумлением. А потом изумление превратилось в настоящий ужас.
Слезыньки горючие, чего это он так перепугался? — подумал Станимир. И замолк.
Молчал и Микула Веретено, боролся со своим ужасом.
— Мне все ясно, — сказал он наконец хриплым голосом. — У вас напрочь пропал музыкальный слух, брате. А теперь давайте разбираться — почему. Не происходило ли с вами в последнее время чего-либо чудного?
* * *
Когда чудное нашлось, тут же послали за владельцем «Затрапезья». Прибывший трактирщик показал, что сивушного сударям волшебникам наливать не думал. Употребляли чистейшей слезы медовушеньку. Правда, употребили ее весьма и весьма изрядно. А о прочем пусть расскажет муж-волшебник Рукосуй Молчан.
Послали за Рукосуем Молчаном.
Рукосуй долго себя ждать не заставил, прилетел к чародею аки птица небесная.
Микула Веретено поведал ему о беде, постигшей мужа-волшебника Копыта, и спросил напрямик:
— Брате Рукосуй, это ваших рук дело?
Брат Рукосуй и не подумал запираться. Но, признавшись в совершенном злодеянии, тут же достал из баула лист бумаги и подал чародею.
— Уговор, — прочел вслух Микула Веретено. — Мы, мужи-волшебники Станимир Копыто и Рукосуй Молчан, побились о заклад в следующем: Рукосуй Молчан утверждает, что способен, не прибегая к Ночному волшебству, нанести вред колдовской силе Станимира Копыта, а Станимир Копыто утверждает, что брат Рукосуй — пьяный болтун и хвастунишка. Уговорились: буде Рукосуй Молчан реализует свои утверждения, Станимир Копыто заплатит ему пятьсот целковых, буде же нет — оные пятьсот целковых заплатит Копыту Молчан. Подписано в присутствии хозяина трактира «Затрапезье». Подписи… — Он поднял глаза на волшебников.
— В тот день, когда мы с братом Станимиром пошли в трактир, я открыл новое заклятье, — виновато пробормотал Молчан, — ну и спьяну решил испытать его…
— Так-так-так, братия… — Микула Веретено почесал в затылке. — Полагаю, вам, брате Станимир, придется выложить брату Рукосую пятьсот целковых. А вам, брате Рукосуй, надлежит в моем присутствии снять с брата Станимира ваше заклятье и немедленно написать докладную записку на имя Кудесника с описанием вашего открытия. Слава богам, братия, что это заклятье не открыли ордынцы. Иначе порче подверглась бы вся Колдовская дружина! Приступайте, брате Рукосуй!
Рукосуй Молчан виновато опустил бороду на грудь:
— Простите меня, чародей!.. Вся беда в том, что я забыл противозаклятье. А записать не удосужился. Оплошка вышла!..
— Слезыньки горючие! — пробормотал Станимир, ибо на него теперь тоже обрушился настоящий ужас.
* * *
Микула Веретено вызвал тоскующего в безделье Станимира через месяц. Лицо чародея сияло, седая грива стояла дыбом.
— Радуйтесь, брате! — сказал он. — Академия волшебных наук сумела восстановить позабытое Молчаном противозаклятье. — Микула Веретено сотворил незнакомую Станимиру Копыту акустическую формулу. — Спойте.
— Фа-фа-соль-ля, — пропел Станимир. — Фа-фа-соль-ля-ля!
Чародей радостно хлопнул в ладоши:
— Порядок, брате! Ваш музыкальный слух полностью восстановлен. — Он поднялся из-за стола и продолжил официальным тоном: — Поелику законы Колдовской дружины, касающиеся связи с Ночным волшебством, не были нарушены, никто из замешанных в инциденте наказан не будет. Однако вам, брате, придется выплатить Рукосую Молчану проигранные пятьсот целковых и заплатить неустойки потерпевшим!
* * *
Неустойка пришлась воеводе как нельзя кстати, ибо он только что — срамное выражение!!! — уступил участи и отдал свою дочь в жены соседскому сынку-лоботрясу.
Вновь обретший суть жизни Станимир быстро наверстал потерянное.
Словом, все остались довольны исходом дела. Окромя воеводиной дочки: она сразу обнаружила, что молодой супружник доставляет ей в постели гораздо меньшую усладу, чем той первой ночью, когда папенька ввалился в спальню.
Увы, у нее не было колдовской силы, чтобы понять, чем различались ментальные атмосферы той ночи и наступившего медового месяца. А мужу-волшебнику Станимиру Копыту — слезыньки горючие! — ив голову не пришло хотя бы еще раз использовать переложение акустической формулы «фа-фа-си-бемоль-до второй октавы». Иначе он был бы обеспечен благодарными клиентками до конца своей жизни…
МАГИ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
СВЯТОСЛАВ ЛОГИНОВ
Большая дорога
Большая дорога просыпается до света. Солнце еще потягивается в заоблачной колыбели, подумывая, не пора ли вставать, а на дороге уже раздается тележный скрип, отрывистые крики погонщиков, стук, бряканье и прочий шум, сопровождающий движение массы невоенного люда. На постоялом дворе распахиваются ворота, и добрая половина гостей покидает радушный кров, отказываясь даже перекусить на дорожку. И Колох, такой навязчивый с вечера, утром никого не уговаривает задержаться, понимая, что людям нужно спешить. Он лишь кланяется, получая деньги за ночлег, желает гладкого пути и призывает постояльцев, когда поедут обратной дорогой, остановиться именно у него. Гости обещают и через минуту забывают обещание, занятые более насущными делами.
Большая дорога просыпается до света, но Радим встает еще раньше. Растапливает кухонный очаг, ставит на огонь котел, вылив в него остатки воды из дубовой бадьи, потом с двумя ведрами бежит на ручей. Вернуться надо прежде чем прогорят тонкие поленья, иначе придется растапливать очаг заново, а это перевод колотых дров, да и вода не вскипит к сроку.
А потом… Радим, подай!.. Радим, принеси!.. Радим, сбегай!.. Живей, кому говорят!..
К полудню начинают появляться новые гости, остановившиеся, чтобы дать роздых коням и самим перекусить на скорую руку. Этих кормят кашей и бобовой похлебкой, что вовсю кипит в котле. Редко кто спросит пива, а о вине и речи нет, народ занятой, большая дорога не любит пьяных, выпивоха здесь далеко не уйдет.
Радим оттаскивает на кухню грязные миски и в сотый раз бежит за водой. Посудомойка Дамна тратит удивительно много воды.
К четырем часам пополудни холодная баранина в меню сменяется жарким. Теперь на постоялом дворе обедают люди праздные: богатые путешественники, офицеры, скачущие по своим надобностям, скучающие аристократы, которым королевский лейб-медик прописал вуаяж, авантюристы и пройдохи, чей промысел начинается вечером и под крышей. Отобедав, все эти люди сыто оглядываются, ища развлечений, знакомств и приятного времяпровождения. Ранний вечер — пора чистой публики.
Ближе к ночи опять появляется рабочая беднота: погонщики скота, батраки, возвращающиеся с найма, мастеровые, ищущие заработка, наемники без места и прочий люд. Здесь же — мелкое ворье, промышляющее кражами с возов; на постоялом дворе они ничего не крадут, а то ведь иначе на большой дороге хоть не показывайся — Колох на расправу скор и крепко печется о репутации заведения.
Беднота ужинает на улице под навесом — под крышей вечером дороже — и тут же заваливается спать, большей частью на собственных возах, так что всеми благами постоялого двора пользуются лишь кони и медлительные волы. И это правильно, главное, чтобы скотина была накормлена и сбережена от цыганского глаза, а самому можно и в телеге покемарить, благо, что она у Колоха во дворе, и значит, везомое добро будет в целости.
Тут уже Радим носится как угорелый. Всякий покрикивает на него, и всякий в своем праве. А ноги уже подкашиваются, но уставать нельзя никак, потому что именно в эту пору больше всего перепадает мелких монеток, кинутых щедрыми посетителями. Тумаков, впрочем, тоже перепадает изрядно. Так что надо успевать как в отношении колотушек, так и в рассуждении чаевых. Никому нет дела, что Радим отвечает только за огнь в печах, большом очаге и камине, что пылает в чистой зале. Еще, конечно, за воду, чтобы не переводилась она ни у поварихи, ни у посудомойки. И, опять же, грязную посуду оттаскивать — Радимова забота. Однако крикнет загулявший чистоплюй: «Эй, пацан, еще бутылочку мальвазии!» — и беги за вином, потому что обе подавальщицы приглашены за чей-то стол и то ли трудятся, то ли празднуют — не поймешь. А Дамна уже вопит с кухонной половины: «Радим, где кипяток?» Хоть разорвись, а успевать надо.
Вечер был в самом разгаре — угаре, как сказал бы Радим, будь у него хоть секунда для посторонних мыслей. И на чистой, и на черной половине зала гудели разговоры, щелкали костяшки домино, а бродячий музыкант, с цитрой в руках отрабатывающий ужин и ночлег, расположился ближе к проходу, чтобы его инструмент был равно слышен всем, пирующим под крышей. Полуденные разговоры о ценах, пошлинах и грабителях сменились вечерними — о стародавних временах, о драконах, привидениях и зачарованных кладах. Радим слышал эти пересуды краем уха, но даже помечтать о несбыточном ему было некогда, ложась в постель, Радим мгновенно проваливался в сон, не успев даже припомнить, о чем толковали собравшиеся у очага постояльцы.
— Что касается василиска, — авторитетно рассуждал толстопузый негоциант, — то с ним может справиться любая кухарка. Если подумать, что такое василиск? Кунштик, выродок, петуший бастард. И обходиться с ним нужно как со всяким петухом. Вот только смотреть на него нельзя, а так — выйти, зажмуря глаза, и замереть, будто окаменел, а когда василиск налетит — схватить его и свернуть башку.
— И скольким василискам вы успели свернуть башку, уважаемый? — спросил его визави, представившийся аптекарем из Ристола. Хотя Радим успел заметить, что мешка с лекарствами у аптекаря не было, медицинские советы он давать отказывался, а доминошки перемешивал в две руки, но тремя пальцами, что заставляло подозревать в нем шулера. Купец, судя по всему, тоже это заметил, но за себя был спокоен, поскольку играл в паре с подозрительным незнакомцем, и благодушное настроение не покидало бы его, если бы не беспрестанные колкости и язвительные замечания напарника, портившие удовольствие от игры.
Против шулера и торговца играла еще более странная пара: наемник, явно переживающий не лучшие времена, и зажиточный крестьянин, каких повсюду пруд пруди, с мозолистыми руками и загорелым морщинистым лицом. К такому никто и приглядываться не станет, однако Радим успел приметить, что хуторянин явился налегке, а это всегда странно, без дела мужика на большую дорогу арканом не затащишь. Соседи, случается, заходят скоротать вечерок, но этот-то нездешний… хотя вроде уже бывал здесь пару раз. На заклад биться не стоит, но зря толстопузый радуется, что уселся играть в паре с мошенником, как бы не пришлось в результате раскошеливаться.
— Парень! — слышится зов подвыпившего гостя. — Спроси там, где моя рыба?
— Сей миг! — заученно отвечает Радим и со стопой грязных мисок исчезает на кухне. Интересный разговор о василисках остается недослышанным.
В поварне Колохова жена — ведьмоватая Рикта мечется от жаровни к печи, поспевая еще что-то рубить на разделочном столе.
— Рыбу требуют! — на бегу сообщает Радим.
— Жарится! — кричит Рикта, деревянной лопаткой переворачивая шипящих в масле вьюнов. — Что мне, сесть на них, чтобы скорей подрумянились?
— Да откуда столько?.. — причитает Дамна при виде перемазанной жиром посуды. — Кипятку тащи, ирод!
— Сперва дров! — приказывает хозяйка.
Радим притаскивает с заднего двора охапку наколотых поленьев, потом мчится через зал, чтобы зачерпнуть в гостевом дворе кипятка. Там под навесом дымит еще один очаг, над которым висит закопченый котел, чтобы беднота, ставшая на ночлег, тоже могла хлебнуть кипяточку. А дрова для всех печей и очагов — на Радиме. Сколько их переколото да перетаскано — не сосчитать!
Парочку полешек стоит подкинуть под котел, чтобы забурлила вода, после того, как дольешь свежей. Дрова хранятся во дворе, но не около очага, а то скучающие мужички, такие прижимистые, когда речь заходит о своем, даровое топливо мигом спалят, чтобы косточки лишний раз погреть, да и просто забавы ради.
Во дворе тоже говорят о чудесном, но здесь народ уже не делится на скептиков и сказочников. Посомневаешься, посмеешься над чужим рассказом, а тут самого беда подстережет, да еще диковатее, чем соседа. В Поручинках, сказывают, оборотень задрал корову. Возле стада — волчьи следы, а за росчистью — человечьи, в мягких чувяках, чтобы гвоздей в подметке не было. Это уже всякий знает, что оборотень гвозди на дух не переносит, потому и вбивают в косяк кованый гвоздь, чтобы незваный гость в дом не вперся. А корову злыдень таки уволок, хотя ни волку, ни тем более человеку коровьей туши на закорках не снести. Ясно дело, волкулак постарался.
Радим зачерпывает полведра кипятку и бежит, стараясь, чтобы воздух сносил горячий пар, не жег пальцы. Быстро бежишь, оно и ничего, а остановишься — не обессудь.
В зале, кажется, назревает драка. Во всяком случае, степенный разговор, сдобренный легкой пикировкой, перешел в ссору с криком и размахиванием кулаками.
— Я мошенничаю?.. — хрипит длинноносый аптекарь, хватаясь за пояс, где нет ничего, кроме заткнутого за ремень платка. — Да я тебя за такие слова…
Ноги игрока в мягких без единого гвоздя чувяках нервно приплясывают; сразу видно, что мошенник готов к любому повороту дела: бежать, отпрыгнуть, ударить, а обойдись дело миром — с усмешкой усесться за прерванную партию. Наемник за меч не хватается, у него на поясе видавшее виды оружие, которое или спит в ножнах, или, если уж доведется быть извлеченным на свет, не сверкает впустую, а бьет сразу и наверняка. Даже удивительно, что его владелец оказался без места и вынужден куда-то идти. Лишь одно в его экипировке показалось Радиму странным — ноги в мягких, не для каменистых дорог чувяках.
Крестьянин сидит, нависнув над столом, широченные руки прижимают к столу доминошную позицию, чтобы никто не мог смахнуть костяшки, так что потом уже не найдешь виновного. Лицо крестьянина страшно, мужики не прощают тех, кто мошенничает при игре на деньги, и бьют уличенных шулеров хуже, чем конокрадов. Ног крестьянина не видать из-за стола.
Один лишь торговец сохраняет хладнокровие и явно наслаждается ситуацией. Конечно, ежели обнаружится мошенничество, выигрыша ему не видать, зато можно будет полюбоваться, как станут бить жулика. Купеческие ноги на самом виду, выставлены в проход; стоптанные подковки дорожных сапог сияют стальными полумесяцами.
— Давай разбираться… — по-нехорошему мягко предлагает солдат. — Только сразу предупреждаю: кто кости смешает, тот и соврал.
Мужик кивает и медленно поднимает лапы над столом. Все четверо склоняются над позицией. В таверне звенит тишина, Радим, забыв про стынущий кипяток, следит за разбирательством.
— Ты сейчас положил кость три-два, — диктует наемник, — а она уже проходила в начале игры. Вот она лежит. Ты что, думал, я не замечу?
Хуторянин наливается чернющей синевой. Сразу видно, что бить он будет хоть и неумело, но без жалости, со всей мочи.
— Моя кость правильная, — длинноносый тычет пальцем, — а ты проверь, что там за костяшка…
Негоциант двумя пальцами поднимает доминошный камень, скребет ногтем и громко сообщает:
— Фальшивка! У нее два очка втерто! Должно быть пять-два, а выходит — три!
— Кто ставил? — требовательно вопрошает солдат. Волосатые кулаки сжимаются и разжимаются, но к поясу не лезут, игорная свара — безоружная.
Мгновение висит тишина, игроки припоминают расклад, а зрители ждут вердикта. Затем три лица поворачиваются к хуторянину:
— Так вот чья работа!.. — пронзительно звенит долгоносый. — А сидит-то как ангел!
Меньше всего крестьянин напоминает ангела.
— Н-ну… — выдавливает он, поднимаясь.
На него глядят с откровенными усмешками, все взгляды, сколько есть народу в зале, прикованы к нему, и во всех взорах читается одно и то же: «Жулик! Мелкий доминошный жулик!» Это невозможно стерпеть, уже не сипение, а хриплый рев вырывается из горла, глаза вспыхивают кровавым огнем, исказившаяся личина поворачивается к противнику, грозя полувершковыми зубами. Под давлением вздувшихся мышц лопаются рукава кафтана, и бывший хуторянин предстает во всей красе и истинном облике. Визг Рикты, появившейся в дверях с блюдом жареных вьюнов, заглушил все прочие звуки.
Врут свидетели, когда говорят, будто не завершивший трансформацию оборотень не может напасть. Откуда знать это фальшивым очевидцам, ежели ни один из них не остается в живых, чтобы потом рассказывать, как это было? Этот прыгнул еще будучи почти человеком, так что защитный амулет, неведомо откуда возникший в руке носатого, не мог бы его защитить. Но за миг до того Радим ухватил ведро и выплеснул кипяток на заросший шерстью загривок.
Не крик, не вой, не хрип и не визг, а сметающий звуковой удар рухнул на чувства людей. Черная громада метнулась в облаке пара и, вышибив окно, исчезла. Меч наемника разрубил пустое место.
Упавший со стула купец отползал, царапая пол подковками сапог. Длинноносый лежал без движения, бегущий оборотень сбил его с ног, хотя и не успел нанести единственного смертельного удара. Не захотел платить своей жизнью в обмен на жизнь обидчика, а быть может, просто одурел от боли.
— Ушел! — злобно выдыхает воин. Теперь всем видно, что меч в его руке не простой, а густо исписан рунами. Никакой это не наемник, оставшийся без места, а боевой маг, охотник за нечистью.
Длинноносый тоже не шулер, а по всему видать — экзорцист, помощник, заставивший оборотня проявить себя, открывает один глаз и переспрашивает:
— Ушел?
Только теперь все начинают кричать и метаться. Кто-то собирается немедленно уезжать, но, вспомнив, что за порогом сгущается вечер и бродит озлобленный волкулак, — остается.
Охотник подходит к вышибленному окну, снимает с торчащего гвоздя клок серой шерсти, заворачивает в тряпицу. Говорят, волкулачья шерсть обладает какими-то особенными свойствами, а ежели зверь, с которого выдрана шерсть, до сих пор бродит живым, то свойства эти усиливаются. «С непойманного оборотня хоть шерсти клок», — посмеются через несколько дней опомнившиеся сельчане.
— Кто ж его знал, что он не к двери прыгнет, а к окну, сквозь гвозди, — жалуется оставшийся без добычи воин.
— На меня он прыгал, — произносит экзорцист и поднимается с пола, медленно, словно проверяя, все ли кости целы. — Перестарался я, не надо было про ангела говорить.
— Да уж… если бы не вот он, — колдун, притворявшийся наемником, кивнул в сторону Радима, — лежать бы тебе сейчас с распоротым животом.
— Шустрый парнишка. — Долгоносый наконец поднялся, выудил из кошеля большую серебряную монету, протянул Радиму. — Это тебе за то, что мои кишки уберег. Подрастай, скорей, возьму тебя в помощники.
— Благодарствую, — сказал Радим басом.
Волшебники подошли к дверям, принялись в четыре руки обирать с косяка что-то невидимое, должно быть, настороженную ловушку, в которую так и не попал прорвавшийся сквозь окно волкулак. Колох мрачно наблюдал за действиями гостей, потом раздраженно спросил:
— Где гвоздь? Гвоздь был в косяке, старинный… сто лет ему.
— Гвоздя тут уже две недели как нет, — ответил наемник. — Потому мы и пришли. Думаешь, оборотень к тебе первый раз заявился? Как бы не так!
— Ты ври, да не завирайся! — повысил голос трактирщик. — У меня в заведении вовек безобразнее не случалось!
— Так оборотень сюда не на охоту ходил, а отдохнуть — пивка попить, в домино постучать. В таком месте он пакостить не станет, людей да скотину он на дальних хуторах драл.
— Так и ловили бы его там! — огрызнулся Колох. — А то вы мне всех гостей распугаете с вашей охотой.
Волшебник лишь усмехнулся, продолжая сматывать незримую нить.
— Радим! — рявкнул хозяин. — Живой ногой в кладовку, гвоздь выбери поздоровее и в притолку вбей. Шляпку начисти, чтобы сияла, и закрашивать не смей! Чтоб тут ни одна тварь не проскользнула, головой ответишь!
Провожаемый десятками взглядов Радим метнулся в чулан, схватил толстый гвоздь с квадратной шляпкой, тот самый, выкованный сто лет назад. Вернулся в зал и вбил гвоздь в старое отверстие. Неплотно вбил, так оборотень сильнее зацепится, ежели вздумает ворваться в дом, отплатить за кипяток на загривке… опять же, под неплотно всаженную шляпку гвоздодер легче завести, — это на тот случай, если хозяин вновь договорится с ночным голосом и, в обмен на обещание безопасности для себя и постояльцев, уберет из двери запирающий гвоздь.
Приятно быть на виду у всех, когда за каждым твоим движением наблюдают десятки глаз, а о твоем подвиге будут рассказывать по окрестным хуторам и через десять, а быть может, и через сто лет. Полновесный двойной талер, надежно упрятанный в штанах, даже оттуда ласкает душу.
А потом в дверях появляется глухая тетеря Дамна и непригоже вопит:
— Ирод! Уснул, что ли? Кипяток тащи!
А где его взять, кипяток? — все на волкулака выплеснуто…
Если просыпается большая дорога до света, то не засыпает она, кажется, никогда. Поздно за полночь Радим добирается к постели в темном чуланчике. Сквозь тощую подстилку выпирают неровные доски, но Радим ничего не чувствует. Он проваливается в недолгий сон, успев лишь усмехнуться словам кудесника: «Подрастай, скорей, возьму тебя в помощники». Как же, держи карман шире, — завтра волшебник и не вспомнит про мальчика на побегушках, который вовремя плеснул кипяток, не получив за это ничего, кроме неприятностей. Серебряную монету отнял Колох в уплату за выпитое бежавшим оборотнем пиво.
Волшебники с утра уйдут, в рассказах об удивительном происшествии останется просто безымянный мальчишка, а Радим так и будет, покуда ноги держат, кружить словно белка в колесе, подгоняемый окриками и бесцельным движением большой дороги.
Засыпая, Радим слышал, как за лесом разливисто воет ошпаренный оборотень.
О чем плачут слизни
Место казалось плотным, но Кика знала, какая прорва скрывается под ковром переплетшихся трав. Конечно, кто опаско ходит, тот пройдет, но девка с коробом клюквы за плечами шагала, не чая никакой беды, и, конечно же, вляпалась в самую хлябь. Оно и обошлось бы, девчоночка была худехонькая, а ивовые лапотки расшлепаны, что гусиная лапа. Этак можно через любую топь словно на лыжах пройти, но за плечами в щепном коробке лежало поболе пуда сладкой подснежной клюквы, и ягодный груз потянул девчонку вниз.
Даже теперь можно было выбраться из трясины, если не рваться на волю дуриком, а спешно скинуть ношу, притопить ее и выползать на волю, ломая дранковые бока короба и давя нежную ягоду. Но путница либо не сообразила, как можно спастись, либо просто не поняла опасности и пожалела портить тяжким трудом собранное добро. А через минуту уже было поздно выбираться, болото жадно вцепилось в добычу, и всякое движение только ускоряло неизбежный конец.
Болотная жижа по весне холодна, сверху может июнь жарить, а под моховой шубой прячется стылое воспоминание о декабрьской стуже. Потому и болотная ягода цветет позже всех иных.
Почувствовав, как ноги охватила липкая стылость, девчоночка закричала, но слабый голосок сорвался, крик получился неубедительный. Даже если услышит кто, то не помчится сломя голову на выручку, а лишь плечами пожмет.
Девчонка билась уже бестолково. Исцарапанные руки рвали податливую траву, вялые после зимы корешки. Им бы ухватиться за что-то стоящее — ни в жисть бы не выпустили, выволокли бы засосанное тело из трясины, да нет кругом ничего ни стоящего, ни стоящего. Болото…
Кика страсть не любила наблюдать последние мгновения утопающих, когда жидкая грязь силком лезет в горло, тина застилает взор, а предсмертный кашель рвет легкие, с кровью выплескиваясь наружу. Болото неторопливо и убивает неспешно, позволяя в полной мере прочувствовать происходящее. А Кике какая радость с тех мук? Деревенские, конечно, всякое болтают, но что их слушать? Ни один из них в прорве не живал и дела не знает. Люди только поверху ходят, оттого и глубины в их суждениях нет. А у самой Кики никто не спрашивал, нравится ли ей прохожих топить.
Не дожидаясь последних судорог, Кика рванулась к утопающей, обхватила длинными руками и потянула в глубину. Крик жертвы пресекся, залитый мутной водой. Пыталась ли утопленница сопротивляться или ее просто ломала предсмертная тоска, Кика не разобрала, недосуг было. И без того приходилось волочить не только саму девчонку, но и короб, так и не скинутый с плеч и ужасно мешающий. Еле управилась с такой-то работой. Втащила обмякшее тело в затинок, освободила от ненужной ноши, уложила поближе к огоньку. Синий болотный огонь почти не светит, и тепла от него, что от лучины, а все с огнем уютнее. К тому же горит он день и ночь, успевая малость согреть тесный затинок.
Утопленница не дышала, и Кика, которой вовсе не интересно было возиться с мертвым телом, перевернула ее на живот и особым образом ударила между лопаток. Лежащая дернулась, горлом пошла пена, смешанная с грязью и илом. Все в порядке, значит, оживет. Люди, пожалуй, девку и не откачали бы, а для Кики в том ничего сложного нет. Сейчас отплюется и задышит.
Лежащая застонала и открыла глаза.
— Ну что, — спросила Кика, — оклемалась?
Утопленница обвела безумным взглядом затинок. Кику она разглядела не сразу, но, разглядевши, задрожала крупной дрожью и глаз уже не отводила. Оно и неудивительно, болотная жизнь никого не красит, вернее, красит, но в зеленый цвет. Кика шевельнулась, и девка немедленно подскочила, забилась в угол, поджав ноги, словно боялась, что Кика сейчас ухватит ее за лодыжки и утащит в самую глубь болота, в затинок. А чего бояться, когда уж давно в затинке сидишь?
— Спужалась? — поинтересовалась Кика. — А ты не пужайся, хозяйка я здешняя.
— Это ты меня утопила? — Девушка наконец разлепила перемазанные илом губы.
— Утопла ты сама, а я тебя спасла. Кабы не я, лежала бы ты сейчас в ямине да торфянела потихоньку.
— Спасибо, тетенька.
— А ты не спасибай зря. Таким, как я, вовсе спасибо не говорят, мне ваше спасение без надобности. Давай лучше думать, к какому делу тебя пристроить.
— Тетенька, отпустили бы вы меня домой…
— Ишь, что удумала! — Кика усмехнулась. — Так я тебя не держу, дверь не заперта. Только учти, тута над головой илу семь сажен. Умеешь в иле плавать, так ступай.
— Что же делать-то? — Девчонка, все так же сидящая в углу, глянула на Кику глазами, полными слез. Не было уже в этом взгляде страха, одна глупая надежда.
— Вот и я думаю, что делать? — ворчливо ответила Кика. — Будешь со мной жить, станешь как я, болотной хозяйкой.
— Я не хочу.
— Да кто ж тебя спросит, голубушка? На-ко вот, глони. — Кика достала из туесочка слизистый комок, протянула девушке.
— Что это? — Утопленница плотнее вжалась в угол.
— Это, милочка, редкая вещь — слеза слизня. Как ты ее сглонешь, то память о прежней жизни тебе враз отшибет и станешь ты мягкая да всему покорная, как тот слизняк. Тогда я тебя в кикимору переделаю, и будет нас тут две хозяйки.
— Я не хочу! — Девушка затрясла головой.
— Не хочешь — не надо, — покладисто согласилась Кика, пряча драгоценную каплю. — Неволить не стану. Сиди тогда здесь. Ты рукодельству какому ни есть обучена?
— Обучена! — с готовностью заторопилась утопленница. — И прясть умею, и на кроснах ткать, и по канве вышивать могу…
— На коклюшках умеешь?
— И кружево всякое — на коклюшках и крючком…
— Крючком — это как? — заинтересовалась Кика.
— Просто это, просто! Я хоть сейчас научу, у меня и крючок с собой!
Девушка добыла откуда-то тонкую железку, приняла от хозяйки клубок тонко спряденных зеленых ниток, принялась споро вязать, поясняя, что и как делает:
— …крючком сквозь петлю нитку-то тащу… а тут — разом две. А можно одну нитку сквозь две петли, вот оно и закружавится…
Кика наблюдала за работой, молча кивала головой. Тому, кто всю жизнь рукодельничает, переспрашивать не нужно, он с первого взгляда науку перенимает. Потом спохватилась, сказала:
— Хорошо, ластонька, ловко у тебя выходит. Только давай сперва у огня пообсушись. Это мне, жабочке болотной, сырость на пользу, а тебе поберечься надо — простудишься, не ровен час.
Верно, молодая утопленница устала бояться, потому что безропотно сняла сарафан, развесила его перед огнем, сама укутавшись полушалком, который Кика связала из клочьев линялой волчьей шерсти, набранной по весне на родном болоте. Нет лучше средства от простуды, чем волчья шерсть, недаром волк, покуда шкура цела, никогда не простужается.
Девчоночка отогрелась, и ее с ходу сморил сон, что порой нападает на человека, глянувшего в лицо жутковатой гибели. Иной, избежав опасности, по трое суток не спит, а другого сон валит, что топором. Кика притушила огонь — и без того в затинке натоплено, как и зимой не бывает, — прикрыла девчонку второй шалюшкой, а сама всю ночь просидела, разбираясь с плетеным кружевом, что выходило из-под стального крючка. Крючок понравился, хотя Кика не любила металла. Но это не беда, можно самой смастерить, из птичьей косточки, еще и лучше будет.
Кика, как и все ее племя, спать не умела и под утро выбралась наружу: набрать свежей тины и гусиных яиц на завтрак. Гуси как раз начали обустраивать гнезда, и Кика разорила одно, зная, что гусыня покричит сердито, а потом снесет новые яйца.
Вернувшись домой, увидала, что девушка проснулась и сидит за работой. Была она уже переодета в свое, а шалюшку аккуратно сложила. Такое дело Кике понравилось. Захотелось утешить бедняжку, сказать что-нибудь ласковое, но что можно сказать живому человеку, запертому в затинке?
— Ничего, девонька, привыкнешь. Ты, я вижу, работящая, а работящей везде хорошо. Не пропадешь.
Девчонка глянула затравленно и ничего не сказала. Видно было, что у нее на уме, но просьбишка осталась невысказанной.
«Ох, чует сердце, не привыкнет она, — подумала Кика. — Зачахнет девчонка, как пить дать. Может, надо было силком ее заставить слезу сглонуть? Или сейчас окормить?..»
Ничего не придумавши, Кика занялась обедом. Поела сама и девчонку поесть заставила, ничем не окормивши. Потом вдвоем уселись за работу — прясть, а то готовым ниткам уже конец виден был.
Тину прясть девка не сумела, пальцы не те. Вроде бы и тоненькие, и ловкие, а зеленые пряди размазываются слизью, не желая скручиваться в нить. Пришлось прясть самой, а помощнице отдать плетение. Та послушно делала все, что ни прикажут, на вопросы отвечала кротко и коротко, сама вопросов не задавала.
— Чего ж ты не спрашиваешь, зачем рукодельничаем? — не выдержала Кика.
— Зачем зря спрашивать? Работа и есть работа, ее делать надо.
— Хе!.. Моя работа не простая. Вот, смотри! — Кика отворила окошко, указав рукой наверх.
Окошко в затинке не простое, выходит оно в липкую, непроглядную мглу, но видать сквозь него далеко и ясно, словно в подзорную трубу. Хочешь — нижнее царство разглядывай, хочешь — на волю выгляни. И видно все, и слышно, только потрогать нельзя. И еще, всего обзора — не дальше болота. В своем царстве Кика хозяйка, а на чужое — и глядеть не моги.
На этот раз окошко открылось из-под низу. Густой ил казался полосами тумана, комья торфа висели среди болотной жижи, словно черные клубы дыма. И лишь задавленный родничок на самом дне струил ледяную воду, омывая волшебный Стынь-камень. Плывун вогнутым небом нависал над головой, ограничивая кругозор.
— Красиво? — с гордостью спросила Кика.
— Страшно.
— Это потому, что ты еще не привыкла. Времечко пройдет, любоваться будешь — не налюбуешься. А работа моя — вон она, над головой. Плывун, думаешь, сам по себе стелится? Это же ковер болотный, его соткать надо. Слепому глазу в нем видны только белые корешки да зеленый мох, а на деле все это нитки, которые я спряла. Зеленые — из тины, белые — из пушицы. Придет срок, будем пушицу собирать. Ее прясть легче, у тебя получится. А на окна болотные, на няши да чарусы — самое тонкое кружево плетем, только малому куличку пробежаться. Плывун присмотра требует, заботы и починки. День пробездельничаешь, глядь — коврик и расселся. Получится не болото, а безобразие. Не пройти и не проплыть. И я без дела, и людям без пользы — один комариный звон. Потому и стараюсь. Вон, видишь, дырища? — это ты ее просадила, когда с тропки сбилась. Там работы на всю весну хватит.
— Не нарочно я, — ответила девушка, глядя на зеленоватое пятно, за которым угадывалась воля. Глаза, который уже раз за эти два дня, медленно наполнялись слезами, прозрачными, как волшебный комок, дарующий беспамятство. Впрочем, давно известно, что у женского полу глаза на мокром месте посажены.
— Не реви! — строго прикрикнула Кика. — Вашим слезам веры нет!
— Я н-не реву… — всхлипнула утопленница. — Просто по солнышку взгрустнулось…
— Отвыкай. Солнышко не про нас. Оно там, а мы тут, в тенечке. У него свое дело — ягоду растить, а у нас свое — моховой ковер штопать. Эвон, гляди, кто-то болотом прется — зыбун так ходуном и ходит. Каждый след, считай, дырка в ковре. Я бы такого ходока своими руками на дно утянула. Давай-ка поглядим, что за невежа…
Кика огладила ладонями чешуйчатое окошко, и сразу пленка зыбуна над головой стала прозрачной, в затинок глянуло полуденное солнце и словно ветром пахнуло, настоянном на багульнике и сосновой смоле.
По болоту шел человек. Молодой парень, безбородый еще, лишь ржаные усы начали пробиваться на губе. Был парень одет по-городскому, в длиннополый сюртук, кучерявый чуб выбивался из-под картуза, на ногах красовались болотные сапоги с раструбами, в каких, ежели их развернуть, то хоть выше колена в воду заходи — ног не промочишь. На плече небрежно висел а тульская двустволка, наводящая ужас на боровую и болотную дичь.
— Степа!.. — девчонка так кинулась к окну, что едва не вышибла его и не залила весь затинок жидким илом. — Степушка, тут я!
— Тише, шальная! — крикнула Кика, стараясь утихомирить бьющуюся девку. — Затинок на части разнесешь. Ну что ты развоевалась, парня знакомого углядела? Эка невидаль!..
— Это же Степа! Меня он ищет!
— Ой, не дури! С чего ему тебя искать? Сама же видишь, на охоту парень пошел, куликов стрелять. Я этого гулену давно приметила — бекасов влет сшибает.
— Это он для виду на охоту, а на деле — за мной. Мы с ним еще когда сговорившись, осенью сватов обещал прислать. Матушка, пусти меня к нему!
— Куда я тебя пущу? Прорва тут, не видишь? Сейчас окно вышибешь — так к нему даже пузыри не взойдут.
— Матушка, пусти! Это же мой Степа, не могу я без него, люблю его больше сердца! Пусти к нему хоть на минуточку!
— Ты, девка, на себя посмотри. Ты же в болоте утопла. У вас таких даже на кладбище не хоронят. Степа твой от тебя, поди, враскорячь побежит.
Девчонка не слушала. Билась в окно, звала своего Степушку, любимым кликала, дролечкой, кровинкой ненаглядной… — откуда слова такие брала. Вязкая топь равнодушно гасила крики, ей было все равно, что топить.
Степа ушел, и девчонка замолкла, забилась в угол, лишь вздрагивала порой, словно подстреленная и по недосмотру недобитая зверушка.
«Не приживется, — огорченно думала Кика. — Так и исчахнет тут зазря».
Кика сама понимала, что напутала в своей пряже — дальше некуда. Не полагается такого живых людей в прорве держать. Девку следовало притопить до смерти, отнести к Стынь-камню, там, замершую, нетленную, поить болотными настоями, растирать жижей да слизью, пока утопленница не оживет. Тогда только она станет настоящей кикиморой — существом угрюмым и недобрым. Но ведь сама Кика иначе на свет произошла, и ей было одиноко без подрути. Потому и копила беспамятную слезу, надеясь обрести товарку с живой душою. А живая душа, вишь, о Степушке плачет. Далась ей эта любовь, будь она неладна.
Молчание длилось долго, часа, может быть, три. Тишина в затинке такая, что и в могиле не сыщешь. Тут молчать — себя не любить, недаром вся болотная нежить ворчлива, сама с собой беседы ведет. Вот и сейчас первой Кика тишину нарушила:
— Хватит дуться, что мышь на крупу. Пошли, покажу тебе кой-что.
Кика подошла к стене, отворила проход. Девка, до того сидевшая безучастно, подняла голову и чуть слышно произнесла:
— Ты же говорила, отсюда выхода нет.
— Так его и нет, выхода-то. Видишь, дорога вниз идет. Это дело такое — вниз всегда катиться можно. Падать и дурак сумеет, а ты сумей наверх подняться. Ну, чего стала? Пошли, посмотришь, что там у меня хранится.
Кика двинулась по проходу, зная, что девчонка идет следом. Думает, что хуже, чем есть, — не будет, а так — хоть что-то новое. Пусть вниз, а все-таки — дорога. Эх ты, дуреха, тебе же ясным языком сказано: не всякая дорога к добру ведет. Погоди, еще раскаешься…
Под ногами зажурчала родниковая вода. Пальцы сразу свело. Потом впереди появился свет: мертвенное мерцание, что заставляет впустую напрягать глаза, но не освещает ничего.
— Ну, что скажешь? — спросила Кика, останавливаясь.
— Что это?
— Это, милочка, Стынь-камень, болоту нашему сердце. Он воду студит, от него все кипени в округе. Ручьи да речки здесь начало берут. Без него болото или лесом зарастет, или озером растечется. Ни ягод не станет, ни журавлей, ни воды чистой. Тут всему самое древнее начало. Люди болото не больно жалуют, а ведь без него ничему в мире не быть. Озеро загниет, лес в засуху погорит. Останется только сушь да пыль. Поняла теперь?
— Поняла, хозяюшка.
— Так подойди поближе, глянь попристальней, может, увидишь чего…
— Боязно мне.
— Тебе, подружка, бояться уже нечего. Глубже Стынь-камня не нырнешь, выше затинка не подымешься.
Девчонка стояла в нерешительности, и тогда Кика, отшагнув в сторону, резко толкнула ее в спину, как толкают купальщицу, не смеющую окунуться в холодную воду. Вскрикнуть девчонка не успела, ладони ее коснулись Стынь-камня, и она мгновенно застыла, замерла в костяной неподвижности, не живая и не мертвая. Не билось сердце, не дышала грудь, лишь взгляд, казалось, все понимал. А может, и не понимал, кто его знает? Очнется — ничего помнить не будет.
Теперь можно браться за притирания, за мази да слизи. Колдовать, ворожить, росой с росянки поить, жабьими молоками потчевать… И родится небывалая кикимора с живой душой и человеческой памятью. Это о том, что возле Стынькамня творилось, ничего не запомнится, а прежняя жизнь не денется никуда, помниться будет до капельки, до распоследнего словечка. А значит, останется в лягушачьем сердце человеческая любовь. И поползет зеленомордое страшилище в деревню, к своему ненаглядному Степушке…
Вот о такой нежити и рассказывают люди самые страшные сказки.
Кика взвалила одеревенелое тело на плечи, поволокла прочь от Стынь-камня. «Ишь, царевна, — ворчала она дорогой, — второй уж день только тем и занимаюсь, что тебя на руках ношу. Делать мне больше нечего».
Из затинка вынырнула в заросший омут, сквозь пласты ила пробилась к свету. Девчонка не дышала, и подводное путешествие не могло повредить ей. Девушку Кика оттащила в кочкарник, где место и впрямь было плотное, так что и захочешь, глубже чем по колено не провалишься. Уложила на солнцепеке, полюбовалась на свою работу. Девчонка лежала грязная, мокрая, исцарапанная. Бледное лицо заляпано илом. Кикимора, да и только! И о какой это любви ей возмечталось? Тут, впрочем, не Кике судить; если и впрямь так любит Степушку, то отлежится на солнце и оживет. А ежели соврала, захотевши поиграть в любовь, — то не взыщи. Не быть тебе тогда ни девкой, ни кикиморой и вообще никем.
Кика развернулась и беззвучно канула в болотной глубине.
Дома подошла к окошку, глянула: как оно там? В самую пору поспела: девушка зашевелилась, открыла глаза и села во мху. Несколько мгновений непонимающе смотрела на стебли болиголова и кривые сосенки, медленно поднялась, шагнула, не глядя, и вдруг повалилась на колени, ткнулась лбом в мох: «Спасибо, хозяюшка, спасибо, родная! Век буду бога молить!»
— Фу ты! Кого она будет молить?.. и о ком? — Кика отмахнулась четырехпалой рукой и сплюнула через правое плечо.
* * *
Дни потянулись обычные, словно и не бывало в укромном затинке человеческой гостьи. Как там на деревне дела, Кика не ведала; окно деревню не показывает, а самой ползти не положено, да и охоты нет. Это по вязкому ходить Кикины ноги подходящи, а по сухому — изволь ползать. Потому и нет охоты деревню навещать.
Поначалу тревожно было: все-таки девка и Стынь-камня касалась, и тиной ее отерло, — а потом Кика успокоилась. Если подумать как следует, то в хорошей бабе и от русалки чуток должно быть, и от кикиморы. А то не женщина получится, а пресная лепешка.
Летом народа на мху мало бывает, только ежели за морошкой кто прибежит. В летнюю пору огороды да сенокос людей возле дома держат. Лишь однажды целой гурьбой явились бабы за мхом, избы конопатить. Новые избы зимой рубят, а мох для стройки с лета запасать надо. Знакомой девки (имени ее Кика так и не узнала) среди пришлых баб не оказалось. Зато Степушка ходил на охоту частенько, нанося ужасный ущерб уткам и куликам. Вот только прочесть по его лицу нельзя было ничегошеньки.
К августу по лесным закраинам созрела хмельная гоноболь, а там и брусника зардела густым горько-сладким багрянцем. Народ стал на мху показываться. Кое-кто из жадности и клюкву зеленцом хапать начал. А уж в сентябре все за клюквой побежали. Вместе со всеми и Кикина знакомка объявилась. Ходила с бабами, стараясь от громады не отставать. Ягоду хватала споро, не разгибаясь, не позволяя себе даже минутного отдыха. Словно выслужиться хотела, показать, какая она справная да работящая. Кика помогала как могла: отводила других баб с необобранных мест, оставляя посестренке лучшие ягоды. Хотя уже знала, что забота ни к чему; еще летом выследила она Степу с другой.
Хоть и сухи лесистые песчаные островки, а принадлежат болоту и из затинка насквозь просматриваются. Вот там-то, в укромном грибном месте, и миловался Степушка со своей новой зазнобой.
— Оченно ты мне, Тонечка, по сердцу пришлась, — твердил он, правой рукой обнимая босоногую красавицу за плечи, а ладонь левой деликатно положив на талию — не ниже и не выше.
Тонька ловко выскальзывала из объятий, отмахивалась лукошком:
— Руки-то не распускай бесстыжие. У тебя своя Анюта есть, с ней и обнимайся.
Вот и узнала Кика, как зовут неутонувшую утопленницу.
— С Анюткой у меня ничего не было, — отвечал Степа, петушком подбегая к Тонечке, — а что было, то быльем поросло. Не люба она мне, одна ты мне до ужаса нравишься.
— То была Анютка люба, а теперь — не люба? — дразнилась Тонька, вновь ускользая от жадных рук, но не отбегая далеко. — Все вы, мужчины, переменщики, и веры вам ни на грош.
— Ледащая она, и тиной от нее воняет, — оправдывался Степушка.
— Вот ты — иное дело, земляникой от тебя пахнет, и вся ты как ягодка, так бы и съел!
— Не твоим зубам ягодка зреет! — хохотала Тонька.
Были бы у самой Кики зубы — скрипела бы ими от злости и обиды за посестренку. И ведь ничего не скажешь, Тонька и впрямь фигурой куда казистее; Кика, видом схожая с корягой, ценила в людях телесное дородство и оттого особо переживала беду отпущенной гостьи.
— К тебе, Тонечка, всем сердцем прикипел! — разливался Степушка, кидаясь вдогонку за ускользающей сластью.
И ведь добился своего, уломал девку, уложил на колючую постель из сухих сосновых иголок.
Потом она уже сама к нему бегала, ласкалась да ластилась, дролечкой величала, кровинкою. Кику ажно корежило, когда слышала она эти сворованные слова. Степка жмурился, что сытый кот, врал про любовь до гроба, обещал сватов по осени прислать.
— Ой! — счастливо смеялась Тонька. — Ужо погоди, отец тебя на Малушке Герасимовой женит — тогда запоешь!
— Вот еще! — отмахивался Степан. — Нужна мне та Малушка… она же гугнивая.
— Зато отец у нее богатей, — неумно накликивала Тонька, — еще побогаче твоего. Деньги к деньгам, гляди, сговорятся отцы, тебя и не спросят.
— Я уж давно по своей воле живу, — спесиво отвечал Степка, пощипывая соломенный ус.
Тут у Кики всякое зло на разлучницу пропало, даже топить ее раздумала. Знала, что накаркала Тонька на свою голову. Отцы-то уже неделю как сговорились, и было это тут же, на болоте, при котором кормились все окрестные деревни.
Два мужика шли негаченной тропой на дальние острова проверять ягодные балаганы. Там с сентября и до самого снега будут жить наемные работники, грести частыми хапужками клюкву, ссыпать в короба. А уж вывозить собранное станут зимой, санным путем, потому как на себе такое не перетаскаешь, ягоду на островах берут сотнями пудов. К такому промыслу нужно заранее готовиться: поправить балаганы, запасти харчи. В страду заниматься этим будет некогда. Вот и шли богатые мужики, державшие в руках островной промысел, оглядывать свое хозяйство. А Кике любопытно было послушать, о чем гуторят люди, опрометчиво полагающие себя хозяевами окрестных мест. Тоже, хозяева нашлись — смех и грех! — через ее-то голову! Но подслушать чужой разговор все равно надо, это дело святое…
— Так-вот я думаю, Емельян Андреич, — говорил один из мужиков, упорно перемешивая сапогами вязкий мох, — пора мне Степку женить.
— Это дело хорошее, — отвечал другой, также размеренно переставляя ноги.
— И у тебя Малуша в возраст вошла. Не прогонишь, если сватью пришлю?
— Оно бы и ничего, да балует твой Степка, говорят. Гуляет с кем-то из деревенских, да и не с одной.
— Это, Емельян Андреич, дело молодое, чтобы девок портить, — отвечал Степкин отец. — Дурной еще, вот и гуляет. А как оженится, то перестанет. Дело известное.
— Такого оно так, и я не прочь Малушу пристроить, а вот что приданого ты за ней хочешь?..
До дальних островов путь медленный и долгий. Сговорились отцы.
На Покров мхи покрыло первым нетающим снежком. О ту же пору и невестам издавна покрывают головы бабьими платками. Прежде этот день посвящен был Велесу — плодородному скотьему богу, всем сельским работам в этот день конец, и скотину с этого дня резать можно. Потому и праздник, веселый, языческий, потому и свадьбы.
С утра зазвонили в сельской церкви. В осеннем воздухе звон далеко слышен, до самых укромных укрывищ достигает.
— Звонят — воду мутят, — ворчала Кика.
Вообще от колокольного звона не было ей ни жарко ни холодно, но сегодня все не так. Трезвонили к свадьбе, дролечка Степа женился на гугнивой Малушке. Как-то там посестренка убивается?.. Не показывает чудесное окно деревни, праздничных людей, румяные лица. Лишь бряканье железного била в медный колокольный бок доносится в затинок. И сколько ни смотри, увидишь только приснеженную топь, исчахлые деревца и девчонку, что, прижав кулачки к груди, бежит, не увязая в подмерзшем мху.
У болота цепкая память, сверху может декабрь трещать, а под моховым одеялом прячется воспоминание об июньской жаре. Тепла трясина и гостеприимна.
Кика встретила беглянку на полпути к незамерзающим окнам.
— Куда ты, подруженька?
Анюта остановилась, кинулась в ноги болотной хозяйке.
— Кикушка, родная, помоги! Я знаю, ты говорила — у тебя средство есть. Забыть его хочу!
— Есть средство, как не быть. От всего на свете есть средство, — Кика достала заботливо припасенную слезу. — На, вот, глони. Полегчает.
Ни мгновения не колеблясь, девушка проглотила прозрачную каплю.
Кто знает, о чем плачут среди травы скользкие болотные слизни?
Взгляд Анюты стал спокойным и отрешенным. Не приведи судьба никому из живых смотреть на мир таким взглядом.
Кика ухватила названую сестру за руку, повела к знакомому топкому месту.
— Вот и хорошо, — твердила она, — вот и ладненько. Пошли, сестренка, домой, в затиночек. Ты, главное, пока сквозь трясину плыть будем, зажмурься и не дыши. А там — Стынь-камень всякую боль остудит.
Мамочка
— Мамочка, а это когда будет?
— Скоро, я же тебе говорила.
— Прямо сегодня?
— Ну, не совсем сегодня… в полночь.
— Все равно, это уже почти сегодня. А другие ведьмы на посвящение придут?
— Нет. Только мы с тобой.
— Ой, как здорово! А идти далеко? Или мы полетим?
— Мы пойдем пешочком. Это совсем близко, почти здесь.
— Жалко… Я бы хотела лететь как настоящая ведьма.
— Ведьмы тоже не все умеют летать, а только самые сильные.
— Ты у меня самая-самая сильная!
— Ладно, болтушка, собираться пора. На вот, держи.
— Ой, мамочка, что это?
— Твое новое платье. Нельзя же тебе сегодня быть замарашкой.
— Какое красивое! Мамочка, а разве ведьме можно белое платье надевать?
— Ты же у меня еще не ведьма.
— Но когда я пройду посвящение, его будет нельзя. Хотя ну и пусть, я его какой-нибудь бедной девочке подарю… только сначала оно в шкафу повисит, а я буду иногда любоваться. Ну как, мама, хорошо?
— Просто замечательно! Пройдись по комнате, я погляжу… оно тебе очень к лицу.
— А можно я брошку с незабудками возьму?
— Можно.
— А это ничего, что она серебряная?
— Надевай, не бойся. Или ты собираешься стать вампиршей?
— Ой, мамочка, ты как скажешь! Вампирши, они же противные! Холодные как лягушки. Брр!..
— Готово? Только накинь пелеринку, а то на улице уже прохладно.
— Мам, а почему ты дверь не запираешь? Ты ее заговорила, да?
— Легонечко, совсем чуть-чуть. Ты смотри, какие звезды! Сегодня безлунная ночь и самые яркие звезды в году.
— Деревенские говорят, что звезды — это глаза ангелов, которые следят, чтобы люди не грешили.
— Глупости. Тогда бы все грешили днем, когда звезды не горят. Звезды — это небесные огни, поставленные, чтобы находить дорогу. Днем нельзя высоко летать, солнце сожжет, а ночью — самое лучшее время. А чтобы не заблудиться, на небе загораются звезды. Большой ковш, Малый ковш, а вон — Чертовы вилы, люди называют их Волосы Вероники. А это — След метлы, или Млечный Путь.
— Это дорога, по которой мы будем летать на шабаш?
— Нет. Так высоко могут подниматься только великие колдуньи, да и то это происходит очень редко. Тогда на небе виден настоящий след метлы, и люди говорят, что явилась комета. Огненная звезда полыхает на небесах много ночей подряд, и никто не знает, что повело чародейку в такую даль, какие дела она вершит. Помыслы великих сокрыты от простых людей, да и колдунов тоже. Ведьмы низших степеней могут лишь смотреть в эту высоту и завидовать.
— Мамочка, а ты какой степени?
— Я — ученая ведьма. Это почти самое высокое звание. Обычные, природные ведьмы бывают двух видов: те, которые умеют только вредить, — это самые слабые, и те, которые умеют лечить. Еще бывают люди с зеленой рукой, но это уже почти не ведуньи, просто у них, что ни посадят, все растет. А иные знают петушиное слово, их тогда никакой зверь не трогает, даже цепной пес к такому ласкаться станет. Ученые ведьмы гораздо сильнее их всех, они и лечить могут, и вредить, если понадобится. По ночам летают только ученые ведьмы, потому что им подвластна вся природная магия, а не часть, как обычным колдуньям.
— Я тоже буду ученой ведьмой. Это так здорово — все уметь, чтобы люди просили помочь им… вот как та красивая тетя, что приходила к тебе недавно. Она так кланялась, так кланялась, мне было ужасно жалко, что у нее заболел мальчик, и я радовалась, что ты его вылечишь.
— С чего ты взяла, будто у нее заболел мальчик?
— А потому что девочки слушаются мам и с ними никогда ничего не случается. Ну, может, горлышко заболит, и надо будет лежать в постельке и глотать сладкую микстуру. А мальчишки везде бегают и ломают ноги. И если им не поможет ученая ведьма, то они так и останутся хромыми.
— А!.. Понятно. Только у этой тети нет ни мальчиков, ни девочек. Она просила, чтобы я извела ее старого, ревнивого мужа, из-за которого она не может часто встречаться со своим ухажером. Она думает, что, когда овдовеет, ухажер женится на ней. А я знаю, что он все равно бросит ее через месяц, потому что собирается жениться на другой. И тогда эта дама придет и станет просить, чтобы я свела в могилу ее бывшего любовника. Просто из мести. Люди всегда так: делают одну мерзость за другой, то из любви, то из ненависти, но во всем непременно винят нас. Твоя красивая тетя тоже не понимает, что это она убийца, а я — всего лишь ученая ведьма, которая хорошо выполняет свою работу.
— Никакая она не моя, и не красивая, а очень даже противная. И на шее у нее вовсе не родинка, а бородавка. Ее вообще в жабу надо превратить. Почему ты ей помогаешь, когда ее надо превратить в жабу?
— Ну, во-первых, не умею превращать в жаб людей, даже таких нехороших. Это могут делать только великие ведьмы. И потом… мне просто приказали выполнить ее просьбу. Ученым ведьмам подвластны природные явления, но ведь есть еще инфернальные силы, а им могут приказывать лишь великие. Я, конечно, была вправе отказаться, но такие вещи могут плохо кончиться. С потусторонним лучше не шутить.
— Тогда скорее становись великой ведьмой.
— Эх ты, глупышка… Чтобы стать великой ведьмой, надо пройти через непредставимые испытания. А во время посвящения приходится приносить ужасные жертвы, так что все великие до конца своих дней остаются несчастными.
— Мамочка, но ведь у тебя буду я! Мы обе станем великими ведьмами и будем лететь среди звезд по своим никому не ведомым делам. Люди начнут глядеть в небо и говорить: «Смотрите, там две кометы разом — большая и маленькая! Такого еще не бывало, не иначе нам грозит эпидемия насморка и другие ужасные бедствия!» А маленькие дети будут играть, будто в небе летает комета-мама и комета-дочка. Они будут правы, но этого никто не узнает. Правда я замечательно придумала?
— Да, конечно. Ну вот мы и пришли.
— Мамочка, но это же просто дом! Я думала, мы пойдем в какой-нибудь склеп или заброшенную церковь.
— Склеп годится только для грязных некромантских извращений, а церкви давно облюбовала мелкая нечисть. Нам нечего там делать. Все серьезные дела происходят в самых обычных домах. Осторожнее, здесь ступеньки… Ну вот, теперь можно зажечь свет. Пелеринку повесь вот сюда и дай я тебя причешу…
— Ой, не дергай так!
— А ты стой смирно. Кто ж виноват, что у тебя такие густющие волосы? Все-таки ты у меня ужасно красивая, и платье тебе очень идет.
— Мамочка! Разве так говорят — ужасно красивая?
— Ведьмы именно так и говорят.
— Тогда я тоже буду так говорить. Видишь, какая я ужасная и красивая?
— Стой ты, егоза! Мне еще надо связать тебе руки.
— Зачем?
— Такой обычай. По-настоящему руки развязаны только у ведьм, всех остальных сковывают традиции, собственная глупость или людское невежество. Ты еще не ведьма, поэтому в следующую комнату можешь войти лишь связанной. Так не жмет?
— Не-а. Но ты меня потом сразу развяжи, а то мне так не нравится.
— Я развяжу тебя сразу, как только будет можно, а пока — потерпи.
— Ой, мамочка, это что?
— Алтарь с жертвенником.
— Разве я должна приносить жертву? Ты не говорила.
— Я должна. Прости… я обманывала тебя сегодня весь день. Не ты, а я буду сейчас проходить посвящение. В великие ведьмы. Но сначала мне нужно принести последнюю жертву адским силам, откупиться от них. Я тебе рассказывала про нее… только что.
— Мамочка, ты меня хочешь тут зарезать? Мамочка!.. Мама, не надо, я не хочу!
— Тихо, тихо! Вот так, ноги тоже надо связать. Ты не бойся, я все сделаю очень быстро, ты совсем ничего не почувствуешь. Ты пока лежи тихонечко, я только свечи зажгу.
— Мамочка, я не хочу! Давай лучше не надо быть великой ведьмой!
— Поздно. Если я сейчас откажусь, мы всего лишь погибнем обе.
— Тогда давай потом, через год или хотя бы через недельку…
— Нет. У каждой ведьмы такой случай бывает раз в жизни. Слышишь? Сегодня бьют сломанные часы на заброшенной церкви. Полночь. Через час обряд должен быть закончен, а он длинный.
— Мамочка, я же знаю, что ты хорошая! Зачем ты вообще согласилась на это?
— Я не знала, что они потребуют такой жертвы. Честное слово, я узнала об этом только вчера, когда было уже нельзя отступать. Прости меня… и… закрой глазки.
— Мамочка, подожди еще минутку! Давай пусть лучше они нас вместе убьют, я знаю, это будет не страшно, когда вместе.
— Нет. Путь надо пройти до конца. Но я отомщу за тебя. Они горько пожалеют, что назначили именно эту жертву.
— Значит, я сейчас умру, а ты станешь великой ведьмой, будешь ходить в белом платье и летать среди звезд?..
— Обещаю, что я никогда в жизни не надену белого платья, а гадкую тетку с бородавкой, когда она явится, я превращу в самую отвратительную жабу на свете. Я все сделаю, как ты хочешь, только закрой глаза, время уходит.
— Еще минуточку, ведь час такой длинный. Ты мою брошку с незабудками не выбрасывай и никому не отдавай. Там одна незабудка поворачивается на заклепочке, а под ней надпись: «Ne m'oublie pas». Это по-французски…
— Я знаю. Пора, доченька.
— Мама, а как же ты теперь будешь жить без доченьки?
— Они сказали, что я смогу родить другую.
— И эту другую дочку ты будешь любить так же, как меня?
— Наверное, нет. Я уже никого не смогу любить, как тебя.
— Это хорошо. А то вдруг понадобится принести еще какую-то жертву… А брошку не отдавай никому, даже новой девочке.
— Ладно. Я все сделаю, как ты сказала, только закрой же наконец глаза!
— Не могу, мама. Я не хочу смотреть, как ты станешь это делать, но они не закрываются.
КИРИЛЛ САВЕЛЬЕВ Труп теряет голову
Святой старец Чэн, которого еще называли «почтительный к словесам», был изрядным пьяницей. Однажды, возвращаясь домой с дружеской пирушки, он миновал старое кладбище, что осталось еще со времен Цзе и Чжоу. То место пользовалось дурной славой в округе. Могилы давно рассыпались в прах, земля заросла диким тутовником, а по ночам, бывало, трупы иногда переговаривались между собой тонкими писклявыми голосами.
Чэн в юности был беспутным малым, но сподобился просветления в возрасте двадцати одного года, когда поскользнулся на пролитом масле и расшибся так сильно, что мозги едва не вылезли наружу. С тех пор он стал тих и кроток, занимался исцелением и вылечил множество людей. Тогда пошла молва, что он святой. В возрасте шестидесяти лет, однако, пристрастился к дешевому рисовому вину, перестал следить за собой, опустился и стал буен во хмелю. Вот и теперь он шел, распевая воинственные гимны Ду Фу и размахивая посохом длиной более трех чи с набалдашником в виде головы дракона.
Луна в ту ночь ярко сияла, и старец Чэн еще издалека увидел, что на поляне под могильным холмом, укрытой в зарослях тутовника, сидят два трупа и как будто спорят о чем-то. Подошел поближе, чтобы лучше слышать, и встал за деревом.
— Коли условились забрать седьмую Ху, то и дело с концом, — говорил первый труп, здоровенный детина с рябым лицом.
— Что толку, как говорится, искать нефрит в глубоком колодце?
— Если забрать седьмую Ху, народ может учинить смуту, — отвечал второй. — Уж больно ее любят в столице. Быть может, лучше устроить моровое поветрие?
— У тебя, видно, ветер в голове гуляет: сегодня одно, завтра другое.
— Зато я пекусь об умножении наших заслуг и не нарушаю законы Яньло-вана, — с достоинством возразил второй.
Эти слова привели первый труп в такую ярость, что он заскрежетал зубами и зарычал, а потом сломя голову бросился прочь — прямо к тому месту, где стоял старец Чэн. Тот, недолго думая, огрел его посохом по уху, да, видно, не рассчитал силы: голова слетела с плеч, как у Мо-вэня в битве при Цзинь-ши, а тело рассыпалось с сухим треском. Второй труп встал и направился к Чэну. Старец изготовился к драке, но тот, смеясь, лишь махал рукавами.
— Полно, достопочтенный, — молвил он. — Сами того не ведая, вы оказали мне великую услугу. Мы, видите ли, оба были младшими служителями в палате наказаний у Яньлована, но этот мужлан все время пытался обойти меня. Ныне он лишь получил по заслугам.
Старец Чэн молча поклонился, соображая, что бы это могло значить.
— Вижу, вы человек тонкий и обходительный, — продолжал труп. — Не угодно ли вам выпить немного подогретого вина с вашим ничтожным слугой? За холмом есть беседка, где все готово к трапезе.
Обошли холм, и действительно, на склоне стоит маленький павильон, накрыт стол на двоих, а луна серебрит траву меж валунами. У Чэна защемило сердце, и он сложил такие стихи:
Индевеющий воздух Холоднее день ото дня, Иней луны серебрится На висках у меня.Труп ободрительно покивал и похлопал в ладоши. Сели за стол, выпили по чарке вина, и завязалась у них доверительная беседа.
— Не стану скрывать: скоро сюда придет моровое поветрие, — сказал труп. — Много людей умрет, а еще больше лишится памяти. Но вас зараза обойдет стороною, в знак благодарности к вашим исключительным заслугам.
Чэн слушал да пил. Но постепенно им овладела стариковская подозрительность, а новый хмель ударил ему в голову. Выждав момент, когда труп отвернулся, чтобы полюбоваться видом на озеро, он взмахнул посохом и нанес сокрушительный удар. Труп даже не пискнул. Тогда Чэн, поднатужившись, перевалил останки через перила, допил вино и ушел, горланя песни и чрезвычайно довольный собою.
Впоследствии Чэна стали звать «истребителем трупов», но вином угощать опасались. В тот год никакого морового поветрия не было, зато певичка Ху Седьмая, любимица князя Хун-вана из Южной столицы, тихо скончалась от малокровия.
Историк этих забавных чудес скажет так:
Где само Небо не проявляет милосердия, что говорить о людях! Даже Чэн спьяну не знал, что творит, а остальные и подавно. Поистине мудро сказано: «Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не показывать того, что может вызвать зависть, то не будут волноваться сердца народа».
ВЕРА КАМША День страха
Глава 1
Молоденький воробьишка неуклюже хлопнулся на позеленевшую горгулью и этим подписал себе приговор. Сидевшая на уродливой каменной морде пичуга была отличной мишенью, и Пишта Шукан не преминул пустить в ход новую рогатку. Выстрел оказался точным, жалкий комочек перьев, слабо трепыхаясь, свалился вниз, но меткому стрелку не удалось насладиться удачей. Балаж Шукан, потерявший левую руку в бурасской битве и назначенный тогда совсем молодым герцогом Балинтом пожизненным капитаном Рисского замка, догадался, где болтается его отпрыск, и не поленился полезть за ним на крышу. Ухваченный за ухо Пишта выронил свое оружие и угрюмо последовал за родителем в подвал, где уже собралось почти все население замка.
Стоящий у обитой железом дверцы Балинт Риссаи хмуро оглядел вошедших, но ничего не сказал. Пишта никогда еще не видел господина так близко. Младший брат погибшего в битве с заманскими ордами короля Лукача, дядя и соправитель молодого Бэлы Третьего, Балинт редко бывал в своих землях, но День Страха — это День Страха. Господин проводит его со своими людьми. Пишта был на своей любимой крыше, когда герцог и его старший сын осадили коней у ворот замка, после чего на остроконечной колокольне ударил набат, оповещая о грядущей беде.
В День Страха люди загоняют скотину в укрытия, не оставляя под открытым небом даже куренка. Говорят, дикие твари прячутся сами, чуя, что над ними вот-вот пройдет Оно.
Жизнь замирает — не щебечут птицы, не греются на солнышке ленивые коты, не жужжат пчелы, только растения, которым предначертано умирать там, где родились, видят, как над ними медленно проплывает Древнее Зло, продолжая свои длящиеся века поиски. Любая тварь, на которую упадет взгляд Древнего, будет принадлежать ему. Так говорят предания, а так ли это на самом деле, никто не проверял.
Пишта в Древнего и верил и не верил. Если, проснувшись ночью, мальчишка вспоминал о Неотвратимом взгляде, он укрывался с головой, воображая, что Древний рядом и только и ждет, чтобы он, Пишта Шукан, выбрался из-под спасительного одеяла. Днем ночные страхи казались глупыми. В самом деле, зачем Ему мухи или жабы? Отчего Он появляется лишь на вершине Лета, почему не вредит деревьям и кто может о Нем знать, если Его никто не видел?
Последний День Страха был без малого три сотни лет назад, если вообще был, а может, все это и вовсе выдумки? Правду сказать, Пишта утром полез на крышу отнюдь не за воробьями. Ему хотелось утереть нос всем замковым мальчишкам, а заодно посмотреть на Древнего, если тот и в самом деле пролетит над Риссой. Шукан-младший был уверен, что Древний его не заметит. Так оно, скорее всего, и было, но вот от отца спрятаться не удалось, и теперь придется сидеть в душном подвале и слушать, как молится монах Янош. Хорошо хоть герцога можно как следует разглядеть. Если б они не запоздали, пришлось бы торчать в дальнем погребе. Так, конечно, удобнее, зато совсем скучно. Юный Шукан втихаря принялся рассматривать Балинта, про отвагу и удаль которого при жизни слагали песни. Полководец почувствовал на себе взгляд и поманил Пишту к себе.
— Твой сын, Шуканэ?
— Да, сударь.
— Сколько ему?
— Десять. Разбойник каких мало, потому мы и подзадержались.
— На крышу полез? — участливо спросил Балинт.
Пишта залился краской и кивнул головой.
— Правильно, — неожиданно одобрил герцог, — если бы мне в День Страха было десять лет, я бы тоже полез поглазеть на Древнего. Имре, — Риссаи обернулся к вошедшему темноволосому юноше лет пятнадцати, — что там?
— Я объехал вокруг замка и обошел дворы. Все в порядке, но Оно приближается. Это точно.
— Вот как? — сильная рука сжала плечо Пишты. — Ну, воин, пошли, поглядим вместе.
— Отец, — встрепенулся Имре, — я с тобой!
— Разумеется. — Герцог повернулся к Шукану. — Мы сейчас вернемся. Никого не выпускай. Слышишь? Времени должно хватить, но мало ли…
Капитан замка подал знак пятерым алебардщикам и встал у прохода, хотя никто из спустившихся в подвалы не выказывал ни малейшего желания выйти наружу. Когда Пишта услышал, как сын герцога произнес: «Оно приближается», ему тоже захотелось забиться куда-нибудь в уголок, но Риссаи держал крепко. Втроем они поднялись по крутым серым ступенькам и оказались на залитом солнцем дворе. Такого Пишта Шукан еще не видел и не хотел видеть. Одно дело слушать, что в День Страха все живое и способное двигаться прячется и разбегается, и совсем другое — оказаться на словно бы вымершем дворе.
Было очень тихо, очень душно и очень страшно. Могучие каштаны, веками сторожащие замок, невозмутимо вздымали к небу могучие кроны, но Пишта готов был поклясться, что им страшно, так же как и закрывшимся, словно перед дождем, одуванчикам и словно съежившимся борщевикам, обычно нагло раскидывавшим мясистые листья. Небо было мертвым — ни облачка, ни птицы, ни хотя бы бабочки или мухи. Пишта глянул под ноги — здесь неподалеку проходила муравьиная тропа, но насекомые исчезли. Сказка оказалась правдой — все, что могло спрятаться, спряталось.
— Я не думал, что это правда, — герцог словно подслушал его мысли, — даже когда стали прибывать гонцы, а алийский шар начал светиться…
Про алийский шар Пишта слышал от отца. Странная вещь, присланная заманским султаном одному из древних королей в обмен на право похоронить убитого в битве брата. Обычно молочно-белый и холодный, шар этот по мере приближения Дня Страха наливался тревожным багровым светом, становясь сначала теплым, а потом горячим. Кто и когда создал эту вещь, не знал никто…
— Стой тут. — Балинт выпустил плечо Пишты, и мальчик вздрогнул, словно пробуждаясь от сна. — Если что, беги вниз и вели отцу закрыть двери. На нас не оглядывайся.
С бешено колотящимся сердцем сын капитана следил, как великий Риссаи, широко шагая, вышел на середину двора и встал, обернувшись лицом на восток, откуда, как рассказывали, и приходил Древний. Пишта на всю жизнь запомнил страшную, давящую тишину, недвижные кроны каштанов и высокого, темноволосого человека, облитого безжалостным солнечным светом. Балинт стоял, положив руку на рукоять своего знаменитого меча, и вглядывался в слепящую даль. Сердце мальчика защемило, и он, нарушив приказ, бросился к герцогу и встал рядом, лишь на мгновенье отстав от Имре. Так для Иштвана Шукана началась служба длиной в жизнь.
Небо на востоке порозовело, словно там собралось взойти еще одно солнце, в лицо пахнуло жаром. Трое во дворе Рисского замка стояли и ждали сами не зная чего. Горячий ветер крепчал, разбуженные деревья закачались и зашумели глухо и грозно, воздух наполнился мелкой, скрипящей на зубах пылью.
— Теперь пора, — резко сказал герцог, — возвращаемся.
— Отец, — вскинул голову заметно побледневший Имре, — мне не страшно…
— А мне страшно, — отрезал славящийся своей отвагой на всю Эгорию полководец. — Вниз. И живо!
Пишта не помнил, как они скатились по ступенькам и как он оказался в самом дальнем углу подвала рядом с матерью и сестрами.
Глава 2
От Вечности тоже можно устать, и он устал. Те, Кто Были Раньше, видели рождение и расцвет этого мира, а ему достался вечер, холодный, бесконечный вечер. Он хотел одного — покоя, но покой нужно заслужить. Нужно найти живое создание, способное вместить Силу и Знание, открыть ему цену Крови, Власти и Золота, и лишь после этого можно уйти на покой. Как же он устал, раз за разом пролетая Древним Путем и не находя никого. Их род проклят, они обречены нести свое могущество в одиночестве, не имея права даже на смерть. Их время, время золота и огня, миновало, на земле расплодились жалкие создания — он может убивать их тысячами, но зачем это ему? Он хочет только свободы и покоя.
Его предшественники упокоились на грудах золота в Ильдаранских пещерах, а он все еще жив. Ничтожные обитатели некогда грозного мира не желают менять свою смешную участь на величие, они бегут от него, а он не может опуститься на землю, не может никого схватить и заставить принять проклятое могущество. Ему дозволено лишь летать раз и навсегда проложенным путем, глядя вниз, в безумной надежде отыскать комочек жизни, готовый принять его груз. Каждый раз, поднимаясь над Черными горами, он исполнялся уверенности, что найдет, но смертные твари в ужасе разбегались, а он мчался вперед, пока внизу не вскипали валы Яростного моря. Дальше путь был заказан, и он возвращался в пещеры смотреть сны о навеки ушедшем, чтобы в День Горечи пробудиться и взлететь над скалами, ожидая избавления. И не было никого, кто бы мог ему помочь… Но что это? Что?!
На его призыв ответили. Неужели поиск окончен? Какое смешное создание. Маленькое, жалкое, исполненное гордыни и злобы. Сколько в нем ярости! Разумно ли отдать Силу ему? Но, отринув это существо, он вновь приговорит себя к жизни, а он больше не может! Он так устал, и потом этот мир пережил свой расцвет, а что может быть хуже доживанья?
Зачем эта суета под остывающим солнцем? Кому нужны ничтожества, занявшие место гигантов? Если его выбор погубит то, что он сейчас видит, будет ли это Злом? Нет, это будет Освобождением!
Древний прервал полет, потянувшись к обнаруженному им созданию.
— Ты — мой, ты освободишь меня, а я вознесу тебя! Ты мой и ты ничей… Ты — живое, что не привязано к земле, и ты будешь мной, когда я уйду.
Глава 3
Тридцать лет прошло, а все было словно вчера. Здесь он, десятилетний, стоял рядом с Балинтом Рассаи, а Имре, живой, молодой, отважный, уговаривал отца взглянуть в глаза Древнему. Он все-таки сделал это и погиб.
Капитан Иштван Шукан тронул седеющие усы, вздохнул, собираясь с силами, чтобы пройти к королеве. Уж лучше бы проклятый дракон сжег его вместе с Имре, но тот, словно предчувствуя свою судьбу, отправил жену и детей в родовой замок, заставив Шукана поклясться на клинке, что он сохранит семилетнего Дьердя, который еще не знает, что он король. И Маргит не знает.
Про себя Иштван называл королеву именно так. Маргит была младше его, а они с Имре, хотя тот был королем, а Иштван Шукан всего лишь одним из его капитанов, были почти что братьями, и сроднил их День Страха. Шукан невольно усмехнулся, вспоминая, как подбил сидевшего на горгулье воробья, а отец утащил его с крыши. Вчера Дьердь уговорил сделать ему рогатку, хотя Маргит это не понравилось, она вообще уродилась жалостливой. Когда Имре бросил к ногам невесты убитую серну, та проплакала целый вечер, после чего король бросил охотиться, хотя не мешает своим витязям сколько душе угодно гонять вепрей и оленей в королевских лесах.
Не мешает? Не мешал… Теперь им всем придется жить без Имре, хоть это и кажется невозможным. Что ж, люди привыкают ко всему. Он не думал, что сможет обходиться без отца, герцога Балинта, Вицушки, но обходится — ест, спит, машет саблей, только что может сабля против крылатого, дышащего огнем ужаса? Гонец, привезший весть о гибели короля, говорил, что крылья чудовища застилали солнце. От двенадцатитысячной армии осталось не больше трети, а Зверь не был даже ранен. Неужели на него нет управы? Что он вообще такое?
Дни Страха были всегда, но ни заманцы, ни эгры, ни известные своей ученостью урсийцы и харинцы не помнили, чтобы Древний жег деревни и города. Его появление дикие твари чуяли заблаговременно, потом колдуны придумали шары, оповещающие о пробуждении Страха, в урочный час тот поднимался над Ильдаранскими горами и летел в сторону Сагайского моря, где и исчезал на сотни лет. Так было раньше, отчего же на этот раз Зверь начал убивать?
Глава 4
Великий Чичирр-вен-Чиррак-вен-Чивваррак мерно взмахивал могучими крыльями, наслаждаясь ощущением собственной мощи. Далеко внизу проплывали леса, поля, синие ленты рек и золотые — дорог, на которые судьба нанизала объятые страхом городки и деревни. Их обитатели в ужасе разбегались, падали на колени, заползали в ненадежные деревянные коробки, которые так красиво горят, но Чичирр был сыт. Великого гнал вперед не голод, а месть и память. Он должен вернуться туда, откуда начался его путь, и отомстить.
Как давно он не был в родных местах, как долго в его душе тлела месть, и вот, наконец, пламя вырвалось наружу! Он уничтожит самую память об обиталище тех, кто некогда поднял на него руку. Не уйдет никто. Глупцы, они попытались его остановить! Очень-очень много двуногих и четвероногих… Когда-то они и впрямь могли причинить ему зло, когда-то его спасали лишь осторожность и крылья, но эти времена давно миновали. Он изменился, а его враги решили, что он остался прежним.
Как они бежали, как валил их на землю ветер, поднятый крыльями великого Чичирра, как их жег выдыхаемый им огонь! Там, на поле между двумя сгоревшими селами, осталось много мяса и много пепла. Великий утолил свой голод, но не настолько, чтобы вернуться в Ильдаран и уснуть. Сначала — месть, потом возвращение и долгий сон среди Тех, Кто Был Раньше, и собранных ими сокровищ. Придет время, и Чичиррвен-Чиррак принесет в Ильдаранские пещеры свою добычу, но первый полет — полет Крови, а не Золота.
Две тени Чичирра сопровождали своего повелителя, две тени и стаи ворон, не смевшие приближаться к Великому, но следовавшие за ним от пепелища к пепелищу. Отвратительные, шумные и жестокие твари, он всегда их ненавидел… Когда он был слаб, они были его врагами, потом он стал сжигать их сотнями, но это было слишком хлопотно, и они перестали подлетать слишком близко. Сегодня у ворон будет много пищи, а потом он вернется и сожжет и их. Не останется ничего! То, что не сгорит, развалится под ударами лап и крыльев, он оставит за собой груду дымящихся развалин и будет свободен от прошлого. Он вернется в Ильдаран и будет спать, пока вновь не наступит День Страха. Тогда Великий расправит крылья и полетит на Закат, а впереди него понесется древний Страх.
Так будет, пока он, устав от Вечности, не перестанет лить кровь и собирать золото и не начнет поиски преемника, чтобы передать ему Страх и Силу и уйти в Покой, став Тем, Кто Был Раньше. Покой… Сейчас Великий Чичирр не желает Покоя. Это его первый полет, первая победа, первая песнь!
Огненные глаза гиганта впивались в окрестности, узнавая знакомые места. Вот и каштановая роща, в которой он некогда укрывался. Чичирр не стал жечь вековые деревья, когда-то они были добры к нему, они, но не обитатели замка, башни которого уже маячили на горизонте. Странно, раньше они были гораздо выше…
Великий Чичирр-вен-Чиррак-вен-Чивваррак сделал круг над излучиной Риссы и начал снижаться. Избранник Древнего, он уже прошел испытания Пламенем и Кровью, он познал Золото и Власть, осталось лишь испытание Памятью, и Избранный станет Единственным.
Глава 5
Семилетний Дьердь Риссаи, сдвинув брови, смотрел на восток. Так когда-то встречал Древнего его великий дед — об этом юному принцу рассказал Иштван Шукан. Тогда ему было всего на три года больше, чем Дьердю, но он стоял рядом с дедом и отцом и ждал горячего ветра.
— Дьерди! Дьерди, где ты!
Дядька Шукан! Ищет его. Мальчик стремительно скользнул за облупленную горгулью. Как тихо. Принц осторожно высунул голову из-за каменного чудища. Двор был пуст, это и понятно — еще утром всем велели спуститься в подвалы, они с мамой тоже спустились в подземную спальню, он прикинулся спящим и убежал. Он должен увидеть Древнего, если тот, конечно, прилетит, но это вряд ли. Отец и его воины собьют Зверя стрелами и зарубят мечами.
Когда алийский шар превратился в сгусток пламени, к которому невозможно было подойти ближе, чем на шаг, отец отправил их с мамой, сестрами и маленьким Балинтом в Рисский замок и стал собирать армию. Дьердю ничего не объясняли, но он давно научился притворяться спящим, дожидаясь, когда его оставят одного. Что может быть проще, чем положить под одеяло скатанную одежду и вылезти в окно или сесть под дверью и слушать, о чем болтают нянька и стражники?
Сын и наследник короля, Имре знал все. И про то, что заманский султан не смог остановить дышащее огнем чудовище, превратившее низовья Вахайды в выжженную пустыню, и про то, что Древний пересек границы Эгории, а отец выступил ему навстречу. Дьердь помнил, как уходили воины. Это были не первые проводы в его жизни, но на этот раз витязи не смеялись и не пели, и их провожало очень много монахов. Отец впервые не взял капитана Шукана, он велел ему позаботиться о них с мамой. Тот поклялся на клинке, а мама заплакала… Она теперь все время плачет, и это очень плохо.
— Дьерди! — кажется, его ищет целый гарнизон. Нет, он не выйдет. Ой, что это! Заря?! Нет, Древний! Тридцать лет назад все было так же — пылающее небо, горячий ветер, клубы пыли. Дальше Пишта Шукан не видел, дед и отец его увели, значит, он, Дьерди Риссаи, будет первым, кто взглянет на чудовище.
Прижавшись к прохладной горгулье, сын короля Имре с замирающим сердцем следил за разгорающимся небосклоном. Вот в раскаленной печи мелькнуло что-то черное, и душу словно бы сжали безжалостные железные пальцы. Черная точка росла, обретая очертания крылатого создания. Больше всего Древний походил на птицу, огромную птицу с пламенными глазами и черной грудью.
Древний приближался, он и вправду был страшен, так страшен, что Дьерди захотелось оказаться далеко-далеко от Рисского замка, но он был сыном своего отца и внуком своего деда. И потом бежать было некуда — чудовище нависло над замком, бурые крылья заслоняли солнце, полыхающие багровым глаза вперились в крышу, в ту самую горгулью, за которой прятался Дьерди! Вот он Взгляд, от которого не скрыться! Ну почему он не послушал маму и Шукана…
Сам не соображая, что творит, Дьерди Риссам отпрянул от горгульи, вскочил во весь рост и схватился за единственное бывшее при нем оружие — сработанную Иштваном Шуканом рогатку.
Глава 6
Осталось лишь испытание Памятью, и Избранный станет Единственным. Память… Первое, что он помнит, — голод, голод и голод! Еда во рту, хорошая еда, но братья… Пять братьев, они получают больше. Они отбирают то, что принадлежит ему, Чи-Чирру!
Почему другим все, а ему — ничего? Даже не ничего, а пинки и колотушки… Он так не хочет! Вранье, что он вывелся из неправильного яйца! Оно было правильным! Крапчатым, а не голубым. И сам он был правильным, не хуже других. Ну и что, у него пятно на груди меньше, чем у Чир-чирра, зато форма лучше! И ничего он не трус, просто ему не нравится, когда его бьют! Что он мог сделать, когда маму схватила кошка? Ничего! Чурр-чиррик попытался и чуть не погиб, а маму все равно съели. Он не хочет, чтоб его ели. Он не хочет, чтоб ему было больно!
Почему на его бедную голову сыплются все напасти? Рыжая кошка… Страшная кошка! Желтые глаза, четыре лапы с жуткими когтями, оскаленная пасть! Он едва вырвался, потеряв половину хвоста… Перья не отрастали, а Чива-Чирра смеялась! Над ним все смеялись. Чир-чирра и Чив-рика не трогают ни кошки, ни мальчишки… Им хорошо, а Чурр-чиррик отобрал у него кусок хлеба и чуть не выклевал глаз… Хороший кусок, большой… Его бросили голубю, а он его унес. Это была его добыча, его, а не Чур-чиррика! Это несправедливо! Гадко! Подло!
Мальчишка на крыше, что он ему сделал? Он просто присел отдохнуть, и все… Удар сбросил его на камни двора. Страшный удар в грудь. Эти рогатки, они еще хуже кошек! Он умирал… Нужно было лететь, спасаться от Страшного. На него нацелились все кошки, все вороны, все мальчишки мира, а он не мог подняться… Чур-чиррик кричал, чтоб он летел. Дурак! У него все было разбито, все изломано… а Оно приближалось. Этот взгляд… Он чуть не умер, но Тот, Кто Был Раньше, оценил его.
— Ты — велик, Чичирр, — сказал ОН. — Ты будешь сильным, непобедимым, вечным! Все будут трепетать пред тобой!
Его избрали из всех. Его, Чичирра, не Чур-чиррика, ни Чур-чирра, ни Чир-Чуррика. Древний понял, КТО перед ним! Понял! Понял! Понял!!! Все было плохо, а стало хорошо и правильно.
Это было прекрасно — вкус крови, рождение огня, осознание золота… Его зовут Чичирр, Могучий Чичирр, Непобедимый Чичирр. Неуязвимый Чичирр. Нет, коротко! Он великий Чичирр-вен-Чиррак-вен-Чивваррак!
Странный привкус в горле, вырывающиеся из клюва язычки огня…. Первый раз это было больно, но как прекрасно жечь! Его первой добычей стал воробей, похожий на Чуррчиррика. Как он бил крыльями, когда у него загорелся хвост! Жалкий, ничтожный, смешной! Как великий Чичирр смеялся, когда наглец пытался взлететь! Он хотел обмануть судьбу? Он спорил с Великим? От Чичирра не уйти никому! Никому! Ни воронам, ни кошкам, ни мальчишкам!
Вкус кошачьей крови… Он и сейчас преследует его. Нет ничего прекрасней, чем рвать в клочки этих дряней. Рвать и жечь! Жечь и рвать! Но их трудно найти, паря в небесах. Людей легче. Люди тоже виноваты перед Чичирром. Перед ним виноваты все! Все! Все! А больше всех те, кто живут в замке.
Как замечательно пахнут горящие дома! Как прекрасно, когда все трепещут. Он велик, наконец-то это поняли! Жаль, кошки не летают, их было бы легче жечь. Зато летают вороны! Стаями. Это хорошо, за один раз можно сжечь многих! Он сожжет всех, хотя нет! Если сжечь всех, кто будет его бояться? Нужно оставить на потом. Он не станет никому отдавать свою силу, он не будет одним из Тех, Кто Был Раньше. Он станет Тем, Кто Будет Всегда!
Он — Великий Чичирр-вен-Чиррак-вен-Чивваррак, Последний и Единственный! Он наследник Тех, Кто Был Раньше. Их золото принадлежит ему. Их сила принадлежит ему. Их кости тоже принадлежали ему, но он их сжег. Этот мир принадлежит ему! Но…
Мальчишка на крыше, он сильнее… Он вернулся и снова убьет его… Больно, страшно… Почему ему так не везет?!
Прошлое вернулось. Вернулось, хоть ему обещали, что этому не бывать! Вот оно — острый шпиль колокольни, фигуры серых тварей на крышах и Убийца! Убийца со своим проклятым оружием, нацеленным прямо в сердце! Тогда его застали врасплох, но сейчас он увернется! Увернется!
Великий Чичирр отпрянул от опасной крыши, пытаясь развернуться. Пережитый в юности ужас вернулся, приняв обличье мальчишки с рогаткой на краю старой крыши. Великий забыл и о своем величии, и о мести — гигантское тело рванулось в сторону и вниз. Только бы успеть, отвернуть, спрятаться от летящей смерти! Когда-то Чи-Чиррик искал спасение на карнизе замковой колокольни, сейчас она его погубила. Она и память, превратившая Могучего и Неуязвимого в насмерть перепуганного воробья, каким тот когда-то был. Потеряв от страха голову, Великий Чичирр, нет, жалкий, маленький ЧиЧиррик, рванулся к спасительному карнизу и…
Мальчик с рогаткой и десятка три искавших его воинов в ужасе и недоумении смотрели, как черное огнедышащее чудовище, судорожно маша крыльями, неуклюже и странно шарахнулось в сторону колокольни и само насадило себя на острый, окованный медью шпиль. Усаженный зубами гигантский клюв раскрылся, из него вырвалась струя пламени, по счастью ударившая в глухую стену, факелом вспыхнул вековой тополь, в дупле которого годами гнездились воробьи.
Зверь бился, как насаженный на булавку жук, сползая под собственной тяжестью все ниже и ниже, туда, где медь шпиля переходила в серый камень, теперь потоки огня вырывались уже не из пасти Зверя, а из чудовищных ран на брюхе и на спине. Огонь мстительно лизал гигантское тело, радуясь поднятому крыльями жаркому ветру, над замком стоял удушливый запах жженых перьев, когти монстра разрывали древнюю кладку. Пламя пожирало отчаянно вопящего Древнего, к небу тянулся черный дым, перекрытия колокольни трещали, из кладки вырывались и рушились вниз камни.
Казавшееся нерушимым сооружение дрожало и корчилось, раскачавшиеся колокола самочинно вели какую-то жуткую песню, а на украшенной серыми горгульями крыше седеющий воин прижимал к себе заходящегося в плаче темноволосого мальчишку, все еще сжимавшего в руках рогатку.
Позже свидетели гибели Древнего не раз просыпались в холодном поту, вспоминая прерывистые жуткие крики, струи багрового пламени, опалившие стены, судорожное биенье крыльев и огненные глаза чудовища, казалось, вместившие в себя всю злобу этого мира.
Глава 7
Минуло восемьсот двадцать лет, но старый замок над быстрым Риссом стоит и сейчас. Туристы любят фотографироваться на фоне мощных башен и поднятого моста. А вот старой каштановой рощи уже нет, на ее месте построено несколько неплохих гостиниц. Что поделать, времена меняются, и все меняется вместе с ними. Старое уступает место новому — людям нравится спать в тепле, ездить по хорошим дорогам, за несколько часов добираясь от Карианы до Борна, зимой есть землянику, а летом — пить холодное пиво. Рисский замок уцелел лишь благодаря тому, что именно у его стен был убит последний гарийский дракон. Правда, некие умники, размахивая какой-то странного вида костью, утверждают, что это был не дракон, а гигантская ископаемая птица, другие, напротив, уверены, что у замка потерпел крушение неопознанный летающий объект, но туристы предпочитают дракона.
В округе найдется немного мест, где бы не продавались изображения самого дракона, его победителя и великой битвы. С сумок, маек, плакатов, календарей, тарелочек, ковриков дышит огнем огромное черное чудовище, крылатое и чешуйчатое, коему лихо тычет в пасть копьем прекрасный рыцарь на белом коне — принц Дьердь-Драконоборец. Статуя аналогичного содержания установлена и во дворе самого замка, на ней очень любят сидеть воробьи.
АНДРЕЙ БЕЛЯНИН
Сказ о святом Иване-воине и разбойных казаках
Было это в стародавние времена… Пески степные любые следы заносят, памяти людской кроме. Вот и рассказывали встарь казаки о чуде Господнем, в Астраханской земле явленном.
За что, про что — неведомо, а объявил шах турецкий Мухаммед войну государю московскому. И пошло по лету на Русь войско великое, янычарское… Лишком не двести тыщ ратного люда с ятаганами да пушками, конницей да пешим строем, все под бунчуками и знаменами зелеными с полумесяцем. Как идут — земля дрожит, зверь бежит, птицы с небес падают.
А ведь из краев турецких как ни иди, а только Астрахань нашу все одно не минуешь. И стоит на море Хвалынском, в самом устье Волги-матушки, белый город, ровно щит рубежи южные ограждаючи… По ту пору воеводствовал у нас боярин Серебряный, самого Грозного Иоанна сподвижник, умный да храбрый. Услыхал он про беду неминучую, стал горожан, рыбаков, люд работный да служилый под ружье ставить. Да только со всех краев тыщи четыре защитничков и набралось. Куды как мало супротив такого ворога, да что ж поделаешь? От Москвы помощь поспешает, но когда будет — одному Богу ведомо…
Рано ли, поздно ли, а подошел шах под стены крепостные, тугой осадой город стянул, железным кольцом спеленал. Днем — гром стоит от лошадиного ржания, а ночью — сколько глаз достанет, горят по степи костры турецкие да луна кровавая скалится!
А Мухаммед ихний все посмеивался, дескать, жаль такую красоту рушить, шли бы вы, люди русские, из города вон — мы не тронем… Кто страх Господень да совесть в сердце имел — тех речей не слушал, а у кого нутро грехом изъедено — призадумались…
И была тогда в Астрахани сотня разбойных казаков, тех, что расшивы купеческие на кривой нож брали. Им перед царем отслужиться нечем, а за дела лихие только плахой и жалуют, вот они к туркам и пошли. Не стали астраханцы злодеев-предателей насилком держать, распахнули ворота, пустили на все четыре стороны. Вот идут они от ворот Никольских, посередь войска огромного, перед пашами-башибузуками сабельки наземь складывают. Смеются враги — иди, урус, беги, урус, не стой на пути великого шаха турецкого! Стыдобственно то казакам, да ведь не трогают их янычары, слово держат.
А только вдруг со стен крик бабий… Обернулись, глядь, что за дела — у самих ворот мальчоночка трехгодовый! Волосенки русые, глазоньки синие, рубашонка белая… То ль тайком за ворота шмыгнул, то ль от мамки сбег, кто ведает? Со стен стрельцы шумят, народ волнуется, а тока сызнова открывать не будешь — турок вон скока нагнано, в сей же час город возьмут. Малец в голос ревет, янычары гоготом заходятся да казаков разбойных взашей толкают, мол, не ваше горе…
И тут громыхнуло в ясном небе, ровно на миг один свет погас! Глядят люди, а у ворот астраханских высоченный казак стоит. Сам в справе воинской, борода окладистая, в руке сабля острая, а из-под бровей очи грозные так и светятся. Приподнял мальчонку, к себе прижал да кулаком врагу могучему грозит. Один — супротив всех! Турки-то опешили сперва, а потом в смех впали. Весело, вишь, им такую картину зреть — как один казак всему войску турецкому грозить смеет. А уж как отсмеялись, так и за ятаганы взялись…
Глянули на это разбойные казаки — и словно прорвало ретивое! Загорелась кровь, будто благодать божия очерствелых душ прикоснулась. Развернулись они, в глаза друг другу глянули, да и пошли турок валять голыми руками! Что с того, что оружия нет? Недаром в разбойных ходили, никто и охнуть не успел, как добыли они мечи турецкие и к воротам, богатырю чудесному на выручку! Вот уж где удаль была, где слава… Как черти дрались разбойные казаки, и дрогнуло войско вражие!
Сто душ христианских на небеса вознеслось, ни один не уцелел… Раскрылись ворота, вышла дружина боярская — и дитя спасли, и Мухаммеду урок знатный дали. Опосля боя того не пошел шах на Москву, забоялся. Застрял до холодов в степях заволжских, а потом и вовсе назад повернул. Не пустила Астрахань врага на землю русскую…
А казака того высокого искать искали, да не нашли. Старики бают, что и не казак то был, а пресвятой мученик Иван-воин, всякого служилого люда хранитель и заступник.
Так ли оно было, правда ли — про то летописи путаются.
Но и доныне стоит в Москве первопрестольной храм Ивана-воина, а случись мимо проходить астраханскому казаку — так непременно зайдет и свечку поставит. За дела ратные, за души грешные, за память дедову…
Казак и ведьма
В одном селе жила-была ведьма. До определенного времени — видная баба, все при ней — и фигура, и хозяйство, и прочие полезности. А как встанет не с той ноги, так просто жуть — людей ела ровно куренков каких. Так что стал народ на селе замечать неладное. Однако прямых улик ни у кого нет, хотя люди по-прежнему исчезают.
Раз гуляли парень с девицей по переулочку. Глядит на них ведьма из-за занавесочки и думает, как бы девицу съесть. На двоих сразу не нападешь… Вот и разбросала она на дорожке горсть бусин. Ясное дело, как девушка первую бусину заприметила — бух на колени и давай собирать, а хахаль, чтоб зазнобушке угодить, вперед забежал и там собирает. Ведьма бочком, бочком к девице и говорит:
— Вот мой дом, заходи — сколь хошь бус подарю.
Та сдуру и пошла. На ее счастье успел парень заметить, как у одной хаты калиточка хлопнула. Дособирал он бусины, подошел и в окошко глядит. Ну, ведьма ввела девицу в горницу, а там кости человеческие так на полу и валяются. Девка, ясное дело, сперва в визг, потом в обморок. Ведьма ее на стол положила да за ножом пошла.
Парень не промах, смекнул, что к чему, подошел к дверям, постучал хорошенько и бегом к окну. Пока ведьма дверь открывала да кумекала, ктой хулиганит, парень в окно влез, девицу на плечо и бежать. Увидала ведьма, выругалась матерно и в погоню!
Парню тяжело, он же на своих двоих, да еще и дуру эту тащит. А ведьма бодренько бежит, ноги так и мелькают. Чувствует, что догоняет, так и руками загребать стала. Понял парень, что не уйдет. Развернулся, сжал кулаки. Девица очухалась и опять в обморок бухнулась. В тот же миг ведьма на парня и бросилась. Он руками, а она клыками. Рычит по-волчьи, когтями одежду рвет, вот-вот до горла доберется.
В ту пору шел мимо казак. Штаны синие, лампасы красивые, ремень скрипучий, сапоги блестючие, на боку шашка, на голове фуражка — красавец мужчина!
Глядит, в пыли на дороге смертный бой идет. Смикитил он, что к чему, выхватил шашку, а куда рубить? Они ж так быстро катаются — где чья рука, где нога, не разобрать. Вот тут-то вдруг от натуги юбка на ведьме лопнула, и показался на свет маленький поросячий хвостик! Изловчился казак да как плюнет ведьме на хвост!
Взвыла она дурным голосом и рассыпалась черным пеплом по ветру… Парня с девицей потом обвенчали, честным пирком да за свадебку. Ну, и казака пригласить не забыли, уважили.
P.S. Почему ведьмы умирают, если им плюнуть на хвост, я, честно говоря, и сам не знаю… Но эффект поразительный!
Царевна
Жил-был царь. Неглупый, общительный, и было у него большое горе. Дочь.
Овдовел он рано, со всех сторон дела, войны, интриги, забот полон рот, так оно и вышло, что воспитанием царевны отец-государь не утруждался. В результате такая дочь образовалась — оторви и брось! Нет, внешне хоть куда — коса ниже пояса, глазищи зеленые, брови сурьмленые. Что спереди, что сзади — округлой благодати. И глаз радует, и в руке подержать приятно. Но вот характер… Горда, заносчива, высокомерна, другие люди для нее ровно мартышки какие. Слова не скажет, взгляда не кинет, пальцем не пожестикулирует. Лед баба!
Однако настала пора царевну замуж выдавать. Царь-батюшка и так, и эдак, и на хромой козе, и с пряником — ни в какую заносчивая дочь родителя не уважает. От разных европейских домов лица королевской крови сватались… и всем от ворот, попутным ветром, обратным курсом. Раз по осени даже африканский принц на верблюде заезжал, так не поверите, и ему отказала! Царь нервный стал, чуть что — в слезы.
В ту пору шел по улице казак. Усы сивые, нос красивый, шашка трень-брень, фуражка набекрень, грудь колесом — молодец молодцом! Видит, на подоконничке царь стоит, петлю на гардины ладит, и лицо у него такое грустное… Пожалел казак царя:
— Помилуй, батюшка-государь! Не лишай нас своего светлого правления. Скажи лучше, какая нелегкая тебя до такого паршивого состояния довела? Глядишь, и поможем твоему горю.
— Дочь не могу замуж выдать… — всхлипывает царь и нос рукавом парчовым утирает.
— Всего-то?! Ну, это дело поправимое. Найдем твоей кровиночке суженого по сердцу.
— Дык она же всей Европе понаотказывала! Международная обстановка — хуже некуда, того гляди, все единым фронтом войной пойдут… Побьют же! — в голос заревел царь, а казак его утешает:
— Не убивайся так, твое величество. Побереги себя для отечества. А за дочь не беспокойся, это мы быстренько устроим…
Ну, подписал государь грамоту, чтоб на одну неделю все казачьи указы как лично царские исполнены были. А казак время не терял, депеши во все концы слал, заново женихов сзыват и всем твердо поручался за всенепременную женитьбу. Вот уж и гости на дворе, ждут, знакомятся, водку кушают. Царь в перепуге от такой авантюры на валокордине сидит, а казак всех незамужних барышень, ближних к царевой ветви, во дворец согнал. Привел царевну в центральную залу, приказал раздеться догола и на стульчик усадил. А ей на все плевать, у нее высокомерие. Казак туда же и боярышень, в тех же костюмах, то есть с бусами да в серьгах, загнал и в рядок выставил.
Девки как на подбор, высокие, статные, плечи покатые, бедра грузные, груди арбузные, мертвый взглянет, и то встанет! Стоят, смущаются, краснеют, а царева указа ослушаться боятся. Тут казак двери распахивает и во всю глотку орет:
— Эй, принцы-королевичи! Кому нужна жена ладная да пригожая, выбирай любую!
Бедная Европа аж обалдела от счастья. Весь товар налицо! Принцы уж о царевне и думать забыли, хватают, кто за чем пришел, а у входа уже и поп венчает, и шубу невесте, и приданое от казны, и удовольствие полнейшее. Войны не будет — это факт!
Царевна глазами хлоп, хлоп… Да и разобрала ее банальная бабская зависть — да что ж я, никого как женщина не интересую? Обидно ей стало. А я как же?! Я тоже замуж хочу! Спрыгнула со стула да бегом принца али королевича ловить. Поймала-таки! Невзрачный мужичонка, раджа индийский. Он и вообще проездом был, так, одним глазком заглянул ради интереса. Ну, вот его-то и захомутали.
Молодых после свадьбы с почетом в Индию отправили, а казака царь при себе первым министром оставил. А что? Казак ведь, он не токмо шашкой махать, он и головой может. Царь на него не нарадуется, поскольку политик — зело тонкий…
Как черт с казаком в шахматы играл
Шел по улице казак. Людям улыбался, воздухом дышал, усы крутил — моцион, одним словом. Вдруг видит в одном из освещенных окон — столик стоит, а за ним черт сам с собой в шахматы играет. Не стерпел казак! Как же это можно мимо живого черта пройти и в рыло не заехать? Не по-христиански как-то получается…
Вошел он во дворик, нашел дверь, шагнул в прихожую. Еще раз пригляделся. Все верно — комната с фикусом, патефон в углу, а за столиком натуральный черт в полосатом костюме и штиблетах.
— О, заходи, дорогой казак! По лицу вижу — драться пришел. И что это у вас за манера такая, чуть где черта увидали — сразу в амбицию?!
— Ах ты, нечисть поганая! — говорит казак, а сам уже рукава засучивает. — Да если вас, так через эдак, не бить, то, глядишь, вы всей Россией править вздумаете.
— Ни-ни! — успокаивает черт, но двигается так, чтоб меж ними всегда столик с шахматами был. — Зачем нам такой геморрой? Давай-ка лучше в шахматы сразимся. Игра мудреная, заграничная, всеми военными весьма почитаемая. Сам граф Александр Васильевич жаловал…
— Суворов-Рымницкий! — догадался казак. — Ну, тогда расставляй. Да только ваше рогатое племя просто так не играет — что ставить будем?
— Душу.
— Не нарывайся!
— Понял, понял… — повинился черт. — А давай фуражку казацкую. Синий верх, желтый околыш, лаковый козырек! Можно примерить?
— Вот выиграешь, тогда и мерь! — обрезал казачина и покрутил усы. — А ты ставь хвост в мясорубку, если моя возьмет.
— По рукам!
Засели за игру. Черт бутылочку принес, тяпнули за знакомство и начали.
На десятом ходу у казака меньше половины фигур осталось. Обидно ему рогатому проигрывать, да что сделаешь? Изловчился казак, плеснул себе и супротивнику, а пока черт водку пил, взял да и свистнул у него ферзя. А чтоб вражина не заметил чего, он этим ферзем свою стопочку закусил… Через два хода черт — тык, мык, где фигура?
— Съел, — честно отвечает казак.
— Не может быть, побожись!
— Вот те крест!
Пожал черт плечами, налил еще. Выпили, опять сидят, думают. Нечистому и невдомек, что казак вторую стопку его пешкой захрумкал. Зубы крепкие, организм закаленный, главное, чтоб заноза в язык не попала…
— Да у меня здесь пешка стояла!
— Где ж она?
— Ты шельмуешь, казак! Куда пешку дел?
— Съел!
— Врешь! Побожись!
— Вот те крест — не вру! Съел я ее!
Бедный черт аж пятнами пошел. А игра уже не в его пользу. Ход за ходом, зажал казак черного короля в угол. Понял черт, что проиграл. Добавил для храбрости и попросил:
— Вижу, что подфартило тебе. Но будь человеком, расскажи, на каком ходу ты моего ферзя съел?
— Не помню… — честно закашлялся казак, постучал себя кулаком в грудь и сплюнул горсть опилок. Посмотрел на него черт, подумал, и счастье догадки озарило его лицо.
— Чтоб я еще раз с вашим братом взялся в шахматы играть — да ни в жизнь! — заключил нечистый и грустно пошел за мясорубкой…
ЕЛЕНА КЛЕЩЕНКО Цыганская кровь
Князь Георгие встал из гроба. Выругался, зацепясь манжетой за пыльную крышку. Что поделать — слуги в подвал не наведываются его же собственной княжеской волей…
Столь же пыльно было и в узком проходе потайной лестницы. Зато в верхних покоях все сияло чистотой. Холопы вольны догадываться и держать свои догадки при себе, но избранницы, попадающие в эту спальню, не должны питать никаких подозрений — до поры… Посему решительно все здесь, от белого полога над ложем до венецианского зеркала и ночного сосуда, — все было именно таким, каким и должно быть в спальне светлейшего князя.
Контраст между показным великолепием всех вышеназванных бесполезных предметов и многовековой грязью в любимом обиталище хоть кого взбесит, и поэтому владелец замка после захода солнца обычно пребывал в дурном расположении духа. Он хлестнул камердинера по морде белоснежной рубашкой с запачканным кружевом, изодрал когтями в клочья полдюжины батистовых платков и яростно щелкнул зубами на кудрявую болонку, приветствовавшую хозяина веселым визгом. Да не подумает читатель о князе дурно — от песьей крови у него делалось несварение желудка, и его любовь к Фифи была бескорыстной. Как всегда, его позабавил яростный лай маленькой собачки, увидевшей его зубы. «Ну, не сердись, милочка, больше не буду. Пора к цыганам».
Уже не первое десятилетие специалисты в области современной низшей мифологии пытаются разрешить вопрос: почему вблизи замка, принадлежащего вампиру из знатного рода, всегда обретается цыганский табор? В самом деле, вероятность случайного совпадения весьма мала. Всегда и везде, зовут ли вампира Влад или Страд, в нашем мире или в параллельном, или в параллельном параллельному — где он, экстравагантный господин, любитель ночных прогулок, там и они, со скрипками, шатрами и буйными плясками! Высказывались различные предположения, призванные обосновать эту зависимость: болезненное тяготение души, закосневшей во зле, к романсам и скрипичной музыке; преступная связь на почве похищения белых младенцев; шпионаж цыган в пользу вампира. Странным образом, ни в одной из работ не присутствует простейшая гипотеза.
Цыгане для вампиров — источник пищи.
Всякий знатный вампир рано или поздно (обычно лет этак за сто-полтораста) приходит к убеждению, что пить кровь из подданных следует лишь в переносном смысле, как делают все добрые господа: налог со свиньи, с дома, с дыма, право первой ночи, а также всех последующих… Если же в деревнях вокруг замка беспрестанно чахнут и умирают поселяне и если ваши владения не очень велики (а управлять большой страной исключительно по ночам куда как трудно!) — рано или поздно неблагодарные смерды попытаются использовать не по назначению вилы, топоры, а то еще, чего доброго, и остро заточенные колья из тына. Князь Георгие когда-то собирался приказать управителю, чтобы все эти тыны и частоколы были заменены на плетни, но потом устыдился собственной слабости.
А цыгане — это дело другое… Почему бы господину, в чьих жилах течет благородная кровь, не гулять до рассвета с цыганами? Кто его за это осудит? Менее всего сами цыгане. Они люди свободные, но бедные. Когда дети болеют и умирают, это, само собой, плохо. А когда в таборе гуляет настоящий князь, который за все платит золотом, за гадание ли, за пляску, за кружку вина — за все по золотому дает, а серебро, буде принесет усердный корчмарь, швыряет кому попало, жжет оно ему руки!.. — когда такое счастье привалит, это очень хорошо. Только дети — они, сопливые, у бедных людей всегда болеют, а настоящие господа не часто попадаются. Вот и стоят изодранные шатры на крутом берегу речки, в виду белых башенок замка. Один табор откочует восвояси, выгнанный упорным поветрием, — другой заявится. А если не заявится — ну, тогда уж поболеют крестьяне, не все им пироги с краденой дичью трескать!
— Сколько раз говорить тебе, барон, — не жри чеснок, не переношу этого запаха! — Как и подобает лишенному дыхания и биения сердца, запахов князь не различал. Вернее, для него это не было запахом, но ядовитые эманации чеснока болезненной дрожью проникали в самые кости, будто пила пьяного полевого хирурга.
Князь был весьма не в духе, не с тем он пришел этой ночью, чтобы пить вино и слушать вранье. Луна шла на убыль, и ему вообще ничего не хотелось — утолить бы голод да вернуться домой, валяться на софе в библиотечной зале, перебирать струны лютни…
Долговязый, сонного вида мужик с вислыми усами — вожак табора («барон» на их воровском языке) спокойно присваивал себе созвучное титулование. В прозвище «цыганский барон» пополам насмешки и почтения, и это разумно.
— Прости, пресветлый князь, — меланхолично ответил он, отворачиваясь и прикрываясь ладонью. — Не ел, клянусь матерью, — вчерашний бродит. Прикажи, побью бабу, пусть больше похлебку не приправляет!
— Оставь, — буркнул князь. — Говори, что тебе нужно!
— Потрафить хотел, — сообщил барон, разглаживая усы и помаргивая.
— Ты, пресветлый князь, красивый собой, удалой, сильный, на дары не жадный, а все холостой. Оттого тоска у тебя. А сестренка моя все о тебе спрашивает. Слово только молви, разгонит твою тоску. А уж подаришь ее, чем захочешь, талан для нее не золото, не алмазы, а ты сам, князь. Понимаешь?
Князь Георгие возвел очи горе и скривил губы. Ему не нравились цыганки. Они не моют шеи. Они жрут еще больше чеснока, чем барон. Они носят дутые серебряные кольца и при этом постоянно хватают за руки… нет, нет! Не по извращенной жестокости он предпочитал цыганских детей. Дети, по крайней мере, не таскают на себе безделушек из этого мерзкого металла.
— Сестренка, верно, на тебя похожа? — кисло улыбаясь, спросил он.
Барон расхохотался:
— Ох нет, пресветлый, нет, зачем говоришь? Красавица она, из королев королева! Поглядишь, какова, смеяться не станешь!
Князь поставил полную кружку на расстеленный плат и поднялся, отряхивая полы.
— Ну, поцелуй ее от меня. В другой раз, как к вам приеду, может быть… А теперь ухожу, поздно уже.
Провалился бы в преисподнюю этот выжига со своей сестренкой вместе! Откуда он взялся на мою голову, как выследил? Теперь притворяться, что уехал, потом возвращаться нетопырем, а ночь коротка. Поиграешь, пожалуй, на лютне…
— Что такое?! — Барон живо вскочил на ноги, забежал вперед и воззрился на него.
— Или сглазили тебя, золотой? На что и ночь, как не на веселье? Стой ка, глянь на меня! — Выпуклые воловьи глаза встретились с ледяными серыми; барон как ни в чем не бывало продолжал говорить: — Зачем тоскуешь, зачем вина не пьешь? Или вино мое невкусно? Ай врешь, пресветлый: господарь пил — господарь хвалил, бояре пили — бояре хвалили! Все тоска твоя горькая, точит тебя, скоро ни есть, ни пить не сможешь!.. Изволь-ка нагнуться, бриллиантовый, я занавеску приподниму…
Князь Георгие замер на полушаге. Он, оказывается, вместо того чтобы идти к дороге за рощей, направился к шатру и теперь собирался ступить в темный вход, завешенный рогожей. Тысяча кольев мне в глотку — вонючий смертный отвел мне глаза, применил ко мне чары! Меня попытался обморочить! МЕНЯ! Да ты, паршивый мерин, еще висел в тряпичном узле на горбу у твоей потаскухи-матери, когда я манием руки останавливал бегущего! Да ты ведаешь ли, что я сейчас с тобой…
— Привел его? — пропел голос, какого не бывает у женщин других племен, — звучный и в то же время будто исходящий из детской, а не женской груди. В душной темноте, пропитанной все тем же чесночным смрадом, светились рыжие глазки жаровни. Сальная свеча затрещала, разгораясь, косматый клубок на полу развернулся и оказался женой барона, широкомордой и узкогубой ведьмой; она скользнула к выходу, за спину князя, и он понял, что стоит уже в шатре.
— Ну, здравствуй, — сказала девица. Она поднялась с колен, подобрала подол, обходя жаровню, и отвела волосы с лица. Чего и следовало ожидать… Князю случилось однажды видеть королеву, так вот баронова сестрица совсем на нее не походила. И не была она ни хорошенькой, ни даже молоденькой — впрочем, свет от низко стоящей свечи изуродовал бы и Елену Прекрасную. И не одеваются королевы в юбку лохмотьями и в бахромчатую шаль… и не стоят с таким наглым видом, когда шаль соскальзывает с голых плеч и падает, падает под ноги…
Нет, она таки была недурна. Опущенные ресницы длиной в ноготь не дрогнули, когда она звонко хлопнула в ладоши и раскинула руки; судорога прошла от плеча к плечу, и круглые груди мелко затрепетали, как бубенцы на конской сбруе, и в самом деле что-то на ней зазвенело — должно быть, монисто, воистину королевское украшение: мелкие монетки на цепочке да сухие ягоды на нитках, обмотанных вокруг тоненьких запястий.
Князь на мгновение забыл свой гнев. Нет, не то чтобы его в самом деле прельстила эта немытая девка… но зрелище, несомненно, стоило внимания. Миг или два, пока она заводила руки за голову, он смотрел, как приподнимаются дрожащие груди, — и опомнился только тогда, когда расстегнутое монисто обвилось вокруг его шеи.
Он сумел удержать рев бешенства и боли в бессмысленной надежде, что это было случайностью. Двадцать пять серебряных грошей впились в его кожу каплями кипящей смолы. Мутилось в глазах, и он оседал на землю. Проклятая шлюха, обежав его, оказалась сзади, он чувствовал ее руку, держащую цепочку.
— Ай умница, девочка, — послышался знакомый голос. Барон и его жена уселись перед ним, поджав ноги, и любовались, как он корчится и запрокидывается, падая навзничь, не в силах сбросить жгучие капли.
— Дочка моя меньшая хворает, пресветлый князь. — Слово «пресветлый» барон язвительно подчеркнул. — Вот как привязалась злая хворь, даже наши бабки помочь не могут. Может, монисто ей надеть такое же? Что молчишь, пресветлый?
Откуда я знал, что это твоя дочь, чуть было не сказал князь Георгие; досуг мне разбираться с цыганятами, дочка ли, сыночек, и чьи они… Но боль еще не вовсе отняла рассудок.
— Что ты надоедаешь мне со своей дочкой? Лекарь я тебе?!
Попытка была напрасной. Голос прозвучал дико, глухо и сорванно, и даже в свете свечи было заметно, что аристократическая бледность князя пошла трупными пятнами — с серебром не шутят. Барон неторопливо разломил луковицу чеснока, очистил один зубец, бросая шелуху в жаровню, отправил его в рот и тщательно разжевал. Тело вампира сотрясали корчи.
— Ты не лекарь, пресветлый князь. Ты та самая хворь и есть. Мудри с боярами да с холопами, а цыгана не обманешь. Мне бабка сказывала о том, кто живет чужой кровью. Есть такому шесть примет: прекрасен собой, да кровь на щеках бела; лют до женщин, и которая с ним слюбится, та скоро умрет; золото ему вместо солнца, и днем не кажет лица; луна — его серебро, и не коснется гроша, а коснется — сгорит; опричь серебра боится чеснока, осины да боярышника; и где он, там погибель. Точь-в-точь ты, пресветлый, — а? Только осины еще не испробовали. Да и не надо осины, сгодится серебро, твое же золото на него разменяем. А на крайний случай поможет солнышко…
— Гореть будешь, сатана, — пообещала баронесса, не хуже пленника оскаляясь и показывая когти. — Как дерево гореть будешь, дочерна сгоришь!..
— Молчи, — сказал барон. — Хватит нам говорить. Пусть теперь он говорит.
— Что вам от меня нужно? — процедил князь, обнажая клыки; боль разрасталась, проникая в самые кости.
— Хорошо. — Барон, благоухающий чесноком, наклонился к нему со свечой.
— Говори, что делать, чтобы дочка была здорова!
— Убейте меня, — шевельнулись губы над клыками. «Если тебя пытают несведущие в пыточном деле, признавайся сразу в том, что хочешь скрыть, ибо они неминуемо сочтут ложью первое сказанное». Старый еретик, как обычно, оказался прав: барон недоверчиво нахмурился.
— Она выздоровеет, если ты умрешь?
— Попробуйте и узнаете, — чувствуя себя на верном пути, князь сумел усмехнуться. Маленькая удача как будто разжала жестокие тиски боли, телесные и душевные силы отчасти вернулись к нему. Теперь он заметил, что раскаленный ошейник в одном месте истончается и сходит на нет, что он, собственно, почти разорван. Это был шанс, который надлежало использовать с умом.
— Смеешься над нами, тварь, — говорила меж тем баронесса. — Скоро перестанешь смеяться, когда глаза твои поганые вытекут. Я за мое дитятко сама из тебя душу проклятую выну, вот этими руками! Говори правду!
— Отпустите меня.
— Хэ, — сказал барон. Девица за спиной у князя тоже испустила смешок и накрутила цепочку на палец.
— Больно… Не могу говорить… — Князь очень надеялся, что его лицо не выражает ничего, кроме предсмертного распада.
— Это не боль, бриллиантовый, это половина боли, — ласково проговорил барон. — Боль будет, когда я вот этот кошель над тобой развяжу… понимаешь? Ты уж потрудись себе же на пользу…
— Добро… я скажу… сейчас… — Князь пробормотал несколько невнятных слов: цыган, как и ожидалось, наклонился ниже, стараясь расслышать, и тут он рванулся — и разорванное монисто опрокинуло девчонку навзничь!
— А, чтоб ты сдох! — глухо вскрикнула она, имея в виду не столько вампира, сколько скаредного дарителя, подвесившего серебряные монетки на посеребренную медную цепочку. Барон захрипел, придушенный холодной рукой; женщины шарахнулись, но вторая рука князя Георгие оледенила их члены, заперла дыхание и крик заклятием дурного сна.
Бросив заклятие, князь вытащил из кармана платок и провел им по горлу, стирая ожоги и раны, — проклятая цепочка резанула, как тупой нож. Брезгливо осмотрел батистовый лоскут, уронил на пол и ободряюще улыбнулся своим обидчикам. Сине-багровому барону было уже все равно, зато обеих женщин так поразил ужас, что и заклятие, пожалуй, было излишним.
Ну вот, по крайней мере, голодным нынче ночью он не останется. Трое не в меру ловких цыган сами подписали себе приговор. Вожака с женой придется прикончить здесь, а девицу можно будет взять в замок… разгонять тоску.
Теперь он мог позволить себе и рассеянность, и некоторую задумчивость. Полуобнаженная женщина, такая же беспомощная и униженная, как если бы ее держали двое дюжих лакеев, — что, кстати, ей предстояло в самое ближайшее время, — справилась с ужасом, губы ее растягивала дерзкая усмешка. Странное дело, только теперь при взгляде на нее пришло воспоминание, давнее, но необыкновенно отчетливое. Лет семьдесят тому назад. Сморщенные, темные ягоды бересклета, нанизанные, как бусины, на черную нитку. Девчонка лет двенадцати или четырнадцати… О, да — та, что не испугалась! Я ее не убил, но сейчас она, конечно, мертва или старая старуха… А, чтоб мне дождаться рассвета — это же их бабка! Цыгане уходят и приходят на старое место, и вот вы, ваша светлость, уже герой их сказок!.. А внучка-то похожа на бабку, да и внук похож, та тоже была тощенькая, как лягушка. Так вот как мне аукнулось добро. Доверился ей, оставил жить… сказки сказывать детишкам.
Додумать до конца он не успел. Что-то было не так. Нет, баронесса по-прежнему корчилась на месте, открывая и закрывая рот. А вот девка опустила руки со стиснутыми кулаками и клонилась вперед, пытаясь шагнуть. Этого не могло быть, но это было. Барон держался за его руку, пытаясь освободиться от захвата, этого тоже не могло быть — но и это было… На князя накатила дурнота, прежде не испытанная.
Да нет же, нет — чеснок, серебро… они люди, живые, смертные!.. И тут его хлестнули по лицу будто огненной плетью.
Сухие черные ягоды на нитках, которыми украсила себя эта девка, были не бересклетом, а боярышником. Теперь князь убедился, что цыган не зря назвал боярышник третьим после осины и чеснока.
«Ав орде, на дикх!» — Сквозь боль и дурноту пробились слова. Их убогое наречие он научился неплохо понимать еще век назад — барон приказывал своим бабам не смотреть на него, князя. Разумно. Едва ли в эту минуту он являл собой подходящее зрелище для дам.
— Что с ним теперь будет?
— Сказано — он перестанет быть.
— Но мы только внуки.
— Отец наш был сыном.
— Чьим сыном? — простонал князь. С ним происходило что-то странное. Капли текли по шее. Кровь? Чья?.. Ладонь осталась чистой.
— Но если он помрет, — голос жены барона отвратительно вонзался в уши, — что будет с дочей?
— Не знаю. Может, правда, что надо его убить?
— А если нет?
— Он не умрет. — Это сказала сестрица, ее гортанный детский голос. — Я дам ему кровь.
— Стой, дурная!
— Отстань.
Теплые пальцы — он чувствовал их тепло — толкнули его в щеку, коснулись губ: шершавая ладошка, запястье… кровь, много крови. Но первый же глоток отозвался судорогой во всем теле.
— Что, дед? — Голос исполнен дрожи, будто дунули в пустой кувшин. — Худо? Ничего, потерпи.
Все трое засмеялись.
— Да ладно ли?..
— Ничего. Он больше не мулло.
Князь снова оскалил зубы, пытаясь напряжением мышц унять судороги — безуспешно.
Он никогда не придавал значения их суевериям. Просвещенный дворянин XIX столетия (а князь был превосходно знаком и с французской наукой, и с немецкой философией — долгими зимними ночами у него только и было занятий, что чтение) может ли всерьез принимать предания темного дикого народа, который поклоняется луне, наковальне, детородному члену и дурацкому многоглавому котопсу?! Как у холопов князя, как у любого народа, были и у цыган предания о кровососущих мертвецах, что получаются, само собой, из неправильно похороненных покойников. Как и у любого народа, на сотни глупых выдумок приходилась горстка бесспорных истин, каковые барон только что вкратце изложил князю. Не упомянул лишь одну маленькую подробность, которой не было в преданиях других народов.
Вампир-мулло из цыганских сказок, ложась с женщиной, мог сделать ее матерью. Дети, происшедшие от этого союза, имели власть истреблять вампиров.
Князь Георгие всегда относил это к глупым выдумкам. Он не полагал это возможным, потому что этого быть не могло. Положим, время от времени его и впрямь интересовали сами женщины, а не только их кровь. Бывало такое, он знал, и с другими. Однако женщины вампиров никогда не становились матерями, они становились покойницами или вампирами же. Неужели та девчонка… Но, правду сказать, он толком не помнил, что произошло семьдесят лет назад между ним и девочкой в ожерелье из сушеных ягод. Только ли вскрытие жил, беседы и снова упоение горячей кровью… или же упоение другого рода?
Судороги стали слабее, зато чаще. Словно удары. Как будто билось что-то запертое у него в груди… Как будто?!
Он сел, тряхнул головой. Провел ладонью по лбу, освобождая лицо от волос, пропитанных потом. В глазах теперь было ясно, как если бы здесь горело шесть свечей вместо одной. Он оглядел всех троих, задержал взгляд на девице, перетянувшей лоскутком порезанное запястье, но так и не прикрывшей соски. Попытался засмеяться — и подавился воздухом.
Воздух резал легкие, ударял в голову. Едкий чад от жаровни, запахи пота, распущенных волос, чеснока…
Чесночка в каком-то теплом вареве!
— Умираю… — пробормотал он. — Умираю с голоду. Мерав тэ хав… щавале… щейорра!
В шатре воцарилась полная тишина. Должно быть, бабка не объяснила внукам, как именно «перестанет быть» поверженный вампир. Может, она сама этого не знала. А теперь не все ли равно?
— Что у вас в том горшке?
Над горшком поднимался парок. Князь вздернул рукава до локтей, сильнее порвав манжеты. Цыгане почтительно наблюдали, как вампир поедает вареную баранину, круто посоленную, с целыми зубцами чеснока. Будто не ел триста лет.
Холопы князя были в смятении. Его светлость вернулись за три часа до рассвета, сразу заперлись в кабинете и через некоторое время уехали, вместо того чтобы отойти на покой, — чего ни разу не случалось на памяти старейших слуг. Уехал князь на кровном жеребце, другого жеребца и двух кобыл конюхам было велено отогнать в табор. Более ни князя, ни лошадей никто не видел. К великому разочарованию наследника — правнучатого племянника князя Георгие, — из замка исчезло все золото. Спасибо, хоть ценные бумаги остались на месте.
Пришельца барон именовал «братом», и то сказать, «дед» звучало бы чудно: светлоглазый «гаже», нецыган, казался его однолетком. Бывший князь быстро усвоил обычаи табора: хоть и гаже, ни в чем не был хуже ромов. Говорили, что он на дух не выносил поножовщины и не любил даже, когда при нем резали кур. Впрочем, когда кто-либо смотрел не как следует на его жену бывал страшен, хоть и без ножа в руке. А маленькую дочку барона любил без памяти до самой своей смерти. Учил ее, говорили, изъясняться по-господски.
А много говорили о нем оттого, что он играл на скрипке. Хорошо ли играл? Да что толку рассказывать!..
Так играл, как будто жизнь — пустое и смерть — пустое.
ТЕХНОМАГИЯ
ЛЮДМИЛА И АЛЕКСАНДР БЕЛАШ Царевна Метель
Сказано: «Ловцы, пловцы и купцы домой не бывают»; это — истинные слова. Но велик соблазн дешево купить и дорого продать. Хаживал и я за прикупом в иные страны, привозил добра богато, кланялись мне в пояс, называли уважительно: «Здравствуй, Кудьма Горожанин, Бегунов сын!»
Когда же взял Бог жену мою Марфу, оставив в утешение трех дочерей, искал я в торговых странствиях не только прибыли, но и забвения — не мог долго жить в хоромине, где все ее помнит, ею дышит. В дальнем пути и познал я истину, с которой начал свой рассказ, а с ней и ту правду, что барышу наклад — родной брат.
Из Курска, затем вниз по Оке-реке через Резань и Муром — суда мои вошли в реку Итиль. Холм превысокий при слиянии Оки с Итилем многим ведом; чуть позже моего трудного пути князь Юрий Всеволодович поставил на нем Нижегородскую крепость для бережения от немирной чуди. Рекой сошел я в Булгар, где купля и продажа весьма выгодны, опаской миновал земли половецкие и до Хвалынского моря доплыл благополучно. Плыл морем до Дербента, далее в персидский Рей. Земли эти изобильны, правит ими царь Мухаммед, называемый хорезмшахом, а царская столица его лежит на восходе, у моря Хорезмского. Мытные сборы берут с торговых гостей немалые, однако проезжие пути здесь безопасны, их охраняет конная стража. Добрался я до города Исфахана, и до Ормуза, что лежит на теплом море, а за морем тем — земли аравитян.
Везде продавал и покупал с выгодой. Товары из ханьской земли и Хиндустана тут дешевле, нежели в Булгаре.
Тут Бог меня надоумил. Разделил я людишек своих, казну и товары надвое, и половину отправил под началом Истомы Дузя через Кандагар и Кабул в Термез, чтобы по Джейхун-реке, она ж Амударья, спустились они к городу хорезмшаха, а оттуда караваном шли к Итилю, где бы ждали меня. Сам же пошел обратно в Рей, дабы идти морем через Дербент.
Море не для людей дано, человек на море — гость незваный. Возмутилась против меня непогода, и от лютой напасти пристал я к берегу пустынному, чтоб переждать ветер. От лиха ушел, а к лиху и пришел — налетели, пуще ветра, тати, стали мои корабли бить и грабить. Были это огузы, иначе туркмени, никому не покорные кочевники, живущие разбоем. Стреляли мы в них из луков и самострелов, подожгли горшок с нафтой и под ноги коням кинули. За дымом пошли на вылазку с рогатинами, и бились крепко. Сняв одного вершника, смекнул я, что одолевают тати, вскинулся в седло и поскакал прочь вглубь берега, абы душу спасти. Там заросли и соленые топи. За мной не погнались — им нужней было добро захватить, нежели чужого человека с саблей.
Погодя вернулся я к кораблям. Пожжены, разбиты, все раскрадено, людишки мертвы или в полон взяты. Один вышел ко мне из прибрежных зарослей — толмач персиянин, именем Ибн ал-Гайб, раненный в руку.
— Одно тебе осталось, Кудима ибн Бегин, — искать милости и справедливости у хорезмшаха. Пади к его стопам, пусть покарает огузов. Меня же оставь, я не дойду пеший. Рана неглубока, но пустыня — алчный зверь, она высосет мою жизнь даже из малой ранки. Это — Туран, я же — из Ирана; здесь все против меня. В Ургенче, если Аллах соизволит, ты встретишь своего человека Истому.
Помог я ал-Гайбу соорудить жилье из корабельных досок, дал ему снасти для розжига огня — и призадумался. Зима выдалась мягкая; слышал я, что Хвалынское море едва замерзло близ устья Итиля, а Хорезмское море даже ледком не подернулось, но зима есть зима, без тепла и крова не прожить… Решил идти. Прежде, чем отправиться, выспросил ал-Гайба о пути. Он, наевшись рыбы, отудобел и рассказал внятно, в подробностях.
— От сих мест до Ургенча — сто фарсахов, десять дней верхом, если конь сыт и здоров. Значит, считай для себя две седьмицы, не меньше. Туда ведет Узбой — старая река, зимой она сильно мелеет, и вода в плесах становится гиблой, соленой. От колодца Бала-Ишем до колодца Додур, дальше колодец Кара-Хасан. Тропы покажут, как ехать. Берегись людей, ибн Бегин, а больше берегись Гульмазара. Ты узнаешь его по свету в небе.
— Что такое — Гульмазар? Чем он опасен?
— Там живет шайтан. Сам я Гульмазара не видел — хвала Аллаху! — и видеть не хочу. Караван-баши говорили — это гнездо скверны и морока. Сам Ахриман его построил. Гули, дэвы и джинны облюбовали его. Увидишь, как играет свет на тучах, — сворачивай в обход, тогда нечисть тебя не коснется.
Смастерил я рогатину, заточил и обжег острие на костре, взял рыбы, сулею и бурдючок с водой — прощай, ал-Гайб, будь удачлив.
Ехал трое дней по Узбою — глинистые берега, сквозного русла нет, едва ручьи из плеса в плес переливаются. Ночлег устраивал под берегом, жег саксаул, пек на нем рыбин. Коню корм и питье добыть — вот была задача! Туркменского конька я полюбил — моя надежа, без него рой могилу. Зима — хмарь, низкое небо, ветер свищет, снег метет — и тает. Утром встану, помолюсь Богу, из солоноватой лужи лицо омою — и дальше.
В четвертый день к вечеру завиднелось на небе мерцание, ровно отсвет от пожара. Вспомнил слова ал-Гайба — а не свернул. Манит к себе, влечет и блазнит… будто бес нашептывает: «Дойди дотуда, погляди!» Конь фыркает, сполохи на тучах то смеркнутся, то ярче станут, а по ветру снег летит редкими хлопьями.
Снег, а может, и не снег. Хлопья крупные, сероватые, порхают и на землю не ложатся. Протянул ладонь поймать их — руку облетают, завьются и взмывают ввысь, как мотыльки.
Страх меня пронял — или прав был ал-Гайб, и надо бежать от Гульмазара? Со страхом пришла и душевная крепость: «И что я, муж-курянин, боем от татей ушедший, да какой-то шелухи летучей убоюсь?»
Так, исполнившись гордыни, поехал я в ту сторону, где небо рдело, дрожа.
И увидел Гульмазар.
Бог весть, чего я ждал, — но ожидания были обманчивы. За берегом Узбоя, за холмами, за тощими ветвями саксаула мне открылась глиняная логовина, посреди которой — четыре строения, с виду и впрямь похожие на магометанские мазары с куполами, покрытые затейливой резьбой, а между ними — то ли церква, то ли минарет, вроде башни, у подножия широкой, вверху узкой. Цвет всех строений был сродни глине, на какой они стояли, будто бы они из этой глины выросли, словно грибы. И ничего здесь не светилось, как казалось издали; Гульмазар был тусменным и темным. В воздухе над башенкой и куполами виднелись те же хлопья, носящиеся то мелкими тучками, то частой россыпью — без шума, без звука. Неопадающий снег — виданое ли дело?..
Ни души человеческой. Съехав по склону логовины, я приблизился к ближнему мазару — точно, вход в него есть, закругленный сверху аркой, а двери нет — пустой проем, в нем тьма.
Спешился я, перекрестился на пороге, кликнул:
— Есть тут кто живой?
Звук голоса заглох в подкупольном мраке. Оглядевшись, я заметил на земле как будто след босой ноги, но наклоняться и осматривать его не стал. Коли нет запрета — можно и войти. Коня привязал у двери к выступу вроде крюка; таких крючьев и скоб было немало, иные вели рядком к верху купола.
Внутри оказалось светлей и теплей, чем я думал, но свет серый, как на самой ранней заре, что персияне зовут дум-и-гург — «волчий хвост». Под сводом — как такой возвели? великое надо умение!.. — над полом возвышались кругом шесть куполов меньших, а в круге вниз вела дыра с пологой лестницей. Я сошел по ней, шепотом призывая Господа Бога — «Спаси, сохрани и помилуй!» — а там…
Может, и не по-христиански это, но уютно, как раз усталому путнику впору. Лежак на полу, вроде тюфяка, набитого шерстью; рядом немалая чаша с водой, а на глиняном блюде — жареная птица, еще теплая. Так слюнки и потекли… Хлеба нет, но в скудости, которую я испытал, скача по Узбою, за это хозяевам пенять не станешь. Значит, приметили меня, поняли, что я в беде, гостеприимство оказывают.
— Благодарствую вам на еде и питье, люди добрые! — поклонился я на все стороны, не зная, где схоронились хозяева, а затем повторил, как умел, по-тюркски. — За харчи и постой отплачу вам по совести.
В кисе, что осталась на поясе, денег было немного — пять дирхемов, две дюжины даников и полгорсти медных фельсов, — но за ночлег отдать хватит.
Поев, я вышел посмотреть коня — и диво! — конек уже хрупал сеном, а рядом — глиняная корчага воды. Умилился я такой заботе, однако поглядел на землю — босых следов прибавилось. Хлеба не знают, зимой босыми ходят — что за люди живут в Гульмазаре? и люди ли?.. Серый неопадающий снег вился в сумеречном небе. Коня я завел в купол, пусть ночь в тепле проведет.
Лег спать, как в воду ухнул — без страха, с одною надеждой на Бога; саблю положил под тюфяк, рукоятью под руку, рогатину — рядом.
Проснулся — чаша полна водой, на блюде вместо объедков — свежая жареная птица. Напившись и умывшись, положил в чашу дирхем и три даника; плата изрядная. Поклонился на прощание:
— Спасибо вам за доброту и ласку. Не обидьтесь, что не лицом к лицу вас благодарю.
Но не стерпел я искушения. От малых куполов слышалось словно бы бессловесное пение, тихое-претихое, и в каждый куполок вела дверца со скобой. Я приоткрыл… о, чудеса! Пахнуло сухим жаром, а глазам предстало зрелище неописуемое — в черном мху, на высоком стебле полыхал живым светом лал, наподобие тюльпана; видно, что камень, — и не верится, столь он прозрачен и трепетен. Не знаю, как я руку протянуть осмелился. Помню, подумалось: «Вот бы Ульяше привезти, если Бог даст живым вернуться».
Стебель хрупнул, цветок-камень пал мне в ладонь.
Стон и рев раздался сзади, необоримая сила отшвырнула меня от заросли черного мха, бросила навзничь, и встал надо мной зверь не зверь, человек не человек, страшилище косматое с совиными глазами, заклокотало голосом, будто смола в котле; от испуга и боли я едва разбирал тюркские слова:
— Как ты посмел?! Я принял тебя как гостя, а ты — вор!!!
* * *
Опорный стержень накопителя был сломан, шестая часть моих трудов пошла насмарку. И все потому, что я ненадолго отвлекся на слушание известий от тучи — та отследила в двух фарсахах от Гульмазара отряд огузов. И шайтан был с ними, пусть себе скачут! Но я озаботился — конечно, из-за гостя. Показалось, что огузы его ищут. Я подумал, что можно атаковать и перебить туранских лиходеев, слишком близко они дерзнули подступить к дому царевны, и гость, выехав, окажется в опасности — и вот благодарность за мою заботу!
Одна тучка собралась за моими плечами, уплотнилась, как пчелиный рой, — но я бы и без нее сладил с пришельцем. Что мне его сабля и копье! Я выше, мои руки сильней, мои когти… я не совладал с собой, когти выдвинулись, блеснув остриями.
— Саргиз, не смей, — вторгся в бешенство моих чувств голос царевны. — Это моя вина; я не предусмотрела создать запоры на дверях камор.
— Но царевна! — возразил я мысленно. — Он разрушил твой накопитель силы!
— Вырастим новый. Нижняя часть стержня цела, питающие нити не повреждены. Успокойся, Саргиз.
— Он что-то бормочет. Я не понимаю этот язык.
— Так говорят за Итиль-рекой, на закате. Он уверяет, что сделал это нечаянно. Он готов заплатить за ущерб.
— Хоть бы он отдал все золото хорезмшахов, никто не вернет накопитель. Я убью его.
— Саргиз, он твой брат по вере, — напомнила царевна.
— Вряд ли он признает меня за единоверца… — буркнул я; желание убивать тем временем рассеялось.
— Обяжи его клятвой, — подсказала царевна. — Он не воин, а торговец; он сможет раздобыть тебе книги, которые даже мои тучи не в состоянии отыскать.
Да, книги… Хоть я и слуга царевны, я — Саргиз сын Якуба из Мерва, верный Церкви Востока. «Люди книги» — так зовут магометане и нас, и иудеев, и огнепоклонников; можно вспомнить еще расписные книги манихеев, по которым я учился красоте узоров.
Писание — такая же необходимая часть существования, как хлеб и воздух. Никакое небесное знание не лишит меня веры. Пусть земля — шар, летящий в бездне, пусть один из многих миров, где есть разум, что из того? Христос всемогущ, ему нет запретов и пределов.
Я начал осознавать смысл речей гостя — царевна шептала мне слова, услышанные в странствиях ее послушными тучами.
Возможно, я зря прежде не интересовался народом русов, живущих на северо-западе. Язык их непрост, но красив и звучен. Признаться, мысль моя устремлялась по пути подвижников, несших свет правой веры на восток; Мар-Тума, которого франки и румийцы зовут Святым Фомой, пришедший в хиндское царство Кочин и крестивший в Кранганоре царскую семью, патриарх Акакий, основавший первую епархию в земле Хань… я посылал туда тучи царевны и насыщался знанием.
Не без стыда подумал я о том, что в ярости хотел убить гостя. Проклятие пало бы на мою голову!
Но вольно или невольно гость повел себя недостойным образом. За это должна последовать расплата; так велит справедливость.
— У меня трое дочерей, — стенал коленопреклоненный купец, — как им прожить без отца? Матери их уже нет на свете…
Женщины. Царевна не сердилась на меня, когда я, истомившись без людского общества, отправлял тучу в Самарканд, Хиву или хорасанский Нишапур. Долетали стаи сухих снежинок и до Багдада. Каюсь, этим я умножал людские суеверия и порождал сказки о крылатых джиннах, в виде облака уносящих девиц, — но как иначе я мог найти себе собеседника? Прежде, чем пойти на похищение, я дважды честно пытался свататься — добром это не кончилось. Ни золото, ни бадахшанские рубины не могли примирить людей с моим обличием. Не помогал даже обет сочетаться браком по-христиански. Джинн-жених, верующий во Христа!..
И ни одна со мной не ужилась!
Царевна, видя мою одинокую печаль, некогда сказала:
— Саргиз, хочешь, я насыщу тело твоей избранницы нитями, и она станет как ты?
Я наотрез отказался. Мой облик — неотменное условие служения царевне, и, хоть он страшен, даже безобразен, в этом облике я неуязвим и могуч; таким и пристало быть мужу. Красота для мужчины — не главное, и иссеченный шрамами воин милей девицам, чем женоподобный юнец. Но лишать девушку ее природной красы — недостойное дело.
Я сделал одиннадцать попыток найти свою желанную. Может быть, на этот раз мне повезет?.. Не уверен. Достаточно взглянуть в зеркало воды, чтобы понять — я не пара никакой девушке. Хоть бы я жемчугом и янтарем рассыпался под ноги, не сотрется из ее очей мой страховидный образ.
— Ладно, — ответил я купцу на языке русов, — я сниму с тебя вину и отпущу, но при одном условии.
Условие, казалось, угнело его тяжелей, чем близкая смерть от моих когтей.
— Да как же… мне нельзя скрыть, кто ты и каков ты, господин зверь-человек! Не прогневайся, ни одна за тебя не пойдет по доброй воле. Разве силой привезти — но чем так, лучше я здесь останусь и кончину приму.
— Мне нужна не рабыня, а подруга. Пусть сама захочет поселиться у меня взамен тебя, а если все откажутся — вернешься ты, и я решу, как быть. Ты нанес мне большой урон, сломав… — Я задумался, как назвать кристалл, накапливающий силу. — Сломав драгоценный цветок, и я законно требую, чтобы ты возместил его.
— Скажи, во сколько раз больше золотом по весу ценишь свой цветок, — и я отплачу, клянусь Богом-Вседержителем. Дай мне три года сроку!
— Сколько бы ты ни дал за жену, она не воскреснет; так и цветок. Я не изменю своего слова.
Купец понурился, но, набравшись сил, дал клятву.
— …Но не раньше, чем я окажусь в Курске.
— Об этом не заботься — метель донесет тебя и вернется с той, кто решится жить у меня. Вот знак возвращения, — я велел немногим нитям выйти из меня и сплестись кольцом на пальце, после чего снял кольцо и вручил купцу. — Курск — где это место? — спросил я царевну.
— Это селение в четырехстах фарсахах от Гульмазара, за Хазарским морем.
«Значит, — подумал я, — туча с грузом покроет расстояние за время меньшее, чем от восхода до заката».
— Возьми, господин; это твое, — подал мне купец накопитель. пламенеющий от собранной в нем мощи.
— Отдашь той, которая окажется смелее прочих. Пусть цветок будет моим подарком.
К накопителю я прибавил большой ларец, полный золота — ханьские ляны, безанты, отчеканенные в Кустантании, хорезмские динары.
Возможно, следовало остеречь купца, чтобы кристалл не оказался в руках камнерезов — иначе от его Курска останется пепелище шириной в пять фарсахов, но я рассудил, что во всем мире нет резца, способного оставить царапину на оболочке средоточия силы.
Туча обволокла купца с поклажей и потянула его вверх, чтобы затем направиться к северо-западу. Памятуя, как холодно на высоте, я послал туче мысленный приказ — защищать летящего от ветра и стужи. Единственно, от чего я не мог его оборонить, — от страха; я помнил, каково было мне, когда я впервые взлетел без крыльев.
* * *
Зима — время учения. Тверди, запоминай и повторяй. Счет и грамота. Трудное это дело, и Третьяк строг, будто протодьякон. Мало ли что за ученье уплачено — Третьяк начальствует, как воевода; нет-нет и за косу дернет.
— Учи, Ульяна! Что по сторонам зыркаешь?!
— Больно! Я дядьке пожалуюсь, он тебя камчой!..
— Со мной рукоприкладствовать не можно, я лицо духовное. Не злобствуй, дщерь Кудьмы. Безмолвствуй.
Духовное! Таким духовным изгороди подпирать — и то за великую честь пойдет.
Закусила обиду медовой лепешкой. Ждан суется:
— Дай маленько, поделись.
— Завой по-волчьему.
Ждан рад угодить, взвыл; «У-у-у-у!»; Третьяк тут как тут — тресь его по загривку!
— И-и, язычник! На колени и молись!
Четки у Третьяка тяжелы, как кистень. Стоит, помахивает, а Ждан по-гречески бормочет. Чуть Третьяк отворотился, Ждан понес вполголоса иное:
— Отче наш, Перуне, иже еси на небесех, вонми гласу моления моего, порази громовой стрелой своею дьяка Третьяка, сущего в бозе дурака…
И еще бы раз ему досталось, но вошел в горницу дядька Жук — на нем лица нет, один испуг.
— Ульяша, поди со мной. Батька твой вернулся.
Как?! Его весной ждали, по полой воде!
Только в Курске и разговору было, что про возвращение моего родителя. Один-одинок, без коня, но с саблей, по пояс в снегу приволокся, таща каменный сундучок. Камень — не камень, ноздреват, легок и плавуч, как та каменная пена, что отец привозил в запрошлый раз, которой мы пятки трем после бани.
Приставали к нему родичи тех, кто с ним ушел, — где наши-то? Отвечал разное — тот татями у Хвалынского моря убит, другой о весне придет, ждите.
— За убитых я в ответе, — поклонился он людям. — Сколько с меня спросите, отдам золотом.
И сундучок открыл. Что там было!..
Ходили его след смотреть. От стены града — как пропахано, в двух стрелищах след прервался, сплошь снежное поле, ровнина. Спрашивали градскую стражу — как вышел, откуда?
— Никак, — отвечали. — При ясном небе пронеслась метель, склубилась и вихрем осела, тут его и завидели. А метель улетела, цветом вроде пепла.
Долю в княжью казну, на церкви, родичам убитых отец раздавал в спешности, будто избавиться хотел от злата… или от расспросов. Нас едва расцеловал — губы холодные, руки ледяные, в глазах пусто. Собрал нас под вечер к себе, а у ворот люд шумел, спорил и восклицал нелепое. Челядинцы следили, чтоб поджога не было. Народ смирен, но нравом как туча — в грозу все наружу выйдет, и доброе, и самое дурное.
— Дочери мои… — сумел он сказать, а после заплакал. — Грешен перед вами — не забыть, не замолить греха…
Слово за словом, через силу, поведал он о своем пути и о зароке, данном зверю-человеку. Из-за пазухи достал цветок-камень — кажется, уголь горящий из печи, а не жжется, тяжел и руку студит.
— Не выдайте, родимые.
— Цветок один, — сказала Марья, — для одной взял, одной вез. Кому? Она пусть и служит за отцов долг. Я — значит, я, а коли другая — то другая.
Людское сердце — потемки. Свидетелей их договора со зверем-человеком не было; которая не люба — ту и назовет.
Назвал меня.
Я ревела ночь и день, и еще ночь. Подниму глаза, увижу стены, чье-нибудь лицо — и опять реветь. Между слезами — и со слезами вместе — молилась, как исступленная, в крик. И Марья, и Пелагея, и нянюшка, и даже чернавка Рада — все со мной слезы лили, а приданое собирать не забывали, как полагается.
Замуж? за кого? за нелюдя степного и заморского?..
— И замужем живут, — уговаривала Марья, — и хорошо бывает.
Хотела в колодезь кинуться, но передумала — страшно в студеной воде тонуть. Задавиться бы не дали, глаз да глаз — так стерегли, и все начитывали, как Третьяк:
— За батюшка родного, Уленька, сам Бог велел пострадать! Ты не в своей воле, он тебя родил, вот и послужи, отдай долг дочерний.
Но косу расплести я им не дала. Сама расплету, когда час придет.
Пятого дня ввечеру вывели меня под руки на двор, следом Жук и Волк несли сундуки. Стоять я не могла, на сундук села. Отец снял с пальца волосяное кольцо, надел его мне. Тихо было, и в тишине надо мной закружилась метель. Дальше я не помню.
Очнулась в хоромине без окон, низкий потолок — как небосвод. В шубе жарко, а снять ее боязно — как в чужом доме раздеваться? Но страшно или не страшно, а обычай справлять надо: я встала и поклонилась на стороны, с дрожью ожидая, как из-под стены зверь выскочит.
— Здравствуй, господин мой, на долгие лета.
Слова растаяли в беззвучии, в ответ ничего, но на стене бегучим огнем написалось — буквицы вспыхивали и тускнели, ровно кто лучиной их выводил:
«Не господин я тебе, а послушный раб. Приказывай мне, и все будет исполнено».
Писано было с огрехами; Третьяк за такую писанину не похвалил бы, но суть я поняла, и на сердце малость потеплело. Может, и зверь это, но вежество знает, и даже умалить себя готов, чтоб гостью не обидеть.
Нет, если грамоте знает — не зверь. Зверь и умен, а не смыслен, речи не ведет, тем паче буквиц не выводит. На что уж медведь лобаст, но аз-буки не скажет.
Значит — человек. С человеком сжиться всяко можно, даже, говорят, с половчанином. И все равно жуть. Буквы огненные, хоромы круглые, свет без огня… Ну как и голоса людского впредь не услышу? И церква есть ли тут?
Нахлынуло на меня, я в плач. Слышу, как буквы с шорохом пишутся, а взглянуть ни сил, ни охоты нет. Отдали замуж в чужедальнюю, незнаемую сторону!..
* * *
Когда Ульяна впервые попросила Саргиза показаться ей, я вспомнила его просьбу, обращенную ко мне, — «Царевна, дай себя увидеть». Увы, я не могла исполнить этого. Моя внешность осталась за гранью, разделяющей варианты бытия. Здесь я была не больше, чем иудейский руах — дух, то есть сила, наделенная волей и разумом. Подчиненные мне предметы, те неживые существа, которых Саргиз называл нитями, метелью или тучами царевны, ничуть не отражали моей сущности, во всяком случае — не более, чем рык отражает цвет и фактуру шерсти льва.
Саргиз полагал, что телесно я живу в северном куполе, в Доме Говорящих Стен, но он давно свыкся с тем, что меня можно слышать и говорить со мной всюду. Неудивительно — он был наполнен чувствительными, питающими и преобразующими нитями.
Я с горечью думала о том, что вскоре оставлю его. Разве могла я помыслить, что стану сожалеть о расставании, когда падающей звездой обрушилась в этот юный и темный мир, крича от муки и обиды?
Я помню все.
Я не обязана была рассказывать Саргизу о своем прошлом, но надо было, чтоб он соотнес мою судьбу с привычными ему понятиями — ему так легче. Позже я поняла, что в мире Саргиза мне есть с кем себя сравнить — миниатюрные существа, называемые пчелами, обладали иерархической структурой, сходной с обществом, из которого меня…
Нет, разумеется, общего у нас и пчел мало. Но это сходство — принципиальное; семья выдвигает из своей среды личности, способные рождать и править. Раздел семьи, связанные с этим споры, конфликты…
…Наконец, битвы.
Старая царица приметила меня раньше, чем я вошла в силу. Круг моих сторонников был невелик, а я — слишком слаба; это определило исход сражения. Старухе хватило пяти боевых накопителей, чтобы исторгнуть меня из мира.
В культуре мира Саргиза есть описательный чувственный жанр «хождение по мукам»; это близко нашим «историям отверженных», с той разницей, что мы повествуем не о наблюдаемых, а о лично пережитых страданиях. Когда-нибудь и я внесу свой вклад в этот свод печалей и терзаний. Когда вернусь. Если вернусь.
Я нетерпелива? Может быть. Каждый раз, почуяв слабину в толще смещающихся пространственных слоев, я рассчитывала прыжок, который приведет меня домой. Просто так, без какой-либо надежды, но страстно.
Не сразу я приступила к сборам в дорогу.
Я упала в области, называемой Мавераннахр, или Согд, и некоторое время стягивалась во взрывной кратер, что возник при моем падении. Тогда мне не было дела до жителей мира; я торопливо преобразовывала грунт, формировала трубки в поисках воды настроила систему самозащиты, пока не уяснила, что бояться здесь некого.
Саргиз сам пришел ко мне, влекомый любознательностью. Стремление знать — верный признак незаурядной личности; я и сама такая.
Нуждалась ли я в помощнике? Видимо, да. И обдумывать, и воплощать задуманное самой — непривычный труд. Управление метелью отнимало много времени, хотя я смогла изготовить несколько несложных устройств, запоминавших мысли и отдающих тучам приказы. Но для точных действий требовался настоящий и верный мне разум.
Я обещала Саргизу долголетие, неуязвимость и огромные возможности познания. Как ни странно, он долго сомневался. Ему казалось, что мои дары лишат его возможности бесконечно наслаждаться после того, как он умрет; согласитесь, что в этом заложено неразрешимое противоречие — наслаждение после смерти!.. Я заверила его, что не покушаюсь ни на какую часть его естества.
Договорившись, мы перенеслись с метелью в более удобное место, где я построила укрытия и водокачку. Саргиз поселился в восточном куполе; в западном выращивались накопители для старта, а в южном — боезапас и батареи для повседневных надобностей.
К появлению Ульяны я заложила основу роста четвертого стартового накопителя и направила в нее по нитям стержня силу из запасных кристаллов южного купола. Оставалось ждать, пока четвертый созреет.
Я посвящала время наблюдениям за миром через тучи. Если бы я не отделяла себя от мира, то, вероятно, могла бы предостеречь хорезмшаха Мухаммеда от опасности с востока, где собиралась немалая сила ездящих верхом на животных, под предводительством лидера по имени Чингиз-хан.
Гораздо больше меня занимали отношения Ульяны с Саргизом.
Женщины этого мира весьма выносливы и более долговечны, чем мужчины, но они слабей физически и потому находятся в зависимости у мужчин. Лидерами они становятся в исключительных случаях, обычно под конец жизни, родив себе много мужчин-потомков и опираясь на их воинскую мощь.
Поэтому наблюдать за женщиной, избавленной от мужского притеснения, было очень интересно. Саргиз, стесняясь внешности, не отягощал Ульяну своим обществом и, добиваясь ее благорасположения, во всем ей угождал. Иная, обласканная таким вниманием и предупредительностью, нежилась бы в безделье, но дочь Кудьмы оказалась активной и деятельной, чем и понравилась мне. Она распорядилась принести ей шерсть, веретено, пряла и ткала полотно на станке, вышивала. Умело обращалась она и с выделанной кожей. Ночью Саргиз тайно помогал ей справиться с неподатливой кожей для подметок, накалывал шилом отверстия для дратвы. Чтобы не спала на полу, возвел ей кирпичную суфу для сна и дневного отдыха, принес ковры, одеяла, окрашенные сафлором, доставил ханьскую бумагу, тушь и тростниковые каламы для письма, воск для печатей — и, конечно, охотно вызвался доставить ее письмо и подарки в Курск.
* * *
Если писать, то искренную правду. «Написавший ложь, — поучал Третьяк, — да памятует, что ложь та в рукописании перейдет в его потомство, во внуки и правнуки, и памятование о писавшем будет вечной ложью на все будущие времена, и предъявят ангелы ту ложь на последнем суде, и будет она свидетельством против лжеписца. Несть гаже порока, как знать истину, но писать ложь; разве Иудин грех тяжелей сего греха».
«Здравствуй, дорогой батюшка Кудьма, здравствуйте, сестрицы Марья и Пелагея.
Пишет вам дочь и сестра ваша Ульяна из места Гульмазара, что в стране Туран, в земле Каракум. Я жива и здорова. Господин мой Саргиз, по-нашему Сергий, оказалось, не зверь, а человек веры Христовой, церковь его зовется восточной ассирийской, а еще несторианской. Учил он меня молиться Богу по его обряду, и я выучилась. Греческую икону Пречистой Девы, которой батюшка благословил меня в путь, Саргиз почитает глубоко и украшает, а цветок-камень при ней, как лампада, горит неугасимо. Долго он, Саргиз, мне на глаза не являлся, а служил невидимо, я даже думала, что он дух бесплотен. И я упросила его показаться мне зримо, хотя он отказывался. Вначале говорил со мной огненными словесами на стене, потом стал говорить голосом, и я убоялась, но свыклась. А две луны назад я его увидела…»
Как о том написать?..
Я изготовилась, сев на суфе против двери, и, по уговору, сказала:
— Покажись мне!
День был ясен, с ярким солнцем.
Быстро прошел Саргиз мимо дверного проема, но и того хватило мне, чтоб пасть без чувств. Ведь и ждала, и крепилась, а не вынесла.
Темный, шерстнатый, громадный — и легкий, как летучая тень облака, с горбом за плечами, голова — котел, очи желтые, руки длинны, едва не до колен.
Очнулась я и слышу — глухо, надрывно рыдает он снаружи, причитает сдавленно:
— Что я сделал, зачем я согласился?..
И столько муки, столько боли было в его плаче!
— Саргиз!.. — окликнула я слабо.
— Не зови меня! — взрыкнул он. — Пропащий я человек. Умереть бы… Зря я, зря на уговор поддался…
— Не кручинься, ты послушай. Мне только с непривычки подурнело, а твоя ласка мне мила. Никто еще так не ухаживал за девицей. Мне это любо — и ты будешь люб, какой ни есть. Покажись еще; не испугаюсь, вот увидишь.
— Нет, не смогу. И не проси!
— Тогда я сама выйду; не смей убегать.
Я вышла; Саргиз — даже присев, он был немногим ниже меня — сгорбился у стены купола, закрывал лицо руками; пальцы переплелись когтями. Земля, казалось, подо мной, словно вода, колеблется. Я заставила себя приблизиться к нему и положила ладонь на его плечо. И страха не стало.
В самом деле — гладила же я собак и лошадей, а лошадь куда как сильна и опасна. Степняки говорят: «Увидишь в степи конский череп — взнуздай его».
«…Увидела и ничуть не устрашилась. Ростом он велик, в плечах широк, собой виден и дороден, силен, как зубр или тур дикий».
Ну, расхвасталась. Будет!..
«…Тяжелую работу исполняет он играючи, на любое дело мастеровит. Живем мы в согласии, он ко мне добр, я ни в чем недостатка не знаю. Но скучно порой без родного лица, без голоса знакомого. Пришлите ко мне с метелью девку Раду, пусть живет со мной…»
* * *
Не знала я, что испытаю ревность к слабой жительнице этого тусклого, невзрачного мирка. Почему-то я обиделась, когда она коснулась моего Саргиза. Это был повод поразмыслить, пока она уговаривала его не скрываться и не прятать от нее глаз. Как же легко она переломила неприязнь к его чудовищному облику!.. Впрочем, сущность и внешность различны. Должно быть, не все свойства и' способности здешних людей мне известны. Некогда Саргиз — в отличие от многих — не убежал от меня в панике, а напротив, стремился ко мне в желании узнать, что за диво явилось с неба, отчего пустой воздух вблизи кратера в пустыне повторяет сказанное вслух, зачем песок взвивается без ветра, а камни катятся сами собой. Могут ли люди мира Саргиза мысленно или чувственно проникать в сущность, как я? Или этим наделены избранные среди них?
Видимо, я покину мир Саргиза раньше, чем пойму эту загадку. Пласты смещаются, как облака, и между ними ширится прогал, достаточный, чтобы направить туда свой прыжок. И было бы несправедливо не воздать Саргизу за все то, что он сделал для меня, и за то, чем он ради меня пожертвовал.
* * *
А у реки песни, хороводы…
Марья вышла замуж за Истому Дузя, верного отцова человека, что без потерь привел его караван из Хорезма. Чернавка Рада — ох, змея, змея! — по старой памяти тотчас по приезде побежала к Марье и все выболтала про наше житье-бытье в Гульмазаре. Пока батюшка лежал в недуге, Марья и Истома стали в доме главными. Марья смотрела тепло, но насмешливо:
— И как ты там, Ульяша, — работница иль мужняя жена?
Поля-Пелагея от нее не отставала:
— Слышно, Сергий твой — трех сажен ростом, ходит наг, в одной шерсти… Сшила бы мужу порты… А то как же — на золоте ест, из серебра пьет, а ноги босы, сам гол. Мерку с ноги снять не догадалась? Посник-усмарь обувку смастерил бы ему.
И на сундук мой поглядывают; он им — как мошка в глазу. Отдать бы — нате, берите, только по-людски со мною говорите, без злобы, без зависти! Нет же, не станут. «Легко раздала — знать, у самой в ее чертовом логове казны золотой полон погреб» — и зависть втройне возрастет.
Марье я подарила золотой венец с камнями самоцветными, Поле — зеркало из хрусталя с серебряной подложкой; рвут друг у друга, венец примеряют, ахают. Батюшка поглядел на них:
— Ну чисто куры фазаньи, одного хвоста расписного на гузне нет да хохла на маковке. Ты-то, Уленька, что не приоделась?
— Кур дразнить не хочу.
— Мало ты на чужбине пожила, а много выросла. На мать стала похожа. Потемнела, как половецкие женки. Ничего, росой нашей умоешься, побелеешь. Надолго тебя Сергий отпустил?.. Идем в светелку ко мне, побеседуем.
Хмурая тень так и не сошла с отца, даже когда глаза слезой отрадной заблестели. Прижал меня к сердцу, я на его плече всплакнула.
— Косятся все, — жаловалась я ему. — Иные вслед отплевываются, шепчут: «Опоганилась, с пеплом по ветру летала». Разве я для себя? И слова кричат всякие, издали…
— Поживи с нами, побудь подольше, — утешал батюшка. — А то и… подумай. Ты невеста завидная, наш дом крепок; что тебе этот Сергий мохнатый в пустой степи? Ты у него отбыла, отслужила. Он срок не назначил, сам отпустил в Курск — значит, за мою вину ты рассчиталась. Вот и живи!
А у реки смех слышен, голоса задорные. Земля в зелени, лес шумит весело. Молодцы у ворот покрикивают, запевают: «Красно солнце сидит в тереме».
Или жизнь моя кончилась? Прикрою глаза и вспоминаю — глиняные склоны, песчаные волны, саксаул, и ветер воет над водокачной башней, а вдали гикают огузы, как вихорь проносясь в объезд Гульмазара с воплем «Аш-шайтан!». Я пью кобылье молоко, у ног Рада с шитьвом, а на суфе рядом сидит…
— Не покинь меня, Ульяна.
— Мне б батюшку повидать, хвор он.
Длинно вздохнул Саргиз, зажмурив желтые глаза. На когтистом темном пальце из редкой шерсти само собой свилось плетеное кольцо с блеском.
— Надень, когда вспомнишь меня. Я не держу, но знай — без тебя не проживу.
Кольцо было увязано в платок, платок — в другой, весь сверток — в ларце, ларец — на дне сундука, сундук — в клети под замком.
Молодцы дождались меня; взошло им солнышко. Ничего зазорного я на уме не держала — петь хотелось, гулять и с людьми говорить. Один вечер, два — а там и счет пропал. Клеть, где сундук, я обходила, отвернувшись: «Не пора! Нет, не сейчас! Еще вечерочек!..» Но трудно было сделать шаг, чтобы его не вспомнить; не могла забыть — хоть и старалась.
Вот и лист на дереве зажелтел. Урожай пришел, игры и пляски. Русин, сын Богдана, ко мне все ближе прижимался, кровь в голове шумела.
Раз в ночи так томно стало, что не знала — воды ли испить, закричать ли; вышла на крыльцо — и ахнула: поперек луны без ветра несется хлопьями черный снег. И ко мне. Не успела в дом вбежать — снежный столп встал передо мной, без рта заговорил:
— Я царевна Метель, госпожа Саргиза. Мой срок на земле окончен, я ухожу. Поспеши к Саргизу, ибо он остается один. Он одиночества не вынесет. — И, пошелестев, голос прибавил: — Вспомни, девушка, что он любил тебя. Если забудешь его доброту — не будет тебе впредь ни полного счастья, ни безмятежной радости. Хоть бы ты жила сотню лет, его смерть останется на тебе.
Завертелась метель, ушла в вышину, к полной луне.
* * *
Все шесть накопителей сверкали, как застывшие молнии; стержни их отвердели и накалились. Поток, пролагающий путь сквозь подвижные пласты пространств, белым лучом поднимался в зенит, и кочевники, видя его, падали ниц, а звездочеты магометанских владык торопливо писали об увиденном в ночном небе. Я покидала свои укрытия, и земля подрагивала, как бы с неохотой отпуская из недр мое зыбкое, неосязаемое тело, впервые за многие годы явленное миру, — но некому было провожать меня, кроме стоящего на коленях Саргиза.
— Уходи подальше, — просила я его, — тебе нельзя быть здесь.
— Нет, царевна, — упрямо покачал он головой, — я заслужил право видеть тебя. Я был рядом с тобой все время твоего изгнания. Я заботился о тебе, я помогал тебе — неужели этого мало, чтобы оказать тебе почести при расставании?
Но я знала, что им руководит иное чувство — желание умереть, торжествуя при виде моего освобождения, чтобы кончина была радостной, чтобы жизнь не продолжалась бессмысленно в одинокой пустоте, в безмолвной тьме, в сознании своей ненужности. Как я могла достойно отблагодарить его, добровольно посвятившего мне долгие годы своей единственной жизни, отказавшегося ради меня от родни и близких?..
Я обратилась к Ульяне — найти ее было нетрудно, зная маршруты туч. Я не могла привести ее насильно — так людей не сближают, кроме горя это ничего не принесет. Но свойства людей мне известны. Их память сильна и ярка. Невозможно, чтобы она забыла его! Даже если она откажется, память не даст ей прожить в покое. Я искренне надеялась, что она возвратится, но пришло время покинуть мир Саргиза, а ее все не было.
Башня рухнула, поднимая клубы глиняной пыли; мое тело зависло над развалинами; от напряжения, вызванного проходящей сквозь тело силой, я плохо различала окружающее, но старалась видеть Саргиза — его фигурка терялась в мятущейся пыли, в расходящихся от осевого луча потоках горячего ветра.
Я рванулась по лучу, увлекая за собой обломки, пыль и гарь; воздух сгорал на мне и срывался вниз языками пламени. По достижении пороговой скорости я перестала ощущать бешеный жар оболочки — меня объял абсолютный холод межзвездных просторов.
Прощай, Саргиз.
Если мне суждена победа в моем жестоком мире, я вернусь, чтобы почтить память о тебе, друг мой, ласковый друг.
* * *
Я не узнала Гульмазара. Казалось, здесь бушевал пожар — хотя здесь было нечему гореть, кроме моей рухляди и постели на моей суфе. Башни не было; купола обожжены, всюду валялась осколки закаленной глины.
Но кто-то управлял тучей, что принесла меня сюда?..
— Саргиз! — позвала я. — Это я, Ульяна! Я вернулась!
Ни звука в ответ.
Я побежала к западному куполу. Меньшие купола были открыты, внутри пусто; черный мох полег, цветы-камни потускнели и погасли.
— Саргиз!
Тишина. Я позвала еще раз и еще, уже с отчаянием.
Подбегая к восточному куполу, я осеклась на бегу и вскрикнула — то, что я посчитала большим обломком глиняной стены, был Саргиз.
Он лежал лицом вниз; голова его, лохматая и опаленная, покоилась между локтями, а в руках, сомкнутых над головой, огневел тот цветок-камень, что принесла я.
Я вцепилась в его плечи, стала трясти в безумии, с каждым мигом все яснее ощущая, какой он холодный, тяжелый, безжизненный, и закричала, словно крик мог что-то изменить:
— Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!
Шерсть отходила клочьями и вязла в пальцах; я опомнилась, поняв, что с шерстью отдираю и коросту омертвевшей плоти, будто с дерева — отжившее, иссохшее корье. Под толстыми, покоробившимися слоями ороговевшей кожуры забелела человечья кожа. Вмиг стало видно, будто я прозрела от давнишней слепоты, — страхолюдное обличие Саргиза лишь снаружи, как на ряженом, на скоморохе — козья шкура и рогатая личина! Перестав голосить, я с ожесточением принялась срывать обманные покровы, трещавшие под руками и тянувшиеся на изломах войлочными волоконцами. Эти волокна, как нитчатые черви, кое-где казались въевшимися в кожу.
Остановилась я, заметив, что на месте иных вырванных нитей выступили капли живой крови. Тут и Саргиз, наполовину очищенный от шкуры зверя, застонал и пошевелился.
Полностью он высвободился к закату; тогда я увидела его настоящее лицо.
* * *
Пятнадцать из каждых ста нитей остались во мне.
Подарок царевны был невелик, но дорог, много дороже, чем слиток чистого золота — агатовый шар величиной чуть меньше пяди, каменно увесистый и нерушимо крепкий, как и все цельное, что она изготовляла. Таких камней она сделала семь; в них, как в книгах, были запечатлены ее приказы, и тот, кто владел камнем и знал, как им распоряжаться, мог велеть тучам и нитям исполнить тот или иной приказ.
И я велел нитям выйти из меня — в надежде, что без них умру, рассеюсь прахом, поскольку жить дальше мне было невмоготу — без царевны, без Ульяны…
Но камень дерзко отказался и сослался на веление царевны — все средства поддержки, то есть нити, удалять воспрещено.
«Повинуйся мне!» — настаивал я, но ответ был один, словно эхо.
Значит, царевна не разрешила мне умирать. Почему?..
Тогда я пошел на хитрость — приказал убрать столько нитей, сколько можно, и камень подчинился. Это было так больно, что я потерял сознание.
Когда я пришел в себя, отделившийся от тела нитяной панцирь загрубел и омертвел, и сдерживал меня, как скорлупа — птенца. Надо было напрячься и сбросить его, но… жизнь не манила меня; я потерял все, что составляло ее смысл, и думал лишь о том, что зря боль при выходе нитей не стала последней. Я согласился с тем, что перестану быть, и сетовал — отчего смерть медлит взять меня?
Вскоре до меня донесся шум, как глухой крик, и я почувствовал удар, подобный всплеску волны.
Кора, облекавшая меня, трещала и тряслась под напором извне. «Шакалы, — подумал я. — Пусть едят, не шевельнусь».
Но это пришло мое спасение.
* * *
Разговоров у нас было — не наговориться, точно мы впервые встретились. Я упивалась его голосом, теперь не хриплым, а чистым. В лицо вглядывалась неотрывно — так сладки были черты его, так желанны. Не обмануло сердце — под нитяной верхней кожей, уродовавшей облик, таился статный молодец, образом словно Лель, чернокудрый, темноглазый, тонколицый по-иконописному. Лучшего и хотеть не можно. Как в сказке-бывальщине — сбросил шкуру Серый Волк, обернулся парнем Сергием…
Стали думать, как нам жить. Я, знамо, в свою сторону тянула.
— Сергинька, пойдем в русскую землю. Тебя с уважением примут, ты книжное знание имеешь, каменному зодчеству научен, мастер воду искать…
Пела и пела ему в уши, днем и ночью. Он колебался. Тридцать лет дома не был — и как было явиться, в прошлом-то обличии? Тайком во двор заглядывал очами туч, и только.
Уговорила. Однако и он свое слово сказал; тут настал мой черед противиться.
Скажем, дитя родить — дело женское, обыкновенное. А впустить в себя живые нити — где такое видано, кем заповедано?! Я ни в какую. Нет, и не домогайся! Он и так, и эдак, и улещал, и растолковывал, даже сердиться начал:
— Пойми ты, глупая, что это благотворно! Я за тридцать лет ни разу не хворал и не старился! Веришь ли, что мне за полвека? Сможешь тучами повелевать, с камнями говорить…
— Спаси Бог от такой радости. Очень-то мне надо разговаривать с каменьями; лучше с людьми. Много ли новостей услышишь от камней? Ты ему: «Здравствуй, валун-дядюшка!» — а он: «И ты здравствуй; знаешь ли, на мне вчера гадюка грелась».
Полдня мы провели спиной друг к другу. Саргиз слова истощил, изображал обиду, и я тоже. Было время поразмыслить… рассудила я, однако, что не след мне дары принимать, которые не Божьим и не людским помыслом сотворены, и в чем их назначение — одной царевне ведомо. И что это была за царевна? Без лица, без рук, без ног, ворожейные нити из песка и воды пряла… Может, правда, что ее волшба позволила Саргизу не стареть, но разве счастье это — жить и жить в обаянии нитей, глядя, как и дети, и внуки твои в могилу сходят? Не благо, а горе; столько горя человек не вместит, сердце разорвется. Так я Саргизу и сказала; он смирился. Очень хотел он жить со мной в любви.
Чтоб кур фазаньих и гусей безмозглых не тревожить, в Курск мы въехали конные; Саргиз верхом, я в арбе, со всем скарбом. Кто нам дивился, так это половцы, к которым мы с неба спустились. На карачках к нам подползали, воя. Впрочем, подлости своей и в страхе не избавились — коней дали квелых, арбу поломанную; тогда Саргиз достал цветок-камень и выпустил из него чуток силы — по степи пламя метнулось, войлоки на кибитках затлели. Тут нам и саблю поднесли, и кумыс в бурдючках, и мяса сушеного много, и двух невольниц подарили, лишь бы мы убрались поскорей.
Вот и Курск, вот и дом родимый! Встречал ты, град, князя Игоря Святославича в его темную годину — встреть и нас в нашу светлую!
Батюшка Кудьма вышел к воротам:
— Благодарствую тебе, молодец, что спас мою младшую дочь. Будь моим гостем… одного не знаю — как тебя звать-величать.
Саргиз показал ему цветок-камень:
— А это — помнишь?.. Звать меня Сергием.
Тут и сказке конец. Стали мы жить-поживать и добра наживать.
Князь слушал речи Сергия внимательно, но предостережениям о надвигающемся с юга Чингиз-хане не внял. Благо, Чингизово войско Курска не тронуло, прошло стороной на Булгарию. Сергий очень сокрушался о монгольском разорении Ургенча и всего Мавераннахра.
В Курске дивились его обычаю целовать руку, коснувшись ею иконы, но понемногу Сергий перешел на наш обряд.
Терем поставили — каменный, с резным узорочьем; Сергинька показал, что он умеет с камнем делать, и много восхищались люди делом его рук. Третьяк прозвал его греческим именем — Архитектон, что значит «старший над плотниками», а по-нашему — зодчий. Мужи нарочитые звали Сергия строить им терема и давали за это хорошую плату; строил он и церкви, а из Северского Нова-Города и даже Киева ходили у него учиться, и резной узор его приняли многие за образец.
В год нашествия неверного царя Батыги, из рода Чингизидов, у нас уже подрастали сыновья и дочка-ласточка. Мы перебрались в Смоленск.
* * *
К сему приписал Савелий Тимофеев сын Сергиев. От отца моего Тимофея, а он от отца своего Пахомия, а тот из рук пустынножителя старца Вассиана, перешло мне в наследство беречь и стеречь от недобрых глаз книгу «Повесть Сергия и Улианы», писаную, по преданию, собственноручно старицей Евдокией, в миру Улианой Кудьминой дочерью, вдовой Сергия Архитектона. Во многих бедствиях цела осталась сия повесть, и в смуту, и в годы борения супротив ереси никониан, и в пришествие предтечи Антихриста, назвавшегося император Петр, и Бог даст, перейдет к детям моим вместе с черным царь-камнем круглым, завещанным хранить, пока жив род Сергиев, стоящий за древлее благочестие и правду. В том помощник и предстоятель мой Исус Христос. Аминь.
* * *
Судьба моя в родном мире была счастливой… и несчастной.
Старуху я победила и исторгла ее в иной вариант бытия; это было воздаяние ей, равное тому, что она сделала со мной.
Вернувшихся изгнанниц недолюбливают, подозревая в них дух неуместных новшеств, заимствованных из других миров. Так ли это?
Я не преследовала и не угнетала сторонников старой царицы. Что же касается новшеств… Моя семья всегда отличалась беспокойством, непоседливостью и горячим нравом. Старуха держала семью в узде — а тут вдруг я, молодая и полная впечатлений. Я постаралась направить энергию семьи в научное русло, в разработку новых искусственных существ — но старым брюзгам и это претило. Посыпались нарекания; наконец, меня и семью обвинили в выращивании боевого снаряжения.
Я уступила сообществу цариц, допустила их представителей в свои лаборатории. Разумеется, там ничего не нашли. Но сам факт! шумиха!.. Самые ретивые стали говорить об отселении. Ну уж нет; чем ждать появления царевны, что возглавит недовольных, надо самой проявить инициативу. Я испросила дозволения цариц переместиться за грань и выбрать подходящий вариант бытия, где можно основать колонию. Мне предложили мир, в реальное время уже погибший, но некогда подававший надежды; условия эмиграции были жестки — уйти в минувшее и взять ответственность за судьбу мира, и ни просьб о помощи, ни возвращения, пока не совпадет счет времен.
Я согласилась. Царицы были рады — убрать с глаз долой молодую выскочку; мол, поработает и поумнеет, паинькой вернется.
Радовалась и я — там-то никто меня не будет сдерживать!
Первым делом я преобразовала две группы населения во вспомогательные расы — искусников и мастеров. Пусть будет не один Саргиз, а тысячи! И с более совершенной внешностью — я изменила жителей в соответствии с понятиями о красоте и силе, принятыми в мире Саргиза. Вот где понадобились смелые экспериментаторы из моей семьи. Дозированно вживляя в организмы слуг органические и неорганические средства поддержки, мы получили долговечных и выносливых существ с высоким интеллектуальным потенциалом. Одновременно прогрессоры, внедренные в среду искусников и имеющие их облик, распространяли знания об энергетике. Вскоре наши усилия принесли первые плоды — искусники сами изготовили первые накопители и зарядили их от наших источников питания.
В это время я позволила себе посетить мир Саргиза; это не нарушало запрет цариц на возвращение — хотя я проникала в реальное время, свой мир я не навещала.
Что касается развития технологий, мир Саргиза заметно вырос; здесь появились даже примитивные образчики искусственной живности. Обнаружила я также зачатки эфирной и нитевой систем обмена сведениями и без труда включилась в них.
Все, все изменилось в знакомом мне мире. Кустантания теперь звалась Истанбулом, и там жили тюрки, и не было больше румийского базилевса.
Я выяснила, что немного позже моего отлета тюркский лидер Тимурленг приказал истребить ассирийцев-несториан от страны Хань до страны Шам, что и было исполнено с величайшей жестокостью — почти до реального времени кое-где высились горы черепов замученных христиан, и мастер Верещагин из страны русов запечатлел их на картине. Я была горько опечалена — скорей всего, мой Саргиз погиб в этой чудовищной резне!
Командное устройство, оставленное мной Саргизу, на сигнал не отвечало. Разрушить его здесь не сумели бы — значит, истощился вложенный в него заряд, и оно стало просто круглым слитком, непонятным местным жителям.
И Гульмазара больше не существовало — за столетия барханы затянули это место; лишь тощие саксаулы подрагивали под ветром там, где я вынашивала свои планы возвращения…
Разметав дыханием песок, я силовым лучом выжгла на каменной плите слова памяти и скорби, после чего раздвинула пласты пространства и вернулась в тот вариант бытия, что отдали мне царицы, в свой родной Валинор, где искусники-эльфы, мои бессмертные дети, трудились над сильмариллами, а мастера-гномы углубляли подземные убежища, ибо, если предвидение не обманывает меня, скоро в семье объявится царевна — мстительная, злопамятная, властолюбивая дрянь, с которой я буду сражаться.
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ Искусственный отбор
— Эй, ведьмак! Вставай, к тебе пришли!
«Жизнь забери — подумал Геральт, мгновенно воспрянув ото сна.
— В прошлый раз меня после этих слов пытались выселить из номера!»
И ведь выселили, хотя уплаченные накануне деньги он, понятное дело, из администратора вытряс.
К счастью, на сей раз никто не собирался выселять Геральта из оплаченного полулюкса винницкой гостиницы «Южный Буг».
— Ау, ведьмак! — В дверь осторожно заглянул коридорный. — Тут посетитель!
— Скажи ему, чтоб пришел через час! — пробурчал Геральт из-под одеяла, не особо, впрочем, надеясь на успех. — А лучше через два.
Несколько секунд коридорный совещался с кем-то невидимым за дверью.
— Хорошо, через два часа, — проинформировал коридорный и захлопнул дверь.
«Счастье-то какое! — Геральт блаженно вытянулся на чистой простыне. Тело заныло от удовольствия и восторга. — Еще два часа!»
За последние две недели с относительным комфортом он провел всего одну ночь, да и ту на заднем сиденье престарелого и полусонного джипа на дикой автостоянке. Такие старые машины обычно покладисты; если вести себя дружелюбно и спокойно, считай, ночлег обеспечен. В ту ночь как раз накрапывал противный октябрьский дождик, запускал холодную влажную лапу за шиворот, и ночевать без крыши над головой было бы грустно и неуютно. Геральт рискнул сунуться на дикую стоянку и не прогадал.
«Жизнь забери! — подумал Геральт, мгновенно воспрянув ото сна. — В прошлый раз меня после этих влажную лапу за шиворот, и ночевать без крыши над головой было бы грустно и неуютно. Геральт рискнул сунуться на дикую стоянку и не прогадал.
Остальные ночи ведьмаку вспоминать не хотелось, даже сейчас, в чистой и теплой постели.
Одно было плохо: он потратил на гостиницу последние деньги, причем оплатил номер только за сутки, а значит, уже в полдень, как раз через два часа, его отсюда попрут. И останется Геральт снова без чистой постели, горячего душа и теплого сортира. Не смертельно, конечно, но как же надоедает ночевать под мостами в компании опустившихся орков или людей…
Впрочем, нынешний визит коридорного и кого-то невидимого за дверью вселял определенный оптимизм. Скорее всего невидимый — потенциальный клиент. Вряд ли серьезный, иначе так просто не согласился бы на двухчасовую отсрочку. Но хоть какой-то.
Будь клиент серьезным, Геральт вскочил бы как миленький. А так можно было позволить себе роскошь целых два часа валяться и ничего не делать. Разве что думать.
Например, о том, что жизнь ведьмака, в сущности, состоит из одинаковых повторяющихся блоков, только совершенно произвольно перемешанных. Взять хотя бы сегодняшнее пробуждение и «Эй, ведьмак, к тебе пришли». Сколько раз это уже происходило и сколько раз еще произойдет? Сколько раз Геральту и его коллегам — Ламберту, Эскелю, Койону — предстоит совершать одни и те же циклические действия? Получил аванс, разделался с каким-нибудь опасным механизмом, пошел искать очередное задание. Нашел очередную работенку, получил аванс, разделался с каким-нибудь опасным механизмом…
«Наверное, — думал Геральт, — бытие любого обывателя-живого тоже состоит из повторяющихся блоков. Таких же, как рабочие циклы заводских роботов, записанные на компакт. Разнится лишь способ записи да содержимое цикла. Чем обыкновенно занимаются простые живые, жители обыкновенных кварталов Большого Киева или Большой Москвы? Или любого мегаполиса Евразии?»
Некоторое время Геральт тщетно напрягал воображение. Потом даже сел в кровати от нахлынувшего удивления.
Он не мог вообразить — чем заняты день-деньской живые киевляне или москвичи? Или обитатели любого мегаполиса Евразии? Ну, там, жена-дети… Понятно. Но как они добывают пропитание? Как общаются друг с другом, с домашними? С женами, в конце концов?
Мир вокруг ведьмака состоял только из слепой злобы враждебных механизмов, скупости нанимателей да глухой неприязни окружающих — тех самых живых-обитателей, чья жизнь оказалась для Геральта непредставимой. Впервые в жизни Геральт осознал, насколько отличается от тех, чей покой призван хранить.
Но можно ли сказать, что у ведьмаков что-либо отняли? Для этого нужно как минимум иметь с чем сравнивать.
Что тот же Геральт знает о семье? Его семья — это такие же угрюмые одиночки, истребители механических чудовищ. Это старый Весемир и хромой Владзеж. Это сопливая пацанва в Арзамасе, еще не прошедшая испытания фармацевтикой, и подрастающие счастливчики, выжившие после клинического кабинета. Мутанты. Не-живые.
Семья ведьмака — верный ноутбук и глобальная сеть, вместилище знаний и слабо упорядоченной информации. Не раз выручавшая в самых немыслимых передрягах помповуха и простенький нож при поясе.
А что называют семьей остальные?
Сон как рукой сняло. Повалявшись еще минут десять и так и не найдя ответов, Геральт уныло поплелся в душ. Раз уж оплатил последними деньгами мирские удобства, надо использовать их на полную катушку.
Под струями горячей воды нежданно нахлынувшие вопросы и мысли отступили, уступив место простому физиологическому блаженству.
«А все-таки хорошо, что я мутант, — подумал Геральт, изнывая под душем. — Вряд ли обыватель настолько отчетливо и выпукло, каждой клеточкой кожи, каждым сенсором ощущает, насколько это здорово — быть чистым».
За минуту до полудня, когда Геральт, одетый и собранный, снова валялся на кровати, в дверь опять постучали.
— Да-да!
Вошел давешний коридорный.
— Э-э-э… — Коридорный стрельнул туда-сюда наметанным взглядом. — Я вижу, ты не станешь продлевать номер?
— Не стану.
Геральт поднялся, забросил на плечо выцветший рюкзачок и приладил к боку ружье.
— Ну, что же… Там, за дверью один живой дожидается. С самого утра. Я его до десяти не пускал.
— Правильно, что не пускал. Спасибо. Извини, на чай ничего не будет — деньги кончились.
Коридорный безрадостно вздохнул. А Геральт спустя пару секунд уже оказался вне номера.
У дверей, нервно переминаясь с ноги на ногу, дежурил щуплый тип довольно жалкого вида. Он был примерно одного роста с Геральтом и почти того же телосложения. Но если ведьмак производил впечатление живого целеустремленного, сильного, решительного и уверенного в себе, то потенциальный клиент выглядел жалким и издерганным. Он казался ниже, нежели был на самом деле, плечи безвольно опущены, взгляд заполошно бегает, губы дрожат…
Типичный нюня и неудачник.
— А… Здравствуйте…
Геральт молча смерил его взглядом.
— У меня… Простите, что беспокою… У меня к вам дело…
— В баре, — сухо, суше даже чем обычно, отозвался Геральт. — Поговорим за яичницей со шкварками и кружкой пива.
Глаза незнакомца забегали еще сильнее.
— Я… не могу… У меня нет денег… Совсем.
— В таком случае не могу быть полезен, — так же сухо отрезал Геральт.
«Проклятье, — подумал он. — Ни заработка, ни завтрака. А Весемир вчера звонил, намекал, что Арзамасу-16 нужно срочное вливание на счет…»
Что-то там у них накрылось из жизненно важной машинерии. Пока заказали в кредит, у Халькдаффа на Выставке. Но ведь за покупку придется вскоре расплачиваться. Причем чем раньше, тем лучше. А тут, как на грех, ни у одного из действующих ведьмаков ни единого заказа!
— Это выгодное дело, — мямлил нюня, семеня за Геральтом по коридору. Ведьмак ступал уверенно и бесшумно, а под нюней даже покрытый ковровой дорожкой пол противно постанывал и поскрипывал.
— Без предоплаты не работаю, — не оборачиваясь бросил ведьмак и замолчал, на этот раз надолго.
Всю дорогу до лестницы, на самой лестнице и в холле гостиницы нюня плелся позади и канючил, канючил, канючил… На месте ведьмака любой живой не выдержал бы и взорвался. Наорал бы, а то и приложил надоедливого нюню. И хорошо, если ладонью, а не кулаком. Но Геральт его просто перестал замечать. Будто выключил слух и позабыл о нервах.
Ведьмаков не так-то просто вывести из себя. Говоря по правде, это вообще вряд ли возможно.
На улице ведьмак на мгновение замер, оглядываясь и размышляя — куда бы пойти? Нюня едва не налетел на него со спины — в последний момент Геральт неуловимым движением ушел с пути нюни, едва заметно двинул ногами и полуобернулся.
Нюню пронесло мимо, а ведьмак принялся спускаться по лесенке.
Десять ступенек. Четыре секунды, если не торопиться.
Нюня снова пристроился следом, не прекращая увещеваний.
«Во привязался-то», — подумал Геральт без всякого раздражения.
Раздражаться по разным пустякам? Вот еще!
Под ложечкой начало противно посасывать — полдень уже миновал, и организм тактично напоминал о насущных потребностях. В принципе ведьмак легко мог голодать и день, и два, и больше — если потребуется. Но кто говорит, что это доставило бы ему хоть каплю удовольствия?
Он направился прочь от гостиницы, к автовокзалу. Привычные городские шумы поглощали бы голос никак не желающего угомониться нюни, если бы Геральт сам не отсек все посторонние звуки.
С торца к гостинице примыкал ухоженный скверик со скромным памятником в центре. Вокруг памятника, вплотную к подстриженным кустам, очень удачно разместились несколько лавочек.
«Во! — подумал Геральт с воодушевлением. — Самое то для поразмыслить и принять решение!»
Вскоре ведьмак уже вольготно расположился на лавочке, рядом со снятым рюкзачком. Вдохнул полной грудью… и обнаружил рядом упрямца-нюню.
— …Это действительно выгодное дело! Там денег на все хватит, и комплекс оплатить, и на ваш гонорар, и мне, чтобы откупиться. Даже останется еще! Там почти триста двадцать тысяч!
Названная цифра эхом отозвалась в мозгу Геральта. И заинтересовала.
— Триста двадцать тысяч чего? — уточнил ведьмак ровным голосом.
— Гривен! Триста двадцать тысяч гривен! Целое состояние, правда? — воодушевился нюня.
Его заметили! Его слушают!
— Осталось только добраться до комплекса и получить деньги! Я уверяю, дело верное!
— Стоп. — Геральт прищелкнул пальцами. Весемир вчера упомянул сумму в сто десять тысяч гривен, потому Геральт и заинтересовался. — С самого начала. Только коротко. Тебя как зовут?
— Лимон… Леха Лимон, — пробормотал человечек и неловко привстал. — К вашим услугам!
«Ага, — скептически подумал Геральт, не изменившись, впрочем, в лице. — Ты наслужишь… Месяц потом разгребать придется».
— Я занимался приручением этого комплекса…
— Какого комплекса? — все так же спокойно и безразлично уточнил Геральт.
— Комплекса автоматического слежения за подвижными объектами, называется «Охрана-два», растет на БугМаше. Это неподалеку отсюда. Э-э-э… Так вот, я первый распознал начальные управляющие коды и понял назначение этого комплекса…
— Ты техник? — опять перебил Геральт.
— Ну… в какой-то мере. — Лимон вымученно улыбнулся. — Так вот, когда я распознал коды, появилась возможность приручить этот комплекс и поставить его на службу живым — на любом охраняемом объекте такой оторвали бы с руками, потому что подобная система экономит массу сил и способна заменить до двух десятков живых сторожей…
«Ну, положим, живых никакими комплексами не заменить, — убежденно отметил Геральт. — Любую, даже самую мудреную машинерию слишком легко вывести из строя или тривиально обмануть».
— Но у меня не хватало прирученного оборудования, и я взял заем у «Ганса и братьев» — всего пять тысяч, — продолжал вещать о своих бедах Лимон.
Таким плаксивым голосом можно было вещать только о бедах.
— Еще бы неделя-две, и я довел бы список управляющих кодов до ума, а там и продал бы комплекс — он стоит хороших денег, поверьте! Но тут срок займа истек, явились подручные Ганса и стали требовать погашения займа. Я работал днем и ночью… а потом меня перестали пускать на БугМаш! Просто не пустили однажды утром на проходной, и все! Сказали — не велено! А все купленное оборудование осталось там — я не могу сдать его даже за полцены, чтобы хоть частично погасить долг перед Гансом… Они включили счетчик, теперь я должен им уже двадцать две тысячи… И на БугМаш меня по-прежнему не пускают…
— Ну и что? — хмыкнул Геральт без особого интереса.
— Они меня убьют, — упавшим голосом сообщил Лимон. — Сказали, если до конца недели не будет денег или комплекса — убьют.
— Ну, так ищи деньги или доставай свой комплекс, — посоветовал Геральт не без цинизма.
— Вот я вам и предлагаю — давайте проберемся ночью на завод и вынесем комплекс — он довольно компактен, основной модуль размером с чемодан; и комплект наружных датчиков примерно такого же размера.
— А теперь послушай меня, — изобразив на лице маску долготерпения, сказал Геральт. — Я — ведьмак. Ведьмаки работают только при условии полной предоплаты. Тебе это известно?
— Известно, — кивнул Лимон. — Вот я и предлагаю! Вынесем комплекс, продадим его, например, Шакиру — он высказывал заинтересованность, даже цену назвал: триста двадцать тысяч минус комиссионные агенту, это всего два процента! После этого я сразу смогу с вами расплатиться!
— Деньги вперед. — Геральт пожал плечами. — Иначе я с места не сдвинусь.
— Где же мне их взять? — плаксиво поинтересовался Лимон.
— Займи.
— Не могу! Я ведь в черном списке! Мне теперь никто не даст, Ганс постарался… И уехать куда-нибудь мне не позволят, люди Ганса все время за мной приглядывают. Вон, глядите сами.
На перекрестке действительно некоторое время терлись два неприятных субъекта — человек и орк. С виду — типичные бандиты.
— Поймите, — прошептал Лимон донельзя трагическим голосом. — Меня действительно убьют…
— У тебя жена есть? — спросил вдруг Геральт. — И дети?
Собеседник удивленно уставился на ведьмака.
— Какое это имеет значе…
— Понятно, — кивнул Геральт. — Нету. Действительно, какая девчонка поведется на такого нытика и неудачника?
Лимон насупился было, но быстро снова стал тревожно-испуганным. Похоже, даже его лузерские комплексы пасовали перед реальным страхом смерти.
— Влип ты, парень, — констатировал Геральт. — И поделом. Не был бы таким идиотом, не связался бы с бандитами.
— Вы ведь можете мне помочь! — выпалил Лимон.
— Могу. Если заплатишь.
— Я не могу заплатить прямо сейчас. — Лимон чуть не плакал. — Я клянусь, что отдам вам любую сумму, которую вы назовете!
— А если я запрошу миллион? — хмыкнул Геральт.
— Ну… я имею в виду, что исходить нужно из суммы, которую мы выручим за комплекс, минус долг Гансу… Все, что останется, — ваше.
Геральт натянуто улыбнулся:
— В кредит не работаю.
— Жизнь забери… Неужели вам меня не жалко?
— А почему мне должно быть тебя жалко? — удивился Геральт. — Только слюнтяев разных я еще из задницы не вытаскивал!
— Но ведь… Но ведь ведьмаки призваны защищать живых!
— От чудовищ, — уточнил Геральт вкрадчиво. — Причем чудовищ, порожденных техникой и механикой. А разнообразные Гансы и их прихлебатели — не моя епархия.
— Вы храните город, — одними губами взмолился Лимон. — Неужели я не достоин зваться частью города?
— Такие, как ты, — жестко сказал ведьмак, — не достойны. По большому счету, если бандиты вырежут слюнтяев и недотеп, городу станет только лучше. Впрочем, тут и бандиты не нужны, если разобраться. Детей ведь у тебя нет? Значит, свое слюнтяйство ты Никому не передашь. Вымрешь, как вымерли когда-то катапульты.
— Ну и чем тогда ведьмаки лучше тех же бандитов? — Лимон все еще надеялся переубедить Геральта.
— Тем, что ведьмаки никого не трогают без причины. Если таких, как ты, станет много — бандиты будут жировать. А если вместо скулежа им будут сразу стрелять в рожу, то и придется присмиреть самым отъявленным негодяям. Так что не трудись: я заинтересован, чтобы тебя и тебе подобных передавили как можно скорее. Так-то…
Геральт не договорил. Из припарковавшейся напротив скверика легковушки выбрался грузный вирг и решительным шагом направился к лавочке, на которой обосновался Геральт. Почти минуту вирг не отрывал взгляда от татуированной ведьмачьей лысины.
— Ведьмак? — басом осведомился вирг, приблизившись.
— Ведьмак, — нейтрально отозвался Геральт.
— Мой сын застрял в лифте. Поехали.
— Тысяча, — не шелохнувшись, запросил Геральт.
Вирг немедленно выудил из внутреннего кармана бумажник, покопался в нем и протянул ведьмаку две бумажки по пятьсот гривен.
— Учись общаться с ведьмаками. — Геральт подмигнул притихшему Лимону, взял у вирга деньги и встал, подхватив рюкзачок. — Я готов. Поехали.
* * *
С пацаном в лифте никаких проблем не возникло. Вирг оказался головастым живым: сам уехал за помощью (откуда-то узнал, что в «Южном Буге» остановился ведьмак), а жену с домработницей оставил у лифта, чтоб с сынулей разговаривали и в панику тому ударяться не давали — от криков лифт мог и взбрыкнуть. Когда приехал Геральт, мамаша как раз заряжала очередную сказку про Бодю Красного Джипа. Ведьмак, не теряя времени попусту, отыскал щит с тумблером аварийного открывания дверей, принял пролезшего в щель под потолком вихрастого виржонка, сурово наказал папаше ни в коем случае не пытаться лезть в щит самостоятельно, даже если, не приведи жизнь, произошедшее повторится. Когда домработница накрыла быстренько на кухне выпить-закусить, шепотом поведал папаше придуманную на ходу душераздирающую историю, как кто-то самостоятельно пытался вызволить застрявших в лифте и тех насмерть пожгло оборванным силовым кабелем. Выпили-закусили; затем Геральт пожал посмурневшему виргу руку, потрепал по вихрам пацаненка и чрезвычайно довольный собой удалился.
Теперь можно было и поесть, и еще несколько дней в гостинице понежиться.
Впрочем, нежиться Геральт не стал, хотя не преминул основательно подкрепиться.
Леха Лимон перехватил его на выходе из гостиничного бара.
— Послушайте…
— Опять ты? — Геральт остановился, с жалостью глядя на нюню. — Тебя еще не пристукнули?
Лимон отшатнулся. Похоже, за время отсутствия Геральта бандиты Ганса провели с Лимоном разъяснительную беседу, о чем красноречиво свидетельствовал свежий кровоподтек на скуле нюни и грязь на рукаве и брюках.
— Если вы мне не поможете, мне конец, — еле слышно вымолвил Лимон.
— Аминь, — буркнул Геральт. — Покойся с миром.
Лимон бухнулся на колени и попытался облобызать Геральту ботинки.
— Ты что, вконец рехнулся? — Геральт сердито сграбастал Лимона за шиворот и оторвал от себя. — Ну-ка, катись давай отсюда! Еще раз тебя увижу — дам в ухо. Или вообще пристрелю, избавлю молодчиков Ганса от трудов.
Наподдав Лимону под зад, Геральт зашагал в сторону автовокзала.
Нюня, просеменив несколько метров, потерял ход. Плечи его окончательно поникли, а вид сделался такой жалкий, что у Геральта неизбежно дрогнуло бы сердце, обернись он и взгляни.
Но Геральт не обернулся и не взглянул.
Выйдя на обочину, он некоторое время голосовал. Первый же таксист на желтых «Черкассах» охотно притормозил. Геральт без промедления скользнул в машину и хлопнул дверцей.
— На БугМаш. К проходной.
— Пятерка.
— Годится, — кивнул Геральт. — Пристегиваться?
Таксист, сухопарый человек, обладатель крючковатого птичьего носа и потрясающих бакенбардов, меланхолично вырулил в крайний ряд.
— Пристегивайся, коли охота, — сказал он чуть погодя. — Но я еще ни разу не бился. Правда, мась?
Он погладил узкой ладонью по торпеде. Видимо, таксист любил свои «Черкассы». Впрочем, среди шоферов такое не редкость.
Ехали минут двадцать. Перед серым зданием, в котором безошибочно угадывалась заводская управа, таксист притормозил.
— А скажи-ка, батя, — миролюбиво спросил Геральт, шаря в кармане. — Что, на БугМаше клан какой заправляет, или как?
— Известное дело, заправляет. — Таксист пожал плечами. — Завод большой, как без клана. Шакир тут командует. Из орков.
— Угу, — кивнул Геральт, протягивая пятерку. — Понятно. Спасибо, батя! Удачи тебе.
— И тебе, мил человек…
«Черкассы», фырча выхлопом, укатили; ведьмак остался на пустынной площадке перед главным зданием из стекла и бетона. Впрочем, площадка не была совсем уж пустынной: пара автомобилей на ней все же дремала. Бежевый микроавтобус с изрисованными рекламой боками и слегка битый джип полувоенного образца.
Последнее Геральту не понравилось. Военные машины слыли крайне своенравными и приручались из рук вон плохо. А военные полигоны и места концентрации военной техники издавна пользовались в Большом Киеве и окрестных мегаполисах прочной дурной славой, куда не отваживались соваться даже ведьмаки. Если до конца придерживаться истины, то как раз ведьмаки в такие гиблые места иногда совались. Но ненадолго, с величайшей осторожностью и лишь по сильной профессиональной нужде. Подобные визиты по возможности держались в тайне.
Битость джипа заключалась в покореженном бампере, а также мятых крыле и двери со стороны водителя. Кроме того, дверь была по меньшей мере в трех местах прострелена, скорее всего из пистолета. Тем не менее джип носил явные следы прирученности. Зайдя спереди, Геральт углядел на радиаторе эмблему Халькдаффа и со знанием дела покачал головой. Ну да, если кто и мог приручить военного монстра, то именно этот магистр. Говорят, он даже с совершенно неуправляемыми черноморскими броненосцами в свое время имел дело.
Но кто мог ездить на подобной машине? Вряд ли какой-нибудь добропорядочный живой. А вот какие-нибудь громилы из заводского клана — запросто.
Что и следует учесть.
Перед входом Геральт вынул из кармана куртки зеркальные очки и надел их.
Войдя в просторный холл-вестибюль, Геральт сразу же направился к остекленному стакану, в котором скучал охранник.
Наличие охранника Геральта не слишком удивило — раз нюню Лимона не пустили на завод, значит, клан охранял свою территорию достаточно бдительно. И на проходной всегда есть кому сказать: «Не велено».
Новичок на месте Геральта, вероятно, некоторое время осматривался бы, вел себя не слишком уверенно — в этом случае охранники становятся наглыми и самоуверенными до предела. Но ведьмак сотни раз за свою карьеру проникал на заводы через охраняемые проходные. И прекрасно знал, как нужно обращаться с публикой на вахте.
С каменным лицом, ни слова не говоря, Геральт пер прямо в проход, перегороженный эфемерной хромированной планкой вертушки. Охранник должен нажать педаль, тогда барабан провернется и планка уйдет вниз, а за спиной проходящего новая встанет на ее место.
Охранник скупо улыбался и тоже пока молчал. Педаль нажимать он явно не спешил.
Геральт замедлился в проходе и остановился перед планкой. Выждал секунд пять. Потом повернул лысую татуированную голову к охраннику. Две зеркальных капли отразили самодовольную рожу охранника — здоровенного до неправдоподобия полуорка.
— Ну, что? — недружелюбно процедил Геральт. — Нажмешь на педаль или мне тут разнести все вдребезги?
Такого охранник не ожидал.
— Чего? — лицо его вытянулось.
Геральт видел, что стекло будки не простое, усиленное. По всей вероятности, даже пуленепробиваемое. Поэтому просунул ствол помповухи в окошко и первым же выстрелом вдребезги разнес стоящий на столе охранника будильник.
Когда грохот и звон смолкли, охранник сумел выдавить из себя не очень внятное:
— Ты что, псих? Это территория клана!
— Мне плевать. Я ведьмак. Поэтому хожу где вздумается.
— Ведьмак? — В глазах охранника впервые промелькнуло некое подобие понимания. — А, ну да… Татуировка…
Геральт навел ружье на охранника.
— Жму, жму! — заторопился тот и чуть качнулся — явно потянулся ногой к педали. Красный огонек на турникете сменился зеленым, и планка послушно подалась под нажимом бедра Геральта. Шаг, другой — и ведьмак ступил на территорию завода.
Он не оборачивался, но тем не менее прекрасно знал, что делает сейчас охранник. Во-первых, тянет из кобуры пистолет, а во-вторых, зажав между плечом и щекой телефонную трубку, давит на кнопку вызова, дабы оповестить руководство клана о визите ведьмака. Геральт знал это отчасти благодаря обостренным ведьмачьим чувствам, отчасти — благодаря богатому опыту.
Он не напрасно обставил свой визит столь пышно — стрельба, грохот, почивший будильник. Проникни он на завод тайно, существовал бы немалый риск, что клан сначала попытается его втихую подстрелить, а уж потом станет разбираться, кого это принесло в гости. Ведьмака клан первое время трогать точно не станет, да еще так красиво появившегося. Предпочтут выждать, дабы понять — а зачем, собственно, пожаловал гость из Арзамаса-16? Времени, как рассчитывал Геральт, должно было хватить с лихвой.
Теперь нужно срочно отловить кого-нибудь из низшего звена клана, а еще лучше из рядовых заводчан или дикарей. В самом деле — не у охранника же спрашивать, где именно на заводе работало жалкое существо по имени Леха Лимон? В каком цеху?
Однако подсказку Геральт нашел неожиданно быстро, едва вышел из корпуса на территорию. В виде деревянной стрелки на деревянном же столбике. Стрелка была окрашена давно облупившейся белой краской; поверх тянулась каллиграфическая надпись: «Лаборатории»; указывала стрелка на виднеющийся невдалеке аккуратненький трехэтажный корпус, к которому вела жиденькая тополиная аллея.
«Ага, — подумал ведьмак. — Девяносто против десяти, что тут».
При входе в корпус нашелся свой охранник, на этот раз далеко не такой здоровенный и грозный. Пожилой толстячок из людей, щеголявший в форменной фуражке и очках в золоченой оправе. Толстячок имел весьма благодушный вид, наверное, полагал, что случайные люди по территории не шляются. Ну, при такой-то внешней охране толстячок имел на то все основания.
— День добрый, — подпустив в голос скучающих ноток, поздоровался Геральт. — Как дежурится?
— Доброго здоровья, — дружелюбно кивнул толстячок. — Да помаленьку…
— Лимон тут, что ли, работал?
— Лимон? Малохольный такой?
— Угу.
— Тут, на третьем этаже, в триста семнадцатой. А что?
— Да так… Должок за ним числится один.
Толстячок закивал:
— Слышал, слышал… На Ганса работаешь?
— Нет. Лифт там?
Сомкнутые двери лифта и кнопку вызова Геральт давно уже разглядел.
— Там. Только я тебя в книгу записать должен. Минутку…
Толстячок вынул откуда-то из-под стола засаленный журнал, плюнул на палец и принялся переворачивать страницы.
— Звать тебя как? — спросил он, найдя нужную.
— Тимур Горчев, компания «Тульчинские измерительные приборы».
Шевеля губами, толстячок записывал.
— Должность есть?
— А как же! Калибровщик.
— Угу, записал. На выходе отметишься.
— Понял, — кивнул Геральт и вразвалку направился к лифту.
В лифте он добыл из рюкзака шерстяную шапочку и натянул на лысину — ни к чему светить на этажах ведьмачью татуировку. А зеркальные очки снял и спрятал в нагрудный карман.
На третьем этаже встретился унылого вида половинник, протирающий пыль с подоконников. На Геральта он покосился, но ничего не сказал, даже не поздоровался, хотя Геральт, поравнявшись с ним, деловито кивнул.
Триста семнадцатая оказалась заперта, но к такому повороту событий ведьмак был вполне готов, заранее нащупав в кармане коробочку с отмычками. Замок на дверях лаборатории был детский, есть умельцы, которым и отмычка-то не понадобилась бы. Хватило бы ногтя. Но Геральт ногти никогда не отращивал, предпочитал пользоваться отмычками.
Лимон скорее всего при помощи родного ключа отпирал бы дверь дольше.
Лаборатория была довольно просторная; судя по запыленным столам и подоконникам, давешнему половинчику вход сюда был заказан. Изучив степень запыленности, Геральт легко отыскал предмет вожделений Лимона — действительно похожий на средних размеров чемодан комплекс «Охрана-два». Рядом нашелся и чемодан поменьше с наружными датчиками. Отсоединив единственный подключенный к комплексу датчик, Геральт смотал кабель, упаковал датчик в чехол и пристроил в незанятой нише второго чемодана. Так же быстро и сноровисто он перевел в походное состояние и основной модуль.
«Теперь коды», — подумал Геральт, осматриваясь.
Наработки Лехи Лимона его совершенно не интересовали. Сразу было понятно, какого уровня он техник, если к выросшей на этом же заводе системе подбирал управляющие коды вслепую.
Невооруженным взглядом было видно, что на единственной полочке с бумагами кто-то недавно рылся. Две толстые общие тетради с записями все еще стояли на полке, но как минимум одну успели изъять. Однако оставшиеся тетради внимания Геральта не удостоились.
Геральт прекрасно знал, что делать дальше. Именно за это знание он и брал с киевлян плату, как правило, весьма высокую.
Первым делом он изучил табличку на внутренней крышке чемодана с комплексом.
«Изделие О-Н модель 730245-прим», — гласила табличка. Ниже химическим карандашом от руки было выведено: «Инв. номер 001».
— Семьсот тридцать двести сорок пять. Прим, — тихо пробурчал Геральт вслух.
И сдвинул скользящую дверцу стола-тумбы. Ногой. Только после этого присел на корточки.
Внутри тоже было пыльно, даже чихнуть захотелось. Пыль лежала везде — на темно-зеленых коробках с надписями, на полках, на кипах толстых брошюр. Геральт искал. Не найдя — сдвинул дверцу соседнего стола, такого же. Потом еще одного.
На поиски ушло около десяти минут. Наконец искомое было обнаружено: зеленый деревянный ящик с черной надписью: «Изделие О-Н модель 730245-прим. Запасное имущество и принадлежности». И рядом строка химическим карандашом: «Инв. номер 001».
Геральт довольно хмыкнул, затем вытащил из пазов крышку. Внутри в промасленной бумаге хранились некие малоинтересные в данный момент железки, а также несколько брошюр в запаянном полиэтиленовом пакете.
Вскрыть пакет было делом секунды. Брошюр было три: техническое описание и схемы изделия О-Н модель 730245-прим, формуляр запасных частей на него же и сводная таблица управляющих кодов.
Вот и все. Дело сделано.
Водворив крышку на место, Геральт спрятал ящик с ЗиПом в стол, закрыл все дверцы, а пакет с брошюрами упрятал в рюкзачок. Очень вовремя: подойдя к окну, ведьмак увидел с десяток живых, спешащих по аллейке жидких тополей от проходной к лабораторному корпусу.
«Ага, — подумал Геральт. — Вот и комитет по встрече».
Он покосился на комплекс и принадлежности.
«Пожалуй, с такими чемоданами особо не побегаешь…»
Секундой позже выкристаллизовалась другая мысль:
«А зачем, собственно, бегать? Самое ценное все равно уже у меня в шмотнике…»
Мысль была дельная и, главное, вполне справедливая. Если вести себя соответствующим образом, имелся реальный шанс обтяпать дельце успешно.
Остаток времени до прихода заводчан Геральт просидел на краешке стола, болтая ногой в тяжелом гномьем ботинке и насвистывая «И вдали, и вблизи».
От могучего удара входная дверь распахнулась и грохнула о стену; с шелестом осыпалась штукатурка. Геральт не изменил позы, только насвистывать перестал.
Пожаловал, конечно же, клан, причем его силовое крыло — где еще могут подвизаться такие мордовороты? А вон и бригадир… впрочем, это даже, наверное, не бригадир, а доверенное лицо хозяина.
Геральт присмотрелся и убедился, что невысокий худой орк вполне может оказаться даже и самим хозяином. Одет, во всяком случае, в дорогое. И цепь золотая на шее не из тех, что потолще и помассивнее, а из тех, что подороже и похудожественнее, с претензией. БугМаш, в конце концов, не такой уж и большой завод, верховодить тут может и такой вот простоватый орк. Хотя над ним скорее всего все равно маячит кто-то из местной управы, кто-то в строгом костюме, галстуке, при референтах и золоченом значке на лацкане пиджака.
— Он? — сухо спросил орк у вошедшего последним охранника с внешней проходной.
— Он, — подтвердил тот. — Только шапку нацепил и очки снял.
Геральта демонстративно взяли на стволы. Пушки у мордоворотов были внушительные, сорок пятые «гибсы».
Самый маленький из мордоворотов подал боссу стул. Тот уселся, закинув ногу за ногу.
— Ну, — предложил босс. — Давай знакомиться.
— Давай, — беззаботно улыбнулся Геральт. — Меня зовут Геральт.
— Надо же! Записался Тимуром Горчевым, а сам Геральт. И откуда ж ты такой шустрый, Геральт? Ручаюсь, что не из Тульчина. — Босс говорил внешне совершенно мирно. Но ведьмак знал, что за этим кажущимся миролюбием прячется обыкновенный бандит, обыкновенный зверь без жалости и сострадания, способный ради собственной выгоды закатать в цементный раствор родную мать.
— Я пока не услышал твоего имени, — ровно сказал Геральт. — Согласись, это невежливо: ты мое имя знаешь, а я твое — нет.
Босс усмехнулся и сделал едва заметный знак ближнему громиле. Обычный живой такой знак скорее всего действительно не заметил бы. Однако ведьмак подобного зевка никогда не допустит.
Громила резко, без замаха выбросил руку. Но вместо ожидаемого увесистого тычка под дых Геральту он попал в пустоту. А мгновением позже дикой болью взорвались суставы и сухожилия, руку нещадно вывернуло; громила судорожно хекнул, перевернулся в воздухе и с ужасающим грохотом грянулся о стол. Посыпалось стекло. Еще мгновением позже ведьмак возник на прежнем месте, только теперь у него в руках было ружье, и зрачок толстенного ствола глядел точно в лицо боссу.
— Вели своим мальчикам убрать пушки, — холодно посоветовал Геральт. — И представься. Я не люблю общаться с анонимами.
— Ты даже знаешь слово «аноним»! — искренне поразился босс. — Хорошо. Спрячьте оружие все. Меня зовут Шакир.
Мальчики вышколенно попрятали «гибсы». Геральт тоже прекратил целиться Шакиру в лицо, пристегнул помповуху к боку. Впрочем, при нужде он все равно мог выстрелить быстрее, чем любой из громил.
— Я много разных слов знаю, — сообщил Геральт нейтрально.
— По-моему, ты действительно ведьмак.
— Ведьмак, ведьмак, не сомневайся.
— Что тебя привело на БугМаш?
— Как всегда, — усмехнулся Геральт. — Жажда наживы.
— Но на этом заводе все спокойно и тихо. Чудовищ тут нет. Машины тут растут большей частью умные да мудреные. Что тут делать ведьмаку?
Геральт не стушевался:
— Например, продать некоему Шакиру охранный комплекс.
Шакир изобразил вежливую улыбку:
— Продавать мне охранный комплекс, выросший на моем же заводе? Да ты самый настоящий нахал, братец!
— Я тебе не братец, — равнодушно отозвался Геральт. — А что до комплекса, так умей вы с ним обращаться, давно бы уже смонтировали его где следует. У вас нет управляющих кодов. И схему монтажа внешних датчиков кто попало не привяжет к реальной территории. Тут нужен спец.
Шакир несколько секунд внимательно глядел на Геральта.
— Тебя нанял Леха Лимон?
— Пытался. — Ведьмак не стал лгать. — Но у него не нашлось чем заплатить.
— Да, действительно. Кажется, он крупно задолжал Гансу?
— Меня не интересует, кому и сколько он задолжал. — В голосе Геральта снова появилось равнодушие. — Меня интересует другое.
— Что?
— Деньги. Я слышал, ты хотел купить комплекс… точнее, управляющие коды к нему. Я могу их продать. Коды, схемы, весь пакет документации, имея который комплекс сумеет смонтировать и запустить даже такой болван, как Леха Лимон.
— Значит, ты знал, где хранится документация… Неужели здесь? В этой самой лаборатории, где Лимон без особых результатов парился полтора года? Какая проза.
Ведьмак промолчал.
Некоторое время Шакир просидел в задумчивости.
— А ведь против двух десятков вооруженных живых даже ты не выстоишь, ведьмак. Что мешает мне натравить их на тебя? Убить, обыскать. Если не найдем — перевернуть вверх дном всю лабораторию?
— А ты попробуй. — Геральт пожал плечами. — Если жить надоело.
Подручные Шакира выглядели бледновато: их пострадавший коллега продолжал валяться у стола, усыпанный осколками битого стекла и белесым мерзкого вида порошком из некогда стоявшей на столе кюветы. Признаков жизни коллега последние минуты не подавал.
— Ты нас явно заметил заранее и поджидал, — заговорил Шакир. На лице его возникла некоторая задумчивость. — Стало быть, ты подготовился. Ручаюсь, ты спрятал документацию так, что с наскоку ее не найти. Впрочем, от документации самой по себе проку мало, нужен еще техник, который в ней разберется. Техник или ведьмак. Получается, что проще заплатить тебе и получить готовый рабочий комплекс, чем сначала искать документацию, потом специалиста. И не факт еще, что комплекс заработает.
Геральт слушал сии интеллектуальные упражнения с вежливым интересом.
— Ладно, — Шакир хлопнул себя по колену холеной ладонью. — Десять тысяч.
Ведьмак непринужденно засмеялся.
— Целых десять? Ха!
— А что? — Шакир манерно двинул бровью. — Хорошие деньги.
— Да не очень, — не согласился Геральт. — Особенно если сравнить с обещанной Лимону суммой.
Шакир по-свойски взглянул на ведьмака и развел руки в стороны:
— Полноте, этому болвану я пообещал просто цифру с потолка! Не может этот паршивый комплекс столько стоить!
— Еще как может. И мне цена в триста двадцать тысяч гривен очень даже нравится. Тем более что я-то ее взял как раз не с потолка, а с твоих же слов.
— Со слов Лимона, — жестко уточнил Шакир. — Моих слов ты не слышал.
— Хорошо, — легко согласился Геральт. — Со слов Лимона. И, заметь, мои слова ты уже слышал. В отличие от…
Шакир впечатленно покачал головой:
— Да! Ушлые вы ребята! Раздеваете на ходу.
— Работа такая.
Шакир выдержал паузу и сокрушенно вздохнул:
— Ну что же… Ты не оставляешь мне выбора. Я согласен.
— Вот и прекрасно. Деньги принесешь в гостиницу «Южный Буг» через три часа. В какой номер, еще не знаю, спросишь у администратора, где ведьмак остановился. Документацию получишь там же. Шутить не советую.
Геральт сгреб со стола рюкзачок, переступил через находящегося в отрубе громилу, отодвинул с дороги второго и сделал Шакиру ручкой:
— До встречи!
А потом вышел за дверь. Шаги его гулко разносились по коридору — ведьмак намеренно ступал так, чтоб его было слышно.
— Капрон, Сурик! — негромко приказал Шакир. — Приглядите за ним. Только тихонечко…
Шакир поступил не слишком умно: даже сквозь грохот собственных шагов находящийся в противоположном конце коридора, у самого лифта, ведьмак его слова услышал. Но Шакиру в голову не могло прийти, что этот мутант, прячущий под шапочкой татуированную лысину, имеет запредельный слух.
Словам Шакира Геральт лишь криво усмехнулся.
Толстячок на входе в корпус при виде ведьмака чуть рогалик изо рта не выронил. Он совершенно справедливо посчитал, что донесшийся с третьего этажа грохот однозначно свидетельствует о незавидной судьбе «Тимура Горчева» из придуманных «Тульчинских измерительных приборов». Ан нет, посетитель жив и совершенно цел…
— Пока, батя, — Геральт толстячку даже подмигнул.
Уже на аллее перед корпусом он подумал, что забыл расписаться в журнале, — толстячку за это может и нагореть. Но ничего похожего на угрызения совести ведьмак не испытал.
* * *
В «Южном Буге» Геральт снял еще один номер в дополнение к уже имеющемуся, причем на другом этаже. Сунув администратору двадцатник, объяснил, о каком из них следует сообщать ожидаемым посетителям. После чего некоторое время колдовал в этом самом номере, предназначенном для переговоров и передачи денег.
Потом сделал несколько звонков, иногда заглядывая в пухлый телефонный справочник, который обитал на прикроватной тумбочке. Отзвонившись — набросал по нескольку строк на чистые бумажные листы с логотипом гостиницы.
И в самом конце позвонил Весемиру — разумеется, по мобильнику. Весемир одобрил.
Через полчаса он был готов. До решающего эпизода оставалось еще полтора. Все это время Геральт расслабленно валялся на неразобранной кровати.
Первыми появились инкассаторы из «Гномиш Кредитинвест» — четверо кубических гномов в шлемах, бронежилетах и со скорострельными автоматами почти что без ствола, плюс один гном с пуленепробиваемым чемоданом, пристегнутым к запястью, и лишь с пистолетом на поясе. Еще два гнома-бойца остались за дверью, Геральт это слышал. Одного даже успел заметить в щелочку, когда дверь уже закрывалась.
— Геральт? — вопросительно обратился к ведьмаку гном с чемоданом.
— Да, это я. Плательщики пока не прибыли, прошу вас, располагайтесь. Они вот-вот появятся.
Гном-кассир удовлетворенно кивнул и присел на стул. Остальные взяли комнату в правильный крест, держа автоматы под руками. Ребята это были серьезные и последовательные во всем, чем занимались.
— Откровенно говоря, сумма, которую вы собираетесь переводить, слишком мала для подобного эскорта, — сообщил кассир. — Но, учитывая то, что вы наш старый и проверенный клиент, руководство банка решило пойти вам навстречу.
— Спасибо! Я искренне тронут! — поблагодарил Геральт. Он и правда радовался хорошим отношениям с одним из самых стабильных банков Большого Киева. Хотя подозревал: дело вовсе не в нем самом, а в том, что при звонке в банк было упомянуто имя Весемира и название «Арзамас-16».
Вторым заявились два орка из окружения Ганса Берштойга, местного воротилы с репутацией горлореза. При виде кубических гномов в полной боевой они побледнели и присмирели, особенно когда один из инкассаторов могучим басом посоветовал «не касаться своих пукалок». Орки тихонечко уселись на кровать и затихли.
Потом, минуты через три, Геральт отследил на балконе Койона с поясным пулеметом. Друг-ведьмак сумел влезть на балкон так, что Геральт этого не заметил! Высший пилотаж. Афишировать наличие огневого прикрытия Геральт, понятное дело, не стал, только лишний раз порадовался достаточно плотному тюлю на окнах.
Ну а вскоре и Шакир со своими ребятами пожаловал; следом за ними ввалились и оставшиеся гномы из коридора, причем мордовороты Шакира, невзирая на превосходство в росте, рядом с гномами смотрелись все равно бледновато. И ручки демонстративно держали на виду — знали, с кем дело имеют.
В номере сразу стало тесно. Геральт на правах хозяина предложил Шакиру стул.
— Итак! — начал он, хлопнув ладонями и потерев их друг о друга. — Во-первых, я хотел бы увидеть деньги.
— А я сначала хотел бы увидеть документацию, — буркнул Шакир неприветливо. На присутствие столь внушительной компании при сделке он явно не рассчитывал. Ситуация, несомненно, ломала его планы.
— Господин Шакир, играйте, пожалуйста, по правилам. Ведьмаки никого и никогда не обманывают.
— Мало ли что ведьма…
— Деньги покажите! — рявкнул Геральт с металлом в голосе.
Одновременно все шестеро гномов-бойцов качнулись вперед. Вроде бы никакой угрозы это движение и не несло, но у всех присутствующих мороз продрал по коже. Все-таки умеют банкиры подбирать людей во внешнюю охрану…
Шакир буркнул нечто маловразумительное, однако сделал знак одному из своих. Тот подчеркнуто медленно шагнул к столу и поставил на полированную поверхность небольшой кожаный кейс. Потом так же медленно открыл его и высыпал на стол деньги. Десятка три толстых пачек в банковской упаковке. По иронии судьбы на упаковках красовались знакомые эмблемы «Гномиш Кредитинвест».
— Коллега! — Геральт обернулся к гному-кассиру. Тот встал и тоже промаршировал к столу. Живой Шакира с пустым кейсом в руках невольно попятился в сторону.
— Триста двадцать тысяч гривен! — объявил гном спустя полминуты. — Банкноты настоящие. Если нужно, могу проверить каждую, но, по-моему, это ни к чему: упаковка нашего банка подлинная.
— Отлично! — удовлетворился Геральт. — Не надо проверять. — И повернулся к Шакиру: — Пусть кто-нибудь из твоих людей заглянет во-он в ту тумбочку.
— Капрон! — неохотно буркнул орк, и один из мордоворотов, который, кстати, в компании себе подобного сопровождал Геральта от БугМаша до самой гостиницы, вперевалку подошел к тумбочке и отворил дверцу.
— Тут пусто, — сообщил мордоворот. Шакир недобро насупился.
— Глянь под полкой. Снизу.
Капрон кряхтя встал на четвереньки и заглянул в тумбочку, склонив голову почти к самому ковру. На лице его прорезалось некоторое понимание. Потом он на ощупь отодрал две полосы липкой ленты и вынул из импровизированного тайника полиэтиленовый пакет с документацией на комплекс.
Понятное дело, Геральт насчет подобного «тайника» не питал особых иллюзий: внимательного обыска тот точно не пережил бы. Но вот дать фору в пару минут, если что-нибудь пошло бы не так, вполне был в состоянии.
— Ознакомьтесь, — нейтрально предложил Геральт не столько Шакиру, сколько безошибочно угадываемому в свите его мордоворотов технику. Техник сам по себе был тоже дядя немаленький, но на фоне остальных громил и особенно гномов смотрелся не то что бледно — вообще никак не смотрелся.
Он уверенно вскрыл пакет, вскользь проглядел каждую из трех брошюр, особое внимание уделив третьей, с таблицами кодов. Затем нетвердым от волнения голосом заверил своего босса:
— Это то, что нам нужно.
— А теперь извольте расписочку! — бодро предложил Геральт, выкладывая рядом с деньгами лист бумаги. — Я уже поставил автограф, теперь дело за тобой… Все честь по чести: «Я, покупатель, в обмен на оговоренную сумму в гривнах получил из рук продавца интересующий товар в надлежащем виде, никаких претензий не имею, в чем и расписываюсь…» Вот здесь.
Шакир угрюмо покосился на гномов. Заводской клан явно не собирался расставаться с деньгами вот так запросто, но внушающий суеверный ужас эскорт «Гномиш Кредитанвеста» мог кого угодно заставить изменить первоначальные планы. С каменным лицом Шакир вывел на листе каллиграфически безупречную подпись.
— Отлично! Сделка состоялась! А теперь, господа заводчане, я прошу вас покинуть сии скромные пенаты. У меня еще несколько конфиденциальных дел.
Трое из гномов-бойцов тщательно сопроводили малосимпатичную гоп-компанию Шакира к выходу и плотно затворили дверь номера со стороны коридора. Четвертый встал у самого выхода.
— Теперь вы. — Геральт щелкнул пальцами в сторону людей Ганса. — Сколько вам должен Леха Лимон?
— Двадцать три штуки, — хрипло сообщил один.
— Недавно ж было двадцать две! — удивился Геральт.
— Так день, считай, прошел, — недоуменно пожал плечами бандит. — Счетчик же крутится.
— Ладно, хрен с вами. — Геральт вскрыл одну из пачек и отсчитал нужное количество кредиток. — Давай, рисуй подпись.
На стол легла очередная расписка.
— И глядите, не приведи жизнь станете трясти с него сверх этого…
— Да сдался нам твой Лимон, — угрюмо буркнул бандит, ставя на бумаге неразборчивую закорючку. Второй упрятал деньги во внутренний карман.
— Вексель пожалте!
Орк снова покопался по карманам и наконец добыл сложенный вчетверо листок. Геральт быстро пробежал текст глазами, хмыкнул и устроил документу неотложную кремацию в пепельнице.
— Свободны! — дернул ладонью Геральт, выгоняя подручных Ганса.
Гном у выхода предупредительно распахнул двери.
Когда бандиты убрались, Геральт наконец-то вздохнул свободно.
— Фу! Ну и публика, шахнуш тодд! Я аж взмок. Койон, будет прятаться, входи.
Ведьмак повернул запоры на балконной двери, и в комнату проскользнул Койон с пулеметом наперевес.
— Нервная у вас работа, господа ведьмаки! — заметил гном-кассир. — Ладно, время — деньги. Дальнейшие указания?
— Как и договаривались! Сто десять тысяч на счет концерна Халькдаффа. Сто — на текущий «Арзамаса-16». По пачечке мы с Койоном возьмем на карманные расходы. Ну, а оставшееся — минус ваш процент, разумеется — на мой оперативный счет и счет Койона. Пополам. Так?
— Да с меня и четверти хватит, — безразлично сказал Койон. — Дело ты, считай, в одиночку провернул.
— Ну, как скажешь, — не стал спорить Геральт.
Гном сноровисто подбил баланс на вышколенном карманном калькуляторе и огласил конечные цифры, включая банковский процент. Геральт, не глядя, подмахнул платежку. После чего инкассаторы погрузили деньги в чемодан и, попрощавшись устами кассира, отбыли.
Два ведьмака дождались, пока полосатый инкассаторский броневичок, припаркованный напротив входа в гостиницу, отвалит и скроется вдали. Когда это произошло, Койон экономным движением задернул плотный тюль, за которым еще недавно прятался.
— Ну, что? В ресторан? Жрать охота.
— Не возражаю, — Геральт наконец-то окончательно расслабился. — Только во второй номер заглянуть надо, вещички забрать. Я с тобой поеду, если не возражаешь.
— Не возражаю.
— Кстати. — Геральт остановился и положил товарищу руку на плечо. — Спасибо, что успел. Быстро, поди, гнать пришлось?
— Быстро, — подтвердил Койон.
Они поднялись двумя этажами выше. Еще только отпирая номер, Геральт вдруг остро ощутил, что внутри кто-то есть. Дав отмашку Койону, Геральт сдернул с бока помповуху и толкнул дверь, а сам спрятался за косяком.
— Геральт! — сдавленно донеслось изнутри.
— Тьфу ты, — раздосадованно сплюнул ведьмак. — Лимон! Ты там один?
— Тише! — нюня перешел на шепот. — Один.
Тем не менее Геральт вошел в номер со всем мыслимыми предосторожностями. Однако Лимон действительно пребывал тут в одиночестве — ни в совмещенной с сортиром ванной, ни в шкафу, ни на балконе никого не оказалось.
— Ты как тут оказался, шахнуш тодд?! Это, между прочим, мой номер!
— Коридорный пустил, — прошептал Лимон. — Еле упросил. Говорите, пожалуйста, тише, я видел на лестнице живых Ганса…
Койон поставил пулемет на предохранитель и опустился в кресло. Но из рук он оружие не выпустил.
— Геральт! — Лимон продолжал шептать — затравленно, заполошно, словно мир вокруг кишел его смертельными врагами. Собственно, совсем недавно так оно и было. — Они меня вот-вот убьют! Я видел, хвосты прекратили за мной приглядывать и убрались, а значит, Ганс выслал киллера! А поскольку я не заплатил, убивать он меня будет медленно и жестоко. Геральт, я вас умоляю, спасите меня! Давайте проберемся этой ночью на завод! У меня нет других шансов спастись, Ганс недавно сказал, что ему надоело ждать…
Губы Лимона дрожали, да и вообще он имел настолько жалкий и потерянный вид, что Геральту стало противно.
— Ну и слизняк, — буркнул Койон из кресла. — Где ты таких находишь, Геральт?
— Я нахожу? — переспросил Геральт с легким возмущением. — Это он за мной таскается с самого утра! Слышь, Лимон, давай проваливай! Твои проблемы, ты их и решай. Мужик ты, в конце концов, или тряпка половая?
— Ради жизни! — взвыл Лимон и снова бухнулся на колени. — Неужели вы начисто лишены милосердия? Я отработаю, отслужу, только спасите!
— По-моему, его проще пристрелить, — покачал головой Койон. — Не отстанет.
— Может быть, вы возьметесь? — нюня переключил внимание на Койона. — Я гляжу, вы тоже ведьмак! Деньги будут, я обещаю, нужно только добыть комплекс и позвонить Шакиру…
— Шакир отберет комплекс и ни хрена тебе не заплатит, — мрачно и не без злорадства сказал Геральт. — Дурак он, что ли, триста двадцать кусков на ветер выбрасывать?
Лимон зло зыркнул на Геральта и снова наладился было упрашивать Койона, но тот остановил его властным жестом руки:
— Хватит, живой! Если тебе отказал Геральт, то с какой стати соглашаться мне? Уходи. Мы не можем тебе помочь.
— Куда же я пойду… — Лимон окончательно упал духом. — Мне идти некуда. Меня везде найдут… Хоть бери и того… вниз головой с балкона.
— У тебя духу не хватит, — Геральт брезгливо искривил губы. — Слизняк. Пошли, Койон.
Все, что оставалось в номере из немногочисленных вещей, Геральт упаковал в рюкзачок. Пристегнул ружье к поясу и вышел в коридор. Койон следовал в шаге позади.
Поясной пулемет — штука довольно громоздкая и малохарактерная для обитателей гостиниц. Поэтому ведьмаки по пути к выходу собрали обильную жатву удивленных взглядов. Внизу Геральт сдал ключ портье, ни словом не обмолвившись о том, что в номере остался потенциальный самоубийца. Если, конечно, Лимон еще находится в номере, а не в кровавой луже на асфальте справа от входа в гостиницу.
Ни Геральт, ни Койон так и не посмотрели вправо, когда вышли. Им это было попросту неинтересно. Джип Койона дожидался хозяина совсем в другой стороне, а судьба винницких слабаков слабо связана с безопасностью города.
Уже сидя за рулем, Койон негромко, с некоторым сомнением в голосе, спросил:
— Может, надо было сказать Лимону, что он уже никому ничего не должен?
Геральт забросил рюкзачок на заднее сиденье и удивленно воззрился на товарища:
— Зачем?
Койон поморщился — было видно, что разговор ему неприятен.
— Да так… Сиганет еще сдуру.
— Сиганет — значит, туда ему и дорога, — отрезал Геральт. — Жизнь любит сильных. И сама выбирает — кому позволить жить, кому нет. А ты почему-то всегда потакал слюнтяям.
Койон загадочно вздохнул и запустил двигатель джипа.
— Позвони Весемиру, — попросил он перед тем, как тронуться. — Скажи, что с Халькдаффом мы в расчете. А то Весемир Ламберта сдернет из Мариуполя, а там довольно сложное дело наметилось.
— Хорошо, — кивнул Геральт и добыл мобильник. — А Ламберту мы поможем! Я, например, совершенно ничем не занят! Вот только перекусим где-нибудь по пути, и в Мариуполь! Не возражаешь?
— Нет.
ИРИНА ШРЕЙНЕР Самый лучший звездоход
Я вам что про ихние звездоходы скажу? Ценная машинерия, спору нет, но не по уму сделана, нет, не по уму. Вот че она, вы думаете, падает? Навроде вот мажеских всяких штук… Не, само собой, работает, а вот как работает? То так, то сяк, то наперекосяк. Тонкая, понимаешь, техника, душевная организация у ей сложная! А че душевного? Вот какая-никакая гномская штука — та да, та машина завсегда душевная: душу, значит, греет. Хотя сложная у их машинерия, гномская-то, сверх всякой меры сложная. Наша, словом, все одно лучше. А что? Ну и что? Ну и патриот! Сам ты…
Про звездоходы? Ну да, я ж про звездоходы начал. Так вот что я скажу: вещь ценная, однако по уму работать ну никак не может. Тут, значит, упал один такой… А как ему не упасть? По мне, так странно было б, если б не упал. А упал знатно! Прицельно, можно сказать: аккурат, значит, на свалку за доками эта штука и плюхнулась. Вот-вот! Там ей, значица, и место!
А треску, доложу я, было, гаму, грому! Ну-у… прямо Вторые Колдунские Войны на нашей помойке началися. Я бабу свою за косу и в подпол — сиди, мол, как мышь под метлой., м-м-м… ну не мышь, положим, скорей уж землеройный зверь мамонт, на меньшее баба моя не тянет… Э, ладно, не о том. Ну, значит, бабу в подпол, топор под мышку — и туда.
Добегаю, гляжу — нет никого. Валяется, значит, эта летучая чушь, дымится, шипит, и в нутрях у ее чтой-то хрюкает. Ну, а пока я на лайбу эту глядел, скрежетнула она, и дверь у ей в боку образовалась. Вот так я первый раз звездоходца моего и увидал. Ну да. Так звездоходцем и зову, а то имечко у него… Не любила его мамаша, видать, чтоб такое имечко-то сыночку… Н-да. Я его, по чести сказать, так и не запомнил.
Ну да. Так вот, значица. Он, попервоначалу-то, все по-своему изъяснялся: курлы да мурлы. Обвыкся, правда, быстро, говорить начал. Верней, мажеская штучка у него полезная при себе нашлась: лягва… Ну, вроде того как— то. А? Лингво что? Лингвоаназизатор? Ну, тебе, стал быть, виднее. Но болтал он дня через три с этой лягвой как по писаному. Вот и рассказал про то, что вроде земля есть, выше — небо, а дальше там, значица, вакум такой. А в вакуме этом другие земли навроде клецок в супе плавают. Или архипелаг как будто. И лайбу мне свою показать повел: вроде как это корабль такой, по вакуму плавать. Звездоход называется. А сам он, звездоходец-то — исследователь. Вроде как до других земель любопытный, но за казенный счет. Так за казенный счет я тоже любопытный…
И вот, значит, кажет он мне звездоход свой, а сам сокрушается: век мне, мол, тут у вас сидеть. Тут и помру. Ходовая часть — в сопли! Двигатель — вдребезги! Только, грит, рубка управления цела и осталась. Ну, и пошел я на эту рубку смотреть. И кого они там у себя до строительства допустили? Это ж хуже гномов! Кнопочки, тумблерочки, рычажочки, да еще камушками инкрустировано: красненькими и зелененькими. А с камушками у них, доложу, дело плохо: маленькие, тускловатенькие, и цветов только двух. Сапфирчика, хоть завалященького — ну ни одного! Я ему, значица, так и говорю, а он ну про всякие мажеские штучки мне рассказывать — что светятся-де эти камешки своим собственным светом, на всякие тонкости для управления указывают. Словом, то ли гномская работа, то ли мажеская — не разбери-пойми. Да только где ж это видано, чтоб такая дура здоровая такими ма-ахонькими кнопочками управлялась? И чего тут удивляться, что падают? И падают, и будут падать!
Поглядели мы на это дело, покумекали с дружками и решили звездоход тот починить. Я-то, слышь, человек передовой, в самолучших пароходах колесных всю машинерию до последней гаечки знаю. Знамо дело, у хозяина спросили, а он только рукой машет: куда, мол, вам! А то еще напьется и заводит шарманку: дикари вы тут, пережитки с предрассудками. Я уж на что человек смирный, а если меня предрассудком обозвать, так тоже навернуть могу. Ну, ему и наворачивали. А то еще как было: прилетел, значица, кто-то из мажеской братии в порт за грузом колдунских травок, что с Южного материка везут. Увидал мой звездоходец ковер-самолет, аж цветом лица переменился: все, грит, допился, братцы. Предметы обстановки летают. Сел в уголку и тихонько так слезы точит. Худо человеку, видать. Не иначе свою благоверную вспомнил: у моей так все предметы летают, и которые обстановки, и которые просто так под руку подвернулись.
Ну а звездоход починили мы в лучшем виде! По-людски, по-нашенски, безо всяких ентих штучек. Ну, наперво колеса гребные поставили, как у лучших пароходов. Назади, где дырка была, ща… а, сопло! Так вот, дырку эту для соплей мы заделали, рули поставили… Почему рули? Дак один «лево-право», а другой «вниз-вверх», как у мажеских летучих штуковин. Ну, чин-чином барахло из двигательного отсека выгребли, как же оно, погодь… А! «Аннигилияционный реактор», во как. Барахло и барахло, мажеское вдобавок, если по названию судить. Да барахло, я тебе говорю! А то че оно падает? Топку нормальную сделали, трубу вывели, ну и рубку наладили, не без того. Я там только навигацкие приборы трогать не стал — штурманское дело навигация, не мое. Да и звездоходец пусть уж по привычным приборам, думаю, рулит. А то нарулит… Правда, если уж честно, без мага мы не обошлись. Уж ему помудрить пришлось, как передачу от руля к штурвалу сделать и на приборы навигацкие «е-нер-ги-ю» от топки подавать. Ну и еще кой-чего по малости…
Ну и, значица, с утра пораньше беру я своего гостя — когда проспаться уже успел, а похмелиться — нет: пошли, грю, звездоход твой глядеть. По первому, грю, сорту машину сделали, любо-дорого! Я и экипаж уж подобрал, один-то не сладишь. Ну, привожу я его работу нашу глядеть. Он и глядит, как счас помню. Глядит — и цветами разными идет. Поначалу красный сделался, что твой рак.
Это, грит, чего? — а сам давится.
Это, грю, колесы. Гребсть, стало быть. И труба, обратно же. Там, внутре, топка, а это ейная труба.
А он грит, и чего, грит, колесами гребсть будем? — а сам опять давится.
А я грю, вакум твой гребсть и будем. Сам же поучал, что летать там аки птицы или обратно же ковры и прочая мажеская штуковина нельзя, ехать тоже нельзя, через то что тверди никакой нету, стал быть будем плысть. Плысть и гребсть. Самую, грю, лучшую пароходную машинерию тебе для твоего вакума склепали!
А он молчит. Давится. Зря я человеку похмелиться не дал.
Ну, помолчал он, подавился и грит, мол, ну никак невозможно это, чтобы вакум колесами гребсть.
А я грю: а пробовал кто-нибудь?
Тут он ажно зеленью покрылся, стоит, губами шлепает, и не поймешь: то ли в смех его сейчас кинет, то ли в слезы. Но ничего, в руки себя взял, отдышался и честным делом сказал: никто, мол, не пробовал.
Я так себе разумею, за державу ему обидно стало. Тоже, видать, патриот. За живое его взяло, что никто у них там не додумался.
И вот, значица, собрались мы. До вакуму пришлось на мажеской тяге лететь: дали мне, значица, сосудину специальную и пару заклятиев: как воздушных ляменталей… Ну, еляменталей, разница-то? Ентих самых, короче говоря, оттудова выгнать и до дела запрячь, а потом назад загнать. Так, стал быть, и поехали. Я за механика и рулевого, звездоходец — навроде лоцман и за навигацию ответственный, и кочегары при топке. Двое.
Развели мы, стал быть, пары, и грю я, значица: рули, мол. Куды нам плысть? А у звездоходца моего глаза дикие, как у отравленного. На экраны свои мажеские таращится, аж трясется весь. Мы ж, грит, в вакуме! Точно, грю, в вакуме. Вон, ляментали в сосудину свою попрятались и рожи оттудова корчат. Воздушные они у нас, не вакумные. Так дальше-то, грю, нам куда? Тут начал он что-то там свое кулдыкать: того-сего, световой год, такой год, сякой год, подпространство…
А я ему: ты, браток, на вот, похмелись и пальцем покажи. Карты-то есть?
Карта у его, ясное дело, мажеская. Но ничего, понятная. Ента звездочка там, другая тут, мы — вот, а плыть вон туда.
Ну, грю, ясно все. Вот сначала к той звезде, и за ей прямо направо.
А звездоходец мой мало не деревенщиной обзывается. До той, мол, звездочки тыщу лет ползти — не доползти.
А я ему и грю: ежли с реактором, так точно и за тыщу не доползешь — звездоход твой колдыбнется раньше. А у нас механика надежная, до звезды той на глазок миль двадцать, стало быть, часа за три дойдем. Ну, может, поболе чуть.
Дал, я значица, свисток отходной, и двинулись мы себе ни шатко ни валко. И на что ему столько кнопочек было, не пойму! Я-то все по-нашенски сделал, без вывертов всяких. Штурвал посередке, справа рычаг для скоростей, слева для верху-низу, манометр и от гудка ручка. И чего еще? Любо-дорого!
А большущие енти звездочки, когда близко! Это, я вам скажу, да! Прям как солнце.
Потом свернули мы, и дальше. Только чуть нас евойная механика мажеская, для навигации которая, не подвела. А как дело было? Гляжу я — опять звездоходец мой в цвете переменился. А цвета он менять горазд, доложу я, прям как тропический хам-ящер. Ась? Чего-сь? Хамалеон звать? И маленький он? Ну и бес с ним. Я о чем бишь?.. Ну, сделался мой звездоходец белый весь и аж с просинью. Все, грит, тут-то и конец хитрой нашей машинерии. Рой, грит, нам навстречу летит. Метеоритный.
Ну, я натурально и спрашиваю: что, мол, кусаются?
А он: кто кусается?
А я: известное дело — раз рой, значить пчелы, или обратно же осы. Или прочая какая насекомость вакумная, почем я знаю, что тут за насекомость у вас?
Кусаются, грит, как есть кусаются. Закусают на клочки-тряпочки. Только не насекомая эта напасть, а камни летучие. Расшибут в лепешку, и кранты.
Где, грю, камни? Которые такие летучие?
А он в экран тычет, там огонечки такие ползут. Ну, он мне и грит: это, типа, от приборов навигацких изображение такое подается. А на деле это камни большущие. Летят.
Ну вот век не любил я енти мажеские штуки! Одни от их неприятности. Как со всякой мажеской техникой свяжешься — тут тебе и камни летают, и вообще что хошь. Как то раз благоверная моя купила бутыль с заклятием мажеским: чтобы, стал быть, молоко в ей не кисло. Бутыль хорошая, дельная была, ну и залил я туда первач. Думаю, раз уж для молока годится, первачу тому потом и вовсе цены не будет. Так что думаешь? Через месяц бутыль раскупорил, а оттудова змий зеленый лезет! Завелся, понимаешь! Ну да это я к слову. А вообще со всякими штучками мажескими… Знаем мы эти тонкости!
Кулаком колдыбнешь как следовает быть, и тут же у нее в душевной организации просветление наступает, прям как у моей благоверной. Ну, я, значица, по экрану-то ентому мажескому и колдыбнул. Мы до заклинаниев не ученые. И все тут же значица по своим местам встало. Смотрю, не летят больше каменюки, как положено вниз посыпались. Звездоходец ажно подскочил!
Это, грит, чего? Неужто экран поломался?
Ну а я ему: как, грю, чего? Падают. Камни — значит, падать должны, а не летать. Вот они и падают. То ж с твоей же системы мажеской выхлоп и шел — оттого, стал быть, и каменюки летали. Ну и рассказал ему, как у меня в бутыли змий зеленый вместо первача завелся.
Да-а… По дороге всякого еще было. В поле гравитационное как-то раз заплыли. Я так разумею, гравитация ента навроде водоросли: на лопасти наматывается и гребсть мешает. Ну, до водорослей мы, знамо дело, привычные… Звездочка там больно здоровая оказалась, вот гравитации-то в тепле и разрослись.
Только якорь в вакуме бросать неудобно: плавает он отчего-то рядом, как не чугунный даже. Плавает и в елюминатор снаружи стучит.
Ну и прибыли мы, значица, ни шатко ни валко в порт ихний: космобаза называется. А здорово устроено: заплываешь сразу в сухой док.
Все, грю, у нас по ходовой части в порядке, только на колесы гравитации, может, где намотались и ляментали у меня в сосудине соскучились, их бы погулять отпустить. И угольком бы загрузиться. Да, и по мажеской части ишшо: заклятиев там кой-каких до дела довести, а то выхлоп от вашенской, грю, магии — аж камни летают. Тут звездоходец локтем меня отодвинул и давай руками махать: разъясняет, значица. То ж я и гляжу, они на трубу да на колесы пялятся, как на мышь в самоваре.
А мы ж с какой задней мыслью брались механику вакумную клепать: ясно дело, колесный звездоход куда как лучше против реакторов ихних, да и надежней не в пример. Один-то можно переоборудовать за бесплатно: баба моя до умных вещей доходчивая, про рекламу мне все прямо так и растолковала. Про рекламу и про патент. Вот на гномские штуковины всякие завсегда патент, и на мажеские тож. И знаешь, вроде, как такую же сделать, а ни-ни! Вот на космобазе ихней, в порту то есть, я патент на звездоходы колесные немедля и выправил. Так что теперь кто себе звездоход хороший захочет, так это только ко мне! Вот клиентов поболе наберу, земли участок прикуплю, верфи выправлю, и пойдет у меня дело — плюнь да свистни! Вот ты, к примеру, братан, по ученому делу до нас прибыл, то есть почитай, что по мажескому. Однако ж ко мне пришел. А через то я какой вывод делаю: что зведоход тебе свой до ума довести потребовалось. Так и что? Цену разумную возьму, по деньгам. Да и то сказать, маловато клиентуры-то. Думал я в одном порту потереться, в другом, прикидывал, может, и фрахт какой со звездоходцем моим возьмем. Клиентура-то она как набирается? Так и набирается, стал быть. Да только летаем мы с тех пор исключительно по разным выставкам ученых достижениев. А ученые до нас на борт лазают, в топку суются, в трубу, ляменталям воздушным, что в сосудине сидят, рожи корчут. А потом мы пары разводим (как ученых из топки повытащим) и везем всю эту братию на орбиту катать. Ровно прям карусель! Одного я понять не могу, чего эти умники всегда такие зеленые делаются? Прям как ты, братан, только ты еще и со шшупальцами…
КОНСТАНТИН АСМОЛОВ ГРИГОРИЙ ПАНЧЕНКО Каато Темное Солнце
Тэо о том, как Каато Темное Солнце участвовал в войне за Восточный сектор
Сказал лорд Ширу: «Издревле идут бои за Восточный сектор. Прадед мой трижды наносил поражение врагу. Сейчас, однако, множество воинов собрал лорд Тыга. Многие из А-1, А-2, Д-3 и К-19 тоже будут под его штандартами, и по ящику рыбных консервов обещал он каждому из шатающихся свободно, кто обнажит клинок за него. Также платил он Сая Проникающему и Хре Безволосому, но последний уже имеет договор в Р-54. Ожидаю, что многие ныне из неназванных и малоизвестных тоже придут».
Сказал Каато: «Будет биться на их стороне Он Стальная Труба. И не было еще воина в Западном секторе, кто мог бы одолеть его».
Сказал лорд Ширу: «Мало у них тентов, и скоро погонит жара их в бой».
Сказал Каато: «Воистину Тыга Зын-забоур — достойный лидер. В три дня перешло его войско плато Непуд. Что стоило ему отобрать тех, кто умеет возвышать волю над телом. Однако, дабы не истратить себя, должно им уложить осаду в девять приемов пищи. Ибо сказано: враг победы — продолжительность боя. И нет у них столько буеров, чтобы погрузить всех. В нашем же замке сто шестьдесят человек, включая нанятых и связанных долгом. Но не все из слуг и техников равно искусны в стрельбе и ремонте».
И ждали два дня. В конце второго началась песчаная буря, и перископ замело. И знал Каато, что если так хороши Он Стальная Труба и Сая Проникающий, то непременно этим воспользуются. И точно. Как рассеялось, увидели все, что снят дальним выстрелом дозорный на башне.
В тот же час раздался шум схватки близ северных стен. Как оказалось выяснено, кто-то нерядовой из осаждающих вошел в сознание одного из бойцов, чья воля была слабее, и успел тот убить троих из своей смены, прежде чем иные убили его. Однако убили его вовремя, и не успели осаждающие воспользоваться удачным моментом для атаки.
Был воин в замке, который, как и Каато, был искусен в воспламенении взглядом. Лорд Ширу послал с ним еще двух воинов и техника, дабы испортили они во вражеском лагере воду и осадные машины. Извели они часть машин, но домой никто из них не вернулся. А лучшие машины лорд Тыга еще не собрал.
Наутро двинулись они к стенам с той техникой, что у них была. Сосредоточился Каато — и треснула ось у главного тарана. Тогда сказал Он Стальная Труба: «Воистину, сражается за лорда Ширу некто, равный нам».
Еще заранее приказал Каато найти пустой корпус и поставить сбоку на башню, как если бы то была цистерна с водой или с маслом. Среди воинов лорда Тыги имелся один, чьим семейным сокровищем был Огненный Ствол двоекратного действия, первый же из его зарядов был истрачен еще давно, как говорят, решив исход Битвы Под Звездами. Решив, что час пробил, тот воин использовал свое оружие, но разнесло лишь куски железа, так что всем стало ясно, что в ином месте источник лорда Ширу. Увидев это, владелец прекратившегося Ствола удалился в сторону и, сложив прощальный стих, выпустил свою кровь в песок.
Но стены дотов были прочны. И потому лишь один был разрушен, а два лишились своих защитников.
Среди воинов лорда Тыга был один, малый ростом и возрастом, который в походе совершил некое преступление. Лорд Тыга хотел закопать его по самую голову, но Он Стальная Труба сказал: «Искупит вину по-иному». Этот воин пошел на четвертый дот не прямо, а обошел его по дуге и взобрался на колпак сверху. Сняв с себя плащ, он смотал его и, взяв в две руки, зацепил им дуло и потянул на себя, так что механизм заклинило. Те же, кто находился в доте, увидели это и сильно дернули вниз, так что тот упал и разбился. Однако крались к доту и иные стрелки, а потому не успели те, кто внутри, должным образом втянуться обратно.
Тыга Зын-забоур наблюдал за этим со складного стула. Шальной осколок задел ему голову и рассек бровь, но он даже не пошевелился.
Вечером того же дня Сая Проникающий сказал так: «Кто бы ни бился на другой стороне, устоит ли против двойной атаки?» И, разделив сознание, взял на изготовку свой многострельный арбалет. Частью себя он открыл дверь измерения и, с тем же шагом нанеся внутренний ментальный удар, исчез, нажимая на спуск.
Сказал Он Стальная Труба лорду Тыга: «Увидим, чем будет он убит». И точно. Тут же выпал Сая Проникающий обратно с двумя ранами в груди, каждая из которых была, безусловно, смертельной.
Осмотрев рану, сказал лорд Тыга: «Колющим был удар, и не было на клинке яда. По форме раны судя, бьется он в иной технике, а колол, дабы скрыть свою».
Сказал Он Стальная Труба: «Слышал я ранее о воине, что защищал деревню от семи бандитов, так же двигаясь от вышки к вышке. И мало знаю я мастеров двух клинков, столь легко ставящих щиты в сознании. Похоже, Каато Темное Солнце ныне противостоит нам». Лорд Тыга задумался и более в этот вечер ничего не предпринимал.
Иные же описывают этот бой по-другому. В частности, наиболее другое описание содержит «Тэо о достославной гибели Отпрыска Морехода» — но веры этому описанию мало, поскольку составлявший его авторский коллектив слабо представлял себе ТТХ базового вооружения дотов.
Сказал лорд Ширу: «Желаю теперь дать битву в поле, меж развалин двух дотов». Вопросил Каато: «Разумно ли? Более сохраните вы воинов, избегая открытого боя». Ответил лорд Ширу: «Нет свинца в обшивке дотов, и открыты они для гранат и воли Стальной Трубы. А если и убьют кого, дольше хватит пайка у остальных. Не хотел бы я к тому же, чтобы то, чем славится Замок Четырех Дотов, было повреждено. Некому свить обратно кабель, если срежет его шальная стрела. Погаснет лампа дневного света, и скажут: «Убит лорд Ширу». Вдобавок не хочу я, чтобы сидящие на моей воде рвали себе на бинты мои штандарты». На это Каато сказал: «Есть и другие варианты».
Однако был настойчив лорд Ширу, и вышли войска в бой, уперев фланги в развалины дотов. И состоялась битва, о которой потом говорили, что участвовало в ней более двадцати дюжин с обеих сторон, а некоторые — что была она даже более многочисленной, чем Сражение Под Звездами.
Вышел вперед вражеского войска некий воин и сделал прием «Грома на 500», так что понял Каато, что это и есть Он Стальная Труба. Тогда вышел он вперед и сказал: «Горе вам, рожденные в час смятения! Уже матары заточены, мауганы поваплены, и стяг лазурно-желт реет над майданом». Слыша это, приказал лорд Ширу своим стрелкам бить, но одним из умений Стальной Трубы было создание себя рядом, и все стрелы пролетели мимо.
Изгибая тело, вошел Он во вражеские ряды и вскоре дошел до места, где сражался Каато. Тогда трижды обменялись они ударами, но ни один из них не достиг плоти, так как были к тому времени у каждого из них еще по четыре дюжины противников.
Ставя верхний отводящий блок против «двойной молнии», взмахнул Стальная Труба своим оружием наотлет и, использовав то, что было в нижнем конце Трубы, поразил из нее лорда Ширу, ибо пружинный дротик, что проник сквозь щель бронеколпака и оцарапал лорду руку, как водится, был отравлен.
К тому времени не осталось между двух станов противников, кроме Она и Каато, и выхватил Стальная Труба то, что таилось в Трубе с другого конца, ибо счел для себя недостойным биться тупым против острого. Оба равно ускорились, и каждый был владетелем своих чувств и движений. Те, кто видел схватку, говорили: «Воистину, песчаная буря». Не было более лишних приспособлений в Стальной Трубе, но каждая атака его была подобна движению оползня. Движения же Каато были подобны вихрю. Пока шла схватка в развалинах, каждый из них бился двумя предметами, но вскоре вышли они вновь на равнину, и Он Стальная Труба, вставив клинок в Трубу иным разъемом, сделал три ведущих взмаха, каждый из которых мог разрубить пополам завра в широком месте. Первый Каато блокировал, от второго уклонился, через третий перескочил, срывая дистанцию, — и четвертого не было.
Иные сообщают, что, разделив мысли, успел Он обрушить на Каато Сознание Истинного Дракона, но часть его ментальной силы ушла вместе с кровью, и, защитив сознание, увел Каато вражескую атаку в песок, так что, говорят, до сих пор не растет ничего на том месте.
И увидел лорд Тыга, что менее осталось у него сил, чем следует для взятия такого замка, ибо при штурме тремя обычно платят за одного, а здесь, хоть и убит лорд Ширу, придется отдать не менее пяти.
Сказал Каато: «Есть и другие способы пройти в дальние сектора. Стоит ли продолжать войну?» И, достав красную повязку судьи, надел ее на рукав, а затем бросил к ногам лорда Тыга. После этого оставил он замок за спиной и двинулся далее. И вся гвардия лорда Тыга, обнажив свои клинки, салютовала Каато, держа в правой руке большой резак, а в левой — малый нож.
Тэо об отрубленной руке
Рассказывают — шел однажды Каато Темное Солнце, не имея конкретной цели, и увидел в окрестностях трактира «На восьмом перекрестке» старика с длинным мечом, чья поступь показалась ему знакомой. Выйдя из тени, Каато отдал приветствие. Старик же ответил, взяв оружие в позицию Северной Школы. Видя высокую сталь, произнес Каато: «Воистину, держишь ты в руках клинок больше лет, чем исполнилось мне. Странствуя в поисках Достойного, я, Каато, Темное Солнце, прошу согласия разделить со мной схватку». Ответил старик: «В шестнадцати городах, также и в сорока двух поселках знают меня как Нгмадко, прозванного Судья. О тебе же мне сказали твои мечи». Была эта схватка схваткой достойных, Нгмадко-Судья разрубил своим мечом трактирный стол, но на третьем схождении получил смертельную рану в бок и, опустившись на одно колено, сказал: «Прежде думал я, что один клинок выстоит против двух меньших. Вот, ослабело мое искусство. Стало быть, вовремя взял ты мою жизнь. Не справился бы я и с Шадо С Копной Волос». Спросил тогда Каато, прижав его рану: «Знаю я, почему назвали тебя Судьей. Что за схватка у тебя с Шадо?» Ответил старик, теряя силы и кровь: «Шел я в деревню К-15. Нынче спор там за воду между ней и Джензелом, лордом усадьбы Харш. Слышал я, что нашел лорд Джензел ключ, перекрывающий воду. Пришлось бы мне, возможно, сражаться с ним, если так. Но Шадо С Копной Волос нынче охраняет его жизнь». Еще хотел сказать что-то старик, но умер. Каато же надел под одежду повязку Судьи и, укрепив мечи в потайных ножнах, направился в К-15.
Войдя в деревню, взглянул Каато на общинный парник и увидел — меньше деревня получает воды, чем следует. И, намотав на шею алый платок, вышел к площади, ожидая, что наймет его кто на работу.
У дома, чей купол был когда-то выкрашен красным, окликнула его женщина: «Я — Йен-не, второй говорящий от имени этой деревни. Муж мой ковал мечи и разбирался в механизмах, но унес его жизнь пожиратель полыни восемь недель назад. Одна я живу, и не хватает мне пары рук, чтобы чинить моторы и воспитывать сына. Вижу в тебе человека умелого и хочу нанять».
Ответил Каато: «Не настолько известен я, чтобы говорить о себе. Однако умею то, о чем ты думаешь. Нет у меня пока пристанища, и заплачу я работой за кров». И, сняв с шеи платок, намотал его на воротную планку.
Сказала Йен-не жителям деревни: «Новый работник пришел, разбирающийся в механизмах. Починен скоро будет старый ветряк». Собрались деревенские на площади и стали пить сок прошлогодних фруктов.
На втором часу топот раздался. Въехал в деревню лорд Джензел в сопровождении пятнадцати всадников. Сказал лорд: «Что радуетесь? Ужель будет мне втрое больше, чем ранее отдавали, и Меч, Разрубающий Камень?» Стала Йен-не на пустую бочку и отвечала ему: «Отнюдь. Почтовый топырь весть доставил. Шествует сюда Судья, чтобы разобрать споры наши». Усмехнулся Джензел: «Долга дорога сюда. Нынче много всякого и всяких свирепствует на дорогах, и стаи нелюдей-ренегатов прячутся под песком. Может и не дойти Судья». Поднял он руку, чтобы погасить ропот. И сдернул шлем один из тех, что приехали с ним. Густая копна волос дыбилась над челом его. Стал он перед лордом, заслонив его. И отпрянули деревенские, ибо увидели на его поясе два длинных кинжала, сделанных из зубов пожирателя полыни. Каато, однако, лишь шаг назад сделал. Увидев это, сказал лорд: «Не встречал я прежде этого человека здесь». Сказала Йен-не, став перед Каато: «Путник. Наняла я его, ибо разбирается в механизмах». Усмехнулся лорд и ускакал в сторону своей усадьбы.
Ближе к вечеру показала Йен-не Каато кузницу и мастерскую. Увидел Каато в кузнице недокованный меч и спросил, это ли Меч, Разрубающий Камень. Ответила Йен-не: «Третий год я его кую, и немного уже осталось. Для мужа я ковала его, и не получит его лорд Джензел». Вместе легли они, хотя и не было то зафиксировано в условиях найма, однако ж в середине ночи проснулся Каато и направился к усадьбе.
Меж тем лорд Джензел сидел под тентом на воздухе и развлекался созерцанием танцев, ибо бой на мечах не доставлял уже ему удовольствия; но одна из танцовщиц оступилась. Потому лорд повернулся к резервуару с водой, что сделан был из стекла, и приказал бросить туда провинившуюся. Говорил, усмехаясь: «Вот, иные гибнут оттого, что слишком мало воды у них, а иные — что слишком много». Многие смеялись, глядя на это, и никто не обратил внимания, как прошел Каато на хозяйственный двор. Между песчаными буерами прячась, вышел он к дальнему корпусу со стенами из ангарной стали и увидел на задах его площадку. Два ряда колючей проволоки окружали ее, и трижды по два охранника посменно стерегли это место. Уклонился Каато от световой преграды и, подкравшись поближе, увидел, что выпирает в центре площадки из земли дугой труба, а на вершине дуги — колесо, с рулевым сходное. Не были охранники для Каато преградой, и дважды успел он провернуть колесо прежде, чем раздался колокол тревоги. А потом ушел невредимый и настолько незамеченный, что даже не убил никого.
До рассвета вернулся Каато домой, лег спать и позже Йенне проснулся. Проснувшись, взял железную шайку и на край деревни мыться отправился. Сидя в ней, намылил он уже больше половины тела, когда подъехали к нему четверо всадников. Был один из них Шадо С Копной Волос, а имена трех других упоминания недостойны. Один из них, на коне сидя, устремил к горлу Каато стальной гарпун с двумя остриями и сказал: «Не это ли называется «застать врасплох»?» Каато же, погрузив в воду левую руку, смыл с нее пену и, отведя ею гарпун за древко, сказал: «Молод ты еще. Не следует тебе играть с острыми предметами». И мыться продолжил. Правая же рука его так и осталась скрыта пеной.
Тогда спросил Шадо, на оружии руки держа: «Путник, многое здесь тебе в новинку, но ведаешь ли, что случилось этой ночью в усадьбе моего господина?» Ответил Каато: «Ночь эту с женщиной я провел, и моюсь с утра, ибо будет днем много работы». Уехали всадники.
Тем днем больше воды пришло в деревню, и обрадовались жители, говоря: «Полный урожай дадут парниковые грядки». Каато же, к вечеру работу закончив и сказав: «Пойду прогуляюсь», снова в усадьбу направился.
Меж тем спросил лорд Джензел Шадо С Копной Волос: «Уверен ли, что этот человек — не Судья?» Ответил Шадо: «Не к лицу Судье такой стиль и манеры. Что же до Судьи, то опасна дорога в усадьбу. Дважды по восемь твоих воинов стерегут подступы, и четырем бандам разбойников заплачено вперед за повязку Судьи. А если и дойдет он сюда, встречу его я со своими двумя клинками. Если же и меня не хватит, точно будет он после этого боя ранен и ослаблен. И легко будет его с башни застрелить».
Каато же, снова до усадьбы дойдя, бросил в стеклянный резервуар метательный нож. Из древней стали был этот нож выточен и стекло пробил, и вылилась вода на землю. Знал теперь все Каато о том, где какая охрана стоит, и, на охраняемую площадку придя, сразил он смену охранников; ключ, водой управляющий, отвинтил и намертво заклинил. Разгневался лорд Джензал, что не может он более ключом управлять, и сказал: «То, что медленно хотел я взять, быстро возьмем». Был назавтра благоприятен ветер, и пришли они в деревню на шести буерах, и ранили многих, и сломали много оборудования. Шадо же захватил Иен-не в заложницы и увез ее в усадьбу, а Меч, Разрубающий Камень, отдал лорду Джензелу, ибо, даже с незавершенной проковкой, уже оправдывал он свое имя; и не было в округе меча, равного ему.
Каато же в то время в деревне не было, ибо сын Иен-не в тот день ушел в пустыню и не вернулся, а кроме Каато, некому было его искать. Нашел Каато ребенка, который провалился в воронку, живулей выкопанную. И порадовался, что была то лишь живуля, а не полулюди-ренегаты. Вытащил он мальчика на конце своего пояса и в деревню вернулся. А вернувшись, переложил мечи из тайных ножен в явные и, красный платок вокруг головы повязав, двинулся к усадьбе.
Меж тем стражник, что стоял в усадьбе у подзорной трубы, сказал: «К бою. Движется к нам воин странного вида». Не шесть, но восемь буеров выслал против него лорд Джензел, но лишь один из правящих ими достиг Каато, ибо не было у того недостатка в складных звездах и метательных ножах. Тот же, кто достиг, вновь нацелил на Каато свой стальной гарпун с двумя остроконечиями, но ударом руки перебил Каато тростниковое древко и, длинный прыжок совершив, вонзил тому воину обломок в горло прежде, чем ноги его коснулись земли по другую сторону буера. Став на землю, сказал: «Воистину, не стоило тебе играть с острыми предметами». Удвоил лорд охрану, но, не обнажая своего оружия, вошел Каато на внутренний двор, сражаясь оружием тех, кто пал в этот день от его руки. Стал он перед главной лестницей, и вышел ему навстречу Шадо С Копной Волос, держа нож у горла Иен-не. И сказал Шадо: «Жизнь ее — за схватку». Каато сказал: «Хорошо». Спрыгнул к нему Шадо и скрестили они свои клинки. Прошло четыре захода, и каждый из них был ранен. Но нельзя еще было определить победителя.
В этот миг один из людей лорда, сражающийся тяжелой лопатой (древнее лезвие которой по ТТХ превосходило средний меч), увидев, что Каато стоит к нему спиной, ударил, намереваясь снести голову. Но уклонился Каато и от этого удара. Шадо же, развернувшись к тому человеку, тотчас пронзил его обоими мечами и сказал остальным: «Не просил я никого вмешиваться в эту схватку». Каато же отметил: «Много говоришь, сбиваешь дыхание».
Продолжился бой, и на новом заходе выбил Каато один клинок из руки противника и, парировав второй, нанес своим левым мечом такой удар в грудь Шадо, что, пробив ее, застрял меч в железной стене башни. И то была смертельная рана. Видя это, схватил лорд Джензел одной рукой меч, а другой арбалет и, стоя на башне, воскликнул: «Ну, что скажешь, убийца? Меч, Разрубающий Камень, у меня в руке. Взрывающаяся стрела на тетиве моего арбалета, и алый луч рвется из линзы на нем, выискивая цель. На тридцать шагов длинномерней мой бой, и не уйти тебе. Итак, что скажешь напоследок, убийца? Не это ли называется «застать врасплох»?» Каато же, следя за его пальцем на спусковом рычажке, ответил: «Воистину, дело не в длине оружия, а в умении им сражаться». И одновременно с первым словом этой фразы шагнул в сторону, стряхнув с себя пятно алого цвета, точно пыль; одновременно со вторым — бросил свой праворучный меч так, что полетел тот дальше, чем метательный нож способен, поразив лорда сразу и большим, и малым остриями.
Взглянув на простершееся у подножья стены тело лорда, Каато «Вышел стрелять — так стреляй, а не болтай» — сказал Йен-не же, упавший арбалет подхватив, «Прочь все!» — сказала. И разбежались слуги лорда. Шадо же еще жив был. И спросил он, обращаясь к Каато: «Узнал я тебя по мечам, Темное Солнце. Достойно умереть от твоей руки. Но не слышал я, чтоб был ты Судьей. Как?» Ответил Каато, повязку Судьи из-под одежды достав: «Вот повязка Нгмадко-Судьи, и его кровь на ней. Не пристало убийце покидать этот мир, не выполнив своего дела». Выдернул Шадо из стены и из себя меч Каато и, положив его к ногам Темного Солнца, умер. Йен-не же поднесла ему второй меч и хотела было подать также Разрубающий Камень, но вложил Каато свои мечи в ножны за спиной, сказав: «Ковала для мужа, выкуешь для сына». И покинул Усадьбу Харш. Красный плат он, уходя, оставил в К-15, повязку же Судьи — нет; и фигурирует она еще в одном тэо.
Два года минуло, и сидел как-то Каато на постоялом дворе одного из шестнадцати городов, когда вошел туда юный воин, сказав, что ищет Каато. Услышав это, повернул Каато голову и спросил зачем. Ответил юноша, что хочет разделить с ним схватку. Каато же окинул взглядом сперва руки его, потом — одежду и, не вставая, сказал: «Не сражаюсь я с тем, чье имя мне неизвестно. Воистину, следует отличать бой от бойни». Ответил юноша, покраснев: «Тогда знай, что я — сын владельца усадьбы Харш. Кровью будет заплачено за то, что ты сделал».
Вышли они во двор, и выломал Каато из ограды, что из металлических труб длиной в три четверти роста была сделана, две трубы и, бросив одну из них юноше, сказал: «Воистину, два клинка — не больше, чем один. Судья не сумел доказать мне обратное; ты ли докажешь? На этом будем сражаться. Воистину, не всегда сын отвечает за дела отца». Юноша же, оружие поймав, воскликнул: «Кровью будет заплачено за то, что ты сделал!» — разумея не поломку ограды. И, перехватив трубу подобно копью, метнул ее в Каато, но уклонился тот от удара и обнажил один из своих клинков, держа его обратным хватом. Юноша же вынул из-под плаща длинный меч с рукояткой для хвата двумя руками, выточенный из роторной лопасти. И подумал Каато: «Хуже смерти для него потеря руки». И, войдя под его широкий удар, срезал юноше голову вместе с правой кистью.
Для непонятливых: швырнув трубу, молодой человек тем самым постулировал наличие у себя под плащом чего-то большого и клинкового, потому что последнее оружие не мечут. А биться против клинка безоружным Темное Солнце в данном случае сумел бы, но это считается оскорбительным для обоих противников. Каато же был вежлив.
Тэо о том, как встретились Каато прозванием Темное Солнце и некто, имеющий облик человека
В самом сердце Великой пустыни, где ночь длится менее четверти суток, близ оазиса № 1486 произошла их встреча. До того же несколько дней шел Каато, не имея определенной цели, ни заказа, а по его следам — он не скрывал свой след — тянулась шайка пустынников, думая, что это спасается от них бегством какой-то путник из разгромленного ими недавно в этих местах каравана, попервоначалу ускользнувший.
Придя в оазис, Каато остановился там, давая возможность преследователям напасть на него, если захотят. Незадолго до рассвета пустынники сочли, что хотят этого. Некоторые из них вскоре успели ощутить всю меру своей неправоты, но их судьба уже не отличалась от участи менее понятливых членов шайки.
Бой этот для Темного Солнца был обыкновенен, таких у него случалось тринадцать на дюжину. Но в ходе схватки вышло так, что складная звезда, брошенная одним из пустынников по тому месту, где мгновенье назад он видел Каато, безвредно улетела в сторону дальнего бархана, где никого не было. А короткое время спустя — вернулась, поразив другого пустынника, который, по его разумению, подобрался к Каато сзади будто бы незамеченным.
Пустыннику эта звезда нанесла смертельную рану, а Каато — смертельное оскорбление, ибо не подобает в бою оказывать помощь без нужды и без просьбы.
Это случилось вскоре после начала схватки, то есть перед самым ее концом. Но тогда и еще несколько мгновений потом Каато все-таки был в изрядной мере занят, лишь сместился так, чтоб больше ничего его не могло достать, прилетевшее с бархана. Только закончив дело, по которому его посетили пустынники, — обернулся.
Некто, имеющий облик человека, стоял перед ним, и отсутствовало в его руках оружие.
Миг, когда Каато обернулся, надлежит считать началом поединка — но и началом рассвета был этот миг, потому что как раз тогда взошло солнце.
Сторонний наблюдатель не распознал бы в происходящем поединок, потому что не было там движений. И сторонних наблюдателей — не было.
Такие бои носят названия «поединок сердец». Они доступны немногим и длятся дольше, чем любая другая схватка.
С рассветом пролегли длинные тени, в полуденье исчезли, а затем протянулись в другую сторону.
Во втором послеполуденном часу пожиратель полыни, обегая земли своего стада, проскочил мимо противника Каато, будто и не было того на бархане, и направил разгон своей атаки на Темное Солнце. Но, загодя сумев оценить его стойку, изменил направление и ускакал живым.
На шестом часу Каато сменил стойку. Когда, медленно ощупав ногой грунт, перетек в иное положение — под его опорной ступней хрустнул песок.
А когда солнце коснулось закатного горизонта, вложил Каато в ножны оба своих меча, обнаженных еще во время схватки с пустынниками. И сказал: «В поединке сердец я побежден тобой. Но ты не взял мою жизнь сейчас, как не взял ее сразу. И ты — не человек».
Ответил его противник: «Истинно так, Каато из клана убийц».
Спросил Темное Солнце: «Не убив меня, имеешь ли сообщить мне нечто об искусстве боя или искусстве жизни? Либо, возможно, подскажешь, где мне найти сильнейшего, который возьмет, наконец, мою жизнь, одарив доселе не испытанным? Вот, нет на меня сильнейшего — и я опустошен».
Тем временем солнце опустилось за горизонт и лишь дальние барханы оставались еще освещены по верхушкам гребней.
И сказал некто, имеющий облик человека: «По линиям сети знаю я, кто ты. Есть у меня к тебе дело, более значительное и достойное, чем те, которые ты ранее совершал». Ответил Каато: «Если знаешь ты так много, как говоришь, то есть ли в этом мире дело, стоящее всех моих предшествующих?» И ответил некто: «Не в этом Мире, но за гранью ждет нас это дело, и ведомо: встретишь ты в его конце того, кого ищешь, хотя не будешь им поражен». И спросил Каато: «Кто ты, имеющий облик человека? Какова форма твоя?» И ответил некто так, что видел Каато каждое его слово: «Формы и названия не имеют значения для нас. В разных местах называют нас по-разному, хотя многие говорят «Небесные Коты»…» — и последнее из слов было подобно улыбке.
А потом он добавил: «Что до собственного моего имени — то оно не может быть выражено звуковым рядом, даже если я приложу к тому все усилия. А впрочем, слушай». И, расширив пределы слуха сколь мог, уловил Темное Солнце что-то вроде «…тинчейн…», а еще — образ расколотого небесного свода и тетраграммы грома. Но явно многое осталось невоспринятым сверх того.
Сказал назвавшийся Небесным Котом: «Да, ты воистину хорош. Не многие сумели бы расслышать даже первые три звука».
Сказал Каато: «Слыхал я про таких, как ты. Приходили они во времена, когда Великий Предел еще не был замкнут и в мире существовали Силы».
Ответил ему Небесный Кот, по первым трем звукам своего имени называемый Тин: «Это — тоже из числа форм и названий».
Тем временем и верхушки дальних барханов перестали сиять отраженным светом. И даже найдись в оазисе желающий увидеть, чем, когда и где завершилась та встреча, — едва ли ему бы сопутствовала удача.
Но некому было смотреть на это, кроме лишенного разума зверья, которое кормилось друг другом окрест оазиса № 1486, расположенного на трассе древнего трубопровода того же имени.

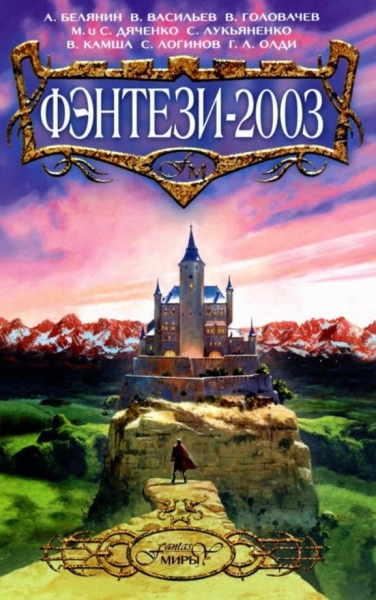

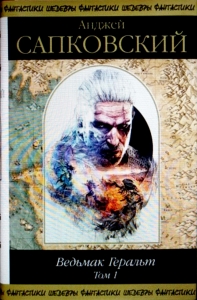
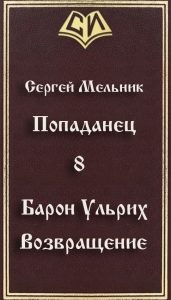
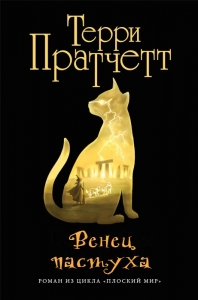

Комментарии к книге «Фэнтези 2003», Андрей Олегович Белянин
Всего 0 комментариев