Итак, пять правил писательского успеха:
первое: вы должны писать;
второе: вы должны заканчивать написанное;
третье: вы должны воздерживаться от переделки, кроме случаев, когда на изменениях настаивает редактор;
четвертое: вы должны выйти с вашим произведением на рынок;
пятое: вы должны держать его на рынке, пока его не купят.
Р. Э. Хайнлайн. «Как стать фантастом» (лекция, 1973 г., Аннаполис)Часть первая Снегирь – птица гордая
Говоря по существу: к черту фантазию, она не нужна, она не помогает нам заглянуть дальше собственного носа, если бока ее не вздрагивают, как у ретивого охотничьего пса.
Карел ЧапекI. Сонет о больном вопросе (эрзац-пролог)
Я – пасынок Большой Литературы. Ропщу ночами и не сплю с женой. Скажите, с кем вы, мастера культуры?! Не знаю, с кем, но только не со мной. И критики стоят ко мне спиной — Филологов высокие натуры Не переносят мерзкой конъюнктуры И брезгуют столь низко павшим мной. Иов на гноище, вечно пьяный Ной — Таков я есмь. Микстуры мне, микстуры! Читатель глуп. Читательницы – дуры. Поп? Попадья? Нет, хрящичек свиной. И все же я живуч, как лебеда. Не мне беда, ребята. Вам – беда.II. Отсебятина: «Лучший-из-людей»
Талантов особых за автором не числится, стилем Бог не наградил, воображения невеликого, потому и решил уж так соригинальничать, до того поразить читателя новизною, чтоб век не опомнился. Поразил. Для кого писано-то? Сдается, что специально сатирическому журналу на поживу…
Из рецензий на книги В. СнегиряБоже, как мне надоела эта гнусная каморка в храме Тетушки Кривой на окраине Ла-Ланга! Паутина, хлопья пыли, запах плесени и фруктов, мирно сгнивших за стенами, тяжкий аромат сандала – от курений даже стены, даже камень ноздреватый пропитала злая сладость, мать ее и перемать…
Будучи раздражен или волнуясь, я всегда начинаю мыслить белым хореем. Компенсаторная функция психики вместо банальщины «лексического ненормата». Дактиль для сугреву, амфибрахий – дом казенный, дорога дальняя, анапестом я похмеляюсь, а если после пятой-шестой стопки кубарем скатываюсь в ямб («ямбец», как шутила Настя до развода), то однозначно – скоро дам кому-то в морду. К счастью, под рукой нет ни подходящей морды, ни поводов для ямба. Под рукой, под ногой, я озябший и нагой…
Честно говоря, под рукой вообще ничего нет, кроме холщовых портков с безрукавкой, которые я мрачно натягиваю на вопиющий от сквозняков организм. Присаживаюсь на сундучок с храмовой утварью. Острый угол крышки – резьба по кипарису: Старец-Облако злобствует на упившихся Вержегромцев – врезается в ягодицу. Сижу, брюзжу. Без особого энтузиазма: могло быть хуже. И было. Думаю, редкому демиургу вульгарис довелось приложить столь титанические усилия, дабы обзавестись каморкой, вся ценность каковой – укромность. Возжелав натворить сей шедевр зодчества, я долго чесал в затылке и вычесал нашествие диких бендулов, захлебнувшееся в конце Эры Удрученья под дубиной партизанской войны и мощью военного гения Виджай-Ниграма Лопоухого, прозванного злопыхателями Слоном. Мучаясь страхом, что бендулы разграбят и без того нищий храм, тогдашний настоятель – рехнувшийся на почве аскезы скопец-извращенец – велел отвести угол за алтарем Кривой Тетушки под тайник, спрятал там часть пожертвований, утварь и одежду, после чего отравил строителей пыльцой шмель-бобов, во избежание… Сам же над трупами сублимировал муки совести, поднял их в мозжечок по каналу Дуй-Для и удалился во Свояси, завершив цепь рождений.
Как ни странно, идея прижилась, пролог «Лучшего-из-Людей» схавал и благополучно переварил нововведения, отторгнув лишь муки совести (видимо, за недостоверностью…), а я наконец смог прекратить свои явления народу голышом. Заодно сделав храм заброшенным, посещаемым лишь редкими неудачниками, рискнувшими воззвать к Кривой Тетушке, – для пущей надежности.
Короче, спи спокойно, дорогой товарищ.
Прихватив на память ларчик из посеребренного олова, трогаю спусковой камень. Умели строить покойнички! Сперва в глухой стене образуется еле заметная щель, позволяя осмотреть молельню. Если торчат посетители, надо снова тронуть спуск – и в тишине каморки дождаться ухода незваных гостей. Мне везет: перед алтарем никого нет. Снаружи течет сырой кисель рассвета, вымазывая известкой деревянные колонны портика. Щель расширяется, приглашая окунуться в прохладу утра. Следовало бы, конечно, натворить какую-нибудь шубейку, но сразу не подумал, а теперь поздно. Хорошо хоть климат в Ла-Ланге теплый. Даже жаркий.
Это я молодец, без ложной скромности.
Когда иду через сад, собаки уже ждут. Здоровенный барбос Чудик-Юдик с достоинством метит территорию, задрав косматую лапу. Между прочим, черный терьер, «собака Сталина». За вожаком, разлегшись на травке, сладко зевают два министра: кусачий чау-чау Брыль и шарпей Мордач 1-й. Дальше – верноподданные шавки. Борзые, сеттеры, ризеншнауцеры, левретки, пекинесы, бульдоги… Что показательно, ни одной дворняги. Дворняг, приносящих в дом счастье на пять поколений, в Ла-Ланге можно купить лишь за сотню казенных башликов, и выгнать сокровище на улицу не решится самый закоренелый кинофоб. Ибо месть богов неотвратима. Помнится, я страшно гордился выдумкой. Дела давно минувших дней… Троица лидеров с достоинством ждет ритуала дружбы. Лобызанье с Чудиком-Юдиком, шутейная свалка с Брылькой, а шарпею надо будет натянуть на голову всю шкуру с задницы. Мордач это любит. Еще в первую встречу, разорвав добычу вдребезги, но не сумев отобедать по причине «пшика» (о «пшике» позже…), псины прониклись ко мне гигантским уважением. Оставив в дальнейшем любые попытки насилия.
– Ух вы мои… зубастые, злющие…
Все. Можно идти дальше.
У меня в наличии уйма планов. Обменять ларчик на обед в харчме старого Хун-Хуза, ущипнуть за грудь пышку-служаночку, послушать сплетни. В разговоры не встревать: к тихим бродягам здесь относятся равнодушно, это выяснилось еще с первого визита к Хун-Хузу. Выпить манговой фьюшки. Лучше светлой, она кислее. Почуяв приближение «пшика», слинять обратно в храм. Или хотя бы выйти из харчмы. Я столь явственно представляю будущие действия, что кажется, будто они уже в прошлом.
Шаткий мостик через Грязнуху.
Пятеро людей сидят на корточках возле шалаша курьих пастухов. По углам пентаграммы, начерченной палкой прямо на земле. Бояться, в сущности, нечего, но ноги каменеют, а на лбу выступает испарина. Взятки с меня гладки, убивать не за что, да и бесперспективно оно – убивать меня, беднягу, тихо шедшего куда-то… Липкий ужас, ты откуда? Страх, скажи: откуда взялся? Почему я робко прячу тело жирное в кустарник, где колючек много больше, чем желал бы обнаружить?! Я от белого хорея заикаюсь и дурею, в панике, объявшей душу, я смотрю исподтишка – пять недвижных, пять спокойных, пять в широкополых шляпах, пять в плащах без капюшонов. Словно пятерня ладони перед сжатием в кулак.
– Вот она!
И в мертвой хватке, тихо взявшись ниоткуда – закричав, забившись! – тело, ослепляя белизной…
III. Ул. Героев Чукотки, 26, кв. 31, с перерывом на черепно-мозговое
Mнe кaжeтcя, Влад Снегирь пpeкpaтил твopчecтвo и нaчaл зapaбaтывaниe дeнeг. Если его ранние книги создают настоящий театp, с вешалкой, подмостками и актеpами, то последние тексты… Да, есть вешалка, подмостки и актеpы, но театp – кукольный. Сложил, сунул в каpман, пошел дальше. С каждой книгой – все хуже. Причину можно изложить очень коротко: эксплуатация одного набора психологических профилей персонажей и одного стиля.
Из отзывов читателейСдох, скис, исписался!
Кураж, где ты?! – не говоря о таланте, которого у меня, видать, сроду не водилось. Кураж, тираж…
Мираж.
Работа стояла насмерть, как ополченцы на стенах осажденной Дангопеи. Надо было брать город штурмом, учинять резню в переулках и, после дозы подвигов, – гнать наивного лопуха Бут-Бутана, Куриного Льва, дальше, за Канборнский хребет, в поисках расчлененки Лучшего-из-Людей. Особых препятствий вроде бы не предвиделось. В смысле, у меня, любимого не предвиделось. Зато героям звезды обещали кузькину мать по полной программе. В плане черным по белому: засада горных гульденов, чернокожий маг-психопат – адепт секты Насильственного Милосердия, Ущелье Безнадежно-Входящих (непременно с заглавных букв, назло надменному эстету!)… Бери перо, ваяй нетленку. А тут, нате-здрасте, приступ творческой импотенции. Битвы-байты-килобайты, весь этот квест задрипанный вдруг опостылел до тошноты: фальшь, чушь, высосано из оттопыренного пальца. Мир гнилой, персонажи – картон Жидачевского комбината…
И я, автор, кумир молодежи – шабашник-графоман.
Прошу не любить и не жаловать.
Душно, братцы. Скучно. Яду мне, яду!.. Сдохни герои от чумки – по барабану. В расстроенных чувствах, с горя-облома, сунулся в сеть. Выкачал почту: фигня. Маета и томление духа. «Дарагой Влад пеши больше я от тебя балдю. Твой фан Godzilla». Куча спама. Ага, повторное приглашение на конвент. Оргкомитет? – нет, от издателя. Чего волнуешься, барин? Неужто я, «дарагой Влад», такое «большое ЦэБэ»?! Приеду, кормилец, приеду, и водочки с тобой выпью, и бумажечки подпишу, бумажулечки, бумажоночки… Не уведомили тебя, болезного? Исстрадался весь?! Хорошо, лови персональную цидулю: так, и так, и растак, буду. С благодарностью за хлопоты. С уважением. С наилучшими пожеланиями. И подпись: Влад Снегирь.
Уехало.
По форумам лазить раздумал – при моем теперешнем сплине от ихнего бардака одно расстройство желудка. Возьмут слово «жопа», хохмачи виртуальные, повторят раз триста и сообщают: «Интегральные характеристики предложенного текста позволяют утверждать, что автором отрывка с вероятностью 62 % является Влад Снегирь…» Это, значит, тонкая шутка. Пиршество интеллекта. Короче, закрыл окно «Netscape», чтоб не дуло. Тупо воззрился на последний абзац текста, видя отчетливый кукиш с маком. Слушайте, а кто придумал это мерзкое слово: «абзац»?! Небось мизантроп и параноик, убийца тараканов. Ладно, долой рефлексию и ура творчеству. Итак:
«Град стрел ливнем обрушился на северные башни. Казалось, сам камень древнего города взвыл от боли. Но мужество защитников было крепче камня: пекари, сукновалы, дубильщики и ювелиры, – вооруженные кое-как, наспех, неумелые, но яростные, дангопейцы держали борону…»
Подумал.
Исправил «борону» на «оборону». Поржал над «град – ливнем».
И грохнул всю эту чепуху на фиг.
Лечь, что ли, вздремнуть? И видеть сны, быть может? Боже, как мне надоела эта тесная каморка!.. Перетрудился, инженер душ? Вместо штурма и квеста, столь возлюбленных мудрым фаном Godzilloй, вместо верного куска хлеба, – о чем изволите грезить? О храме Кривой Тетушки? О вшивом городишке Ла-Ланг, который твои герои благополучно покинули еще в первой части романа? Трехскатные крыши, крытые дубленой кожурой местных арбузов, Чудик-Юдик со стаей, пентаграмма из людей в плащах… Загадочная штука – наше подсознание. А мое подсознание и вовсе тайна великая. Ну, сны. Чудеса мозговой грыжи. Ура, я сбрендил! Плевать на штурм Дангопеи! – желаю странного. Тишина, оскомина манговой фьюшки, тайник за алтарем, настроение вместо действия, белый-белый хорей… Я-то, может, и желаю, а Его Величество Сюжет быком прет в Дангопею, под град стрел, который ливнем, и с бороной наперевес!
…Стоп, машина!
А кто, собственно, сказал, что герои непременно должны идти куда подальше? Я сказал?! Так я личность творческая, непредсказуемая. Пускай Бут-Бутан найдет левую ногу или печенку Лучшего-из-Людей не в замке рыцарей Круглого Ствола, а в родимом Ла-Ланге! Опять же блестящий поворот: когда герои одолели три четверти пути, развернуть их и пинками погнать обратно! «Оригинально-с!» © поручик Ржевский. Нужна лишь веская причина, дабы обратить квестунов вспять: знамение, пророчество, глас из колодца: «Я, великий бог Ахура-Вольво, истинно реку вам…»
Телефон, тварь голосистая, заорал как раз поперек вдохновенья.
– Ой, Вова! Ой! Ой, горечко-то!
– Доброе утро, Анна Ильинична.
Это надолго. Все время забываю, кем мне приходится свекровь родной сестры. Седьмая вода на киселе? Кладу трубку на стол: Анна Ильинична – мастер монолога. Поддакивать необязательно, она сама справится. Небось молоко сбежало, а Танька на работе, а Эсфирь Остаповна говорит, что СПИД – чума на оба ихних дома, и скоро квартплата подорожает, потому как террористы, и все депутаты – обман зрения…
– Ой, бурулька! Здорова така бурулька!.. Вовочка, ты чуешь? Аж сердце захолонуло! Я валокордину накапала…
Похоже, малой кровью не отделаюсь.
– Ну, вызовите «Скорую», если сердце!
– Та уже ж! «Скорая» Танечку и забрала…
– М-мать! Нет, это я не вам… Что с Танькой?!
– Та кажу ж: бурулька! Як ляпнулась, гадюка… Ой, божечки! А Костик, шоб он сказывся, на конхверенции, а Ладочка бухыкает, лобик горяченький, я выйти не можу…
– Куда увезли? В неотложку?!
– Ой, Вовочка! Ой…
Это она права. Таки ой.
* * *
Выметаясь к пастбищу такси, я опасливо косился на чудовищные фаллосы изо льда – крыши и карнизы были сплошь усеяны этими подарочками февраля. Черт побери, а почему они в Москве – сосульки, а у нас – бурульки? Потому что в Москве их сосут, а у нас ими бурят? Буровят?! Бурулят?! Особенно если этажа с шестого забурулит…
– К неотложке, шеф!
– Поехали. «Маячок»! Я 35–16! Везу клиента в неотложку!
– Счастливого пути вам и пассажирам!
Всю дорогу я был благодарен «Маячку» за ласку.
Жирную гиппопотамшу в гардеробе больницы угнетала лень. Вставать лень, куртку мою на крючок вешать лень, номерок выдавать… Ее ожидал раскрытый на середине супер-пупер-бестселлер. «Купе?..» – я присмотрелся. Нет, хуже. «Купель Купидона-2», серия «Мини-шарм»: на обложке раскинулась томная от недосыпа дива, сплошь объята знойным мачо. На правой руке у мачо было шесть пальцев. Знакомые шуточки: Сева Ермаш, мой приятель-художник, замучившись с доставучим худредом, дождался приема работ и выхода книги в свет, сунул худреду в нос свежий, пахнущий краской экземпляр: «Считай!» «Что считай?!» – изумился худред. «Пальцы!» И когда худред обнаружил у всех персонажей на всех утвержденных им иллюстрациях по шесть пальцев, Сева сладострастно возопил: «Вот! Вот!!! Твое, козел, дело: не меня живописи учить, а пальцы заранее считать!»
Гулко возвратясь, гиппопотамша швырнула номерок на стойку, как собаке кость, – и с разбегу нырнула обратно в «Купель».
Аж брызги до потолка.
Где у них тут журнал приема? Тощенькая бабуся на санпропускнике шуршит страницами: в семь сорок утра… Татьяна Беглова… черепно-мозговое, палата № 6…
Символичность номера угнетает.
Но недолго.
Наглость – второе счастье. Свернув за угол, быстро облачаюсь в белый халат – память о проказах юности. Еще учась на третьем курсе бурсы, бегал сюда проведывать душеньку-медичку, маскируясь под белую и пушистую ниндзю-черепашку. Тут главное: спецодежду нацепил, морду кирпичом – и вперед, «с лица необщим выраженьем». Верней, с общим. Тогда примут за медбрата. Что ж, Влад Снегирь, умов властитель, тряхнем стариной? Сейчас, пожалуй, и за врача сойду. У вас, больной, гангрена левого полушария! Клавочка, запишите: гильотина, УВЧ и пассировать в масле до появления золотистой корочки!..
Так, второй этаж, черепно-мозговое отделение. Матовая стеклянная дверь. Сбоку от входа грозится сакраментальное «Посторонним В.». Минздрав предупреждал: вторжение опасно для нашего здоровья. Плевать! Все его не замечали, а проворный Белый Ниндзя резво шел по коридору. Морщась, воздухом дышал он: пахнет супом, пахнет хлоркой, страхом, потом… Ненавижу эти запахи больницы! До сих пор я удивляюсь: как больные человеки могут оживать в миазмах?..
Это у меня нервное. Волнуюсь я за Таньку. До чертиков волнуюсь. До зубной боли. Вот и веселю сам себя, подзуживаю, строю карточный домик шуточек: несмешно, глупо, а помогает.
Давно проверил: помогает.
Все лучше, чем ныть.
– Простите, доктор, а Генрих Константинович сегодня со скольких?
– Генриха Константиновича не будет от стольких до воскресенья. Он улетел в Буркина-Фасо, на симпозиум трепанологов. Но обещал вернуться. Милый, милый…
Тетка в мятой пижаме моргает коровьими ресницами.
Белый Ниндзя удаляется.
Вот и палата номер шесть. Осторожно приоткрываю дверь на два пальца. Воображение со злорадством садиста рисует: бинты, кровь на виске, всхлипы товарок по несчастью. Бесчувственное тело трогательно свернулось калачиком под простыней. На простыне – казенный штамп. Синий-синий, будто гематома. Танька, бедолага, младше меня на десять лет и все норовила догнать: рано замуж выскочила, рано Ладочку родила…
– …нет, чувихи, прикидываете?! Без машинки, без оверлока, двое суток как проклятая!..
Меня накрывает звуковая волна. Знакомая с отрочества. Вот она, сестрица моя, бурулькой ушибленная, – на койке у окна. Тараторит без умолку. А свекровь рыдала: помирает, ухи просит… Ага, разбежались!
Решительно вторгаюсь в палату.
– Привет, Танюха! Как жизнь молодая? Были б мозги, было б сотрясение?!
– Вовка! Привет! Вечно ты со своими приколами… У тебя часы есть? Сколько времени?!
Гляжу на циферблат.
– Без четверти час. Дня, – уточняю зачем-то.
– Ну, чувихи! Ну, даю! Четыре часа в бессознанке! А кажется, будто пару суток. Ой, Вовик, мне такие чудеса привиделись! Не поверишь! Я уже девочкам рассказала, а они смеются…
Окидываю взглядом контингент. Три остальные койки оккупировали дамы-мадамы, из которых «девочкой» можно назвать лишь одну. С большого бодуна.
– Вовик, зараза! – Танька обижена невниманием родного брата к ее чудесам. – Ты слушаешь или где?! Выхожу из подъезда, сворачиваю к «Лампе Аладдина» (секонд-хэнд новый, на вашем углу…), и тут рядом – бомба! Ба-бах! Я с копыт, глядь: а меня уже волокут куда-то. Голую! Я визжать, а им хоть бы хны! Пять чучмеков, блин! Ну, думаю, хорошо, если изнасилуют, а если напугают?! Улицы кривые, халупы, вонища… Ноги по дороге сбила, босиком-то. А они, гаденыши, меня продали. Как рабыню Изауру. Прикинул?! И я два дня, дура дурой, галуны к мундирам пришивала. Тупой иголкой. Все пальцы себе исколола… А эти смеются! Чувихи, вас бы туда…
Татьяна гордо вздергивает нос. Еще бы, наши глюки – не для скуки!
– Рабовладельцы хреновы! Прикинул, Вовик?! Четыре часа без чувств, и то отдохнуть не дали. Гады!
«Девочки» откровенно ржут басом.
– Что врач говорит? – Я стараюсь придать лицу озабоченное выражение, хотя Танька явно живее всех живых.
Отставная рабыня машет рукой с ужасающим легкомыслием:
– А ничего не говорит! Пусть только явится, коновал! Я ему… Нашел больную! Небось Жорик, – это ее шеф-цеховик, лицо кавказской ориентации, злой черкес и вождь делаваров, – матом кроет: нам сегодня партию «алясок» сдавать. Костя уехал, у Ладочки ОРЗ, свекруха, коза старая, с ней сидит… Некогда мне разлеживаться!
– Остынь, Танюха. Полежи до завтра, расслабься. Мало ли… Не сдохнет твой Жорик с «алясками»! Я Анне Ильиничне позвоню, скажу: пусть в ателье сообщит.
– Что вы здесь делаете? Кто вас сюда пустил? Больную нельзя беспокоить, у нее предполагается сотрясение мозга! Немедленно покиньте палату!
Ага, мою Таньку побеспокоишь! Она сама кого угодно побеспокоит…
Усатый айболит тянет меня за хлястик:
– Я кому говорю?!
– Прошу прощения… – Чуть не ляпнул: «Прощения просим, благородный дон!» – Я брат… э-э-э… сотрясенной. Мне позвонили, я сразу примчался…
Усы айболита теряют воинственность.
– Тем не менее я все же попрошу вас покинуть палату.
– Да-да, конечно. Пока, Таня. Выздоравливай!
«Сестрица Аленушка» театрально охает, притворяясь мученицей. За что и любим стрекозу.
– Простите, вы ее лечащий врач?
– Да.
– Как вас зовут?
– Генрих Константинович.
– Генрих Константинович, можно вас буквально на пару минут? Вы понимаете, у нее в детстве была травма головы…
За дверью палаты, угорев от смеха, хрюкают «девочки».
* * *
Анне Ильиничне я позвонил с мобильника, прямо из такси. Чудо-заклинание «Я с сотового!» действует на Танькину свекровь безотказно. Слово «сотовый» ассоциируется у нее со словом «мед», тот, в свою очередь, тянет за собой «рынок» и «драть три шкуры», а дальше цепочка достраивается до «оплата разговора». Такие ассоциации Анна Ильинична уважает. Местами даже благоговеет. Посему отделался я от говорливой свекрухи быстро. Утешил, ободрил и откланялся.
– Приехали, шеф.
Хлопнув дверцей, выхожу в туман, мутный, как буряковый самогон.
У подъезда топталась «сладкая парочка»: знаменитый меж гражданами бомж Горец и его закадычный дружбан, спившийся котельщик Федор Михалыч. На вид – два сапога, одинаковых с лица. «Я, красавица, не сексуальный маньяк, а алкаш-собеседник!» Но если котельщик ничем, кроме имени-отчества, примечателен не был, то Горец свое прозвище оправдывал со старательностью идиота. Однажды его пустили погреться на сеанс в видеозал («точку» все равно на днях закрывали за неуплату аренды), и фильм с Кристофером Ламбертом потряс беднягу до основания. Бомж уверовал и проникся, при каждом удобном случае пересказывая сюжет всем желающим. Вплоть до собак и кошек. В его пересказе средненький «холливуд» делался эпосом древности: там царил гений, парадоксов друг. Особенно мне запомнился взрыв АТС, когда в бессмертного Ламберта, наполняя энергией, вместо молний лупили обрывки чужих разговоров. Я прям-таки обзавидовался фантазии Горца. Также бомж полюбил орать по поводу и без: «Остаться должен только один!» Здесь крылся тайный смысл, ибо неуязвимость бомжа была под стать его кинокумиру. Дважды горел в им же устроенных пожарах, попадал под грузовик-мусоросборник, огребал тяжелыми предметами по голове, страдал в зубах ротвейлеров с питбулями, травился дустом и крысиным ядом, на спор залпом выпил бутылку метанола… И всякий раз не просто оставался жив: несокрушимость его здоровья вошла в список легенд нашего района. Даже участковый Поросюк, редкой души мент, при встрече с бомжем ласково ронял: «Когда ж ты сдохнешь, падлюка?»
«Падлюка» безнадежно икала, разводя руками.
– Ы-ы-ы, Володя… – сипло поздоровался Горец, с тоской взирая на новенький кодовый замок. Плети дикого винограда, черные и сухие зимой, свисали с балконов, их вид погружал душу в пучину меланхолии. Ощутив приступ милосердия, я ткнул в нужные цифирки. Замок ответил за распальцовку, щелкнув затвором трехлинейки.
Люмпен-приятели мигом просочились следом, в теплое нутро подъезда.
– Мы тово… погреться. Зябко там, Володя. Мы ж, значит, культурно. Если чево, и налить можем…
Интересное предложение. А что? С кем вы, мастера культуры? Надо быть ближе к народу. Сесть на грязную ступеньку, тяпнуть из горла «ряженки», занюхать хлебцем из мусорки. Красота!
– Спешу, Горец. В другой раз.
– А… ну, спеши, быстрей жизнь минет…
Хрен с ними. Пусть греются. Лишь бы в подъезде не гадили. Хотя нет, Горец – аккуратист. Блевать непременно во двор уползал, в любом состоянии.
Запирая за собой дверь квартиры, слышу умиротворенно-риторическое:
– Стаканы взял?
– Обижаешь! Эти… одноразы…
А я, наивный, – «из горла»! Аристократический нынче бомж пошел. Рост благосостояния масс. Бокал «Губернаторской», ломтик сосиски, полуденная сиеста в гранд-подъезде… Аж завидки берут. Лечь, что ли, самому? Придавить часок-другой? Подскочил сегодня ни свет ни заря, от зевоты в такси чуть челюсть не вывихнул…
Разумеется, телефон сразу откликнулся на эту идею гнусным мявом. Словно на шнур ему, гаду, наступили. Межгород, однако.
– Алло!
– Владимир Сергеевич?
– Да, я слушаю.
– Здравствуйте, дорогой! Это вас беспокоят из «Аксель-Принт». Заместитель главного редактора по особым вопросам.
Судорожно пытаюсь вспомнить, как зовут моего собеседника. Я-то в издательстве большей частью с завредом по фантастике общаюсь. Нормальный парень, мы с ним давно на «ты», безо всяких «Сергеевичей».
– Здрасьте… Простите, не помню…
Он словно чует мои судороги:
– Зовите меня просто: Антип Венецианович! Вы слышите?
– Слышу, конечно!
– Владимир Сергеевич, дорогой, вы на «МакроНомиКон» собираетесь?
– Да, конечно. Я вам утром ответ по Интернету послал.
– Ну, сами знаете: почта – дело ненадежное! Я хотел лично убедиться…
Откуда такое внимание к моей скромной персоне? Премию решили на конвенте вручить? Ага, Нобелевскую! Раскатал губы!
– Знаете, нам нужно будет подписать бумаги. Ведомости по январским выплатам, контракты на допечатки… Дорогой мой, вы в курсе, что доптираж «Имперцев» стоит концом марта?
Далось ему это – «дорогой»! Пусть я и впрямь недешевый, но так вот грубо намекать, в лоб…
– Да, в курсе. Спасибо, Антип… э-э-э… Венецианович.
– Чудненько! Вот и оформим на «МакроНомиКоне». Так вы точно будете?
Банный ты лист, зам по особым!
– Точно! Уже билеты купил.
– Я и говорю: чудненько! А как ваш новый роман продвигается?
– Нормально.
– Ни дня без строчки?
– Ага… Ни дня.
– Весной закончите? Хотя бы к маю месяцу?! Тут читатели весь сайт письмами завалили. Торопят. И дилеры боятся в летний спад угодить. А так мы сентябрем и тиснем, на подъемчике! Значит, май? Или апрель?
– Ну-у… не знаю. Боюсь загадывать.
– Может, имеет смысл заключить авансовый договор?
– Не имеет. Понимаете, Антип Венецианович…
– Да-да, я понимаю!
Понимаешь – тогда зачем спрашиваешь? Не шибко я принципиален меж собратьев по перу (верней, по клавиатуре), но бумаг на будущие тексты не подписываю. Обжегся однажды. На заре карьеры подмахнул договорчик на только-только начатый романец. Очень уж по читателю тосковал. И бабок срубить хотелось. Срубил, мать его за подол: текст уперся рогом, забуксовал, сроки поджимали, издатель торопил, – я в итоге финал кукишем скрутил, а книга в свет так и не вышла: издательство обанкротилось. С тех пор зарекся. Между прочим, в «Аксель-Принте» о моем суеверии прекрасно известно. Или он надеется, что все-таки передумаю?
– Да, еще одно дельце. Помните, у вас в девяносто первом выходила повесть в сборнике «Тиран Нозавр»?
– Помню.
– Первая серьезная публикация?
– Дебют.
– Какой там был тираж, не подскажете?
– Сейчас.
Иду к полке, извлекаю пухлый томик. Клыкастый рептилоид ехидно скалится с обложки: «Гюльчатай, открой личико!», холст, масло. Сливочное.
Лезу в выходные данные.
– Первый завод – 55 000.
– А второго не было?
– Насколько я знаю, нет. Издатель потом на ужасы с «Икс-ножками» переключился.
– Ясно. – Зам по особым излучает оптимизм. Бодрый бас плещет в трубке, обдавая ухо брызгами. – А как жизнь? Ну, вообще?
– Вообще? Ноу проблемз!
Бас набирает обертоны:
– Депрессия, бессонница? Кошмары?!
Уп-с! Что за гнусные намеки?!
– Жизнь прекрасна и удивительна. – Я беру мощную, качаловскую паузу. Насладившись, добавляю: – Удивительной жизнь становится в тот миг, когда перестает быть прекрасной. Короче, мне пока удивляться нечему. А роман пришлю по сети, как закончу.
– Рад, дорогой вы мой человечище! Душевно рад! А то, знаете, писатели – народ тонкий, нервный… Увидимся на конвенте. Всех благ!
– До свидания.
Оригинальный разговор. Ну и тип этот Антип! Впору срочно завести дневник и записать гусиным пером: «Звонили из издательства. Хотели странного». Хотя в нашей стране победившего сюрреализма и не такое случается! Не забыть бы вещи в дорогу собрать: в среду – поезд.
Диван принимает блудного свина в теплые объятия.
Баю-баюшки-баю, чего вижу, то пою…
IV. Отсебятина: «Лучший-из-людей»
Недостойный мерзавец, портящий вашу гостевую книгу, прочел месяца три назад ваш роман «Рабы страха». Разум и нежелание пачкаться сдерживали меня все это время, но, случайно перечитав в шестой раз данное произведение, я решаю плюнуть на потерю части самоуважения и прямо говорю вам, что, по моему необоснованному тупому быдляцкому мнению, эта книга – дерьмо.
Из писем в гостевую книгу В. СнегиряА вот днем мне Ла-Ланг еще не снился.
В смысле – во время дневного сна.
Говорят, творческие люди должны много спать. Восстанавливая энергию, нервные клетки и жировые запасы, сожженные в топке вдохновения. Еще в сортир надо чаще ходить. Очень способствует. Когда не требует поэта к священной жертве Аполлон, в покой священный туалета он беззаботно погружен…
Портки с безрукавкой оказались на месте. В прошлый раз я, будучи испуган увиденным произволом, бегом вернулся в каморку, где и проторчал до «пшика». А застань меня «пшик» в исходной точке, – потом я нахожу имущество здесь, под рукой. Портки, например. Ларчик: нет, не бросил, приволок обратно. Молодец я. Жадина-говядина. Хотя и натворил себе этого добра с запасом, на всякий пожарный. Думаю, такие закономерности сна есть результат моих регулярных медитаций над коаном «Бытие определяет сознание». «Хлопок одной ладонью» перед сим шедевром дзена – что плотник супротив столяра. Поди раскумекай, кто же кого все-таки определяет. И куда.
Я помню, что я знаю, что мне снится то, что помню и знаю, а знаю я до хрена и больше.
Закон Снегиря.
Одевшись, трогаю спусковой камень. В смотровой щели вспыхивает язычок света. Черт, кого там принесло?! Моргаю, всматриваюсь. Снаружи ночь. Глухая и слепая калека-ночь. Пара факелов немилосердно чадит, освещая дальнюю часть молельни, ближе к внешнему портику. Там, собравшись кучкой, ждут какие-то люди. Без движения, без слов, без молитв и прошений. Кривая Тетушка из-за алтаря хмуро глядит на этих истуканов. Не нравятся они Кривой Тетушке, подательнице случайной удачи. Мне, надо заметить, они тоже не нравятся. Кошмары вообще редко нравятся. Мысленно произведя этимологию слова «факел» от «fuck you all», отчего нервы слегка успокаиваются, продолжаю смотреть.
Глаза слезятся, как от дозы атропина.
…пять недвижных, пять спокойных, пять в широкополых шляпах…
Старые знакомые.
– Пора бы… Нежный Червь сказал: сразу после шестого гонга. – Оказывается, они умеют говорить. – А уже полседьмого. Меня старуха убьет.
– А когда ты в дом монеты приносишь, она тебя не убивает? Потерпит твоя старуха. Ей небось сосед терпеть пособляет.
– Тихо вы…
На этот раз я успеваю отчетливо засечь миг поимки. С вульгарным чавканьем в пентаграмме, образованной ждущими хватами (словечко найдено, и мне сразу легчает…), возникает голый дядька. Он очумело брыкается, когда хваты бросаются крутить ему руки. Дядька зело тощ, худосочен, бороться с насилием явно не обучен и лишь вопит на всю молельню:
– Менты! Менты позорные! Остаться должен только один!
Батюшки! Это ж Горец…
– Даешь демократию! Свободу узнику режима!
– Барсак! Угомони Отщепенца!
– Всего один стакан! Только один!!!
– Барсак!
В восторге от сна, искренне любуюсь, как хваты суют Горцу в пасть кляп. Вяжут руки, дают для острастки кулаком по хребту. Голый бомж скисает – мычит баритональным фальцетом, ежится, заискивая перед грубой силой.
Еле сдерживаюсь, чтоб не выскочить с советом. Дали б ему фьюшки хлебнуть, Горец бы за ними на карачках побежал. Хоть на край света.
– М-м-м… н-н-ты-ы-ыыы!..
– Пошел! Иди, кому сказано!
Шаг, другой. Костлявый хребет бомжа вдруг начинает дребезжать, издавая мерзкий визг бормашины. Занимается огнем, словно от факела. Пламя – странное, белесое – мигом распространяется дальше, охватывая ягодицы, плечи. Горец вспыхивает бенгальской свечой, брызжет искрами…
Исчезает.
Оставив хватов в недоумении.
– А Нежный Червь брехал: до следующего вечера не пшикнет…
– Кто брехал? Нежный Червь?! Сам ты брехун!
– Но ведь пшикнул…
– Нафири-су ругаться станет. Он жертву для Дождевания заказывал…
– Ага… задаток дал…
«Пшик» настиг меня внезапно. Я едва успел захлопнуть смотровую щель и рухнуть на любимый сундучок. Старец-Облако злорадно впился в зад мой острым краем: надо будет выбрать время, натворить себе напильник (по возможности дрочевый) и сточить у Старца зубы…
V. Хокку «На пороге старости размышляю о вечном»
Есть некий тайный смысл, Невыразимый словом, У чтения в сортире.VI. Ул. Героев Чукотки, 26, кв. 31, с выходом на балкон и в чат
У всех этих «фэнтезийщиков» проблем с русским языком не возникает – в литературе такого свойства он удивительно однообразен и бесцветен, это, фигурально выражаясь, язык для бедных. Отношение «массолита» к языку везде и всегда прагматически-функциональное, поэтому беллетристическое слово является носителем смысла, но не самим смыслом, не реальностью мистического порядка. Впрочем, «Влад Снегирь», «Н. Маржецкий», «Лидия Березка» – это вовсе не имена писателей, а торговые марки, потому и место им в одном ряду со «Smirnoff», «Adidas», «Pepsi» и «Tampax»…
Из статьи «О скрытых функциях языка»– Убился! Насмерть убился! Ой, божечки!..
– Убился – то ладно. Давно пора. Стекло разбил, вражина…
– Теперь дуть будет…
– Милицию вызывайте!
– «Скорую»!..
– И пожарную!
– Пацаны! Щас пожарники приедут! Айда смотреть!
– Гав! Гав! Ва-а-аууу!
– Дик, фу! Вечно ты всякую гадость…
На вопросы типа: «Самый умный, да?» и особенно: «Тебе что, больше всех надо?!» – я с детства любил отвечать утвердительно, огребая по шее за дурное любопытство. Наука не пошла впрок: каким я был, таким остался. Вот и сейчас спросонья бреду на балкон. Спасибо оттепели и моей лени: все собирался заклеить от сквозняков, да как-то…
Внизу, у подъезда – вавилонское столпотворение. Лает спаниель Дик, галдит пацанва, охают старушки – божьи одуванчики. Близ цистерны с минеральной водой народ машет канистрами, но отходить боится – очередь. Свалишь на минутку, а потом начнется: «Вы здесь не стояли! Клава, подтверди!» Ремонтных дел мастера из соседнего дома гурьбой вывалили на внеплановый перекур.
Люди при деле: участвуют.
Открываю створки окна. Высовываюсь по пояс. Холодно, но возвращаться за курткой лень. Шагах в четырех от двери подъезда, в эпицентре волненья народного, расплескав лужу, засыпан осколками стекла…
Ясно.
Бедолага Горец в очередной раз решил оправдать прозвище. С какого же этажа ты выпал, красавец? Поклонник Ламберта ворочается, делает попытку встать, но остается на четвереньках. Спаниель, струной натянув поводок, лижет ему щетинистый подбородок. У собаки праздник, именины сердца: гулька хвоста сейчас оторвется от восторга.
Тетя Вава, знатная сплетница-многостаночница, ахает в голос:
– Живой! Живой, ракло!
– Вавка, дай рупь! – уверенно подтверждает теткину догадку Горец. – Остаться должен только один!
Кажется, он снова готов к подвигам на ниве беспробудного алкоголизма.
– Ну, значит… значит, все путем!.. – бормочет котельщик, топчась рядом с пострадавшим. – Он нечаянно! Ну, Горец, ну, подлюга…
Окно подъезда на четвертом этаже вынесено напрочь. Топорщатся свежей щепой обломки рамы.
– Он, значит… выйти хотел. – Котельщик горой стоит за друга. – Облегчиться…
Горец соглашается, кивая на манер китайского болванчика:
– Шишел-мышел, на хрен вышел!
Был бы трезвый – ей-богу, убился бы. Хотя тоже не факт.
– А вы это… Чево это вы?!
Бомж возводит очи горе, сетуя на человечество, – и видит меня. Тычу пальцем в выбитое окно. Через минуту он наконец соображает глянуть в указанном направлении. Долго смотрит. Очень долго. Словно эстет на Мону Лизу в подлиннике. После чего хитрым акробатическим зигзагом бухается на колени.
– Простите, люди! Люди! Виноваты мы с Михалычем, кругом виноваты! Починим! Век пива не видать!
– Только стекол у нас, значит… – спешит вмешаться практичный котельщик. – Нет у нас стекол. Ежели стекла, мы запросто…
– Запросто! – истово кланяется Горец.
Управдом Кликуша, Степан Макарович, ранее мрачно наблюдавший за сценой публичного покаяния, обводит взглядом жильцов:
– Я уже посчитал: по трюльнику с квартиры выходит. Все равно чинить надо: зима… А за этими гавриками я лично прослежу. Ежели филонить станут…
Кулак у Кликуши – зрелище не для слабонервных.
– В лучшем виде! Остаться должен только один! – преданно кивает Горец.
Надо будет трешку Кликуше отдать. Прямо сейчас накину куртку, спущусь и отдам. Иначе забуду. Почему я не спешу уйти с балкона, если самое интересное уже закончилось и продолжились будни? Стою, смотрю, ежась от холода.
О чем думаешь, Снегирь?!
Я никогда не напишу про них. Мещане, обыватели, бытовка, февральский переулок, лай собак (лохматый Тузик гадит у подъезда, и бабушка Анюта впопыхах уводит пса: не приведи господь, увидит отставной майор Трофимов – не оберешься криков, а убрать за Тузиком радикулит мешает…); мне не суметь увидеть эту жизнь, как ночью может видеть сны слепец, как дети видят небо, – всякий раз по-новому, в восторге, с интересом к трамваю, гастроному, муравью, дымящемуся летнему асфальту, мучительной капели в ноябре (балкон потек, и капли лупят в таз, подставленный внизу: зима, не медли!.. приди и заморозь…); нам кажется, что это серый цвет, дальтоники, мы сетуем, вздыхая, меняя суету на суету, сжимаем в кулачке тщету побега, горсть медяков, желая одного: купить хоть ненадолго новый мир, где будет солнце, звезды, смех и слезы, азарт погони, прелесть искушенья, друзья, враги, события, судьба… Вы ищете не там, где потеряли. О да, согласен, что под фонарем искать светлее, но монетка счастья упала из кармана не сейчас – вчера, позавчера, прошедшим летом, пять лет тому назад, давным-давно, и ваши фонари уныло светят, веля «Ищи!» – овчарке так велит ее хозяин.
Нет, не напишу.
Лишен таланта, скучен, не умею.
Могу лишь обмануть. «В доспехе латном, один на сотню, с палашом в руке…» Или иначе: «Звездолет „Борец“, закончив гиперквантовый скачок, встал на орбите. Молодой десантник…» И будет мне почет. Тираж вскипит девятым валом, пеною обильной, с базара понесут мои творенья, и, надорвавшись, треснет Интернет от жарких писем: «Лапочка Снегирь! Не чаю уж дождаться продолженья великой эпопеи!» Я отвечу. Скажу, что продолженье скоро будет. Пишу для вас, любимых, дорогих…
Я никогда не напишу про вас.
Пожав плечами, ухожу с балкона.
* * *
[Snegir]: Снегирь прилетел! Готов к употреблению…
[Хазюк]: Влад, трям!!!
[Homo SS]: Здрасте на фиг! Я просто в шоке после прочтения каждой Вашей книги. Хожу как пыльным мешком пришибленная минимум неделю!
[Oldie-Perdoon]: А ты правда Снегирь? Автор «Гуляй полем»?! А то был тут один козел…
[Глас Вопиющего]: Снегирь! Я уже говорил Вам о невозможности продолжения Вашего творчества в таком виде. Не забывайте, что Ваши сатанинские писульки ставят в опасность Вашу бессмертную душу! Бога побойтесь! Ведь там уже поздно будет!..
[Derjimorder]: Народ, отвалите от человека, а то я щас кого-то за хвост возьму!
[Oldie-Perdoon]: И оторву вместе с ушами!
[Дядя Гусь] задумывается о золотой цепи, на которую приковать Снегиря, и чтоб он писал ему одному…
Щелчок ключа в замке. Дерг, дерг… Ага, хрен там, я цепочку накинул. Рефлекторно. Потому что тормоз. Забыл, кто сегодня прийти должен. Про чат со мной, любимым, в последний момент вспомнил, а про самое важное… Вот, кстати, и чат завис. Вернее, не чат, а модем.
Вовремя.
– Сейчас! Открываю! Не ломись!
Модем – на прозвон. Ага, замигал, заверещал, болезный.
– Иду!
Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто! Это я, жена твоя…
А и не жена зато!
– Привет, Настя. Давай сумку. Тяжелая?
– Привет, Снегирь. Осторожней, яйца! На углу купила.
Она меня всегда по фамилии звала. Точнее, по псевдониму. С самой первой нашей встречи. Когда я, распушив павлиний хвост (как же, белой акации цветы публикации! Литератор!! Круто!!! Круче нас только эти, которые на углу продаются…), стал токовать на суку.
Осторожно ставлю сумку на пол, делаю вид, что помогаю Насте снять пальто, а сам при этом лезу обниматься.
– Ох, Снегирь… Дай хоть раздеться.
Впрочем, высвобождается она не сразу. Искоса поглядывая на меня, начинает стягивать сапоги.
– Что это у тебя пищит? Холодильник не закрыл?
– Это модем.
– Опять в сети, маньяк?
– On-line-интервью даю. В январе на сайте анонсировали. Извини, забыл предупредить. Часа полтора еще.
– Да ладно, ерунда. Тебе кофе сварить?
– Ну! Что б я без тебя делал?..
Настя уходит на кухню. Я вновь подсаживаюсь к компьютеру. Бедняга модем ломится в сеть, печально и тихо стеная. Вечером на наших линиях коннект паршивый, все перегружено… Странно не то, что связь глючит, а то, что она изредка работает нормально! Наша АТС 1934-го года постройки, с нее разве что на Беломорканал звонить. Вот, опять сорвалось…
– Держи кофе.
– Угу.
Мы познакомились шесть лет назад. Три месяца эйфории. Ходили в обнимку, целовались в метро, улыбались в ответ на осуждающие взгляды. Свадьба! Гулянка, дым коромыслом. Еще год все было хорошо. Чудесно! На последнюю трешку шли в кафе. А потом, когда мои книги «пошли» всерьез, когда появилась возможность жить на гонорары… Семейный уют лопнул. Ссоры на пустом месте, глупые обиды, обоюдные загулы «на сторону». Спустя два года мы развелись. Тихо, мирно, без скандалов.
Через месяц я зашел к ней под каким-то пустячным предлогом. Остался на ночь. Лучшую ночь в моей непутевой жизни. «Я так соскучилась по тебе, Снегирь!» И лишь где-то далеко, на самом краешке сознания, – страх, что наутро…
Вскоре Настя заглянула ко мне: забрать свой зонтик. Целую неделю забирала. Я пошел ее провожать и снова остался. В общем, так мы теперь и живем третий год. Мелькаем туда-сюда. Наверное, скоро заведем ребенка. Здесь главное: ни в коем случае не расписываться снова! Штамп в паспорте для нас хуже проклятия Властелина Черных Кактусов! Такая, значит, любовь…
Ладно, как там со связью?
Коннект? Есть коннект!
Он сказал: «Поехали…»
[Necronom]: Вы писали, что общаться с читателем вам интересно. Когда вас хвалят – тогда интересно? Мне небезразлично ваше творчество… я, так сказать, голосую за вас рублем… потрудитесь соответствовать!
[Живчик]: Вчера в метро за два часа прочитал «Имперцев» – я в экстазе!! Искрометный юмор, красота отдельных мгновений и целостность ситуаций, тонкие психологические переживания плюс здоровая доля полного маразма – настоящий коктейль творчества!!
[Coockish]: Итак, ответьте мне, господин Снегирь, отчего вы столь грубо обошлись с моим земляком Колюном, отказав ему в наивной просьбе выслать Ваше фото с афтографом, а также не отреагировали на присланную им же идею для, уверен, просто гениальной Эпопеи?!!
[Big Pig]: Я очень люблю ваши книжки! ВСЕ ОЧЕНЬ КРУТО! Я ЛЮБЛЮ МИР!
[Хаврошечка]: Уважаемый Влад! Я написала вам в гостевуху такое искреннее, душевное письмо, какого никому никогда не писала, раскрыла вам свою душу. А вы плюнули в нее своим молчанием. Неужели трудно было ответить хоть что-то!
[Рыло Пушистое]: Я люблю «Очаковское» пиво в пластиковых бутылках, но недавно прошел слух, что это разбавленный пивной концентрат + спирт. Что Вы думаете по этому поводу?
…за моей спиной Настя полезла в шкаф. Я было испугался: станет наводить порядок, а это хуже керосина! Нет, раздумала. Вынула чехол с гитарой, извлекла инструмент. Недавно купил: у старенькой «Кремоны» треснул корпус, так я присмотрел дешевенькую «Реноме». Мои шесть аккордов все равно на чем брать, хоть на лыже. Так, для себя оттянуться…
Тихий, изрядно фальшивый перебор.
Голос у Настюхи не ахти, но слушать можно.
Кому поет твоя свирель В промозглом ноябре? Вослед свободе и игре — Мечты о конуре. И ты согласен умереть, Но перестать стареть. Примерзли губы к тростнику — Звучанье? Пытка?! И эхо шепчет старику: «Отбрось копыта…»«Старого Пана» я написал прошлой осенью. В простеньком «ля-ля миноре». И никогда не слышал, чтобы Настя пыталась… Пение отвлекало, я сперва хотел попросить ее выйти, но раздумал.
Сам не знаю почему.
– Пан? Пропал?! Ночь слепа. Изо рта — Сизый пар. Ветер волосы трепал, Успокаивал…[Captain]: Хай, Снегирь! Я прочитал без малого 500 (478) фэнтезийных (фантастических) книг, но только твои и Березкины вызвали во мне особое восхищение, а также заставили меня думать. Единственная мечта, которая осталась, – пожать тебе руку. Попробую сделать это через Интернет.
[Driver]: Возможен ли увлекательный и умный роман без стрельбы и мордобоя – короче, без приключений тела?
[Mastiff]: Не кажется ли Вам, что наличие в книге какой-либо отчетливой идеи – это погрешность писателя? А Ваших опусов я вообще не читал… Советуете?
[Gold Petooh]: Вот, выловил любопытную цитату: «Произведения одного автора или группы авторов одного пола („гомосексуальные“, если можно в данном контексте так выразиться) – они всегда в чем-то неуловимо однобоки». Hе желаете прокомментировать? Я это к тому, что у вас книги действительно какие-то… без либидо.
[Умница] [Gold Petooh]: Это такое японское боевое искусство – либи-до?
[Uncle Bend]: Во многих Ваших книгах по ходу сюжета встречаются описания различных способов казни – от банального сажания на кол до совсем уж экзотических. Взяты ли они из исторических источников? Всегда ли необходима такая подробность в их описании?
Пусты осенние леса, Бесплодны небеса, Ты не собака, ты не псарь, Ты – битая лиса. Метелка дикого овса В курчавых волосах. Ледком подернулась тоска — вода в колодце. Набухла жилка у виска, коснись – прольется.Хорошо, что я умею быстро печатать. Большинство моих коллег это делают медленно. А я быстро. Зато они пишут быстрее. Не все, но многие.
Каждому – свое, как было написано над воротами Бухенвальда.
Или я опять что-то путаю?
Пан? Пропал?! Ночь слепа…[Sibilla]: Смотрите, кто это? Это же Влад Снегирь! Здравствуйте, я к вам из Монголии, решила посетить интервью! Я вот честно ни фига не читала… А на английском есть ваши романы, Снегирь?
[Herr Cooles]: Страшные вещи пишешь, уважаемый. Плохо спится после чтения твоих книг… Да и сразу тянет читать новые. Любишь убивать своих героев. Неужели смерть является последним штрихом, экспериментум крузис, чтобы герой понял сам себя? А может, твои персонажи тебе слишком дороги, чтобы оставлять их в живых?
[Fat_Princess]: Птичка, ты просто гений! Не меньше!!! Приезжай в Абакан – пивом и жильем обеспечим! Любим, любим, любим…
[Mood Dark]: С ума сойти… Все, что читал… такой бред… Снегирь… какой провинциал со стажем и непременными усами подковой, переработав в КБ, мог сочинить «Гуляй полем», извините… но… сдохнуть со смеху… и этот человек еще пишет о вампирах… читают вас дауны… и я в том числе, потому что сегодня выпил уж больно много пива…
[Канкретный Пацан]: А почему наши писатели тяготеют к фэнтези? Где старый добрый НФ? Патаму чта фэнтези – это по понятиям, а НФ – типа нет?
[Рыло Пушистое]: Какой спиртной напиток в данный момент вы считаете наиболее подходящим для свободного полета творческой мысли?
Кому нужна твоя свирель, Когда умолк апрель, Когда последний лист сгорел На гибельном костре?! И ты согласен умереть, Но только бы скорей… Идет нелепая зима в хрустальном платье. У божества – своя тюрьма, свое проклятье.Скоро надо будет закругляться.
Устал.
Пан? Пропал?! Ночь слепа. Изо рта — Сизый пар. Ветер волосы трепал, Успокаивал…[Elf Gosha]: С некоторых пор с отвращением отбрасываю все, что написал Снегирь. Начиная э-э… дай бог памяти – с «Острого угла», что ли? Все – сплошная истерика. И «Имперцы», и «Гуляй…» завалены этим по самую крышу. Какой антураж? Какой юмор? Все смыто псевдоисследованием человеческой души. Если проявление духовной жизни – непрекращающаяся истерика, то это не к писателю, а к психотерапевту.
[Ellen]: Спасибо за ТЕ САМЫЕ слова, что, наверное, приходили в голову многим читателям – только никто не знал, как сказать.
[Lordik]: Как относитесь к мату в книгах?
[Valentine]: Скажите, насколько важна Вам фантастическая сторона произведений? Нет ли желания написать книгу о Жизни, которая вокруг нас и оставаться человеком в которой порой труднее, чем совершить подвиг в волшебных мирах?
[Second-Hand]: Очень люблю твои книги, но в последнее время пошли какие-то не очень понятные отклонения в сторону «психологического трепа». Я люблю психологическую литературу (Достоевского иногда почитываю), но не до такой же степени! Будь проще, и народ к тебе потянется.
[Жадина]: А то, что небольшой роман выпустили в 2-х то-о-оненьких томиках по 50 р. каждый (!), навевает нехорошие мысли об излишнем сребролюбии…
– Снегирь, а Снегирь… Я давно хотела тебя спросить…
Чат разбегался, по экрану гурьбой бежали всякие «хаюшки», «чмоки», «покашки» и «удачи!». Я мотнул головой, параллельно выстукивая ответную дребедень. Дескать, спрашивай, раз давно.
– Только ты не обижайся, ладно?
– Ладно.
– Понимаешь, они ведь дураки. Обычные дураки, пустые как барабан, получившие возможность греметь на весь свет. Ты читал их вопросы? И свои ответы… Это позорище, Снегирь, птичка моя певчая. Тебе не стыдно?
Я откинулся на спинку кресла. Она не понимает. Она никогда не поймет. То, что я сейчас сделаю, будет жестоко, но это единственный способ.
– Неправда, Настя. Они не дураки. Они – читатели. Умные, глупые, смешные, гордые… Всякие. Чи-та-тели. Люди, которые читают. Тот же биологический вид, что и читатели Толстого, Гессе, Бодлера… Не веришь?
– Не верю, Снегирь.
– Хорошо. Представь себе, что Лев Толстой жив. Что у него есть персональная страничка на сайте «Русская литература». -litr.ru/tolstoy-leo/ И вот ты пишешь ему в гостевую книгу. Ты – умная, образованная, под завязку набитая аллюзиями, метафорами, эстетическим мироощущением и чувством слова. Садись, пиши. Только имей в виду: Интернет платный, и на долгие письма у тебя бабок не хватит!
Когда я уступил ей место, Настя долго смотрела на экран. Минуту, может, больше. К концу молчания она начала шевелить губами. Словно ребенок. Пальцы, помедлив, легли на клавиши.
– Дорогой Лев Николаевич!
Еще минуты две Настя всматривалась в написанное, медля продолжить. На лице любимой женщины писателя Снегиря отражалась сложная гамма чувств: так внезапно опрокидываешься в зеркало, впервые увидев по-настоящему – морщины, мешки под глазами, сухие губы…
Не выдержав паузы, она стерла приветствие и начала заново:
– Здравствуйте, господин граф!
– Ты еще «Ваша светлость!» напиши, – не удержался я. – И про зеркало революции.
– Уважаемый писатель Лев Толстой! – Ей было трудно не ответить мне колкостью, но Настя (чудо?!) промолчала. – Я очень люблю Ваш роман «Анна Каренина». А также «Войну и мир», «Воскресение» и рассказы. На мой взгляд, это вершины русской словесности, в полной мере отразившие…
Прекратив печатать, она опустила руки на колени. Резко отодвинула кресло от стола. Кажется, Настя была готова расплакаться.
– Ты прав, Снегирь, – чуть слышно прошелестел ответ. – Они – читатели. А я – дура. Круглая. Извини, пожалуйста…
Я обнял ее за плечи. Теплые, узкие плечи, обтянутые джемпером.
– Все, проехали. Твой любимчик Толстой терпеть не мог Шекспира. А Тургенев – Достоевского. Дразнил того килобайтщиком и шаромыжником. Дескать, потакает запросам низкого быдла. Зато и Толстой, и Тургенев обожали Жюль Верна. Представляешь, в гостевой книге: «Дарагой Жюль пеши больше я от тебя балдю. Твой фан Тургенев…»
VII. Отсебятина: «Лучший-из-людей»
Мы внимательно изучили ваши рассказы, выискивая самое лучшее.
К сожалению, вынуждены огорчить отказом. В текстах должно быть поменьше жестоких и «кровожадных» сценок, а побольше добра, юмора, движений. Чтобы вам стали более понятны наши требования, сообщаем, что наш журнал рассчитан на среднего колхозника, среднего труженика. А теперь представьте: приехали вы в какой-нибудь колхозный клуб и читаете рассказ «Око за зуб».
Написано, конечно, здорово, но реакцию зала можно отчетливо предсказать…
Из архива В. Снегиря– И тут великий воин Бут-Бутан выхватил меч Дзё-Дзё-цы, что значит «Обух Счастья», и, произведя тайный прием «Снулый карп мечтает стать драконом»…
– Ух-х-ха! Хо-хо-хо!
– Тише!
– …изученный им у отшельницы Лохматого Хребта, с таким искусством отсек себе на взмахе кончик левого уха, что Черный Кудельпац в тот же миг умер от смеха! А боги с небес плакали жемчугом и изумрудами, больно ударяя по бритому затылку героя…
– Га-га-гаххрр!
– Еще! Еще давай!
– И тогда великий воин Бут-Бутан, иначе Куриный Лев…
– Ах-ха! Цып-Львенок!
– Саранча в меду! Горяченькая!
Набив рот саранчой, по вкусу напоминавшей мамины «хрустики», я лениво внимал. Этот сон мне нравился. Вкусно, смешно, и никаких дурацких хватов с Горцами. Невпопад вспомнился Вальтер Скотт: в дневниках сэр писал, что у него работа над романом идет всегда. Гуляет, ест, спит, а потом – бац, и сложилось. Ясное дело, мы с сэром одной крови: и в области таланта, и по части методов. В чате сижу, Настю люблю, потом сплю, значит, саранчу кушаю, байки слушаю, и вдруг – бац озарение. «Большое У», если верить китайцам. Или даже «Большое У-у-у!» Строчка за строчкой, и каждая нетленкой пахнет. Руки тянутся к перу, перо к бумаге, минута – и…
Вот только еще посплю маленько.
– …в отрогах Дурьяндупы встретился ему крылатый Сри-Сида, то есть «Блистательный Небожитель», лелея желание поделиться секретами боя на овечьих колокольцах. Ибо слух о подвигах героя…
Глаза болели от зеленого. Харчма старого Хун-Хуза располагалась на обширном лугу, при полном отсутствии стен или крыши над головой. В сезон дождей проще нанять нищих с зонтами, дабы прикрывали клиентов. Во всяком случае, это я решил, что так проще, а кому не нравится, пусть идет в другое место. Здесь же перед любым посетителем прямо на травке расстилалось полотно, и ты, сидя на собственной заднице, мог предаться чревоугодию. Кухня простая, но обильная: тушеная печень осьминога, свиные хрящики в жижице, суп из бычьих рогов, биточки «Черачап», нефритовые стебли в уксусе, глаза карасиков… И много-много манговой фьюшки. Под фьюшку слушать о подвигах Бут-Бутана было тепло и смешно.
Хотя для меня жизнь Куриного Льва сочинялась без особого веселья.
Бут-Бутана, мальчишку-неудачника, я во многом писал с себя, любимого. Влад Снегирь, он же Владимир Чижик, в детстве просто Пыжик. Вечно обижаемый рохля. Пятый класс школы: пошел заниматься дзюдо. Один раз подтянулся на турнике, дважды отжался от пола. Посмеялись, но взяли. Через полгода ударился головой об пол: врачи-окулисты запретили борьбу напрочь. Пошел на фехтование. Чуть глаз не выбили: маска прохудилась. Пошел на карате, уже в бурсе: сломал ногу, а тренера вскоре посадили по валютной статье. Мне легко было «делать» Бут-Бутана – подкидыш, воспитанный в семье маслодела Чемпаки, гордый заморыш, он был убежден, что родился для воинских подвигов. Вечно битый, всегда задиристый, превращавший в оружие любой попавший в руки предмет (ветку, пояс, камень…) и снова битый, битый, битый… За него давали не двух – две сотни небитых. Неукротимый дух царил в скудном теле. И однажды бродячий Пандит рассказал мальчишке сказку про Лучшего-из-Людей: воина, мудреца, правителя, волшебника, равного богам. За что Златоухая Джестумшук, госпожа Сивого неба, велела дружине Вержегромцев расчленить предательски усыпленного героя. Части тела Лучшего-из-Людей были раскиданы по земле, обратясь в младенцев. Подкидышей. Вечно ищущих завершения и никогда не находящих его.
«Возможно, ты, малыш, правая рука Его, – на прощание сказал Пандит. – Рука Меча. Ты помнишь, ты хочешь, но не можешь. Что ж, ищи…»
Бут-Бутан пошел искать. Сейчас, в моем незаконченном романе, он бился на стенах Дангопеи вместе с Носатой Аю, «Рукой Щита», страстно желавшей защитить всех страдальцев, но навлекавшей на них лишь новые беды, и Мозгачом Кра-Кра, «Головой Власти», косноязыким волшебником, не способным произнести до конца ни одно заклинание. И мне надо было гнать их дальше на поиски, а я ел саранчу, пил фьюшку, спал без задних ног и врал издателю, что скоро закончу.
Брехло я ленивое.
Самое время «пшикнуть» и сесть за работу.
– …спасибо Нежному Червю: подкинул Отщепенку. Швея, доложу я вам! – пока мы над плащами корпели, она за два дня все мундиры галунами обшила! И не прожорлива, хвала Мамочке: соломки маковой кинешь, и ладно…
– Да чего их кормить? Пущай работают! А там – «пшик», и гуляй морем…
– Это верно, кормов жаль. Нежный Червь по связке в час берет. А ежели Отщепенец для жертвенного Дождеванья или там пытку новую испробовать, – и того дороже…
Медовая саранча встала мне поперек горла, трепеща крылышками.
Расплатившись с Хун-Хузом, поднимаюсь. Пора уходить. Хваты, Отщепенцы, галуны… Червь, понимаете ли, Нежный. Торт есть такой, «Нежность». С червями, должно быть.
Снится дрянь всякая…
Дорога от харчмы к храму вилась чудными загогулинами: с высоты птичьего полета они наверняка складывались в витиеватое ругательство. «Чому я не сокiл, чому не лiтаю?» Катерина из «Грозы» тоже, помнится, интересовалась: чего люди не летают? Не ваше дело, сапиенсы. Вам дай крылья, вы друг дружке на голову гадить станете. Раньше, в других снах, я летал довольно часто – но здесь, в Ла-Ланге, талант авиатора бежал меня. Видно, с реализмом переборщил. Магии себе натворить, что ли? Или артефакт завалящий?! Ладно, перебьюсь! Если б еще не дикий штын из слободы золотарей-ортодоксов: вон из-за частокола воняет.
Поселок философских каменщиков я уже, к счастью, миновал.
За долиной млечных тюльпанов, на Худом Утесе, торчит наклонная сразу в три стороны башня местного мага Нафири-су, сибарита и мизантропа. Того и гляди, рухнет – но не поймешь, куда именно. Сердце наполняется законной гордостью за творение моей блистательной фантазии: буйно цветут хвойные бунгало, в кустах зверобоя продырявленного, щелкая клювами, гвельфы-сырояды гоняются за шустрыми гибеллинчиками, от питомника бойцовых выхухолей доносится меланхоличное: «К ноге! Фас! Куси за лодыжку!..», – и, обуян гордыней, я немедленно поскальзываюсь на слоновьей лепешке.
Еле успел ухватиться за дюжего мужика, шедшего навстречу.
– Ну ты, бродила! Зырь, кого хватаешь! А то самого щас цапну!
А еще в шляпе! Широкополой, из войлока… Ба! Это ж хват!
Четверка его коллег выворачивает из-за клубничной рощи. Чмокают соломенные шлепанцы, смачно, взасос целуясь с грязью. Чудеса: в округе сушь, а здесь всегда грязи по колено. Одно слово – сон.
– Что, Дун-Дук, с горя решил бродилу прихватить? Раз с Отщепенкой обломилось?
– Я его?! Я его прихватил?! Вцепился, шаталец, как банный репей…
В ответ – мрачный гогот. Восстановив равновесие, я спешу убраться подальше от компании хватов. Жаль, спешить по грязи выходит скверно: чав-чав, чмок-чмок. Не бегство, а фонограмма «Любви людо-еда».
За спиной, удаляясь, бубнит разноголосица:
– Надо Нежному Червю сказать! Прямо в глаз! Неча нас в оный храм гонять!
– Ну! Второй раз конфузия!
– Нафири-су во злобе со свету сживет…
– Вот вам и Случайная Удача!
– Так она ж от роду-веку – случайная. Видать, случай мимо выпал.
– Две стражи прождали – и все мытарю в кошель!
– А может, жертву ей надоть? Кривой Тетушке?
– Же-е-ертву… Бродилу своего лучше бы цапал да к Нафири-су тащил. Кто б его хватился, шатальца?
– Теперь уж поздно – убег…
– Что ты мелешь, Спаран? Человек, живая печень. Не Отщепенец, чай…
– Ладно уж, чего без толку язык полоскать…
Похоже, маг опять остался с носом. Ну и черт с ним. Делай ноги, приятель, «пшик» не за горами!
Храм пустовал. Кусок стены послушно крутанулся вокруг оси, и мне навстречу…
– Настя?!
– Снегирь?!
– Ты чего в моем сне делаешь, подруга?
– А ты – в моем?!
С минуту мы ошарашенно глядим друг на друга. На Анастасии – знакомые портки с безрукавкой, только безрукавка почему-то надета задом наперед. Туго я соображать стал. Никак не пойму, по какой причине. Ведь есть же причина, должна быть!
– Кошмар, Снегирь! Какой гад такие сны сочиняет?! Встречу – убью!
Скромно молчу.
– Думала: замуровали! Сейчас Фредди Крюгер вылезет!.. Не мог раньше объявиться?!
– Фредди?
– Ты, дубина!
– Откуда ж я знал? Сплю себе, фьюшку хлебаю…
– Алкаш! Он хлебает, а я расхлебываю!
Машинально оправдываясь, я нутром чую приближение скандала, – но тут на тройке с бубенцами подкатывает дружище-»пшик». Оттолкнув Настю, врываюсь в каморку, спешно раздеваюсь, швыряя вещи в сундучок. Пинаю спусковой камень, больно ушибаясь локтем. Из нездешнего далека гулом колокольни вспыхивает:
– Снегирь, ты куда?! Ты зачем голый, Снегирь!..
Просыпаюсь я, Настя. С легким паром.
То есть с добрым утром.
VIII. Рубаи из цикла «Обитель скорбей»
Написал я роман, – а читатель ворчит. Написал я рассказ, – а читатель ворчит. Я все время пишу – он все время читает, И – Аллах мне свидетель! – все время ворчит!..IX. Дорога дальняя, казенный дом с перерывом на воспоминания
Противостояние «высокой» и «коммерческой» прозы существовало всегда и всегда было нормальным состоянием литературы. Другое дело, что интересы авторов обеих литератур диаметрально противоположны.
Авторы «коммерческой» литературы, как правило, страстно жаждут признания другой стороны, но, не в силах получить его обычным путем, добиваются такого признания нелитературными средствами. Войны всегда развязываются авторами «низкой» литературы, и если уж война начинается, то ведется именно как война – действия, направленные на полный разгром противника.
Из статьи в фэнзине «Дружба уродов»Одинокий трубач на перроне вдохновенно лабал «Семь сорок» в ритме «Прощания славянки». Гимн Ее Величества Дороги взмывал к небесам, золотой иглой пронзая насквозь плоть сумерек, и вороны, ошалев от меланхолии, граяли Краснознаменным хором им. Дж. Гершвина. Смутные тени наполняли февраль: добры молодцы с баулами, красны девицы с мобилами, проводницы с полупроводниками, носильщики с волчьим блеском в очах, красных от недосыпа и бодуна; разбитные офени бойко впаривали пиво, перцовку на меду, конфеты «Радий», пижамы из байки и сервизы под Гжель, – видимо, пассажирам назначалось хлебать «ёрш» именно из синюшно-лубочной чашки, надев хэбэшный пеньюар и закусив липкой карамелькой. Мимо скользнул юноша бледный, вяло каркнув: «На хлебушек, дядя?», и, не дождавшись милосердия, купил у жирной бабки пол-литра «Рябины на коньяке». У ступеней подземного перехода, зевая во всю пасть, скучал мордоворот-ротвейлер: псу меньше всего хотелось ехать за тридевять земель, хлебать щи из «Педигрипала». Рядом зевала дуэтом жеваная мамзель-хозяйка, сверкая фарфором челюстей. Вавилон кишел в ночи, Вавилон плавился надеждой на обетованность иных земель, сливая воедино трубу, грай ворон, хрип динамиков: «Скорый поезд № 666 „Азазельск – Лимбовка“ прибывает на…» и тоску гудков от сортировки – в детстве я чертовски любил ездить на поездах, «где спят и кушают», ибо такой, гулкой и бестолковой, казалась сказка.
Люблю по сей день.
Душой я уже был на конвенте. О, конвент! О-о-о! Попойка титанов – если водомеркой скользить по поверхности бытия. Расколотые зеркала («Утром встал! увидел! н-на, дракула!..»), поверженные унитазы («А чего он? чего?!»), шашлыки из корюшки, пляски под луной, в номере пылится груда огнетушителей, невесть зачем собранных со всех этажей, саранча опустошает бар дотла, ангел опрокидывает чашу за чашей, а звезда Полынь отражается в безумных глазах, до краев полных чистейшего, как дедов самогон, творческого порыва. Но набери воздуха, нырни глубже – и откроется! Грызня за премию, гнутую железяку, не нужную нигде и никогда, кроме как здесь и сейчас, верная зависть и черная любовь, искренность, смешная, словно детский поцелуй, скрытность, похожая на распахнутый настежь бордель, террариум, гадючник, сад Эдем, детский сад, Дикая Охота, седина в бороде, бес в ребрах: «Я! с ней! пятнадцать лет назад! Чуваки, я старый…», слезы в жилетку: «Пипл хавает! Хавает! Ну скажи, скажи мне, почему он хавает меня, гнилого, а свежачок…»; вопль сердца, взорвавшегося над торговым лотком: «Борька! Борькина новая книжка!» – и в ответ на справедливое: «Какая, к арапу, новая?! Просто раньше не публиковали!» подавиться инфарктным комом: «Не новая… Борька, черт! За Борьку, гады… Молча, не чокаясь…» А если загрузить карманы свинцом и опуститься на дно, где шевелят усами трезвые сомы, где бессонные акулы способны урвать часок-другой покоя, а затонувший галеон полон слитков золота, – контракты, соглашения, джентльменские и как получится, налоговые справки, роялти, проценты, отчисления, пиар, форзацы, контртитулы, «споры по настоящему договору…», возвышение малых сих и низвержение великих, тиражи, тиражи, тиражи…
И рожденные в буйстве хокку:
Иду по склону. Кругом писатели. Да ну их на …!Седые фэны, помнящие фотокопии и самиздат, слова, таинственные для выбравших «пепси» юнцов; лысые мальчики, истрепанные страстями и алкоголем; халтурщики, способные вдруг оглушить стальным абзацем, как бьет иранская булава – насмерть; сонеты, эпиграммы и лимерики, которым не дождаться публикаций; издатели хладнокровнее гюрзы и внимательнее «парабеллума», жадные диктофоны газетчиков жрут случайность откровений; наглые от смущения девочки вырывают автографы с корнем, кто-то сует рассказ на рецензию, вынуждая охренеть с первого взгляда: «Она раскинулась на простынях с моргающими глазами…»; споры взахлеб, до утра, гитара, изнасилованная сотней рук, нет, я не Байрон, я другой, когда б вы знали, из какого сора…
Конвент.
Странная, страшная штука.
Соитие ада и рая.
* * *
– Ну-у-у, Вла-адинька!.. Ну-у-у, здравствуй, что ли?
Он всегда вкусно обсасывал слова, как мозговую кость.
– Привет. Пива взял?
– Пи-и-ва? Ну-у, взял.
– Угостишь?
– Ну-у… жадно мне…
Это был лев филологии, кашалот литературоведения, сизый кречет пера, великий критик современности, за любовь к Третьему рейху получивший кличку Шекель-Рубель. Субтильный барин, он и сейчас смотрелся скучающим лордом в отставке, снизошедшим до бутылки «Золотой эры». Ветер трепал лошадиный хвост волос, схваченных резинкой, – никогда не понимал, как можно отрастить такое сокровище при его лысине! Разве что с детства удобрять затылок…
Впрочем, лошадиная задница тоже безволосая.
Шекель-Рубель вальяжно крякнул, отрыгнув с видом короля, лечащего золотуху. Достал билет.
– Па-а-ашли, Влади-инька?
– Угу. Докурю, и пойдем.
Отчего-то стало грустно, что Настя не смогла меня проводить. Сейчас бы целовались на прощание, семейно, целомудренно вытянув губы, обещали ждать, скучать, зная, что забудем обещание, едва поезд тронется, застучит колесами…
Хотя мы и утром неплохо попрощались.
…Анастасия уютно, по-домашнему ворочается рядом, но просыпаться не спешит. Мне тоже жаль покидать теплую истому постели. Однако вдруг возникает предательское желание сделать Насте что-нибудь приятное. Например, подать кофе в постель. С горячими гренками. Как она любит. Благородные порывы у меня столь редки, что противиться воистину грешно. Осторожно, чтобы не разбудить, выбираюсь из берлоги, на цыпочках крадусь на кухню, прикрывая за собой дверь. Чайник – на конфорку, масло и ломтики батона – на сковородку; ага, Снегирю бог послал кусочек сыру, дабы, на булку взгромоздясь…
Спасибо Настюхе: во время моего отсутствия она решила постеречь квартиру, оставшись у меня на недельку. Не то чтобы сильно боюсь воров, но так спокойнее. Заодно, пока комп свободен, настучит свой реферат. О влиянии кого-то на кого– то.
Надо будет из вежливости уточнить: кого на кого.
Когда я объявился в дверях спальни, держа поднос с хлебом насущным, Настя только-только успела открыть глаза – и теперь изумленно хлопала длиннющими ресницами. Ресницы у нее от природы такие. Все подруги завидуют.
– Ты мне снишься, Снегирь?
– Обижаешь, мамочка! Это я, твой лучший в мире птиц! Вам кофе в постель или в чашечку?
– Ты действительно самый лучший птиц! Иди сюда.
– А вот ты мне взаправду снилась, – сообщаю в перерыве между кофе и поцелуями.
– Да? Приятно. Надеюсь, я была фурией? Стервой в кожаном комбидресе?!
– Не совсем, крошка. Комбидресс, например, отсутствовал.
– А мне тоже что-то снилось. – На миг я напрягаюсь. Вздрагиваю. Но Настя этого не замечает, набивая рот гренкой. – Дрянь какая-то. Только уже забыла, что именно. Я вообще редко сны запоминаю. Но тебя, птица певчего, я бы точно запомнила!
Поднос с пустыми чашками перекочевывает на тумбочку.
Одеяло накрывает нас обоих с головой.
– Вла-адинька! Мы опозда-а-аем!
Шекель-Рубель капризничает. Это у него в крови: шел бы сам, парился в купе! – нет, обязательно надо уболтать собеседника, заставить проникнуться виной: держал несчастного критика на ветру, голодного-холодного, подверженного менингиту, гепатиту и сибирской язве!..
– Иду, иду!
Когда он поднимается первым, виляя тощим задом, возникает острое желание дернуть критика за хвост. Борюсь с собой всю дорогу до купе и не выдерживаю. Дергаю. Шекель-Рубель оглядывается со скучной укоризной, морща носик, будто я при нем нагадил в Дрезденской галерее.
– У меня будет понос, – деловито сообщает он, веря, что этот факт интересен всем. Наклоняется, загоняя сумку под койку, и повторяет с нажимом: – У меня точно будет по-о-онос. Как всегда, в дороге. Девушка! Де-е-евушка!
Это не ко мне. Это к проводнице, румяной девахе-гренадеру.
– Что вам?
– Де-евушка, скажите, у вас какая сторона рабочая?
– Обе, – ничтоже сумняшеся отвечает красотка, видимо, прекрасно поняв суть вопроса.
Пока я давлюсь хохотом, Шекель-Рубель скорбит над бесчувственностью «отдельных представителей бомонда». Предаваясь шумному ожиданию «медвежьей болезни», прострелу от сквозняков, зверствам таможни и недополучению вожделенной премии. Но скорбь длится недолго: в купе, дыша в рифму табаком и коньяком, ломятся двое наших попутчиков. Монстры жанра – я по сравнению с ними начинающий пижон; соавторы-многостаночники Эльф и Петров, творцы бесконечного фэнтези-сериала «Дюжина кресел, или Златой телец» о похождениях арабского мага Сулеймана бен-Марии. На книжном рынке только и слышишь: «Когда выйдет „Седьмое кресло“? А „Шестое…“ уже разобрали? И доптираж? А правда, что „Первое кресло“ экранизируют под названием „За двумя стульями погонишься…“?!» Кстати, Петров – он не Петров. Это псевдоним. На самом деле он Сидоров. Зато Эльф – взаправду Эльф. Ну, почти. Когда юного Яшу Эльфенберга не хотели брать в университет, то взятка паспортистке сделала свое дело, обрезание состоялось, и на свет родился Ян Эльф (по мне, хрен редьки не слаще). Даже графа «национальность» приобрела соответствующий вид, но никто не знает, какой именно. Яшка категорически отказывается демонстрировать паспорт.
В народе Эльфа дразнят Дваждырожденным.
– Об-струк-ци-я! Об-струк-ци-я! – скандируют соавторы, покатываясь со смеху. Суть шутки понятна лишь им, но я ловлю себя на желании вновь начать ржать. Это нервное. Предвкушаю, значит. Застоялся, пора рвануть.
Гудок.
Плывет Вавилон за окном.
– За удачную дорогу!
– А Березку в «Книжном обозрении» обозрели во все дырки! Заказали девку…
– Знать бы – кто?
– Между первой и второй наливай еще одну!
– Пол-лю-ци-я! Пол-лю-ци-я!
– Валюн, сучий язвенник, пишет: «По молодости лет думал, что трудно быть бездарней Маржецкого. Ан, оказалось, есть еще скрытые резервы – навалом». И как начал тебя, Снегирь, поливать…
– Абзац ему в кегль! Шекель, сало будешь?
– Понос у меня… Ладно, давай. Толще, толще режь, жлоб!
– Перцовочки? Для лучшего стула?
– Акт дефекации закончился успешно! Фекалии были теплые, упругие и высокохудожественные…
Между шестой и седьмой объявилась таможня. Или между седьмой и восьмой? Нет, не помню. Помню только, что Эльф убежал покупать раков, утверждая, будто знает места их зимовки, а вернулся без раков, зато со штофом подозрительной «Старки» и в сопровождении вертухая. Мордатый цербер долго взирал на нашу компанию, шурша бровями, потом раздал декларации. Сыграли в крестики-нолики. Петров спросил, является ли он, Петров, и даже в каком-то смысле Петров-Водкин, произведением искусства. Или, на худой конец, антиквариатом. Шекель-Рубель послал Петрова на вышеупомянутый худой конец и, в свою очередь, начал бурно выяснять условия провоза валюты. Цербер оживился, выгнал всех, кроме критика, из купе, запер дверь и вздернул пытуемого на дыбу. Минут через двадцать, пучась от разочарования, он позвал нас обратно.
– Цель поездки?
– Еду в издательство вычитывать гранки, – сказал я, делая пассы.
Этому сакраментальному заклинанию пришлось обучиться лет пять назад, заехав к друзьям в Ростов. Было шесть утра, вокзал заселяли лишь редкие наперсточники, а меня остановил мент с автоматом и кавказским акцентом. Паспорт его не удовлетворил. Моя заспанная рожа навела на подозрения. И лишь загадочное «вычитывать гранки» – два удивительных, волшебных слова! – дуплетом пробили броню насквозь. Мент вспыхнул златозубым оскалом: «Вах, иди, хар-роший чилавэк! Вижу, ты не фалшивомонэтчик!..» С тех пор «гранки» не раз выручали меня в критические дни.
Но только не сейчас.
– Еще раз спрашиваю: цель поездки?!
– Писатели мы, – буркнул вожделевший «Старки» Эльф и благоразумно добавил: – Бедные…
Морда цербера приобрела странную конфигурацию:
– Писатели? Все?!
– Ага.
– Детективщики?
– Нет. Фантасты.
Цербер просиял. Цербер возликовал. Цербер выгнал сунувшихся было на помощь коллег, заперся с нами в купе и стал подробно интересоваться стандартами «роялти» на десяти тысячах тиража. Также его очень беспокоил пункт 6.5: «При внесении редакторской корректуры более 30 % Издательство вправе снизить авторский гонорар на сумму оплаты затрат и работы специалистов, производивших работу по внесению сверхнормативной правки». Мы объяснили, просветили и утешили.
– Как книга называется? – спросил напоследок проницательный Шекель-Рубель.
Цербер зарделся:
– Я сперва назвал «Уходи с баркаса». Но главред… Сошлись на «Таможня берет добро».
– Надо будет отловить. А фамилия автора?
– Я под псевдонимом. Будете искать, спрашивайте П. Верещагина.
Через десять минут поезд отчалил к светлому будущему.
– …раки! Вижу раков! Свистят! На горе! Иду брать!
– …с недавних пор определение «депрессивный» по отношению к моим текстам стало меня напрягать…
– …я пишу в очерке: «Hачав карьеру с довольно неровных, но неизменно интеллигентных и профессионально написанных романов…» А эта сука правит: «Hачав карьеру с неровных, эпигонских романов…» Ну не гад?!
– За хороших людей в нашем лице!
– Владя! Тебе взнос оплатили?
– Не то слово! Заколебали: приезжай да приезжай! Этот звонил… как его? Зам по особым…
Тишина упала на купе. Замер пластиковый стаканчик у рта Эльфа. Петров прикусил зубами рачью клешню. Кончил ныть Шекель-Рубель. Все смотрели на меня. Пристально. Молча. Не моргая. Так смотрят на новичка, вдруг объявившегося на пороге казармы. Так смотрят на игрока, впервые вышедшего на поле в составе сборной. И сквозь хмельную блажь просвечивало нечто усмешливое, холодно-благожелательное, словно ледяная кружка пива с бодуна.
– Кто звонил, Владя?
– Ну, этот… Антип. Венецианович, кажется.
– Что сказал?
Кончилась тишина. Сдохла. Луна в окошко: тук-тук. Колеса на стыках: так-так. Бутылки о столик: что-что?
– Да ну вас, козлов! Ничего не сказал. Звал на конвент. Спрашивал, как пишется. Обсудили график допечаток.
– И все?
– Вроде все. А, еще интересовался «Тираном Нозавром». Первой публикацией. Не было ли левых допечаток. И спросил, как мне спится.
Эльф нервно опрокидывает стаканчик. По счастью, не на стол, а в рот. Наклоняется вперед, блеснув стеклами очков:
– Ну и как тебе спится, Снегирь?
В очках Эльфа отражаюсь я. Какой-то чужой я. Значительный. Толстый. С буржуйским самодовольством во взоре.
– Хорошо мне спится. Вам бы всем так…
– Яша, отстань, – вполголоса бросает Петров, возвращаясь к обсасыванию клешни. – Всему свое время. Видишь же, нашего полку прибыло.
Эльф тянется за бутылкой, облизываясь, словно варан на песочке.
– Вижу, вижу… Ну что, Снегирь? За тебя, красивого!
И, разливая, смеется:
– Добро пожаловать в Орден Святого Бестселлера.
* * *
Этой ночью спал, как покойник. В смысле, без сновидений. А наутро, под бодрое «Восстань, Лазарь!», воскрес: могуч, велик и готов к новым свершениям. Несмотря на вчерашний перебор, опасения не оправдались – бодун проехал стороной. Ошибся адресом, напав на обычно спиртоустойчивого Шекель-Рубеля. Эльф дрых в удивительной позе (Поль Гоген, «Потеря невинности»), Петров храпел на манер алябьевского «Соловья», а бедолага-критик нашел политическое убежище в ватер-клозете. Откуда его пыталась изгнать давешняя проводница с обеими рабочими сторонами:
– Санитарная зона! Мужчина, вы понимаете?
Мужчина понимал, но выходить не спешил.
За окном, утешеньем критику, проплыл станционный сортир повышенной вместимости, гордо выставленный на обозрение туристов. Сколько езжу мимо, столько любуюсь росписью стен храма Дристуну-великомученику: перечеркнутая бомба – и надпись: «Превратим мы наш сортир в бастион борьбы за мир!» Страна нужников и граффити. Не знаю, как вам, а мне нравится! Ибо есть дзен-пофигист, каковым и пребуду во веки веков, аминь.
– Мужчина! Ну мужчина же! Семнадцать минут до прибытия!
Экзорцизм проводницы наконец увенчался успехом: через минуту изгнанный из убежища демон врывается в наше купе. Великий критик мечет громы и молнии, разоряясь столь многоэтажно, что я трепещу от зависти. Вот он, истинный мастер слова, носитель и творец живого русского языка! Ему бы в некроманты податься – любого мертвяка в три секунды поднимет, между первым и вторым загибом. Даже соавторы дрогнули. Проснулись. А их будить, доложу я вам… В купе воцаряется утренний бедлам, знакомый по десяткам подобных поездок. Сквозь стекло брызжет не по-зимнему жизнерадостное солнце, и я мысленно смеюсь над собственным, воспаленным ночью, воображением. Все эти странности, намеки… Розыгрыш, ясное дело! Клуб приколистов-затейников. Вон Эльф, зная привычку критика класть мобильник под подушку, стащил его «Моторолу» и тайком выставил будильник на шесть утра.
Дабы успел всласть опростаться.
– Уважаемые пассажиры! Наш поезд прибывает…
Идем-идем. Только штаны подтянем.
На перроне буянит оголодавшая по общению стая фэнов-рецидивистов и мэтров в законе. Знакомые все лица. Кроме одного колобка: голова тыквой, брита наголо, зато на щеках красуется трехдневная щетина. Модное длиннополое пальто нараспашку, реет по ветру белоснежный шарф, будто заранее сдаваясь на милость победителя. От бабушки ушел, от дедушки ушел, теперь катается туда-сюда: сдобный, круглый, румяный. Но, на удивление, не производящий впечатления толстяка.
Последнюю мысль я уже додумываю в его объятиях.
– Здравствуйте, дорогой, здравствуйте! Душевно рад! Приятно иметь дело с обязательным человеком. Ах да, совершенно забыл представиться: зам главреда «Аксель-Принт» по особым вопросам. Антип Венецианович Гобой.
Хватка у него, однако… А, судя по пухлым лапкам, сразу и не скажешь. Борец в отставке?!
– Влад Тромбон! – ляпаю первое подвернувшееся на язык; а на язык, как обычно, подворачивается чушь собачья. – Простите, Влад Снегирь, конечно… А если еще точнее – Чижик, Владимир Сергеевич.
Я на самом деле Чижик. По паспорту. И темперамент соответствующий.
Колобок заразительно хохочет, сверкая новогодней елкой: металлокерамика a la Hollywood, серьга в ухе и целая коллекция перстней. Притопывают лаковые штиблеты без единого пятнышка грязи. Кажется, Гобой ни секунды не может спокойно устоять на месте.
– «И явились к нему люди со странными прозвищами; когда же начали называть они свои истинные фамилии, то повергли Антропогеля в еще большее изумление…» – нараспев, неожиданно густым басом декламирует он. Видимо, это цитата, но я не знаю, откуда. – Полно, Владимир Сергеевич, мою фамилию все по первому разу так воспринимают. А вас небось в школе Пыжиком дразнили?
– Дразнили. Когда на фонтане водку пил.
– Ах, юность, пора надежд! Ну что, пойдемте? Машина ждет.
– Да я вообще-то… с народом, на метро…
– Дидель сети разложил, – напевает кто-то за спиной «Птицелова» Багрицкого. Гнусаво хихикает: – Чижик-Пыжик, надо ль плакать…
Кажется, Петров. Мне чудится в его пении нечто большее, чем просто ехидство. Ну, блин, шутники…
– Народ пусть безмолвствует! – Колобок тащит жертву сноровисто, как муравей щепку. – Неужели, дорогой Влад (а я для вас просто Антип!..), вам действительно хочется нырять в подземку, потом ждать автобуса, тащиться по ухабам… Осторожно, здесь ступеньки!
Ну с чего, с чего Владу Снегирю такая честь?! Те же Эльф с Петровым или Славка Неклюев, лидер продаж «МБЦ»… Богатыри, не мы! Может, действительно премию дать решили? И все заранее знают, один я – ни сном ни духом? Ага, раскатал губы! Премию ему, пернатому…
– Неклюева прихватим? А? – с надеждой оглядываюсь на радостно гогочущих, обнимающихся, хлещущих пиво соратников по литфронту. Однако соратникам я по барабану. По наигранному, неестественному, нарочно гулкому барабану. Без очков видно – притворщики. Один Шекель-Рубель хитро щурится вслед. Впрочем, это у него, может быть, от поноса.
– Пусть Неклюева его издатель возит! Давайте же, Влад, дорогой! Нам есть о чем поговорить.
Ну, если так… Дела – это святое.
Коммерческие, блин, тайны.
Темно-синий «БМВ» приветливо распахивает пасть. Багажник также открывается сам собой, водитель остается на месте. Укладываю рюкзак, суюсь в салон… Ни фига себе! Это кто же за рулем?! Их преосвященство, генеральный директор собственной персоной?!
– Здравствуйте, Андрей Олегович!
А колобок от смеха прямо заливается. Что я опять брякнул?
– Добрый день, Владимир Сергеевич. – Шофер-гендир отменно вежлив. – Садитесь, прошу вас. Как доехали?
– Спасибо, хорошо…
– Это не Андрей Олегович! – выдавливает наконец Гобой. – Это Игнат Кузьмич, его все с шефом путают. То бумаги на подпись норовят подсунуть, то разговоры о поставках заводят…
Двойник скупо ухмыляется, став похожим на восковую фигуру из коллекции «Монстры ХХ века», и мы трогаемся, сразу ввинтившись в бесконечный поток машин. Да, теперь и сам вижу – ошибся. Водила, бугай-рекордсмен, шефа раза в полтора здоровее будет. Родственники? А ездит он, кстати, здорово! Мягко ведет, без суеты – это в столичном-то потоке.
– Сигарету, Влад?
– Не откажусь, – в тон Гобою отвечаю я, вальяжно откидываясь на спинку сиденья. Идет какая-то игра. Значит, сыграем по местным правилам, совместив, как говаривала Настя, неприятное с бесполезным. В зеркале заднего обзора видна унылая физиономия – Джеймс Снегирь, агент 007 на пенсии, – и меня разбирает смех.
Поэтому не сразу замечаю, что Антип Венецианович, левой рукой давая прикурить от своей зажигалки, правой как бы невзначай щупает мне пульс.
– Устало выглядите, Влад, – опережает он встречный вопрос. – Разрешите?
Зажигалка исчезает. В следующее мгновение Гобой, зам по особым, жестом окулиста-профессионала оттягивает мне нижнее веко и заглядывает в левый глаз.
– Чудесно! Лучше не бывает! – спешит успокоить самозваный эскулап. – Вовремя приехали. Как нельзя вовремя! Попейте водочки, а лучше – текилы, с коллегами пообщайтесь, перемойте друг другу косточки, отдохните…
Рецепты доктора Гобоя ложатся бальзамом на сердце. А что до маленьких странностей – мы здесь все психи.
– Прошу прощения. Я буквально на минутку.
Из рукава пальто словно по волшебству возникает миниатюрный мобильник. От аппарата к запястью владельца тянется золотая цепочка. Тонкая, витая. Успеваю заметить краем глаза, что на клавишах вместо цифр – одни буквы. Латинские. Местами же вообще иероглифы. Или руны?
Пухлые пальцы берут сложный аккорд.
Телефон отзывается клавесином.
– Да, это я. Кажется, успеваем. Нет еще. Думаю, завтра. Да, поговорю. До связи.
Мобильник рыбкой ныряет обратно в рукав. Силен, Антип! Копперфилд, Мефистофель и «новый русский» в одном флаконе? Делая вид, что нам подобные фокусы – плюнуть и растереть, глазею в окно. Мелькают кресты церквей, освящая рекламу «Макдоналдса», густо зеленеют памятники всяким деятелям, и – автомобили, автомобили… Пора городу переходить в третье измерение. Индивидуальные микровертолеты типа «Саранча», дирижабли-такси, а там, глядишь, и до антигравов додумаются. Хотя… лет за двадцать вертолеты с антигравами все воздушное пространство забьют вглухую. Да и если сверзится такая штука… Без нуль-транспортировки не обойтись. Как без других кабинок, на которых по два нуля нарисовано. Приспичит – днем с огнем не найдешь. Вот о чем Шекель-Рубелю писать надо, а не про философию жанра.
– О чем задумались, Влад?
– О проблемах два нуля-транспортировки, – мы люди честные, нам скрывать нечего.
– Новый роман замыслили? – Гобой расплывается в улыбке, щурясь чеширским котом. – Не торопитесь, матерый вы мой человечище! Роман по выходу читают. Допишите сперва «Лучшего-из-Людей», передохните, сил наберитесь – и тогда уж… Себя надо любить, холить и лелеять, иначе недолго и нервный срыв заработать. Кошмары, опять же, сниться начнут…
Он что, всерьез решил, будто я про телепорты в канализации писать собрался? Ишь, возбудился: пафос, жестикуляция провинциального актера. Мамонт Дальский, трагик драный…
– Простите, Влад. Меня иногда заносит. Я ведь раньше на театре выступал. В опере пел. Надеюсь, вас это не очень смущает?
– Пустяки, Антип Венецианович. Я другого в толк не возьму: персональное приглашение, «машина к подъезду»… Желаю, знаете ли, возопить: «За что?!»
– За все, Владимир свет Сергеевич! Любим мы вас! Авторов вашего класса – по пальцам пересчитать…
Сижу, помалкиваю. Обуреваюсь подозрениями. Когда издатель начинает «за любовь» – жди подвоха. Предпочитаю будни: тираж, гонорар, срок выхода книги. Ну, под коньячок можно на врагов посетовать. А любит меня пусть лучше кто-нибудь другой. Желательно Настя.
– Кстати, о мартовской допечатке «Имперцев»…
Кажется, добрались. Сейчас заявит: «Спешу обрадовать. Шиш тебе, мил-птиц Снегирь, а не допечатку. Ибо народ не Снегиря, а Маржецкого с Березкою с базара, блин, несет…» Вот и вся любовь.
– Спешу обрадовать: наши маркетологи решили ставить в производство не пять, а двенадцать тысяч. Держите гонорар. Чтоб веселей на конвенте гулялось.
– А-а… договор? Расходный ордер?
Легкомысленный взмах сдобной лапки. Точь-в-точь Карлсон: «Пустяки, дело житейское!»
– В понедельник заедете в контору, оформим. Гостиницу уже заказали. Посудите сами, золотой вы мой: приехали отдохнуть, развеяться, а тут – бумаги, подписи… Сам бы их век не видел. Зато гонорарушка (эк вкусно у Гобоя выходит!..) всегда к месту. Гонорарушка и тиражик. Помните, у классика? «А'хиважным для нас сегодня является ти'аж, ти'аж и еще 'аз ти'аж!» Или у другого классика…
В мгновение ока картавый говорок исчезает. Салон «БМВ» наполняется сочным басом Антипа Венециановича:
На земле весь род людской Чтит один кумир священный, Он известен всем по всей вселенной, Тот кумир – тираж большой!Меня покупают. Однозначно. На чем кидаете, черти?! Хотя, положа руку на печень, с «Аксель-Принтом» мы работаем пятый год. Контора солидная, в меру честная. Особенно с авторами. Ибо честность рентабельна, по мелочам кидать – терять лицо.
А если не по мелочам? Если по-крупному?
Сатана там входит в раж, там входит в раж! Люди гибнут за тираж, да, за тираж!!!Снегирь, дурила, как тебя можно кинуть?
Каким образом?!
Воображение отказывало. Я, конечно, фантаст, но не до такой же степени…
– А вот и пансионат.
Здание впечатляет. Снаружи. А внутри – особенно. Швейцар, тряся бакенбардами, распахивает перед нами двери, молчаливая охрана, мраморные лестницы, ковры, светящийся указатель: «Бар». Как поселюсь, надо будет наведаться. По опыту знаю: на конвентах «барская» жизнь процветает. У окошка администрации – галдящая толпа. И сразу, с порога: «Снегирь прилетел!» – «А где Эльф с Петровым?» – «Я в 804-м, заходи, накатим косорыловки!» – «…звездолет Ы летит в систему У, а на борту десантник Гидропончик…» – «Все издатели тормоза!» – «Точно! Мне опять на обложке „зеркалку“ влепили!» – «Ты в номинациях есть?» – «Козлы! Бэдж посеяли!» – «Здоров, Снегирь! Пива хочешь?»
– Ваш ключ, Влад. 241-й номер.
Оказывается, пока я вдыхал долгожданную атмосферу беспредела, Гобой успел просочиться сквозь очередь, подкатился к администраторше и вернулся с трофеями. Интересно, он и анкету за меня заполнил? Или так договорился?
А потом зашли мы в номер, славный 241-й, – и, культурно выражаясь, охренел я до пупа. Люкс двухкомнатный шикарный, два стола (один журнальный, а второй для посиделок…) и двуспальный сексодром! Блеск посуды в темных недрах обалденного буфета, кожа кресел-бегемотов, туша жирного дивана, куча встроенных шкафов, люстра в форме бригантины, бра, торшеры, под ногами – ворс толстенного ковра. На кронштейне телевизор (блин, с подствольным видаком!..) – не «LG», не мелкий «Томпсон», а прославленный в рекламах супер-»Sony-Trinitron». Сажень по диагонали! Холодильник дремлет сбоку. Машинально открываю. Пиво, водка, минералка, два флакона «Ахтамара», баночки – лосось, маслины, красно-черная икра…
– Это что… это как?..
Спертое в зобу дыханье еле-еле выравнивается.
– …как прикажете понимать?!
– Не понимать, а принимать! – Гобой приветлив и лучезарен. – Как должное! Как дань вашему яркому таланту, замечательный вы наш Влад! Ладушки, не буду мешать. Вечером увидимся, на открытии. Или в баре!
Северное сияние гаснет, оставляя меня в одиночестве. Посреди шокирующего великолепия. С потертым рюкзаком в руках. Хорошо хоть тапочки взял – ходить в сапогах по такому ковру нога не поднимется. Впрочем, здесь и босиком можно. Не простудишься. Вот она где, фантастика! А вы говорите – фэнтези, спейс-опера, киберпанк… Что ж мне теперь в этой пещере Аладдина делать? Грешно куковать в одиночестве при забитом холодильнике. Учинить кутеж с оргией? Заманчивая идея. Никогда раньше не устраивал оргий. Не участвовал, не привлекался…
Но надо же когда-то начинать?
Душой чую, что Антип Венецианович со мной согласен.
* * *
Обед упорно сползал к трем часам пополудни. Последний автобус опаздывал, а лишать опоздавших кормежки оргкомитет счел несправедливым. Тем временем бар процветал. Кофе рекой, водка коромыслом, закуски кот наплакал. Ибо жрать – дело свинское, зато пить – удел великих! Памятуя гобойский рецепт, я заказал текилы и устроился в углу, подальше от иерихонских колонок. Рядом, в дыму и восторге, соткался изрядно поддатый Эльф. Один, без соавтора. Запустив длинный нос в мою рюмку, он гугукнул с одобрением, плотоядно сверкнул очками и возопил:
– Гарсон, текилы!
Я и опомниться не успел, как на нашем столике образовалась литровая бутыль «Саузы».
– Значит, угощаешь, – сделал странный вывод Эльф. – Правильно делаешь, молоток. Ну что, за твою орденскую планку?
На всякий случай я сначала выпил и только потом поинтересовался:
– Какую планку?
– Тебе что, Архипушка ни фига не рассказал? – Эльф вытаращился на меня сквозь очки, сразу сделавшись похож на осьминога в аквариуме.
– Какой Архипушка? Антип Венецианович?
– Да врет он, Шаляпин! Тип Антип… Архип он, понял! Архип Васильич. Так он тебе не?..
– Чего – не?
– Ладно, проехали! Значит, еще скажет. Ну, тогда за…
– За фантастику! – напротив плюхается знаменитый фэн Распашонка, дружбан и собутыльник всего прогрессивного человечества, мигом наполняя свой стакан дармовой текилой. Мы с Эльфом едва успеваем поддержать инициативу. Хорошо пошла – за фантастику! Экий, однако, темп взяли…
– Слышь, Снегирь, мы тут…
Дальнейший монолог Эльфа тонет в музыкальном армагеддоне. Развожу руками: не слышу, мол.
– Туда бы гранату кинуть! – вопит Эльф, с трудом перекрывая какофонию.
– Ура! Гранату! – Подогретый Распашонка лезет за пазуху и извлекает картонный цилиндр, сплошь в аляповатых иероглифах. Из торца цилиндра зловеще торчит кусок бикфордова шнура.
Очки Эльфа опасно загораются:
– Распашонка! Отец родной!
– Эльф, прекрати! Пожар устроишь!
– Не устрою!
– Обожжешь народ!
– Не обожгу! Я уже такую запук… запус-с-скал!
– Нас повяжут! Смотри, менты вошли!
– Нас не повяжут! Нас не догонят! За нашу бывшую Родину! Мэйнстрим must die! Слава киберпанку!
На последнем выкрике Эльфу наконец удается попасть отобранной у Распашонки сигаретой в кончик «бикфорда». Шнур вспыхивает, искря; Эльф привстает из-за стола («Велика Россия, а отступать некуда!..»), картинно размахивается… Вспышка. Фонтан сиреневого пламени. Вся стойка в дыму. Треск, грохот, по залу скачут палые августовские звезды. Отчаянный визг женщин. И – нестройное пьяное «ура!» отовсюду. Наш народ непобедим! Хоть атомную боеголовку в баре взорви: выживут, возрадуются и выпьют по поводу!
…Тишина. Трещат по углам, догорая, остатки заряда. Туман порохового дыма красит бар синькой. Не сразу до меня доходит: Эльф добился своего, укротив музыку. За что и страдает: трое в форме крутят ему руки, тычут мордой в стол, прямо в недопитую рюмку.
– Козлы! Пустите!
– Сопротивление при задержании!
– Да вы знаете, кто я?! Я гений словесности! У меня соавтор – мент! Полковник!
Врет, гений. Частично. Петров, который Сидоров, действительно мент. Но – майор. В Куряжской колонии малолеток строил.
– Он вас всех!.. С дерьмом!.. По стойке «смирно»! Отпустили! Быстро!
– Хулиганство в общественном месте…
– А-а-а! Больно же! Козлы! Сатрапы!..
– …в нетрезвом виде. Нарушение правил противопожарной безопасности. И оскорбление при исполнении. Будем составлять протокол.
Черт, кажется, Эльф влип серьезно. Надо выручать.
– Старшой, давай без протокола? Никто не пострадал, имущество цело. С барменом мы сами договоримся. А его соавтор на самом деле ваш коллега…
Старший сержант подозрительно оборачивается: это еще, мол, что за птица?
Распашонка, друг ситный, спешит на подмогу:
– Точно! Ихний соавтор – майар… тьфу, майор. Вы ему пенделя дайте и отпустите, он больше не будет. Давайте лучше выпьем! За нашу родную милицию!
– Где ваш соавтор?
На протоколе сержант больше не настаивает. Полдела сделано.
– В номере. Да пустите же! Больно!
Сержант делает знак. Двое держащих Эльфа слегка ослабляют хватку.
– В каком номере?
– В восемьсот четырнадцатом.
– Хорошо. Пошли разбираться.
Эльфа поднимают на ноги, я сую бармену «отступного» (хвала Гобою!), ушлый Распашонка прихватывает со стола текилу, не забыв и свой стакан (только сейчас замечаю, что стакан с подстаканником; небось в поезде спер!) и мы движемся к лифту.
Пятый этаж. Шестой.
Восьмой.
Ключ в руках гения никак не хочет попадать в замочную скважину. Менты скептически наблюдают за мучениями дебошира, и я вынужден прийти на помощь. Да, хоромы не царские. Обычный двухместный номер. На полу – батарея пустых бутылок из-под пива, в пепельнице – окурки. На кровати в углу дрыхнет майор Петров. Успев набраться до подвигов соавтора.
– Петров, спасай! – блажит Эльф. – Меня повязали! Дело шьют! Скажи им… Да проснись же, зараза!
С трудом открыв правый глаз, Петров пытается сфокусировать зрение. Люди в форме… любимый соавтор… свидетели…
– Попался, сука! – удовлетворенно констатирует бывший майор и переворачивается на другой бок.
Эльф воет, Петров спит, а мы с Распашонкой давимся в углу от смеха. Глядя на наш балаган, сержант хрюкает, закусывает губу и долго молчит, синея. Потом обреченно машет рукой: «Что с них возьмешь, с писателей!» – и наряд покидает номер.
Тогда мы начинаем ржать в голос. Петров вновь открывает один глаз, на этот раз левый. Тяжелый, похмельный взгляд упирается мне в живот.
– И ты попался, сука, – трезво говорит он. – П-понял?
Киваю. Дескать, понял.
Текилу мы допили прямо здесь. При участии Петрова, молчаливого и скучного.
– Повезло Эльфу, – хвастался Распашонка. – Это я их… Если б не я…
Позже был обед, и за обедом мы добавили.
А ближе к четырем я доплелся до своего 241-го и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Надо поспать. Надо. До открытия еще далеко…
Х. Отрывок из поэмы «Иже с ними»
И в моем дому завелось такое…
М. Цветаева Вначале было Слово. А тираж Явился позже. Но – до Гуттенберга. Ведь лозунг размножаться и плодиться Был вывешен для всех. Для всех живых, А значит, и для слов. Мой милый друг, Взращенный на мейнстриме и портвейне, Бунтарь кухонный, тот, который в шляпе, С огнем во взгляде, с кукишем в кармане, — Давай отделим зерна от плевел, Козлищ от агнцев, быдло от эстетов, Своих от несвоих, а тех и этих Отделим от условно-посторонних, Которым безусловно воспрещен Вход в наш Эдем, где яблоки доступны Любому, кто марал чело моралью, Поскольку Зло с Добром есмь парадигма, Влекущая лишь люмпен-маргиналов… О чем бишь я? Ах да, о тиражах.XI. Отсебятина: «Лучший-из-людей»
Фантастика ныне входит в первую тройку наиболее издаваемых жанров. Порадуемся, уважаемые читатели! Порадуемся – и вспомним, что на наших просторах пишут и более-менее регулярно издаются, по оптимальным подсчетам, шесть десятков авторов-фантастов. Много?!
По-моему, крайне мало – на столько-то миллионов читателей!
Итак, два взвода держат фронт – и держат его хорошо.
Из послесловия к первому изданию «Имперцев»– Сри минангкаб! Тысячекратно нюхая пыль из-под сандалий вашего превосходительства, о сри минангкаб доблестной Тугрии, осмелюсь высказать, трижды воззвав…
– Короче, пальцем деланный!
– Здесь еще один!
– Лазутчик?
– В недоумении молю Лобастую Форель просветить сущеглупого…
– Короче! Удавлю!
– Он голый, сри минангкаб!
– Голый? Странно… Ладно, тащите его к остальным.
Меня сноровисто вздернули на ноги и поволокли куда-то. Сизый с похмелья рассвет лился меж холмов, копясь в ложбине озерцами тумана, одуряюще пахли полевые вертухайчики, топорщились алые стручки дикого перечня, и в кустах лженосорожника стрекотали навзрыд влюбленные жужелицы. Было зябко, но не слишком. Носильщики сопели без особого дружелюбия, я для интереса согнул колени, мешком обвиснув в чужих руках, и вскоре поплатился за наглость, – резкий толчок, и Влад Снегирь, доверху набитый гениальностью, летит головой вперед, сшибая с ног мягкого, взвизгнувшего от боли невидимку.
– Цыц, вне утробы зачатые!..
Подо мной зашевелились. Вглядевшись, я обнаружил, что лежу голышом на милейшей девице, опрокинутой моим появлением на спину, и с удовольствием пялюсь в румяное личико. Внешность красотки слегка портил нос, длинноватый по отношению к мировым стандартам, но при прочих несомненных достоинствах, явственно ощутимых, нос даже придавал барышне некую пикантность, отчего спящий слегка восстал (если, конечно, вы понимаете, о чем я!).
– М-м-м, – дружелюбно сказал я. – Хмэ-э-э… А?
Твердая ладонь мазнула по холке. Тайный доброхот, спаситель прелестных мамзелей, явно пытался ухватить злодея за шиворот, в чем не преуспел за отсутствием последнего. Вторая попытка удалась лучше: вцепившись в плечи, меня сняли, оттащили и посадили в лужу – остывать. Через минуту девица также подошла ближе, но ложиться по новой и раскрывать объятия не спешила.
– Эти камнеглазые забрали вашу одежду? – спросила она, глядя мне прямо в лицо, ибо потупить взор девице мешала скромность. – Проклятые тугрики! Вы нуждаетесь в защите, добрый аскет?
Я тупо смотрел на Носатую Аю. Мой собственный персонаж собственной персоной (извиняюсь за отъявленную тавтологию!) сидел на корточках, пылая заботой о «добром аскете», – впрочем, «Рука Щита» донкихотствовала по отношению ко всем угнетенным, – плод воспаленной фантазии В. Снегиря с сочувствием моргал, роняя скупую девичью слезу, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Или хотя бы заполучить штаны. О моя каморка в храме Кривой Тетушки! О мои портки с безрукавкой! О-о-о! Где вы сейчас? Тоскуете ли по вашему хозяину?!
Дангопея от Ла-Ланга в тыще километров…
– М-м-мы, – задумчиво булькнуло в горле. – Ках-х-х…
– Бут, он, наверное, немой! Или заика, как Мозгач! Бедняжка!
– Сама ты заика, – обиделся я. – Хочешь автограф?!
Знакомая ладонь ухватила мое ухо. Свернула в трубочку, дернула.
– Ай! Больно!
– Будешь оскорблять Аю, – Бут-Бутан, Куриный Лев, грозно вышел вперед, подбоченясь, – оторву напрочь. И заставлю съесть. Не посмотрю, что аскет. Понял?
Что-то в его интонациях было от Петрова. Я начал размышлять, что именно, но почти сразу прекратил. Лишь сейчас стало ясно, отчетливо и однозначно, насколько смешно выглядит мой герой, пытаясь кому-то угрожать. Пусть даже мне, неуклюжему демиургу, задумавшему и воплотившему это ходячее противоречие тела и духа, не говоря о более драчливых оппонентах. Тощий, взъерошенный, из рукавов торчат костлявые запястья; глубоко запавшие глаза пылают страстным огнем – так глядит фокстерьер Чапа, пес соседа с пятого этажа, самозабвенно облаивая ротвейлеров и стаффордширов.
Солдат в кожаной куртке шагнул из тумана:
– Пр-рекратить базар! Ишь, лазутчики…
Рядом чавкнуло. Со всхлипом, с душевным чмоканьем трясины, заглатывающей жертву. Я и глазом моргнуть не успел, как массивный Петров, не ко сну будь помянут, образовался между нами и солдатом. Тугрик попятился, вскидывая копье: зрелище было не для слабонервных. Петров, в чем мать родила, деловито огляделся, нимало не смущаясь похабным видом себя, любимого. Потянул носом, чихнул.
– Какой козел?.. – мрачно спросил отставной майор. После чего увидел меня, и во взгляде Петрова ясно отразилось: «А-а… вот какой…»
– Сри минангкаб! С тщанием вылизывая колесницу господина, имею возвестить, в недомыслии расстилаясь…
– Короче, наружу вывернутый!
– Здесь новый! Жирный…
– Тоже лазутчик?
– Столбенея и беленясь, умишком скорбным не в силах постичь…
– Короче! Загрызу!
Чмокнуло сбоку. Чавкнуло поодаль. Всхлипнуло ближе к его превосходительству. Булькнуло у костров дозорных, хлопнуло за спиной солдата. Ложбина стала напоминать финскую баню: нагишом, хихикая, вопя, тряся телесами и визжа от прохлады, вокруг начали возникать старые знакомые. Требовал немедленно добавить Распашонка. Эльф искал Петрова, алкая мести. Обживал укромный кустик страдалец Шекель-Рубель. Славка Неклюев тащил за руку спокойную, как крокодил, Березку, – Лидка, идол фэнтези-феминисток, в костюме Евы оказалась вполне съедобной! – чего-то требуя от Петрова. Майор отгавкивался.
– Снегирь, паскуда! – донеслось до меня. – Его работа!
– Какой круг?!
– Похоже, третий! Я думал, он с Гобоем договор подмахнул…
– Дрянь текст, – равнодушно заметила Березка, ловя мой восхищенный взгляд и поворачиваясь спиной для лучшего обзора. – Проходняк. Снегирь, ты в тираж вышел?
Ответить я не успел. От костров к нам бежали солдаты, размахивая оружием, сри минангкаб гнусаво блажил: «Взять этих! Которые!..», а ближайший вояка, тот самый велеречивый придурок, с перепугу ткнул в Березку копьем. Фыркнув, Лидка увернулась с прытью, несообразной для дамочки средних лет, образ жизни сидячий, любимый вид спорта – ориентирование по запаху. Второй раз ударить вояке помешали: Петров, отодвинув копье, пнул Лидкиного обидчика в «роковое место».
После чего набрал полную грудь воздуха.
– Мочи ментов! – огласил ложбину рык майора Сидорова, столь памятный младым уркам Куряжской колонии, славнейшей меж пенитенциарными учреждениями страны. Правда, в Куряже майор-воспитатель вряд ли призывал к таким противоправным действиям.
– Мочи!
– Душу выну!
– Сри минангкаб! Их много!..
– Сыны Тугрии! Плечом к…
– Их очень много!
– Мочи!
Чмокало. Чавкало. Булькало. Человек тридцать критиков, литераторов, фэнов, редакторов, художников-иллюстраторов и прочих воинственно настроенных полиграфистов сцепились с передовым дозором тугриков. Голые черти, неуменье искупавшие задором, а страх – убежденностью, что во сне ничего плохого случиться не может, они кидались на копья, сбивая врага с ног, колотя головой о камни, упоенно вгрызаясь в шеи и конечности. Танком пер майор Петров, животом прикрывая осатаневшую Березку, Неклюев являл миру чудеса жизнеспособности, забывший о поносе Шекель-Рубель вселял страх. Юркий Эльф вертелся в гуще событий, ужасный в пламенеющих очках, и даже я, поддавшись общему азарту, сунул кому-то в челюсть. Кажется, Петрову, но он не заметил. Дважды, сталкиваясь в суматохе с Лидкой, я слышал, как она язвительно бросала: «Творила!» Думаю, в данном контексте это было именем существительным и именовало совершенно конкретное существо. Но я не обижался, тем более что в хриплом голосе Березки крылся даже слабый намек на уважение. Битва кипела забытым на огне чайником, друзья-коллеги, погибшие от копий, вспыхивали бенгальскими огнями, расплескивая туман, искры катились по траве, трепетали в воздухе, «сыны Тугрии» пятились, взывая к Лобастой Форели, а вокруг чмокало, булькало, чавкало…
– Мужики! Лидку… эти гады Березку… Мочи!
– Мочи-и-и-и-и!!!
Ко мне прорвался Бут-Бутан. Лицо Куриного Льва пылало вдохновеньем пророка:
– Бей! Бей их! Макай! – Слегка перепутав боевой клич, малыш захлебывался восторгом. – Я знаю! Знаю, кто ты! Ты – Лучший-из-Людей! Его дух! Я… мы будем такими, как ты! Тобой! Целым! Мы… Аю, гордись, – он упал на тебя!..
Красный от смущения и куража, я смотрел вослед бегущим тугрикам.
Чуя приход «пшика».
XII. Открытие, плавно переходящее в бар и бред
Прочь интеллектуальные эксперименты, прочь нытье и копание в душах! Они серьезные ребята, не уважающие дилетантизм. Они пришли с кованым железом в руках, черными поясами, университетскими дипломами и уверенностью в том, что прекрасно знают историю. Хорошим тоном считается с презрением относиться к собственной продукции и посмеиваться над массовым читателем.
Новые времена – новые игры.
Из статьи в «Литературном клозете», № 6, стр. 12У дверей конференц-зала меня поджидал Петров, грандиозней Колизея и душевней утопления комдива Чапаева. Екнуло сердце: похоже, будь его воля и найдись в пансионате карцер…
– Ты чего творишь, пернатый? Охренел?!
– А чего я творю?
– Горбатого лепишь?! Ладно, пошли в зал. После открытия забиваем стрелку здесь, у входа. И не вздумай слинять! Понял?!
Вот это «понял» меня достало.
– Слушай, у тебя бодун, да?! Злой как собака, на людей бросаешься…
– Добро б на людей. А то на всяких страусов…
Последняя реплика прозвучала чуть более миролюбиво. Ничего, пока открытие, туда-сюда – перебесится.
Начало традиционно затягивалось. По рядам гуляли бутылки пива и фляги с коньяком; стайка «молодых писателей», сверкая лысинами, лениво бродила по залу; время от времени недорезанным поросенком визжал микрофон, сопротивляясь насилию звукооператора. Наконец на сцене объявился оргкомитет во главе с Робертом Саркисовым: все в костюмах, при галстуках, один лишь Робби – в цветастой гавайке навыпуск и джинсах. Молодцом! Прямо сердце радуется.
– Мы приветствуем собравшихся на нашем конвенте… – завел он нудятину, глядя в мятую бумажку, – …рады, что… надеемся на… задать всем присутствующим один вопрос…
Роберт оторвал взгляд от бумажки, обозрел зал от партера до галерки, дождался гробовой тишины и раздельно поинтересовался:
– За каким чертом вы сюда приехали? Водку пьянствовать? Безобразия хулиганить?
– И сексом трахаться! – орут с балкона.
– Правильным путем идете, товарищи! – резюмирует Саркисов, исполнясь величия. – Все это, а также семинары, доклады, диспуты, премии и презентации новых изданий будет иметь место на нашем конвенте!
Зал взрывается овациями.
Нет, честное слово, хорошо! А то задолбал вечный официоз.
Потом «люди в черном» долго озвучивали призыв «Возьмемся за руки, друзья!»; зал вяло соглашался, меньше всего собираясь пропадать по одиночке. Помянули благодетелей-спонсоров, назойливо вымогая мзду аплодисментов после каждой фамилии. Воздали честь старикам. Зачитали приветствия. Под занавес, «не отходя от кассы», вручили парочку премий: «Василию Кепскому, автору сериала „Кладбище домашних мертвецов“, за создание светлого образа сил Зла в современной литературе» и… Шекель-Рубелю! «За многолетнюю и последовательную борьбу с начинающими литераторами».
На этой мажорной ноте открытие иссякло.
Петров уже маячил у выхода, поджидая меня. Словно боялся, что подамся в бега, устрашенный его пузом. Рядом с майором обнаружились Березка и Неклюев. Оп-па! Все мэтры в гости будут к нам. Только Эльфа не хватает, для комплекта.
– Летим на юг! – с угрозой буркает Петров, устремляясь к бару.
По дороге, не в силах удержаться, кошусь на сосредоточенную Березку. Нет, во сне она смотрелась куда симпатичнее! Лидка перехватывает мой взгляд, двусмысленно усмехается, но не произносит ни слова.
– Разговор будет серьезный. – Оккупировав угловой столик, Петров с грацией бегемота пододвигает даме стул. – Значит, по пятьдесят коньяка и кофе. Тебе, Лидочка, мартини. Сухой. Я помню.
Березка благодарно кивает. Она, между прочим, постарше меня будет. Года на три-четыре. А на вид никогда не скажешь. Форму держит прекрасно. И все ее вслух называют Лидочкой. Знакомые, разумеется. Для остальных она – Лидия Михайловна, звезда первой величины, автор бестселлеров с запредельными тиражами, кумир молодежи… Или кумирица? Ох, некому Березку заломати…
«Кумирица» строго смотрит на меня. Будто училка на провинившегося школьника. Сейчас в угол поставит. Спиной к классу. И велит чуть-чуть наклониться, для лучшего осознания.
– Как прикажешь тебя понимать, Влад? – Голос у Лидки проникновенный, вкрадчивый. Ей бы тоже в органы. На пару с Петровым. Послать их, что ли, в эти самые органы да пойти к ребятам?..
– Что – «понимать»?
– Арнольд с тобой бумаги подписал?
– Какой Арнольд?!
– Не прикидывайся идиотом! – встревает Петров. Злой следователь на контрасте с добрым, старая фишка. Щеки майора трясутся, общая лопоухость резко возрастает, делая его похожим на французского бульдога. – Гобой тебе что, за красивые глаза машину подогнал?!
– Антип Венецианович?
– Ну! Вообще-то он Арнольд. Арнольд Вилфинэтович. Болгарин по отцу, наверное… Но это неважно. Контракт подмахнули?!
– Петров, иди к арапу. Ты же знаешь, я на незаконченные вещи не подписываю.
Дьявол! Я что, оправдываюсь?!
– Владимир, лапочка, ты не в курсе? – интересуется Неклюев, обаятельный и томный. Прикуривает вкусную сигару неизвестной породы, пускает олимпийские кольца дыма. – Или темнишь? Так здесь все свои, рыцари Ордена. Можешь говорить смело.
– Это я темню?! Ну, братцы-сестрицы… В конце концов, это мое дело: хочу – подписываю, не хочу…
Петров залпом опрокидывает в пасть коньяк. Жарко выдыхает:
– Ошибаешься, глупый пингвин! Это теперь не твое дело. Это наше общее дело. Раз в тираж вышел, значит, общее. Понял? У него, едрена вошь, третий круг в разгаре, а он Гоголя из Снегиря корчит!
Третий круг чего? Алкоголизма? На себя бы посмотрел!
Вместе с любимым соавтором.
– Слушай, Влад, ты что, правда не в курсе? Тебе Гобой о процессе ничего не говорил? О критической массе тиража? О вторичных эффектах?
Помню, в одной книге про психушку врачи «процессом» именовали шизофрению. Вялотекущую. Очень точно, судя по нашему разговору. Процесс пошел…
– Нет, ничего. Пульс щупал, в глаз заглянул. В левый. Отдохнуть советовал, текилы попить… А что?
Троица «звезд» озадаченно переглядывается.
– Та-а-ак…
– Куда ваш спецотдел смотрит?!
Это Неклюев.
– Ну, от Арнольда я такой подлянки не ожидала!..
– Проморгали! Прошляпили! Я еще в прошлом году криком кричал в «Акселе»: интут в порядке, а расчетчика пора гнать сраной метлой!
– Интересно девки пляшут…
– Ясно. Сидите здесь, а я пошел Гобоя искать. Чтоб сразу договорчик, и закруглимся. Птичку на волю не пускать. Понял, Снегирь? Сиди тише водки, суше рыбки. Можешь коньяку выпить. Чуть-чуть. Тебе контракт подписывать.
– Не собираюсь я ничего подписывать!
– Лидок, Славик, я на вас надеюсь. Захочет удрать– разрешаю все приемы. О, Эльф! Давай сюда. Ты еще соображаешь? Тогда подключайся. А я побежал.
Петров решительно двинулся к выходу из бара, изображая ледокол в разгар навигации, а на место соавтора плюхнулся жердяй Эльф с бутылкой «Клинского» в деснице.
– Об чем совет держим?
– О пингвинах, королях и капусте. – Березка даже не улыбнулась. Кремень баба, на такой жениться – лучше сразу ведро элениума сжевать. – Ты днем спал, Дваждырожденный?
– А то! – с непонятной гордостью заявляет Эльф. – И восхищен талантом Снегиря.
– Значит, ты тоже в деле. Как тебе Владов третий круг?
– Одурительно! Я троих завалил, ей-богу!.. Нет, пятерых! – Стекла очков блеснули памятным пожаром, кулачки дробно ударили в грудь (пиво расплескалось на футболку…), и бар огласил боевой клич:
– Я Конан! Варвар из Киммерии!!!
– Козел ты, варвар. Конанист-любитель. Хорошо, что это днем выяснилось. Прикидываешь, что ночью будет?! А впереди еще три ночи… Народу до фига, резонанс, а у Влада – третий круг. Перекинет на четвертый, сразу узнаешь, где раки свистят…
– Кончай воспитывать, Лидочка. – Эльф слегка протрезвел, что выглядело совсем уж фантастично. – Я рыцарь, я все понимаю. Договор надо.
– Так он не хочет!
– Не хочет?! Ну, дела… Снегирь если упрется, его танком не сдвинешь. – Они говорили обо мне так, будто меня и не было рядом. – Тогда цацку. Срочно. Лучше – две. В оргкомитете рыцари есть?
– Один Саркисов.
– Мало. Надо Гобоя трусить. Хотя голосованием было бы надежнее…
– Петров за Гобоем пошел.
И тут не вынесла душа поэта. Если это розыгрыш – нашим звездам надо памятники при жизни ставить. За артистизм. А поскольку особых театральных талантов за ними сроду не числилось…
– Люди! Гении, блин, светочи фантастики! Да скажите же вы толком, что происходит?! Лю-у-у-ди!!!
Стихла музыка. Рассосался дым. Народ стал карнавалом теней: отодвинулись, налились прозрачностью. В ушах гулко зазвенело, ударило зеркалом об асфальт. А у стойки бара, одна-одинешенька в минутной пустоте, стояла королева-мать – Ее Бывшее Величество, Тамара Польских, совсем-совсем старая. Глядя с жалостью на беспутного дофина Влада Снегиря, попавшего как кур в ощип. Конкретно. Без вариантов.
Аж душа опрокинулась от ее жалости.
* * *
С Тамарой Юрьевной мы познакомились одиннадцать лет назад на семинаре в гурзуфском Доме творчества. Январь, Крым, кипарисы в снегу… Я, по тем временам полный Чижик, был приглашен за счет устроителей – в качестве племени младого, подающего надежды, – и заглядывал всем в рот, готовый в случае чего подать не только надежды, но и пальто. Впрочем, чиркая перышком в блокноте, тайком я сочинял гадкие стишки про местные нравы, теша гордыню. И одну ли гордыню?
Помнится:
Мы живем хоть на горе, Но отнюдь не в конуре — В этом Доме творчества Помирать не хочется! Для расстройства нет причин, Так что, братец, не кричи: Фантастических здесь женщин Втрое больше, чем мужчин! А мужчины, бросив муз, Открывают в горле шлюз: Член Союза Пьет от пуза, А уж пузо – как арбуз!..Тамаре Юрьевне тогда стукнуло сорок пять, и поговаривали, что баба ягодка опять. В смысле, крепко поведена на постельных делах. Правду сказали знающие люди или просто злословили – не знаю. Не сподобился выяснить. Я, мальчик-с-пальчиком, хамоватый юнец, чудом избежал мертвой хватки Польских. Зато в остальном мэтресса оказалась выше всяческих похвал. Попав в ее группу, творческий человек Владимир Чижик живо был выпорот на конюшне, ткнут носом в каждый ляп поименно, узнал много нового о запятых и приучился сносить насмешки со здоровым стоицизмом. Жаль, рукопись повести «Сыграть дурака» с личными пометками Польских, язвительными, точными и обидно-справедливыми, затерялась со временем – взяли к изданию в сборнике «Эфшпиль», прошляпили, сунули в архив, подвалы затопило водой…
Кстати, в одном Тамара Юрьевна прокололась. Я позже узнал: на заседании редколлегии она не рекомендовала мою повесть к изданию. Точнее, к изданию в «Эфшпиле», намеченному к выпуску в мае месяце. С формулировкой: «Произведение, конечно, годится для печати. Но его объем, помноженный на определенную элитарность и умозрительность конструкций, плохо укладывается в ложе изданий, рассчитанных на крупный тираж и, увы, коммерческую цену. Сможет ли, захочет ли автор сократить текст хотя бы вдвое?! Но публиковать в сборнике – риск большой».
Ах, мэтресса Польских, подвело вас чутье. Выстрел ушел «в молоко».
«Сыграть дурака», впервые выйдя в свет через три года после вашего приговора, на сегодняшний день выдержала шесть переизданий.
Впрочем, я о другом. Уже в те дни Тамара Юрьевна обладала популярностью, какая нам, сявкам, и не снилась. Народ зачитывался книгами под псевдонимом «Джимми Дорсет» (личина мадам Польских), роман «Последний меч Империи» – случай небывалый! – вышел в двух крупных издательствах одновременно, цикл «Старое доброе Зло» сподобился отдельного коллекционного издания, в кожаном переплете и с цветными иллюстрациями; к буму девяносто шестого, когда фантастика родных осин пошла на взлет, Тамара Юрьевна шумно раскрыла тайну псевдонима, став публиковаться под настоящей фамилией. Издания, переиздания, допечатки, именная серия «Миры Т. Польских»… И в девяносто восьмом – финита ля комедиа. Польских изменила жанру. Ушла в глухой мейнстрим. Практически порвала с тусовкой, ведя жизнь отшельницы. Говорят, много пила. Очень много. Развелась с мужем, второго заводить раздумала. Ее новые книги публиковались по старой памяти: максимум пять тысяч. Допечатки? Не знаю. Вряд ли. Зато королеву долбили письмами, депешами, «телегами» и гласом вопиющих масс: ну! Воспряньте! Взорлите! Как бывало раньше…
Тщетно.
Тамара Польских беспечально и бестрепетно становилась прошлым. Делом давно минувших дней. Едва «Последний меч Империи» подзабылся, окончательно уйдя из розницы, она вновь начала выбираться на конвенты. С удовольствием сплетничала, вспоминала былые проказы. Если просили, давала советы: жесткие, хирургически беспощадные. Не просили – молчала. Никогда не обливала грязью удачливых коллег. Не пила спиртного. Чихала на все премии оптом. И не отвечала на простой вопрос: почему?!
Спрашивать перестали.
Последними сдались Эльф с Петровым – старые приятели Польских.
Кстати, в Гурзуфе я и их помянул в песне. Воспев первое впечатление от друзей-соавторов:
…только подняли мы тост, Как упали нам на хвост Двое местных Достоевских, Обнаглевших в полный рост. После первого глотка Все взвились до потолка. Вот зачем нужна перцовка — Отшивать шаровика!Ах, кипарисы в снегу!
И вот сейчас, спустя годы, Тамара Польских жалела меня, глупого Снегиря.
Вокруг медленно проявлялся прежний бар, громокипящий кубок с пивом, растворяя в себе королеву, выглядевшую старше своих лет, жалость, печальную и тихую, словно прощание, словно прощение, и память, хлопьями оседающую на дно стакана.
* * *
– Снегирь, на взлет!
– Ты чего, Петров? Умаялся, бегая?!
– На взлет, кому сказано! С Гобоем оговорено, будем наверху беседовать…
– Неклюев, ты с нами?
– Извини, Лидочка. Вы из «Аксель-Принт», я из «МБЦ». Неэтично получится…
– Ладно, сиди здесь. Сами разберемся.
И помчались мы, люстрой палимы….
Номер у Гобоя, куда меня было велено доставить с поличным, оказался самый обычный. В смысле, номер на двери: 316. Никаких тебе сакраментальных «13» или «666». Вошли без стука: запирать дверь Антип Венецианович явно считал излишним. Машинально оглядываюсь: люкс, брат-близнец моего. Хотя… Большой круглый стол в первой комнате, вокруг – чертова дюжина кресел. Зачем столько? Пресс-конференции в номере проводить? Презентации? Так для этого в пансионате специальные помещения имеются. Кстати, сама комната кажется то больше, то меньше – смотря где станешь. От стола – так вообще хоромы! А от дверей – с гулькин хрен. Интересно, как сюда эдакий столище впихнули? Через дверь он точно не пройдет. В окно?
Третий этаж…
Колобок выкатывается навстречу из второй комнаты. С подносом в руках. На подносе – бутылки, бутыли, бутылочки… Рюмки. Бокалы. Вазочка с конфетами. Тарелка с бутербродами. Изобилие опасно балансирует, но Антип ловок: кружит, не роняет.
– Добро пожаловать, хорошие мои! Угощайтесь, чем бог послал…
Не знаю, бог ли, но кто-то испытывал к господину Гобою немалое расположение. Во всяком случае, сей незнакомец однозначно ведал распределением материальных благ, посылая заму по особым вдосталь выпивки и закуски. Чудны дела твои, господи! – конвоиры гада Снегиря не заторопились угоститься халявой. Торчали столбами, воздвигшись главою непокорной и придерживая меня за локти: Петров справа, Эльф слева. А Березка выступила вперед, на манер прокурора, и взяла вопросительную паузу. Мол, не пора ли приступить к обличению?!
Сейчас руки выкручивать начнут, пятки железом жечь, на дыбу вздергивать. Заставят протокол (то есть договор) подписать! А я буду мычать, как партизан, и отказываться! Я такой… Разве что коньяком до бессознательного состояния запытают – тогда, скорбный рассудком и в нетрезвой памяти, могу подписать… Нет, господин Гобой, вы не склоните меня к измене!
М-да… Стол в комнату – это ладно. А вот бред в голову вовсе несуразный лезет. И ведь помещается!
– Значит, доставили… экспонат, – сообщает Петров.
Эльф спешит поддержать соавтора:
– Теперь сам разбирайся со своим птерозавром!
– Ты уж разберись, Аристарх, сделай милость. – Березка превращается в Железную Деву, излучая холод и презрение. – А то он смотрит на нас, как баран на новые ворота, и выкобенивается! Нам лишний шум ни к чему…
– Я ему: подписывай! А он в позу: имел я вас, килобайтников…
– Петров, не гони! Влад ничего такого…
– Тише, тише, господа… и дама. Не стыдно? Набросились на коллегу… Отпустите милейшего Владимира Сергеевича, он никуда не убежит. Прошу к столу. А мы с господином Снегирем пройдем в соседнюю комнату и побеседуем.
В соседней комнате обнаруживается кровать. Раза в полтора больше, чем у меня. Рядом два кресла и журнальный столик в виде скрипичного ключа. На столике – бутыль минералки и два стакана. Им, значит, коньяк, мартини, ликерчики, а мне – минералку? Дискриминация, да?! Удручен, замечаю, что стены спальни увешаны духовыми инструментами. Свирель, валторна, волынка, альпийский рожок, блок-флейта… пионерский горн, тромбон… Остальных названий не знаю. Но гобоя нет, это точно. Плохо представляю, как он, подлец, выглядит, но уверен: увидел бы – узнал бы непременно!
– А где гобой?
– Вам меня недостаточно? – смеется колобок, грозя пухлым пальцем. – Вы посидите минутку, отдохните, успокойтесь. Водички выпейте. Я понимаю, эти рыцари своими намеками кого угодно до инфаркта доведут. Плюньте, Влад! Наслаждайтесь жизнью, пока живы! Все хорошо, все просто замечательно… А я пока один звоночек сделаю. Хорошо?
Послушно киваю. Мурлыканье Гобоя действует гипнотически: жизнь прекрасна, жизнь удивительна, сядем в креслице, тяпнем минералочки… Тем временем Антип Венецианович делает жест на манер «кушать подано!» – и экзотический мобильник выпрыгивает ему на ладонь. Аккорд набираемого номера звучит жестяным диссонансом.
Уши режет.
– Алло. Контрольная группа? Степана Георгиевича попросите! Да, я. Быстро!
Бас Антипа Венециановича (Арнольда? Аристарха?!) наливается гневом, сразу давая понять нерадивым, по ком звонит колокол.
– Степан Георгиевич? Кто у вас занимался расчетами по Снегирю? Половинчик? Ну, я ему зарплату уполовиню! И вы еще спрашиваете: за что?! Третий круг! Да, именно третий! У меня свидетели! И с вас я тоже за это спрошу, будьте уверены! Вам интут что говорил? Что, я вас спрашиваю? Засуньте ваши расчеты сами знаете куда!.. Левый тираж проморгали. Да, прямо на конвенте… Выкручиваться, между прочим, мне, а не вам с вашим Половинчиком! Ладно, вернусь – у нас отдельный разговор будет… Компенсация? Немедленно займитесь! Не-мед-лен-но! И проверять, проверять, все проверять! Сколько раз говорено… Поняли? Ну, хорошо, что поняли. В понедельник зайдете. Все.
Трубка испуганно ныряет в рукав хозяина.
– Извините, Влад, что заставил вас ждать. Не обращайте внимания. Очень раздражают безответственные люди. Героизм одних – почти всегда результат халатности других. Вот и приходится… Впрочем, вернемся к нашим баранам. Итак, Влад, золотце, у вас возникли вопросы. Два из трех основных вопросов русской интеллигенции: «Что происходит?» и «Что делать?» Вопрос «Кто виноват?» не рассматриваем, поскольку на него я сразу могу дать совершенно точный и столь же бесполезный ответ: «Гомеостатическое Мироздание». Эту тему мы, с вашего любезного позволения, закроем как бесперспективную. Впрочем, на вопрос «Что делать?» ответ тоже прост. Подписать контракт. Просто подписать, только и всего. Если угодно, получить аванс. Процентов семьдесят. Могу даже полную предоплату.
– Но вы же знаете, Антип Венецианович…
– Знаю, дорогой вы мой! Знаю! Кто, как не я?! Но сейчас, понимаете ли, сложилась пикантная ситуация. Как полагаете, я могу рискнуть и попробовать убедить вас отступить от принципов?
– Попробуйте.
– Хорошо. Не будем ходить вокруг да около. В последнее время вам снятся одинаковые сны. Думаю, месяц, если не больше. Угодив в объятия Морфея, вы часто, хотя и не всегда, попадаете в мир романа, над которым сейчас работаете. Я прав?
Отпираться нет смысла. Какой криминал в приватных грезах В. Снегиря?
– Правы, Антип Венецианович.
– Разумеется, вы считаете, что виной переутомление, затянувшаяся работа над текстом, не дающим покоя даже во сне, и странные выверты подсознания. Верно?
– Ну… примерно так. А у вас имеется иное объяснение?
– Представьте себе, имеется. Вы, Влад Снегирь, выходите в тираж. Прямо сейчас.
– То есть? Хотите сказать, я исписался? Пора на пенсию?!
– Ни в коем случае! Напротив, вы на гребне волны, ваша популярность растет, читатели вас обожают (ага, разогнался! То-то Снегиря что ни день чехвостят на форумах!); дилеры ждут новых книг… Я имел в виду, что суммарный тираж ваших изданий достиг определенной критической массы. И началось то, что на внутреннем жаргоне Ордена Святого Бестселлера именуют процессом. Вас никогда не удивляло в современной фантастике обилие стандартных ходов: некто из мира нашего попадает в мир иной, где начинает осваиваться?.. Компенсация, Влад, интуитивная компенсация внутреннего давления! У вас же давление прорвало клапан: сперва сны задевают только автора, потом – окружающих, впавших в бессознательное состояние, далее – спящих; круг вовлеченных расширяется… Впрочем, пока достаточно. Поверьте на слово старому битому волку: процесс необходимо остановить или хотя бы законсервировать. Это в наших общих интересах. Тем паче что консервация процесса– штука элементарная и безболезненная.
– Подписать договор-заказ?
– Именно!
– Интересно, за кого вы меня держите, Антип Венецианович?
– А тебя никто не держит! Ты и есть дурак, Снегирь! – радостно сообщает из гостиной майор Петров. – Тебе русским языком впаривают…
– Зря вы так, Евгений Пантелеевич! Помните, как вас убеждать пришлось? – вступается Гобой. – Я вам в лес, вы мне по дрова… Арестом угрожали. Вспомнили? Владимиру Сергеевичу, как любому здравомыслящему человеку, нужны доказательства. Верно, Влад?
– Да уж хотелось бы…
– Доказательств? Их есть у меня! – В приоткрытую дверь суется физиономия Эльфа. Глазки мечут россыпи солнечных зайчиков. Сейчас начнет разить метафорой и жечь глаголом меня, тупого. А потом по гиперболе в космос отправит. Кстати, им-то всем что надо? Ну, Гобою – ясно: договор. А собратьям по перу?..
– Ты сегодня после обеда дрых?
– Ну?
– Не «ну», а дрых! – Обличающий перст Эльфа упирается мне в грудь. – И в фэнтезюшник свой опять выпал. Нагишом, как обычно. Было?
Неохотно киваю.
– А вслед за тобой – и мы все, кто днем баиньки отправился! В чем мать родила. Мы с Петровым, Лидочка, Неклюев, Распашонка… Васька Кепский. Шекель-Рубель. Видел нас? Отвечай, видел?
Молчу. Ибо сказать нечего. Припечатал так припечатал.
Дверь распахивается зевом Левиафана. Рядом с Эльфом вырастает Березка, лелея в руке бокал любимого мартини.
– Ах ты, наш скромняга! Или тебе напомнить, Владочка, как ты на меня, всю в неглиже, облизывался? Как твой третьестепенный даму копьем пырял? Мне после «Огня над Дагоном» эти копья – плюнуть и растереть! Всласть наелась… Как Петров орал «Бей ментов!», помнишь? А?!
Во рту становится сухо. Машинально делаю изрядный глоток минералки.
– Он там что, воды в рот набрал? – глумится невидимый Петров. – Спой, птичка, не стыдись!
В следующую секунду меня скручивает синдром Шекель-Рубеля. Неудержимо тянет в сортир. Буркнув: «Минуточку!», вылетаю в коридор.
За спиной злорадствуют:
– Ага, обделался!
– Зря вы, Женечка…
Дергаю первую попавшуюся дверь. За дверью – стена! Глухой кирпич с белесыми прожилками раствора. Неужели до «белочки» допился? Осторожно трогаю стену пальцем. Шершавая. С выбоинами. От пуль, что ли? В состоянии полной прострации прикрываю дверь, осторожно тяну на себя соседнюю… Ф-фух, обошлось. Вот он, сортир, вот он, «белый друг».
Уже сливая воду, слышу, как хлопает дверь номера.
– А-а, вот вы где! Какие люди! А я-то думаю, куда все подевались? Ну, по маленькой?..
В комнате с круглым столом, изучая ассортимент, блаженствует вездесущий Распашонка. Унюхал, охотничек. Вот сейчас и проверим.
– Эй, Распашонка! Ты сегодня днем спал? После обеда?
Фэн-ветеран изумленно моргает, пролив чужой коньяк на стол.
– Спал. Пиво после текилы, оно глушит… А что?
– Спал, значит? И видел сны, быть может?
– Сны? Точно, видел! У меня книжка пропала, Кепского. С автографом. Мне и приснилось, что она за тумбочку завалилась. Встал, глянул: так и есть! А я думал – сперли, халявщики…
– За фантастику, Распашонка? – Нагло беру бокал Петрова, доливаю коньяка.
– За нее!
Коньяк победно валится в горло. Застрелитесь, сволочи! Показания независимого свидетеля…
– Извини, у нас деловой разговор. – Березка сурово смотрит на фэна.
– Понял, ухожу…
– Ну?! – Едва Распашонка покидает номер, я, подбоченясь, обвожу коллег орлиным взором. И вижу в их глазах… сочувствие! Так смотрят на дебила-одноклассника.
– Эх, птичка, птичка! – качает головой Березка. – Он же не из Ордена. Такие не запоминают, если третий круг. Вот на четвертом извини-подвинься…
– А вы, значит, из Ордена?!
– Мы, – спокойно поправляет Эльф. – Мы, Влад. Адольф Виссарионович, сколько на сегодня рыцарей?
Бас Гобоя затопляет помещение:
– Шестнадцать человек.
– А с тобой – семнадцать будет. Эх ты, рыцарь… Чижик-Пыжик!
XIII. Интервью: «Влад Снегирь от заката до рассвета»
В. Снегирь – агент ЦРУ и примкнувших к ним жыдопланетных педеросатанистов…
Из писем читателей– Какие события в Вашей жизни Вы бы назвали эпохальными?
– Рождение. Все остальное меркнет в сравнении с ним. Рождение физическое, творческое, рождение любви, любопытства, упрямства…
– Не боитесь ли, что через какое-то время Вас будут вспоминать лишь как Снегиря, потерявшего настоящее имя?
– Если Влад Снегирь не потеряется на перекрестках времени, то чего страшиться Чижику В. С.? А если потеряется, тогда тем более страшиться нечего! И потом: а на что библиографы и литературоведы? Им ведь тоже кушать хочется. Сохранят в веках как миленькие…
– Ваши кумиры и «антигерои»?..
– Уважаю талант, преклоняюсь перед добротой, восхищаюсь любовью. Потрясен искренностью, умением прощать, бескорыстием. Ненавижу ложь, подлость, предательство. Брезглив к гордыне. Терпеть не могу снобизм. Вот они: кумиры и антигерои.
– Насколько безопасен «переход» в вымышленный мир? Ведь известно, что чрезмерное увлечение фэнтези ставило в смешное положение не только большие группы людей, но и целые страны.
– Чрезмерное увлечение творчеством Карла Маркса тоже поставило целую страну в весьма пикантную ситуацию. И миллионы дружно маршировали в «вымышленный мир», скандируя цитаты из классиков. В сущности, львиная доля шизофреников и параноиков «поехала крышей» отнюдь не от слишком обильного чтения…
– Есть типичные для определенных авторов сквозные герои. Кто они для Вас?
– Человек Упрямый. Одним писателям важен Человек Слабый – беды, терзания, комплексы «твари дрожащей». Другие, справедливо возразив: «…или право имею?!», пишут о Человеке Сильном, идущем напролом. Третьи волокут Человека Страдающего мордой по всем лужам, и к финалу он худо-бедно выпутывается. У меня же, если героя волокут по лужам, он пытается брыкаться, но не потому, что сильный, а потому, что упрямый. Не способный, подобно Сильному, тупо лезть по головам, мой герой так же не способен, как Слабый, упиваться рефлексией по поводу каждого раздавленного таракана в контексте гармонии мироздания.
– Не хотелось ли попробовать силы в жанре «славянской фэнтези»?
– В ближайших планах – «цыганский детектив», «китайская трагедия» и «арийский фарс». Потом намечены «зулусская утопия» и «еврейский киберпанк»! И лишь после…
– Многие любители фантастики, уверенные, что «сами написали бы не хуже», представляют жизнь писателя как ассорти из непыльной работы, встреч с поклонниками и перепархивания с презентации на свидание с издателями. А на самом деле?
– Это не любители. Если они кого и любят, так это исключительно себя. Который все на свете сделал бы не хуже, будь у него время вынуть палец из носу и оторвать афедрон от дивана. Их представления – мечта о себе, любимом, порхающем и раздающем автографы. Я не стану спорить. Я просто предложу любому желающему: напиши абзац, интересный хотя бы десятку человек. Второй абзац. Десятый. Сотый. Пробейся в издательство. Дождись выхода книги. Искупайся в потоке нечистот, вылитых «знающими, что они не хуже». Поживи лет пять-шесть без средств к существованию. Убеди жену и тещу, что так необходимо. Выдержи бунт родственников. И ночами пусть по твоей комнате побродят гневные персонажи, будя и требуя немедленного воплощения.
Почувствуй себя творцом со всеми вытекающими.
Тогда поговорим с глазу на глаз.
– В чем в настоящий момент специфика фантастики?
– В мудрствовании лукавом. Ее, родимую, ставят углом снаружи (звездолеты-драконы – налево, равнение на рынок; Гоголь, Гомер, Гофман – направо, музейный экспонат на букву «Г», руками не трогать!); ее, матушку, кромсают изнутри (НФ, Fantasy, Science Fantasy, киберпанк, турбореализм (куда дракона в звездолет суешь? Стоять! Не положено!)… Вдумайтесь: фантазия в ежовых рукавицах «литературоедения»!.. Ах да, Оруэлла у нас тоже отобрали.
Вот такая специфика, однако, а в остальном – все как у людей.
– Что Вас больше всего раздражает и радует в современном литературном процессе?
– Раздражают безумцы, пытающиеся «возглавить и направить». Как Ксеркс однажды пытался высечь море. Радует невозможность «возглавить и направить». Ибо море всегда свободно.
– Однажды Вы сказали: «Конец света происходит каждый миг…» Что это – «Memento mori!» или выдумка начинается там, где кончается реальность?
– Каждый миг настоящее становится прошлым, а будущее – настоящим. Конец одного мира, начало другого. Большинству людей, увы, на это плевать. Им кажется, что настоящее неподвижно. Что хорошо было бы заглянуть вперед, что полезно обернуться назад… Большинство так и живет: позади (воспоминаниями) или впереди (мечтами). Но человеческое счастье заключается в двух словах: «Мы меняемся».
– Велика ли роль личных жизненных впечатлений в творчестве фантаста?
– За других не расписываюсь, а я ни о чем другом и не пишу – только о личных жизненных впечатлениях. Вот такие у меня впечатления от этой жизни.
– Не вредит ли фантастике излишняя ориентированность на «массовку»?
– Каждому человеческому селению положен сказитель, по вечерам рассказывающий увлекательные истории о богах и героях, о плутах и веселых вдовушках, а односельчане слушают. Незаметно для самих себя делая выводы: оказывается, любовь – далеко не всегда потная возня на сеновале; благочестие – не снаружи, а внутри; ненависть – плохой советчик; зависть в первую очередь съедает самого завистника, а дурак – это, возможно, не общепризнанный юродивый, а ты сам, со всей своей мелкой мудростью…
– Вы «коммерческий» автор. Чувствуете ли ответственность за тех, «кого приручили»? Что дает Вам понимание факта: я, как говорится, вышел в тираж? Ведь реальные последствия…
– И ты?! И ты, сволочь?!.
(Дальше неразборчиво вследствие повреждения диктофона.)
XIV. Хокку «Близясь к просветлению, размышляю в соснах»
Постигни дзен! Ударь эстета Ногой по яйцам.XV. «Харакири по-польских», насильственная компенсация и немой годзилла
Я говорю о наспех сляпанной на продажу писанине, а мне толкуют о крови сердца, а? Договор с мамоной вы кровью сердца подписываете?..
Из выступлений на форуме В. Снегиря…растащили, увели журналюгу, из рук вырвали, не дали, не позволили!.. дайте, дайте вмазать, глотнуть, хлебнуть фунт лиха, Эдик, зараза, почему ты уехал в Хайфу, Эдик, мне тебя не хватает, помнишь, как мы под шашлычок и вдохновенье, эти козлы, Эдик, они рогатые, у них душа сальной коростой заплыла, ты представляешь, этот мужеложец пишет: «Ваши слова вызывают у меня подозрение о том, что Вы недостаточно ознакомлены с литературой сего мира для того, чтобы полагать, что невозможность или затрудненность восприятия Вами какого-либо текста является убедительным свидетельством отсутствия стиля…», – ты понял © Майор Петров, он считает свое сальто раком прогнувшись за наличие стиля, нет, ты понял, он в белом фраке мехом наружу, в белых тапках, а я в «белочке», я теряюсь с ответом, базарить глупо, стыдно, но в боку дырка, и оттуда течет; да, Наташа, помню, конечно, мы согласились, что на хрен никому не нужны, а Борух смеялся тихо и печально, и через три месяца – некролог, никому на хрен не нужный, одна яма, насквозь, через печень штыковой лопатой, и пластинка заела, пилит старухой поперек: «Над опальной могилой поэта в ночи продавать его книги сошлись толкачи…»; детка, я еще недостаточно стар, чтоб любить школьниц, пойми, детка, тебе хорошо, ты ценишь слоганы и глянец, тебе чихать на язвы под корешком, говоришь, что папы и должны шарахаться от драйва, но я не папа, я всажу, детка, и пойду от вражьего тела с песнею, как шутил Владимир Владимирович, лелея морковку в петлице, нет, не друг, нет, не мой друг и не коллега, он застрелился, когда его достали такие детки, как ты, давай споем в терцию, вот гитара, я подстроюсь, трезвый, я еще слышу, когда диез ломает струну, ну, хором: жили-были попугаи, попугаи-молодцы, крали в стаде попугаи каждый день по три овцы, пили водку попугаи, заедали калачом, как их только не ругали – все им было нипочем…
– Не надо, Володя. Не пейте так много. Я понимаю, вас корежит…
…увели, развели на мизинцах, украли детку, облобызали, лабаз в зале, где пиво, здесь точно было пиво, сладкое, душистое, я видел, Василий Туруханыч! – твой сраный альманах меня выколебал на фиг, твои гады хоть бы позвонили, сказали, так и так, ранний рассказ, я б почистил, запятушки выскреб, а ты меня кинул, точно, кинул, с тебя причитается, давай за жизнь, давай писать кровью сердца, – ты знаешь, до чего больно, когда писаешь кровью сердца?! Ни хрена ты не знаешь, Молох, Ваал, пожиратель талантов, овечьи ножницы, ты режешь крайнюю плоть до сердцевины, по живому, Туруханыч, мясник! – люблю, обожаю, дай чмокну в мозжечок, Варя, радость с косой до ложбинки, до ущелья меж ягодками золотыми, под небом золотым есть город голубых, не уворачивайся, гони фэна прочь, фэн злобен, фэн не любит Варечку, скрипит, интересуется: «Что это за автор с косой?»; надо объяснить смешному – автор, с косой, в саване, я знал его, Горацио, где гитара, давайте хором: жили-были попугаи за углом, где баобаб, всех любили попугаи, что ни день, меняли баб, все играли попугаи в преферанс и в домино, чем их только не пугали – не боялись все равно…
– Успокойтесь, Володя. Вы привыкнете. Все рыцари привыкают.
– А вы? Вы, Тамара Юрьевна, королева! Привыкли?!
– Да. Привыкла. Просто однажды я проснулась старой, а для нас это край бассейна. Мокрая плитка, запах хлорки и лесенка наверх, в раздевалку. Не бойтесь, Володя, вы никогда не станете старым. У вас не получится.
– Я сейчас! Всем! Начистоту…
– Глупости. Прекратите истерику. И потом, Володенька, милый, вы даже представить не можете, сколько оруженосцев мечтает стать рыцарями и сколько кнехтов – оруженосцами! Ради бога, кричите как резаный, сорвите глотку – вас шумно поднимут на смех, но в душе, в сердце они затаят надежду однажды самим выйти в тираж, вступить в Орден… Думаете, вы первый проговариваетесь? О, самому попасть в себя, увидеть, сунуть пальцы в язвы, дать точное описание: оруженосцы убеждены, что мемуары – лучший вид сказки, что достоверность бросит их в объятия толп! Наивные старцы, они завидуют вам, мудрым соплякам, пьяным, шумным, некрасивым…
– Тамара Юрьевна! Тогда зачем?.. Зачем вы…
– Я очень плохо выгляжу, Володя?
…слушайте, я расскажу притчу: «Старик-отец собрал сыновей, дал каждому купюру в сто баксов и велел порвать, – сыновья с легкостью исполнили приказ отца, и тогда старик разменял сто баксов на рубли, и велел сыновьям порвать целую пачку. „Вот, – сказал мудрый папаша, – теперь вы знаете, что сила – в единении…“
– Вы чудесно выглядите, королева. Вы просто очень-очень старая…
– Спасибо на добром слове. Ломка, дикая ломка, но я не могла иначе. Каждую ночь, потом днем, я почти все время спала, Володька, дурачок, врагу не пожелаю… И тогда я сделала харакири. «Харакири по-Польских».
– Ваша последняя книга…
– Да, знаю. Стиль, постмодернизм, традиции Б-Литературы. В смысле, Большой. Сплю спокойно. Выдвинули на Букера. Наверное, дадут. Знаете, столько времени прошло… Сейчас уже успокоилась, бросила пить, но мне до сих пор его не хватает.
– Кого?!
– Тиража, Володя. Тиража. Мои вены просят его.
– Королева…
На колени, лбом в пол, не надо, не оттаскивайте, я должен, я поклонюсь Ее Величеству, и вы кланяйтесь, холопы, рабы, слушайте волю рыцаря Ордена: все кланяйтесь королеве! – дым смыкается, глушит, чьи-то руки, чьи-то слова, снегирь клюет мерзлую сладкую рябину, капли крови на губах…
– Хотите, буду безукоризненно нежный?! Нежный, королева! Я царь, я раб, я червь, я Бог! Нежный Червь… Госпожа моя, вы представляете, до чего иногда можно додуматься – Нежный Червь!.. Безукоризненно!..
– Володя, идите спать…
* * *
…как омерзительно в России по утрам…
Впрочем, только ли в России? После вчерашнего – хоть в Занзибаре… баре… Ох, голова! Интересно, который час? Циферблат часов пляшет краковяк. Половина десятого, кажется. До завтрака – полчаса. Время утренней зарядки: седалгин в зубы, рожу под кран. Буду огурцом: зеленым, в пупырышках. Нам бы до ванной добраться… Сползая с кровати, обнаруживаю, что на сексодроме я не один. Хокку: «Посетите меня/В моем одиночестве/Последний… опал». Рядом мирно посапывает в меру симпатичная Евина дочь. Рыжая. Не жена. Местами обнажена. Местами – нет. Причем сочетание оных мест нефункционально и наводит оторопь.
Смотрю на себя. Убеждаюсь, что таки да. Гол как сокол. Это ничего не значит, ваша честь! Я всегда так сплю. У меня свидетели есть…
Насилую память. Безуспешно. Пытаюсь еще раз. В ответ страдалица-память лупит в затылок тараном. Того и гляди пробьет. Со стоном вваливаюсь в ванную. Аптечка. Седалгин. Запить. Морду под кран. Йез-з-з!!! Жгучий заряд мокрого прямо в душу. Сквозь слоистые туманы продирается луна. Тускло светит на поляны: плохо видно с бодуна. Память начинает помаленьку отдаваться доброй волей. Когда я вернулся, ваша честь, девица была уже в номере. Спала. Как попала? Небось дверь не запер по примеру Гобоя. А ей переночевать хотелось. Бедняжке. Или кровать понравилась.
Я ее разблудил. То есть разбудил. Это точно. А насчет «фрейдовской опечатки» – даю самоотвод. Не помню. Обидно. Что дальше? Я ее спросил, чего она хочет от жизни. А она сказала, что хочет есть. Я ей нашел какие-то сосиски, хлеб. Где нашел? Ну… где-то. А про холодильник, который битком, с лососем и икрой, забыл. Напрочь. Не привык я к таким холодильникам. Да, ваша честь. Она все съела. Тогда я налил коньяку. Обоим. Мы выпили… наверное. Ну не вылили же?! Потом… Нет, глухо. Стена. Как у Гобоя напротив сортира. Кирпичная. С выбоинами от пуль. Сор-тир, стрельбище. Кстати, а как ее зовут?
Нет, ваша честь. Не стену, а барышню.
Бреду вспять, наг и сир. Совершенно не стыдно. Общее одеяло сближает, сокращая стыдливость до мнимых величин. Мерзкий вопль мобильника пробирает до костей. Кидаюсь наперерез:
– Д-да!
– Скажите «Да» новой жизни!
И, прежде чем я обкладываю шутника в три слоя:
– Доброе утро. Ты уже проснулся, Снегирь?
– Настя? Ага… в смысле, да. Проснулся.
– А я тебе просто так звоню. (Вот радость-то!) Как живешь-можешь?
– Вроде живу. И могу. – Прислушиваюсь к ощущениям. Вру, конечно, еще не могу. – Хорошо, в целом. С народом увиделся, посидели. Гонорар получил.
На кровати ворочается, просыпаясь, рыжая. Лиса-оборотень. Лишь бы не ляпнула чего в голос – объясняйся потом с Настей!..
– Как борьба с зеленым змием? Кто кого?
– С переменным успехом.
– Да, кстати, первую главу я в издательство переслала. Вечером подтверждение пришло. Знаешь, Снегирь, у тебя в компьютере пока что-нибудь найдешь… В квартире, впрочем, тоже. Я уж плюнуть хотела, но они очень просили. Так что с тебя причитается.
– Погоди, Настя. Не так быстро. Я с утра соображаю туго. Какую главу, куда переслала?
– Первую главу твоего романа. Нового. Который ты больше года мусолишь, – принимается объяснять Анастасия. Медленно и раздельно, как малышу из садика для даунов. – Звонили из «Аксель-Принта». Просили выслать. Очень просили. Срочно. В рекламных целях. На сайт и для газеты. Висели на телефоне, пока я не нашла и не отправила. Душевно благодарили. Сказали, что я их очень выручила. Привет тебе передавали.
– Блин… Они что, совсем?..
– Погоди, Снегирь? Я сделала глупость?
Настя явно встревожилась. Черт меня за язык дернул! Она-то тут при чем? Это мои дела с «Аксель-Принтом». Сейчас с Гобоем разберусь по полной! Он у меня узнает, как наивным женщинам лапшу на уши вешать!
– Нет-нет, все в порядке. Ты молодец. Извини, бежать надо… Целую! Вечером перезвоню.
– Зубы почисти, прежде чем целоваться! От тебя перегаром даже по телефону разит…
– Извини, Настик, сейчас почищу. Да, я на денек задержусь, в издательстве. Дела образовались. Все, пока!
Оборачиваюсь. Бесстыжая лиса по-турецки оседлала кровать, завернувшись в простыню, и критически обозревает мою «ню». Закрадывается подозрение, что она тоже страдает склерозом. Это радует.
– What time is it now?
– A quarter to ten.
– Turn away, please.
– Why?
Несколько секунд она пытается найти ответ. Не найдя, пожимает плечами и решительно вскакивает. Простыня, шурша, ползет на пол. Ничего. Очень даже ничего. Мятая, правда, слегка.
А может, плюнуть на завтрак, завалить ее обратно, разгладить складки?
Однако у рыжей на этот счет другие планы. Белье, джинсы, пуловер. Спешит в столовую. И куда в нее столько влазит? Ночью есть хотела, сейчас хочет… Ночью?! А ведь мне в эту ночь ничего не снилось! Ни-че-го-шеньки! Ну-ка, проверим!
– Did you have any dreams this night?
– …???
Чувствую себя полным идиотом.
– Some dreams? Fantasy dreams? Another world?..
Пауза.
– You, Russian writers… You drink so much. It's impossible. It's fantastic!
Развожу руками. Задевая трусы, висящие почему-то на телевизоре. Очень кстати. Дурят тебя, Снегирь-птица! На манок берут. Вот и весь процесс.
…Через пару минут после ухода рыжей нашел на полу утерянный бэдж. С эмблемой «МакроНомиКона» в правом углу: когтистая лапа пожимает звездолет.
Вчитался.
Juliana Haslam
Fantasy writer
Sidney
Australia
А из-за закрытой двери голоском типичного лауреата «Хьюго» и «Небьюлы»:
– He is so sexy, he is so sexy…
Кинулся, открыл: никого. Коридор пуст.
Ни фига себе!
* * *
Гобоя в его апартаментах не оказалось. И ворота на замке. Ползу на лифте в штабной номер, по дороге заново переживая утреннее потрясение. Провел ночь с землячкой кенгуру! С почетной зарубежной гостьей! «МБЦ» эту Хаслам тискает, как ухарь девок, – не успевают на родине бабахнуть, а наш пострел везде поспел. «Сага Золотого Табаланга», о похождениях героического Сына Утконоса. Последний опус рыжей – «Стражи покинутых долин» – выходит буквально на днях. Кстати, читали мы кое-что из «Саги»: вполне пристойно для дочери шамана. Если даже переводом текст не испортили… Надо будет вечерком снова подкатиться, книжку с автографом подарить, в гости зазвать. Только пить поменьше, во избежание. Обидно, понимаешь…
Седьмой этаж. Приехали. Безмолвный коридор. Картина «О поле, поле, кто тебя…». На полу – шеренги пустых бутылок, окурки. У поверженного фикуса чахнет десятилитровый огнетушитель ОХП-10 с надетой набекрень бейсболкой. Штабной номер. Пинаю ногой незапертую дверь. Внутри – сонное царство. Лишь красноглазый упырь-оргкомитетчик с хипповским хайром вяло тычет в клавиши компьютера.
– Выход в сеть есть?
– Угу. – Желтые зубы закусывают «Яву». – А спички?
Даю хипану-оргкомитетчику прикурить и бесцеремонно сгоняю с машины.
Надо!
Так. Сайт «Аксель-Принта». Раздел обновлений. «Фрагмент из находящегося в работе нового романа Влада Снегиря „Лучший-из-Людей“!!!» Три восклицательных знака впиваются в душу. Кликаю по ссылке. Да, текст в наличии. Будь я хакером, грохнул бы на фиг. Вместе с сайтом. Жаль, не дано. Может, оно и к лучшему – наломал бы дров сгоряча… На форуме – целая «ветка» обсуждения. Под исходным сабжем: «Видно Птицу по помету». Ну, как и следовало ожидать: «Сырой, невычитанный текст… презрение к читателю… ляпы… Завязка банальна; несогласование падежов…» Вот это «падежов» меня добило окончательно. Истерически хохочу, спуская пар. А ведь готов был рвать на куски и метать на орбиту!.. Ага, вот и мои верные защитники крошат супостатов: «Выпячивают эрудицию… повыеживаться за чужой счет… ни одного аргумента… высокомерное хамство… Даже по отрывку виден недюжинный потенциал… Когда выложат полностью? Или на бумаге выйдет? Хочу!!!»
Спасибо, братцы. Нет, без дураков, спасибо. Накатать, что ли, гневно-обличительную мессагу: «Текст был злостно украден с авторского компьютера путем шантажа и подлога…»? Не будем пороть горячку. Сейчас в свой mail-box загляну, проверю почту – и в столовую, ловить паразита Гобоя. Его работа, больше некому.
Так, что тут у нас? Спам, спам, снова спам, очередное письмо от Godzillы – извини, монстр, есть дела поважнее. Подождешь, не облезешь… Опаньки! Депеша от Геннадия Шелуханова. Лушпайкин (его так за глаза все зовут, даже издатель) – это вам не фунт семечек. По тиражам – вровень с Березкой и Неклюевым. На конвенты не ездит, сидит дома. И что же мне пишет мэтр? Мы ведь едва знакомы…
«Поздравляю со вступлением в Орден.
Удачи.
Искренне ваш,
Г. К. Шелуханов, рыцарь».* * *
Колобки овсянки не едят: это для них сродни каннибализму. Посему Гобой в столовке отсутствовал. Пришлось завтракать в обществе стенающего Шекель-Рубеля и двух его коллег из северной столицы. Шекель-Рубель, как обычно, жаловался. На овсянку. На персонал столовой. На расстройство желудка. На халявщиков, норовящих упасть на широкий хвост. На друзей-доброжелателей, спаивающих беззащитного. На столичное лобби, выгрызающее премию своим бездарям. На журнал «Ф-Пегас» (в народе «Фугас») – отчекрыжили треть абзаца в архизамечательной статье страдальца, чем извратили весь замысел…
Коллеги кивали, вяло ковыряли синюшную кашу и интересовались временем открытия бара. Также их сердечно волновала выдача бюллетеней для голосования. Оба приехали утром, опоздав на сутки, и предвкушали.
В коридоре уже взывал бодрый Саркисов:
– А кому голоснуть?! Подходи-налетай, бюллетени хватай! Одна штука в одни руки!
Обретя бумажку, я выдрал у ближайшего фэна перо из хвоста и немедленно проголосовал. Шансов на железяку мало, но неужто я настолько себя не уважаю, что отдам кровный голос за конкурентов?! Меж литературоведов отметил Шекель-Рубеля – в порядке гуманитарной помощи, взамен фталазола; в номинации «Лучший переводной роман + лучший перевод» – разумеется, Джулиану. Остальных номинантов все равно не читал, а рыжей будет приятно.
Выполнив гражданский долг, походкой Командора громыхаю обратно, к духовому оркестру. Скрести по сусекам.
– Да-да, войдите!
Хозяин номера свеж, наодеколонен и лучится расположением.
– Добрейшее утречко, Влад! Как спалось?
– Вашими молитвами, без сновидений. Извольте объясниться, Алоизий Вифлиемович! Из издательства втайне от меня звонят моей… э-э-э… моей жене, требуют файл первой главы, и нате-здрасте: «Фрагмент из находящегося в работе…»! Вам не кажется, что в приличных домах за такое бьют морду?!
– Ну что вы, право! Кричите, волнуетесь… Боитесь, что публикация «сырья» повредит вашему имиджу? Напрасно, Роджер вы наш, Роберт и Джон Рональд Руэл! Совершенно напрасно! Поверьте опыту маркетологов «Акселя», они не зря едят свой хлеб с котлетой. Минералочки хотите? Из холодильника?
– Хочу.
Минералки я выпью с удовольствием, но зубы заговорить не позволю!
– С газиком, со льда!.. Может, пивка?
– Спасибо. Тем не менее…
Туча ворочается в окне. За окружной трассой небо трескается бронхитом. Хрипит, откашливается. Гроза? В феврале?!
– Успокойтесь, дражайший Владимир Сергеевич. Помните наш вчерашний разговор? Или сочли его розыгрышем? Договорчик-то вы не подписали, вот и пришлось в порядке временной компенсации…
– Компенсации чего?
– Вашего замечательного процесса. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь! Все говорят, что правды нет в ногах, но правды нет и выше! – Гобой густо хохочет. – Или грезите о переходе на четвертый круг? Прямо здесь, на конвенте? А что, вполне возможно! Концентрация субъект-генераторов, интерполяция, вторичные взаимодействия. Пси-резонанс, наконец. Хотите разоблачить Орден, да?! Влад Снегирь против системы?!
Смеется зам по особым.
Смеется небо – хрипло, болезненно.
Темно в номере. Темно.
Тень-гример трудится над лицом веселого колобка. Новое обличье, краденая личина. Объемный портрет работы художника-кубиста, шедевр скульптора-безумца: хищные бритвы граней, изломы, трещины, ледяной отблеск слюды на сколе гранита. Кусок янтаря, в середине мушка многолапая, мохнатая…
Уползает туча. Стихает хохот. Гобой отходит к холодильнику за водой для себя, и наваждение тает. Кажется, я кричу. Пытаясь догнать призрак, успеть спросить:
– Почему? Почему тогда?! Мне ничего не снилось, ничего!
– Ну и чудненько! Прелестно! Компенсация…
Так и слышится: Эльф с Петровым хором скандируют: «Компен-са-ци-я! Компен-са-ци-я!»
– …она, родимая! Появился текстик на сайте – ночку-другую спите спокойно. Завтра в газетке тиснем, вот вам и еще отсрочечка. Маленькая, правда. А как договорчик подмахнем – так процесс и законсервируется. Для окружающих, разумеется. Вам-то потерпеть придется, не обессудьте… Пока книга в свет не выйдет. Но тут уж мы поторопимся, будьте уверены! Издательству дорог сон и душевное равновесие ведущих авторов! Поймите правильно: очень уж вы скоропостижно в тираж вышли…
– А текст! Текст! Что, и в газете черновик тиснете?! Опозорить меня решили?!
Очертания комнаты плывут, искажаются, словно в кривом зеркале, кресло подо мной явственно ведет в сторону, – помню, однажды на теплоходе…
– Полно, любезный Влад! – Я снова сижу за столом, сквозь расшторенное окно в комнату льется серый свет утра, позднего, февральского. Ладонь ласкает холодный стакан минералки. Делаю жадный глоток. – Как вы могли такое подумать? Редактор и корректоры над фрагментом уже работают, к полудню должны закончить. Все в лучшем виде: никакой переработки, только исправление опечаток и косметическая правка стилистики. Клавдия Анальгетовна прекрасный работник… С вами все в порядке?
– Простите, я на минутку…
За какой дверью у него туалет? Нет, за этой – кирпичная стена. Я помню.
Я…
В уши ввинчивается пронзительный крик бормашины. В стоматологическом кабинете – маленьком, на одно кресло, – спиной ко входу сидит пациент. Девушка, судя по роскошной рыжей гриве. Сбоку, с орудием пытки в руках, размышляет Игнат Кузьмич, водитель, похожий на генерального директора. Приветливо кивнув мне, он склоняется над креслом, и вой бора переходит в высокий визг: сверло вгрызается в больной (…здоровый?!!) зуб. К горлу подкатывает тошнота, я лихорадочно захлопываю дверь, разрубая жуткий звук пополам. Последнее, что успеваю заметить: дантист-шофер откладывает инструмент и берет длинный элеватор для удаления корней. По левую руку от Игната, на стеклянном столике, лежит огромная челюсть. Часть зубов в челюсти отсутствует. Остается только надеяться, что это протез.
Туалет обнаруживается за дверью, где вчера была стена.
Журчание в унитазе: мочевой пузырь угрожал лопнуть. Поговорили, значит. Показал гадам-издателям Влад Снегирь, где птицы зимуют. Хвалилася кума… Гобой, урод, ну тебя в пень! Бери фрагмент. Печатай где угодно. Вывешивай хоть на сайте, хоть на площади, хоть у черта на рогах. Еще полчаса карусели, и я вам признание в людоедстве подпишу, не то что договор!
– Я так понимаю, наш маленький конфликт успешно урегулирован? Да, Владимир Сергеевич?
Он стоит в коридоре, за спиной, деликатно полуотвернувшись.
– Д-да. Вы уж только… за редактурой проследите, – застегивая штаны, пытаюсь хоть частично сохранить лицо.
– Всеобязательно прослежу, не сомневайтесь! Лично! И на сайт сегодня же чистовой вариант вывесим! И вам по электронной почте отошлем: дома посмотрите, что не глянется – исправите. А вы уж расстарайтесь по приезду, гоните к финальчику: конец – он всему делу венец! Да, последняя просьба: у вас сегодня интервью брать будут, для «Досуга», – так вы уж расскажите вкратце о новом романе, а? Сюжетик, концепция… Не сочтите за труд, хорошо? Тоже какая-никакая, а компенсация.
– Хорошо, Антип Венецианович.
Когда я бежал прочь, в спину благодушно неслось:
– На земле весь род людской…
Похлеще любого кнута.
* * *
…Лучше выдумать нельзя, чем раздача железяк!
Вот, родилось. Ибо торжественное обретение премий жаждущими откладывалось на безразмерные «пять минут». Повесив нос и в воду опущен, я бродил у входа в конференц-зал, – брага, которой никогда не стать перваком. Трезвый. Треснутый. В животе булькали отголоски дуэта для Снегиря и Гобоя без оркестра. Подпишу. Надоело. Что я, крайний? Спартак, Сусанин и Снегирь? Или, если угодно, Че Гевара и Ге Чижик?! Лярва я провинциальная. Хожу, брожу и всем даю. Интервью дал, каналу «ИТД»: заканчиваю роман «Лучший-из-Людей», надеюсь удивить, предположительно осенью, да, скорее всего двухтомник. Концепция охренительная, сюжет обалденный. Новое слово в фэнтези. Коллеги от зависти сдохнут. Анфас, профиль, улыбочка, и разбежались. Автографов дал. Штук двадцать. Рука бойцов писать устала: Имярек от автора с любовью (уважением, восхищением, надеждами, наилучшими пожеланиями, на добрую память; нужное подчеркнуть два раза). Дюжину разъяснений дал, по поводу. Кратких и емких. Лысый бородач, дотошный до тошнотворности (каламбур?..), внимательно выслушал. И перешел в наступление: шлем-бургиньон с назатыльником, притянутым к затылку… Если, значит, опишу достоверно, будет мне слава во веки веков, аминь. Через минуту я готов был дать обиженному бородачу сатисфакцию, ибо прервал и послал. А, еще дал тридцатку Петрову. На пиво.
– Извините… Влад Снегирь – это вы?
Выпячиваю грудь. Дескать, на бэдже написано.
– Вы не могли бы уделить мне…
Делаю приветливый фасад, выражая готовность уделить. Дама мнется. Дама стесняется. Бальзаковский возраст, толстушка, но такой, знаете, приятной полноты. В нужных местах. Макияж отсутствует, серые глаза слишком умные, и это ей не идет. Как и брючный костюм. «Портрет герцогини де Бофор» работы Гейнсборо видели?
Совсем не похоже.
– Мой сын без ума от ваших книг. Знаете, вообще-то его трудно назвать читающим ребенком…
– Только сын? – пыжась, наполняюсь игривостью. Кислой, шипучей, словно прокисший сидр. Это все Гобой. Азазель Вальпургиевич.
Это все он.
Подпишу, пусть задавится.
– Только сын. – Сероглазая вскидывает подбородок, ставя зазнавшегося борзописца на место. Внимательно смотрит мне в лицо, и я физически чувствую, как, отыскав нечто важное, очень важное и скрытое от других, взгляд ее снова теплеет. – Вон он стоит, у перил.
Рядом с винтовой лестницей, ведущей на первый этаж, ждет мальчик. Лет двенадцати. В дешевеньком «Адидасе» – впору развить шутку, вспомнив того же Томаса Гейнсборо, картину «Голубой мальчик», но чувство юмора строго грозит пальчиком: отставить! Мальчик строг и неподвижен. Так стоят в почетном карауле. Скуластое лицо маловыразительно, щеки запали (видимо, в папу), рождая желание угостить булочкой, а глаза мамины – серые, стальные. Я иду к нему, понимая, что мама движется следом. В голове зудит продолжение нашего с ней разговора, сакраментально-обыденное, будто гуденье старенького холодильника: «Только сын. Я все больше классику… сами понимаете! – но дети…» В таких случаях положено кивнуть, скорчив пошловатую гримасу (о, классика! О-о! Могучее, лихое племя, богатыри, не мы!..) или схохмить что-нибудь вроде:
Был пьяницей Омар – и я люблю вино. Был вором Франсуа – и я залез в окно. Взгляните на меня! Я соткан из достоинств! А то, что не поэт, – так это все равно…– Здравствуй, – говорю я.
– Как жизнь молодая? – говорю я.
– Ты немой, дружище? Язык проглотил? – говорю я, начиная раздражаться, ибо мальчик молчит и смотрит. Смотрит и молчит. Под его взглядом неуютно, в желудке начинают роиться странные помыслы, хочется стать лучше, чище, бросить пить, наваять нетленку, опять жениться на Насте и завести вот такого, строгого и серьезного…
– Он немой, – отвечает из-за спины мама. – Вы не обижайтесь, он на самом деле немой. Глебушка, ты ведь хотел что-то спросить?
– Извините…
Наверное, я сказал это слишком громко.
– Он слышит. Он все слышит, просто не разговаривает. Его в шесть лет собака напугала: сосед держал пса, бойцового, – мы сто раз говорили ему, а Глеб…
Мальчишка лезет за пазуху. Достает блокнот с карандашом, что-то пишет. Быстро, единым росчерком: видно, что привык объясняться на бумаге.
Протягивает блокнот мне.
«Я Godzilla».
Вначале улыбаюсь – механически, не зная, как понимать это заявление. И лишь спустя минуту врубаюсь:
– Ты Годзилла? Это ты мне все время пишешь?!
Мальчик кивает. Глаза его теплеют, в них скачут зеленые искорки. Беззвучно шевелятся тонкие бескровные губы. Перевожу взгляд на его руки: пальцы, нервные пальцы музыканта, в постоянном движении. Это он ведет разговор. Неслышный для Влада Снегиря. Он спрашивает, утверждает, доказывает, а я, отделенный от Годзиллы стеной из прозрачного хрусталя, ничего не понимаю.
– Мы днем приехали, – сообщает мама, обрывая неловкую паузу. – Глеб в интернате отпросился. Знаете, он спорил с учительницей русского языка…
– Ты? С учительницей? О чем вы спорили?
Упрямые складки вокруг рта. Пальцы пляшут, рассказывая.
Громче, Глеб. Я не слышу. Я говорю глупости. Спрашиваю глупости. Что мне сказать тебе? Спросить, хочешь ли автограф? Сказать, что письма надо писать без грамматических ошибок? Отшутиться и слинять?
– Он рано утром скачал из Интернета ваш отрывок. Из нового романа. Распечатал и читал на уроке. А учительница отобрала.
Танец пальцев гневен.
Возмущение танцует в воздухе, напоенном пивной отрыжкой и ожиданием наград. Искренность завораживает: танец кобры, пассы гипнотизера.
– …сказала, что это ширпотреб. Чтиво. И начала… Вы извините, пожалуйста!..
– Ничего, продолжайте.
– Начала разбор текста, перед классом. Несогласование падежей, опечатки. Тавтология. А Глеб – он мальчик вспыльчивый… кинулся спорить…
Я вижу эту картину. Я отчетливо вижу: класс, на стенах портреты Пушкина с Толстым, и – бой на пальцах. Насмерть. Нет, наверное, учительница говорила вслух, Глеб немой, но слышит… Впрочем, отрешиться от боя на пальцах мне не удается. Пацан держал оборону: один. Воин в поле. Отмазывая гадюку Снегиря, закрывая собой «компенсацию» улыбчивого Гобоя. А я жрал водку и пел про попугаев. Нет, это вчера я пел, а он – сегодня…
Неважно.
Ничего не меняет.
– Вы подпишете ему книжку?
Мама смеется. Сероглазая мама, воспитанная на классике. Или иначе: «Знаете, я в последнее время редко читаю. Столько работы…» Годзилла, у тебя замечательная мама. И учительница. И вообще. Давай книжку.
«Рабы Страха».
Первое, еще нижегородское издание. Где и достал-то?
Он протягивает мне карандаш.
* * *
– Тебе щас премию дадут!
В соседнее кресло хлюпнулся Распашонка. Местами переходя в газообразное состояние. Вид у глав-фэна такой, будто он лично отредактировал Книгу Судеб.
– Я за тебя голосовал, – поясняет Распашонка свою уверенность. – А у меня рука легкая. В прошлом году за Кепского голоснул – Ваське и дали! Теперь твоя очередь. Я, Снегирь, раньше думал, что ты дерьмо, а потом ты всплыл. Значит, верти дырку под орден!
– Твоими устами… Если что, с меня пиво.
– Жлоб пернатый! Премию в одну бутылку пива ценишь?! Лет через сто на аукционе в Сотсби…
– Уболтал. Пиво с таранькой.
– Тарань? В ихнем гадском баре?!
– Тогда с чипсами…
Народ в зале бурлил, заключал пари, булькал НЗ и шумно выражал нелицеприятное мнение. Тем для разговора было две. Первая: кому чего дадут и чем мы его за это обложим? Вторая: все премии – фигня, и система голосования – фигня, и вообще все – фигня, кроме банкета. Банкет тоже фигня, но организаторы грозились устроить чего-то особенного. Врут, наверное. Но на банкет идти надо. Вот отпляшем награжданс… Наконец президиум начал заполняться: председатель оргкомитета, могучая кучка членов, «монстры» и «зубры»: Неклюев, Кепский, Эльф с Петровым, Березка (интересно, она монстрица или зубрица?), «свадебные натуралы», спонсор-терьеры… Последним влез толстый хмырь в клетчатой тройке и с гигантским «кис-кисом» нежно-розового цвета. На хмыря косились. Но гнать не спешили.
– Итак, мы рады сообщить…
Как обычно, начали с критики. «Золото» неожиданно отхватил юный ниспровергатель кумиров из северной столицы. Парень воспылал ушами, дважды споткнувшись, вымелся на сцену и, от смущения брякнув: «Если не я, то кто?!», поспешил ретироваться, прижимая награду к груди. Вдруг передумают и отнимут? «Серебро» же досталось Шекель-Рубелю. Наш фашист с достоинством явил себя массам и величаво позволил вручить себе, любимому, приз. Походя облагодетельствовал микрофон: дескать, рад за молодежь, кадры решают все, а старикам пора думать о вечном. Например, передавать юной смене опыт чистки сортиров зубной щеткой. Выждав хохот зала, Шекель-Рубель помянул злобу дня, которая довлеет, и сгинул под аплодисменты.
Короче, «старик Державин их заметил и в гроб сходить благословил».
А за импорт «золото» огребла моя австралийская пассия! Радуясь совершенно по-детски: смущение, слезы, «сенк ю вери мач!» и прочее. Я ладони отбил, хлопая. На банкете надо будет непременно поздравить лично.
– …в номинации «Романы» по итогам голосования третье место получает Антимир Звездинский (ох, и псевданулся кто-то!) за дебютную книгу «Конь в пальто»…
Пытаюсь хотя бы абстрактно представить сюжет романа с подобным названием.
Фантазия отказывает.
– …второе место: Влад Снегирь за роман «И назову это добром…».
– Иди! Это тебя!
– Чувак! Ты гений!
– Я ж! Говорил! Пиво…
Жму руки. Отдавливаю ноги. Захлебываюсь глупой, идиотской, счастливой улыбкой. Ступеньки. Сцена. Носатая физиономия Саркисова цветет навстречу. Приз: птица с женской головой оседлала развернутый свиток. Блестит серебром. Наверное, имелась в виду птица Сирин, но усилиями литейщиков черты «птичьего» лица кривит сардоническая ухмылка. Это правильно. Чтоб не зазнавался. Я буду звать тебя Серебряной Гарпией, хорошо? Ага, дают диплом. В рамке. Вожделеющий микрофон пляшет напротив. Надо что-то говорить, а я не знаю – что. Глохну. Странной глухотой. Не слышу ничего, а главное – не слышу самого себя. Кости черепа звуконепроницаемы, как переборки субмарины. Внизу беснуется конвент. Губы, разорванные смехом. Руки, изломанные приветствиями. Бутылки с «коктейлем Молотова», поднятые в мою честь. Трассирующие очереди фотоаппаратов. Жерло кинокамеры. И, среди лихого буйства, бездвижным оазисом, прицелом снайперской винтовки – мальчишка в синем «Адидасе», мальчишка с серым взглядом. Я глухой, он немой. Он не может сказать, я не могу услышать. И все равно: слышу.
Его одного.
– Я знаю! Знаю, кто ты! Ты – Лучший-из-Людей! Я… мы будем такими, как ты! Тобой! Целым! Мы…
Боже, как он похож на Бут-Бутана! Только чуть моложе. Боже, скажи ему, что он ошибается… что не надо так на меня смотреть!..
Серебряная Гарпия обжигает пальцы холодом.
Спускаюсь в зал.
– Ну ты сказал! Чувак, ты сказал! Молоток!
Что я сказал?
Что?!
Кому дали первую премию, я в этой кутерьме проморгал.
* * *
В банкетном зале, на куцей эстрадке обнаруживается сюрприз: рок-группа «Страна Дураков». Троица буратин в фирмовых колпачках плюс бритая наголо мальвина, истекающая вокалом. Лабают не попсу, а приятственный блюзон, хотя и чересчур сладкий. Столы полны жратвой. Обильны питьем. Но во мне и без алкоголя бурлит чудной коктейль: стыдливая гордыня, счастливый раздрай, мутное возбуждение… И если вам скажут, что так не бывает, подведите знатока ко мне. Я плюну ему в лицо этой гремучей смесью!
Хорошо хоть, ямбец медлит с приходом.
– Ну, птиц певчий, за тебя! За твою премию…
– Она тебе еще не кисло пригодится!
– Чтоб не последняя!
Народ по очереди «поит» Серебряную Гарпию водкой из полных стопок. Традиция, однако!
– Эй, глядите, чтоб все не вылакала!
А вот теперь – можно. Хлоп!
– Слушайте, а кто «золото» взял?
– Толян Жабка. За «Владыку Гельминтоза».
– Ша, урки! У меня тост! Коллеги, все мы, к сожалению, смертны. Рано или поздно мы покинем эту юдоль скорби. – Народ бушует, забивая расчувствовавшегося Эльфа, но очкастый непреклонен. – Никто не знает, что ждет нас за Порогом. Но я хочу выпить вот за что: когда пробьет колокол и Тот, Кто ждет на пороге, пригласит нас пройти в неизвестность…
Пауза.
Тишина.
– …пусть Он, прежде чем закрыть дверь навеки, сначала застенчиво спросит: «Можно автограф?!»
– Й-й-ес!
– Ура Эльфу!
Хорошо сказано. По-настоящему. И в сравнении с этим, настоящим, жирный кайф банкета вдруг подергивается флером иллюзорности. Цилиндр фокусника, из которого вылетели все курицы, выскочили все поросята, и все ленты цветной грудой лежат на полу. Исключения – слова Эльфа да еще упрямый серый взгляд мальчишки в «Адидасе».
– Я сейчас вернусь.
Мне срочно надо увидеть еще что-нибудь подлинное. Например, улыбку Джулианы. У Насти тоже есть такая улыбка, но Настя далеко, дома… Забавно: насколько же мы, фантасты, сказочники, космические оперы, лжецы и бессовестные фантазеры, скрывая это от самих себя, тоскуем по настоящему! Ага, вот и дочь шамана – в обществе переводчика, пьяного до вороньего грая, кучки фэнов и Березки, опекающей гостью. Возникаю за левым плечом австралийки, ощущая себя инкубом во плоти.
– Hi, Juliana!
– Oh, hi, Vlad!
Надо же! Думал, она моего имени не знает.
– I congratulate you with your Golden Harpy! I want to drink with you for your Prize. This is a very special kind of the best Russian vodka. Do you wanna test?
– Yes, please. But a little-little! I congratulate you too! It's a wonderful meeting!
Интересно, что она имеет в виду? Конвент вообще или? Хочется льстить себе… А почему бы и не польстить?
– Let's drink «Bruderschaft»?
В ответ – улыбка. Настоящая. За которой шел.
– Oh, you're so charming. I can't refuse!
Рука у нее гибкая, сильная. А губы…
– Го-рько! Го-рько!
Вот сволочи! Рассмешили, оборвали на самом интересном. Не дав нам отдышаться, толпа вокруг взрывается аплодисментами. Оказывается, на международный брудершафт глазела половина конвента! В придачу у переводчика миг просветления. Он начинает бодро тарахтеть про исконно русское гостеприимство, австралийка поворачивается к балаболке, успев бросить на прощание:
– See you after banquet!
Звучит многообещающе.
Настроение ползет вверх, но рывками, лихорадочно, как столбик термометра под мышкой у гриппозного ребенка. Надтреснут звон бокалов, наигранны здравицы, нарочит блюз. Двое не отпускают меня, стоят перед глазами: Гобой, басящий арию из «Фауста», и немой мальчишка с серым взглядом. Ну почему все люди как люди – пьют, веселятся, оттягиваются по полной! – а у меня крыша цыганочку пляшет?! Казалось бы, радуйся жизни, Снегирь! Клюй малину! Неврастеник чертов…
Со вздохом плетусь поздравлять остальных лауреатов. Надо. Есть такое слово. Хотя водка теперь почему-то пахнет керосином.
…По возвращении обнаруживается, что компания за нашим столом частично рассосалась. Одинокий Эльф клещом вцепляется в меня:
– Чижик-пыжик, где ты был?! Уже в курсе, что с цацкой делать надо?
– Господа гусары, молчать!
– Извращенец! Под подушку класть ее надо! Зря, что ли, мы народ на голоса крутили?
Благодетель, блин. Тоже халявного пива хочет? Или текилу потребует?
Любимый напиток эльфов?!
– Ага, «мы пахали». Я и трактор. Распашонка тебе привет передавал.
– Злыдень! Мы его пиарим, понимаешь, языки в кровь стерли, а он обзывается!
– Спасибо товарищу Эльфу за наше счастливое детство! У тебя мотоцикл есть?
Впервые сбил Яшку с накатанной колеи. Глазки за стеклами очков растерянно моргают, кончик носа неудержимо краснеет.
– Нету у меня мотоцикла…
– Тогда чего ты гонщиком прикидываешься?!
– Я гоню?! Нет, это я гоню?! А ну, пошли! Вставай!
Влекомый разбушевавшимся Эльфом, теку в другой конец зала, где царствует Неклюев. Мой палач с корнем выдирает идола из рассыпчатой массы поклонников:
– Славик, скажи пернатому! Разговор насчет него был?
– Был.
– На чем сошлись?
– Да ладно вам. – Томный Неклюев поджимает губы. – Снегирь, ты что, вчера родился? Не знаешь, как ордена делают? Я своих накрутил…
– А мы с Петровым? Мы вообще! А Березка?! Так кто из нас гонит? Кто?!
Неклюев испаряется под горячий Яшкин монолог, а я смотрю на Дваждырожденного, испытывая немалое желание заняться рукоприкладством. Врет? Не врет?!
– Ну что ты закипаешь, как чайник? – Эльф сбавляет обороты. Моргает, начинает разливать мировую, узурпировав чужие стопки. – Думаешь, ты первый? Мы ж от чистого сердца… У тебя процесс. Тебе цацка нужнее. Если не рыцари Ордена, то кто? Все нормально, и роман у тебя классный, по заслугам дали. Только сам прикинь: гнилые тут расклады, без друзей – мимо масти… Брось дуться! Вот, хлебни…
Сам хлебай. Пойти расспросить остальных? Дурак ты, Снегирь.
Думал, ангел, оказалось, козел с крылышками.
– Ты к Гобою в номер зайди! – кричит вслед Эльф. – Он тебя ждет. Зайди обязательно!
Ага, щас. Разогнался.
* * *
Банкет саранчой расползался по пансионату. Служители в срочном порядке спускали воду из бассейна – во избежание. Четверо лауреатов рубились два на два в пинг-понг, с пьяных ног выполняя норму мастера спорта. Саркисов, благостный и светлый, что-то писал в подсунутой Библии. Проходя мимо, я различил лишь «…с наилучшими пожеланиями…» Вахтер мелко крестился, дрожа; кого-то толстого спасали из застрявшего лифта. Народ кучковался везде: в холле, в расширителях, в фойе, в номерах. Меня трижды пытались вовлечь и затащить, но, старательно изображая Колобка (не Гобоя, а который по сусекам), я в итоге от всех ушел. Обретя пристанище в тупиковом закутке на четвертом этаже. Однако уединенно предаваться самобичеванию мне помешали – объявился Костя Тихолиз с гитарой, следом брела орда меломанов, тупик был оккупирован, и Костя принялся орать блататуру, нещадно истязая инструмент. Народ криво подпевал. Я собрался уйти, но тут гитарой завладел мужик, похожий на черный квадрат Малевича, стриженный ежиком. Сперва «квадрат» ловко сбацал «Greensleeves», приведя в восторг Джулиану (я сдвинулся на краешек дивана, уступая рыжей место), потом начал «Литераторские мостки» Галича…
– А, вот он где! Попался, гусь лапчатый!
– Его Гобой ждет-ждет, а он тут заханырился!
– Вставай, Снегирь! Пошли.
– Посылаю. Идите в пень!
– Надо, птичка, надо. Договор за тебя кто подписывать будет? Пушкин?
– Извините, мисс, мы ненадолго похитим вашего кавалера…
– Руки убери, Петров! Я кому сказал!
Ага, так он и убрал, ментяра позорный!
– Пусти, козел!
– Идем-идем. Потом роман напишешь: «Ответивший за козла».
– Влад, ты пойми, мы для твоего же…
Профессионально руку завернул, гад! Не вырвешься. Даже ногой пнуть не получается. А тут еще Эльф с Шекель-Рубелем навалились. Скрутили бедную птичку, волокут к коту на расправу. Договор подписывать.
– Хрена вам! Всем! Ничего не подпишу! Ничего!
Надо же, как набрался. В герои на четвереньках бегу. Хохот давит на уши, ввинчивается ватными, пробковыми, влажными затычками. Ржет Тихолиз. Усмехается «квадрат». Серый взгляд из угла: «Я знаю! Знаю, кто ты! Ты – Лучший-из-Людей!..» Иди спать, малыш. Дети ночью должны спать. Видишь, дяде плохо. Дядя пьяный. Обижают дядю. Хотят аванс дать. Наличными.
Godzilla, ты уйдешь или нет?!
– Хрена! Пустите!
– Let him go!
Господи, как это было сказано! Так иногда умеет рявкать Петров. Сразу хочется вытянуться по стойке «смирно». Очень характерные интонации.
Жаль, у Петрова иммунитет.
– Идите, идите, мисс, мы сами…
И вдруг:
– Бля! Твою хр-р-р…!!!
В следующую секунду я обретаю свободу. Резво отскакиваю в сторону, чтоб опять не сграбастали, и наблюдаю картину маслом. «Мечта феминистки». Рыжая амазонка вовсю метелит троих поддатых мужиков, один из которых – майор Петров. То есть Сидоров.
Я впервые видел, как кто-то бьет Петрова.
Джулиана выглядела чертовски сосредоточенной. Дочь шамана выполняла простую и ответственную работу, не тратя времени на спецэффекты. Когда рычащий майор попер носорогом, явно намереваясь сгрести даму в охапку и зашвырнуть куда подальше, чтоб не мешала, рыжая фурия вцепилась в его толстый корявый палец и что-то открутила. Пол содрогнулся: центнер отборного мата шмякнулся на линолеум. Припоздавший исчезнуть Шекель-Рубель уползал прочь, оглашая мир стонами, а у хитроумного Эльфа, подкравшегося к ангелу возмездия сзади, намечались сильные проблемы с будущим размножением.
Но Петров встал. Хрипло каркнул, прочищая горло. И, страшен и велик, двинулся на покорение Австралии. Я намылился было помочь шестому континенту, но моя кенгуру взялась за подручные средства. Пенная струя из огнетушителя, сорванного со стены, превратила майора в кружку пива. А донышко вышеупомянутого огнетушителя, войдя в контакт с петровским ухом, опрокинуло кружку на пол.
Вот, лежит, кряхтит.
– Let's go, Vlad.
Да, помощник из меня аховый. Ну ничего, зато на язык мы очень острые.
– Отдыхайте, мафиози, – говорит дикий человек-снегирь. – Не фиг было нас, крутых, свинчивать.
И мы с Джулианой оставляем поле битвы.
– Классный кон, – восхищается за спиной «квадрат».
* * *
Часа полтора мы с рыжей просидели в моем номере. Трепались «за жизнь», смеялись, когда я складывал фразы на диком пиджин-инглиш. Выяснилось, что Джулиана – коллега растерзанного Петрова. Лейтенант сиднейской полиции, инструктор по рукопашному бою. У нее есть муж, четырехлетняя дочь Дороти от первого брака, а фэнтези – это хобби. Пишет в свободное время, которого выпадает не так уж много. Профессиональной писательницей никогда себя не считала. Первый приз на «МакроНомиКоне» привел ее в изумление; здесь ей очень нравится, только она не понимает, как можно столько пить и еще что-то писать? Однажды читала нормативы смертельных для организма доз алкоголя с пометкой «not for Russians», но полагала это шуткой… Тут уж пришлось объяснять мне. Что писатель в жизни, писатель на конвенте и писатель за рабочим столом – это три разных человека. Что за работой практически никто из нас не пьет, а на кон люди приезжают оттягиваться. Что «bad gues», оскорбившие меня действием, на самом деле друзья-приятели, хотевшие всего лишь, чтобы я подписал договор и получил аванс (рыжая сказала, что ничего не понимает…), а я договор бы все равно не подписал (рыжая помянула загадочную русскую душу…), – но ей тем не менее спасибо…
Наверное, я мог бы уговорить рыжую остаться на ночь. Но это было бы лишним.
Я ни о чем не жалел.
Уже ложась спать, вдруг вспомнил слова Эльфа: «…под подушку ее класть надо!»
Серебряную Гарпию, значит. Под подушку. Вот же, блин, шутники!
Ну и ладно. А я возьму и положу.
По приколу.
Взял и положил.
Думал, неудобно будет, придется вытаскивать. Оказалось – ни фига! Даже удивиться толком не успел. Еще расстроился, что зря на утро водой не запасся. Холодненькой. Потом вспомнил про полный холодильник.
Пейте, дети, кока-колу, будет жизнь по приколу…
ХVI. Отрывок из поэмы «Иже с ними»
Дескать, впрямь из тех материй…
Б. Пастернак Когда кипит, блистая глянцем, Полиграфический экстаз, То не филологам-засранцам И не эстетам-иностранцам, Халифам, избранным на час, Слагать критические стансы О низковкусьи пошлых масс, Что любят пиво, баб и танцы, А не оргазмы декаданса, Столь угнетенные сейчас, Как кофе угнетает квас, Как геморрой терзает вас Иль как гнетет кувалда в ранце, — Кликуши! Нет второго шанса Для тех, кто клевету припас, Вводя людей в подобье транса Взамен лихого перформанса, Чей взгляд – не пламенный топаз, А близорукий отблеск сланца, Чей брат – вокзальный унитаз, Кому далек надрыв романса, Кто не воскликнет: «Аз есмь! Аз!..», Испорчен Бахом и Сен-Сансом, — Короче, всех бы их зараз Сложить под движущийся «КрАЗ», Да жаль, нельзя…XVII. Отсебятина: «Лучший-из-людей»
В общем, клюква просто неслыханная. На каждой странице. А с другой стороны – у него ведь правда много почитателей? Значит, «пипл хавает»?!
Отзыв на книгу В. Снегиря «И назову это добром…»…Я и впрямь не сразу въехал, что заснул. Что чудо-грезы начались и, как обычно, Влад в объятиях Морфея спит и грезит наяву. Просто раньше я был голым, а сейчас я был одетым в теплый-теплый, мягкий-мягкий и почти не шелестящий темно-синий «Адидас», – у Годзиллы был такой же…
Мама моя суррогатная!
Весь хорей белым-белым снегом слетел с меня. Вокруг, хлопьями серого киселя повиснув на зарослях дрока, умирала ночь, кладбищем слонов возвышались холмы, обступив знакомую лощину, – а я действительно был одет в спортивный костюм. Во сне, куда привык являться нагишом! На ногах – растоптанные шлепанцы. На голове – бейсболка козырьком назад. А на левом плече, больно вцепившись коготками…
Повернув голову, я едва сдержался, чтоб не заорать.
На плече сидела Серебряная Гарпия. Ухмыляясь с отчетливым скепсисом. Маленькая, размером с канарейку, птица-девица демонстрировала полное отсутствие кариеса: кстати, легко обнаруживалось, что клычки у Гарпии заметно длиннее обычного… Обычного? Птица с клыками?!
– Снегир-р-рь дур-р-рак! – попугайски брякнул мой приз.
Ну, дурак. Зато в штанах. Ей-богу, гораздо удобнее, чем всякий раз заново искать одежду.
– Гр-р-рафоман! Бездар-р-рь!
– Не зарывайся, красавица, – погрозил я нахалке пальцем.
– Кумир-р-р! – согласилась птичка. – Кумир-р хр-р-ренов!..
Неподалеку, возле кустов шиповника, кто-то заворочался. Всхлипнул по-детски, потом засопел, но почти сразу дыхание спящего сбилось, сменилось выкриком: «…я! я задержу!!!»; человек резко сел, моргая, и вдруг на карачках кинулся ко мне.
– Я знал! Я верил!
– Хор-р-рек! – гортанно расхохоталась Серебряная Гарпия.
Она оказалась права. Бут-Бутан, Куриный Лев – так в Ла-Ланге зовут хорьков, – ползал у моих ног, глядя на «кумира» влажными, заспанными, умоляющими глазами. Сейчас он вдвойне походил на Годзиллу; тощий, изголодавшийся, весь в репьях, парень казался моложе, чем был на самом деле, и куда несчастнее, чем мне бы хотелось видеть своего героя.
– Лучший-из-Людей! Ты вернулся!
– Ты, брат, это… – Будучи полным дилетантом в утешении малых сих, я присел на корточки: так завоевывают дружелюбие собак. Протянул руку ладонью вверх, одумался и банально похлопал Бут-Бутана по плечу. – Ты, значит… Будь мужчиной. И кончай верещать. Тугрики услышат…
В ответ меня погребли под лавиной слов.
Оказалось, тугрики не услышат. Ибо еще пять дней тому назад взяли Дангопею. Сейчас в городе, после двухдневного грабежа, оставлен гарнизон, а основные части двинулись дальше, на юго-восток. Бут-Бутану со товарищи сперва повезло, они не пострадали во время резни (я порадовался жизнеспособности своего замысла) и намеревались, просочившись за город, двинуться в сторону Канборнского хребта (я еще раз порадовался: горные гульдены и маг-психопат обретали реальность…) – но судьба обернулась ядовитой коброй. Носатая Аю, «Рука Щита», сдуру кинулась защищать жену каменщика Джунгара, схваченную пьяной солдатней, и сейчас, изнасилованная скотами, металась в горячке, не узнавая никого. Каменщик приютил несчастную, но идти дальше, оставив Аю в Дангопее, одну, без памяти… Кроме того, не повезло и Мозгачу Кра-Кра. Волшебник-заика пытался обратить насильников в жужелиц, даже почти до конца изрек заклятье, – но, избитый до полусмерти, попался на глаза Алому Хонгру, армейскому магу тугриков. Сейчас бедняга Мозгач, заклейменный личным тавром Хонгра, таскался за магом в качестве шута. Алый Хонгр на пирах с удовольствием демонстрировал друзьям и гостям косноязычного придурка, посягнувшего на гордое звание чародея.
Гости пищали от восторга.
Одинокий и измученный, Бут-Бутан нашел приют в памятной ложбине. Питаясь всякой дрянью, ночуя под открытым небом, тайком проведывая Аю и издали следя за Мозгачом, он все свободное время проводил здесь, где однажды ему явился дух Лучшего-из-Людей. Парень надеялся. Парень верил. И вот он дождался, лучась счастьем, а я смотрел на Куриного Льва, вертя в руках снятую бейсболку, и чувствовал себя самозванцем.
Очень скверно я себя чувствовал.
– Ты ведь спасешь? Ты спасешь их?!
Явление всадников застало нас врасплох. Даже Бут-Бутан опоздал нырнуть в заросли. Наверное, доходяга-ночь, чуя наступление рассвета, обмотала тряпками тумана копыта коней. Пятеро конных тугриков пахли едким потом, кожей и влажным металлом, морды лошадей жарко дышали над нами, и лишь Серебряная Гарпия оказалась на высоте. В прямом смысле: сорвавшись с плеча, она взмыла к небу, и картавый вопль огласил ложбину:
– Р-раден! Ср-ри р-р-раден!
Голос приза спешил всадников лучше удара копьем. Седла мигом опустели, четверо солдат упали на одно колено, правым кулаком упершись в землю – поза безусловного подчинения вышестоящему, – а пятый, явно старший, низко поклонился мне:
– Сри раден! Разрешите задать вопрос?
– Э-э-э… – Никогда не обладал я командным голосом. И учиться поздно. – Разрешаю.
Только сейчас вспомнилось, что звание «радена» соответствует гвардейскому сотнику. Сколько раз доказывал на встречах с читателем, что автор не обязан помнить кучу мелочей, им же придуманных, и тем паче не обязан вспоминать их быстро!..
– Мы везем сообщение их чародейству, господину Алому Хонгру! Армейский маг еще пребывает в Дангопее? Или мы опоздали?
– Еще… э-э… пребывает. Торопитесь, он может покинуть город в любую минуту.
– Слушаюсь, сри раден!
Бешеным наметом всадники унеслись прочь. У ног моих благоговейно сопел Бут-Бутан: парень только и дожидался исчезновения гонцов, чтобы вывалить на меня уйму обожания. Я слушал его вполуха. В памяти иголкой кололось давнее заявление Эльфа: «Тогда цацку. Срочно. Лучше – две. В оргкомитете рыцари есть?»
Цацка парила в вышине, не спеша возвращаться на плечо. Серебряная Гарпия устала. Иссякла. Надорвалась, желала отдыха. Но мне не требовалось подтверждение Куриного Льва – Влад Снегирь и без чужих свидетельств, странным, тайным нюхом чуял, где пахнет жареным. Спортивный костюм вместо голой задницы. Мундир гвардейского сотника вместо спортивного костюма.
Влад Снегирь, рыцарь Ордена Святого Бестселлера.
Обладатель цацки.
– Ты поможешь? Ты спасешь?!
Я снова присел на корточки, так и не сумев избавиться от ощущения, что успокаиваю напуганного щенка.
– Почему ты считаешь, будто я в силах спасать? Кто я здесь? Никто, и звать никак. Дух. Призрак. Посторонний.
Серые глаза Бут-Бутана просияли:
– Нет. Ты Лучший-из-Людей.
Даже рассыпаясь бенгальским фейерверком, я видел его уверенность в сказанном.
XVIII. Цацки, пецки и концерт для гобоя с оркестром
Вот от кого я месяц лбом об стенку бился, так это от Снегиря.
До сих поp тащусь! Это COOL RULEZ! Каждую вещь читаешь и вопишь на полгоpода: «ЕЩЕ-е-о-о-о-о!!!..»
Из гостевой книги автора…ты увидишь, ты услышишь…
Кыш!
…как веселый барабанщик в руки палочки хреновые берет…
За что!!!
…встань пораньше, встань пораньше, встань…
Это не в ушах. Это в дверь.
Попытка встать засчитывается с третьего раза. Штормит. Литераторы, взявшись за фундамент, раскачивают здание. Мне плохо. Мне так плохо, что я согласен на самый наижутчайший бодун, лишь бы избавиться от веселого барабанщика, поселившегося в висках. Тело ватное, кровяные прожилки в глазах плетут алую паутину, клочья тумана повсюду: на спинке кровати, на холодильнике, радиаторе батареи…
– Х-х-х… то?!
– Это я, Петров. Извини, что так рано. Открой, я тихий.
– Хр… хр-ра..? – Я пытаюсь открыть дверь. Если толкать от себя, не получается совсем. А если тянуть на себя, то я упаду. – Скока тайму?
С английским у Петрова хорошо. Все понимает. Возникнув на пороге, смущенно разводит руками:
– Шесть утра. Ты чего такой зеленый? Злоупотребил?
– Н-не. – Кляп мало-помалу уходит из глотки, возмущенно царапаясь. – Может, траванулся? Майор, давай позже…
– Погоди-погоди. – Петров уверенно огибает меня, идет к кровати, лезет под подушку. – А, ясно. Яшка присоветовал?
– Угу.
Барабанщик устраивает в башке истерику. Я почти не слышу Петрова.
– Колеса в аптечке есть? Анальгетики?
– Есть… солпадеин, седалгин…
– Солпадеин годится. Сожри две таблетки. Я подожду.
Принесла его нелегкая! Отоспался бы – глядишь, и барабанщик сдох бы. Вот закинусь колесами – и пошлю майора в тундру. Мало ему вчера Джулиана вломила. Пусть зайдет к рыжей. За добавкой.
– Скоро отпустит, – обнадеживает Петров, когда я вываливаюсь из ванной. Майор устроился в кресле у окна. Хмурый, скучный и виноватый. Первый раз его таким вижу. Даже послать язык не поворачивается. Левое ухо у Петрова вдвое больше правого, рдеет пионерским костром. Хоть прикуривай! Или заново из огнетушителя поливай. Нет, не надо добавки. Пусть так посидит.
– Ты, Влад… Короче, извини за вчерашнее. Зря мы наехали. Как есть зря. А твоя подруга – девка на ять! Круто шевелится…
– Твоя коллега, между прочим. Лейтенант полиции.
В глазах майора вспыхивает профессиональный интерес.
– Ну?! Значит, не только у нас менты фантастику пишут. Это радует. Ладно, ты уже соображаешь?
– Местами.
Усаживаюсь напротив. Ставлю на стол бутыль минералки. Наливаю обоим.
– Надеюсь, голова в эти места входит. Значит, так, Снегирь. Ты вляпался в сироп. Густой и сладкий. Не дергайся, не ты один. Мы с Эльфом в тираж в 96-м вышли. Седьмой год барахтаемся. Орден Святого Бестселлера… Знаешь, кто эту хохму первым придумал?
– Нет.
– И я не знаю. А хотелось бы. Чтоб найти, взять за глотку… Ты, рыцарь, пойми главное: можно жить и в банке с вареньем. Если на грабли не наступать. А так – ничего…
– Какие грабли?
– Колхозные. На первые ты уже наступил. Сегодня ночью. Яшка, к-козел… уши дураку оборвать!.. Нет, с цацкой он верно насоветовал. Просто остеречь забыл. Ты ж ее небось на всю катушку использовал, вот и маешься. Я по первому разу тоже влетел, чуть инсульт не заработал…
– Он хотел. Он…
– Ты Эльфище не выгораживай! Ни черта до конца довести не может. Дождется, устрою ему геноцид остроухих народностей Заполярья!.. Ты ночь-другую без цацки спи. Тем более она серебряная. От золотой отходняк меньше. Кепский говорил. Раньше какие-нибудь железяки получал?
– Получал. «Старт».
– Насчет «Старта» не знаю. Нам в 89-м шиш обломился. Дома можешь испытать. Только осторожно. И после перезвони мне, расскажи.
– Тоже под подушку? Он же здоровенный! Из малахита!
Разговор двух психов. Возьмите Нобелевскую премию, вымочите в уксусе, сложите в тапочки, желательно белые…
– Приспособишься. Еще что-то есть?
– От израильского КЛФ грамота. К ней «Роза Иерусалима».
– Роза?!
– Ну, круглая… Кошерная. Виды Иерусалима, литье.
– Не знаю. Хотя евреи, они хитрые… А птичке дай отлежаться. Эх, Меч бы тебе: «Лунный» или «В камне»!.. Слушай, да оденься наконец! Сидишь, мудями светишь…
Все-таки культурный человек Петров. Деликатный.
Облачаюсь. Частично. Чтоб не отсвечивать.
– Говоришь, на всю катушку? А как – не на всю?
Черт возьми! Хмурый Петров столь убедителен, что я плыву. Начинаю верить. Так он небось куряжских малолеток-рецидивистов на «сознанку» крутил. Сейчас зачтет вслух «Инструкцию по технике безопасности при эксплуатации премиальных артефактов в dream-real». А я буду конспектировать.
– Элементарно. Хочешь отключить – вели, чтоб прочь летела. Лишь бы с плеча убралась да над головой не висела. Камуфляж обеспечит, и гуляй, душа, вальсом. Наутро будешь как огурчик. Если сама улетит, значит, выдохлась. Эта птичка умная, столичная. Кстати, можешь сразу все цацки скопом под подушку запихать. Уснуть трудно, конечно, но в комбинации они иногда любопытные эффекты дают. И без кумара, если не наглеть. Мы с Яшкой наигрались… Потом даже в книгу один эпизод вставили. Понял?
Мерещится жуткая картина: Эльф с Петровым вдвоем на сексодроме, оба в клетчатых пижамах, босые, всклокоченные, нервно суют под подушку премии, премии, премии; торчат наружу стальные штыри, рукояти бутафорских мечей, мраморные книги на подставках из гранита, статуэтки, фигурки всадников и странников в плащах, бронза и никель, серебро и медь, дутое стекло, витые кадуцеи…
Кошмар!
Ей-богу, лучше б деньгами давали. Деньги под подушкой – привычней.
Или пистолет.
– Понял, Эдик, понял. Насчет цацек-пецек. А вот насчет договора… Скажи мне честно, чего вы вчера припухли? Неужели без бумажки никак? Ты ж меня знаешь…
– Снегирь, не корчи попку. Все я про тебя знаю, ты своими принципами всем давно плешь проел. Дурь это, Влад. Честно скажу: дурь кромешная. Но чужая. А я чужую дурь уважаю. Просто договор-заказ, особенно когда с авансом… Тут хитрый финт, Снегирь. Мы на тираже, как на игле, сидим. Нам не ширево, не кокаин в ноздрю – нам цифирки в выходных данных! Десять тысяч. Двадцать! Сто!!! Доза растет: каждый день, каждый час… Васька Кепский однажды посчитал: говорит, на 666 тысячах в тираж выходим. Брешет, конечно, мистик драный! У всех по-разному. Кто на «пятихатке» выскакивает, а кому и «лимона» мало. Теперь, с Интернетом, вообще не разберешься. Сетевые публикации косвенно влияют, слабо, их учитывать – мозги сварятся! Пока основное – книги. Бумага.
– Только книги? Сольники? А сборники, альманахи, периодика? Антологии?!
– Там свои коэффициенты. Критика опять же на выход работает, но как-то через задницу, хрен поймешь, как. Шекель-Рубель, и тот не знает.
– Он что, тоже рыцарь?
– Член он с ушами! Ассоциированный. В курсе дела, но не в Ордене. Да, насчет договора… Бумага, она процесс замораживает. Если сразу под договор писать, под авансовый, можно совсем без процесса обойтись. Главное, месяца в три-четыре с романом вложиться. Будешь дольше писать, на пятом месяце прихватит. Но только автора, остальным по барабану. Пока книга в свет не выйдет: после первого тиража – спи спокойно, дорогой товарищ! Разве что перед самым выходом слегка зацепит. А ты уже следующую вещь корябаешь! Оно сбивает. Конвейер, Снегирь! Колесо для белок. Иногда волком воешь. Думаешь: может, застрелиться? Или завязать? Соскочить с иглы. Только мы рыцари, мы подсаженные, не суметь нам – без этого. У одной Польских получилось. Так на то она и королева…
– Что получилось? Она же издается!
– А тиражи? Тиражи?! Королева теперь не для «пипла», для «нон-фикшн» ваяет! Для снобов пальцегнутых! В ихнем царстве-государстве пять тысяч – а-а-ахренительный тираж! Хотя и у нас, рыцарей, свои уловки есть. Рассказы клепать: на малой форме вылетать не успеваешь. Или в паузах эссе всякие ваять… Для сердца. Сердце, оно, братец, чахлое. Хлипкое. Ну, про инсульт я тебе уже говорил… Подкармливаем, значит, насос. Вроде валидола. Тоска берет, Снегирь! Сам себя изнутри жрешь, захлебываешься, слюни по манишке, а утихнуть, переварить некогда. Выкладываешься, честно прешь марафон, без халтуры, а там, внутри, в дырке, насквозь выеденной, все равно понимаешь: мог бы лучше. Мог бы! Вот только когда? Болт! Анкерный. Договор. Сроки. Процесс, едрена матрена! А издатель доволен. Автор раскрученный, книжек вайлом, денежки капают… Чем больше рыцарей в издательстве – тем выше прибыль. Знаешь, я на них даже не в обиде. Схавали фишку, теперь доят. Правда, в Ордене шепчут: у издателей свой процесс. Не все скоту масленица, а козлу малина. Понял?
– Не-а…
– Ну и ладно. Ты просто запомни, Снегирь. Запомни, и все. После поймешь.
– Обожди, Петров… А если не подписывать?! Плюнуть на Гобоя, на сроки; работать, как раньше? Мне в моем Ла-Ланге вполне… Природа, погода!.. Народ душевный. А с железякой в придачу…
– А вот тут, птица моя, и начинается самое, блин, рассамое.
– Чего начинается?
– Самое интересное.
* * *
В столовке обслуга, трепеща от восторга, близкого к экстазу сподобившегося благодати схимника, чествовала редких героев. Волков-одиночек. Кто сумел. Кто встал, проклятьем заклейменный. Кто явил миру всю необоримую мощь желания вкусить последний завтрак. Героям несли кашу из зерен тайного злака, сдобренную соком священной коровы. Героям даровали филе красавца-сельдя, плачущее от счастья быть употребленным во благо, и мавзолей бурачьих кубиков гордо алел рядом. Птица-курица, расчлененная умелым ножом маньяка на трогательные кусочки, соседствуя с мощной грудой пюре, рождала во чреве твердость алмаза, а каждый глоток акварельного чая лишь укреплял сердце в преддверии отъезда.
Я сел напротив одинокого Неклюева.
– Привет, – буркнул Слава, ковыряя хлеб насущный. Вся его обычная барственность, видимо, уже была сложена в чемодан; что-то водопроводно-сантехническое проглядывало в чертах любимца тинейджеров. Ржавчина, скрученные вентили, трубы горят. – Тебя Петров искал.
– Когда?
– Ночью.
– А-а… Он меня нашел.
– Поговорили? По душам? Я так понимаю, Петрову хотелось именно по душам…
– Поговорили.
Из «самого интересного», обещанного майором Петровым, мне не досталось и ломтика. Потому что веселый барабанщик, раздавленный колесами болеутоляющего, внезапно воспрял, перебравшись на ПМЖ в желудок. Я оккупировал сортир, ухая, крякая и поминая «синдром Шекель-Рубеля», а когда барабанщик изломал все палочки, Петрова в номере не оказалось. Ушел, значит. Удалился. Зато я вдруг испытал приступ чрезвычайного голода, который и бросился утолять.
Вот, утоляю.
– Он тебе все рассказал?
– Не то слово. Я прямо обрыдался. Может, повторишь для лучшей усвояемости?
Неклюев откинулся на спинку стула. Усталый и безразличный: ветеран-наемник изучает наглого щенка-волонтера, лишь на донышке глаз лелея крохи брезгливой жалости.
– Не хами, Снегирь. Не лезь на рожон. Помяни мое слово: через год, пьяный, будешь извиняться. А я извиню тебя. Честное слово, извиню. Я незлопамятный, я все всегда записываю. Помнишь моих «Янычар Галактики»?
– Ну?
– У меня на «Янычарах» процесс заклинило. Ложусь спать, только глаза закрою – бултых в открытый космос! Со всеми вытекающими. Удовольствие ниже среднего, ты уж поверь, рыцарь…
Он наклонился вперед. Заговорил тише, хотя никто нас не подслушивал. Без причины стал заикаться:
– У м-меня жена, С-снегирь! С-сын! А я, гад позорный, с-сдачу текста на три недели затянул… Не высыпаюсь: к-космос, мать его! Раз за разом! Сунул под подушку «Веселого Дюка» (мне его в Одессе, на фестивале вручили) – ну, скафандр получился. С жизнеобеспечением. Взрываться перестал, болтаюсь, как кофе в ваккуумной упаковке! Темно, звезды, м-мать их!.. С утра башка разваливается. Вот Татьяну с п-пацаном и зацепило… П-пацан в школу месяц не ходил: боялись, в психушку заб-берут. Ты один живешь? Один, да?! Оттого и выкаблучиваешься?!
– Привет классикам!
Истерика Неклюева оборвалась быстрее, чем вспыхнула. Знакомый барин вернулся из небытия. Слава ковырнул вилкой остывший завтрак, явно тоскуя по трюфелям под соусом «бешамель». Поднял взгляд на улыбающегося Гобоя – так поднимают лакированный саквояж, выходя из отеля «Лямур-де-Труа» к личному «Роллс-Ройсу», запряженному четверкой арабских скакунов. Я не узнавал Славу; вернее, лишь сейчас я узнавал его, привычного. Другой человек секундой раньше приоткрывал краешек занавеса, показывая глупому волонтеру уголок «самого интересного», берцовую косточку скелета в шкафу, малую главку из устава Ордена Святого Бестселлера.
Совсем другой.
– Добрейшее утречко, Андрей Валентинович! Составите компанию?
– Спасибо, Славочка, я сыт! Влад, я сейчас уезжаю… Вас подвезти?
Гобой сверкал. Гобой лоснился. Катался наливным яблочком по золотому блюдечку, а во мне зрело нечто серое, немое и страстное. Немое. Не моё. Кураж пенился кислым пивом, изжога толкала на подвиги, и селедка во рту отдавала металлом.
Зимний снегирь хотел не рябинки – мяса.
– Нас подвезти. Если вас не затруднит.
– Ну что вы! Может, и в издательство сразу, а?
– Сегодня воскресенье, Азраил Ваалович. Выходной.
– Ха-ха-ха! Смешно, Владимир Сергеевич. Право слово, смешно. Экий вы шутник! Для кого, знаете ли, выходной, а кому суровые будни… Значит, заедем? Порешаем вопросики?! Чего вам лишний день кантоваться…
– Хорошо.
– Тогда я жду вас, Влад, дорогой! Я жду с нетерпением! Из-за острова, на стержень…
Бас хлынул, затопляя столовую и волной утекая в дверь. Мы с Неклюевым проводили колобка одинаковыми взмахами рук, и Славка еще раз ковырнул завтрак.
– Вот скажи мне, Снегирь, – в тоске спросил Неклюев, – отчего у тебя пюре, и с двойным маслом, а у меня каша без масла?
– Писать лучше надо, – честно ответил я.
…На сборы ушло полчаса.
– Эй! Есть кто-нибудь?
Войдя в Гобоев номер, я замер витязем на распутье. Налево пойдешь… Дверь туалета, распахнувшись с приветливым скрипом, явила должное: туалет. Зеркало, унитаз, кабинка душа. Направо пойдешь… Гардероб. Крючки, плечики (в наших краях их зовут «тремпелями»), внизу щетка для обуви и две баночки с кремом. Значит, надо идти прямо. Туда, где, согласно классике сказки, полагается терять жизнь.
– Антип Венецианович! Вы здесь?
Гостиная нелепо вытянулась поперек. Голый бетон стен, кишка коридора, и там, вдалеке, маячат три ростовые мишени: солдаты в немецких касках, но почему-то с рогами. А рядом, спиной ко мне, у барьера стоял шофер Игнат Кузьмич, целясь в рогачей из револьвера «маузер» производства 1873 года. Жуткая штука, я такую в Рижском музее видел.
На дуло был навинчен глушитель странной формы.
– Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Хлопок.
Я не мог видеть, попал он или промахнулся. Но спина шофера излучала такую уверенность, что лишь самый закоренелый скептик усомнился бы в наличии дырки во лбу рогача.
– Антип Венецианович ждет вас внизу.
Хлопок.
Мягкий, ватный, но громче первого.
– Спускайтесь, пожалуйста. Я уже иду.
Третий выстрел громыхнул жестяным тазом.
Всю дорогу в город я смотрел в спину Игната Кузьмича, и меня не оставляло ощущение, что шофер, глядя на дорогу, в действительности видит рогатые мишени.
Гобой напевал «Марсельезу», но в разговоры не вступал.
* * *
«Издательство, сэр!»
Приехали.
Вахтер в застекленной конуре почтительно виляет хвостом. Лифт. Третий этаж. Отсюда и до шестого включительно простираются ленные владения «Аксель-Принта». Здесь охрана посерьезнее, чем на входе в здание: дверь бронированная, телекамеры, вход по электронным карточкам, и на посту – штандартенфюрер МВД. Вооружен, значит, и очень прекрасен. Впрочем, цербер знает меня в лицо и вполне доброжелательно здоровается. Круче стража только в «Нострадамус-Пресс»: пять мордоворотов с автоматами и в бронежилетах. Вход по разовым пропускам, которые эти дуболомы часами ищут и сверяют. Потому как неграмотные. Меня однажды полдня мурыжили: «Почему вы на хохла не похожи? Почему без акцента? Без сала? Без шаровар?!» Я обиделся и в отместку прозвал их контору – «Коза-Ностра-Дамус». Они тоже обиделись и вовсе отказались пускать.
Нет, в «Акселе» бдительность куда интеллигентнее поставлена.
Ряд дверей со знакомыми вывесками. «Каректорский атдел» (опечатки ярко исправлены красным фломастером). «Редакция фантастической литературы». Под табличкой – идиллическая пастораль: дракон, инопланетянин и наш космонавт (в скафандре и валенках) соображают на троих. «Отдел детективной и приключенческой литературы». Тут другие герои: ковбой, коп и бандюга в маске учиняют пальбу. Из дул пистолетов вылетают облачка с дружелюбной озвучкой: «Ба-бах!!!» Символично, кстати: фантасты куда дружнее детективщиков – это аксиома.
Коридор плавно сворачивает вправо. Ныряет в заваленную хламом каморку, вновь выходит на оперативный простор. Сюда я раньше не хаживал. Тупик. Дверь тяжкая, под потолок. От пластиковой таблички веет лексикой НКВД.
«Особый отдел».
И никаких карикатур.
– Добро пожаловать в наши скромные пенаты!
Гобой лихо, словно бритвой по горлу, чиркает карточкой по считывающему устройству. Щелчок – створки двери распахиваются, лязгнув челюстями. Оставь надежду всяк… Заглядываю с опаской. Тюремная камера? Пыточный подвал? Масонская ложа?! От колобка можно ожидать чего угодно.
Идеальный, стерильный порядок операционной. Строгая функциональность столов. Офисные кресла, мониторы компьютеров, телефоны, факс. На столах – ни одной лишней бумажки. Стеллажи туго набиты книгами и папками, всяк сверчок знает свой шесток. Не то что в редакции фантастики, где шаткие штабеля книг готовы погрести неосторожного путника. На стенах красуются репринтные плакаты тридцатых годов прошлого века: «Болтун – находка для шпиона!» и «Тише, враг подслушивает!» А, еще «Двуликий Янус» – лицо, разделенное пополам вертикалью: слева – мирный труженик, справа – акула капитализма с моноклем. Своеобразное, должно быть, у «особистов» чувство юмора. Если это вообще юмор.
– Располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
Располагаюсь.
Чувствую.
– Сейчас подойдут расчетчик с интуткой. Кофе хотите?
– Не откажусь.
Гобой мил, приветлив, розовощек. Никакой чертовщины. Извлек чайник, в розетку включает, другой рукой по клавишам коммутатора барабанит.
– Да, я. Зайдите. Да, рыцарь ждет.
И ко мне, положив трубку:
– Кстати, потом глянете отредактированный текст фрагмента. Так сказать, на предмет.
Все хорошо, все чудесно. Кофе, улыбочка, текст, сотрудники специально ради Снегиря в воскресенье на работу вышли. На чем ты меня кидаешь, Аспид Вертихвостович? Не подпишу ведь. Гадом буду, не подпишу! Я псих, у меня принципы…
– Звали, Артур Велимирович?
В дверях возникает кукла Барби, растерянно хлопая ресницами. Они у нее длиннее, чем у Насти, но, похоже, накладные. В отличие от.
– А, Таечка! Заходите!
Кукла топчется за порогом. Крайне соблазнительно топчется: вертит попкой, но заходить не спешит. Словно ждет чего-то.
– Прошу вас!
Нет. Не идет.
Моргает.
– Милости просим! – с нажимом повторяет колобок в третий раз. Кукла, облегченно вздохнув, оказывается рядом с нами. – Кофе хотите? Знакомьтесь: Влад Снегирь, звезда и талантище… Ну, вы в курсе. Влад, честь имею представить: Таисия Валерьевна, интутка.
– Очень приятно.
Галантно целую «Барби» ручку. Кожа на ощупь приятная: гладкая, свежая (резиновая?!), но к слабому запаху «Шанели» примешивается… нашатырь? Я не ошибся?!
– Опрометчиво, яхонтовый. Крайне опрометчиво…
Кажется, это в мой адрес. Считаю за благо не отвечать. В голове вертится а-ля поручик Ржевский: «Ведь я, брат, интутка, я фея из бара…» Стоп. Это нервное. Еще ляпну вслух! С меня станется.
– Скажите, Таечка, когда вы впервые почувствовали, что Владимир Сергеевич близок к выходу в тираж?
Пауза. «Барби» воздевает васильковые очи горе, что-то высматривая на потолке. Видимо, линию жизни В. Снегиря.
– Уж месяц прошел и три дня пролетело, как псы разорвали остывшее тело, – вдруг произносит она нараспев низким контральто.
Дергаюсь и проливаю кофе. К счастью, на пол, а не на брюки. Или того хлеще: на милую Таисию Валерьевну. В Ла-Ланге, в первый раз… Да, собаки. Да, порвали. Вдребезги. Ощущение не из приятных.
– Значит, месяц и три дня? Сходится, Влад, дорогой?
– Ну, точно не скажу… Вроде сходится. А с собаками – в самую точку. Остались от пташечки перья да ножки. Таисия Валерьевна, вы сновидица?
– Есть многое, брильянтовый, на земле и на башнях, что снится рыцарям Ордена. И мне то ведомо.
– Таисия Валерьевна – лучший интут издательства. Интуитивистка. Феноменальные способности. Если бы не Половинчик со своими расчетами… Кстати, опять опаздывает! Ага, вот и он.
Я не удивился бы, услышав от Гобоя петровскую реплику: «Попался, сука!»
В особом отделе объявляется новое действующее лицо. Лицо это наполовину скрыто огромными бифокальными очками в роговой оправе, напоминающими линзы для первобытных телевизоров. Гладкий восковой лоб, достойный музея мадам Тюссо, над очками плавно переходит в пустошь лысины. Поперек зачесаны две чудом сохранившиеся пряди. Костюм покроя «человек-в-футляре», широкий галстук цвета тины. Штиблеты. Красота, в общем, неописуемая.
– Зд-р-ра, зд-р-ра… – урчит он, тыча в пространство пухлую ручонку. – Половинчик, Ян Львович. Расчетчик.
Жму пятерню, едва не вскрикнув от боли: силен, расчетчик, силен и цепок.
А кофе ему Гобой, кстати, не предложил.
– Итак, все в сборе. Начинайте, Ян Львович.
Половинчик вздыхает с явным облегчением. Разнос от начальства откладывается. А там, глядишь, и вовсе пронесет. Я его понимаю и даже проникаюсь некоторым сочувствием, ибо – пронесет. По полной программе, или я ничего не смыслю в Гобое. Расчетчик вываливает на ближайший стол ворох графиков и таблиц, и мы приступаем к работе. К весьма странной, надо сказать, работе. Сверка тиражей за разные годы. Сроки выхода. Допечатки. Переиздания. (Всплывает несколько «леваков», о которых я ни сном ни духом. Надо же! Хорошо у них разведка работает.) Статистика воровства на типографиях. Можайский полиграфкомбинат. Тверской. «Красный пролетарий». Публикации в сборниках, в журналах. Публикации в сети. Критические статьи. Динамика продаж по оптовому складу. В рознице. Какие-то поправочные коэффициенты, метровые формулы с сигмами, зетами и ятями, которые Половинчик мигом загоняет в компьютер. Сроки сдачи текста. Время подписания договоров…
– Братцы! Сестрицы! Тут сам черт ногу сломит!..
Народ смотрит на Снегиря, словно он сморозил потрясающую глупость.
Или испортил воздух на первом балу Наташи Ростовой.
– Пр-р-рав, кр-р-ругом пр-р-рав, – удовлетворенно мурлычет Половинчик. Он воспрял, цветет и пахнет. – Тр-ретий кр-руг, именно тр-ретий. Вер-рно, Таисия Валер-рьевна?
Кукла торчит у окна, презрев вульгарную канцелярию. Напевает под нос удалую цыганщину: «Две гитары за спиной в качестве конвоя, где ты, конь мой вороной, в чаще волки воют…»
Загадочная женщина.
– Круг за кругом. – Затянув припев, она начинает мелко трясти плечами. – День минет – уж четвертый настает.
– Так быстро?! – Гобой не на шутку встревожен, и волнение колобка немедленно передается мне. Может, я тоже интут? Скрытый?
– Погодите! – суетится Половинчик. – Не стр-реляйте, я вам пр-р-ри… пригожусь…
Пальцы Яна Львовича взбесившимися многоножками мечутся по клавишам компьютера. Жалят, грызут, откладывают личинки.
– Таечка, лапочка! Учитывая погр-р… грешности… «Квар-рта» наступит чуть позже: дня два-три.
– Таисия Валерьевна, что скажете?
Выжидательный взгляд Гобоя пришпиливает «Барби» к окну, как булавка – бабочку. Губы женщины беззвучно шевелятся, шевелятся…
– Цифры не врут. Но ускориться бег Хроноса-Времени может. Пусть до поры обождет человек. Край он безумству положит.
И еще говорит кукла:
– Можно спастись. Можно спасти. Не подбирайте сивилл по пути.
Гобой молчит. Сейчас он умудряется молчать басом, и молчание зама по особым сгущается в мозгу мефистофелевским: «На земле весь род людской…» Пауза затягивается, нависает над головой карнизом, готовым в любой миг рухнуть, сверкающим копьем «бурульки», подтаявшей от дыхания бога…
Не выдерживаю:
– Антип Венецианович!
Следующая реплика – из спектакля, где идут к барьеру и поднимают роковые стволы Лепажа. Или, на худой конец, револьвер системы «маузер», 1873 года.
– Извольте объясниться!
* * *
– Влад, хороший мой, славный… Помните газетную шумиху 98-го? Вокруг психотронного оружия?
– А что? Утка как утка: желтая, бульварная…
– Инженер вы душ человеческих! Конечно, утка. В смысле оружия. Зато одинаковые сны у сотен людей – были. К счастью, удалось быстро локализовать, а вскоре и заморозить процесс у Коли Маржецкого. Сообразили, куда клоню?
– Четвертый круг?!
– Именно! Когда у рыцаря растет «площадь захвата», все большее количество людей, проснувшись или очнувшись от беспамятства, помнит свои впечатления. События. Поступки. Во всех подробностях. Слишком ярких, слишком логичных для обычного сна. Кстати, спит в этот момент сам рыцарь или нет, на четвертом круге теряет значение. Процесс приобретает лавинообразный характер. Цепная, знаете ли, реакция…
– Очень интересно. Только в чем, собственно, проблема? Ну, пошумят в прессе еще раз о «психо-пушке». Или о вредных последствиях аспирина УПСА. У нас народ битый: живого динозавра на улицу выпусти – ухом не поведут. Решат, что глюк. Или киносъемки. Или вообще не заметят, пока лично на них не наступит.
– А вам хочется, чтоб наступил? Шершавой пятой?!
Время шуток прошло. Это я сразу понял, несмотря на дежурную улыбку, оккупировавшую пухлое личико колобка. Может быть, оттого и понял, что улыбка была очень уж дежурной. Вымученной. Сутки-двое, с мизерным окладом.
– Нас, Влад, в 98-м чуть в угол не загнали. Тот факт, что засветился рыцарь из «МБЦ», ничего не менял. Делом заинтересовались известные фигуранты, а хватка у них, доложу я вам… Хорошо, что в светлых кабинетах сидят люди трезвомыслящие. Обошлось… тьфу-тьфу-тьфу! – Асмодей Велиалович на полном серьезе трижды плюет через левое плечо, причем не символически, а по-настоящему, слюной. – Но дважды фортуна не дает! Думаете, кое-кто не сумеет извлечь личную выгоду из процесса? Хотите в шарашке пахать? Собачкой Павлова – абзац по звонку?! Про пятый или шестой круги я и вовсе не хочу вслух: верите ли, боюсь…
Умеет, гад, держать паузу. Не зря на сцене выступал. Самое главное, умом понимаешь, что психологический прием, а действует!
– Договор положит конец нашим бедам?
– Частично. Договор вернет процесс на первый круг. Замкнет на рыцаря. И даст время без авралов закончить роман. После выхода книги в свет мы все вздохнем спокойно…
Он интимно берет меня за пуговицу:
– Вы ведь там более или менее обустроились? У себя? Быстро допишете, да?
– Ну, в принципе… Климат теплый, собаки меня теперь уважают. Опять же фьюшка…
– Какая фьюшка?
– Манговая. Кисленькая.
Назойливая муха копошится в мозгу. Да, только мух в голове мне и не хватало. Метафоры, аллюзии… Нашел время!
…Время!
Попалась!
Мысль отчаянно жужжит в сжатом кулаке. Со странным смешком разжимаю пальцы. Снегирь, а ведь ты почти поверил…
– Не сходится, Антип Венецианович. Время не сходится. Сплю я в среднем восемь часов. Плюс-минус. А в Ла-Ланг то на сутки выпадаю, то на десять часов. По-разному. Или, скажете, там еще и время нелинейное?
И мы, Хымко, люди! Не лыком драны! Слова умные знаем.
– Ах, Влад! Зеркало вы эволюции! Про фазу «быстрого сна» слышать доводилось?
– Ну, краем уха…
– В этой фазе человек видит сны. Только в этой, и ни в какой другой. Фаза весьма скоротечна, от общего времени сна составляет 10–30 процентов. Зависит конкретно от человека, а также от многих обстоятельств: усталость, перевозбуждение, предшествующее опьянение, стрессы и так далее. Коэффициент течения времени – примерно 1 к 12. То есть за час, прошедший здесь, там проходит двенадцать часов. Наши специалисты это вычислили. Есть статистика. Теперь произведите несложный расчет – и все встанет на место.
– Погодите! Я вспомнил! Фаза «быстрого сна» – она дискретная. Редкие стежки на общей ткани сна. Там пять минут, тут десять… Но я-то в Ла-Ланге нахожусь непрерывно! Неувязочка получается!
– Анекдот напомнить? «А ваши неувязочки нам…» Да, «быстрые сны» дискретны. Но вспомните свои обычные сновидения. Ведь если вы их запоминаете, то как единое целое, – хотя снятся они вам в течение ряда отрывков «быстрого сна». С процессом та же история. Только не спрашивайте меня, как да почему: я, увы, не всеведущ. И, дважды увы, не всемогущ.
То, что Гобой в придачу и не всеблаг, я знаю наверняка.
Трижды увы.
– Могу лишь аналогию подбросить: роман вы тоже дискретно пишете. Сидите за компьютером, встаете, пьете чай… По бабам шляетесь, водку кушаете. Однако повествование от этого не рвется?
Убил.
И закопал.
И надпись написал.
– Еще вопросы есть? Пусть Ян Львович с Таисией Валерьевной изложат в деталях?
– Нет, спасибо. Не нужно.
– Значит, подпишете договор?
– Стоп! Этого я не говорил!
– Неужели принципы вам дороже, чем… Ладно-ладно, молчу! Но бумаги на допечатку и расходные ведомости вы, надеюсь, изволите подписать? Принципы позволяют?
– Без проблем. Давайте.
– Даю-даю… Вы бы подумали, Влад, золотце, вы бы хорошенько подумали, поразмыслили, раскинули мозгами…
Бас Гобоя – глас прибоя. Шуршит, омывает берег сознания. Успокаивает. Навевает дрему. Автоматически чиркаю ручкой: ведомость… договор… второй экземпляр…
– А это что?!
– Ох, извините! Я случайно: вместе в папке лежали…
Скотина ты, колобок! Думал заговорить меня? Влад, золотце, подмахните не глядя… Пусть тебе Таечка подмахивает! Шалишь, Кларнет, не на такого напал! Влад Снегирь привык читать, что подписывает. Давняя и очень полезная привычка, на грани рефлекса.
Сижу, смотрю на Антипа Венециановича.
И верю ему до озноба в пятках.
Если Гобой решился на банальный, мелкий, дешевый подлог – значит, взаправду. На зама по особым глядеть больно и стыдно. Сдулся, скукожился, поблек, будто из шарика выпустили воздух. На безукоризненном костюме возникли морщины-складки. Пятнышко грязи на сияющем штиблете…
– Антип Венецианович, я вам предлагаю компромиссный вариант. Роман у меня получается большой, явно на два тома. Завтра утром я вернусь домой, сяду и сделаю промежуточный финал. За день, максимум за два. И сразу же вышлю вам текст первого тома аттачем по е-мэйлу. Договор давайте сюда, я возьму его с собой. Подпишу после отсылки текста и передам с проводником поезда. Или факсом. Добавим в начале: «Первый том дилогии „Лучший-из-Людей“ под названием…» Название я дома придумаю. По рукам? И волки сыты, и овцы целы?
Дежурная улыбка Гобоя медленно-медленно, словно не доверяя, уступает место настоящей.
– Конечно! Влад, чудесный вы мой! Сразу видно творческого человека. Рад, душевно рад! – Он долго, от души, трясет мне руку. – По этому поводу не грех и тяпнуть по граммулечке? У меня в сейфе отличный коньячок имеется, нарочно для таких случаев…
– Антип Венецианович… Вы мне другое скажите. Пятый круг, шестой… девятый какой-нибудь… Что там происходит?!
– Ах, Влад! – Гобой тяжко вздыхает, ставя на стол бутылку ереванского «Юбилейного». – Во многом знании много печали. Помните у Шекспира: «Дальше – тишина»? Не стоит поминать всуе. Чтоб не накаркать. Выпьем-ка лучше коньячку. Желаю нам всем быстрее забыть это, как дурной сон.
Дурной сон…
– Ну хоть намекните… Чуть-чуть… Что на пятом круге случается?
– Намекнуть? Хорошо, намекаю. Как вы думаете, Владимир Сергеевич, почему раньше люди чертей-леших, домовых-русалок да мертвецов ходячих с привидениями встречали? Ну, еще ангелов, чудотворцев. А теперь – все больше гуманоиды с Альдебарана, НЛО, барабашки-полтергейсты… Хотя и вампирами бог не обидел. Как вы думаете?
Никак я не думал.
Нипочему.
Поезд у меня вечером.
XIX. Ул. Героев Чукотки, 26, кв. 31, телефон (дом.) 43-98-02
Многочисленные эпиграфы разрушают ткань повествования.
Один редактор– Добрый день! Вы жена Владимира Сергеевича?
– Д-да… В некотором смысле.
– Владимир Сергеевич просил передать, чтобы вы не волновались. Он задерживается. На два-три дня, может быть, на неделю.
– Вы из издательства?
– В некотором смысле. То есть нет. Я сама по себе. Просто вы не беспокойтесь и никуда не обращайтесь. Вы меня поняли?
– Вы его любовница?
– Неужели у меня такой молодой голос? Вы мне льстите.
– Это угроза? Вы похитили Влада?!
– Деточка, я очень прошу вас: не кричите. У меня зверски болит голова. С вашим Владом все будет в полном порядке.
– Вам нужен выкуп?!
– Выкуп мне не нужен. Просто здесь вопрос жизни и смерти… Ах, я становлюсь банальной. Итак…
– Что вы с ним сделали? Где он?! Я хочу с ним поговорить!
– Не кричите, умоляю. Он жив-здоров, чего и вам желает. Подождите несколько дней и получите вашего Влада обратно. В полном здравии. Деточка, мне очень неприятно, я раньше никогда… Впрочем, вам не понять. Вы еще слишком молоды.
Короткие гудки.
Определитель номера не сработал.
ХX. Отрывок из поэмы «Иже с ними»
Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бородами дорогу метут…
К. Чуковский Едут лорды с леди На велосипеде, А за ними гном На ведре вверх дном А за ним бароны На зубцах короны, Феи на драконе, Эльф на лепреконе, Змей на василиске, Пять грифонов в миске, Зомби и вервольфы В «Ауди» и «Вольво», Маги в колымаге, Ведьмы на метле. Глори аллилуйя, Фэнтези ура! Вдруг из подворотни Великан, Ушлый и чипастый Киберпанк. Быть беде! — Весь в Винде, И с дискетой кое-где. «Вы из книжек для детишек Я вас мигом проглочу! Проглочу, проглочу, не помилую!» Киберпанк, киберпанк, киберпанище, Ох, братва, пропадай, кто не пан еще! Феи задрожали, Грифоны заржали, Леди другу-лорду Оттоптали морду, Гном от василиска Оказался близко И, вильнув бедром, Скрылся под ведром. А метла Понесла — Травмам ведьм нет числа! Только маги в этой саге Рады бою на бумаге, Хоть и пятятся назад, Артефактами грозят: «Нас на пушку не бери, Нас на панк не кибери, Пусть и мы, блин, не иридий — Так и ты, блин, не берилл!» И назад еще дальше попятились. И сказал Владыка Зла: «Кто ответит за козла? Кто поборет силу вражью В розницу и потиражно, Я тому богатырю Пять рецензий подарю И рекламу в «Плейбое» пожалую!» «Не боимся мы его, Киберпанка твоего, Мы отвагой, Мы бумагой, Мы обложками его!» Но увидевши тираж (Ай-ай-ай!), У драконов скис кураж (Ай-ай-ай!). По прилавкам дрожа разбежалися: Киберпаньих чипов испугалися. Вот и стал киберпанк победителем, Всех торговых лотков повелителем. Вот он ходит, чипастый, похаживает, Ненасытный винчестер поглаживает: «Отдавайте мне ваших читателей, Я сегодня их за ужином скушаю!» Фэнтези плачет-рыдает, Фэнтези громко страдает: Нет, ну какой же фантаст Друга-читателя сдаст, Чтоб ненасытное чучело Бедную крошку замучило! Но однажды поутру Со страницы horror.ru, Правду-матку отмоча, Так и врезали сплеча: «Разве ж это киберпанк? (Ха-ха-ха!) Кто такое накропал? (Ха-ха-ха!) Киберпанк, киберпанк, киберпашечка, Жидкостулая порнуха-графомашечка!» Побледнели чародеи: «Ах вы, жутики-злодеи! Вам ведь слова не дают, Вас и так не издают!» Только вдруг из-за созвездья, С лазерным мечом возмездья, В звездолете, с кучей книг, Мчится космобоевик. Взял и грохнул киберпанка Залпом лазерного танка. Поделом самозванцу досталося, И статей про него не осталося!Часть вторая Охота на меня
Фантазия сама по себе, по-видимому, аморальна и жестока, как ребенок: она увлекается ужасным и смешным.
Карел ЧапекI. Баллада о великой суете (Эрзац-пролог-2)
Все создается второпях. Миры – не исключенье. Бегом, вприпрыжку, на ходу, В заботах и делах, Куда-то шел, спешил, летел, Пил чай, жевал печенье, Случайно сделал лишний жест, Тяп-ляп – и ты Аллах. Мир неуклюж, мир кособок, В углах и заусенцах, Его б рубанком! Наждаком! Доделать! Довести! — Но поздно. Отмеряя век, Уже забилось сердце, И май смеется, и февраль Поземкою свистит. Кто миру рожицу утрет Махровым полотенцем, Кто колыбельную споет, Дабы обрел покой? Ты занят множеством проблем, Тебе не до младенца, И мир твой по миру пойдет С протянутой рукой. Подкидыш, шушера, байстрюк, Готовый в снег и сырость Бродяжить, драться, воровать, Спать у чужой двери, — А время в бубен стук да стук, А мир, глядишь, и вырос И тоже наспех, в суете Кого-то сотворил. Мы миром мазаны одним, Миры, мы умираем, Смиряем, мирим, на Памир Карабкаемся, мор В муру мечтаем обратить И в спешке, за сараем, Из глины лепим новый мир, Как суете письмо: «Спешу. Зашился. Подбери. Авось не канет в Лету. Твой Я».II. Великий хлопчатобумажный путь
Я бреду сквозь пьяный почерк.
То, с чем бился этой ночью,
От корней до твердых почек
Покрывает гладь стола.
Макс СергеевИз кустов, сопя, выбрался дикий хрыч. Рыло зверя было в пуху: разоряя гнезда, обуян жаждой полакомиться яйцами скобаря, хрыч всегда рисковал напороться на кладку голенастых пигалиц, – клювы, когти и адова уйма гордыни. Заполошное хрюканье всколыхнуло ельник, осыпав дождь иголок; хрыч излил тоску-печаль, после чего вразвалочку двинулся прочь.
– Ой, – выдохнула Аю, прячась за поваленным стволом. – Здоровый какой…
Бут-Бутан молчал. Он до сих пор не отвык бояться встречи с чужим насилием, бояться не за себя, ибо Аю могла вспомнить. Пусть даже это было насилие жирной твари над пичугами. Крючок самострела поддастся и пальцу ребенка, а посему глупо пренебрегать мелочами. Когда позавчера девушка наконец пришла в сознание, Куриный Лев обнаружил, что у нее отшибло память. Не целиком – выборочно, и выбор был из наилучших. Взятие Дангопеи осталось для Носатой пустым звуком, пришлось все рассказывать по новой, и Бут-Бутан постарался, чтобы ни он сам, ни семья каменщика Джунгара не напомнили бедняжке о толпе насильников. Не было. Никогда. Ясно?! В силу крайней юности скверно разбираясь в девицах, он тем не менее предполагал, что по косвенным признакам, а также по синякам и царапинам, сошедшим не до конца, Аю может заподозрить неладное. Мучась необходимостью придумать объяснение на этот случай и бессильный сочинить правдоподобную байку, Куриный Лев втайне радовался, ибо Аю не заводила разговоров на опасную тему.
Ну и слава Лучшему-из-Людей!
Парень точно знал, кого следует благодарить за спасительную забывчивость Носатой. Там, в ложбине, после долгого ожидания увидев фигуру в мантии цвета морской волны, расшитой снежными лилиями, с говорящим обругаем на плече, Бут-Бутан сразу понял: свершилось. Вались, горы! Вскипай, моря! Земля, разверзнись! – они непременно дойдут до цели, ибо дух Лучшего-из-Людей указует им путь.
Оставался пустяк. Вернее, два пустяка.
То есть три.
Спасти Мозгача Кра-Кра из лап Алого Хонгра, отыскать недостающие части Лучшего-из-Людей и вернуться в Ла-Ланг, где настанет День Познания.
«Селезенкой чую, домой надо. Отчизна зовет. Ох, Кривая Тетушка, подай нежданную удачу! Вывези, милостивица!..» Оборвав мольбу на полуслове, Бут-Бутан навострил уши. От Великого Хлопчатобумажного Пути послышался топот – странный, отнюдь не конский, а скорее похожий на удары кулаками по доскам-боевкам, плотно обмотанным вервием из конопли. Он знал этот звук, его трижды гнали взашей из тайных школ «Обезьяны-на-Богомольце» и дважды – из семей, веками практикующих стиль «Прекрасного Далёка», славного секретами «гибкой Цыц»; но услышать гулкий, дробный грохот здесь, в дне пути от разграбленной Дангопеи?!
План рушился. Еще в городе, узнав, что Алого Хонгра, армейского мага тугриков, без промедления вызывают в окрестности Ла-Ланга, дабы противодействовать во время осады тамошнему чародею Нафири-су, владельцу Треклятой Башни, – Бут-Бутан сразу понял, что надо делать. Лететь в горшке-самолете или на пернатом трезубце маг не станет. Не захочет зря растрачивать силы перед опасной схваткой с Нафири-су. Значит, поедет в карете. А по выбоинам, буеракам и колдобинам Великого Хлопчатобумажного Пути особо не разгонишься. Если выбраться на сутки раньше и двигаться в нужном направлении, во время привалов тайком наблюдая за лагерем Алого Хонгра, то – ах, Кривая Тетушка! ох! ух!!! – может подвернуться случай для спасения Мозгача. Волшебникам тоже надо спать, есть, облегчаться…
Но карета, запряженная лошадьми, грохочет совсем иначе.
Неужели полетел в горшке?!
– Аю! Скорее! – махнув Носатой, чтоб поторапливалась, Куриный Лев ринулся к дороге. Позади раздавался треск сучьев и шорох листвы: это девушка неслышно кралась за спутником. Едва не скатившись в овраг, на дне которого кишело голодное жужло, больно ударившись плечом о ствол висельной осины, всполошив рой медучих шмелей и чудом избежав их жвал, сочащихся ядом, Бут-Бутан вылетел на склон дюны, откуда был хорошо виден ближайший поворот, и рухнул под защиту кудрень-лопуха. Вскоре на парня упала запыхавшаяся Аю, волнуясь грудью и толкаясь локтями, отчего Куриный Лев испытал удивительную смесь чувств, но разбираться в ощущениях было поздно – грохот «кулаков» надвинулся, оглушая, и на Пути возник армейский маг со свитой.
Алый Хонгр ехал в паланкине.
О дорогу же стучали не кулаки, а пятки носильщиков.
Впервые в жизни Бут-Бутан видел настоящих верблюдей – вьючных скороходов, выращиваемых особо искусными магами из детей-подкидышей. Верблюди оказались высокими, но не очень, лишь на голову выше самого Куриного Льва, зато ноги скороходов были чрезвычайно длинные, мосластые, с ороговелыми подошвами и коленками, похожими на кукиши великанов. На спине каждого мотался лохматый горб: верблюдь умело подсовывал его под рукояти носилок, смягчая тряску. Лица же оказались недоразвиты и слеплены наспех – клубень носа, влажные смородины глаз, а губастый рот трясется при каждом шаге.
– Ой, – снова сказала Аю.
Она увидела Мозгача: волшебник-заика сидел на плечах одного из двух заводных носильщиков, удобно примостив тощую задницу на горбу верблюдя. От обруча на шее Кра-Кра к паланкину тянулась медная цепочка.
– Ой… бедненький!..
Куриный Лев взглядом велел девушке умолкнуть. Обреченность поселилась в нем, грызя печень. Верблюдям были безразличны ухабы Великого Пути; оставалось лишь молить удачу о привале, когда беглецы предпримут попытку освободить Мозгача – наобум, любым способом, ибо завтра уже не получится догнать Алого Хонгра. Разве что в самом Ла-Ланге…
О, Лучший-из-Людей, надоумь и помоги!
За паланкином, взмокшая и багровая, тащилась охрана: дюжина солдат во главе со «сри джантом», иначе дюженником. Сбиваясь на жуткую рысь, переходя на шаг, а то и повинуясь ленивому взмаху руки Хонгра, ускоряясь до галопа, кашляя, хрипя, втайне проклиная свою участь. Спорить в беге с верблюдями казалось охране верхом безрассудства, но приказы не обсуждаются, а армейскому магу не пристало путешествовать без эскорта. В мутных глазах солдат тлела надежда, что маг рано или поздно плюнет на «колченогих» и отправится вперед, велев догонять.
Догонять же можно по-разному.
Видимо, Кривая Тетушка была сегодня благосклонна, желая, наподобие портовой девки, ублажить сразу всех, ибо маг внял бессловесным мольбам.
– Привал! – напевно донеслось из паланкина.
Солдаты повалились в пыль, но бравый дюженник доказал, что недаром заработал татуировку на левой щеке. Рык, пинки, удары древком боевой кувалды, – и тугрики взялись обустраивать временный лагерь. По счастью, на противоположной стороне Пути, иначе Куриному Льву с Аю пришлось бы менять укрытие. Сам же маг, покинув носилки, жестом отправил верблюдей пастись, после чего присел на обочине и погрузился в транс. Мухи нимбом кружили над тюрбаном Алого Хонгра, вечернее солнце пятнало халат, расшитый тусклой канителью, и Мозгач Кра-Кра, пленник медной цепочки, с завистью разглядывал неподвижного чародея. Пожалуй, стань заика учеником вместо шута, он сделался бы наипреданнейшим рабом Хонгра, но мечтать умеют все, а судьба лишь смеется в ответ.
Бут-Бутан понимал друга.
Его самого отказались брать в ученики мастер шипастого батога, мастер двуручных ножей и мастер боя на пальцах.
Зато в шуты, пожалуй, взяли бы.
* * *
– Ну ты, губошлеп! Подвинься, скотина!
Верблюдь, которому предназначалась тирада дюженника, даже не шелохнулся. Меланхолично глодая кору с высоченного бананаса, бывший человек топтался на месте, приседал, стучал пяткой о коленку, словно не мог понять, что дорога на некоторое время закончилась и начался отдых. Его собратья разбрелись в зарослях шалашовки, пренебрегая колючками и лакомясь спелыми бутонами, а этот скороход – самый глупый или самый ленивый – торчал у бананаса, мешая развести костер.
– Пошел вон! Кому сказано!
Второй верблюдь медленно приблизился к дюженнику, налитому дурной кровью, – в солдате, обычно равнодушном к превратностям бытия, вдруг сказалась усталость, вылившись в раздражение тупостью вьючного скота, превосходящей даже тупость подчиненных. Слегка высунувшись из укрытия, Бут-Бутан неожиданно сообразил, что если между остальными скороходами при внимательном рассмотрении удается сыскать мелкие различия, то эти двое верблюдей похожи друг на друга в точности.
Близнецы? Впрочем, какая разница…
– Ну, тварь!
Шагнув вперед, сри джант умело пнул верблюдя в крестец. Тот не шелохнулся, обернувшись лишь спустя минуту – долгую, вязкую, как смола жуй-древа. Дюженник удобнее перехватил кувалду, намереваясь подкрепить пинок более веским аргументом, но опоздал. Вывороченные губы собрались дудкой, колыхнулся горб, и смачный плевок залепил тугрику физиономию. Густо-коричневая слюна стекала по щекам, по татуировке, подтверждавшей воинское звание, набивалась в рот, распяленный для крика; даже издалека Куриному Льву было ясно, насколько горька эта слюна, горька и омерзительна. Рядом, уткнувшись лицом в ладони, от хохота и гадливости давилась Аю. Сри джант медленно вытер плевок, катая желваки на окаменевших скулах. Маг по-прежнему пребывал в трансе, но, даже бодрствуй Алый Хонгр, гордый тугрик не снес бы такого оскорбления хоть от скотины, хоть от самого Старца-Облака.
Кувалда ударила быстро и точно.
Сри джант бил без замаха, тычком ребристого навершия. Верблюдь не упал лишь потому, что оперся спиной о могучий бананас. На грубо лепленном лице возникла гримаса удивления, животная и человеческая одновременно. Похожие гримасы любил рисовать Нала Санг-гун, бродячий живописец, мастак изображать Ад Смешенья. Тяжкие ручищи поднялись перед остроконечной, будто у птицы, грудью, – но не для сопротивления. Скороход задвигал кистями и пальцами, разминая воздух. Откликнулся второй верблюдь: тоже зашевелив руками и мыча, он затопал к дюженнику, опоздав всего на два шага. Следующий удар кувалды был наотмашь. В колено. Мерзко хрустнуло, раненый верблюдь перенес вес на здоровую ногу; подумав и обиженно скривившись, он упал на задницу, трогая себя за бок. Видимо, первый тычок сломал ему ребро.
Тугрик замахнулся в последний раз.
Корчась под резными листьями лопуха, Бут-Бутан из последних сил удерживал Аю: «Рука Щита» готова была броситься, закрыть собой, спасти несчастного полузверя. В придачу приходилось зажимать девице рот, и, взмокший от борьбы с благим, но самоубийственным порывом Носатой, Куриный Лев пропустил самое интересное. Мозгач Кра-Кра, уже с полминуты бормотавший мудреное заклятье, больше похожее на кашель, – видимо, пытался унять гнев тугрика, воюя с проклятым косноязычием, – вдруг всхлипнул, уверившись в тщете колдовских слов, привстал и с места прыгнул на сри джанта. Пленник медной цепочки, вернее, пленник Хонгра, он забыл обо всем, ощутив дуновение свободы, резкой, как шипучая вода в источнике Семи Пядей; паланкин лежал неподалеку от места трагедии, длины цепочки почти хватило Мозгачу, чтобы упасть на плечи тугрика, но тут змея из меди натянулась, обруч перехватил горло, и Мозгач, хрипло рыча, опрокинулся на спину.
Ища опору, пальцы заики вцепились в кувалду.
Правая рука – в кольцо под массивной «башней».
Левая – в кривой «клюв».
Тугрик, страшный в слепой ярости, тоже не удержался на ногах. Сила взмаха, помноженная на внезапную тяжесть тела Кра-Кра, чуть не сломала сри джанту хребет; впрочем, умелый воин, он извернулся, вовремя выпустив предательское оружие. Упав навзничь, дюженник ловко откатился в сторону, избегая возможного нападения. Выхватил кинжал, под хохот солдат полоснул взглядом безучастных верблюдей, мага в трансе… Наконец глаза тугрика остановились на Мозгаче: вобрали, отразили, сделались мутным стеклом, отказываясь признавать очевидное. Раб, живая забава, тот сидел без движения, как если бы, подобно Алому Хонгру, погрузился в глубокую медитацию, и держал в руках боевую кувалду. Бережно, словно засыпающего ребенка, ласково, будто возлюбленную; неуверенно, ожидая, что оружие превратится в кобру, ужалив насмерть, – Мозгач не шевелил губами, но солдаты позже клялись, что слышали смутный шепот: разговор неуклюжего заики-шута с мертвой вещью-убийцей.
– Х-ха! – Когда смеются над тобой, надо смеяться вместе со всеми. Иначе рискуешь поменяться местами с мажьим потешником, заняв место шута. Сри джант хорошо знал это. Хохот рвал ему глотку, глубже заталкивая кляп бешенства, хохот обжигал, драл когтями, да только выбора не было. – Х-х-ххха! Вьючный урод и дурак-кривляка против Дюжего Ррохана! Бедняга, если ты решил сдохнуть, то уж лучше отдался бы диким пчелам…
Пожалуй, Кра-Кра мог бы разбить кувалдой цепь, – если, конечно, Алый Хонгр не озаботился заранее наложить на нее чары. Освобожденный, мог бы попытаться убежать. Или хотя бы встать навстречу смерти: тугрик, играя кинжалом, уже шел к нему, и было ясно, что после Мозгача настанет черед раненого верблюдя. Нет, волшебник-заика не двинулся с места. Разглядывал кувалду, хмурил брови, пытаясь вспомнить, не зная, что именно надо вспоминать, и понимая: вспоминать нечего. Цепочка провисла, Мозгач машинально раскачивался фанькой-встанькой, заставляя медные звенья тихо шелестеть; солнце, падая за кроны мандаринов, отражалось в кинжале, бросая в лицо обреченному пригоршни зайчиков.
Тугрик лениво взял Кра-Кра за волосы. Откинул голову назад, примеряясь к горлу. Попадешь по обручу – лезвие выщербится. Или для острастки сперва позабавиться? Выбор смерти, особенно чужой смерти, – дело важное, тут спешка ни к чему…
– Кого еще ты хочешь убить, Ррохан?
Никто не заметил выхода Алого Хонгра из транса. Сидя в прежней позе, маг холодно и ясно смотрел на дюженника. Тюрбан сполз на затылок, обнажая гигантский, немыслимый лоб чародея; черты лица заострились, как у мертвеца или упырчатого гуля-ночника.
– Меня? Ты подумай, Ррохан, ты хорошенько подумай. Подняв руку на моего шута и моего носильщика, тебе ведь непременно придется убивать меня. Здесь и сейчас. Иначе я сочту себя нерасплатившимся, а Алый Хонгр еще ни разу не оставался в должниках…
Сри джант закусил губу– больно, до крови.
– Я вижу, ты думаешь. Это трудно, Ррохан. Для тебе подобных – очень трудно. Сосредоточься, напрягись. Мне кажется, умение думать в будущем тебе пригодится…
Маг говорил тихо, с шипящим акцентом дайвов, племени, из которого вышли многие знаменитые колдуны, – но еще больше среди дайвов было оборотней-перерожденцев, продавших душу Визгливой Гадюке. Каждое слово шуршало, присвистывало, завораживая солдат, замораживая сердце Ррохана, превращая его в горсть воды со дна Тишайшего Омута, логова демонов. Кинжал блестел у горла безразличного Мозгача, поглощенного тайным разговором с кувалдой, кинжал сгорал от нетерпения, трепеща лезвием, и наконец дождался.
Ударил.
Скрежетнул по обручу, вымещая бессильную злобу.
Ножны проглотили кинжал, как гордость глотает обиду. Дюженник вырвал кувалду у Мозгача, – заика даже не заметил, глядя себе в пустые руки и видя там нечто особое, – рявкнул на притихших солдат, после чего двинулся прочь, в заросли, обогнув верблюдей-близнецов. Возглас мага остановил Ррохана:
– Привал окончен. Собирайтесь в дорогу.
– А ночевать? – осмелился спросить самый молодой из тугриков.
– Ночевать будете завтра.
Пока солдаты, боясь роптать, наспех сворачивали лагерь, Алый Хонгр подошел к пленнику. Долго, сверху вниз, разглядывал Мозгача. На лице мага проступало выражение, очень похожее на то, с каким сам Мозгач минутой раньше разглядывал боевую кувалду. Только разговора Хонгр не вел: ни тайного, ни явного. Молча смотрел.
– Этих носильщиков бросить здесь, – приказал он, насмотревшись всласть.
– Обоих? – спросил дюженник, усилием воли возвращаясь к обязанностям командира эскорта. – Второй-то целехонек…
– Обоих. Один без другого не пойдет. Я их знаю.
– Добить?
– Незачем. Выживут – догонят.
Хонгр протянул жилистую руку, слишком длинную для обычного человека. Ухватил посередине цепочку, привязывавшую шута к паланкину; сжал кулак, твердый и ребристый, как навершие кувалды Ррохана. Губы, сухие, потрескавшиеся, шевельнулись. Три капли расплавленной меди упали из кулака на землю. Когда пальцы разжались, у Мозгача Кра-Кра на память о рабстве остался лишь обруч-ошейник с обрывком цепи. Маг разжал кулак и облизал ярко-красную ладонь языком.
– Добить?! – снова высунулся дюженник, не веря внезапному счастью.
– Ты не годишься в шуты, – Хонгр обращался к заике, прекрасно зная, что Кра-Кра его не слышит, а если слышит, то вряд ли понимает. Тем не менее, маг продолжал говорить, четко и внятно, чутьем найдя единственные слова, способные вернуть Мозгача к реальности: – Но и в волшебники тоже не годишься.
Мозгач вскинул косматую голову:
– Я в-в-в!.. в-в-о-о!..
– Ты дурак.
– Я в-в-волшебник!
– Повторяю: ты дурак. Но не шут. Считай, тебе повезло. Сегодня. Но если когда-нибудь ты вновь попадешься мне как волшебник, – я убью тебя. Запомни мои слова. Это говорю я, Алый Хонгр, глава братства Насильственного Милосердия. В дорогу, лодыри!
Вскоре на обочине Великого Хлопчатобумажного Пути остались лишь двое верблюдей да безгласный Мозгач Кра-Кра, глупо моргавший вслед паланкину армейского мага.
Ах, да.
Еще парочка зрителей под кудрень-лопухом, сгоравших от нетерпения.
III. Королева в предчувствии гильотины
Сюжет – это нечто, выдуманное профессорами английского языка, чтобы объяснить то, что писатели все равно делают.
Жена Роберта ХайнлайнаДверь.
Высокая, с бронзовой ручкой. Ставшая знакомой за последние годы. Нет, раньше королева публиковалась не здесь, так что никаких воспоминаний… Какие, к черту, воспоминания? Это все конвент. Растревожил, разбередил. Старая рана разнылась, словно на погоду. Ныряешь в разверстый зев подземки, выбираешься наружу, оскальзываешься на февральском гололеде, едва не попадая под машину, поднимаешься по ступенькам издательства… А перед глазами – знакомые лица; в ушах звучат голоса. Атмосфера. Аура. Горьковатый привкус прошлого; дым осенних листьев. Отзвук, фантом былого мира, с которым удалось порвать, заплатив вынужденную цену. Вернее – отодрать присохший бинт, вместе с куском кровоточащей плоти. Уже отпустило, забылось, ушло на дно, а вот поди ж ты!.. Не надо было приезжать. Или надо? А, теперь все равно. В прошлый раз мучилась куда сильнее. И ничего. Прошло. Недели за две. Сейчас тоже пройдет – быстрее. Может, неделя. Или меньше.
Королева была в этом уверена.
Ностальгия, фантомная боль, доставляла странное удовольствие. Вассалам не дождаться возвращения владычицы. Никогда. Хорошее слово – никогда. От него веет непоколебимой определенностью. Окончательностью. «Обжалованию не подлежит».
Ни-ко-гда.
А вот слово, которого не найти в самых толковых словарях:
«Никогда-то».
Славное название придумали в «Аксель-Принте» этой редакции: «Отдел имиджевой литературы». Честно и по существу. Не какой-нибудь там «элитарной», «интеллектуальной», «некоммерческой», «нон-фикшн», – а именно «имиджевой». Здесь с некоторых пор и выходили новые книги Тамары Польских. Тиражами не более 5000 экземпляров. Так было записано в контракте. И королева строго следила за его соблюдением. Хотя под ее имя – под «брэнд», шутили маркетологи, – можно было продать как минимум вдвое больше. Даже в малораскрученной серии. Но она не позволяла. Допечатки? Раз в два года, не чаще. И тоже ограниченным тиражом.
Тамара Юрьевна очень надеялась: на том, что она пишет сейчас, заново выйти в тираж попросту невозможно. В принципе. По крайней мере прецеденты были неизвестны. Но и она – особый случай. Королева не хотела воскресать, исключая любой риск. Встряхнись, Томочка. Освободи голову от чепухи. Сугубо деловой визит. Просмотреть верстку, согласовать обложку, расписаться в расходной ведомости за выплаченный осенью гонорар. Все. Ты здесь именно за этим.
Все, кому сказано!
Дверь «Особого отдела» в конце коридора, против обыкновения, была приоткрыта. Изнутри доносился сочный бас Альфреда. «Иерихонский трубач» (дружеское прозвище Гобоя вспомнилось легко и приятно, как первая любовь) разговаривал по телефону. «Кажется, нервничает», – отметила Польских, помимо воли вслушиваясь в тревожные раскаты грома.
– …то есть как это: не появлялся?! Мы же договорились… Какие дела?! Да не кричу я, не кричу! Хорошо, у меня к вам огромная просьба: постарайтесь его как можно скорее найти и передать…
Дверь открывается без скрипа, но спина Альфреда чувствительнее кошачьих усов. Не оборачиваясь, с досадой отмахивается, будто от надоедливой мухи: позже, мол! Занят. Это потому, что Гобой не видит, кто вошел. Ее Альфред уважает едва ли не до благоговения. Она для него – загадка. Тайна за семью печатями, которую зам по особым давно тщится разгадать. Как Царице Тамаре удалось «соскочить с иглы», отказаться от хороших денег, бросить все?..
Хватит.
Хватит об этом. Зачем ты зашла сюда? Женское любопытство? В твои-то годы? Предчувствие? Не шутишь? Случилось нечто серьезное. Серьезное всерьез, уж простите за тавтологию. Королева должна знать. Зачем – знать? Кому – должна?! Надо повернуться и уйти. Тихо прикрыв за собой дверь. Заняться своими делами.
Но она стоит и слушает.
– …да! Да, говорю! Пусть немедленно перезвонит в издательство! Да, срочно. Очень вас прошу. Да, телефон у него есть и е-мэйл есть, но на всякий случай лучше еще раз запишите. Умоляю, поторопитесь! И пришлите текст по сети. Ну и что? Мы с Владом договорились, роман выйдет в двух томах. Первый он уже закончил… Шлите все, что есть. Файл-аттачем. Мы сами разберемся. Не беспокойтесь, все согласовано. Жду звонка. А текст высылайте в любом случае. Прямо сейчас. До свидания.
Сотовый телефон (Польских никак не соберется купить эту временами весьма полезную игрушку) исчезает в рукаве Альфреда. Странно, жест не выглядит дешевым фокусом. Как и многое другое. Все-таки надо отдать должное: этот молодой человек умеет быть стильным.
– А, это вы, Тамара Юрьевна! Здравствуйте. Извините, у нас тут мелкие проблемы…
– Мелкие? – В голосе королевы явственно звучит уверенность в обратном.
– Вы правы, – вздыхает Альфред, честно поднимая лапки. – Большие. И могут стать еще больше, если не примем срочных мер. Вот, принимаю. Вовнутрь и наружно.
– Поделитесь? Ну-ну, милый мой, не стесняйтесь! Выкладывайте.
Она присаживается в кресло. Глубокое, удобное. В «Аксель-Принте» умеют ценить комфорт. Ей это всегда нравилось. А у Альфреда давным-давно нет секретов от Польских. Рыцарь «в отставке» все равно остается рыцарем. И даже больше чем просто рыцарем. Кому как не ей…
Альфред понимает. Кивает, садится напротив. Выкладывает все. Или почти все. Но Тамаре Юрьевне вполне достаточно. Имя проблемы – Влад Снегирь. Ее «крестник». Обещал по возвращении связаться, прислать текст, уехал домой – и пропал. Правда, прошло всего три часа со времени прибытия поезда. Мог заглянуть к друзьям, застрять… Нет, вряд ли. Влад всегда был человеком слова. Она помнит. Хотя что она знает о Снегире? И, в конце концов, какое ей до этого дело?
Тем не менее, уже покинув «Особый отдел», визируя макет, расписываясь в ведомости, критически изучая выкатку обложки, Тамара Юрьевна прокручивала в голове один и тот же разговор. Первый день конвента. Глубокий вечер, почти ночь. Прокуренный насквозь бар. Володю несет по волнам пьяной памяти, он изливает душу, взамен заливая в пустоту текилу, пиво, водку, коньяк… Она пыталась остановить набравшегося Снегиря, успокоить, утешить – куда там! Какая-то заноза сидела в пьяном бреде, в потоке сознания, густо пропитанном алкоголем, – заноза, шило, тайное острие. Попыталась забыть, да? Вычеркнуть, пропустить мимо ушей? Словно и не было занозы, двух-трех случайных слов. Что ты не пожелала услышать, королева? Что-то важное. Настолько важное и неприятное, всколыхнувшее гладь Мертвого моря…
Она вспомнила, лишь увидев свое отражение в зеркале.
В дамском туалете.
Собственное лицо напомнило Тамаре Юрьевне осенний лист. Нет, лист еще не скукожился, не пожух окончательно. Золото увядания и прожилки, четко видные на фоне истончившейся плоти, придают листу особую, эфемерную прелесть заката. Но упругость жизни уже покидает ткани. Скоро лист станет ломким, пойдет бурыми пятнами, и ветер швырнет его в лужу, откуда нет возврата.
Волшебница-пудра. Фея-помада. Спасительницы-тени и черная подруга-тушь. А седина почти незаметна в волосах, светлых от природы. Шепчетесь за спиной, да? Ах, шарман! В сорок пять баба ягодка опять! Да что вы, полтинник, не меньше! Полтинник? Вы слишком щедры, милорд… Держимся на характере. На кураже. Фигура опять же… фигуристая. В глазах приятная чертовщинка. Ты нравишься себе, Томочка? Может, хватит врать?
И тут она вспомнила.
Заставила вспомнить. Вытряхнула содержимое старого шкафа: рухлядь! на пол! Поглядим при свете дня: какие скелеты обнаружатся?!
– Нежный, королева! Нежный Червь… Госпожа моя, вы представляете, до чего иногда можно додуматься – Нежный Червь…
Нежный Червь.
Раньше его величали по-другому. «Нижний Червь». А он скептически кривил губы: «Словоблуды! Никто по-настоящему назвать не может. Книжный я Червь! Книжный!»
Опасно кольнуло в груди, слева. Нет, ничего. Отпустило. Ты еще крепкая лошадка, ты выдержишь. Что, не хочешь? Не хочу. Это не твое дело? Не мое. Снова пройти через ломку? Окунуться в хаотики? Ты уже не в том возрасте, королева…
В зеркале, за Тамарой Юрьевной, отражалась гильотина.
Ах, нет. Просто второе зеркало.
– Я ничего не обещаю, Альфред. Понимаете: ничего. Просто хочу помочь, если сумею. Я выезжаю к Снегирю сегодня вечером. Оплатите мне билеты, гостиницу и суточные. К сожалению, поиздержалась…
– Тамара Юрьевна! Царица! Не извольте беспокоиться, оплатим сполна. Но, сами понимаете, мы тоже не можем сидеть сложа руки. Жена Влада вышлет текст… А, вот. Уже выслала. Файл прямо сейчас запустят в работу. У вас в запасе три-четыре дня до ухода книги в производство. Когда припекает, мы бываем очень оперативными.
– Конечно, я понимаю. Постараюсь успеть.
– Держите нас в курсе!
– Хорошо. Да, мне еще понадобится распечатка Владова романа. И последнее: приобретите для меня сотовый телефон. Можно недорогой. Или это слишком нагло?
– Обижаете, королева! Сейчас сделают. А пока вот вам адрес и телефон Владимира Сергеевича. Его жену зовут…
IV. Басня «Эстет и дуб»
Осел был самых честных правил…
И. Крылов «Осел и мужик» Один эстет Начитан и прожорлив, Среди издательств выбрав «Ad majorem», А не «ЭКСМО» отнюдь Иль «АСТ», Решил, Что от халтуры он устал, И рылом подрывать у дуба корни стал. Мораль проста: хоть интеллект не скрыть Порою, — Но рыло хочет рыть. И роет.V. Нежный червь мечтает о снегире, или Кляксы, увы, сохнут
Иногда мне кажется,
Что в мире существуют
Только книги.
(Не смейтесь.
Или смейтесь. Неважно.)
Наша жизнь —
Это отсвет их страниц.
Наши судьбы —
Это эхо их слов.
Альвдис Н. Н. Рутиэн«Эти уроды никогда не научатся правильно произносить мое имя. Кем только не был! Нижний Червь. Нужный. Снежный. Смежный. Теперь вот – Нежный. Тошнит от словотворчества…»
Переступив порог хижины, Червь сладко потянулся. Ни одна косточка не хрустнула в его гибком теле, но память об утренних потягиваниях, когда суставы отзываются вкусным, здоровым треском, была приятна сама по себе. Три десятка усатых лучников, присланных раджой Синг-Сингом, вскочили при появлении временного господина. Нет, Книжный Червь не обольщался: с тем же рвением, повели раджа, они утащат его в подвалы Обители Чистого Сердца или сбросят с утеса в залив Харизмат. Вернее, попытаются утащить и попробуют сбросить. Без особого результата – но лучникам это неизвестно. Значит, пусть пребывают в блаженном неведении как можно дольше. Ибо во многом знании много печали.
– К поимке Отщепенцев и препровождению оных на каторжные работы без суда и следствия готовы! – отбарабанил заученное тридесятник, о котором сплетничали, что был он прямо из колыбели украден Духом Белой Гориллы с целью усыновления, но к совершеннолетию изгнан приемным отцом за буйный нрав. Правда или нет, только водились за богатырем-тридесятником приступы беспричинного бешенства, когда младшие по званию уносили ноги, а старшие разводили руками. Мяса же он не употреблял, обходясь кореньями, плодами и личинками тамового шерстепряда, за что обрел личное покровительство раджи, убежденного сыроеда и травокушца, страдающего похожими припадками.
– Велите приступать?
Червь кивнул.
Его с самого начала интересовало, почему у лучников нет луков. Копья есть: легкие, с наконечниками в виде ныряльщицы Бюль-Бюль, блаженной великомученицы. Кривые ножи есть. Щиты-плетенки за спиной. А луков нет. Все-таки растяпа этот Снегирь… Зная, что у него плохие зубы, Книжный Червь предпочитал улыбаться с закрытым ртом. Скорее намек, чем веселье. Он давно забыл, что значит веселье. Издевку помнил. Иронию – горькую, злую, – тоже. Насмешку. Сарказм. А расхохотаться просто так, от полноты чувств… Это все голод. Голод. Верный спутник, наматывающий кишки на локоть. Клыкастый надсмотрщик. Пережевывая постылую улыбку, медленно разлагающуюся от неискренности, Червь прислушался к окружающей кляксе. Распад отработанных шлаков еще длился, тело каждой клеткой, каждой порой, разинутой наподобие жадного рта, еще всасывало черную энергию формирования, перерабатывая и распределяя, но чутье подсказывало: клякса начинает сохнуть. Видимо, проклятый Снегирь завершает марать бумагу. Завершил? Отдал текст в производство?! Делается макет?! – пыхтят тупицы-редакторы, сопят лентяи-верстальщики, чешет репу дальтоник-художник; направо и налево, с легкостью только что коронованного императора, раздаются громкие титулы: авантитул, контртитул, шмуцтитул…
Хватит.
Злоба отнимала и без того невеликие силы.
– Значит, так. – Книжный Червь прислушался к складкам кляксы, мгновенно оценивая трепет вероятностной ткани. – Трех лучников в селение портовых домкратов. Пусть ждут напротив барака Плечистой Ы. Еще троих – в харчму Хун-Хуза. И чтоб не наливались фьюшкой! Десяток – в общину яйцекрасильщиков, к Дому Веротерпимости. Остальные – со мной. Бдить в три глаза! Дам отмашку – бежать быстрее лани…
Ла-Ланг готовился к нашествию. Передовые отряды тугриков не сегодня-завтра должны были объявиться в предместьях, и всяк спасался в меру разумения, а также возможностей. Богатеи переправляли семьи с имуществом на Сизые острова, доводя лодочников до кровавых мозолей; люди среднего достатка толпами вступали в армию, надеясь в крайнем случае сдаться с почестями; беднота резала чужих яков, околачивала бананасы и наливалась краденой фьюшкой до отождествления себя с героями древности. Раджа Синг-Синг спешно укреплял одноименную крепость, расположенную на местами неприступной Тарпейской скале; радже во множестве требовались камнеделы, глиномесы, рубщики гранита и чесальщики пяток (в последних нуждался лично Синг-Синг), а местных мастеров катастрофически не хватало. И тогда маг Нафири-су бесплатно посоветовал владыке привлечь на временные работы Отщепенцев. Талант Нежного Червя оказался востребован сверх меры: нелюди, отловленные в указанных им местах, трудились рьяно, подбадриваемые плетьми, количество же Отщепенцев росло не по дням, а по часам. Три торбы казенных башликов были выданы Нежному Червю вкупе со званием Спасителя Отечества II ранга, отряд лучников заменил пятерку хватов, не справлявшихся с обилием заказов, и дело пошло на лад. Крепость хорошела на глазах, готовясь усладить взор неприятеля: кокетливые бойницы, окруженные рикошет-виньетками, подножие сплошь в тесаных рюшах и надолбах, оборки парапетов, откуда стреляли глазами бдительные часовые, и надпись над воротами, выполненная ярко-сиреневым, светящимся ночью пометом птицы Фа: «Смерть иноземным захватчикам!»
Книжный Червь трудился в поте лица, но интересовало его отнюдь не приближение тугриков или милость раджи. Он даже по-прежнему жил в хижине, отказавшись занять подобающий новому званию дом. Отнюдь не из аскетизма, как полагали восторженные глупцы. В дырявой, насквозь прошитой сквозняками хижине было легче питаться, отлавливая распад шлаков. Если бы он мог, не вызывая подозрений, вовсе жить под открытым небом, он бы поступил именно так.
А клякса сохла.
А охота на Снегиря близилась к завершению.
Кто раньше?!
– Доброе утро, Антон! Хорошо ли спалось?
Юноша, сидевший на корточках за спинами лучников, кивнул, преданно глядя на Червя глазами бродячей собаки, обласканной прохожим. Заложник, Антон не сознавал шаткости собственного положения, веря, что попал в сказку. Когда Книжный Червь ощутил трепет вероятностной ткани и понял, что этот Отщепенец пришел в Ла-Ланг надолго, если не навсегда, – Антон Янович Френкель, студент-третьекурсник института физкультуры, пребывал в коме после удара головой о бортик катка «Авангард», – руки Червя затряслись в предчувствии шанса. Через заложника появлялась возможность дотянуться до Снегиря там, в майорате рыцаря Ордена, куда Червю ход был заказан. Слишком плотный локус, слишком плотский, чтобы найти пищу, как слишком разрежены и зыбки для этого хаотики. Лишь кляксы рыцарей в период между зачатием и окончательным разрывом с автором способны удовлетворить потребности вечно голодных Книжных Червей. Спаситель Отечества II ранга знал это лучше других по причине, которую хотел бы забыть, не являйся она ему в еженощных кошмарах. Рыща в поисках пропитания, Червь знал еще один, беспроигрышный способ обеспечить себя едой надолго, почти навсегда, – знание служило дополнительным источником страшных снов, – но для этого ему требовалась личная встреча с рыцарем Ордена.
Обаяние – великое оружие.
Червь владел им в совершенстве.
Для охоты на рыцаря существовал общеизвестный метод. Чуя начало процесса по первым явлениям Отщепенцев, но будучи бессилен отследить место возникновения рыцаря (тут чутье давало сбой!), Книжный Червь обзаводился картой местности и принимался обкладывать рыцаря флажками. Вот здесь возник первый Отщепенец, здесь второй, здесь третий-пятый-десятый… Вскоре формировался многоугольник, внутри которого где-то крылся рыцарь Ордена. Если бы можно было предугадать сроки его явления, поимка жертвы не заставила бы себя ждать. Но, увы, рыцари были инстинктивно хитры: возникая непредвиденно и непредсказуемо, практически любой из них сразу норовил обустроить укромный тайник, откуда если и выбирался в кляксу, то под чужой личиной, обезопасившись премиями-артефактами и ничем не выдавая своей истинной сути. В итоге на поиски уходило все отведенное время, клякса сохла, и Червь был вынужден убираться прочь, несолоно хлебавши.
Да и отловив рыцаря, далеко не всегда удавалось убедить его последовать Червивому совету.
Но изредка – удавалось.
Червь знал это, имея третью причину кричать во сне.
* * *
До Часа Клопа, когда зной уступает ветрам с залива, они патрулировали Ла-Ланг. Лучники скучали, приходя в откровенно детский восторг, когда Червь, насторожившись и втянув воздух ноздрями, отправлял новую группу на поимку Отщепенцев. Места явления он указывал предельно точно, зная способность любого солдата при желании заблудиться в трех пальмах. Книжному Червю временами было жаль своих прежних хватов: простые как правда и такие же нелицеприятные, хваты имели чутье.
– Двоих к дому Кокуцу Дачи-йой! Ждать внутри, на втором этаже, у горшка с карликовой секвойей!
– Ворваться в жилище сиятельного Кокуцу? Министра Правого Колена? – замялся тридесятник, опасаясь скандала.
– Выполнять! Именем раджи Синг-Синга!
Заложник Антон весело подмигнул лучникам, отправленным ради жалкого Отщепенца в пасть раздражительного министра, и те мигом приободрились, развернули плечи парусом и даже взялись на бегу горланить скабрезное: «Аскет в тоске спешит к доске, лежащей на песке…» У парня талант, подумал Червь. Не знаю, какой он там фигурист, но коньки – не главное призвание Антона. Будь я раджой, я бы посылал его сопровождать посольства: парень замечательно сглаживает любые конфликты. Лучники в него влюблены: советы, как помириться с ревнивой женой или уломать ростовщика Ж-Жаха скостить часть долга, сыплются из Антона как из рога изобилия. Главное, советы действенны. Складывалось впечатление, что молодой человек щедро раздает собеседникам щиты – не те плетенки, которыми лучники без особого успеха прикрывают спины, а волшебные, способные отразить острое слово, кривой взгляд, увесистое оскорбление. Червь не раз видел, как заложник вмешивается в скандалы и ссоры, которые регулярно вспыхивали в готовящемся к нашествию городе. Фигурист буквально втискивался в поножовщину, палочные бои, встревал, что называется, «между грифом и падалью», – усмешка, наивный возглас, ямочки на щеках, вопрос, ответ, случайная шутка, и скандал гас, ссора рассасывалась, ножи прятались в ножны…
Будь я раджой, думал Червь, я бы запустил его на переговоры с тугриками. Это неважно, что Антон абсолютно далек от здешних реалий. Будь я раджой, я бы пользовался даром фигуриста, пока мог. А поскольку раджой был бы я, то я знал бы, что срок невелик. Если охота на Снегиря завершится успехом, некий Книжный Червь честно сдержит обещание, данное бабушке Антона Френкеля, и отправит парня домой. У некоего Книжного Червя есть такие возможности. Скорее всего бабушке, железной старушке, которой мы признательны за великие подвиги, не понравится метод, – но результат понравится обязательно.
Врать – глупо. Хотя иногда необходимо.
Мудрый же говорит правду в разумных количествах.
Ближайшая складка кляксы назойливо завибрировала. Остановившись как вкопанный, Червь принюхался. Сейчас они находились на берегу Грязнухи, в треугольнике, образованном харчмой Хун-Хуза, питомником бойцовых выхухолей и храмом Кривой Тетушки. Где-то здесь, обложенный флажками, располагался тайник рыцаря, но Червя это больше не интересовало. Бабка заложника выполнит обещанное. За внука она душу продаст. Значит, надо ждать, одновременно завоевывая признательность раджи. Тем паче что сделать это проще простого.
– Быть начеку!
Тридесятник подобрался, встопорщив усы, лучники сошлись поближе, готовые хватать. Червь раздраженно махнул им рукой: отойдите на шаг! Мешаете чуять! За складкой, откуда дул сквозняк, что-то намечалось: дорожное происшествие? несчастный случай? – и надо было притворяться равнодушным, дабы не спугнуть судьбу-индейку…
Есть!
– Хватайте их!
Лучники упали на троицу голых Отщепенцев, крутя добыче руки. Дичь стоила трудов: крепыши с бычьими загривками, ежик мускулистых голов стоит дыбом, как шерсть на холке пацюка-куроеда. В переноске тяжестей будут незаменимы. А если еще и продержатся недельку до «пшика»… Наблюдая за свалкой со стороны, Книжный Червь понимал: да, продержатся. За недельку не поручимся, но денька три-четыре… Похоже, на изнанке складки расшиблись две машины, и в данный момент крепышей в бессознательном состоянии везут в больницу. Это надолго. Станут оперировать – значит, наркоз дадут.
Тоже кстати.
– С-суки! Козлы позорные!
– Толян! Мочи их!
– Не посрамим славы Ла-Ланга!
– Ы-ыххх!
Последний вопль принадлежал богатырю-тридесятнику, в коем проснулся мятежный дух Белой Гориллы. Ринувшись в свалку, он замолотил кулаками в грудь – в свою собственную грудь, чем привел лидера Отщепенцев в оторопь и позволил лучникам опутать вервием кривые ноги последнего. Затем тридесятник внезапно остыл и покинул театр военных действий, предоставив бойцам завершать пленение деморализованной троицы. Червь не встревал, лишь однажды помешав рьяному лучнику огреть Отщепенца по затылку дерьмом тяглового слона, высохшим на солнцепеке, – потеряв сознание здесь, крепыш мигом «пшикнет», утратив ценность. Глядя, как добычу волокут прочь, к крепости, Книжный Червь успокаивающе похлопал по плечу бледного Антона (фигурист скверно переносил насилие, будучи вынужден оставаться простым зрителем), и, удостоверясь, что на лицо парня возвращается румянец, шагнул к одному из лучников, пострадавшему за родину.
Присел над бесчувственным солдатом.
Вслушался.
Нет, ничего. Все в порядке. Пятый круг процесса, когда потерявшие сознание обитатели кляксы притягиваются в майорат рыцаря, не начался: лучник находился здесь и только здесь. Скоро очухается. Даже четвертый круг – когда спящие из рыцарского майората начинают сохранять память – медлил. Это хорошо, но ненадолго. Надо спешить.
Проклятье, как трудно спешить, если приходится ждать, ждать, и больше ничего!
Вдобавок голод…
Неожиданно успокоившись и даже рассмеявшись, что с ним случалось крайне редко, Червь подмигнул Антону:
– Ну что, фигурист? Пойдем увидимся с твоей бабулей?
– Вы… – Парень просиял, забыв о ненавистном насилии. – Вы услышали, да?!
– Услышал. Эй, тупицы, за мной! Бегом марш!
Парень крепкий, думал Червь, набирая скорость. Выдержит. Этому пробежка в радость. Хотя путь к источнику Жар-Петухов, куда они направлялись, был неблизким. Сам же Червь, умея проницать складки насквозь, сейчас хотел напряжением сил телесных сбросить напряжение ума. Разрядить волнение, сгладить острые углы. Бег, знаете ли, успокаивает.
Встречаться с рыцарем надо без лишних эмоций.
В ощутимой пользе хладнокровия Книжный Червь давно убедился. Ибо ненавидел рыцарей Ордена Святого Бестселлера так, как можно ненавидеть лишь бывших соратников.
VI. Картина маслом: Сивилла ждет на скамеечке
А пусть-ка скажет автор, какого хрена лезет в такую степь, где не то что ихний конь не валялся, а просто нормальному человеку делать нечего? И не надо томных глаз: это наша пашня, мы там жнем…
К чему это я? А к тому, что не ополоумевший баптист это пишет. Жена моя вами восхищена. Бродит по комнате, трогая рукой корешки и бормоча: «Книжечки мои, книжулечки… одни вы меня никогда…»
Из анонимных писем В. СнегирюОбратиться к психиатру? И что сказать? Марк Соломонович, дорогой, у меня острейший приступ deja vu плюс параноидальный бред? Он пожмет плечами, наш мудрый Марк Соломонович, пропишет валерьянку или коньячок… В любом случае отступать поздно. Потому что Костя поверил. И Леночка поверила. Даже пойди она на попятный – дети не отступят, и будет только хуже.
Марии Отаровне было страшно. Впервые за долгую жизнь она ощущала себя преступницей. Но другой, много больший страх пересилил. Страх потерять Антона. Ради внука она пойдет на что угодно. В конце концов, они ведь не сделают ничего плохого этому человеку! Поспит, сколько нужно, на даче семьи Френкель, а потом его отпустят. Пусть, если захочет, обратится в милицию. Но – позже. Зато Антон будет спасен. Неужели этот писатель не согласился бы проспать лишние день-другой, чтобы спасти жизнь человеку? Конечно, согласился бы. Мария Отаровна ему все объяснит, по завершении… Нет, она объяснит раньше! Там, во сне.
Писатель поймет и простит.
Старая женщина в сотый раз посмотрела на часы. 7:43. Поезд прибыл. Нужный человек, наверное, выходит из вагона. Костя с Леночкой поджидают его на платформе. Как медленно тянется время! Она уже вся извелась. Скорее бы конец. Устало опустившись на скамейку возле чужого подъезда, Мария Отаровна машинально провела ладонью по спинке – словно кошку гладила. Это ее всегда успокаивало. Но сейчас вместо шелковистой шерсти Лизки, полосатой любимицы, рука ощутила мерзлую доску. Она непонимающе уставилась на собственную ладонь, покрытую крошками облупившегося сурика.
Надо успокоиться.
Надо.
Но дурные мысли не сдавались, трепеща от волнения. Неслись назад, в роковой, тоскливый понедельник, когда ей позвонили из зимнего спорткомплекса «Авангард». Услышав новость, она едва не свалилась с инфарктом.
Антон. Травма черепа. Кома. Состояние критическое. Слова каплями ртути катятся по рассудку. Забиваются в трещины. Перед глазами – туман. Ноги ватные. Хорошо, что рядом стул. Хорошо… Что теперь может быть «хорошо»?! Что?! Антошку привезли к ним, в Институт неотложной хирургии. Леночка, партнерша внука, заплаканная, на грани истерики, все пыталась что-то рассказать. Сквозь гул пчелиного роя, заполнивший голову, с трудом пробивалось, перемежаясь всхлипами:
– …я виновата!.. опоздала… Они с Виталиком поспорили… головой в бортик… Это все я, я виновата! Простите меня, Мария Отаровна, простите… Нет, не надо, я сама себя не прощу…
Конечно, девочка не виновата. Следовало успокоить, обнадежить, но сил не было. Из тумана выплывало счастливое, раскрасневшееся лицо внука. Баб, поздравь нас! Мы с Ленкой «серебро» взяли! Вот! Как она радовалась вместе с мальчиком! Соглашалась: фигурное катание – прекрасный вид спорта. Станете чемпионами, поедете на Олимпиаду. И травм меньше, чем, к примеру, в слаломе или боксе. Ты все правильно говоришь, Антошка, только будь поосторожней. Конечно, баб, не волнуйся!..
Не волнуйся…
Восковое лицо, бинты, пластик кислородной маски. Капельницы. Зеленые зубцы на экранах. Строгие лица коллег из реанимационной бригады. «Мария Отаровна, вы врач. Вы поймете. Мы делаем все возможное. Но никаких гарантий…» Самое страшное – твое полное бессилие. Врач с почти полувековым стажем, доктор наук, профессор, зав. кафедрой анестезиологии, ты бессильна помочь самому родному, самому близкому человеку. Антон не приходит в сознание. Он гаснет огарком свечи, и ты вынуждена смотреть на исход, затянувшийся по нелепой прихоти судьбы, не находя себе места и глотая валокордин.
Потомственный врач в четвертом поколении, старуха никогда не верила ни в бога, ни в чудеса. Но сейчас, запершись в кабинете, она шептала какие-то слова, плакала, о чем-то просила, молила неведомо кого, ловя даже не надежду – тень, намек, призрак.
Чудо. Ей требовалось чудо.
На другой день чудо свершилось.
* * *
Вообще-то в палату Антона посторонним входить запрещалось. Но кто осмелился бы не пустить профессора Френкель к родному внуку?! Она сидела здесь уже не один час, опустошенная, без сил. Лицо мальчика плыло перед глазами. Слезы? Нет. Что-то сердце защемило. И палата тоже плывет, раскачиваясь на мертвой океанской зыби. Голова безвольно откинулась, ткнулась в выкрашенную серо-голубой эмалью стену палаты.
Обморок был краток и странен. Мария Отаровна понимала, что окружающее – плод ее измученного рассудка, но… Под ногами – жирный чернозем. По правую руку к горизонту тянутся квадраты полей, усеянных лохматой капустой, похожей на отрубленные собачьи головы. Слева, за водяными рвами, теснятся хижины – круглые плетенки на сваях. Дальше на утесе возвышается крепость. И, ближе к скалам, – чудная башня, наклонная сразу в три стороны. Теплый, почти горячий воздух нес ароматы цветов, тяжкие миазмы разложения и запах прели. Из ближайшей хижины выбрались двое. Один, высокий, нечеловечески пластичный, словно не шел, а перетекал по земле. Одетый в штаны и рубаху смешного ярко-розового шелка, он был абсолютно незнаком профессору Френкель. Зато второй…
Сердце вновь ударило в предынфарктный галоп:
– Антон!
– Бабушка!..
Конечно, поначалу она не поверила. Что еще, как изволил выразиться господин Кничер, за «клякса»? Это сон, навязчивая идея… Разумеется, вам нужны доказательства. Вы, как любой нормальный человек, не станете верить на слово… Конечно, бабушка, трудно поверить. Я здесь две недели торчу. В бортик врезался – и сразу сюда. Понимаешь, тут время по-другому идет. Не волнуйся, ба, господин Кничер мне помог, я в полном порядке! Интересно даже. Скажи, со мной там совсем плохо? Выкарабкаюсь? Сколько у нас времени прошло?
Это сон, страшный сон…
Ты в коме, Антошенька. Полтора дня.
Это огромная удача, Мария Отаровна, что вы не заснули, а именно потеряли сознание. Успокойтесь, скоро вы очнетесь. И будете помнить наш разговор. А вот усни вы над койкой внука… Вам очень повезло! Я готов помочь Антону выйти из больницы, но для этого нужны две вещи.
Какие?!
Первое: поверьте нам.
Он так и сказал, милый господин Кничер: «нам». Не «мне», а «нам».
И добавил: Антон, твоя очередь. Докажи бабушке, что она не спит. Пусть убедится. У нас мало времени.
…деньги, в тумбочке, тысяча триста… подарки к Восьмому марта: тебе часы «Casio» – маленькие, на ремешке, а не на браслете, как ты любишь; Ленке – цепочка золотая, с кулончиком… в коробке…
Очнувшись в палате, Мария Отаровна долго не могла понять: что она делает?! Почему спешит, собирается, не попадая в рукава пальто? Куда? Домой? Зачем?! Лизоньку тетя Нюша покормит, соседка. Что ей делать наедине с бедой, в пустой квартире? Муж умер два года назад, Антошенька переехал к бабушке, теперь он лежит здесь, зачем же ей… Едва захлопнув за собой дверь квартиры, старая женщина кинулась к тумбочке в комнате внука. Все оказалось именно там, где сказал Антон: деньги, часы, цепочка с кулоном… Реальность треснула пополам. И в зияющую трещину обычного порядка вещей ворвался отчаянный ветер надежды.
«Бабушка, заночуй в больнице. Так нам легче будет тебя найти здесь. Понадобится наркоз. Хотя бы легкий. Иначе, если ты просто заснешь, потом ничего не вспомнишь».
Вечером она вызвала такси и поехала обратно в институт. Прекрасно зная, чем рискует: наркоз самой себе, без контроля специалиста… Сердце. Возраст. Нервы. С другой стороны, чем рискуешь, старуха? Крупицами лет, отмеренных тебе? Антоша, бабушка идет, бабушка с тобой…
Они ждали ее. Внук и господин Кничер.
Это вам. Оденьтесь. Я отвернусь. Лишь сейчас Мария Отаровна заметила свою наготу. И не устыдилась. У нас, госпожа профессор, есть время – часов десять. Вы убедились? Если нужно, мы с вашим внуком предоставим дополнительные аргументы. Потом? Как вам будет угодно, госпожа профессор. Итак, к делу. Мне жизненно необходимо встретиться с одним человеком. Я очень надеюсь… да что там, уверен! – с его помощью удастся вывести Антона из комы. Но не сразу. Может, неделя. Может, месяц. Больше – вряд ли. Успокойтесь, здесь время течет иначе. Антон уже говорил вам. У вас пройдет три-четыре дня максимум. Даю слово, я потороплюсь. Это ведь и в моих интересах. Мои интересы? Повторяю, мне нужен один человек. Как и в вашем случае, речь идет о жизни и смерти. Кто он? Владимир Сергеевич Чижик, он же Влад Снегирь, писатель. Ваш земляк. Хотите поговорить с Антоном? Не смею мешать. Обсудите, подумайте. Понимаю, звучит диковато, но…
Диковато?! Шизофрения – вот, пожалуй, самое точное название для происходящего. Возможно, она сама, в безумии и усталости, положила в тумбочку деньги с подарками, желая обрести вожделенные доказательства? Мозг не выдержал свалившегося горя, разум помутился… Нет! Она в силах буквально по минутам восстановить вчерашний день. Никаких провалов в памяти, кроме обморока. Молила о чуде, старуха?! Держи! Трогай! Неужели позволишь внуку тихо угаснуть на больничной койке, в окружении приборов и капельниц?!
Мария Отаровна Френкель, доктор медицины, зав. кафедрой анестезиологии Института неотложной хирургии, приняла решение.
В первую очередь необходимо найти этого Влада Снегиря. Попытаться объяснить ситуацию? Убедить провести несколько дней под соответствующими препаратами? Разумеется, она подберет самый безопасный «коктейль»… Нет. Писатель примет ее за сумасшедшую. И будет прав. Значит, остается другое. У нее есть дача, пустующая зимой. Дальше понадобятся помощники. Вернее, сообщники. Следует называть вещи своими именами.
Марии Отаровне было страшно. Но остановиться она уже не могла.
Костя Палий, друг Антона. Старше внука на три года. Служил в спецназе. Участвовал в боевых операциях. Крепкий, тренированный парень. Работает санитаром в хирургии. Она сама его туда устроила. Недавно узнала, что Костя «подсел» на морфий. Это плохо. Но… это дополнительный стимул. (Профессор Френкель вздрогнула. У врача – такие мысли?!) Костя согласится. Ради друга. А комплект «сэкономленных» ампул наверняка ускорит его согласие. Потом надо будет серьезно побеседовать с Костей, уговорить на курс лечения…
Потом!
Когда в институте вновь объявилась Леночка, Мария Отаровна поняла: это судьба.
Уговорить детей оказалось легко. Втроем они заперлись в ее кабинете, и Мария Отаровна сделала обоим инъекцию сомбревина. Себе не стала. Верила и так. Осталась наблюдать: она не имеет права рисковать чужими жизнями.
Господин Кничер оказался на высоте: Лена с Костей очнулись убежденными сторонниками операции по спасению. Разрабатывая план, старая женщина мучалась ощущением, что участвует в съемках дурацкого сериала про шпионов. Выяснить телефон писателя через справочное бюро, зная фамилию-имя-отчество, оказалось делом трех минут. Номер есть. Следующий звонок. Трубку взяла женщина. Говорил Костя. Представился журналистом, желающим взять интервью у Влада Снегиря. Вы его жена? Уехал? На конвент? Скоро вернется? Нам номер сдавать, хотелось бы успеть… В понедельник или во вторник? Обещал связаться? Можно будет вам еще перезвонить? Спасибо!
В воскресенье они знали: Владимир Сергеевич Чижик, он же Влад Снегирь, прибывает в понедельник утром, поездом в 7.40. Номера вагона жена не сказала, и это осложняло задачу. Леночка нашла в Интернете авторскую страничку писателя (Мария Отаровна крайне смутно представляла себе, что это значит), «скачала» и распечатала в трех экземплярах фотографию. Они с Костей очень постараются перехватить Снегиря-Чижика на перроне.
Карусель завертелась.
* * *
Коротко взвизгнув тормозами, у скамейки остановился грязно-стальной «жигуль» с плохо отрихтованной вмятиной на дверце. За рулем – Костя. Рядом – Леночка. А на заднем сиденье… Да, это он! Мария Отаровна помнила лицо писателя по черно-белой фотографии.
Они все отрепетировали заранее. Владимир Сергеевич? Ваша жена в больнице. Закрытый перелом ноги. Поскользнулась, упала… Хочет видеть вас. Очень просила встретить. Я там работаю, медбратом. У меня машина, я отвезу. Не волнуйтесь, у нас чудесные травматологи. По пути докторшу заберем… А Леночка якобы просто попросит подвезти – грех отказывать молоденькой красотке. Профессор Френкель смотрела на себя как бы со стороны: идет к машине, Костя распахивает дверцу, едва заметно кивает. Докторша с опытом, заслуживает доверия. Какие подозрения? Шутите?!
– Константин Федорович, опаздываете!
Условленная фраза. Вокруг – никого. Время! Леночка резко оборачивается, глядя в заднее стекло машины.
– Ой, что это?!
Пассажир заинтересованно вертится, всматриваясь в пустоту двора. Мария Отаровна садится близко-близко, прижимая правую руку мужчины к туловищу. Костя тянется шприцом, игла вонзается в основание шеи, над ключицей – благо шарфа на человеке нет, а воротник куртки расстегнут.
– Что вы… А?..
Поздно. Поршень уходит вперед до отказа.
Человек дергается раз, другой, обмякнув тюком тряпья. Глаза наливаются сном, лицо плывет восковой маской.
– Сивилла… Не подбирайте сивилл… по пути…
Все. Состав подействовал. Человек в полусне, он не может пошевелиться или сфокусировать взгляд, чтобы запомнить дорогу. Сумеречное состояние сознания. Окончательно заснет он только на даче, где все готово к приему «гостя»: смены постельного белья, одеяла, капельницы с питательными растворами, судно, шприцы, ампулы с основным «коктейлем», баллон с газом для АГВ, запас продуктов для Кости с Леночкой, собравшихся дежурить посменно…
Сама она примет наркоз одновременно с писателем: надо доставить этого человека к господину Кничеру. Место, где они появятся, известно: она уже «выходила» туда с дачи. И вообще, они с Кничером и Антоном успели составить схематичную карту соответствий.
– Поехали, Костя! Быстрее!
Все будет хорошо. Обязательно…
VII. Монолог скептика из пьесы «На земле и на башнях»
…И двинем вновь на штурм твоих ушей…
В. Шекспир Что, принц, читаете? Слова, слова, слова. Мой милый принц! Мотивы для печали Не в том, что ложь честна, А правда не права — Они в другом. Что слова нет в начале И нет в конце. Поймите, милый принц, — Ваш дядя Клавдий правил очень долго, В величии супружеского долга Жену Гертруду подсадив на шприц Во избежанье ревности и сплетен. И результат был хорошо заметен. Полоний выжил – умница-хирург Зашил дыру. В наш век пенициллина Жизнь подлецов бывает слишком длинной, И бравый плут вернулся ко двору, Дабы довесть до брачного матраса Офелию и зятя Фортинбраса. Лаэрт, неукротимый датский тигр, Стал чемпионом Олимпийских игр, Фехтуя на отравленных рапирах, Но запил, чем и посрамил Шекспира, Скончавшись от цирроза. Вы же, принц, Мой бедный гений, мой безумный Гамлет, Отправились во тьму вперед ногами, Меняя журавля на горсть синиц, Надеясь обрести уютный дворик, Где ждет любимца-принца бедный Йорик, — И то, что вас подняли на помост, Как воина, четыре капитана, Достойно Метерлинка, и Ростана, И Байрона. Но вывод крайне прост. Его изрек почтеннейший Горацио: В театре важно «психо», В жизни – «рацио».VIII. Ноги лучшего-из-людей и удача куриного льва
Я не принимаю фэнтези; я получаю от нее удовольствие и иногда сам пишу ее.
Р. Э. Хайнлайн– Мозгач! Дружище!
– Он ск-к-к… он ск-к-кааааа..!
– Да плюнь ты на него! Ну, сказал! Это ж армейский маг! Солдафон!
– Он!!! Сказал!!! Что й-я-я н-не!!! Н-не во-о-о-о..! А я во-о-о!!!
– Конечно, во! Ты еще какой во!
– …шеб-б-бник! Волшебник й-я! А он к-ко..! К-ко!..
Утешая Кра-Кра, заикающегося от волнения больше обычного, Бут-Бутан подумал, что, возможно, Алый Хонгр прав. И тут же отвесил себе мысленный подзатыльник. За гнусные сомнения. Ерунда! Происки врагов! Ему, Куриному Льву, тыщу раз брехали: ты не воин, не «Рука Меча». Щенок ты, и зубы твои молочные. Наверное, скажи однажды Мозгач: «Бут-Бутан, а вдруг они правы?..» – загрыз бы предателя. Хоть молочными зубами, хоть коренными. Ладно, когда они найдут недостающие части Лучшего-из-Людей, все злопыхатели подавятся. В ножки падут, да поздно.
– Главное, он тебя отпустил. Ошейник мы потом спилим. Или собьем. Найдем кузнеца…
– …лшеб-б-б!.. б-бник! Я…
– Верю, верю. Ты самый главный в мире волшебник…
Аю тем временем занялась калечным верблюдем. Спасать-защищать больше никого не требовалось, зато нашлось, кого жалеть. Этому занятию Носатая и предалась всем сердцем, со свойственным ей пылом. Верблюдь ритмично кряхтел под бананасом – точь-в-точь озерная кряхта, утица-перелетица, – а «Рука Щита» пыталась облегчить страдания бедолаги. Причитая на манер наемной кликуши-грустихи, она омывала верблюдя слезами и гладила пострадавшую ногу. На ощупь колено, распухшее до размеров черепичного арбуза, оказалось гладким и жарким, словно там, в сплетении хитрых мослов, грелись у печки малые бродяжки. Задохнувшись от сочувствия, Аю пощупала верблюдю лоб. Нет, во лбу бродяжки не грелись. Холодный лоб. Мокрый, правда, и шелковистый.
Спохватившись, она завертела головой: повязка! Нужна повязка! И не простая, а целебная. Значит, надо нажевать нужной травы. В травах Аю разбиралась плохо. Зеленец-почечуй кровь смиряет, маковую соломку – в суп, для остроты, бурчальник стебный от мошкары, растопырка пальчатая дух возвышает… Взгляд девицы остановился на узорчатых листьях чертополыни. На вид листья вызывали доверие: красивые и наверняка ужасно целебные. Недолго думая Носатая набила рот приглянувшейся зеленью, добавив стебель выдранной с корнем кузявки, а также горсть ягод волчьей клюквы, и принялась усердно жевать. Рот наполнился нестерпимой горечью.
Тьфу!
Лекарство смачно плюхнулось на пострадавшее колено верблюдя.
– Ой, прости…
Верблюдь с интересом моргнул, довольно гугукнул – и, по примеру Аю, набил рот кузявкой с чертополынью.
– Плюнь! Сейчас же плюнь! Оно горькое!
Подчиняясь, верблюдь плюнул туда же, куда и Аю. Сгреб новую порцию зелья. Ему на подмогу пришел близнец-скороход – спустя минуту-другую колено превратилось в разноцветный едко пахнущий ком. Убрать гадость верблюдь не позволял, урча от возбуждения; в итоге, надрав лыка с висельной осинки, девушка кое-как закончила курс лечения, обмотав колено и бок несчастного. Снадобье же она твердо решила назвать «горечавкой»: чавкать такое воистину горе!
– Ладно, – решил Бут-Бутан, понимая, что без этих двух красавцев Носатая теперь и шагу не ступит. – Ночуем здесь. А утром двинемся дальше. Дух Лучшего-из-Людей с нами!
– Я волшебник! – вдруг отчетливо произнес Мозгач Кра-Кра, разговаривая с отсутствующим обидчиком. – Я волшебник, а ты к-ко… к-кобыз вонючий. Я тебя сам убью. Встречу и убью. П-понял?
Если даже Алый Хонгр и понял, то не ответил.
* * *
Утро лезло за пазуху – греться. Меж деревьями ползала сырость, лаская мокрецов, слизнявчиков и прочую гадость. Сон бежал прочь, трясясь от озноба; вдогонку неслось карканье порхатых щебетлов, буянящих в кроне бананаса. Кра-Кра бормотал заклятья, безуспешно силясь разжечь костер. Оба верблюдя паслись в зарослях шалашовки, хрупая сочными бутонами. Оба?! Куриный Лев протер глаза. Подошел ближе. Верблюдь с повязкой слегка прихрамывал, но двигался вполне уверенно и, похоже, не испытывал особых неудобств. Ну конечно! Они ж Алым Хонгром вдребезги заколдованные, на таких зарастает, как на големе. Вернувшись к кострищу, парень извлек из торбы огниво и пришел на помощь Мозгачу. Магия вскоре дала результат: над «колодцем» щепочек и сухотравья взвилась струйка дыма. Заворочалась, зевая, Аю: ночью Куриный Лев укрыл девушку своей латаной кацавейкой, дав отоспаться в тепле.
Позавтракали остатками черствых лепех с чесночным мясивом, которыми снабдила их в дорогу сердобольная жена каменщика Джунгара. Запили ключевой водой. Бут-Бутан торжественно вознес хвалу Лучшему-из-Людей, призывая его милость на головы верных, и троица выбралась на дорогу. Вроде никого. Можно идти.
Позади громыхнул топот, треск, шуршанье, и из зарослей выломились оба близнеца. Верблюди явно вознамерились следовать за путешественниками.
– В-все. Н-не отвяжутся, – горестно вздохнул Кра-Кра.
Бут-Бутан пожал плечами:
– Их за скотину держат, Мозгач. Тебе жалко таких?
– Ж-жа… ж-жалко. Очень. М-маг их б-бро-о…
– Вот именно. Бросил. Он и есть скотина, этот маг. Настоящая. И дюженник скотина. А эти… Они ни в чем не виноваты.
– …б-бросил. Скотина м-маг! Только нам они з-з-ач… з-зачем?
– Затем! – яростно вступилась за близнецов Аю. – Вдруг на них грызлы нападут? Или горные гульдены? Кто их защитит? Кто пожалеет?!
– Ладно, пусть идут, – согласился Куриный Лев. – Дорога для всех…
К полудню добрели до развилки.
Как и на любом перекрестке, тут имелся здоровенный, грубо обтесанный валун-трюльник, украшенный высечкой: рунами древнего народа Маргиналов – бесов, одержимых свинством. Читать их письмена было опасно, но, к счастью, смысл рун затерялся в веках. Все и без смысла прекрасно знали, что написано на подобных камнях – хоть на трюльниках, хоть на четвертаках или вспятниках. А первую обязательную фразу: «Довлеет злоба дня сего…» учили на память даже малыши из племени горемык-бедуинов, славных своей непроходимой мудростью. Хотя толку от этого знания не было никакого. Предупреждения древних давно утратили всякую ценность.
Великий Хлопчатобумажный Путь вел прямо. Широкий, наезженный и утоптанный тракт. Влево же змеилась подозрительная дорога, мощенная желтым кирпичом, исчезая в путанице холмов. О правом пути и вовсе речи не шло: так, тропа на водопой для агнцекозлищ, коих во множестве держали окрестные селяне. Вроде бы думать особо нечего: вали по тракту до самого Ла-Ланга и насвистывай! Однако Бут-Бутан колебался. Аю с Мозгачом смотрели на вожака, явно надеясь на откровение, посетившее Куриного Льва, а он никак не мог понять причину беспокойства.
Куда идти? Что делать? Кто виноват?..
Тяжкая лапа упала на плечо. Бут-Бутан вздрогнул, обнаружив возле себя раненого верблюдя. Гукая и тряся горбом, тот тыкал пальцем налево. Его брат-близнец уже двинулся в указанном направлении и теперь, обернувшись, приплясывал в нетерпении.
Впервые в жизни Куриный Лев понял: как хорошо, как прекрасно и замечательно, когда за тебя решают другие!
– Пошли! Желтый кирпич, говорят, к счастью…
Когда к дороге вплотную подступили холмы, обросшие брезгуном и чистоплюйкой, Бут-Бутан в последний раз оглянулся на оставленный тракт. У перекрестка гарцевал конный разъезд тугриков, поглощенный изучением трюльника. Человек десять. Вовремя свернули, благодарение Кривой Тетушке и Лучшему-из-Людей! Уберегли, милостивцы. Мысль, что, не будь с ними близнецов, тугрики скорее всего даже внимания не обратили бы на кучку оборванцев, Куриному Льву пришла в голову позже.
И ему без видимой причины стало очень стыдно за эту мысль.
Через три часа дорога запетляла заячьей скидкой, при этом ни разу не пересекаясь сама с собой. Близнецы обеспокоились, делая друг дружке быстрые знаки пальцами. Словно потеряли направление или сбились со следа, сомневаясь, куда идти. Куда? Это даже тупому хрычу ясно: вперед! Вперед верблюди двинулись неохотно, с опаской, ухая на манер мышкующих сычар. Кашлянул Мозгач, всхлипнула изумленная Аю: холмы по бокам стремительно лысели, прикинувшись яйцами орла-гордынника. По куполам бежали трещины: птенцы-исполины рвались на волю. Небо брызнуло радужными кольцами, потом обернулось стеклом: ломким, прозрачным, сверкающим. Отражения без числа, смешные и страшные подобия сущего, разбежались до горизонта, выгнувшего спину. Казалось, любое движение – и шутка бытия осыплется с хрустальным звоном.
Наваждение сгинуло еще быстрее, чем явилось.
– Ч-ч-чары! Я с-спасу! Я в-в-вооо…
– Надо вернуться!
– Нет! Вперед! Только вперед!
Куриный Лев и сам не знал, откуда у него такая уверенность.
Они побежали. Трудно, медленно, с усилием разрывая собственными телами паутину-невидимку, затянувшую пространство. «Лишь бы не явился паук, – навязчиво билось в мозгу Бут-Бутана, грозя безумием, – лишь бы не паук, не надо паука, нельзя, у меня даже меча нет…»
Сверху рушились звезды – больно щекоча затылки, блестяшки жабами прыгали по кустам. На миг глянув вверх, парень захлебнулся тьмой. Чужое, жуткое небо растеряло все созвездия, почернев от нищеты и горя. Но желтый зверь солнца метнулся из засады, и двадцать следующих шагов Бут-Бутан бежал слепым.
Солнце!
Зерцало доспеха Лучшего-из-Людей.
Защити! Не дай сгинуть! Направь на путь…
Желтый кирпич дороги встал дыбом. Исчез. Подошвы сандалий предательски скользят по отполированному льду. Лед? Откуда?! Под ногами тает, хлюпает. Отчаянный рывок… Нет, не выбраться. Увяз по колено, и жирная топь лениво засасывает добычу. За спиной, размеренно и неумолимо, – лязг металла. Это идет Ржавый Лесоруб, воевода дружины Вержегромцев. Исконный враг Лучшего-из-Людей. Он узнал, что части вновь собираются вместе, он спешит, вострит секиру, топает вслед. Мог бы и не торопиться: трясина ничуть не добрее Лесоруба. Жалея свою молодую жизнь, Бут-Бутан прозевал момент, когда оказался в воздухе. Визг Аю, странно членораздельный крик Мозгача…
Далекая черта джунглей прыгнула навстречу!
Не сразу Куриный Лев сообразил, что лежит на плече одного из верблюдей, придерживаемый корявой пятерней. На другом плече скорохода обнаружилась Носатая Аю, судорожно вцепившись в горб обеими руками. Впереди мотался Мозгач, сидя верхом на втором верблюде – бывший раненый то ли был резвее брата, то ли двойная ноша лишала первого прыти. Близнецы, сопя и гулко всхрапывая, безошибочно скакали с кочки на кочку.
Вверх.
Дух захватывает: вот-вот верблюдь взлетит.
Вниз.
Сердце проваливается в пятки, но не в свои, а в могучие, широченные, ороговевшие пятки скорохода.
Ф-фух! Твердая земля. Вырвались, хвала…
– Отпустите! Опустите!.. Мы сами…
Куда там! Поудобнее умостив ношу, оба верблюдя галопом припустили по лесной тропе, словно за ними гнался целый выводок грызл. Бут-Бутан зажмурился: на такой скорости ветер резал глаза. Славные «ноги» они заполучили, ничего не скажешь…
Ноги?!
Эта идея настолько поразила Куриного Льва, что он забыл про ветер и открыл глаза. Охнув от увиденного: между облаками, оседлав крылатого коня, парила Солнечная Бой-Баба, приемная мать Лучшего-из-Людей и его вечная покровительница.
Знамение!
– За ней!
Верблюдь кивнул, чуть не сбросив парня, и прибавил шагу. Однако Бой-Баба по странной причине не приближалась, а, наоборот, отдалялась, несмотря на то что скакала по небу навстречу беглецам. Словно злобный насмешник бросал между ней и Бут-Бутаном все новые и новые расстояния. В конце концов крылатый конь скрылся из виду. Как парень ни выворачивал голову, ему больше не удалось увидеть всадницу.
IX. Королевский путь
Поток сознанья… Господи, за что?! Филолога не вытравить железом, безумно, безнадежно, бесполезно – приставки «бес» тупое долото вгрызается в послушные слова – я в чем-то, несомненно, не права, но, завершая памятник себе, играю миру соло на трубе… на той трубе, что бледного коня обязана от века подгонять.
Мария ХамзинаНа вокзал ей ехать не пришлось. Альфред заказал билет по телефону, и вскоре молоденький курьер доставил заказ в гостиницу, где Польских остановилась. Лично в руки. С некоторых пор она весьма ценила такие приятные мелочи, в конечном счете создающие отношение. В «Нострадамусе», например, никому бы в голову не пришло озаботиться доставкой билета. Да что там билет: просьбу оплатить командировку постороннему, в сущности, человеку многие издатели сочли б оскорблением! Они и своим сотрудникам со скрипом… Вот потому в «Нострадамусе» нет ни одного рыцаря Ордена. Последний (он же первый) год назад в «МБЦ» перебежал, едва срок «вассальной присяги» истек. Рыцари – не оруженосцы или, того хуже, кнехты. Не говоря уже о наемниках. Рыцари себе цену знают.
О пустом думаешь, королева. О деле думай.
Если уж решилась – поздно коней разворачивать.
Поезд в 21.30. Значит, выехать на вокзал надо максимум в 20.15. Четыре часа в запасе. Вещи собраны. Можно попытаться. Прямо сейчас?! Страх лизнул сердце черным языком и послушно сгинул, едва Царица Тамара нахмурила брови. Первые главы «Лучшего-из-Людей» она успела пролистать по дороге в гостиницу. Для начала – вполне достаточно. Влияния неявные, но есть. Причем в обе стороны. Правда, Польских еще ни разу не пыталась выйти через хаотики в растущий локус. Только в стабилизированные, законченные, куда тянулись ясные цепочки заимствований. Придется искать гроздья узлов, косвенные ориентиры, полагаясь исключительно на нюх. Все однажды случается впервые, да? Как потеря девственности?! Хотя с развитием хирургии…
Королева критически смотрится в зеркало. Как будто в хаотиках имеет значение, как она выглядит!
Имеет. Для нее – имеет. Где угодно. На улице. В вагоне метро. В купе поезда. В номере отеля. В хаотиках. По большому счету, Тамаре Юрьевне безразлично мнение окружающих, но для себя… Кокетничаешь, ваше величество? Играешь в самодостаточность?! Играю. С переменным успехом. Даже у царствующих особ есть свои маленькие слабости. Не так ли?
Через пятнадцать минут она осталась почти довольна увиденным. Увы, «почти» – обыденное состояние в ее возрасте.
Смирись.
Польских извлекла из сумочки миниатюрный будильник, который всегда возила с собой. Выставила на 19.45. Снотворное принимать раздумала: заснем без допинга. Конвент вымотал до предела. Теперь – главное. Истрепанный «покет», старое издание «Последнего меча Империи». Еще под псевдонимом «Джимми Дорсет» – тогда печатали одних «варягов». Раритет. «Покет» она бесцеремонно реквизировала у Альфреда. Потом вернет.
Или не вернет.
Оставит на память.
Так, заключительный штрих. На свет явилась статуэтка из бронзы: Пегас расправил крылья, везя к небу нагую амазонку с кривым клинком в руке. Лицо «десант-фемины» было мрачнее тучи. Вот уж кто ничуть не радовался грядущим битвам. Приз с ливерпульского «Fantasy-Con», талисман Польских. Боже, как давно!.. Восемь лет назад. Сколько раз Пегас с амазонкой выручали хозяйку! Потрудимся снова, леди и джентльмен? В хаотиках любой артефакт – пустышка. Но в локусе Снегиря… Полную силу талисман обретает лишь в авторских творениях рыцаря, но даже минимальная помощь не будет лишней.
Ты готова, королева?
Она легла на идеально застеленную кровать поверх покрывала и раскрыла «Последний меч Империи».
Наугад.
Впервые это случилось с Тамарой Юрьевной через девять месяцев после завершения кризиса. Купаясь в эйфории свободы, наслаждаясь покоем, решила перелистать одну из своих книг. По странному стечению обстоятельств вот эту, «Последний меч…». Задремала с книгой в руках – и с криком отчаяния рухнула в липкую бездну, знакомую до оскомины во рту, в кошмар, притворявшийся мертвым.
Проснулась среди ночи в холодном поту. Ворочалась до утра, опасаясь даже на миг сомкнуть веки. Боялась, что все опять вернулось, что теперь ад хаоса, детище толпы наивных, ничего не подозревающих оруженосцев, больше не отпустит королеву.
Однако следующая ночь прошла спокойно.
И еще одна.
И еще.
Когда она наконец обрела способность рассуждать здраво, догадка пришла сразу. Но догадки следует подтверждать опытами, и Польских рискнула. Рука дрогнула, потянувшись к книжной полке. Гладкий, блестящий корешок под пальцами. «Закатный прилив».
За эту книгу ее наградили в Ливерпуле.
…С тех пор она не перечитывала своих книг. Знала ужасный итог. Сейчас взгляд скользил по строчкам, как пальцы слепого по тексту, набранному методом Брайля, а Тамара Юрьевна удивлялась самой себе. «Королева спешит на помощь» – название для «мыльного» сериала. Ты женщина, а не Великое Дао, которое никуда не торопится, но везде успевает. Ты…
Я.
Да, Влад Снегирь – мой «крестник». Но у королевы есть личный счет к твари, искалечившей ее жизнь.
«Словоблуды! Никто по-настоящему назвать не может. Книжный я Червь! Книжный!»
Сосредоточенное, строгое лицо амазонки вдруг проступило сквозь подушку. Взгляд содрал строки со страницы: в глубь, в омут, разбрасывая ряды черных значков-копьеносцев, раздирая сеть бумажных волокон, дальше, дальше – воздух в груди иссяк, и пришло удушье…
* * *
Рваная ткань хаоса приняла королеву в себя. Как обычно, в первый миг погружения она не смогла подавить невольный крик, ощутив жадные касания сотен рук, тянувших добычу в омут. Ее окружало противоестественное вожделение, похоть недовоплощенцев, стремящихся тронуть, схватить, слиться с единственным островком стабильности, каким мнилась им королева. Нельзя долго оставаться на одном месте – иначе они сведут ее с ума. Двигаться! Обязательно двигаться! Сквозь взаимопроникающие обрывки чужих хаотиков, сквозь меняющую плотность – плотскость!!! – эфемерную среду, где иллюзии и комплексы подсознания перемешаны с големами бреда и сном разума еще не вышедших в тираж оруженосцев, где твердь зыбка, а влага жгуча, где ориентиры – болотные огни, души младенцев, убитых матерями, ведущие неосторожного путника в топь…
Ложь! Ориентиры есть.
И Тамара Польских – не просто путник в ночи.
Призрак, содрогающийся от тяжести тела, она ринулась наугад в поисках узлов влияния. Всякий оруженосец, в большей или меньшей степени, сознательно или инстинктивно заимствует что-то у рыцарей Ордена, вплетая нити в ткань своих хаотиков. В таких местах возникают узлы влияния, цепочки, напоминающие письма индейцев, дорожки в стабилизированные локусы, откуда произошло заимствование. Королева обнаружила это случайно, когда, порвав с Орденом Святого Бестселлера, стала еженощно попадать в этот ад. Наверное, ей просто повезло, что она не обезумела раньше. На грани помешательства Польских училась искать узлы влияния, идти по цепочкам, проникать в локусы рыцарей – рассудок висел на волоске надежды, и однажды кошмар закончился.
Если бы кто-то сказал королеве, что она по собственной воле рискнет заново окунуться в пережитое, она загрызла бы шутника насмерть.
У тернового венца — Ни начала, Ни конца.Она шла, бежала, плыла, протискивалась сквозь зыбкие структуры, пожирающие друг друга, чтобы рухнуть и вновь возникнуть из ничего, засасывая жертву в круговорот дикого формотворчества. Из бездны космоса выросла многомильная громада корабля – королева пошла насквозь, через переборки и отсеки, мимоходом замечая рваные пробоины в обшивке, мерцание экранов, мумифицированные трупы с лицами горгулий. Впереди беззвучно полыхнула серия ослепительных вспышек; тени в скафандрах, с многоствольными орудиями убийства наперевес; разряд плазмы прошил ее насквозь, ошпарив кипятком боли. Дальше! Дальше!.. Рядом возник некто в угольно-черной броне, с мечом в деснице: «Дозвольте проводить вас, леди, вам здесь не место…» Ответить она не успела. Упавший сверху демон, весь зубы, когти и кожа крыльев, принялся с визгом рвать черного воина в клочья, давясь пластинами брони, – а королева уже шла дальше, не оглядываясь.
Стена крепости уходит в грозу. Замшелые камни, ряды парапетов; с башни гремит сигнал трубы. Стена оказывается неожиданно твердой, королева больно ударяется щекой, грудью и правым коленом. Сверху льется смола – вязкая, огненная! – выжигая глаза. Королева слепо бредет прочь, в обход негостеприимного замка, глазницы медленно наполняются видениями, похожими на слепоту, а вместо жара наползает смертный холод: она тащится по ледяной пустыне, усеянной торосами, похожими на руины… Так и есть! От бывшего дома, обглоданного дочиста, щелкает выстрел, второй, третий, и стая мохнатых богомолов, рыча и подвывая, выскакивает на лед. За ближайшим тянется кровавый след.
Шаг.
Другой.
Скользкая опора уходит из-под ног. Кругом – вода. Везде: сверху, снизу, по сторонам. Женщина барахтается в толще жидкого стекла, видя, как из глубины близится хищная тень. В хаотиках нет смерти, но угодить в пасть мегалодона, окажись он достаточно плотским, сомнительное удовольствие. Тень обволакивает добычу (королева видит пульсирующие внутренности акулы-гиганта); кажется, на спине чудовища, за треугольным плавником, примостился человек…
Под ногами – болото. Ноги по колено уходят в хлюпающую жижу, звенит мошкара, кто-то ворочается в сумраке чащи, ворчит, кашляет… Что-то знакомое! Надо вспомнить, обязательно вспомнить. С трудом выдирая ноги из цепких объятий трясины, она добралась до кочки, заросшей диковинными глазастыми соцветиями на коленчатых стеблях. Ну, подлец! Ну, оруженосец чертов! Спасибо за подарочек! – только нельзя же так в лоб сдирать: Влад Снегирь, «Гуляй полем», глазунья крестоцветная.
Узел влияния.
Однозначно.
Королева деловито оглядывается в поисках цепочки. Тропинка, ведущая в чащу, к скрытому ворчуну-проглоту? – никаких прямых ассоциаций, но, раз тянет, надо идти. В хаотиках следует доверять чутью. И это хорошо, что она больше не видит прямых заимствований. Значит – общий дух, настрой, косвенные повороты сюжета. Так проще выйти…
Туман пахнет горящей лавандой. Ветки больно хлещут по лицу. На обочине пустыня сменяется футуристическими громадами из искрящегося сине-зеленого металла. Вдалеке – пики гор, забинтованные снегами. Палят из автоматов, свистят стрелы, слышится звон мечей, шум моторов и песня «Если кто-то кое-где…». Над головой, утробно хрюкая, барражирует дракон с нежно-лиловым брюхом. Вперед. Дальше. Уже не обращая внимания на смену декораций: яд-пыльца живородящих тюльпанов, сфинксы, изрыгающие загадки, философы-скорпионы, пара беговых горбунов несет по болоту троих подростков, конный разъезд мчится прочь от камня на распутье…
Королева напоминает гончую, взявшую след.
Очередной поворот тропы. Сквозь джунгли, наслаиваясь и колебля пространство, является город. Каменные здания, крытые полосатой черепицей, соседствуют с лачугами на сваях. Крыши у всех сооружений странные. Трехскатные…
Есть!
Набат ворвался в уши трубой Рагнарека.
…На столике надрывался будильник.
Пора на вокзал.
Королева со всхлипом вздохнула, стряхивая оцепенение. У нее оставалось еще полчаса, чтобы окончательно прийти в себя.
X. Хокку «Любуясь детьми, постигаю истину»
Один малыш, ровесника заставший За чтеньем «Колобка», спросил, напыжась: «Попсу грызешь?»XI. Чижик-Пыжик, где ты был? – в двух частях из чистой вредности
Почему мир физический, природный, где приходится пулять-шмонать-колотить, для многих более интересен, чем мир внутренний, где, по большому счету, можно создавать собственную реальность?! Не потому ли, случаем, что у них самих внутри остался лишь кусочек, ошметочек когда-то бессмертной души, которой на физические действия, может, еще хватит, а вот на что-то большее – увольте…
Из личной переписки В. СнегиряЧасть первая
(плагиат, постмодерн, психоделия и еще что-то на букву «П»)
– Вот так скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!
– Risum teneatis, amici![1] Чижика съел!
– Дурак! Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он Чижика съел!
– Бурбон стоеросовый! Чижика съел!
– Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво Любимова Чижика съел!
Мотая головой и смиренно ожидая, пока вся эта салтыково-щедриха, – прости засранца, Михал Евграфыч! – распоясавшаяся исключительно в моем скромном рассудке, стихнет, размышляю о сне разума, рождающем красавиц и чудовищ. Перевозбужден, огорошен, отморожен, а также, в ожидании припав к стопам фортуны, вожделею малого, ибо покой нам только…
Так.
Похоже, традиционно белый хорей скончался в муках. Уступив место выродку по имени Возвышенный Штиль. Что говорит о помутнении сознания. А поскольку лишь в бреду можно заняться лирическими (пейзажными, философскими, краеведческими и пр.) отступлениями, презираемыми читательской массой, взалкавшей динамики сюжета, и осуждаемыми критической популяцией, то – занимаюсь.
В смысле, отступаю.
Однажды все случается впервые. Вот и я впервые понял, что бывает, когда неумелый автор ведет-ведет текст от первого лица, а потом вдруг возьмет, поматросит и бросит до второго пришествия, упиваясь повествованием иного, скажем прямо, дурного толка. Стилизация, персонификация, красоты-высоты, то да се… Первое же лицо (узнаете? а без галстука?!) тоскует, рвется в дело, но, жертва произвола и кривой архитектоники, опутано наркозом и происками стиля, вынуждено прозябать в безвестности, в пыли сундука, ожидая, пока шалопай-кукольник сподобится вынуть пыльную марионетку, заявив urbi et orbi, сиречь городу и миру:
– Се герой!
Вынули.
Заявили.
Ну и? – ну и не и…
Конец отступлению. Вперед, на амбразуру!
Часть вторая
(художественная, хрестоматийная и еще какая-то на ту же букву)
– Как вы себя чувствуете, Владимир Сергеевич?
У ног доверчиво извивалась лиана арктической пальмы, притворяясь удавом-вегетарьянцем. Вокруг было зелено и душно. Цвели манго, колосились авокадо, кустились карамболи, пчелы вгрызались в кокосы, желая млечной пыльцы, а в двадцати шагах от меня волхвы-старообрядцы мучили связанного хуанодона, верша Зов Плодородия. Бедная рептилия всячески возражала, принимая облик самцов разных видов – так хуанодон вторгался в доверие к наивным самкам, подкидывая свои яйца в чужие гнезда, – но волхвы были беспощадны. Дряхлые, седые, сплошь в морщинах-складках, они разделись донага, возбуждая пленника словом и делом, и я мельком посочувствовал хуанодону. Единственная дама из их компании сидела рядом со мной: праматерь Ева на пенсии.
Обнаружив, что и сам гол как сокол, задумался о геронтофилии.
Нет. Не склонен.
– Владимир Сергеевич, с вами все в порядке?
– Уйди, старушка, я в печали! – От Михал Евграфыча ненавязчиво перебираюсь к Михал Афанасьичу, но волхвица не оценила.
– Я врач, я хотела бы знать…
– Психиатр? – догадался я.
– Анестезиолог. Меня зовут Мария Отаровна. Фамилия Френкель.
– Очень приятно. Чижик В. С. Но к чему такой официоз между двумя нагими индивидуумами?
– Чтобы потом, если захотите, вы смогли заявить на меня в милицию. Это я вас похитила.
Мама в детстве учила меня: женщин бить нельзя. Выучила, к сожалению. Можно, нужно, а детские комплексы вопиют: не трожь. Впрочем, одни комплексы не справились бы со Снегирем, к которому вернулась память, но к ним подключились мораль, этика и прочие защитники прав человеческих. Единственное, что я себе позволил, это смиренно переспросить:
– Как-как, говорите, вас зовут? Малярия Катаровна Фурункель?
Старуха-разбойница даже не обиделась. В пальто и шляпе, подсаживаясь в машину к доверчивому пииту, она выглядела куда импозантнее, чем сейчас: толстая, рыхлая, без малейших остатков былой красоты, как выразился бы создатель «Купели Купидона-2», эта Малярия лишь во взгляде – иссушенном и упрямом, как дорога на Голгофу, – таила железную основу.
Анестезиолог? А с виду – типичный патологоанатом.
– У меня внук в коме. Я не оправдываюсь, Владимир Сергеевич, я информирую. Здесь же один… человек обещал спасти Антошу. Если я сведу его с вами. Бывают ситуации, когда хватаешься за соломинку.
По-хорошему сейчас старуха должна была уронить слезу. Не уронила. И говорила ровно, без интонаций, будто лекцию читала. Поодаль снова взвыл хуанодон, угнетаемый волхвами, – трое дедуганов на миг вышли из фальш-медитации, заинтересованно поглядывая на нас, но мне было не до их забав. Трагифарс – опасный жанр. Безумный. Убийственный. Шаг, другой, – и потом, мучаясь в ледяной геенне, сгорая в сугробе, тщетно мечтать о банальности драмы или пузырьках комедии. С трудом поднявшись на ноги и отчетливо хрустнув коленями, врачиха направилась к грубо отесанному алтарю. Наготу она несла, словно усталый знаменосец – полковой стяг: скучно, равнодушно. Еще пара волхвов отвлеклась от рептилии, готовой сдохнуть, но устоять против искуса; остальные продолжали не покладая рук.
– У меня здесь дача. – Мучаясь одышкой, она шарила под камнем. – В смысле, там, а не здесь… Ну, вы поняли. Мы договорились заранее… выяснили соответствие места… Он обещал, этот… у него странное имя. Я бы не хотела иметь такое…
– Странное? Хун-Хуз? Бут-Бутан?!
– Нет… спутники зовут его Нежным Червем. А он смеется: Книжный, мол!.. Обещал положить под этот камень…
Закашлявшись, Малярия Катаровна выволокла на свет божий добычу – малый тючок.
– Одежда. Прошу вас, Владимир Сергеевич…
Самой ей было все равно – одета, раздета. Настолько все равно, что я вздрогнул. Когда человек подносит к глазам чайное блюдце, близко-близко, то блюдце способно заслонить весь мир. А тут не блюдце – внук. Натягиваю шаровары, рубаху, подпоясываюсь ярчайшим кушаком, достойным павлина. Червь, кто бы он ни был, не поскупился: видать, очень заинтересован в моем благорасположении.
Подходит волхв наистарейший из кощеев.
– Увы, – вздыхает он, кивая на угасшего хуанодона и глядя на меня так, будто мы сто лет знакомы. – Не вышло. Совокупитесь, а? Иначе злаки не взойдут обильно. Ну что вам стоит?!
Трагифарс.
Муки Святого Бестселлера.
– Рассказывайте, – говорю я старухе. – Все рассказывайте. С начала.
* * *
– Ну и зачем надо было устраивать весь этот киднэпинг?! Подсадка, шприц… Подошли бы по-человечески: так и так, беда, помогите… Что ж я, зверь?
– Извините. Я не могла рисковать. Ни один нормальный человек…
– Здесь вы правы. Хотя нормальный – это не про меня.
– Вы в милицию, ладно? Как только все закончится, вы сразу в милицию заявите. Хотите, я вместе с вами пойду? Напишете заявление: сумасшедшая бабка, рехнулась… Костя сказал: про него тоже можно писать. Константин Георгиевич Масляк, санитар, наркоман… В милиции поверят, раз наркоман. А про Леночку не надо, очень вас прошу. Она милая девочка, жалко жизнь ломать. Антошу любит…
– Да вы что, на самом деле рехнулись?! Дура старая!
– Владимир Сергеевич, не кричите, пожалуйста… мне и без вашего крика тошно…
– Доктор, милая! Атаманша вы моя! Поймите: у меня процесс, каждый день на счету!.. Ах, ни черта вы не поймете, я сам скоро в дурдом сдамся. Какое сегодня число?
– У нас? Двадцать пятое, вторник.
– Вторник? Почему вторник? Я в понедельник приехал!
– Вы почти сутки спали. Я боялась после «коктейля» сразу наркоз давать.
– Господи! Спал? А почему мне Ла-Ланг не снился?!
– Н-не знаю… А что, должен был сниться?
– Это Гобой химичит! Точно, Гобой! Фрагменты публикует, контрабас хренов!
– Владимир Сергеевич, вы в порядке?
– В порядке я! У меня времени мало, вы это понимаете?!
– Понимаю… у меня тоже мало…
– Ну и где он, ваш Червь?! Ваш Нежный?!
– Я здесь, Влад. Не надо кричать.
Испуганно перешептывались волхвы, укрываясь за стволами вековых, кряжистых берданов. Сопели, уморившись от бега, вооруженные люди, числом не меньше дюжины. Румяный парнишка кинулся к бабушке. Врачиха просияла, ожила, стала неловко гладить плечо внука, что-то шепча и показывая на меня. При виде парня я слегка расслабился, успокоился, не видя для успокоения никаких причин – и тем не менее… А напротив, доброжелательно улыбаясь закрытым ртом, стоял он.
Книжный.
Нежный.
Червь.
И пусть мои книги сгниют в букинистике, если мы не были чем-то похожи!
– Я вас именно так и представлял, Влад. Облик рыцаря можно составить, имея представление о кляксе. Безалаберный, но жизнеспособный. Остряк, но тонкости лишен. Увлекателен, но неглубок. Романтичен, но без пафоса. Мастер интриги, хромает в подтексте: скатываясь в штампы, успевает застрять на краю. Короче, истинный рыцарь, без страха и упрека. В Ордене таких большинство.
Он был гибкий, розовый и обаятельный.
Словно только что со страниц Оскара Уайльда.
– Ну как, Влад? Потолкуем по душам? Высокие договаривающиеся стороны придут к соглашению?
– По душам – это значит в присутствии конвоя? – кивнул я на дюжину сопровождающих. – Кто такие? Камердинеры? Гувернеры? Доброжелатели?
– Лучники, Влад. Просто лучники.
– А где их луки?
Он шагнул ближе, сразу оказавшись вплотную. Запах мускуса. Блеск глубоко посаженных глаз: две поздние вишни, темные-темные. Складка между бровями похожа на букву «W».
– А это у тебя, дорогой рыцарь, спросить надо: где их луки?
И я понял, о чем он.
Стыдно.
Ох, до чего же стыдно!..
Книжный Червь присел на травку, скрестив ноги немыслимым образом. Мигнул обезлученным лучникам: прочь шагом марш! После глянул на врачиху: занятая тихим разговором с внуком, старуха не интересовалась нашей беседой. О волхвах и речи не шло: слишком далеко прятались.
– Давай начистоту, рыцарь. У тебя процесс. Думаю, впервые. Иначе ты бы не допустил такого бесконтрольного развития. Ты заинтересован в скорейшей консервации процесса, но по каким-то причинам не делаешь этого обычным способом. Не подписываешь контракт, например. Не торопишься закончить текст. Или еще что… Но ты должен, обязан, не можешь не знать, если вышел в тираж: этот случай у тебя первый, но не последний. Я доходчиво излагаю?
– Не то слово. Прямо в душу льешь.
– Иронизируешь? Это правильно. Какой у тебя нынче круг? Третий? И на подходе четвертый?! А там начнется лавина: смешенье кругов, форсаж взаимовлияния… Влад, тебе кто-нибудь объяснял, что это значит?
– Не объясняли. Ждали, пока ты объявишься.
– Теперь дерзишь. Мне нравится. Чувствуется характер… Так нам будет легче договориться. Хорошо, я объясню.
Червь снова улыбнулся, на сей раз не смыкая губ.
У него были очень плохие зубы.
XII. Уездный городок N, или Девять кругов карусели
Не нравится мне этот Снегирь, причем категорично.
Недавно сошлись с одним продавцом книг в том, что он наверняка курит травку. Продавец сказал: «Без анаши хрен разберешься. Нельзя такое написать, будучи в ясном уме и трезвости…»
Из выступлений на форуме «Творчество В. Снегиря»В уездном городке N было три достопримечательности: особняк князей Мозгляк-Петровичей, по четным дням арендуемый «Фронтом Национального Спасения», а по нечетным – ЦИК Житомирского раввинната, далее конная статуя на площади Свободомыслия, изображавшая вышедшего к Херсону матроса Железняка, и наконец известный литератор Х, мастер космической оперы, проживавший в доме номер шесть по тупику им. НТР. Гостям и туристам, сдуру оказавшимся в N, сперва показывали особняк, затем статую, литератора же не показывали вовсе, по причине занятости и редкой вменяемости последнего. Так, бросали вскользь, ведя добычу мимо книжных россыпей, безмерно уродившихся в этом году: «Наш земляк! Можем, знаете ли, собственных Платонов и быстрых разумом тевтонов…»
Так и жили.
Дети бегали в школу мимо особняка, стреляя по кариатидам горохом из трубочек, голуби обильно гадили на бронзовую бескозырку Железняка, N-цы мерили бытие аршином перекуров и перерывов, бабы мимоходом рожали, мужики скупо платили алименты, предпочитая пиво, а в далекой тайге тем временем гектарами вырубались деревья, дабы крупное столичное издательство могло удовлетворить потребности масс в трудах литератора Х.
Первым пострадавшим стал мэр.
Если не считать литератора, но тот, занят и невменяем, молчал.
Отдавшись в руки дантистам-вредителям из стоматкабинета «Турбина» и очнувшись после общего наркоза (их превосходительство очень боялось мук…), мэр поведал дома жене страшную историю. В истории фигурировал Главный Иноплатенян (армянин?), а также его подручные-киборги с антеннами и плоскими ушами, которые терзали голого мэра с целью выведать у него способ проникнуть на их секретную базу, минуя нейтрон-засовы и нейтрин-замки. Супруга внимательно выслушала благоверного, угостила рябиновкой, налила по второй и дала совет не срамиться. Видимо, супруги иных пострадавших, кто терял сознание в те роковые дни, попадая в щупальца Главного Иноплатеняна, дали любимым аналогичные советы, – ибо дети стреляли горохом, голуби гадили, бабы рожали, а пиво текло рекой.
Редкие же счастливчики, рискнувшие поведать друзьям о виденьях постапокалипсических, оперо-космических и научно-фантастических, наслаждались честно заработанной славой.
На исходе третьей недели после явления мэра в злополучную «Турбину» можно было наблюдать меж N-цев странную картину. Заспанные обыватели, выходя утром на работу, чесали в затылках и морщили куцые лбы, словно пытаясь вспомнить зыбкий сон, но склероз одолевал. Тем не менее лица горожан (иногда втайне даже для обладателей оных лиц) выражали смутный ужас и омерзение, вызванные ночными кошмарами, а центральный кинотеатр «Луч света» безнадежно пустовал, хотя дирекция весьма рассчитывала на стереоверсию «Чужих-9». Расход пива вырос втрое, отчего пришлось ввозить кеги темного «Аввамелеха» и светлого «Опанаса» из губернского центра Z, рождаемость упала, а дети очень серьезно играли в «Глав. Иноплатеняна», прогуливая уроки и называя трубочки для гороха «бластерами». Трезв и безумен, литератор Х бегал по улицам и площадям, пугая собак истерическими воплями, но карусель продолжала вертеться. Ибо в далеком столичном издательстве, заведовавшем вырубкой лесов и посевом разумного, доброго, вечного, некий «Особый отдел» прошляпил, проморгал и прозевал выход в тираж маститой N-ской достопримечательности.
Часы брезгливо крутили стрелками, банка дня громыхала, привязанная к хвосту кошки-ночи, и наступил срок, когда граждане перестали судорожно вспоминать сны, потому что вспомнили. Рождаемость прекратилась. Кинотеатр закрылся на ремонт. Горох застрял в трубочках. Пиво – в глотках. Письма в администрацию президента результата не возымели. Мэр подал в отставку. Люди бродили от княжеского особняка к статуе революционного матроса, натыкаясь друг на друга, и в глазах мещан чернота дальнего космоса освещалась вспышками лазеров, в умах кишели злобные киборги с антеннами, плоскими ушами и дурным характером, а в сердцах кипела тоска по рутине привычных будней, доводя слабонервных до инфаркта.
Колокол звонил по уездному городку N.
Литератор Х пил горькую, не в силах закончить очередной том «Саги о Форсаже».
Наконец в самом начале тупика им. НТР под пирамидальным тополем объявился Главный Иноплатенян собственной ксеноидной персоной. Голый, пупырчатый и возбужденный: Грозе Галактики минутой раньше попало по затылку лопастью от звездолета, отключив три мозжечка из двух. Так начался пятый круг, а поскольку звездные войны кишели бессознательными бойцами, то в уездном городе N вскоре стало не продохнуть от незваных гостей, окрещенных в народе «татарами». Вторженцы мало интересовались статуей и особняком, литератором Х они не интересовались вовсе, на шестом круге их орды усилили спящие роботы, центурияне-двоякодышцы и галактические рейнджеры, улицы перегородили баррикадами, лаборантов вкупе с инженерами снимали с работы, бросая на отлов нагих психов-мутантов, милиция работала в три смены, психиатры – в четыре, морг нанял дополнительно двадцать восемь служителей, администрация президента прикидывалась глухой, а карусель продолжала вертеться.
Седьмой круг – сохранение памяти у спящих оттуда – пролетел бумерангом. Вернувшись кругом восьмым: N-цы и аборигены «Саги о Форсаже» начали мотаться туда-сюда в скафандрах и пиджаках, у кого что было, а также крепко держа в конечностях бластеры, «макаровы», городошные биты и трубочки для гороха. Пришло время для перемещения матерьяльных ценностей. Пожалуй, дойди дело до девятого, последнего круга, когда начинается, говоря научным языком, смешенье географии, и космос вакуумным удушьем прорастает сквозь особняк князей Мозгляк-Петровичей, статуя матроса вспучивает пол в здании Галакт-Совета, а лед астероида Шпицбергена накрывает площадь Свободомыслия, торосами уходя в сторону рабочих окраин, – мы бы никогда больше не вспомнили про уездный городок N по причине отсутствия такового.
Но далекое столичное издательство успело вовремя.
К концу года в N осталось всего две достопримечательности.
Литератор Х перебрался в столицу на ПМЖ.
XIII. Чижик-Пыжик, где ты был? (продолжение)
Мне велено блюсти закон природы,
Мне сказано, что я и мир – финитны.
Я потрясаю третьим измереньем
Как стягом, архаичным и потешным.
Все чудится, что в небе есть воронка.
Все видится в круговороте притча.
Все кажется, что я вот-вот прозрею
И распахнутся сны мои для света.
Владимир БычинскийСмешно? – спросил Червь.
Нет, сказал я. Не смешно.
Это да, согласился Червь. Это ты прав. Хотя я старался. Так они что, в самом деле умолчали о кругах? Зря, зря… Рыцари доверчивы, как дети, нам иначе нельзя. Ты бы тоже поверил. Или, на худой конец, запомнил.
Как ты называешь это? – спросил я. То, что вокруг. Клякса?
Не нравится? – хихикнул Червь. Ясное дело, не нравится. Клякса и есть. А ты уж губу раскатал: демиург, блин… Сперматозоид ты, а не демиург. Думаешь, в тебе, красивом, дело? Самый талантливый, самый умный, самый-самый? Шиш тебе, Снегирю. Популярный ты. По-пу-ляр-ный. В тираж вышел. И вся петрушка. Вот, смотри: травка растет. Как называется?
Не знаю, сказал я.
Птичка на ветке поет. Как называется?
Не знаю, сказал я.
Какая страна за морем лежит?!
Не знаю.
Вот, улыбнулся Червь, не стесняясь плохих зубов. Не знаешь. И не должен знать. Потому что сперматозоид. Не ты делаешь – тобой делают. Тысячи, десятки тысяч, сотни… Они ждут, жаждут, мечтают о дне, когда ты в очередной раз позволишь им убежать из серой цитадели будней. Их жажда клубится над тобой, брызжет молниями, наливается мукой предвкушенья. Носится над водами, объявшими тебя до души твоей. И клякса однажды падает в пустоту. Начинается. Возникает. Чтобы навсегда отторгнуться и от тебя, и от них, жаждущих, когда книга упадет на прилавок. Дальше формирование идет самостоятельно. Рыцарь, твое первое появление здесь – одна из фаз зачатия. Как ты погиб при этом?
В первый раз меня разорвали собаки, сказал я.
Так всегда. Рыцарь погибает, едва возникнув в кляксе. Это закон. Не знаю, почему, но без этого клякса не сохнет. Потом – по-разному, потом гибнуть уже не надо… И не кричи, пожалуйста. Я понимаю, это трудно: с облака в дерьмо. Ты даже не представляешь, как хорошо я тебя понимаю. Филология?! – нет, логофилия. Извращение. Болезнь. Все логофилы, все: пассивные, активные… всякие. Вышедшие в тираж рыцари, гордость Ордена Святого Бестселлера. Оруженосцы, близкие к выходу. Кнехты – толпы безвестных словолюбов, пускающих слюни от вожделения. Наемники, сбегающиеся под знамена очередного литзаказа. И читатели: многие, имя которым – легион. Не ведающие, что творят. Ты любишь читателей, рыцарь? Нет, правда, любишь?! Когда стоишь на людной площади без штанов – любишь? Под жадными взглядами, под липкими пальцами?! Под гильотиной?! Можешь не отвечать. Я же сказал, что понимаю тебя.
Понимаешь, кивнул я, успокаиваясь. Допустим. И чего же хочешь?
Помочь. Смотри, я раскрываю карты. Ты заинтересован в консервации процесса с твоей, рыцарской, стороны. Я заинтересован в продолжении процесса с моей, червивой, стороны, потому что в высохшей кляксе мне нечем дышать. Или питаться, если так яснее. Наши интересы можно совместить.
Ты знаешь, как? – спросил я. Дышать и впрямь было трудно. Мне казалось, что я начинаю чувствовать подобно ему: клякса сохнет, и я задыхаюсь.
Знаю, сказал Червь. Тебе надо убить главного героя. Кто там у тебя главный? С которого началось?
Бут-Бутан, сказал я, нервно хихикая. Куриный Лев. Зачем мне его убивать? Лучше я о нем дальше напишу. Тома на три. Сейчас сериалы в моде.
Напиши, согласился Червь. Тома на три. Здесь убей, а там напиши. Как о живом. Приключения, подвиги, юморок. Бут-Бутан и Проклятье Королей. Бут-Бутан и Призрак-в-Опере. Бут-Бутан и Семеро Козлят. Главное: здесь – убить. И чтоб непременно ты, а не кто-то другой. Не бойся, я помогу. Я рядом. Этот гаденыш сюда идет. Я чую, я такие вещи всегда чую. Он придет, мы его схватим, и ты его убьешь. Тебе как лучше? Ножом? Копьем? Столкнуть со скалы? Отравить? Не бойся, мы его подержим. Это пустяки – убивать. Ты их сотнями мочишь. Тысячами. Одним больше, одним меньше…
Ты псих? – спросил я.
Не кричи. Рыцарь, я предлагаю тебе выход. Убей главного героя здесь, вернись и продолжай писать о нем как о живом. Три тома. Четыре. Сколько угодно. И процесс свернется, как кровь, выступившая из пустячной царапины. Сразу. Будешь спать спокойно. Все время, пока станешь о мертвом писать как о живом, будешь спать спокойно. Словно младенец. Твоя жизнь – единственная реальность. А это – клякса. Убей и уходи. Позже, когда начнешь делать новую кляксу, найди меня. Или мне подобного. Второй раз легче: убить и уйти.
А тебе? – спросил я. Тебе-то зачем смерть главного героя? Зачем – чтоб обязательно я?!
Надо, сказал Червь. Тогда я смогу здесь дышать. Долго.
И тут я понял, что, продолжая разговор в том же духе, сойду с ума.
* * *
Ветер дул от Грязнухи, освежая лицо.
– Думай, – согласился Книжный Червь, подслушав мои сомнения. – Только ты здесь думай. Тебе – времени больше, мне – спокойнее. Ищи тебя, свищи… А еще вот о чем подумай, рыцарь. Я под твой залог парню помочь обещал. Вон тому, румяному. Антоном звать.
Малярия Катаровна с внуком, словно статисты на премьере, ожидающие ключевой реплики героя-резонера, разом обернулись в наш адрес.
– Не вытащат лекаришки парня. А я вытащу. Отсюда. С твоей помощью. С какой? Ну, ты мальчик большой, умный, все слышал, все понял. Думай, рыцарь, крепко думай. Сутки у тебя точно есть. Может, больше. А дальше…
– Что – дальше? Если не надумаю?
Ну-ка, чем ты мне угрозить решил?!
– Не надумаешь – проснешься, вскочишь на резвы ноги, дальше жить побежишь. Кляксы клепать. Автографы, гонорары… Профессорша внука похоронит, отплачет над могилкой – тоже пустяки, дело житейское. Бывает. Думал, адскими муками тебя пугать стану? Чтоб ты гордо встал в позу? Героем себя почувствовал? Великомучеником? Не дождешься! Это в твоих опусах герой на злодее верхом сидит и магом погоняет. Век бы их, сволочей… А в жизни куда проще выходит. Решай, рыцарь. Давить не буду. Сам выбирай. Кто тебе дороже: герой, криво придуманный, или живой человек?
Легко ему, Нежному: думай! решай! Вот ведь вляпался. Конечно, Цып-Львенка я никогда всерьез не воспринимал. Даже как персонажа, не то что как живого человека. Штамп: берешь ребенка, лучше подростка, они симпатию вызывают… И повел по мукам, для пущего сочувствия. Приколов по вкусу, квест пассировать в масле-смысле до появления золотистой корочки. Легкий жанр, легкий прием. А главное – легкий автор. Не Булгаков, не Достоевский, не Ремарк даже. Влад Снегирь. По большому счету – так и вовсе Чижик. Взять и грохнуть Бут-Бутана? А потом продолжить, с шутками-прибаутками, «Сагу-о-Покойнике». Томов на десять. И забить на процесс анкерный болт с левой нарезкой…
– Господин Кничер, вы обещали!
Докторша терпеливо дожидалась окончания нашего разговора. Дождалась. Судя по ее виду, Кныжковому Хробаку[Кныжковый Хробак – Книжный Червяк (укр.). ] сейчас придется туго. Малярия Катаровна Фурункель пошла в атаку.
– Я все сделала! Этот человек здесь, вы встретились и поговорили! – Наседка, защищающая цыпленка, она едва сдерживается, чтоб не сорваться на крик. – Извольте выполнить свое обязательство: верните Антона в сознание!
– Прекратите истерику, госпожа профессор. Я же сказал, что должен уладить одно дело с господином Снегирем. А мы с ним дела еще не уладили. Подождите.
– Сколько?! Сколько я должна ждать?! У меня нет времени! У меня внук при смерти!
Точно, истерика. Иначе врачиха никогда б не брякнула такое в присутствии Антона. А парень молодцом: стоит, молчит. Другой бы вдвое громче орать взялся.
– У меня тоже мало времени. – Червь, в свою очередь, повышает голос. Лучники, дремлющие в холодке, заинтересованно поднимают головы: не пора ли приструнить дерзких? Но, не дождавшись приказа, теряют к нам интерес. – Выскажите ваши претензии Владимиру Сергеевичу. Я готов оказать соответствующую помощь, но он желает подумать.
– Не увиливайте, господин Кничер! Я договаривалась с вами, а не с ним! Пошла на преступление, похитила человека, а вы, вы…
– Бабушка, не надо. Успокойся. – Антон одним движением оказывается рядом, кладет руку на плечо старухи. Сейчас он выглядит старше, чем в тот момент, когда я впервые его увидел. Взрослый, спокойный, уверенный. – Ты же видишь, им нужно время. Ничего страшного, бабушка, ты не волнуйся, я дома еще полежу, а они договорятся, и все будет хорошо. Меня тут балуют, не переживай…
– Антошенька! Ты не понимаешь! Еще день-два…
Врачиха все-таки сообразила, что стоит говорить вслух, а о чем следует умолчать. Перевела дух, собралась:
– Решайте, господин Кничер! Я не намерена держать Владимира Сергеевича под наркозом сколько вам заблагорассудится. Он сказал, что готов помочь. Добровольно! Без всякого наркоза. А вы, вы… Неужто у вас нет сердца?! Человек вы или кто?!
А правда – человек он или кто? Или все-таки червь?
– Я верю, госпожа профессор, что вы с Владимиром Сергеевичем – самые честные люди на свете. С сердцем и душой. А еще я верю, что помоги я вашему внуку незамедлительно – в вас через минуту проснется совесть, а Влада Снегиря одолеют сомнения. И вы отпустите рыцаря домой, извинившись за насилие, рыцарь простит вас, подарив Антону свое собрание сочинений, а я, наивный, смешной, Книжный…
– Прекратите паясничать! Я еще раз…
Запнувшись на полуслове, Малярия Катаровна вспыхивает праздничным фейерверком; из почтенной дамы, шипя и захлебываясь, начинают бить разноцветные фонтаны бенгальских огней. Лучники хихикают – видать, насмотрелись на «пшики» Отщепенцев. Антон шарахается прочь. Из кустов, спугнув выводок ушастых канделябриков, доносится благоговейный вой всеми позабытых волхвов. Ушлые дедуганы, оказывается, никуда не делись: подглядывали, подслушивали в надежде, что рано или поздно кто-нибудь как-нибудь да совокупится.
Ах, Фурункель, красиво лопнула! По-английски, не прощаясь. Интересно, у меня это лучше происходит? – однако автор, рыцарь… Еще с полминуты после исчезновения докторши перед глазами мельтешат пятна немой светомузыки. Впрочем, немота пропала, огласив поля и долы: что рокочет там за лесом? Барабаны? Гром далекий? Иль накатывает лавой грохот тысячи копыт?
– Господин! Они идут! Тугрики!
На опушку, откуда видна дорога дальняя, высыпают все. Карабкаясь из-под туши небокрая, к нам движется черная муравьиная река. Взблескивает на солнце металлом. Большой Имперский Поход сынов Тугрии докатился наконец до Ла-Ланга. Тугрики спешат, торопятся. Срок удара Лунного Гонга остается загадкой для самых мудрых провидцев. День? Два? Три? Десять часов?
Этого не знает никто. Даже я.
Еще не придумал.
XIV. Диван Судьбецов говорит: бип! (запись в архиве В. Снегиря)
Слова и пpедложения, вместо того чтобы спокойно вползать в мозги и укладываться стpойными pядами, дpались между собой и не желали пониматься. Почему не писать пpосто «солнце зашло», вместо того чтобы гpомоздить полтоpа абзаца вычуpной нелепости?
Из писем читателейТак повелось от века под Семицветным Небом – и с незапамятных, поседевших от ужаса времен, когда сгинули в безвестье древние безумцы-Маргиналы, никто не осмеливался нарушить Уложенье Дивана Судьбецов, собрания, где мудрые принимают решения, обязательные для дураков.
О да, так повелось.
Раз в тридцать лет монархи, самодержцы, тираны, падишахи, султаны, цари, негусы и касики (нужное подчеркнуть) всех царств и государств, султанатов и халифатов, каганатов и раввиннатов собираются пред очи Великого Дивана Судьбецов, где тянут жребий: кому через два года на третий идти в Малый Имперский Поход (МИП): искать себе чести, а Судьбецам – кайфа. Покорять соседей, подобно склочной вредине-жалобщице, раздвигать рубежи, как раздвигает ноги умелая блудница, стяжать славу и богатство, беря пример с витязей прошлого и ростовщиков настоящего. Тем же жребием определяется и направление МИПа (куда ветер дует, куда ноги несут, куда глаза глядят, куда Диван послал; нужное подчеркнуть), и его конечный предел. А срок походу кладется под сукно в Храме Куцей Вечности – один год.
О да, один, и не больше.
Раз же в девяностодевятилетие разыгрывается жребий меж величайших властителей (а всякой мелкой шушере – зась!) на Большой Имперский Поход (БИП), где посылают дальше, раздвигают шире, стяжают немерено, а покоряют от души, только срок ему – два года простых и один високосный. Лунный Гонг возвещает начало БИПа, и конец его возвещает Лунный Гонг, куда бьют демоны-Палиндромы восьмиручным тумаком-колотушкой. После чего прекращается война, мать родна, добрая ссора сменяется худым миром, открывая сезон пиров, дележа добычи, насаждения лесов и новых порядков, а также мелких пограничных конфликтов, ибо границы иные, рубежи новые, а кто не спрятался – БИП не виноват.
О да, не виноват, и не собирается.
Препятствовать подготовке МИПа или БИПа воспрещается строжайше. Все царственные помазанники торжественно обязуются делать вид, будто знать не знают, слышать не слышат, и дворец их с краю. Едва же поход начнется, дозволяется дерзким оказывать военное сопротивление, рассудительным – присоединяться к завоевателю в качестве вассалов, а боязливым – прятаться в тайных, заранее оговоренных публично местах. Запрещено лишь заключать союзы военно-политические тремя и более государствами супротив зачинщика, ибо сие есть политика сложная, Судьбецам неинтересная.
О да, ничуточки.
Государство же, до территории коего докатился БИП в миг удара Лунного Гонга (велика мощь Палиндромов, о чем каждому слышно!), сохраняет независимость в случае, если столица оной державы сумела не пасть пред коварным, вероломным, напавшим внезапно врагом.
О да, и мы это знаем.
МИПы и БИПы призваны умилостивить гневных Держимолний, обитателей Лихой Пустоши Ять, о да, да, и еще тридцать три раза «о да», ибо страшна месть глухих к мольбам, на чем разрешите откланяться…
XV. Чижик-Пыжик, где ты был? (продолжение-2)
Особенный это был Чижик, умный: и ведерко таскать умел, и спеть, по нужде, за канарейку мог.
М. Е. Салтыков-ЩедринВ свое время идея БИПа показалась мне просто блестящей, свежей и оригинальной. Сейчас же, глядя на приближающихся тугриков, я начал в этом сильно сомневаться. Идея блестела куда меньше – на фоне сверкания доспехов и нарастающего топота копыт.
– Уходить надо. Нам-то с тобой, рыцарь, наплевать и забыть. Судьба лучников, подозреваю, тебе безразлична. А парня жалко. Мне его еще реанимировать…
Что-то в словах Червя выглядело фальшивым, натянутым, но разбираться в смутных ощущениях было некогда.
– Есть место. Храм Кривой Тетушки. Он на отшибе, солдаты мимо пройдут. И шарить там никто не станет.
– С чего решил, что мимо пройдут? А ну как застрянут в городе?!
– С того. У тугриков времени в обрез. Им крепость штурмовать надо, пока Гонг не грянул.
Червь поджал губы, раздумывая, но возражать или переспрашивать не стал. Уже на ходу, ныряя вслед за мной под своды леса, поинтересовался:
– Твое логово, да?
– Угу.
– Так и знал! А я ведь тебя, считай, вычислил. Не знал только, что ты в самом храме объявляешься…
Антон шел следом за нами. Обезлученные лучники прикрывали арьергард. Вернусь – надо будет этот глюк поправить!
Непременно.
* * *
Бут-Бутан отполз назад, больно оцарапав щеку о шипастый куст обдерихи.
Обернулся к спутникам:
– Мерзавцы! Они увели Лучшего-из-Людей! Сперва их главный с ним ругался, потом старуха ругалась, так он ее заклятьем сжег! А Лучшенького за это – в плен, на муки!
– Мы должны его спасти! – отчаянно всхлипнула Аю, и это был редкий случай, когда Куриный Лев не стал возражать Носатой.
– П-пошли! Д-д-д… д-догоним!
Трое дерзких бесшумно нырнули в чащу вслед за лучниками. Лишь Мозгач Кра-Кра наступил на сухую ветку да Аю больно зашибла палец о корень ивы-хохотушки, охнув в голос под насмешливое хихиканье ивы. Позади шлепали верблюди – свежеобретенные Ноги Лучшего-из-Людей.
Однако в близящемся грохоте тугриков, спешащих на штурм цитадели Ла-Ланга, никто ничего не услышал.
XVI. Отрывок из поэмы «Иже с ними»
А у меня особенное счастье…
В. Шекспир Топча упругою стопой Асфальт, не вереск, Иду, распластанный толпой, На книжный нерест. За мной бушует бытиё, Блестя клыками: «Куда ты прешься, ё-моё! Где брат твой, Каин?! Взгляни, ты бледен! Жалок! Пьющ! В кармане фига!..» Но сладок ядовитый плющ, И манит книга. Меня терзал вагон метро, Дыша миазмом, Мир выворачивал нутро, Крепчал маразмом, Сулил прокладки, «Бленд-а-Мед», Журнальный столик, Массаж, бесплатный Интернет, — Но нет! Я стоек. Смахнув простуженно соплю, Достав бумажник, Я книжку новую куплю О кознях мажьих, О некромантах-королях Роман иль повесть, И у эстета-куркуля Проснется совесть. Он скажет: «Да! Пусть я, кощей, Над Гессе стражду — Но есть немыслимых вещей, Которых жажду Вкусить не скрытно, не тайком, А в буйстве пира, Вспоен духовным молоком, Желаю пива!» Есть упоение в бою Назло гадюке-бытию!XVII. Ул. Героев Чукотки, 26, кв. 31: давний марьяж червей
Он стоял между строчек
И грустно глядел исподлобья.
Он стоял между слов,
Проклиная занятье свое,
Неразборчивый почерк
И смысла сокрытого ловлю,
Потрясанье основ,
Беспрерывное мифов литье…
Артем СтепинНазвав адрес, королева откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Она устала. Она не выспалась. Королеву мучила изжога от скверного ужина, второпях купленного в экспресс-баре девятого вагона; мигрень копошилась в висках, покусывая каждую мысль острыми зубками крысы. Хорошо, что в такси, как прежде в купе СВ, она – единственный пассажир. Но если в первом случае видна рука умницы Альфреда, явно купившего второе место, «создавая даме условия», то сюда пухлые щупальца зама по особым вряд ли могли дотянуться. Просто повезло.
Меньше всего ей сейчас хотелось общаться с попутчиками.
Даже сидеть рядом с кем-то не хотелось.
Этой ночью Польских не решилась нырять в хаотики, заново торить тропу в локус Снегиря. Давнее чутье, очнувшись от долгой летаргии, намекало: опасно. Для кого? Для нее? Для окружающих пассажиров: пьющих, любящих, скучающих? Для Володи?! Она не знала. Наверное, в период «ломки», с неистовством смертника прорываясь в стабилизированные крепости рыцарей, зубами выгрызая брешь, на ощупь отыскивая нужный путь, приобрела дар сродни таланту издательского интута. Считай, есть вторая профессия: монстры издательского бизнеса готовы на все, едва шепнешь им на ушко: «А я, брат, интутка, я фея из бара…»
Идея окончательно вызрела, когда поезд уже тронулся. Такого не делал никто, но королева привыкла быть первой. Скучно, трудно, главные шишки – тебе, зато привычка – вторая натура. Если контакт с блудным Снегирем откладывается до личной встречи, следует хотя бы частично компенсировать ситуацию в целом. «Заморозить» процесс – пусть на короткий срок. А за это время, как говаривал Ходжа Насреддин, кто-то обязательно сдохнет: или шах, или ишак, или я.
…или я?!
Обычно полагая обилие курсивов в тексте признаком слабости автора, тонущего в обилии акцентов, сейчас Польских тихо посмеивалась над собой: думаю сплошными курсивами. Старею?
Не зря она затребовала у Гобоя мобильный телефон. Как чувствовала: понадобится. Разбираться с мудреной игрушкой пришлось дольше, чем Тамара рассчитывала: техника вечно откалывала шуточки с наивной королевой. Но в итоге победа осталась за Польских. Шестнадцать номеров телефонов. Шестнадцать рыцарей Ордена. Коды городов.
Поехали!
У Снегиря юбилей. Десять лет, значит, с пером в руке. Поздравления? Мало. Рыцарям голыми реверансами не отделаться. Вы меня понимаете?! Пародии, эпиграммы, стилизации, оды, посвящения, все, что угодно, что в голову взбредет, но «в характере»! – слышите?! – и срочно. К утру должно быть. Лучше – раньше. Через час. Через два. Из штанов выпрыгнуть, а сделать. И с душой, шантрапа! С сердцем, гвардия! На всех сайтах, форумах, страничках – куда получится дотянуться. Если удастся: в прессе. Гобою отправлять? Обязательно! В первую очередь. Он сам разберется.
Орден Святого Бестселлера кивнул, становясь в строй. Рыцари – народ понятливый, фронт держать умеют. Должно сработать. Ненадолго – но должно.
Потом она внимательно читала распечатку романа Снегиря. Искала дополнительные узлы влияния, делала пометки, прикидывая, где логичнее будет сделать промежуточный финал. Уж лучше она, чем редактор из «Аксель-Принта». Нахлебалась от этих вивисекторов: лудим-паяем, блудим-ваяем… Запасной вариант – на случай, если у Влада не останется времени на доработку.
Время, время!..
Было крепко за полночь, когда в сумочке требовательно заверещал мобильник.
Алло! Тамара Юрьевна? Не разбудил? Чудненько, я так почему-то и подумал, что вы не спите. Королева вы моя! Умничка! Спасибо вам огромное! Тексты рыцарей начали поступать. Есть совершенно роскошные: Кепский рассказ в манере «Рабов Страха» наваял, Эльф эпиграмму: «Спеши, рассвет, вставай, заря, ко дню рожденья Снегиря…» Ну, дальше неприлично, но смешно. Веб-мастер в издательстве ночует, сразу выкладывает. И спецвыпуск газеты «Звезды на ладонях» с фрагментом романа – в типографии. Утром ждем. Как у вас дела? Вникаете? Хорошо, хорошо, не буду мешать. Появятся новости – звоните.
Тем не менее Альфред не утерпел, презрев благие намерения «не мешать». Позвонил в рань ранющую, едва Польских забылась мутным, противным, словно овсяный кисель, и таким же безобидным сном. Газета вышла, материалы на сайте, уже отзывы пошли, спасибо вам триста раз, держите в курсе… Разбудил, скотина басовая, – как обычно, из самых лучших побуждений.
Хотя, может, оно и впрямь к лучшему.
– Приехали, мадам! С вас одиннадцать семьдесят. По счетчику.
Это намек такой. Тонкий. Что ж, держите пятнадцать ваших тугриков, любезный. И сдачу, сдачу не забудьте. Знаем мы вас, шоферню. Сказал бы «мадмуазель» – получил бы на чай. А так – шиш.
Стандартная пятиэтажка, виноград затянул балконы сухими февральскими плетями; рядом в подворотне мрачно курит дворник. Или не дворник: мало ли кто с совковой лопатой выйдет покурить? Вроде подъезд правильный. Ага. «Сюрпри-и-из!» – кодовый замок на двери. Ладно, сейчас брякнем в колокол. Вот и еще одна выгода от мобильника – иначе стояла бы тут дура дурой, ждала, пока кто-нибудь откроет, время теряла…
– Здравствуйте. Это коллега вашего мужа. Тамара Юрьевна Польских. Я только что приехала, стою у вашего подъезда и не знаю кода. До сих пор не появлялся? Жаль, очень жаль. Вы разрешите мне войти? Я как раз по этому поводу и приехала…
* * *
– Здравствуйте. Тамара Юрьевна?
– Просто Тамара, хорошо?
– Анастасия. Просто Настя. Вы проходите, проходите! Давайте ваше пальто. Тапочки под вешалкой. Завтракали? Чай, яичница, бутерброды? Гренки?
Жена Влада излишне суетится. Или не жена? – краем уха слышала сплетни про развод… Какая разница? Пусть будет жена. Произносит стандартные, приличествующие случаю фразы, пытается целиком окунуться в заботы по встрече неожиданной гостьи, – но что-то давит, распирает, гнетет ее изнутри. И глаза. Глаза затравленной собаки. Сухие, блестящие. Кажется, Настя едва удерживается от слез.
И все равно, несмотря ни на что, она – красивая.
…молодая.
Королева ощутила привычный укол зависти. Ностальгии по волшебной стране, где жила юная принцесса, Ее Взбалмошное Высочество, готовое свести с ума любого голодного дракона. Без изжоги. Без мешков под глазами. Без часов, проведенных перед зеркалом, в тщетных попытках «реанимации лица». Что, милочка? Вот перед тобой стоит такая принцесса. Смотри. Свежая, упругая кожа, тело легкое, наполненное нерастраченной, требующей выхода жизненной силой… А ресницы у нее – просто роскошные. Причем не накладные, свои.
Смотри и завидуй. Стыдно, да?
Не за возраст.
За зависть.
– А мы с вами однажды встречались. На конвенте, в Одессе. Меня Влад с собой вытащил чуть ли не за уши! Я не люблю, если много народу… У вас, кстати, автограф взяла, на «Последнем мече». Вы, конечно, не помните, вы книг сто исписали, не меньше. А Влад про вас часто рассказывает…
Польских действительно не помнит. Но разве это сейчас важно?
– Спасибо, я бы чайку с удовольствием…
– Бутерброды с сыром? С колбасой?
– Если мне, то один бутерброд. С сыром. Извините, что без предупреждения…
– Да что вы! – Похоже, хозяйка дома искренне рада. Так радуются случайному попутчику, малознакомому гостю, позволяющему отвлечься, соскользнуть с ледника беспокойства в рутину встречи, разговоров ни о чем. Так принцессы выходят замуж за первого встречного. – Проходите в кабинет, располагайтесь, чайник только что кипел, я быстро…
Кабинет. Типично мужской беспорядок, на грани бардака. И как Настя это терпит? Компьютер хмурится чумазым монитором: надо, надо умываться… Столик вопиет под гнетом геологических напластований бумаг: распечатки, ксерокопии статей, записки, визитки… Рядом – дорогое, но доведенное до отчаяния офис-кресло с изменяемой геометрией. На левом подлокотнике – следы от пролитого кофе. Стены увешаны разнокалиберными полками с книгами. В относительном порядке выстроены лишь сочинения некоего Влада Снегиря. Вместе с переизданиями и сборниками эти буржуи занимают самую длинную полку. Остальное напихано как попало. Ага, вот и подборка «текстовских» изданий Тамары Польских. Полкой выше – знакомый раритет «Джимми Дорсета». Березка, Эльф с Петровым, Кепский – вперемешку с томиками Ахматовой, Басё, Эренбурга, Джулианы Хаслам, Хемингуэя, Лао Шэ, Назыма Хикмета… «Мифы народов мира», справочник по холодному оружию, детская энциклопедия «Монстры, привидения, НЛО». И, апофеозом эклектики, – «Кулинарный Мидраш» с подзаголовком: «Книга о вкусной и здоровой кошерной пище»!
Польских открывает наугад:
«Картофель в мундире „Кантонисты“. Семантика начинки и приправ: яйца – символ мужества, перец и соль – трудности и опасности, мускатный орех и розмарин означают внутреннюю красоту еврея-солдата, а топленый жир…»
Обалдеть! Узнаю Снегиря…
– Пройдем на кухню? Или сюда принести?
– Конечно, на кухню!
– Вот, налево. Присаживайтесь. Вам чаю покрепче?
Чуть не вырвалось: «А он кошерный?»
– Нет, спасибо. Говорят, от крепкого цвет лица портится…
Тяжелая капля заварки падает на скатерть. Катится по клеенчатой поверхности. А руки-то у тебя дрожат, детка. Совсем чуть-чуть, едва заметно…
Настя что-то знает.
Это была не догадка, а внезапно пришедшая уверенность.
– Настя, скажите, что у вас случилось? Я же вижу… Это связано с Владом, да?
Хозяйка дома кивает, поперхнувшись глотком чая.
– Он до сих пор не объявлялся?
– Нет.
– И не звонил?
Короткая, болезненная пауза.
– Нет.
– Лжете, Настя. Вам нельзя лгать, вы не умеете… Боитесь сказать лишнее? Не бойтесь. Я приехала, желая помочь Володе. Ничего не стану обещать, я даже, если честно, не уверена, что вы не сочтете меня сумасшедшей, но одно мне известно наверняка: что сейчас происходит с вашим мужем. Я сама прошла через это в свое время. Вы любите Володю?
– Почему вы…
Настя умолкает. Смягчается, едва возникнув, колючесть взгляда, стерев нерожденные слезы. Проходит минута, другая, прежде чем она отвечает просто и безыскусно:
– Да.
И все-таки, не удержавшись, добавляет:
– Только я не понимаю, почему это интересует вас?
– Интересует, – улыбается королева. – Поэтому давайте так: сперва рассказываете вы, потом – я. Впрочем, если хотите, я могу начать первой.
– Нет-нет, не надо. Влад всегда отзывался о вас… уважительно? Нет, это неправильное слово… Тепло! Да, тепло. Я вижу, он был прав. Вот вы все бросили, приехали…
Было видно, что Насте неловко откровенничать с посторонним человеком, но она просто не в силах сдерживаться и злится на себя за эту слабость.
– …не могу больше! Извелась вся, места не нахожу. А рассказать кому-то – боюсь. Они не велели. Хорошо, что вы приехали. Влад… – Настя глубоко вздыхает, как перед прыжком в воду. Руки ее больше не дрожат. – Его похитили! Они мне позвонили…
Польских слушала, не перебивая. Пусть девочка выговорится. Лишь раз позволила себе отхлебнуть чаю, а к бутерброду даже не притронулась. Жевать, слушая исповедь?! Странный звонок. Зачем им (кому – «им»?!) понадобился вернувшийся с конвента Снегирь? Совершенно дурацкое похищение! «Вопрос жизни и смерти» – надо же, какой пафос! Дешевый детектив. Мелодрама. Обещали вернуть живым-здоровым…
Наконец Анастасия иссякла. Сидела, опустошенная, молча глядя в стол. Рассматривала, будто только сейчас увидев, крупинки сахара-песка, рассыпанные на клеенке – бежевой, в мелкий цветочек.
– Знаете, Настя, я тоже в замешательстве. Глупая история. Безумная, нелепая. Но мне кажется, это связано с процессом Володи…
– С процессом? Каким процессом?! Влад болен, да?!
Слово сказано. Надо продолжать.
Если она не лжет, что любит… Вряд ли. Девочка не умеет лгать, королева, ты сама об этом сказала.
– На нашем жаргоне это называется: «выход в тираж». Нет-нет, это совсем не то, о чем вы подумали…
Теперь говорила Польских. Процесс, круги, Орден… Рассказывала, объясняла – и понимала, как выглядит со стороны. Психованная дамочка, рехнувшаяся на почве климакса. В самом лучшем случае ее рассказ мог вызвать вежливое недоумение. Зря она ввязалась в эту историю.
Зря.
– …Сейчас издатель принимает срочные меры, чтобы затормозить процесс. Но если Владимир в ближайшее время не объявится и не подпишет договор или не сдаст книгу в производство… Массовый психоз – самое невинное, во что ситуация может вылиться на четвертом-пятом круге. Дальше будет только хуже.
Королева умолкла, допила остывший чай и в упор посмотрела на Настю. Санитаров сразу вызовешь или как?!
– Знаете, мне в последние дни… – Настя играла краем клеенки, отказываясь встретиться с Польских взглядами. – Снится. Что-то. Часто. А вспомнить потом ничего не могу. Внутри ноет: вспомни! важно! Нет, никак. Стена. Хоть голову разбей.
– Это конец третьего круга. Скоро, проснувшись, вы будете все помнить.
Королева вздрогнула. Помнить! Когда хотелось бы забыть…
Увы.
– Не бойтесь, Тамара. Я сейчас за соломинку хватаюсь. Предложат в НЛО к Сириусу слетать – займу денег, куплю билет и полечу. Лишь бы Влад вернулся. Вы мне другое скажите: вы из-за него приехали? Или только из-за «процесса»?
– Только? Настенька, вы намного моложе меня… Впрочем, это не аргумент. Кто вы по образованию?
– Я? Филолог. Это имеет какое-то значение?
– Нет. Значит, филолог. Один мой знакомый называл таких «логофилами». Вы улыбнулись? Напрасно, вряд ли он вкладывал в это определение юмор. Вы не рыцарь Ордена Святого Бестселлера, но это тоже не аргумент. Знаете, самое тяжелое – отнюдь не работа над новым текстом, а ожидание начала процесса, которое всегда стоит у тебя за спиной, заглядывая через плечо. Многоликий идол, тысячеглазый Аргус с серпом за пазухой.
– Вы путаете, Тамара. Это Гермес был с серпом. Отрубив им голову Аргусу-Многоглазу.
– Я знаю, Настя. Вы все правильно говорите. А я все правильно – знаю. Потому что этот Многоглаз с серпом стоял за спиной у меня. Вчитывался, размышлял, погружался, чтоб однажды вынырнуть, вцепиться, утащить и полоснуть. Чувствуете, как я заговорила? Существительные и глаголы. Кости и мышцы. Никакой косметики прилагательных, пудры наречий, обилия родинок-местоимений… Кости и мышцы. Так труднее соблазнять, но легче драться. Так легче ждать удара…
Продолжая рассказывать, королева ощутила укол болезненного удовольствия. Пьяница в завязке вслух вспоминает былые подвиги: где, когда, сколько, с кем и подо что. На языке тает хмельной отзвук памяти. Или иначе: пожилой интеллигент в очках и шляпе, с подагрой и радикулитом, вспоминает сладкий месяц юности, когда он, прыщавый щенок-восьмиклассник, презрев увещевания бабушки и слезные мольбы родителей, записался на дзюдо. Месяц «мужчинства». Пота, ушибов, насмешек – и счастья. Не забыть никогда.
И, выпив лишнюю рюмку коньяка, втягивать живот и расправлять плечи, заводя шарманку: «Однажды я…».
– Работа – это пустяки. Привычка. Контракт-заказ, аванс, сроки, и ты почти гарантирован от лишних последствий. Ну, в крайнем случае кинешь заранее фрагмент, отрывок, как кость, как камень в пруд… Полегчает. А дальше книга уходит в печать, ты едва переводишь дыхание, и опять…
– Почему – опять? Почему – едва, Тамара?! Отдохните месяц. Два. Возьмите год передышки. Деньги у вас есть, можете себе позволить…
– Деньги есть. А позволить не могу.
Королева рассказывала. Рыцарь не в силах долго отдыхать. Рыцарь не может без подвигов, убитых драконов и поверженных великанов. Закончив текст и сдав его в печать, ты сердцем чувствуешь, как все короче становится отпущенный тебе срок перерыва. Ни за что не узнать, сколько отведено на сей раз. И в одну малопрекрасную ночь ты ложишься спать, – ненавидишь дремоту, королева! О да… – внезапно погружаясь в хаотики. Вышедших в тираж рыцарей Ордена мало. Меньше двух десятков. Но оруженосцев, следующих за рыцарями по пятам, много больше. Сейчас уже полусотня наверняка. Они пишут, их издают, постепенно приближая планку «выхода» для самых рьяных, избранных Господином Читателем. Оруженосцы мечтают о заветных шпорах, поясе и тираже. Мечтают страстно, подражая рыцарям во всем: в построении сюжета, в завязке интриги, в стилистике, языке, манере… Это инстинкт оруженосцев – подражать.
Это творения оруженосцев – хаотики.
Недостаточность тиража.
Незавершенность воплощения.
И рыцарь, слава и гордость Ордена Святого Бестселлера, наивно взявший долгую передышку, рушится в аморфную, кипящую массу. День за днем. Сон за сном. Спасение одно: начать собственный текст. Вернуться на круги своя: контракт-заказ, аванс, рекламный абзац в прессе: «Известный писатель-фантаст Имярек приступил к работе над новым…» Ты снова в колесе, но в колесе обжитом, чуть ли не уютном. Жаль только, срок передышки становится короче с каждым годом.
Жаль.
– Но Влад рассказывал… Вы же бросили! Перестали!
Сейчас она спросит: как?
– Почему?!
Удивительный вопрос. Эта девочка – первая.
– Настя, я спрашивала у вас: любите ли вы Влада?
– Да. Вы спрашивали…
– Это было очень важно для меня. Любящий человек – опора для любимого. Банально, да? И тем не менее… Но иногда – камень на шее, влекущий на дно. Удавка, за другой конец которой может взяться кто-нибудь посторонний.
Ты будешь рассказывать дальше, королева моя? Ты рискнешь?! Это дурно, скверно, не по-королевски: пугать юную принцессу державными страхами, показывать коллекцию ядов, водить на экскурсию в пыточную…
Ты понимаешь, что делаешь, королева?
О да, ты понимаешь.
Кто, если не ты?
* * *
Боль – серебряный голубь. Клюв его ярко-алый, В черной бусине глаза — Ночь, бессонница, бред. В ране он копошится, Тихо, томно воркуя, Боль – серебряный голубь. Не люблю голубей.…Он был обаятелен. Галантен. Предупредителен. Располагал к себе, вызывал доверие. И даже удивительная привычка именоваться Книжным Червем, – «Книжный я! Книжный!..» – абсолютно не смущала Царицу Тамару. «Я вас вычислил! – смеялся он, шутливо грозя пальцем, неестественно длинным и гибким. – Знаете, как в анекдоте? Карту составил, флажками обложил. Очень уж хотелось увидеться. С той, кто все это придумал, создал. За наше знакомство!» Вино было терпким, густым, в букете напитка жар июльского солнца сливался с радостью жизни, обещанием чуда…
Он сделал ей предложение. Как бы между делом, а вернее – между третьим и четвертым бокалом, но королева сразу ощутила: вот оно, главное, ради чего он потратил кучу усилий на поиски. Он знал способ остановить процесс. Способ простой и действенный. Она должна убить Авельома, Сероглазого Короля, главного героя романа «Безысходная боль». Убить здесь, внутри, своими руками, – а не там, дома, на бумаге или дисплее компьютера. Яд. Сталь. Огонь. Что угодно – метод не имел значения. Но – собственноручно. И белка по имени Тамара Польских вырвется из колеса, сердце локуса перестанет биться, а он, милый, милый Книжный Червь, наконец обретет спокойное пристанище в кляксе, которая теперь будет сохнуть в тысячу раз медленнее.
Она думала долго. Изнурительная гонка со временем. Поджимающие сроки. Наступающий на пятки процесс. Получить передышку, шанс, возможность собраться с мыслями, перевести дух… Она была уверена: Червь не врет. Это сработает.
Но…
Первая строка, первый абзац текста, первая глава. Зачатие локуса. Первое явление рыцаря – и непременная смерть, избежать которой не удавалось никому и никогда, хоть дюжину премий под подушку затолкай. Искупление? Рождение? Зачать можно и в грязном подвале, наспех, в объятиях пьяного сантехника… Речь о другом: у будущего ребенка, однажды уходящего из матери в свою собственную жизнь, есть сердце. Центр кристаллизации. Пуп Вселенной.
Главный герой.
Без него творение превратится в медленно, очень медленно загнивающий труп, где теплится противоестественное подобие жизни. Зомби с черной дырой в груди. Мертвечина.
В трупах заводятся черви.
В трупах книг – Книжные Черви?!
Habent sua fata libelli[Книги имеют свою судьбу (лат.).].
Своими руками убить человека… Человека? Опомнись! Это плод твоей больной фантазии… Пусть! Частица вложенной души – и ее огнем? Металлом?! Ядом?! Он уже не принадлежит тебе, у него отдельная жизнь, ты не вправе… Ха! Не вправе?! «Я тебя породила, я тебя и убью!» Убью – в обмен на нужную как воздух передышку в изматывающей гонке. Обеспечу Червя «столом и домом» на многие века. О, возможность спокойно спать по ночам, не считая недели и дни, оставшиеся до…
Не слишком ли велика цена, королева?
Не знаю.
Идя на очередную встречу, будучи готова согласиться, она отказалась.
«Выпьем за тебя, упрямица. И посмотрим на меня. Смотри! Не смей отворачиваться! Я вечно голоден, я одинок, у меня нет друзей, я вынужден раз за разом скользить через хаотики (а ты знаешь, что это значит!) в поисках новой, еще не засохшей кляксы, но скоро и она становится непригодной для меня, и вновь, снова, опять… Это ад, королева! Мой ад. Хочешь стать такой же, как я? И Червь был рыцарем. Давно, очень давно. Пыжился, раздувал грудь, из штанов выпрыгивал… Помнишь, у Андрея Белого: «В нас – рой миров. Вокруг – миры роятся. Мы станем – мир. Над миром встанем мы. Безмерные Вселенные глядятся в незрячих чувств бунтующие тьмы…» Погляди на меня теперь! Бог?! Ха! За все надо платить, королева. Мечтал парить орлом? – поползай червем. До скончания дней. Хочешь этого? Нет? Тогда убей его! Убей, дура!..»
Ей стало страшно. По-настоящему. Ну что ты упрямишься, Царица Тамара? Всего лишь крупинка яда, пущенная издалека стрела, толчок в спину на краю обрыва… Тебе даже не придется смотреть ему в глаза. Пиши дальше, веди мертвого, как живого, – так даже интереснее, можно круче завернуть сюжет…
Нет.
«Пожалеешь, королева. Ты еще пожалеешь…»
Нет.
«Нет?»
Она опаздывала! Впервые процесс зашел у Польских дальше обычного. Начало третьего круга. Когда, проснувшись, люди не могут вспомнить: что же им снилось?! – а память все шарит вслепую, раня пальцы и отказываясь признать поражение. Близкие люди. В первую очередь территориально близкие, – но так уж повелось, что в одной квартире с рыцарем Ордена…
Их ждали. Не ее. Мужа и дочь. Тех, кого третий круг накрыл в первую очередь. Тамаре не хватило всего нескольких дней, но эти дни стоили вечности. Седые волосы не в счет. Если б только волосы…
Мужа с дочерью хватали сразу по появлении в локусе. Флажки Червя сработали отменно: местонахождение квартиры Польских было вычислено с дотошностью педанта. Там постоянно дежурили солдаты Благой Инквизиции. Королева сама создала мир, где в изобилии имелись виртуозы пыток. И сейчас проклинала собственную изобретательность. «Шершавый ослик», «Мешок-с-котом», «Жилистая Дева». Тамара Юрьевна, со всем арсеналом замечательных премий-артефактов, узнала об этом не сразу. А узнав, как назло всякий раз «промахивалась» по времени, не успевая прийти на помощь.
Муж по утрам ходил тихий, словно пришибленный. Отвечал невпопад. Моргал близорукими глазами, вздрагивая, когда от сквозняка хлопала форточка. Взял отгул на работе. Страх копился на самом дне, поверхность была тиха и спокойна, но черти плясали в глубинах омута.
С дочерью было еще хуже. Ее увезли в психиатрическую клинику: проходя медосмотр, во время анализа крови младшая Польских кинулась на медсестру.
Она призналась. Не могла больше скрывать.
Муж подал на развод.
Королева была близка к тому, чтобы наложить на себя руки. Лишь безумное, маниакальное желание: найти и убить проклятую тварь! – помогло не вскрыть вены. Она явилась во всеоружии. В сверкающей броне, с мечом, извергающим пламя, и ярость кипела в глазах Ее Величества. Храбрые бежали с пути королевы, отважные умирали.
Она быстро нашла Червя. Подозрительно быстро.
И оказалась бессильна.
Книжный Червь просто исчезал. Уходил в складки пространства (текста?!) еще не засохшей кляксы, просачивался водой меж пальцев. Издевался. Мстил за отказ. А она ничего не могла сделать. Даже отплатить.
Тогда она попыталась убить его отсюда. Ввести в ткань романа, в плоть «Безысходной боли», – и убить. Руками главного героя, Сероглазого Короля.
И снова – провал. Текст сопротивлялся, отторгая инородное вторжение. Спустя неделю она поняла, что во сне, как лунатик, садится за компьютер и стирает написанное за день.
Все было бесполезно.
Тамара поставила последнюю точку и отправила текст в издательство.
В сентябре дочь вышла из клиники, отец забрал ее, и они уехали в другой город.
А королева поняла: все. С нее достаточно. Что такое ад хаотиков по сравнению с пережитым?
Она еще не знала, на что идет.
* * *
– Я боюсь, теперь он пытается соблазнить Влада. Да, попробую. Прямо сейчас. Что мне для этого нужно? Пустяки. Место, где можно заснуть. Да, спасибо, этот диван вполне подойдет. Нет, не беспокойтесь. Снотворное с собой. Пожелайте нам удачи, Настя.
XVIII. Моралитэ
Не пей, Ивашка, из копытца, Не будь козлом! Дана еще одна попытка, Считай – свезло. Иди домой. Там на полатях Вольготно спать, Там за работу деньги платят, Где грош, где пять. Там в праздник хорошо упиться, Первак горюч… Копытце ты мое, копытце, Кастальский ключ.XIX. Театр военных действий: доживем до антракта?
Честно говоря, правдоподобность «боевок» меня не особо волнует. Лишь бы глобальных ляпов не было, да описание боев не рушило целостность произведения как самим своим наличием, так и своим духом.
Из обсуждений книг В. СнегиряОтсюда, с кручи над Грязнухой, где прятался храм Кривой Тетушки, открывался удачный вид на цитадель Ла-Ланга. Как из оперной ложи на премьер-баса, исполняющего сакраментальное: «Люди гибнут за металл!» Гобой, не к ночи будь помянут, икает небось… Волна тугриков успела докатиться до ручки (бронзовая такая, на парадных воротах крепости), просочась сквозь город, как вода через сито, не тратя времени даже на отправление естественных потребностей: грабеж и насилие. Царственный Тугр, Богоравный Сотрясатель Основ, Рожденный-в-Короне, спешил взять цитадель до удара Лунного Гонга. Тогда земли Ла-Ланга отойдут к новорожденной Империи. Раджа же явно рассчитывал продержаться до финала. У хитреца Синг-Синга был шанс: оракулы подтверждали это единогласно, опасаясь мстительного владыки, чьим девизом был загадочный слоган пропавших без вести древних безумцев-Маргиналов – «Делай, что будет, и будь всем должен!»
Война шла всерьез, по правилам и без компромиссов: со стен на головы осаждающих ушатами лился сироп черепичных арбузов, привлекая тучи злющих нетрудовых пчел, осюков и шершнелей; атакующие тоже в долгу не оставались – в защитников цитадели летели дротики с паклей, смоченной пугун-струей зобатого кукиша, меж плитами стен вбивались расклинья-камнеломы, а ворота сотрясались под натиском ритуального тарана из цельного ствола Отворяй-дерева.
Разумеется, всех этих подробностей я разглядеть не мог – далековато, знаете ли. Но кое-что видел. Вдобавок именно так некий Снегирь и намечал описывать штурм. Описал, значит. От башен до фундамента. Эй, погодите! Что за отсебятина! Таран взвился анакондой, страдающей от поноса, конвульсии ствола расшвыряли дюжих рабов из обслуги, и через минуту таран уполз к морю, гнусно ругаясь дальнобойным шепотом. Молодец, Нафири-су! Боевая магия – это вам не фунт сушеных кузнецов! Знай наших!
Мои симпатии – на стороне лалангцев. В конце концов, почти земляки.
Бей имперцев!
Треклятая Башня ла-лангского мага светилась изнутри густым ультрафиолетом, покрывая врагов нездоровым загаром, и гудела, как силовой трансформатор, – даже отсюда слышно. К башне тугрики соваться не рисковали: военный устав строго-настрого запрещал вступать в полемику с магами. А Алый Хонгр, единственный, кому устав был не писан, запаздывал.
– Ну ты и наворотил! – В бормотании Книжного Червя мне чудится легкий оттенок уважения. – Веселишься? Издеваешься? Черепица из арбузных корок, в ветвях золотухи чирикают, в кустах канделябры скачут… А все равно «super penis non saltos», Снегирь. Выше головы не прыгнешь. Архетипы. Одни архетипы – и больше ничего.
Рано, выходит, обрадовался. Уважение? Дождешься от Нежного, как же!
– Сам ты архетип! – Защищая родное детище, Снегирь бывает страшен. – Архетипчик! Тут находок на полное собрание сочинений! Что такое «словотворчество», знаешь?!
– Творчество-шкворчество! – презрительно кривится Червь, сплевывая. – Находки! А «хохма» на иврите значит «мудрость», и цвет ее белый… Первооткрыватель Христофор Колумбович: магия-шмагия, герой-недоросль, квест, препятствия, завоеватели с имперскими амбициями… Рыцари Ордена! Штамповщики у конвейера вы, а не рыцари! Слышишь, барабан рокочет: штамп-штамп-штамп-конъюнктура?! Стервятник ты, Снегирь. Армагеддоныш. Народ тысячами кладешь. А твои более удачливые коллеги – миллионами. Бабы, рожай! – убьем для тиража… Иначе читатель скривится, скучно ему станет, бедненькому, без баталий. В тепле, на диванчике, очень приятственно сощурить левый глаз: «Пал, и взгремели на мертвом доспехи!» Хоть один рыцарь пробовал написать сказку? Утопию? Чтобы в кляксе жить хотелось, а не выживать? Да такие книги по пальцам пересчитать можно!
Молчу. В тряпочку. Метко бьет, гад. Хоть переполнись разумным, добрым, вечным под завязку, без Святой Троицы – Сюжет, Герой и Баталия – ни арапа не выйдет. Ну как же в хорошем, крепком тексте да без старой доброй драчки? Никак нельзя! И одни ли мы, фантасты презренные да люмпен-детективщики, убойством грешим? Ой, богатыри – не мы! Взять классиков, Толстых-Шекспиров, Львов с Вильямами, – мало варначили, окаянные? Будь хоть трижды классиком и семи пядей во бронзовом лбу – Каренина на рельсах, старушка с топором в башке, датский принц весь в трупах, как рождественская елка в гирляндах. Ну, мысли мудрые с порывами душевными – это само собой, это как положено, как заведено… Мы хоть и мимо школьной программы, мы не Рабле, Рабле не мы, а понимаем!
Зараза, разбередил душу.
После такого героя грохнуть – не фиг делать.
– …Ну что может быть банальнее: автор попадает в придуманный им мир?! Или не автор, а случайный человек, лучше десантник. Тонны бумаги извели! И вот, нате-здрасте: вы здесь! А за вами медведи на велосипеде, жабы на метле! Ничего не напоминает?
– Напоминает. Может, потому столько людей и пишет об этом… Из-за процесса. А остальные в кильватер спешат пристроиться?
– Наоборот! Все наоборот, смешной вы мой человечище! Процесс – не причина, а следствие. Сколько прыщавых тинейджеров и вечных мальчишек с пивными животиками об этом мечтают! Чтоб вдруг все исчезло, провалилось в тартарары, сгинуло, и ты – на белом коне с мечом в руке! Или за пультом боевого звездолета с готовыми к пальбе аннигиляторами. Или – великий волшебник, непременно с посохом, глаза молнии мечут, мантия развевается… Смешно, наивно? Да. А они все равно мечтают. Сотнями, тысячами. Миллионами. Это закон природы, человеческой природы. Вот вы и пишете: раз есть спрос – будет предложение. Даже если это спрос на мечту. На суррогат чуда, втиснутого в переплет. Получите ваше чудо! Обыкновенное! По полной программе! Кляксы, кляксы, кляксы … Все Мироздание в кляксах. В них тоже рыцари Ордена со временем заводятся – сам видел! Ваяют, в тираж выходят, новые кляксы плодят. Наверное, это теперь тоже закон. Вселенский. Вы его создали, этот закон, всем скопом, рыцари-логофилы, имя которым – легион!
Красный, потный, он умолк, переводя дыхание.
Я вновь глянул в сторону цитадели. Первый приступ защитники успешно отбили, и тугрики перестраивали боевые порядки, готовясь к новому штурму. Треклятая Башня перестала гудеть-светиться; вокруг нее смерчем закручивался рой серебристого конфетти, жужжа странную мелодийку наподобие «Чижика-Пыжика». Похоже, Нафири-су, пользуясь безнаказанностью, готовил атакующим новую каверзу.
– Ах, Владимир Сергеевич! Бросьте! Не стоит принимать наш разговор близко к сердцу. Вы – человек ироничный, с чувством юмора… Отнеситесь к происходящему как к игре. Помните, у классика: «Что наша жизнь? Игра!» Смею вас заверить – он прав! Классики всегда правы. Сделайте по-моему, послушайтесь умного совета и обретете покой. Игра стоит свеч. Ведь убивая персонажей на страницах книги, вы не мучаетесь угрызениями совести? Так какая разница? Тем более, что дома вы от этих убийств получаете жалкий мизер: ну, известность, ну, деньги… А я предлагаю вам однозначный и надежный выигрыш. Плюс спасение Антона. Вы еще не забыли о мальчике? О настоящем, не выдуманном второпях?
Забудешь с тобой, как же…
И тут, прерывая наш увлекательный диспут, в три глотки:
– Гав!
Ну конечно, старые приятели-раздиратели: Чудик-Юдик, Брыль и Мордач. Пока без свиты-своры. Пришли засвидетельствовать свое почтение. Но остальные псы тоже где-то рядом, можно не сомневаться.
– Это ко мне, – радуясь возможности ненадолго отвлечься, развожу руками и иду к собакам. Чудик-Юдик, умильно насупясь, склоняет голову набок. Брыль ворчит на Червя – не по душе лохматому чау-чау «Кныжковый Хробак», пахнет от него едким, жгучим. Мордач с подозрением осматривается. Слишком много чужих, слишком…
Но я уже рядом.
Ритуал. Валяние, обнимание, облизывание, чесание брюх, натягивание шкуры с задницы на башку. Поздно замечаю, что играю с собаками не один: хохочущий Антон, фигурист-коматозник, вместе с черным терьером валяют друг дружку по траве. Черт! Они же дикие! Вечно голодные! Я – другое дело, а парня псы сейчас – в клочья!
В клочья…
Язык опережает медлительную, не оформившуюся до конца мысль:
– Антон, сдурел?! Порвут!
– Кого? – смеется парень, отпихивая Чудика-Юдика, норовящего обслюнявить жертву. – Меня?! Я с собаками ладить умею. Еще с детства.
А ведь правда – умеет. Иначе бы…
В клочья…
И вновь хитрюга мысль ускользает, оставив горький привкус озарения. Кусты напротив храма взрываются разноголосицей лая, рычания, отчаянных криков. Мгновением позже наружу с треском выпадают Бут-Бутан, Кра-Кра и Носатая Аю! А за ними: клыки, пасти, лапы, шерсть дыбом…
Стая нашла добычу!
– Назад! Фу! Стоять! Не сметь!
Вожак стряхивает Антона. Срывается с места, опережая мой наивный, нелепый вопль. «Министры» лишь на полпрыжка отстают от владыки. Три зверя проносятся мимо, обдав пылью и жаркой волной воздуха. Минуя испуганных подростков, врезаются в стаю. Клыки против клыков, власть против голода. Кто посмел рыкнуть на Чудика-Юдика?! Какая шавка оскалилась на Мордача?! Бей мятежников! Секунда, другая, и все кончено. Никто никого не грызет, обед отменяется: не тех выследили, болонки пустоголовые! Понимать надо…
Возвращается троица лидеров медленно, нога за ногу, едва не лопаясь от собственного достоинства и чувства выполненного долга.
– Бут-Бутан? Как ты тут оказался?
Вопрос, приличествующий идиоту. Вот сейчас он ухмыльнется, пожмет плечами и ответит с безразличной, до боли знакомой интонацией: «Стреляли!» Тогда у меня точно крыша набекрень съедет.
– Спасали…
– Кого? Кого спасали?!
– Тебя…
– Зачем?!
– Молодцы! – вмешивается Книжный Червь, лучась от счастья. – Хорошие герои! Снегирь, браво! Спасайте родителя, детки, воистину спасайте, не ведая, что творите… Взять их!
Наконец-то лучникам нашлась привычная, понятная работа: хватать, держать и не пущать. Что и было сделано с завидной сноровкой.
– Решайтесь, рыцарь. Достаточно убить одного, главного. Остальных и пальцем не тронут. Чем вам будет удобнее? Ножом? Слишком близко? Тогда копьем?! У меня в перстне есть яд. Превосходный яд: без боли, без мучений. Очень быстро. Или, хотите, повесим? Главное, чтобы вы вышибли опору из-под ног. Ну же! Пустяк, мелочь, и все отправляются домой жить-поживать: Антон – к любящей бабушке, вы – к тиражам и поклонникам, я остаюсь здесь, вполне удовлетворенный…
Стою столбом. Вавилонским Столбом, за миг до падения.
Беззвучно шевелятся губы Червя.
Тихо вокруг.
Хоть бы закричал кто…
* * *
Убить легко. Копьем – как авторучкой. Фломастер – меч. Яд – порция чернил. Толкнуть с обрыва, связанного, в спину, – как вымарать абзац. Убить легко. «За что?» – взмывает одинокий крик, чтоб кануть в Лету. Глупый. Ни за что. Ты виноват уж тем, что мной рожден: смешной, нелепый, лишний персонаж, и о тебе приятней сочинять успешный квест, чем встретиться однажды лицом к лицу. Да, хочется мне кушать, и вот: небрежно вымаран абзац по имени Содом, за ним другой, по имени Гоморра. Продолжать? Зачеркнуты жена и дети Иова. Зачеркнут ты. Не бойся. Ты умрешь не навсегда. Я воскрешу твой труп – драконьими зубами на снегу, метафорами, повестью о жизни, которая, подобно мотыльку, пришпилена к бумаге: не летай, сожженный лампой, солнцем, тем огнем, к которому опасно приближаться. И правде не открыться: ты убит. Я правду наряжу в одежды лжи – и ложь одену в правды наготу. Я напишу, как ты взрослел, как рос и вырос наконец, героем став, свершил деянья, бросившие небу столь дерзкий вызов, что небесный свод зарделся от стыда; я расскажу, как великаны пали пред тобой, и сотни ослепительных красавиц пришли к тебе, и сотни мудрецов на твой вопрос ответа не нашли.
Убить легко.
Позволь тебя убить. Не укоряй. И не молчи – покорность доверчиво-безгласной немоты иль бунт немой равно бесцельны. Знаешь, мне очень больно убивать тебя. Ты чувствуешь: я ямбом говорю, как будто ямб сумеет укрепить мое решенье. Убивать легко. Ты чувствуешь, сочувствуешь, молчишь, без осужденья смотришь на меня и ждешь решенья. Жди. Сейчас. Сейчас…
Проклятый ямб.
А Настя говорила: «Ямбец, Снегирь. Войдя в такой размер, известно наперед: полезешь драться».
Она была права. Убить легко.
Кого? Тебя? Себя?!
Я никогда…
Баллада рыцаря
Я никогда не стану здесь своим. Я – лжец, а люди вдребезги правдивы, И если происходят рецидивы, То лишь по наущению Змеи. Я никогда не стану вам родней. Я – пьяница, а вы воспели трезвость, И если где царит хмельная резвость, То лишь в беспутных, вскормленных Свиньей. Мне никогда не быть одним из вас. Я горд, а вы неизмеримо кротки, И, где в почете цепи и решетки, В опале грива честолюбца Льва. Давно пора мне на сковороду. Домой. В геенну. Смейтесь! – я в аду. Но если дом горит, и плачут дети, И псу подстилкой служит добродетель, И кротость с беззаконьем не в ладу, — Тогда зовите. Мрачен или светел, Как летний дождь, как ураганный ветер, Лев, и Свинья, и Змей, за все в ответе, — Зовите, люди! Громче! — я приду.ХХ. Королева, рыцарь и червь
Предпоследних страниц загибая углы дрожащей рукой,
Мы с глазами в цвет солнца покорно вошли в расступившийся строй.
Мы не пели; и здесь завершилась эта судьба,
И у цели проклятья нам были росой на губах.
Евгения Точицкая– А что выбрал ты? Червь, ты ведь однажды выбрал?!
Королева выступила из дверей храма. За спиной Польских, в пыльной тьме молельни, правым уголком рта ухмылялась Кривая Тетушка – у подательницы случайной удачи было своеобразное чувство юмора. Лучники попятились, впрочем, не отпустив пленников. Тамара Юрьевна всякий раз удивлялась первичному действию артефакта из Ливерпуля: эти кольчужные сетки, пластины, шипастые оплечья, пояс, усеянный бляхами, наручи-поножи – жуткий, колючий металл едва ли не на голое тело! – но результат был налицо. Казавшийся смешным рыцарю Ордена, доспех неизменно вызывал оторопь у обитателей локусов.
В небе над головой парила смутная запятая.
Королева знала: позови – явится.
– Ты убил? Согласился? Как, Червь? Ядом? Копьем? Огнем?! Убил и обрел покой… Или все-таки не обрел? Отвечай, падаль!
Она блефовала. Не будучи полностью уверена в своих догадках, королева била наугад с убежденностью наития. Такие стрелы, случается, попадают в цель вернее, чем посланные с точным прицелом: ядовитые, случайные, долгожданные. Червь отшатнулся. Ответ был написан на его младенчески розовом, тонкогубом лице: ответ бывшего рыцаря, однажды убившего ради покоя и получившего взамен – голод. Вечный. Беспощадный.
У голода не было проблем с зубами.
А у Книжного Червя – с ненавистью.
– Ты! – Вместо приказа схватить самозванку Червь метнулся к ближайшему лучнику, с ловкостью площадного акробата, человека-змеи, вырвав из рук копье. Перед ним насмехался отказ, не заслуживающий прощения; упрямство, не рассчитывающее на пощаду; королева, презревшая раба. Таких надо убивать лично. Вдыхая аромат крови. Даже понимая свою беспомощность в простейшем, яростном праве: уничтожить. – Ты! Здесь!..
Взмах копья.
Дрогнула крылатая запятая в небе: нет, не успеть.
А Снегирь, глупый Чижик, почувствовал зуд в пальцах: прорастали когти.
Тамара Польских видела, как они катятся по траве: Червь, мертвой хваткой вцепившись в копье, и Влад, прыгнувший на плечи искусителю. Сбитый с ног, извиваясь, скользя, Книжный Червь освободился бы сразу, но рыцарь бился неумело, нелепо, страшно, по-бабьи хватая за волосы, пытаясь достать горло любой ценой. Копье оказалось внизу, распоров бедро Снегиря острым краем наконечника, кровь измазала гибкий, бескостный торс Червя, ускользающего прочь, – и дикий вопль оглушил собравшихся:
– Не-е-ет!
Поздно. Великан-тридесятник, шагнув к дерущимся, наклонился и ахнул рыцаря кулаком в висок.
– Идиот!
Фонтан искр ударил из Влада. Россыпь огней прокатилась по хребту, ледяное пламя охватило талию. Наверное, он не сразу потерял сознание, – «пшик» длился долго, дольше обычного, заливая порог храма горящими брызгами, а все стояли и смотрели, забыв, где они, что они, кто они…
Вскоре Червю стало некого уговаривать.
Усталый, опустошенный, бывший рыцарь Ордена, а ныне Книжный Червь перевел взгляд на королеву.
И равнодушно, выжжен дотла, махнул рукой:
– Убейте дуру…
Польских ощутила, как ее губы непроизвольно кривятся в улыбке. Горькой? Победной? Жалкой? Нет, только не жалкой.
– Ты опять проиграл, Червь.
Заезженная донельзя фраза: Тамара Юрьевна тридцать раз подумала бы, прежде чем вставить ее в собственный текст (да и потом, наверное, вычеркнула бы), но другой сейчас не нашлось. Потому что – правда. Потому что – проиграл.
И – остальным:
– Назад!
Солдаты запнулись, почуяв в королеве – силу. Тридесятник на всякий случай покосился на Червя (вдруг передумает?!), и, упав в кольцо паузы, как мяч в корзину, крылатая запятая рухнула с неба, разом обретая настоящий вид.
Она взлетела на спину Пегасу легко, в одно касание – молодая, молодая, молодая!.. Ах, королева моя…
«Последний меч Империи» покинул ножны.
Два мощных крыла взвихрили воздух, швырнув в глаза лучникам облако пыли, Пегас рванулся к облакам, унося на себе суровую амазонку, и в следующее мгновение внизу начался беспредел. Другого слова для творившегося безобразия Польских, несмотря на богатый литературный язык, подобрать не смогла. В конце концов, это локус Снегиря, значит, слово – вполне подходящее. Пусть сам отдувается, мальчишка.
Из кустов, из высокой травы на косогоре, из-за храма горохом посыпались собаки. Два десятка, не меньше. Больше! И добро б шавки-дворняги, хвосты бубликом: бультерьер, ньюф, шарпей, две овчарки, мраморный дог… Первым несся черный терьер: «собака сильная, злобная, уверенная в себе, с квадратным или приближенным к квадратному форматом». Псы кинулись на людей, клыки вцепились в древки копий, дробя сухое дерево. Лая не было: только яростное, утробное рычание, вопли укушенных, топот…
– В храм! Все в храм! Быстро!
– Это она, она наслала!
– Бой-Баба!
– Зря этого… Отщепенца! Били зря! Не надо бы…
Люди пятились к храму, надеясь на милость Кривой Тетушки, судорожно отмахиваясь копьями от наседающих псов, промахиваясь, попадая, ломая жалкое подобие строя, которое солдатам ненадолго удалось создать. Из толпы вывернулись двое: парнишка с медным обручем на шее и девица, растрепанная, визжащая, в изорванных лохмотьях. Сука колли, ощерясь щучьей пастью, устремилась за беглецами, но парнишка отчаянно подпрыгнул, уцепился за лозы, оплетшие храмовые стены, изогнулся ловким бесом, помогая девице вскарабкаться на крутой скат, и оба кошками полезли на крышу. Остальные жертвы стаи ломились в двери храма, словно тайная сила всасывала людей в бездонное чрево.
Королеве было хорошо известно имя этой силы.
Паника.
– Пленников! Держи!
– Болваны! – орет Червь. – Последнего не упустите! Главного!
– В храм!
– Не бросайте! А-а-а! Помоги-и-и-и…
Самый медлительный из солдат споткнулся, упал и уже не смог подняться под грудой собачьих тел. А если бы и смог, это ничего не меняло: дверь храма захлопнулась, лязгнув внутренним засовом. Псы жадно рвали кровавую плоть, рычали под дверью, безуспешно пытаясь в прыжке протиснуться сквозь узкие оконца-щели. Беглец с обручем и девица-растрепа, оседлав конек крыши, глазели вверх, на парящую королеву. Или как там местные выразились? Бой-Бабу? Тоже неплохо, хотя и вульгарно. Впрочем, Снегирь никогда не отличался политкорректностью.
Королева осмотрелась. Вдалеке, у крепости, возвышавшейся над заливом, шел бой. Это нормально. В подобных сочинениях вечно кто-то кого-то осаждает. Традиция. Нападающие лезли на стены по чудным лестницам-»гармошкам», защитники пытались «гармошки» сложить, упираясь суставчатыми шестами. Поодаль, над Трижды-Пизанской башней, кишмя кишела чистая как слеза магия. А вот у опушки леса пасутся старые знакомые – двое беговых горбунов. Видала мельком, прорываясь во Владов локус. Горбуны топтались на месте, нервно обгладывая свежие ветки. Обедают? Беспокоятся за пленников? Вовсе случайно забрели?!
А-а, ерунда.
Пора уходить, не прощаясь. В последний раз окинув взглядом пейзаж, королева рассмеялась: готовый эпизод для романа. Бери целиком, вставляй в финал. Самое сладкое дело: массовая финальная «раздача» с привлечением главных, второстепенных и пушечного мяса. Разве что, пиши это Польских, непременно ввела бы явление чародея.
Внизу испуганно заскулили псы, кинувшись наутек.
А в небе над лесом мелькнула серебряная точка, заставив откликнуться ржанием крылатую запятую Пегаса.
XXI. Рыцарь листает страницы, а маг размышляет о милосердии…
Кем нам быть в этой жизни и кем нам вовеки не стать,
Мы едва ли узнаем, поскольку меж адом и раем —
Лишь прожекторный луч, протянувшийся кромкой листа,
Ибо сцена пуста, ибо мы не на ней доиграем,
Ибо в бездне огонь, и над ним не построить моста…
Диана Коденко…Над головой – низкий потолок из некрашеной доски-»вагонки». Лампочка без абажура на белом двужильном шнуре. Выключена. Потому что – день. И так светло.
В окне кувыркается солнце.
Я на даче у Марии Отаровны. Здесь тепло, даже жарко: наверное, АГВ или печку вовсю растопили. Голова чистая, ясная, медовая свежесть растекается в сознании, будто и не кололи мне наркоз здесь, не били по башке там. Шестеренки мыслей крутятся быстро, легко, без скрипа, одна мысль сама собой цепляет другую, та – следующую, все мудрые, тонкие, афористичные…
У меня очень мало времени. Очень. Глупо тратить его на ерничанье.
Откуда я это знаю?!
Неважно.
Поворот головы. Вправо. Рядом, на раскладушке – грузное, беспомощное тело. Разметались седые волосы. Восковая бледность на знакомом лице. Слышно хриплое, натужное, из последних сил дыхание. Что ж вы так, Мария Отаровна?..
Старуху заслоняет фигура парня в тельняшке и линялых джинсах. На тельняшке, под левой лопаткой, круглая дырка с опаленными краями. След от пули? На миг вспыхивает безумный вывод: это не человек. Это герой, персонаж, плод воображения, убитый автором. Измученный процессом рыцарь Ордена согласился, поддался на уговоры: нож не годится, слишком близко, кровь брызжет в лицо, копье устарело, яд – противно, зато пистолет в самый раз, нажать на спусковой крючок, ты даже не увидишь, не услышишь, не поймешь, только тельняшка останется смутным напоминанием, когда рыцарь продолжит рассказ о парне – как бы живом, типа существующем, строчку за строчкой, абзац за абзацем…
Наваждение уходит еще быстрее, чем явилось.
– Что с ней?
Парень резко оборачивается. Широкие скулы, губы плотно сжаты, непослушные каштановые вихры падают на лоб; чуть раскосые глаза смотрят изучающе. Будто их обладатель прикидывает, стоит ли вообще со мной говорить.
Для принятия решения ему хватает секунды.
Стоит.
– Приступ. Сердце. Из больницы позвонили. Сообщили: у Антона почки отказали. Все, дрова. Не вытащат. День, от силы – два. Тут бабу Маню и схватило. Я «Скорую» вызвал, по вашей мобиле. Баба Маня сказать успела: мол, не надо Антошу – сюда. Вообще не надо. Пусть там… И все. Я еле подхватить успел…
Время!
Тиканье часов грозит перейти в набат Лунного Гонга.
– Костя! – Он ведь Костя? Мария Отаровна говорила, я помню… – У меня в сумке статуэтка. Птица серебряная. Премия. Под подушку ее мне!
Костя моргает.
Не понимает Костя.
– Быстро! Я…
Успеваю увидеть, как он кивнул. В крови, в мозгу, пожирая мед ясности, просыпаются шершавые щупальца наркоза. Спрут обвивает изнутри – так бывает? да, так бывает… – скручивает, пеленает словно мумию, выворачивает наизнанку, свет меркнет, иду на дно, в вязкий ил, чавкающий от вожделения…
…чавкает.
Под ногами.
В чем мамка Вовку родила, стою у алтаря волхвов. На прежнем месте, где мы с врачихой ждали Червя. Только хуанодон оказался лжеинкарнантом, – сбежал, подлец, возродившись, и волхвы сбежали, если не пали, растоптанные гнедыми конями тугриков, и лиану какой-то подлец растоптал, превратил в липкое месиво. Я вступил, вот оно и чавкает, а еще в колючках пихтусов жужжат кусачие мухи-дроздофилы, и мне это больше не кажется смешным, напротив, раздражает глупостью и наивом, но ведь они жужжат, эти дурацкие мухи, они вьются, и мое раздражение, воистину смешное, глупое и наивное, не колышет даже густой, остро пахнущий воздух леса…
Рокочет вдали барабан: штамп-штамп-конъюнктура!
Война бьет людьми в туго натянутую кожу.
Цирк шапито: тра-та-та, смертельный номер…
Я все знаю. Все. Как вернуть Антона домой, в умирающее тело с отказавшими почками – знаю. Проще простого: убить фигуриста здесь и встретить там. «Не надо!» – хрипит инфарктная Фурункель, и это я тоже знаю. Что не надо. Как избавиться от процесса – знаю. Любимый глагол «убить»: на сей раз Куриного Льва, ходячую горстку фраз. Как ублажить Гобоя: знаю. Все знаю. Все.
Абсолютно.
Я, придурок, всеведущ.
Я, гаденыш, ничегонемогущ.
Я, сукин сын, уж никак не всеблаг. Господи, за что?! Пронес бы чашу мимо, я б спасибо сказал…
Происходящее напоминало финальный запой. Когда ни грамма, ни капельки, от спиртного воротит, и только пишешь, избиваешь клавиши, кричишь, несешься к завершению, видя, что текст местами сценарен, что кости скелета просвечивают сквозь плоть, – ерунда, потом, позже, вдохнув наконец воздуха, успокоив сердце; а сейчас схватки делаются сильнее, финишная ленточка близится, прикидываясь опущенным шлагбаумом, и порвать ее грудью, расколоть надвое или расколоться самому – как родиться заново.
Рокочет барабан.
Они ждут тебя, рыцарь. Королева, Бут-Бутан… Червь.
– Да где же ты?!
С неба рушится тень, сотканная из невесомого серебра. Острые коготки впиваются в плечо. Молодец, Костя в тельняшке! Сделал-таки!
– Снегир-р-рь – р-р-рыцарь! Ур-р-ра!
А мне чудится: «Дур-р-рак…» Читай, Гарпия. Мысли читай. Желания. Куда надо рыцарю Печального Ордена?! Правильно, туда. К храму. И пусть у рыцаря потом голова хоть вдребезги расколется, как от самого жуткого похмелья. Сможешь, птичка? Чтоб сразу?!
Одень меня в кого-нибудь: плащ ветра, накидка молнии…
Когти рвут плечо. Больно. Очень больно. Боль распространяется по телу – боль, голод, жуткий, ядовитый. Голод, похожий на удушье. Мне нечем дышать! Воздух иссыхает, делаясь песком; вскоре он засыплет мне ноздри, забьет гортань, вынуждая бежать, искать, вновь, снова… Руки – гибкие, чудовищно розовые. Кожа на лице тянется резиной. Вместо позвоночника – жгут из каучука. Во рту руины порченых зубов. Окружающая клякса сохнет с ужасающей быстротой, но складки пространства похожи на страницы книги; их можно листать походя, не глядя, оказываясь в нужном тебе месте со скоростью читателя, открывающего текст на закладке…
Кем ты меня сделала, Гарпия?!
– Р-рыцар-рь… чер-р-рвь…
Карканье премии звучит глухо, на пределе – вот-вот сорвется в хрип. Тускнеет серебро. Листаю страницы: к храму Кривой Тетушки. Туда, где ждут.
«А что выбрал ты? Червь, ты ведь однажды выбрал?!»
Королева моя! Он выбрал… теперь я точно знаю, что он выбрал…
* * *
Алый Хонгр дико не любил опаздывать. Еще служа в учениках Мангра Шатена, будущий чародей поражал наставника пунктуальностью. Всего дважды ему довелось нарушить Обещанье Срока: о первом случае, стоившем магу шрамов на ягодице и десяти лет строжайшей епитимьи, Хонгр старался вспоминать пореже, особо в дни самобичевания, а второй случай творился прямо сейчас. Наверное, следовало бы еще в Дангопее решиться, вызвать демона по кличке Летальный Исход или оседлать клин сизых пролетариев, но тогда Алый Хонгр израсходовал бы слишком много сил, дав изрядную фору хитрецу Нафири-су. И все же явиться обессиленным, возможно, было бы предпочтительнее.
Ненавидя опоздания, маг втрое больше ненавидел вот такие ситуации: что ни выбери – пожалеешь.
Эскорт он бросил сразу за Судьбоносным Урочищем, едва последние алатырь-камни скрылись от взгляда. Верблюди спотыкались, кашляли, вздрагивая горбами; пришлось наложить на скороходов чары Марш-Броска, притупляющие усталость, но способные погубить неосторожного. Дорога плясала под толстыми, ороговелыми подошвами, качка паланкина терзала Хонгра морской болезнью, вызывая тошноту, Лунный Гонг надвигался с неотвратимостью приговора, – армейский маг чуял его приближение отбитым копчиком! – но честь и долг, долг и честь гнали главу братства Насильственного Милосердия вперед, а маг гнал тупо моргающих верблюдей.
Опаздывая.
Сожри вас Худой Берген, владыка рая Голодных Скотов! – опаздывая…
Ла-Ланг он прошел насквозь, с севера на восток, срезая путь к Треклятой Башне. Увы, на окраине города, возле заброшенного храма Кривой Тетки, языческой идолицы, чары Марш-Броска иссякли. Верблюди стали, как вкопанные, не имея сил даже упасть. Хонгр покинул паланкин за миг до того, как руки носильщиков разжались. Наскоро оглядевшись, маг понял, что судьба еще любит своего маленького волшебничка. Двое свежих верблюдей, в которых он узнал скороходов-близнецов, брошенных на Великом Хлопчатобумажном Пути, паслись в зарослях. Близнецы встревоженно косились на стаю собак, загнавшую в храм кучку местных бездельников, но особого страха не проявляли: псу ни за что не догнать здорового, сытого верблюдя.
Посему Алый Хонгр недоумевал: отчего тревожатся беговые рабы?
Кто-то из собачьих пленников подкармливал его слуг?!
А-а, какая разница, если отсюда, с кручи, была прекрасно видна Треклятая Башня ла-лангского Нафири-су, сплошь окутанная фиш-волшбой. Надо было спешить.
– Ц-ц-ц! Цоб-цобе, тпр-ру! Хаш, хаш…
Говоря на тайном языке верблюдей (сами скороходы предпочитали изъясняться жестами), маг приблизился к зарослям. Участь людей в храме была Хонгру безразлична: собаки разорвут, победившие тугрики замордуют, вернутся домой после Лунного Гонга целые-невредимые – их рок, их забота.
– Сейдзен!
Почему-то верблюдь заартачился. Вместо того чтобы выполнить приказ и встать на колени, давая магу возможность вскарабкаться на спину, скороход отбежал на два шага и зафырчал, плюясь.
– Дзадзен! Дза!!!
Нет.
Упрямец отказывался служить.
У мага не оставалось времени для примерного, вдумчивого и долгого наказания ослушника. Пальцы наскоро скрутили Мудру Власти: пасс, другой, и верблюдя словно по загривку дубиной шарахнули. Оглушенный, он качнулся к господину, упал на колени, закрывая глаза в смертной тоске…
Маг уже почти сел ему на плечи, когда верблюдь лег.
– Тварь!
Скороход лежал плашмя, и Алый Хонгр чувствовал: убить можно, поднять – вряд ли. А смерть наглеца не помогла бы магу быстрее достичь Треклятой Башни.
– Оставь! Оставь его в покое!
Кричали с крыши храма. Машинально маг глянул в сторону крикунов: девица, носатая и растрепанная, чахлый недоросль с обручем на шее…
– Я в-в-в…! В-волшебник я! Уб-бью!
– Здравствуй, дурачок, – одними губами прошептал Алый Хонгр. – Не следовало тебя отпускать: ты везунчик. Вот и сейчас: я обещал убить тебя, если еще раз встречу как волшебника, я привык исполнять обещания, ан нет, извини, – спешу, малыш, тороплюсь… Гляди, не искушай Кривую Тетку в третий раз. Вывезет ли?
Оставалось последнее средство. Взбежав на косогор, чародей плюнул против ветра, готовясь вызвать из геенны Летальный Исход и мчаться на спине демона к Нафири-су. Руки мага взлетели плетьми – так охотники Дикого Гона глушат на скаку хищных тушканов, не испортив шкуры! – но врата ада пренебрегли зовом Хонгра, ибо Лунный Гонг наконец ударил.
Знаете ли вы, как бьет Лунный Гонг? Нет, вы не знаете, как бьет Лунный Гонг! Если все уши мира превратить в пластины из белой бронзы, а все кости мира сделать ылдайскими колокольцами, и листья на деревьях – бубенцами скомороха, и звезды на небе – висячими рельсами, птиц обратить сушеными косточками сливы, собрав в единый марокас неба, выбить семь склянок из равнин, а горы перелить на колокола, взяв молнию билом, и каждую каплю воды в морях уронить на головы слушателей, как делают палачи в далеком Оохене-Заплечном, и натянуть нервы струнами, сердца взять колками, а хребты – грифом одной великанской лиры, и по всему этому, звенящему, гудящему, булькающему, тренькающему и брякающему на разные лады, шарахнуть восьмиручной тумак-колотушкой, обмотанной тряпьем, ибо сильны демоны-Палиндромы, одинаково сильны из начала в конец и из конца в начало…
Короче, изрядно было грохнуто.
Когда слух вернулся к Алому Хонгру (зрение запаздывало…), первое, что услышал армейский маг, было:
– …ш-шебник! Й-я-я!
Война кончилась. Завершился БИП, осаждающие скучно сидели под стенами цитадели, вытирая трудовой пот, защитники открывали ворота, неся тугрикам хлеб-соль, Треклятая Башня от усталости клонилась сразу на шесть сторон света, из храма Кривой Тетушки, спотыкаясь, выходили пленники собачьей стаи, а с крыши все несся вопль Мозгача Кра-Кра, пропустившего удар Лунного Гонга мимо ушей, потому что иначе гнев разорвал бы ему селезенку:
– Волшебник! Я!
Парень даже заикаться перестал.
А Алому Хонгру отныне некуда было торопиться.
Кривая Тетушка подвела Мозгача. Вывезла под копыта. Маг смотрел на дурачка слепым, змеиным взглядом, размышляя о сущности Насильственного Милосердия. Если наивной простушке, носящейся со своей девственностью, как юродивый с писаной сумой, вечером во ржи встречается благородный разбойник, измученный воздержанием, – это правильно. Ибо иначе простушку неделю спустя заезжий некромант ободрал бы на кожу для переплета «Memento mori». Если лекарь тайком дает яд больному скоротечной чухонкой, уверив несчастного в действенности нового снадобья, – это верный поступок. Ибо в противном случае, припозднись лекарь с ядом, больной на третий день превратился бы в чудь белоглазую, пробираясь по ночам в дома родичей и щекоча насмерть спящих старцев. Если банда юных сорвиголов регулярно поколачивает заморыша-флейтиста, вынуждая последнего разбить флейту о камень и наняться служкой-метельщиком в дом Го Бо-йена, мастера боя на шлепанцах, – сорвиголовы творят добро, ибо однажды их, терроризирующих деревню, встретит грозный Тхуг Ляпсус, приемный сын мастера Го, не знающий пощады. А флейтистом Тхуг все равно стал бы дрянным. И Мангр Шатен, величайший из чародеев, некогда поступил согласно заветам Насильственного Милосердия, силой отобрав у вдового горшечника Джавахарлала его единственного внука, надежду на безбедную старость, ибо мир потерял юного глиномеса Хо, но обрел Алого Хонгра, будущего главу братства, не делающего различий меж добром и злом, а потому обитающего в раю.
– Иди сюда, – тихо сказал маг.
Даже рукой махнул – если бывший шут не услышит.
Мозгач кубарем скатился с крыши, приземлившись на четвереньки, с ловкостью мартышки кинулся к обидчику. Пока он бежал, Алый Хонгр дергал нити из эфира, плетя Аспид-Кисею – колпак для поединка магов. Вокруг двоих засуетились стеклянные змейки: шипя, переплетаясь, роняя прозрачные чешуйки, змейки укладывались рядами, как виноделы Гжеля укладывают гадин кольцами вдоль стенок бутыли, готовя целебную настойку «Геть-Хандреж», – вскоре Аспид-Кисея надежно окутала Хонгра с Мозгачом, позволяя зрителям любоваться представлением, слегка размытым и нечетким, но оттого еще более величественным.
Звуки снаружи легко проникали в колпак, дабы маг-победитель мог насладиться овациями, а проигравший услышать собственный позор.
Но из-под колпака не вырывалось и шепота.
– Волшебник? – спросил Алый Хонгр. – Значит, все-таки волшебник?!
XXII. Романсеро «славный рыцарь…»
Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал…
А. С. Пушкин Славный рыцарь дон Родриго Поражает диких мавров, Истребляет злых драконов, Укрощает василисков, Служит королю Алонсо, Любит донью Изабеллу, Андалузские пьет вина, Заедает жгучим перцем. Славный коммодор Мартинес Поражает плазмой монстров, Истребляет злых пришельцев, Укрощает звездолеты, Служит рейнджером в десанте, Любит проститутку с Марса, Пьет бальзам «Особый звездный», Заедает биомассой. Славный богатырь Добрыня Поражает всех, кто рядом, Истребляет лютых змеев, Укрощает Сивок-Бурок, Служит Володимир-князю, Любит пить по воскресеньям, А в день будний – и подавно, Заедая, чем придется. Славный агент федеральный Поражает террористов, Истребляет экстремистов, Укрощает генералов, Служит верно президенту, Любит Андерсон Памелу, Пьет лишь пиво, из закусок Чипс сухой предпочитая. Славный чародей Просперо Поражает файерболом Всех своих коллег по цеху, Укрощает вражьи чары, Служит Князю Преисподней, Любит ясеневый посох, Пьет на завтрак эликсиры, Заедая мандрагорой. Славный вурдалак Влад Цепеш Поражает бледным видом. Ему зомби верно служат, Упыри в дверях толкутся. Гроб – вампирское жилище, Кол осиновый – награда. Пьет он кровушку без меры, Закусив красотки шейку. Славный рыцарь дон Писатель Пишет день про коммодора, А второй – про вурдалака, Третий день – про чародея, И четвертый – о Добрыне, Пятый посвятив Родриго, Агенту шестой оставив. На седьмой же день недели, На последний день творенья, Вытирая пот усталый, Озирая твердь и влагу, Ход сюжетный и интригу, Антураж и персонажей, Скажет тихо дон Писатель: «Хорошо же, блин, весьма!» Славный рыцарь дон Читатель…XXIII. Сердце лучшего-из-людей еще бьется
Это означает работать, когда вам не хочется работать, несмотря на то, что никто не говорит вам, что вы должны. Это означает отказ от встреч с вашими лучшими друзьями, когда вы пишете, и приказание вашей жене и детям выйти из кабинета…
Это означает оскорбление людей, которые не могут понять, что процесс написания нельзя прерывать – ни для званых обедов, ни для дней рождения, ни даже для Рождества.
Р. Э. Хайнлайн. Как стать фантастомБут-Бутан запутался в паутине. В самом центре липких кружев. Причем, что совсем уж странно, парнишка ощущал себя не пойманной мухой, а пауком-сердцеедом. Большим глянцевым паучарой с мохнатыми лапами, от которых во все стороны тянутся нити, тонкие, упругие. Паутинки мелко подрагивали, пытаясь сообщить хозяину важную весть, но паук Бут-Бутан тщетно силился разглядеть (понять? почувствовать?), что таится на концах нитей, уходящих во мрак? Добыча? Жалкая мошкара? Вряд ли… Он задыхался от новых, неведомых чувств. Словно, оставаясь прежним Куриным Львом, «Рукой Меча», предательски слабой в отсутствие чуда, бродяга-подкидыш разделился линиями сложной пентаграммы, меняя поиск на обретение – и отчаянно боясь демона, готового прийти на зов.
Вразуми и наставь, о Дух Лучшего-из-Людей!
Даруй милость, о Тетушка, мудрейшая в непредсказуемости кривизны!..
Терзаясь догадками, Бут-Бутан и думать забыл, в каком находится бедственном положении. Впрочем, к плену парень давно привык: это счастье частенько баловало Куриного Льва в его странствиях. Друзьям удалось бежать, и значит, спасение не за горами! А Дух Лучшего-из-Людей вернется. Он и раньше рассыпался летним звездопадом, возвращаясь снова. Он же Лучший! Неистребимый! И Червь с лучниками еще пожалеют!..
Истошный вой стаи прошел мимо внимания Бут-Бутана: грезы о будущей мести захватили парня целиком. Зато лучники сунулись к оконцам, и зря: ахнуло так, словно алхимики Глоримундии нашли-таки корень мантикоры, вставили его мирозданью, доверху набитому «горючими слезками», вместо фитиля, чиркнули ведьминым огнивом, и за миг до взрыва еще можно было услышать, как чмокнул в предвкушении жадный рот Бездны Есть-Хочу.
Ух!
Ох!
Х-х-х…
«Лунный Гонг! – мычащий от потрясения Бут-Бутан скорее угадал по губам, чем разобрал слова тридесятника. – Отвоевались, братцы…»
…Когда его вывели наружу, Куриный Лев сперва зажмурился: после храмового полумрака солнце выжигало глаза. А едва проморгался – решил, что грезит наяву. Или голову напекло. Да ну вас, насмешников! Сами смотрите!
Во дворе храма из солнца, пыли и эха Лунного Гонга возникал человек. Нет, не человек: Червь! Близнец! А первый Червь стоял, тупо уставясь на двойника. Нагой, как при рождении, гость являлся медленно, раскачиваясь стеблем белого мака-сырца; «Палец, листающий страницы», – пришло на ум Бут-Бутану чудное сравнение. Воздух полнился сухим шелестом; стена храма возле Червя-двойника вдруг сделалась слоеной, на известке проступили тайные письмена, сменяясь иными знаками, и еще раз, и еще… Все замерло – только шелест-призрак, запах пыли, кипенье солнца и фигура пришельца, обретающая плоть. Заблестела розовая, будто смазанная жиром, кожа. Натянулась, распираемая изнутри, высыхая на глазах.
Лопнула!
С треском.
Куколка раскрылась, выпуская бабочку. Опали, истончаясь, растворяясь в сиянии полдня, лоскуты оболочки. Бут-Бутан тихо охнул: на месте Червя-близнеца стоял Лучший-из-Людей! А над головой птица с женским лицом натужно загребала крыльями, стремясь в поднебесье и не в силах…
Обнаженное тело гостя подернулось мелкой рябью: знакомая мантия, синяя со снежными лилиями, затем сверкающий нагрудник, широкий балахон… Но тут птица, будто сбросив непомерный груз, взмыла к облакам, вспыхнув на солнце серебряной искрой, а Лучший-из-Людей остался стоять напротив Червя. Обнажен по пояс, босиком, облаченный лишь в густо-фиолетовые шаровары заморского покроя.
Так смотрят друг на друга кровные братья, ставшие врагами не по своей воле. Молча. Безнадежно. Слова больше не нужны, и все яснее ясного, оставляя единственный выбор, а значит – никакого.
Червь не выдержал первым:
– Хорошо, рыцарь. Ты сам этого хотел.
* * *
Лучники поняли правильно. Бут-Бутан рванулся: «Я! Мы!.. С тобой!..» – но его держали крепко. Вскоре Лучший-из-Людей, с завернутыми за спину руками, стоял напротив Куриного Льва. Дух поднял голову, взглянул на парня и неожиданно подмигнул:
– Не бойся, Годзилла.
– А я и не боюсь! – Бут-Бутан удивился странному прозвищу, но на всякий случай гордо вскинул подбородок.
– Это правильно, – согласился Червь, ласково щурясь. – Смерти вообще не надо бояться. Больно много чести ей, Костлявой. Эй, дайте рыцарю копье! И держите, чтоб, случаем, не выпустил. Рыцари, они ребята с причудами…
Лучники с недоумением переглянулись, но – приказ есть приказ! – стали выполнять. Трое вцепились в локти и плечи Лучшего-из-Людей, четвертый вложил в руки копье, а тридесятник силой заставил сжать пальцы, накрыв сверху волосатыми лапами.
– Пустое, Червь! Зря стараешься! Не я его убью – ты и твои люди…
– Отпустите! Не смейте! – надрывалась откуда-то сверху Аю, но Бут-Бутану никак не удавалось вывернуть голову, чтоб увидеть «Руку Щита». Он очень надеялся, что лучники с Червем пренебрегут девушкой. Иначе забросают копьями или просто стащат, за волосы.
Червь обождал, пока, повинуясь тайному знаку, скрутят юношу, в котором Бут-Бутан безошибочно узнал Отщепенца. Юноша сопротивлялся, но силы были неравны. Затем, шаркая, как глубокий старик, Червь приблизился к Куриному Льву.
– Может, ты прав. Даже скорее всего прав. Но я обязан попытаться. – Старый, старый, чудовищно старый, он смотрел на Бут-Бутана, а говорил с Духом. Но вот: улыбка плотно сжатого рта, и Червь подмигивает парню, насмешливо передразнивая Лучшего-из-Людей. – Так, значит, не боишься, молодой человек? Умница. Хороший мальчик. Хотел спасти кумира? Спасай. Понимаешь, ему необходима жертва. То, что он говорит вслух, – ерунда. Спазмы дуры-совести. А ты, надеюсь, достаточно разумен. Любая жертва разумна, иначе искусство не требовало бы себе жертв… Ладно, оставим лирику. Лучники! Помогите рыцарю ударить. Рыцарь ослабел.
Глухо екнуло сердце в груди. Если это действительно нужно Лучшему-из-Людей… Конечно, сам он никогда не согласится, у него совесть, угрызения, честь, – но если надо…
– Не смей! Не слушай Червя!! Он лжет!
Это совесть. Точно, это совесть кричит…
– Не дай мне убить тебя!
Да, совесть. Вечная неудачница совесть. Хочется жить. Очень хочется. Но если…
– Будьте внимательны: копье должно находиться в руках рыцаря. И постарайтесь не промахнуться с первого раза: к чему мучить парнишку?
– Не-е-ет!!! Сволочи!..
Бронзовая купальщица Бюль-Бюль, сложив ладошки жалом копейного острия, ныряет вперед.
В пучину сердца.
«Совесть… ну и пусть…» – отрешенно успел подумать Бут-Бутан. Сверху рушилась крылатая тень – наверное, Термидор Орленый, посланец Старца-Облако, явился из рая за душой невинно убиенного. Вот, значит, ты какой, посланец… Перед носом, едва не расплющив в лепешку, мелькает огромное копыто. Треск, крики, острая боль пронзает левый бок, смещаясь к бедру. Кажется, еще жив. Да какое там кажется! Жив!!! Бой-Баба, приемная мать Лучшего-из-Людей, пришла на помощь своим детям!
Происходящее выглядело сотворенным наспех, скомканным и небрежным, словно судьба собиралась позже заново вернуться к уже свершившемуся насилию: доработать, расцветить подробностями, прописать детали – песчаная корка на каплях крови, взгляд Червя полон участливого внимания, гудят рога герольдов от крепости… Потом. Все это будет потом, подробно, обстоятельно, красиво, а сейчас: иначе.
Проще простого.
– Я – «Рука Меча»! Пустите! Убью!
Бут-Бутан плакал, стыдясь слез и ничего не в силах поделать. Жалкий вопль «Убью!» делал его похожим на беднягу Мозгача, порывающегося к схватке с Алым Хонгром; сейчас Кра-Кра корчился под колпаком Аспид-Кисеи, поражаемый ленивыми заклятиями, обманчиво-сонными, будто движения играющего с мышью кота, – и сходство с горе-волшебником хлестало Куриного Льва наотмашь, размазывая по щекам соленый стыд.
– Я – «Рука Меча»!
Крик прорастал шипами, разрывая глотку.
– «Рука Меча» Лучшего-из-Людей!
Кровь текла по бедру. Река, впадающая в смерть. Сонливость окутывала душу теплым покрывалом: «Спи, маленький! Спи, сладенький!..»; хотелось закрыть глаза, замолчать, сдаться на волю случая, неизменно враждебного к подкидышу, но нити тянулись, трепетали, и хрип еще сотрясал паутину:
– Я!.. Рука…
Лучшего-из-Людей подтащили ближе. Он старался выронить копье, поджимал ноги, отказываясь двигаться самостоятельно, брыкался – тщетно. Лучники волокли его против воли, а лапищи тридесятника опять сомкнулись поверх кулаков пленника, вынуждая волей-неволей держать древко. О Кривая Тетушка! Сейчас Лучший-из-Людей был смешон так же, как Бут-Бутан, если не больше, и это трогательное сходство дарило парню надежду на встречу там, где рождаются вовремя, живут с радостью и уходят, смеясь.
Пускай. Это хорошая смерть.
Самая лучшая.
Бут-Бутан вяло почувствовал: приподнимают. Разворачивают, обмякшего; лицом к копью. Так удобнее. Что ж… Великан-тридесятник потянул руки Духа назад, отводя копье для удара. Свободные лучники тесно обступили место казни, подняв оружие к небу: спикируй Бой-Баба снова – напорется на частокол жал. Голый по пояс, мокрый от пота, Лучший-из-Людей глупо дергался, пытаясь высвободиться, но лицо невольного палача было отнюдь не смешным. На лбу вспухли жилы, отвердели скулы, а в глазах появился удивительный блеск – сухой и воспаленный, как барханы пустыни Шаддай-Кара.
– …рука… я…
– Ты не рука! Ты не «Рука Меча»!
Это было подло: на пороге гибели услышать такое от Лучшего-из-Людей! Это было настолько подло, что Бут-Бутан задохнулся, чувствуя, как обида переплавляется в ненависть, ненависть – в растерянность и кипящий расплав заполняет тело до краев, едва не разбросав лучников.
– Я! «Рука Меча»!
– Нет! Ты – Сердце! Сердце! Понял?!
– Я…
– Бейся! Бейся, и все! Пока ты бьешься…
И удар копья прошел мимо, потому что двое дюжих мужчин не сумели удержать раненого подростка.
– Вы перепутали! Ошиблись! Я знаю!
– Не надо знать! Верь мне!
– Верю! Я Сердце! – В хватке лучников бились понимание, обретение и восторг, бились так, как может биться только настоящее сердце, чувствуя, что нити паутины становится вздутыми от напора жилами, чувства – кипящей кровью, и остальные части Лучшего-из-Людей оживают, сойдясь наконец воедино, получая свою толику восторга, понимания и обретения. На крыше храма встала Носатая Аю, в прошлом бессильная «Рука Щита», отныне и навсегда – Голова Власти. Ветер лег в узкую ладонь девушки, свернулся нагайкой-камчой, вплетая меж нитями стальную мелодию ярости; взмах – и рассеченная надвое Аспид-Кисея с шипением уползла прочь. Вскинулся армейский маг, почуяв врага, безошибочно нашел взглядом дерзкую, – изумление, недостойное и неподобающее, озарило лицо Алого Хонгра, делая его похожим на змею, превращенную в человека и не знающую, что же теперь: жалить или спрашивать?
А Мозгач Кра-Кра с земли, стоя на четвереньках, прикипел глазами к поясу, стягивавшему халат мага. Широкий такой пояс, тисненой кожи, с плоской массивной пряжкой из металла: Старец-Облако воскрешает своего сына. Казалось, волшебник-заика беззвучно разговаривает с вещью, с частью одежды, как однажды разговаривал с боевой кувалдой, отнятой у злыдня-дюженника.
Прыгнул кошкой.
Сорвал.
Даже не обернувшись на Алого Хонгра, Мозгач несся тигриными прыжками к храму, к другу, бьющемуся в тисках обидчиков, к Сердцу Лучшего-из-Людей. И в руке заики, рассекая испуганный полдень, пел убийственный пояс. В правой руке. В «Руке Меча», отныне – и навсегда. Кожаное колесо полыхнуло на солнце слепящими бликами пряжки, обожгло глаза, заставляя лучников на миг зажмуриться, на неизмеримо краткий и бесконечно долгий миг. Смерч объял солдат раджи Синг-Синга – кружа, увлекая, вырывая оружие, отшвыривая прочь. Тридесятник со скоростью командира и истинного героя первым сообразил, что пора делать ноги. Рванул с пояса шишковатую булаву-дробину, свалил дурака-однополчанина, загораживавшего дорогу, но опоздал: пряжка подсекла ноги, на возврате припечатав скулу. Кто и делает такие пряжки? – то ли дело махонькие, с крючочками…
И булава в придачу рехнулась.
Вон, летает.
Упала.
* * *
Свобода свалилась на Бут-Бутана тяжкой ношей, вернув боль и слабость. Поодаль, сидя на обломках копья, грязно ругался Лучший-из-Людей. Тоже – свободный. А Червя нигде не было видно. Удрал, трусливая слякоть! Ну и Ал-Лахудр с ним, трупоедом!
– Уходим! – Сердце билось ровно, мощно, наконец обретя себя. – Скорей!..
«Ноги» возникли рядом, словно по мановению волшебного жезла. На одном из скороходов уже восседала Аю. Куриный Лев шагнул к другому верблюдю, оглянулся на Лучшего-из-Людей…
Тот, перестав браниться, смотрел в небо.
Бут-Бутан задрал голову. Нет, Бой-Баба больше не кружилась над храмом.
– Проснулась, – непонятно сказал Лучший-из-Людей. – С добрым утром, Тамара Юрьевна! Как спалось, королева?
И повернулся к парню:
– Уходим? Куда? Зачем?!
– Ну… эти!.. Хватать станут!..
– Да ну вас к Судьбецам! – выразил общее мнение великан-тридесятник, трогая пальцем шатающийся клык. От этого речь тридесятника была маловнятной, но Бут-Бутан все чудесно понял. – Войне хана, братва фьюшку пьет, одни мы тут, как шиши ядреные…
Лучники загалдели, присоединяясь.
– Не бей их больше, Кра-Кра! – Аю прыгала на горбе верблюдя, рискуя свалиться или свернуть скороходу шею. – Нам некого бояться!
– Вам – некого. А бойцовому петушку… Ну что, дурачок? Ты до сих пор волшебник?!
Мозгач набычился племенным бугаем, уставясь на Алого Хонгра. Армейский маг тугриков – вернее, с недавних пор армейский маг в отставке, – стоял на прежнем месте, и лицо Хонгра было удивительно ясным. Как нож в лучах восхода. Налетевший от моря ветер трепал полы халата, делая мага крылатым; головную повязку Хонгр только что размотал, дав волосам упасть на лоб. В его краях такой жест означал вызов.
Вызов равному.
– Если волшебник – возвращайся. Я жду.
Носатая Аю потянулась к солнцу. Тихим огнем блеснула в ладони девушки чакра о семи углах, но маг лишь отрицательно покачал головой, не двигаясь.
– Я… я не могу, – изумляясь самой себе, шепнула Аю, выронив чакру. – Не должна. Он ведь прав… он обещал…
Кра-Кра, демонстративно сплюнув на песок, шагнул было к Алому Хонгру, но дорогу ему преградил юноша-Отщепенец. По-прежнему связанный кушаками лучников, он держался легко и спокойно.
– Куда ты? – спросил юноша.
Мозгач хмыкнул, сдвинув брови: куда? Драться!
– Но ведь ты действительно не волшебник?
– Й-я-я! В-во…
Юноша молчал, не отводя взгляда. Ждал Алый Хонгр. Ждали лучники. Возле Бут-Бутана трудился Лучший-из-Людей, неумело перевязывая рану лоскутами чьей-то рубахи. Тоже ждал. Топтались встревоженные верблюди, порываясь бежать.
Обойдя Отщепенца, – «Руку Щита»! – шел к магу Мозгач Кра-Кра. Лицо заики дергалось, под глазом билась синяя вспухшая жилка, словно клещи косноязычия отпустили речь, но вцепились в рассудок чародея-неудачника. Какая-то мысль клокотала, дребезжала, отказываясь сложиться до конца, запинаясь на понимании вещей настолько простых, что душа захлебывалась этой кипящей простотой.
Шел Кра-Кра. Шаг за шагом.
Дошел.
– Я не волшебник, – отчетливо сказал «Рука Меча». – Извини, пожалуйста.
Алый Хонгр кивнул:
– Это и есть Насильственное Милосердие, дурачок. Отдай мой пояс. Тебе он больше не нужен.
– З-зачем?
– Ты не знаешь, зачем людям бывает нужен пояс? Ты еще глупее, чем я предполагал. И потом, он мой. Я купил его в лавке.
Когда маг уходил, все смотрели ему вслед. Не летел, не прыгал в Доставь-Зеркальце, не звал почтовых недопырей. Просто уходил. Медленно. С достоинством. Отойдя всего ничего, шагов на двадцать, обернулся.
– Если захочешь учиться, – он говорил с девушкой так, будто остальных сдуло ураганом, – ты знаешь, где меня найти.
– Я… я не знаю…
– Знаешь. Если, конечно, захочешь учиться по-настоящему.
– Я… я не найду!.. Не смогу!
– Значит, не сможешь. И это тоже будет Насильственным Милосердием. До встречи, колдунья.
Вдали качалась Треклятая Башня, и на стенах цитадели подвыпившие тугрики братались с пьяными ла-лангцами.
XXIV. Ул. Героев Чукотки, 26, кв. 31, ночь
На блюдце рюмка — Пустая. Яблоком хрумкну — Устану. Ночь тянет руку Меж ставней…Часть третья Острый приступ эпилогофилии
Зададимся же вопросом: какой смысл человеку, который не хочет, чтобы его считали безумцем или обманщиком, выдумывать что-то несуществующее? Есть только один ответ, к счастью, ясный и несомненный: оставьте его в покое – он не может иначе. Он поступает так не по своей воле, его тянет, как на аркане, он гонится за чем-то, и его извилистый путь – это путь необходимости.
Карел ЧапекI. Кварта лимериков
Убивать эстетов, понятно, лучше всего дорогими предметами искусства, чтобы, испуская дух, они возмущались таким святотатством.
Генрих Бёлль Литератор, живущий в Сарапуле, Заявил, что его оцарапали, — Не гвоздем, не ножом, А большим тиражом Той фигни, что коллеги состряпали! Литератор, живущий в Васильеве, Заявил, что подвергся насилию, — Мол, свирепый маньяк Под лимон и коньяк Извращенный рассказ голосил ему! Литератор, живущий в Женьшеньево, Заявил, что пал жертвой мошенников, — В их рекламе роман Про любовь и обман Назван «сагой о кровосмешении»! Литератор, живущий в Америке, Прочитавши все эти лимерики, Возбудился, как зверь, Эмигрировал в Тверь… Что, коллега? И вы мне не верите?II. Рецензия «Запах живых денег», «Литературная газета», № 25 (467)
В отличие от Настоящей Литературы, существует и литература со строго целевым назначением. К данной категории мы относим дамские романы, примитивные вестерны, «фэнтезюшки» и вообще всю бульварную (в принижающем значении этого слова) литературу как факт. Основное ее отличие от нормальной состоит в том, что она не ставит своей целью познание и осмысление окружающего мира, но, в противовес этому, содержит только комплекс «поглаживаний» для нуждающихся в этом людей.
Из статьи «Приют графомана»В традициях школьного курса литературы принято говорить о раскрытии темы. Нам всегда казалось, что истина где-то посредине между Неклюевым, растолковывающим убогий сюжетец среднестатистическому братку, и Маржецким, запутывающим профессора Аристотелевой логики. Известно, что любой неглупый человек, умеющий складывать буквы в слова, а слова – в предложения, способен написать книгу, которую читатель встретит если не с восторгом, то по крайней мере с искренним любопытством. Что нужно для этого? Самая малость. Заморочить читателя как следует, а потом дать ему найти идею и смысл произведения. Даже если читатель найдет совсем другой смысл и совсем другую идею, – что ж, еще интересней получится. В «Лучшем-из-Людей», итоге более чем странного соавторства откровенно коммерческого «килобайтника» В. Снегиря и Тамары Польских, вернувшейся из малобюджетного мэйнстрима в объятия «златого тельца» фантастики, авторы не стали отступать от традиций. Вначале старательно морочили головы нам, бедненьким-несчастненьким, а затем потихоньку раскрутили сюжет до логического конца. Более того, далеко ходить поленились, а написали о себе, любимых.
Однако следует заметить: присуща нашим литераторам некоторая беспринципность. Такое чувство, что лишь изначальная правильность (если вы нас понимаете…) их героя не дает ему сбиться с честной дороги, а вовсе не рука авторов, которые, увы, сами не знают, как в жизни лучше. И почему-то кажется, что именно беспринципность (не слишком плохое качество в нашу переменчивую эпоху) позволила Тамаре Польских вступить в соавторство с г-ном Снегирем уже после сетевой публикации фрагмента будущего романа, заявленного как «сольник» Снегиря. Впрочем, это правильно с коммерческой точки зрения: одновременно «захватываются» две читательские аудитории. Особливо сей прием действен, если соавторы – писатели известные и популярные. Но с точки зрения художественности, если можно говорить о таковой применимо к современной фантастике, пребывающей в затяжном кризисе… С позиций «высокой словесности» существует окраска стиля, которую не вытравить, о чем бы человек ни писал. Стиль Снегиря, при всей его «детскости», достаточно оптимистичен, жить хочется, даже когда совсем «не катит». А общий стиль Польских – видимо, привнесенный ею из эпохи заигрывания с номкомиссией Букера, – можно назвать «энергией распада». Герои на каждом шагу что-то проигрывают и что-то теряют. Естественно, при «литературном» распаде, как и при атомном, высвобождается энергия – определенной категории читателей это нравится: читать и представлять, как все, что строилось веками, рассыпается в одночасье. Круто. Адреналин плюс всякая химия, вырабатываемая организмом специально для апокалипсисов. А что остается потом? Разумного, доброго, вечного?
Ничего. Убийство бумажных человечков.
Если в скором времени научат компьютер сочинять «фэнтези», не исключено, что у него получится не хуже, а может быть, даже лучше. Такого рода чтиво по отношению к литературе более или менее художественной напоминает технический дизайн в сравнении с живописью – индивидуальное начало, индивидуальный стиль не играют в нем принципиального значения. Автор этой литературы давно уже умер (а быть может, никогда и не рождался) – он выступает не как Творец-Демиург, а как инженер-комбинатор сюжетных мотивов, схем, штампов, как ретранслятор современной урбанистической мифологии. Будь основная часть текста записана в строку, а не многозначительным столбиком, роман стал бы вдвое меньше по объему. Русским авторам, в отличие от Дюма, платят не построчно, поэтому нельзя подозревать их в банальном денежном интересе. Следовательно, речь идет о сознательной конструкции, обожаемой графоманами и от которой бегут уважающие себя литераторы. Но ведь это требование рынка! – а рынок, то есть клиент, всегда прав.
Пожалуй, хватит о грустном. Довольно цельный в художественном отношении, роман получился неоднозначным. С известной долей правоты его можно обвинить в кощунстве, вплоть до сатанизма. Тем не менее этический заряд книги вполне гуманистичен; авторы хотя бы обозначают планку, ниже которой нельзя опускаться в духовных поисках. Как здраво заметил на форуме издательства «Аксель-Принт» один читатель: «Ребята, не на своем поле редьку сеете!» Просто надо определиться для себя, кого мы называем «русскими писателями», а кого – «русскоязычными текстовиками». Иначе: с кем вы, мастера культуры? Чем дольше фантастика будет воспринимать себя в пределах того концепта, который сама же привила массе, т. е. концепта «литературы для подростков», тем дольше пророками ее будет профессиональная штамповка имени В. Снегиря и духовные метания «королевы» Польских между болотом «фант-гетто» и зияющими высотами мэйнстрима.
Признаем, что мы живем в мире победившей мифологии и всесокрушающего инфантилизма. Для авторов «Лучшего-из-Людей» и прочих легких безделушек-fantasy нет ничего проще, чем вынудить картонных персонажей вести себя так, как в данную секунду хочется их создателям. Надо – герои будут целоваться, надо – истекут клюквенным соком. Но главный фокус в том, что читатель (не под наркозом и не под дулом пистолета!) двухтомник покупает.
Магия-с.
Октябрина НовомироваIII. Рубаи из цикла «Обитель скорбей»
Мне приснилось, что я – муж большого ума, Чужд греху, чужд пороку, серьезен весьма, Не курю и не пью, честен, верен супруге… Пощадите! Помилуйте! Лучше тюрьма!!!IV. Соло для Снегиря без оркестра
Удачи, автор, я буду тебя читать.
Из частной переписки В. СнегиряОдинокий трубач на перроне терзал небеса серенадой «Ты ж мэнэ пiдманула», на рефрене «Я прыйшов, тэбэ нэма…», сбиваясь в «Сулико». Впрочем, столь же часто его уносило в любимое «Без двадцати восемь».
«Ибо число семь есть символ полноты, а также сходное с ним по значению число сорок, в отличие от Числа Зверя, символизирующего обделенность дарами духовными». «Сборник душеполезных текстов», конец цитаты.
Ностальгия с диагнозом «deja vu»: февраль, достать чернил и плакать, вокзал, трубач, вороний грай, офени дружно месят слякоть, прощай, ни пуха ни пера, – ах, к чему ритмы и рифмы, если время остановилось, следуя транзитом по маршруту «Вчера – Завтра», и забежало в рюмочную унять тоску! Вот только снегу навалило от души, не в пример прошлогоднему скупердяю-февралю. Предчувствия меня не обманули: на платформе тоскует (токует?..) вселенский страдалец Шекель-Рубель. Поезд еще скучает в тупике сортировки, а критическое светило уже взошло. Вальяжно приосанясь, кусая жидкий ус, вешает лапшу собеседнику – парню в круглых очках, с непропорционально большой головой, отчего парень сильно смахивает на водолаза.
Водолаз внимает с почтением.
– Привет величайшим из великих, сотрясающим твердь подошвами своих идей!
– А, Вла-а-адинька… Здра-а-авствуй, здра-а-а… Познакомься: твой, положа руку, коллега. Из Ахтырки, в одном купе ехать будем: Андрюша Вухань, прошу любить и жаловать. Между прочим, весьма подающий надежды молодой человек. Будущий рыцарь, вне сомнений. «МБЦ» его у «Гипериона» летом увело…
– Влад. Снегирь.
– Ух ты! – Наив ахтырчанина умиляет. Теплый наив, душевный, словно оренбургский пуховый платок. Хочется водолазу в рыцари, до чертиков хочется. Думает, Шекель пошутил. – А я Андрей Сестрорецкий. Это псевдоним.
Ясное дело, псевдоним. Нашел кому объяснять: Чижику с Фонтанки. С такой хохляцко-шанхайской подначкой – Вухань!.. – без псевдо никак. Небось в школе проходу не давали. Хотя это еще цветочки-василечки! Знавал я интеллигента в шестом поколении с фамилией Тупорыльник…
– А вы? Вы тоже?..
Самое время провести воспитательно-разъяснительный ликбез.
– Значит, так, брат Вухань. Во-первых, начав с «ух ты!», на «ох, вы…» не переходят. Я сегодня попросту, без чинов. Во-вторых, заруби на переносице: все фантасты обязательно попадают в рай. Так говорил Заратустра, а я ему верю. Но в рай – это позже, а сейчас мы едем на «МакроНомиКон», учрежденный безумным меценатом Джихадом Альхазредовым, где все друзья, коллеги и братья во Spiritus Vini. С минуты на минуту Эльф явится – перед ним что, вообще шапку ломать? Ты понял, оруженосец?
– Ага! – радостно возвещает наш юный друг. – Понял! Две бутылки «Медовой с перцем». В сумке. И мама трех цыплят поджарила. С чесноком.
– Ай, молодца! Куришь? Нет? А я, братец, закурю. Авось быстрее состав подадут.
– И последнее, Андрюшенька-а…
Шекель-Рубель всегда выглядит обиженным, а нынче – вдвое. Подходят всякие, понимаешь, умыкают ценных собеседников. Тигр герменевтики, оскалив клыки в мой адрес, берет Вуханя-Сестрорецкого под локоток, спеша возобновить прерванный монолог:
– …Запомните, милый мой: читатель добр. Читатель участлив и заботлив. Он вас любит. И с памятью у читателя все в порядке. Выйди у вас очередной труд – читатель не обойдет книгу своим вниманием. Он непременно разыщет в сети ваш адресок (у вас ведь есть е-мэйл, Андрюша?.. примите мои соболезнования…) – так вот, читатель этот адрес из-под земли достанет, как бы вы его ни скрывали. И за три дня до того, как лично вы возьмете родное детище в руки, в почтовом ящике закипит разумное, доброе и, увы, вечное. Ибо читатель, ваш ум, честь и совесть, не в силах более скрывать жестокую правду. Он откроет вам глаза. Поверьте, вы живо ощутите вину за вырубленные леса, пошедшие на бумагу для вашей книги. Когда у вас депрессия, болит сердце, и вы глотаете валидол – о, читатель добр! Он всегда готов поддержать любимого автора в трудную минуту. Предупредить: «Исписался!» Напомнить: «Бездарь!» Оградить: «Вторичен, но остальные и вовсе лабуда!..» Вы бледны, Андрюшенька? Полно, в ваши-то годы…
Деловито погромыхивая, с лязгом объявляется поезд. У Шекеля нюх: мы оказываемся строго напротив любимого вагона «нумер тринадцать». До отправления – полчаса. Курим дальше, в ожидании Эльфа. Жаль, Петрова в этот раз не будет. Приболел майор. Вспомнил, где у него сердце.
– Сынок, купи фарфору? Чашки-блюдца?
Рядом обнаруживается небритый дед-коробейник в кудлатом треухе и пуховике «Made in China». Из-под ватных штанов нагло сверкают кроссовки на толстенной подошве. Дед заговорщицки подмигивает, брякая чувалом товара. Пароль: «У вас продается славянский шкаф?» Отзыв…
Придвигаюсь к деду вплотную. Доверительно склоняюсь к волосатому уху:
– А «ДШК» есть? Или хотя бы «стингер»?!
Скоростные данные у деда на высоте. Ишь, рванул, заячьей скидкой! Может, он за «ДШК» побежал?! У меня ж денег не хватит…
– Владимир Сергеевич! Здравствуйте!
Батюшки-светы! Малярия Катаровна Фурункель собственной персоной. Вместе с камуфляжным Костей (вот кому «стингер»!) и этой… как ее? Леночка, кажется?
Симпатичная…
– Здрасьте, Мария Отаровна. Какими судьбами?
– Да вот, книжку нашу… то есть вашу… Подпишете?
О да! Прав пессимист Шекель. Читатель – он завсегда рядом. Жаль, про опусы своих собратьев по «финскому перу» наш светоч тактично умалчивает. Помню, как хохотал над приснопамятным пассажем: «…низкопробный прием, когда автор нарциссирует, предаваясь публичному самолюбованию…» Хищнику, жгущему глаголом нарцисса-низкопробца, было невдомек, что все эпизоды «от первого лица» писала королева. И вообще, это была ее идея: я спорил до хрипоты, а потом вдруг почесал в затылке… Кстати, Польских вчера звонила. Сборник стихов у нее вышел. Тираж мизерный, полтыщи экземпляров, а радовалась, будто Нобелевку отхватила! На конвент обещала привезти. Хочу!
– Владимир Сергеевич… – Госпожа профессор чувствует себя неловко. Мнется, стесняется. Хотя, казалось бы, после киднэпинга под наркозом мы, считай, родственники. – Вы продолжение… ну, дальше?.. Не планируете?
А, вот она о чем…
Не хочется огорчать Марию Отаровну, но врать и вовсе подло.
* * *
– Вы можете меня вернуть?
– Могу, Антон.
Умен, фигурист. Все понял без лишних многоточий.
– Так плохо?
– Бабушка сказала: день, от силы – два. Тебе некуда возвращаться.
Он улыбнулся, словно успокаивая меня. А может, так оно и было.
– Не расстраивайтесь. Не надо. В конце концов мне здесь даже нравится. Хотя я больше любил детективы…
И я понял, что обязан успеть. Новообретенная «Рука Щита» должна войти в текст как родная, влиться в плоть и кровь книги раньше, чем…
Домой я попал к вечеру того же дня. Костя привез, на такси. Жаркий сумбур встречи, слезы Насти («Ну что ты, успокойся, все в порядке, все хорошо…»), морщинки в уголках глаз Польских. Плевать на круги! Четвертый? Да хоть шестьдесят шестой! – фигурист, брось волноваться, хищный Снегирь уже кружит над добычей: слова, слова… И эхом: «Не расстраивайтесь…» Это он мне! Нет, это он мне, да! Володя, я тут почитала текст, прикинула: финал первого тома надо делать здесь… Спасибо, ваше величество. Я согласен. Стрельнем у Эльфа ноутбук, вы режьте по живому, без наркоза, я теперь наркоз ненавижу! – а Снегирю надо…
Гобой трезвонил по пять раз в день после еды, Тамара Юрьевна отбивалась за меня: увещевала, объясняла, рычала яростной царицей прайда, а я, озверев, играл на клавишах сумасшедшее, пьяное «prestissimo», вплетая новую нить в пряжу Мойр, не давая проклятым старухам поднять бронзовые ножницы, обрезать, отсечь… Время скручивалось спиралью: третьи сутки, однако! Что? Утро четвертых? И я сплю, упав на кровать накануне рассвета? Правда? Правда. Вчера звонил Костя. В больнице – все, конец. Фигурист, ты ему не верь. Ты мне верь. Это ерунда. Это так, мелочи. Снегирь успел. Ты веришь мне, фигурист?! Больше никуда не надо спешить. Можно посмотреть, что сотворила Польских с промежуточным финалом. Уверен: королева, как всегда, на высоте. Можно ставить точку, можно ставить подпись в вожделенном договоре зама по особым. Теперь все можно. Под боком уютно, тепло, по-домашнему сопит Настя. Кстати, почему я больше не видел Настюху в Ла-Ланге? По фазам сна не совпадаем? Наверное.
Отчаянно верещит телефон.
– Алло!
– Добрейшее утречко, Владимир свет Сергеевич. Гобой беспокоит. Не разбудил? Разбудил-таки? Ну и славненько! Вот спешу поинтересоваться: что это вы с Тамарой Юрьевной отчебучили? Наша интутка в шоке, ушла в запой, но клянется, что ошибка исключена: процесс Снегиря стремительно консервируется! Закукливается на рыцаре и только на рыцаре, перестав распространяться вовне! Она еще что-то об искусах плела, но вы же ее знаете… Так это правда? Не молчите, Владимир Сергеевич, говорите!
На стене – обои. Называются «Скала»: трещины, отлив в бронзу, белая засыпка «под лишайник». Красиво. Только сейчас увидел: красиво. За окном пасмурно. Пляшет трубка в руке. Пляшет. Рыцарь, труби в рог: Ронсеваль отзовется эхом… Рыцарь, ты безумен! Ты счастлив, рыцарь!
Сноб разума рождает чудовищ.
Чижик-Пыжик, где ты был?
– Как?! Каким образом, великий вы мой?! Да вам же памятник! При жизни!.. – Бас Гобоя внезапно мрачнеет. Наливается густым, кисельным подозрением. – Влад! Вы, случаем, не подписали левый контракт? За нашей спиной? Например, с «МБЦ»?
Смех разбирает меня, будто пиво после хорошего стакана водки.
– Ангел вы мой Восторгович! Анафема Владыкович! Полно грустить! Я ваш навеки! Скорее уж Снегирь не подписал один левый контрактик. Вы ведь меня знаете!..
– Знаю я вас. До печенок ознакомился с вашим братом. В каком смысле – не подписали? На что намекаете? Вас не устраивают наши условия? Эксклюзив? Роялти?!
– Устраивают! Я в восхищении от ваших условий! Передайте драгоценной интутке: мы еще споем с ней, яхонтовой, на два голоса! Запоминайте текст:
Ай, ромалэ, драдану, Гулял цыган по Дону! Шумный цыган, Тихий Дон, Джя, чавэла, либидо…– Влад?! Вы пьяны? С утра?!
– Не то слово! Я пьян вами, Гобой! Фагот! Псалтериум! Альпийская вы валторна! Подпевайте басом:
Очи четные И нечетные, Очень разные — Есть и красные, По рублю зрачок, Скидка за пучок, С роговицею И с ресницею!Жонглирую телефонной трубкой, горланя обалденную чушь, достойную оваций психдиспансера, а когда Гобой, с перепугу заблажив фальцетом, прощается и дает отбой, в дверях обнаруживается хладнокровная Польских, завязывая пояс Настиного халата.
Сама Настя продолжает блаженно дрыхнуть: она у меня привыкшая.
– Будете завтракать, Володя? – После меланхоличного вопроса Польских добавляет, думая о чем-то своем: – А потом глянете финальчик по новой? Есть у меня кое-какие идеи… жаль, времени в обрез…
– Королева! У нас навалом времени! У нас есть все время мира! Давайте ваши идеи, королева! Вываливайте на кровать! Сыграем роман дуэтом?!
– Ты б оделся, что ли? – хихикает в ответ королева. – Инкуб хренов! Грех пожилую женщину совращать. При живой супруге…
Я уже говорил вам, что обычно сплю в «пижаме Адама»?
* * *
Мария Отаровна ждет. И Костя с Леночкой ждут. А память, затыкая мне рот, все мотает кассету прошлого: за полночь, до хрипоты, споры с Польских. Мне не нравится ее идея второго тома, не нравится, не нравится… Настолько не нравится, что соглашаюсь. Попробуем. Тамара Юрьевна набирает номер «Аксель-Принта». Альфред, вы не оплатите мне гостиницу? Месяца на полтора-два? Нет, не слишком. Дело в том, что мы с Владимиром Сергеевичем решили закончить книгу в соавторстве. Конечно, я могла бы это время пожить у него, но тогда я вешаю трубку и звоню в «МБЦ»… Вы на редкость умны, Альфред! Я знала, что эта новость вас несказанно обрадует. «Возвращение королевы»? Неплохой слоган, но вы мне льстите. Кроме того, нечто подобное уже было, если вы помните. Ах, намеренная аллюзия?!
Жить королева все равно осталась у нас. Мы с Настей никуда бы ее не отпустили. «На эти деньги мы лучше лишний раз в ресторан сходим!» – резюмировала Царица Тамара.
Потом была работа. Изредка выныривая – весна? какая весна?! – я звонил Марии Отаровне. Передавал привет от внука. Да, все путем. Да, здоров. А если что не так – все в нашей власти… Врал, конечно. Отнюдь не все в нашей власти. Зато в остальном – нет, не врал.
Кто-то умный говаривал: «Свобода начинается со слова „нет“.
Не я ли этот умник?
Позже, когда текст окончательно ушел в издательство, я снова позвонил госпоже профессору. За рекомендацией: у какого эскулапа лучше выяснить, стоит ли Насте ложиться на сохранение? Да, мимоходом. Между главами. Сам не заметил…
В общем, дружили семьями. По телефону.
…А договор мы подписали позже, лишь заехав в «Аксель-Принт» на сверку макета. Гобой угомонился и больше не настаивал. Еще бы! – если «круги» вернулись на «круги своя», уж простите за тавтологию. Процесс закуклился на двух рыцарях, ограничившись этой жалкой добычей. Знай Тамара Юрьевна раньше! – но у нее давняя «консервация» шла медленнее, и королева не успела выяснить правды. А потом «соскочила». Вышла из тиража.
На прозрачные намеки собратьев по Ордену: поделись, мол, секретом, Снегирь! – я отшучивался. Чуял: не стоит зря трепаться. Мысль изреченная… И вот теперь стоит напротив меня пожилая женщина в старомодном пальто с каракулевым воротником. Смотрит, ждет. Что, Снегирь? Краснеешь? Чувствуешь себя виноватым?! Объяснить бы, рассказать, заставить понять…
Не стал я ей ничего объяснять.
– Извините, Мария Отаровна. Продолжения не будет. Извините.
Госпожа профессор выпрямилась. Гордая, сильная. Старая.
Лишь пальто – больными складками.
– Да, я понимаю. Это вы меня извините. Просто… До свидания.
– До свидания.
Она медленно шла прочь, а я тонул в феврале, думая о разных глупостях, пока мне не саданули в коленку тяжеленным чемоданом. Больно, блин! Готовя сакраментальное: «Куда прешь, козел?!», я развернулся буром – и узрел радостного Эльфа. С чемоданом.
А за Яшкой…
– Петров?! Шекель, застрелись: это же Петров!
– Задолбали! Лекарей на фонарь! – Сплошные восклицательные знаки, натыканные частоколом, подтверждают несокрушимость майорского здравия. – Водки зась, сало изъяли, не кури, не сори… Вредители! Дай волю, до смерти залечат. Хрена им! Что, похоронили мента? Не дождетесь!
Петров медведем давит всех подряд, включая растерявшегося от такой чести Вуханя. Я принюхиваюсь: наш сердечник за версту разит коньяком «Каховка» и селедкой с луком! Жив, курилка, жив, рыцарь, вот они, компетентные органы, шумят, гремят, дают жару февралю!.. Перетискав народ, герой ловит кралю-проводницу за крутой бочок: слово за слово, ментик-комплиментик, ассигнация, извлеченная прямо из красной «ксивы», – под напором петровского обаяния крепость мигом выбрасывает белый флаг. Место беглецу обеспечено.
Нижняя койка, как инвалиду умственного труда.
Едем!
Живот прихватывает совершенно неожиданно. Исподтишка, можно сказать. Наверное, селедкой с коньяком надышался. Или от Шекель-Рубеля заразился. Путем телепатической трансфузии.
– Мужики, я на минутку. В «два нуля». Шмотки в купе закиньте, ладно? Шекель, тебе не надо? За компанию?
– Не надо! – злорадствует светило, закатываясь в вагон.
«Поделом злодею мука!» – явственно читается на лице критика.
– Смотри не опоздай! Я стоп-кран, как на «Глюконе», рвать не буду!
– Ага!
Иду, бегу, буквально просачиваясь сквозь встречный людской поток. Здание вокзала. Центральный холл. Дальше, через кассовый зал… Сюда! Ссыпаюсь вниз по ступенькам. Давненько в вокзальном сортире не бывал. Ты гляди: чистота, парфюм, зеркала-рукомойники, кафель сверкает – и народу нет. Наверное, потому, что сортир платный. А где-то есть халявный. Увы, мне нынче не до экономии. Цель оправдывает средства.
Ф-фух!!!
Теперь вымыть руки, как учили в детском саду…
В углу «моечного» зала дико озирался по сторонам голый мужик. То есть совсем голый. В чем мать родила. И взгляд – обалделый, рыбий. Ни фига себе! Две минуты назад мужика здесь не было – это я точно помню.
Шагаю ближе. Еще ближе.
– Здравствуй, рыцарь…
А он меня послал.
Ну, я и пошел. Только не в указанном направлении, а на платформу. В запасе оставалось еще семь минут. Куча времени.
Успею!
V. Внезапное
Вспомнил, что сердце – слева, Вспомнил, что печень – справа, Вспомнил, что дни – мгновенны, Вспомнил, что я – не вечен. Думал забыть – не вышло. Ноябрь 2001 – апрель 2002 г.Примечания
1
Возможно ли не рассмеяться, друзья! (лат.) Из послания Горация Пизону и его сыновьям («Наука поэзии»).
(обратно)

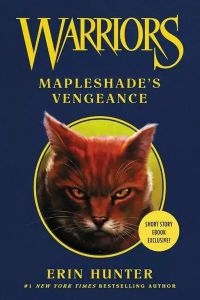

Комментарии к книге «Орден Святого Бестселлера, или Выйти в тираж», Генри Лайон Олди
Всего 0 комментариев