Нил Стивенсон Книга третья Одалиска
Женщине на втором этаже
К Музе
Яви себя, о Муза. Ты ведь здесь. Коль правы барды, коих нет давно, Ты — пламени и дуновенья смесь. Моё перо, как я, погружено Во мрак полночный жидкий, без тебя Тьму лишь расплещет — свет не даст оно. Оперена огнём — стоишь в тени… Очнись! Пусть вихри света разорвут Глухой покров. Навстречу мне шагни! Но нет, не ты во тьме — лишь я, как спрут Плыву, незряч, в клубах своих чернил, Что сам к твоей досаде породил. Завесу тёмную одно перо Пронзить способно. Вот оно. Начнём.Короли и лица, облечённые верховной властью, вследствие своей независимости всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и о состоянии и положении гладиаторов, направляющих оружие друг на друга и зорко следящих друг за другом. Они имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов у своих соседей, что является состоянием войны.[1]
Гоббс, «Левиафан»Уайтхолл февраль 1685
Как всадник, пришпоривший дикого скакуна, что пронёс его, не разбирая дороги, через несколько стран, или шкипер, который после ночной схватки с волнами вновь поднимает паруса и правит в неведомое море, так доктор Даниель Уотерхауз в лето Господне 1685-е наблюдал последние часы короля Карла II.
Многое произошло за двенадцать лет, однако мало что изменилось. Мир Даниеля, словно каучук, растягивался, но не рвался и всегда сохранял исходную форму. Он получил докторскую степень; дальше оставаться в Кембридже значило читать лекции перед пустыми аудиториями, вдалбливать науки тупым герцогским сынкам и смотреть, как Исаак всё глубже погружается в беспросветную темень поисков философской ртути, Соломонова храма и толкований на Апокалипсис. Даниель перебрался в Лондон, где события свистели мимо, как пули.
Падение Джона Комстока, его отъезд и уход с поста председателя Королевского общества в своё время представлялись эпохальными переменами. Через несколько недель Томас Мор Англси не только стал председателем Общества, но и купил особняк Комстока — лучший в Лондоне, считая королевские дворцы. Несгибаемого консерватора и архиангликанина сменил кичливый папист, и ничто, по сути, не изменилось. Даниель усвоил, что в мире полно влиятельных людей, однако пока они исполняют одну и ту же роль, они взаимозаменяемы, как актёры второго плана, произносящие те же реплики с той же сцены.
Семена, посеянные в 1672—1673 годах, за двенадцать лет взошли и стали деревьями: одни — могучими и красивыми, другие — кривыми и уродливыми, а третьи сожгло молнией. Нотт Болструд умер в изгнании, его сын Гомер жил теперь в Голландии, другие Болструды перебрались в Новую Англию. Всё из-за того, что Нотт в 1679-м вздумал через суд объявить Нелл Гвин непотребной женщиной. Шума эта история тогда наделала много. Чем старше становился Карл, тем больше лондонцы боялись возврата к папизму с приходом его брата Джеймса и тем больше король нуждался в склочном пуританине — Болструде, чтобы эти страхи успокаивать. Однако чем больше власти забирал Болструд, тем сильнее он распалял народ против Джеймса и католичества. В 1678 году ненависть достигла таких масштабов, что католиков начали хватать и вешать за участие в мифическом «папистском заговоре». Когда закончились католики, начали вешать протестантов за сомнения в том, что заговор вообще был.
К тому времени сыновья Англси — Луи, граф Апнорский, и Филип, граф Ширнесский, промотали почти все семейные капиталы. Терять им было нечего, кроме своих кредиторов, и они бежали во Францию. Роджер Комсток, ставший к тому времени пэром Англии, маркизом Равенскарским, купил Англси-хаус (прежде Комсток-хаус). Вместо того, чтобы въехать в особняк, Роджер велел его снести, а на освободившейся земле разбить «самую красивую площадь Европы». На самом деле выходило подобие Уотерхауз-сквер, только больше и лучше. Релей умер в 1678-м, однако Стерлинг заступил на его место так же легко, как Англси — на место Джона Комстока; теперь они с Равенскаром занимались тем же, что двенадцать лет назад, только с большим финансовым размахом и меньшим числом ошибок.
Король распустил Парламент, чтобы прекратить казни своих друзей-католиков, спровадил Джеймса в Испанские Нидерланды, чтобы не мозолил недругам глаза, и вдобавок выдал его дочь Марию за главного защитника протестантской веры: Вильгельма Оранского. На случай, если и этого будет мало, герцогу Монмутскому (протестанту) позволили разъезжать по стране, дразня англичан надеждой, что посредством какого-нибудь генеалогического мухлежа его объявят законнорожденным и наследником трона.
Другими словами, Карл II по-прежнему мог изумлять, ошеломлять и водить за нос. Однако его алхимические изыскания в подвале под Внутренней галереей не принесли плодов: он не мог делать золото из свинца. И не мог без Парламента увеличить налоги. Уцелевшие златокузнецы на Треднидл-стрит и сэр Ричард Апторп со своим новым банком не желали давать ему в долг. Людовик XIV щедро снабжал Карла золотом, но под конец оказался не лучше любого другого богатого родственничка: научился взамен процентов по долгам всячески изводить Карла. Итак, король вынужден был созвать Парламент. В итоге победили сторонники Болструда («Враги произвола», называли они себя) и первым пунктом в повестке поставили не увеличение налогов, а запрет Джеймсу (и любому другому католику) занимать английский престол. Парламент немедленно сделался столь непопулярным у сторонников короля, что пришлось переместить его (вместе с париками, мешками шерсти и проч.) в Оксфорд, подальше от лондонских толп, подстрекаемых сэром Роджером Лестрейнджем — тот, отчаявшись изничтожить чужие памфлеты, печатал теперь собственные. Полагая, что в Оксфорде им ничто не грозит, виги (как окрестил их Лестрейндж) проголосовали за новый закон о престолонаследии и рукоплескали Болструду, когда тот объявил Нелли шлюхой.
Даниель услышал о решениях Парламента от уличного глашатая. Они с Робертом Гуком стояли там, где у Комстока, а после у Англси, была бальная зала, а сейчас под синим октябрьским небом белела россыпь итальянского мрамора. Рабочим столом им служила коринфская капитель. Нанятые Роджером ирландцы выдернули из-под неё колонну, и капитель, рухнув, до половины ушла в землю. Она стояла как раз под нужным углом; Даниель и Гук разложили сверху чертежи и придавили осколками мрамора: кончиками ангельских крыльев и оббитыми листьями аканта. Чертежам этим предстояло воплотить замысел Роджера внести немного картезианской ясности в тот клубок спутанных корней, что представляли собой лондонские улицы. Землемеры вместе с помощниками протянули верёвки и вбили колышки, наметив оси трёх коротких параллельных улиц, на которых, согласно Роджеру, должны были расположиться лучшие лавки в Лондоне. На одной из табличек значилось «Англси», на второй — «Комсток», на третьей — «Равенскар». Однако вечером явился Роджер, вооружённый обмакнутым в чернила пером, вычеркнул эти названия и написал «Нортумберленд»[2], «Ричмонд»[3] и «Сент-Олбанс»[4].
Через месяц в Британии не было ни Парламента, ни Болструдов. Джеймс вернулся с чужбины, Монмута прогнали с королевской службы, и Англия, по сути, превратилась в подразделение Франции: Карл теперь открыто получал сто тысяч фунтов в год, а большинство лондонских политиков — как виги, так и тори — взятки от Короля-Солнца. Католиков, брошенных в Тауэр за участие в мифическом папистском заговоре, выпустили, чтобы освободить место для такого же количества протестантов, якобы участвовавших в «заговоре Ржаного дома» с целью посадить на престол Монмута. Как многие «папистские заговорщики», они быстро начали «кончать с собой». Один, например, исхитрился перерезать себе горло до самого позвоночника!
Итак, труд Уилкинса пошёл прахом, по крайней мере, на время. Тысячу триста квакеров, гавкеров и других диссентеров бросили в тюрьму. Тогда-то Даниель и провёл несколько месяцев в тесноте и вони, слушая, как озлобленные люди поют те самые гимны, которым его в детстве учил Дрейк.
Карл II любил Францию, ненавидел пуритан, не знал недостатка в любовницах, зато вечно нуждался в деньгах. И ничто по-настоящему не менялось.
* * *
Теперь доктор Уотерхауз стоял на пристани Уайтхолла: грубой деревянной платформе, что прилепилась к отвесной стене, сложенной из каменных блоков, — такой же, как у всех дворцовых зданий со стороны реки. Глядя вниз по течению, откуда должна была прибыть лодка с врачами, Даниель видел сплошную известняковую стену с редкими окнами или декоративными бастионами. Тремя сотнями футов ниже по течению в реку выдавался пирс; по нему, стуча от холода зубами, расхаживали несколько героических лодочников. Рядом покачивались на воде лодки, однако час был поздний, погода — холодная, король умирал, и никто из горожан не спешил воспользоваться древним правом свободного прохода через дворец.
За пирсом река плавно сворачивала вправо, к Лондонскому мосту. Когда тусклый день сменялся серым вечером, от «Старого лебедя» — таверны у северного края моста, где собирались осторожные люди, не желающие доверять свою жизнь стремнине под арками, — отвалила лодка и с тех самых пор упорно двигалась против течения. Сейчас Даниель, вытащив из кармана подзорную трубу, уже мог различить, что в ней всего два пассажира.
Ему вспомнился вечер в 1670 году, когда он приехал сюда в карете Пеписа и бродил по саду, пытаясь держаться естественно. В ту пору это казалось ему романтическим и опасным; теперь при мысли о тогдашней своей глупости он только стиснул зубы и возблагодарил Бога, что на него смотрела лишь отрубленная голова Кромвеля.
В последнее время он часто и подолгу бывал в Уайтхолле. Король решил немного ослабить хватку, выпустил из тюрем часть гавкеров и квакеров, а Даниеля назначил своего рода секретарём по делам безумных пуритан: преемником Нотта Болструда, с теми же обязанностями, но куда меньшей властью. Из примерно двух тысяч помещений Уайтхолла Даниель видел, быть может, сотни две — довольно, чтобы понять: эта путаница грязных, покрытых плесенью закутков — исполинский макет мозгов царедворца. Целые комнаты были отданы своре полудиких спаниелей, разнузданных даже для обитателей королевского дворца и безмозглых даже для спаниелей. Короче, Уайтхолл был домом королевского семейства, семейства, надо сказать, престранного. За последнюю неделю Даниель познакомился с этим семейством куда ближе, чем хотел. Нынешнее ожидание на пристани стало лишь предлогом выбраться из монаршей опочивальни и вдохнуть воздуха, не пахнущего августейшими телесными соками.
Через некоторое время к нему присоединился маркиз Равенскарский. Когда в понедельник король заболел, Роджер Комсток — самый малообещавший и покуда самый успешный из тех, с кем Даниель учился в Кембридже, — был на севере, наблюдал за строительством своей сельской усадьбы по чертежам, которые сделал для него Даниель. Новости туда идут день или два, вероятно, Роджер выехал сразу, как их получил, — сейчас был вечер четверга. Он даже не переменил дорожного платья, придававшего ему непривычно строгий, почти пуританский вид.
— Милорд.
— Доктор Уотерхауз.
По лицу Роджера Даниель видел, что тот уже побывал в королевской опочивальне. Чтобы не оставлять сомнений, Роджер подобрал длинные полы камзола, опустился на колени, нагнулся вперёд и сблевал в Темзу.
— Прошу меня извинить.
— Прямо как в студенческие дни.
— Я и не подозревал, что у человека в теле может быть столько соков, гуморов или как там они зовутся!
Даниель кивнул на приближающуюся лодку.
— Скоро узрите новые чудеса.
— Судя по виду его величества, врачи трудятся не покладая рук?
— Они сделали всё, чтобы ускорить переход короля в мир иной.
— Даниель! Умоляю, понизьте голос, — прошипел Роджер. — Не все оценят ваш сочный юмор.
— Забавно, что вы вновь упомянули о соках. Всё началось с апоплексического удара в понедельник. Король, при своём крепком организме, смог бы выкарабкаться, если бы в той же комнате не случился врач с полным набором ланцетов!
— Как некстати!
— Сверкнуло лезвие, врач нашёл вену, и король простился с пинтой-двумя гумора страсти. Впрочем, его величество всегда отличался полнокровием, так что продержался до вторника и сумел оттянуть консилиум до вчерашнего дня. Тут, увы, с ним приключилась падучая. Съехались врачи и заспорили, какой гумор и в каком количестве следует выпустить. После бессонных дня и ночи спор перешёл в состязание: кто предложит более кардинальные меры. Когда король, изнемогши в борьбе, впал в забытьё, они набросились на него, как псы. Врач, утверждавший, что король страдает от избытка крови, вонзил ланцет в его левую яремную вену раньше, чем остальные успели открыть свои сумки. Изрядное количество крови брызнуло наружу…
— Я как будто вижу собственными глазами.
— Погодите, я только начал. Врач, диагностировавший избыток желчи, указал, что кровопускание лишь увеличило дисбаланс. Двое его дюжих подручных усадили короля на постели, раскрыли ему рот и принялись щекотать горло различными перьями, китовым усом и прочим. Последовала рвота. Третий лекарь, утверждавший, что беды короля вызваны чрезмерным скоплением кишечных соков, перекатил его величество на живот и вставил в августейший анус исполинских размеров клистир. Внутрь излилась неведомая, очень дорогая жидкость, наружу…
— Да.
— Четвёртый эскулап поставил банки, дабы оттянуть через кожу другие яды, — отсюда огромные синяки, окружённые кольцевыми ожогами. Тут первый доктор пришёл в ужас, видя, что действия трёх других вновь привели к избытку крови: всё это, как вы знаете, относительно. Он вскрыл правую яремную вену, пообещав, что выпустит лишь малую толику крови, однако выпустил очень даже большую толику. Теперь остальные возмутились и потребовали повторить каждый своё лечение. Однако тут появился я и, воспользовавшись (некоторые бы сказали, злоупотребив) положением секретаря Королевского общества, посоветовал избавить короля не от гуморов, а от врачей. Несмотря на угрозы в адрес моей жизни и репутации, я выставил их из королевской опочивальни.
— Однако, въезжая в Лондон, я слышал, будто его величество идёт на поправку.
— После того, как сыны Асклепия сделали своё дело, король не двигался двадцать четыре часа кряду. Кто-то мог подумать, что он спит. У него не было сил забиться в судорогах — кто-то мог истолковать это как знак выздоровления. Иногда я подносил холодное зеркальце к его губам, и отражение королевского лица замутнялось. Сегодня в середине дня он заворочался и застонал.
— Трудно его винить! — вскричал Роджер.
— Тем не менее некоторые врачи сумели к нему проникнуть и диагностировали лихорадку. Его величеству дали королевскую порцию патентованного эликсира Лефевра.
— И, надо думать, на душе у короля сразу полегчало неимоверно!
— Мы можем лишь строить догадки. Ему стало хуже. Соответственно, врачи, которые прописывают порошки и микстуры, снова в немилости, и скоро сюда прибудут сторонники кровопусканий и клистиров!
— В таком случае я добавлю мой вес как председателя к вашему весу секретаря, и посмотрим, на какой срок нам удастся удержать ланцеты в футлярах…
— Занятно, Роджер, что вы заострили…
— Ой, Даниель, у вас на лице проступило такое уотерхаузовское раздумье, что мне сделалось страшно: вдруг вы хотели сказать «заострил» не в буквальном смысле, как «заострить ланцет», но в философском, как «заострить внимание».
— Я думал…
— Помогите! — завопил Роджер, размахивая руками. Однако лодочники на пирсе повернулись спиной к королевской пристани и смотрели на приближающуюся лодку с врачами.
— Помните, как Енох Роот получил фосфор из лошадиной мочи? А граф Апнорский выставил себя на посмешище, предположив, что из королевской?
— Я шокирован, Даниель, банальностью вашей мысли: что королевские кровь, желчь и прочее неотличимы от ваших. Можно ли мне в ответ просто допустить, что республиканский строй не лишён некоторых оснований, даже вроде бы неплохо зарекомендовал себя в Голландии, и перейти к чему-нибудь менее избитому?
— Я клоню к несколько иному, — возразил Даниель. — Я думал, как легко Англси сменил вашего родственника и как до обидного мало это изменило.
— Покуда вы снова не загнали себя в угол, Даниель, и мне не пришлось, как всегда, вас вытаскивать, попрошу больше не прибегать к этому сравнению.
— Какому сравнению?
— Вы собирались сказать, что Карл — как Джон Комсток, а Джеймс — как Англси, и, в конечном счёте, не важно, кто правит. Опасное утверждение с вашей стороны, ибо дом, где жили Комсток и Англси, срыт и замощён, — Роджер кивнул на Уайтхолл. — Не такой участи мы желаем этому зданию.
— Однако я собирался сказать совсем другое!
— Что же? Нечто не очевидное?
— Англси сменил Комстока, Стерлинг — Релея, я, в каком-то смысле, Болструда…
— Да, доктор Уотерхауз, мы живём в упорядоченном обществе, и люди сменяют друг друга.
— Иногда. Но есть незаменимые.
— Вряд ли соглашусь.
— Представьте, что, не дай Бог, умрёт Ньютон. Кто его заменит?
— Гук или, быть может, Лейбниц.
— Однако Гук и Лейбниц — иные. Я хотел сказать, что некоторые люди обладают уникальными качествами и потому незаменимы.
— Ньютоны встречаются редко. Он — исключение из любого правила, какое вы решите назвать. Очень дешёвый риторический приём с вашей стороны, Даниель. Не намерены баллотироваться в Парламент?
— Тогда мне следовало привести другой пример, ибо я хотел сказать, что вокруг, на рынках и в кузнях, в Парламенте, в Сити, в церквях и угольных шахтах, есть люди, чья смерть и впрямь что-то изменит.
— Почему? Чем эти люди отличаются от других?
— Вопрос очень глубокий. В последнее время доктор Лейбниц усовершенствует свою систему метафизики…
— Разбудите меня, когда закончите.
— Когда много лет назад я впервые увидел его на Лионской набережной, он обнаружил прекрасное знакомство с Лондоном, хотя никогда прежде здесь не бывал. Он изучал изображения города, сделанные разными художниками с разных точек. Тогда он пространно говорил о том, что сам город имеет некую определённую форму, но воспринимается по-разному каждым из своих обитателей, в зависимости от их обстоятельств.
— Каждый первокурсник так думает.
— То было более двенадцати лет назад. В последнем письме ко мне Лейбниц пишет, что склоняется к взгляду, согласно которому город вовсе не имеет одной абсолютной формы…
— Очевидная чушь.
— …но в каком-то смысле являет собой сумму перцепций — восприятий себя всеми своими слагаемыми.
— Я знал, что не следует принимать его в Королевское общество!
— Я плохо объясняю, — поморщился Даниель, — поскольку пока не вполне понял его мысль.
— Так зачем вы морочите мне ею голову именно сейчас?
— Суть имеет отношение к перцепциям и тому, как разные части мира — разные души — воспринимают все другие части — другие души. Некоторые души обладают перцепциями слабыми и неотчётливыми, как если бы смотрят в плохо отшлифованные линзы. Другие подобны Гуку, глядящему в свой микроскоп, или Ньютону, глядящему в свой отражательный телескоп. Их перцепции — высшие.
— Потому что у них лучше оптика!
— Нет, даже без линз и параболических зеркал Ньютон и Гук видят такое, чего не видим мы с вами. Лейбниц предлагает перевернуть с ног на голову то, что мы обычно подразумеваем, называя человека незаурядным или уникальным. Обычно мы подразумеваем, что человек этот как-то выделяется из толпы. Лейбниц же утверждает, что исключительность коренится в способности человека с необычной ясностью воспринимать остальную вселенную — отличать одно от другого лучше, чем прочие души.
Роджер вздохнул.
— Я знаю лишь, что доктор Лейбниц недавно наговорил гадостей о Декарте…
— Да, в своём труде «Brevis Demonstratio Erroris Memorabilis Cartesii et Aliorum Circa Legem Naturalem…»[5].
— И французы на него ополчились.
— Вы сказали, Роджер, что добавите свой вес как председателя Королевского общества к моему весу как секретаря.
— Да.
— Однако вы мне польстили. Да, некоторые люди взаимозаменяемы. Этих двух врачей можно заменить другими, и всё равно король умрёт нынче вечером. Но могу ли я — или кто иной — так же легко заменить вас, Роджер?
— Ну, знаете, Даниель, вы впервые в жизни выказали мне что-то вроде уважения!
— Вы — человек незаурядный, Роджер.
— Я тронут и, разумеется, согласен с тем, к чему вы клоните, хотя, убейте меня, по-прежнему не понимаю, что это.
— Отлично. Рад слышать, что вы, как и я, считаете: Джеймс — не замена Карлу.
До того, как Роджер очухался — но после того, как он поборол гнев, — лодка подошла так близко, что продолжать разговор стало невозможно.
— Да здравствует король! Милорд, доктор Уотерхауз… — произнёс некий доктор Хэммонд, выбираясь из лодки на пристань. Роджер и Даниель вынуждены были ответить тем же.
Вслед за Хэммондом из лодки вылез доктор Гриффин и тоже приветствовал их словами: «Да здравствует король!» Это означало, что они ещё раз должны пожелать здравия короля.
Даниель, видимо, произнёс здравицу недостаточно искренне; во всяком случае, доктор Хэммонд наградил его пристальным взглядом и повернулся к доктору Гриффину, словно приглашая того в свидетели.
— Хорошо, что вы прибыли вовремя, милорд, — сказал Хэммонд Роджеру Комстоку, — ибо сдаётся, что окружённый иезуитами с одной стороны и пуританами с другой, — взглядом пуская в Даниеля струи кипящей серной кислоты, — король чрезмерно обременён дурными советчиками.
Роджер имел обыкновение говорить с длинными паузами. Когда он был презренным шутом-субсайзером в Тринити, это воспринималось как придурковатость, теперь, когда он стал маркизом и Председателем Королевского общества, придавало его словам особую важность. Итак, когда они поднялись по ступеням до самого балкона, ведущего к королевским апартаментам, Роджер изрёк:
— Разум короля так же не должен страдать от недостатка советов со стороны людей учёных и набожных, как его тело — от недостатка различных соков, потребных для жизни и здоровья.
Махнув рукой на высящееся над ними здание, доктор Хэммонд сказал Роджеру.
— Это место — такой рассадник интриг и пересудов! Буде, не дай Бог, произойдёт худшее, ваше присутствие, милорд, сможет остановить перешёптывания.
— Сдаётся, кое-кто зашёл куда дальше перешептываний, — заметил Даниель, входя в здание вслед за Роджером и врачами.
— Убеждён, что доктор Хэммонд озабочен исключительно сохранением вашей репутации, доктор Уотерхауз, — сказал Роджер.
— Прошло почти двадцать лет с тех пор, как его величество взорвал моего отца. Неужто кто-то думает, что я так надолго затаил злобу?
— Не в том дело, Даниель…
— Напротив! Отец покинул мир сей столь скоропалительно, не оставив по себе бренной оболочки, что для меня своего рода утешение — сидеть с королём ночь за ночью, вдыхать воздух, пахнущий его кровью, утирать её собственной рукой, не говоря уже о прочих удовольствиях, которых я был лишён, когда отец вознёсся…
Маркиз Равенскарский и два лекаря замедлили шаг и обменялись выразительными взглядами.
— Да, — сказал Роджер после очередной продолжительной паузы, — слишком долгое сидение в спёртой атмосфере неблаготворно воздействует на тело, разум и дух… Быть может, Даниель, вам следует отдохнуть, дабы, когда эти два заботливых врача восстановят королевское здравие, вы могли с новыми силами принести его величеству свои поздравления, а также вновь засвидетельствовать те верноподданнические чувства, которые питаете и всегда питали к нему, невзирая на события двадцатилетней давности, о коих, сдаётся, и без того уже сказано слишком много.
Ему потребовалась ещё четверть часа, чтобы завершить фразу. Прежде чем прикончить её из милости, Роджер исхитрился пропеть дифирамбы доктору Хэммонду и доктору Гриффину, сравнив одного с Асклепием, другого с Гиппократом и не преминув в то же время отпустить несколько осторожно-хвалебных замечаний в адрес всех врачей, на сто ярдов приближавшихся к королю за последний месяц. Кроме того, он сумел (как почти восхищённо отметил Даниель) доходчиво объяснить присутствующим, какая катастрофа разразится, если король умрёт и предаст Англию в руки безумного паписта, герцога Йоркского, и в том же пассаже и практически в тех же словах заверить, что Йорк — отличный малый, и ради блага страны им следовало бы немедленно придушить Карла II подушкой. Подобным же образом в своего рода рекурсивной фуге придаточных предложений он смог провозгласить Дрейка Уотерхауза лучшим из англичан, умом и совестью нации, и признать, что, взорвав его с помощью тонны пороха, Карл II явил миру величайший пример монаршего гения, делающего его столь колоссальной фигурой, — или деспотичного произвола, внушающего светлые надежды на воцарение его брата.
Всё это — покуда Даниель и врачи тащились за ним через передние, коридоры, галереи, покои и часовни Уайтхолла. Возможно, когда-то весь дворец состоял из одного здания, но теперь уже никто не помнил, какое из них было первым. Новые лепились с той скоростью, с какой успевали подвозить камень и раствор; между чрезмерно отстоящими флигелями, словно бельевые верёвки, протянули галереи, между ними возникли дворы, которые со временем делились на дворики и зарастали новыми постройками. Потом строители принялись закладывать старые окна и двери и прорубать новые, затем закладывать новые и разбирать старые или прорубать ещё более новые. Так или иначе, в каждой клетушке, комнате или зале гнездилась своя клика придворных, как у каждого клочка Германии был свой барон. Соответственно, путь от пристани до королевской опочивальни пролегал через множество границ и, следуй они в молчании, был бы связан со множеством протокольных трений. Однако маркиз уверенно вёл докторов через лабиринт, ни на мгновение не прекращая речь: подвиг, сравнимый с тем, чтобы проскакать верхом через винный погреб, на лету вдевая нитку в иголку. Даниель потерял счёт кликам и камарильям, которые они, поприветствовав, оставили позади; однако он приметил изрядное число католиков и немало иезуитов. Роджер вёл их по ломаной дуге, огибающей покои королевы; давным-давно превращённые в подобие португальского женского монастыря с молитвенниками и жуткой богослужебной утварью, покои тем не менее бурлили своими собственными интригами. Миновали королевскую часовню, из которой и брало начало это католическое вторжение, что не особо удивило Даниеля, но подняло бы на ноги девять десятых Англии, если бы стало известно за пределами дворца.
Наконец подошли к двери в королевскую опочивальню, и Роджер изумил всех, закончив-таки фразу. Он изловчился отделить врачей от Даниеля и в чём-то кратко их наставить, прежде чем впустить в комнату.
— Что вы им сказали? — спросил Даниель, когда маркиз вернулся.
— Что, если они достанут ланцеты, я из их мудей теннисных мячиков понаделаю, — разъяснил Роджер. — У меня к вам поручение, Даниель: ступайте к герцогу Йоркскому и сообщите ему о здоровье брата.
Даниель вдохнул и задержал воздух в лёгких. Он сам не мог поверить, как непомерно устал.
— Я могу выдать какую-нибудь банальность, например, что с таким делом справится любой, а многие и лучше меня, а вы ответите чем-то, от чего я почувствую себя тупицей, например…
— В заботах о прежнем короле мы не должны забывать о необходимости поддерживать добрые отношения с будущим.
— «Мы» в данном случае означает…
— Королевское общество, разумеется! — вскричал Роджер, дивясь вопросу.
— Отлично. Что я должен ему сказать?
— Что прибыли лучшие лондонские врачи — теперь уже недолго.
* * *
Даниель мог бы укрыться от холода и ветра, пройдя по Внутренней галерее, но Уайтхолл уже сидел у него в печёнках, поэтому он вышел наружу, пересёк пару дворов и оказался перед Дворцом для приёмов, перед которым когда-то сняли голову Карлу I. Люди Кромвеля держали пленного монарха в Сент-Джеймском дворце и на казнь его вели через парк. Четырёхлетний Даниель, сидя у отца на плечах, видел каждый королевский шаг.
Сегодня тридцатидевятилетнему Даниелю предстояло воспроизвести последний путь короля — только в обратную сторону.
Двадцать лет назад Дрейк первым бы признал, что почти все достижения Кромвеля сведены на нет Реставрацией. Но, по крайней мере, Карл II был протестантом (или хотя бы для приличия притворялся). Разумеется, Даниелю не следовало придавать своей прогулке слишком большое символическое значение — не хватало только, как Исааку, видеть в каждой мелочи таинственный знак свыше. И всё же он невольно воображал, будто время покатилось вспять ещё дальше, за царствование Елизаветы, в дни Марии Кровавой. Тогда Джон Уотерхауз, дед Дрейка, бежал в Женеву — осиное гнездо кальвинистов. Он вернулся лишь после воцарения Елизаветы, вместе с сыном Кальвином и многими другими англичанами и шотландцами, разделявшими его религиозные взгляды.
Так или иначе, Даниель шёл через старый турнирный двор и спускался по лестнице в Сент-Джеймский парк на пути к человеку, который, по-всему, обещал стать новой Кровавой Мэри. Джеймс, герцог Йоркский, жил в Уайтхолле с королём и королевой, покуда склонность англичан собираться толпой и жечь крупные предметы при одном упоминании его имени не понудила короля сплавить братца куда подальше — скажем, в Брюссель или Эдинбург. С тех пор Джеймс оставался своего рода политической кометой: большую часть времени пребывал за пределами видимости, но нет-нет, да и врывался в Лондон и пугал всех до полусмерти, пока пламя костров и горящих католических церквей не прогоняло его обратно во тьму. Затем король потерял терпение, распустил Парламент, вышвырнул вон Болструдов и бросил остальных диссентеров за решётку. Джеймс вернулся вместе со всей свитой, хотя поселился не в Уайтхолле, а в Сент-Джеймском дворце.
От Уайтхолла туда было пять минут хода через несколько садов, парков и торговых рядов. Почти все старые деревья повалил «дьявольский ветер», который пронёсся над Англией в день похорон Кромвеля. Мальчишкой, раздавая памфлеты на Пэлл-Мэлл, Даниель видел, как сажают молодые деревца. Сейчас у него сжалось сердце при виде того, как они вымахали.
За весну и лето придворные протоптали колеи на дорожках между деревьями. Теперь здесь было пусто — ни гуляющих, ни парадных процессий. Бурые колдобины превратились в тонкую корочку замёрзшей грязи на месиве из земли и конского навоза. Башмаки Даниеля всё время продавливали её и уходили в вязкую жижу. Он старался подальше обходить вмятины от копыт, оставленные несколько часов назад гвардейским полком Джона Черчилля во время показательных учений. Гвардейцы скакали взад-вперёд и рубили головы соломенным чучелам. Чучела не были наряжены вигами и диссентерами; тем не менее и Даниель, и лондонцы, палящие костры на Чаринг-Кросс, прекрасно понимали намёк.
Некий Наум Тейт недавно перевёл на английский полуторавековой давности поэму итальянского астронома Джироламо Фракасгоро, озаглавленную в оригинале: «Syphilis, Sive Morbys Gallicys», а у Тейта: «Сифилис, или Поэтическая история французской болезни». И в оригинале, и в английском переложении речь шла о пастухе по имени Сифилис, которого (как всех мифических пастушков) постигла страшная и совершенно незаслуженная участь: первым подцепить одноимённый недуг. Пытливые умы гадали, с какой стати мистер Тейт взял на себя труд переводить латинские вирши, без которых англичане спокойно прожили сто пятьдесят лет, — стихи о болезни, сочинённые астрономом. Некоторые ехидные лондонцы полагали, что разгадка кроется в определённых параллелях между пастушком и герцогом Йоркским. Например, все любовницы и жёны упомянутого герцога заболевали сказанной хворью; первая жена, Анна Гайд, от неё, скорее всего и умерла; дочери, Мария и Анна, страдали глазами и по женской части, а сам герцог был то ли непроходимо туп, то ли совершенно невменяем.
Даниель как натурфилософ отлично понимал склонность людей всему подыскивать объяснение — склонность порочную и граничащую с суеверием. Однако сходство между пастушком Сифилисом и Джеймсом, герцогом Йоркским, и впрямь выглядело неслучайным. Словно желая развеять последние сомнения, сэр Роджер Лестрейндж сейчас запугивал Тейта, понуждая того разыскать и перевести другие замшелые латинские эклоги. Все точно знали, что Лестрейндж это делает, и догадывались зачем.
Джеймс был католиком и хотел стать святым. Всё к тому сходилось, потому что родился он пятьдесят два года назад в Сент-Джеймском дворце — дворце Святого Иакова. Здесь был его настоящий дом. Здесь в юные лета он обучался тому, что положено знать принцу, — французскому и фехтованию. Во время Гражданской войны его вывезли в Оксфорд и более или менее бросили на произвол судьбы. Иногда папаша прихватывал сына в очередное сражение, за очередной трёпкой от Оливера Кромвеля.
Какое-то время Джеймс болтался вместе с кузенами, сыновьями своей плодовитой, но невезучей тётки Елизаветы (Зимней королевы), затем вернулся в Сент-Джеймский дворец, где и жил в качестве избалованного дитяти-заложника, гуляя по парку и время от времени предпринимая мальчишеские попытки убежать со всеми их непременными атрибутами, включая шифрованные письма тайным сторонникам. Одно такое письмо перехватили, призвали Джона Уилкинса его расшифровать, после чего Парламент пригрозил отправить Джеймса в куда менее гостеприимный Тауэр. В конечном счёте он всё-таки выскользнул из парка, переодевшись в девичье платье, и бежал через море в Голландию. Покуда Гражданская война в Англии затихала, возмужавший Джеймс мотался между Голландией, островом Джерси и парижским пригородом Сен-Жермен, коротая время в приличествующих принцу забавах: верховой езде, охоте и распутстве. Кромвель тем временем продолжал сокрушать роялистов на каждом шагу — не только в Англии и Шотландии, но даже во Франции. Вскоре Джеймс остался без гроша и вынужден был стать воякой — очень, к слову, неплохим — под знамёнами маршала Тюренна, блистательного французского полководца.
По дороге Даниель несколько раз поворачивал голову и смотрел на север через Пэлл-Мэлл. Перспектива всякий раз открывалась новая, в полном соответствии с утверждениями доктора Лейбница. Однако при удачном параллаксе зданий можно было различить за кострами, которые жгли недовольные протестанты, в просвет улиц, названных в честь незаконных королевских отпрысков, площадь, где Роджер Комсток и Стерлинг Уотерхауз возводили дома и лавки. На постройку некоторых пошли камни от особняка Джона Комстока — те самые, что Джон Комсток в своё время позаимствовал из развалин южного трансепта собора Святого Павла. В окнах горели огни, из труб поднимался дым, пахло по большей части углём, но порой ветер доносил аромат жареного мяса. Пробираясь по колдобинам пустого парка, перешагивая через головы, срубленные у чучел несколько часов назад, Даниель нагулял себе аппетит. Хорошо было бы сейчас посидеть у камелька с кружкой в одной руке и куриной ножкой в другой… Тем не менее он продолжал упрямо идти к своей цели. К какой именно?
До Сент-Джеймского дворца оставалось всё меньше, и ответ надо было найти до того, как он туда доберётся.
В какой-то момент Кромвель, как ни трудно поверить, заключил союз с Францией, и юному Джеймсу пришлось влачить одинокое, унылое, нищенское существование в Испанских Нидерландах. Во Фландрии он сколотил армию из беглых ирландцев, шотландцев и англичан и некоторое время досаждал кромвелевским поискам в окрестностях Дюнкерка. После Реставрации он унаследовал титул Верховного адмирала и принял участие в нескольких увлекательно-кровопролитных схватках с голландским флотом.
Так вышло, что сёстры его умерли молодыми, брат Карл не сумел произвести на свет законного наследника, и в вопросе продолжения рода мать могла рассчитывать только на Джеймса. Покуда матушка жила себе припеваючи во Франции, её золовку Елизавету пинали по Европе, как набитый соломой свиной пузырь по ярмарочной площади. Тем не менее Елизавета рожала с нечеловеческой быстротой и заполонила своим потомством всю Европу. Многие её дети кончили ничем, однако дочь София поддержала фамильную традицию семью дожившими до совершеннолетия отпрысками. В итоге по количеству приплода Генриетта-Мария Французская, мать Карла и Джеймса, проигрывала жалкой Зимней королеве. Джеймс был единственной её надеждой. Соответственно, она всеми правдами и неправдами оберегала его от опасности — оставляя у Джеймса чувство, что он уничтожил меньше неприятельских армий и потопил меньше вражеских флотов, чем мог бы, не мешай ему матушка.
Чем он занимался после 1670-го? Добывал в Африке золото, а когда из этого ничего не вышло — негров. Без особого успеха убеждал английских дворян переходить в католичество. Жил в Брюсселе, потом в Эдинбурге, рыскал по Шотландии, истребляя диких пресвитериан в их сельских молельнях. На самом деле он просто ждал своего часа. В точности как Даниель.
Двенадцать лет пронеслись, волоча Даниеля за собой, словно всадника, зацепившегося ногой за стремя.
Что это означает? Что пора взять дело в свои руки и навести в жизни порядок. Найти, чему посвятить отпущенные ему годы. Он слишком уподобился Дрейку, дожидаясь некоего Апокалипсиса, который никогда не наступит.
При мысли, что Джеймс будет править Англией душа в душу с Людовиком XIV, ему делалось худо. Вот оно, бедствие такое же, как Великий лондонский пожар.
Прозрение явилось разом, как Афина из головы Зевса, оставалось лишь сортировать его следствия.
В чрезвычайных ситуациях нужны решительные меры — например, взрывать дома (как Карл II) или открывать шлюзы, оставляя пол-Голландии под водой (как Вильгельм Оранский). Или даже свергать королей и рубить им головы, как Дрейк и его сподвижники. Такие, как Карл, Вильгельм, Дрейк, действуют без колебаний, в то время как Даниель то ли (а) жалкое трусливое ничтожество, то ли (б) мудро выжидает время.
Может быть, для того Господь с Дрейком и отправили его в этот мир, чтобы он сыграл некую ключевую роль с последней схватке между Вавилонской блудницей (она же римско-католическая церковь), с одной стороны, и Свободной торговлей, Свободой совести, Конституционной монархией и прочими англосаксонскими добродетелями — с другой, схватке, которой предстояло начаться примерно через десять минут.
Латиняне теперь чувствуют себя при дворе куда увереннее, чем когда-либо со времён Реформации.
Дневники Джона ИвлинаМысли эти настолько напугали Даниеля, что при входе в Сент-Джеймский дворец у него едва не подломились колени. Неловкость, впрочем, получилась бы куда меньшая, чем можно вообразить, снующие туда-сюда придворные и гренадеры, согревающие руки над синим огнём колеблемых ветром факелов, сочли бы просто, что с очередным безумным пуританином приключился религиозный экстаз. Однако Даниель устоял на ногах и даже втащил себя по лестнице, оставляя на полированном камне грязные отпечатки башмаков. Наследить при входе — сомнительное начало для заговорщика.
Сент-Джеймский дворец был просторнее бывших апартаментов Джеймса в Уайтхолле и (как отметил сейчас Даниель) дал тому возможность завести собственный двор, который пересечёт парк и заменит двор Карла в миг перехода власти. То было странное смешение оголтелых папистов и серой посредственности. Даниель ругал себя за то, что не присматривался к этим людям внимательнее. Кто-то из них будет исполнять ту же роль и разыгрывать те же диалоги, что и предшественники, но кто-то (если размышления Даниеля на королевской пристани — не полная чушь) обладает уникальными перцепциями. Их следует распознать.
Пробираясь через дворец, Даниель видел всё меньше гренадеров и всё больше красивых щиколоток, мелькающих под пышными юбками. У Джеймса имелось пять главных любовниц (включая графиню и герцогиню) и семь второстепенных — по большей части весёлых вдовушек, тоже, разумеется, не абы чьих. Почти все они были фрейлины, что позволяло им безвылазно торчать в Сент-Джеймском дворце. Даниель героически старался уследить за подобными вещами и мог по памяти перечислить королевских любовниц, но герцогских не превозмог. Впрочем, было эмпирически установлено, что герцог не способен пропустить ни одной молодой особы в зелёных чулках, так что Даниель мог более или менее отсортировать их, просто глядя на щиколотки.
С любовницами следовало повременить до тех пор, пока он узнает хотя бы, как их зовут. Оставались приближённые. Некоторые сполна определялись словами «придворные» или «безмозглые щёголи», других следовало изучить и понять во всём многообразии их перцепций. Даниель содрогнулся при виде субъекта, которого, не будь тот во французском дворянском платье, принял бы за шаромыжника. Казалось, это плод какого-то чудовищного эксперимента, поставленного Королевским обществом: две человеческие головы, одну побольше, другую поменьше, разрезали пополам и срастили по шву. Субъект постоянно дёргался, словно половинки головы спорили, куда смотреть. Время от времени спор заходил в тупик; тогда он замирал на несколько мгновений, открыв рот. Потом моргал и вновь с сильным французским акцентом обращался к своему собеседнику — молодому офицеру Джону Черчиллю.
Лучшая половина странного француза выглядела лет на сорок—пятьдесят. То был Луи де Дюра, племянник маршала Тюренна, давно и прочно осевший в Англии. Женившись на правильной англичанке и собрав для Карла II изрядно налогов, он стал бароном Троулейским, виконтом Сондским и графом Февершемским. Февершем, как его обычно называли, был постельничим Карла II, и сейчас ему следовало находиться в Уайтхолле. Его отсутствие на месте можно было бы расценить как постыдное небрежение обязанностями. Однако Февершем к тому же командовал конной гвардией, что давало ему предлог околачиваться в Сент-Джеймском дворце: Джеймс, ненавистный всем, но здоровый будущий король, нуждался в охране больше всенародно любимого, но умирающего Карла.
За угол и в другой зал, такой холодный, что у говорящих изо рта поднимался пар. Даниель приметил Пеписа и направился было к нему. Тут порыв сквозняка из неплотно пригнанной рамы отогнал облачко пара от человека, с которым тот разговаривал, и Даниель узнал Джеффриса. Лицо его с годами обрюзгло, но глаза были всё так же прекрасны и смотрели прямо на Даниеля. На миг его парализовало, как мелкого зверька под гипнотическим взглядом змеи, однако он сообразил отвернуться и юркнул через ближайший дверной проём в галерею, соединяющую различные герцогские покои.
Где-то здесь томилась Мария-Беатриса д'Эсте, она же Мария Моденская, вторая жена герцога. Даниель старался не думать, что она чувствует — итальянская принцесса, выросшая между Генуей, Флоренцией и Венецией, окружённая любовницами мужа-сифилитика, окружённого в свою очередь протестантами, окружёнными в свой черёд холодным Северным морем, — в бессрочном заточении с единственной целью в жизни: произвести на свет сына, чтобы трон закрепился за католиками… и до сих пор бесплодная.
Куда веселее выглядела Катерина Седли, герцогиня Дорсетская, которая и прежде была не бедна, а теперь ещё заполучила пенсион, родив двух из бесчисленных незаконных отпрысков Джеймса. Она была не хороша собой, не католичка и даже не потрудилась натянуть зелёные чулки — и всё-таки обладала загадочной властью над герцогом, к зависти прочих его любовниц. Катерина Седли прогуливалась по галерее с иезуитом, отцом Петром, который, помимо прочего, наставлял в католической вере незаконных детей Джеймса. Лицо мисс Седли светилось улыбкой, и Даниель подумал, что иезуит рассказывает что-то забавное о проделках её детей.
Галерею, лишённую окон, освещали лишь несколько свечей. Незваный гость должен был казаться им призраком — бледное лицо, тёмное платье. Пуританский фантом, ночной кошмар, от которого никогда не избавиться аристократам, пережившим Гражданскую войну. Умилённые улыбки сменились тревожным взглядом: кто это — приглашённый или фанатик-убийца? Даниель сознавал всю свою гротескную неуместность, однако годы в Тринити-колледже научили его многому. Он поклонился герцогине Дорсетской и обменялся натянутыми приветствиями с иезуитом. Эти люди никогда его не полюбят, между ними никогда не будет добрых доверительных отношений. И всё же сквозила в происходящем некая неприятная симметрия. Он видел недоумение на их лицах, затем — узнавание и, наконец, вежливую маску, под которой они силились определить, зачем он здесь и как Даниель Уотерхауз вписывается в общую картину событий.
Если бы Даниель поднёс зеркало к собственному лицу, он увидел бы ту же смену выражений.
Он один из них; не столь влиятельный, не столь сановитый, вернее, вовсе без всякого сана, однако он здесь, сейчас — единственный сан, имеющий вес в глазах этих людей. Быть тут, дышать воздухом дворца, раскланиваться с герцогскими любовницами — своего рода посвящение. Дрейк сказал бы, что просто войти к этим людям и проявить к ним элементарную вежливость, значит стать соучастником власти. Когда-то Даниель вместе с другими смеялся над отцовскими разглагольствованиями. Теперь он понял, что всё так и есть, ибо, когда герцогиня его узнала и назвала по имени, он почувствовал гордость. Дрейк, будь у него могила, перевернулся бы в гробу. Увы, могила Дрейка — в воздухе над Лондоном.
Очередной порыв ветра налетел на дворец, и старые потолочные балки затрещали.
Герцогиня наградила Даниеля многозначительной улыбкой. У него была любовница, и мисс Седли это знала: несравненная Тесс, умершая от оспы пять лет назад. Теперь у него не было любовницы, и мисс Седли, вероятно, знала об этом тоже.
Он настолько замедлил шаг, что почти остановился. Сзади послышались стремительные шаги, и Даниель втянул голову, ожидая, что тяжёлая рука ляжет ему на плечо, но двое придворных, затем ещё двое (включая Пеписа) разошлись за его спиной, как ручей перед камнем, и вновь сошлись у большой готической двери, такой старой, что дерево от времени стало серым, словно небо. Последовал некий длительный ритуал: постучать, прокашляться, повертеть ручку. Дверь отворилась изнутри; петли застонали, как тяжелобольной.
Сент-Джеймский дворец содержался в лучшем порядке, чем Уайтхолл, и всё равно это был огромный старый дом. Куда более ветхий, чем тот, что выстроил Комсток и купил Англси. Однако тот дом рухнул. И обрушил его не государственный переворот, а рынок. Комстока и Англси сгубили не свинцовые пули, а золотые монеты. У людей, что селились теперь на развалинах, такого боеприпаса было в достатке.
Чтобы привести в движение эти силы, довольно властной способности решать и действовать.
Ему сделали знак войти. Пепис шагнул навстречу, протягивая руку, словно хотел взять Даниеля под локоток. Будь Даниель герцогом, Пепис сейчас шепнул бы ему на ушко мудрый совет.
— Что мне сказать? — спросил Даниель.
Пепис ответил сразу, как будто три недели репетировал этот разговор перед зеркалом.
— Не думайте слишком много о том, что герцог боится и ненавидит пуритан, Даниель. Думайте лучше о тех, кого герцог любит. Папах и полководцах.
— Хорошо, мистер Пепис, я о них думаю, и мне ни капли не легче.
— Верно, Роджер мог отправить вас на заклание, и герцог, не исключено, увидит в вас убийцу. Коли так, любые попытки подольститься будут восприняты превратно. Да вы в этом и не сильны.
— Что ж, если мне суждена казнь, я должен мужественно положить голову на плаху.
— Спойте парочку гимнов! Поцелуйте Джека Кетча и простите его заранее! Покажите этим вертопрахам, чего вы стоите!
— Вы правда думаете, что Роджер послал меня сюда ради…
— Разумеется, нет! Я пошутил.
— Есть традиция убивать вестника.
— Как ни трудно вам будет поверить, Даниель, герцог восхищается некоторыми качествами пуритан: их строгостью, их сдержанностью, их неколебимостью. Он видел Кромвеля в бою, Даниель! Он видел, как Кромвель вырубил под корень поколение придворных щёголей, и не забыл этого.
— Вы хотите, чтобы я изобразил Кромвеля?!
— Изображайте кого угодно, Даниель, только не придворного. — Самюэль Пепис крепко взял Даниеля за локоть и практически втолкнул в дверь.
Даниель Уотерхауз стоял перед Джеймсом, герцогом Йоркским.
Герцог был в белокуром парике. Светлая кожа и выпуклые глаза всегда придавали ему сходство с юнцом, только каким-то уродливо-старообразным. Вокруг придворные перешёптывались и переминались с ноги на ногу. Иногда звякала шпора.
Даниель поклонился. Джеймс словно и не заметил. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Карл давно бы отпустил остроту, разрядил обстановку, дал Даниелю понять, как к нему относится. Джеймс лишь выжидательно молчал.
— Как мой брат, доктор Уотерхауз? — спросил он наконец.
По тону вопроса Даниель понял, что Джеймс понятия не имеет, насколько плох его брат. Все знали крутой нрав герцога, ему не осмеливались говорить правду.
— Ваш брат умрёт в течение часа, — сказал Даниель.
— Так ему хуже?! — вскричал Джеймс.
— Он был при смерти всё это время.
— Почему же никто мне прямо не сказал?
Правильный ответ был бы, вероятно: «Говорили, да вы не поняли», однако никто не смог бы такое произнести.
— Не знаю, — отвечал Даниель.
* * *
Роджер Комсток, Самюэль Пепис и Даниель Уотерхауз стояли в передней Уайтхолла.
— Он сказал: «Меня окружают люди, которые боятся говорить мне правду в глаза». Он сказал: «Я не такой многогранный, как мой брат. Не настолько многогранный, чтобы быть королём». Он сказал: «Мне нужна ваша помощь».
— Он так и сказал?! — изумился Роджер.
— Разумеется, нет, — фыркнул Пепис. — Но подразумевал.
В передней были две двери. Одна вела в Лондон, и пол-Лондона, казалось, собралось по другую её сторону. Вторая вела в королевскую опочивальню, где у ложа умирающего собрались Джеймс, герцог Йоркский, герцогиня Портсмутская, главная любовница короля, отец Хаддингтон, католический священник, и Луи де Дюра, граф Февершемский.
— Что ещё он сказал? — спросил Роджер. — А главное, что ещё подразумевалось?
— Он туп и неподатлив, потому нуждается в ком-то сообразительном и гибком. Очевидно, некоторые полагают, что я обладаю обоими этими качествами.
— Отлично! — воскликнул Роджер с не вполне уместной сейчас весёлостью. — Благодарите мистера Пеписа: герцог ему доверяет, а мистер Пепис хорошо о вас отзывался.
— Спасибо, мистер Пепис…
— Всегда пожалуйста, доктор Уотерхауз!
— …что заверили герцога в моей трусливой готовности поступаться убеждениями.
— Как ни горько мне было бы возводить на вас столь гнусный поклёп, Даниель, я охотно бы это сделал, чтобы услужить доброму другу, — мигом откликнулся Пепис.
Роджер нетерпеливо спросил:
— Его высочество обращался к вам за советом?
— По пути через парк я сообщил ему, что мы живём в протестантской стране и он принадлежит к религиозному меньшинству. Герцог был ошарашен.
— Должно быть, для него это тяжёлый удар.
— Я посоветовал ему обратить сифилитическое слабоумие себе на пользу: оно продемонстрирует народу, что король — тоже человек, и в то же время послужит оправданием части его поступков.
— Вы такого не говорили!
— Доктор Уотерхауз просто проверяет, внимательно ли вы слушаете, — вставил Пепис.
— Он сказал мне про свой сифилис двадцать лет назад в Эпсоме, — объявил Даниель, — и тайна — тогда это была тайна — не выплыла на свет немедленно. Быть может, потому он меня и уважает.
Роджера не интересовали столь старые новости. Взгляд его был устремлён в противоположный угол, где плечом к плечу стояли отец Пётр и французский посол Барийон.
Одна из дверей отворилась. За ней на испачканной постели лежал покойник. Отец Хаддингтон осенял его крестным знамением, бормоча последние строки елеепомазания. Герцогиня Портсмутская рыдала в платок, а герцог Йоркский — нет, король Англии! — молился, сжав руки.
Герцог Февершемский, пошатываясь, вышел из комнаты и прислонился к косяку, не радостный и не опечаленный, просто растерянный. Он только что стал главнокомандующим английской армией. У Поля Барийона было такое лицо, словно он тайком сосёт шоколадный трюфель. Самюэль Пепис, Роджер Комсток и Даниель Уотерхауз озабоченно переглянулись.
— Ну как, милорд? — спросил Пепис.
— Что? А-а… Король умер. — Февершем закрыл глаза и уронил голову на локоть, словно собрался вздремнуть.
— Да здравствует… — напомнил Пепис.
Февершем очнулся.
— Да здравствует король!
— Да здравствует король! — подхватили все.
Отец Хаддингтон завершил обряд и повернулся к двери. Роджер Комсток воспользовался моментом, чтобы перекреститься.
— Не думал, что вы католик, милорд, — заметил Даниель.
— Заткнитесь, Даниель! Вы же знаете, что я горой за свободу совести — разве я когда-нибудь допытывался о вашей религии? — отвечал маркиз Равенскарский.
Версаль лето 1685
Нынче наш пол ценят дёшево; молодая женщина может быть писаной красавицей, знатной, воспитанной, остроумной, рассудительной, изящной и скромной, обладать всевозможными прекрасными качествами, но если у неё нет денег — у неё нет ничего, в наши дни одни только деньги заставляют уважать женщину; нет денег — и мужчины не церемонятся с нашей сестрой.[6]
Даниель Дефо, «Молль Флендерс»Графу д'Аво
12 июля 1685
Монсеньор,
Как видите, я зашифровала письмо согласно Вашим инструкциям, хотя лишь Вам ведомо, от кого Вы хотите его уберечь: от голландских шпионов или от Ваших недругов при дворе. Да, я обнаружила, что у Вас есть недруги.
По пути меня ограбили грубые неотёсанные голландцы. Хотя по их виду и манерам этого не скажешь, у них есть нечто общее с братом французского короля, а именно — страсть к женскому белью. Ибо они тщательно прочесали мой багаж и облегчили его на несколько фунтов.
Стыдитесь, монсеньор! Как Вы могли спрятать письма в моих вещах! Некоторое время я боялась, что меня бросят в какой-нибудь ужасный голландский работный дом и заставят до скончания дней скоблить мостовую и вязать чулки. Однако по вопросам, которые мне задавали, я вскоре поняла, что Ваш французский шифр совершенно поставил их в тупик. Для проверки я ответила, что могу прочесть эти письма ровно так же, как они; по кислым минам вопрошавших стало ясно, что я разом обличила их невежество и доказала собственную невиновность.
Я прощу Вас, монсеньор, за пережитые по Вашей милости треволнения, если Вы простите, что я до последнего времени полагала чистым безумием Вашу затею отправить меня в Версаль. Ибо такой, как я, не место в прекраснейшем дворце мира.
Теперь я многое узнала и поняла.
Здесь циркулирует история, которую Вы наверняка слышали. Героиня — девушка, немногим лучше невольницы, дочь разорившегося мелкопоместного дворянина. От безысходности она вышла за калеку-литератора. Литератор держал в Париже салон, который посещали многие важные особы, уставшие от глупой светской болтовни. Молодая женщина познакомилась со знатными гостями супруга. Когда тот умер, оставив её без гроша, некая герцогиня из жалости взяла овдовевшую женщину в Версаль и приставила гувернанткой к своим незаконнорожденным детям. Эта герцогиня была не кто иная, как официальная любовница короля, а её дети — внебрачные королевские отпрыски. Далее история повествует, что Людовик XIV вопреки давней традиции христианских владык ставит своих побочных детей немногим ниже дофина и прочих законных чад. Этикет требует, чтобы законных королевских детей воспитывала герцогиня; соответственно, гувернантку своих бастардов король сделал маркизой. В последующие годы он охладел к официальной любовнице, которая превратилась в жирную кривляку, и каждый день, приезжая к ней после мессы, направлялся прямиком к вдове — маркизе де Ментенон, как теперь её называли. И наконец я узнала то, о чём известно всему Версалю: не так давно король тайно женился на маркизе де Ментенон, и теперь она королева Франции во всём, кроме официального титула.
Ясно видно, что Людовик держит своих вельмож в узде; им остаётся лишь забавляться азартными играми в отсутствие короля и копировать королевские поступки в его присутствии. Соответственно, каждый герцог, граф и маркиз в Версале рыщет по детским и классам, мешая учёбе, в поисках хорошеньких гувернанточек. Без сомнения, Вы знали об этом, когда устраивали меня гувернанткой к детям графа де Безьера. С ужасом думаю, в каком долгу у Вас бедный вдовец, если согласился на такое! С тем же успехом Вы могли бы определить меня в бордель, монсеньор, столько юных вертопрахов ошиваются у входа в графские покои и преследуют меня в саду, куда я выхожу со своими питомцами, — не из-за моей природной неотразимости, а потому, что так поступил король.
По счастью, его величество не счёл нужным удостоить меня высокого титула, иначе я не знала бы и минуты покоя, чтобы писать Вам письма. Я сказала этим бездельникам, что мадам де Ментенон славится своей набожностью и что король (которому не откажет ни одна женщина в мире и который меняет любовниц как перчатки) полюбил её за ум. Они немного присмирели.
Надеюсь, читая мой рассказ, Вы несколько развеялись и отвлеклись от утомительных обязанностей в Гааге, посему простите, что я не пишу ничего существенного.
Ваша покорная слуга
Элиза
P. S. Финансовые дела графа де Безьера в страшном расстройстве — за прошлый год он потратил четырнадцать процентов дохода на парики и тридцать семь — на проценты по долгам, в основном карточным. Типично ли это? Попытаюсь ему помочь. Того ли Вы хотели? Или Вы желаете, чтобы он оставался в стеснённых обстоятельствах?
Язык мой тёмен, но в моих словах Таится истина, как злато в сундуках.[7] Джон Беньян, «Путешествие пилигрима»Готфриду Вильгельму Лейбницу
4 августа 1685
Дорогой доктор Лейбниц,
Начальная трудность[8] сопутствует всякому новому предприятию, и мой приезд в Версаль не стал исключением. Я благодарю Бога, что провела несколько лет в серале константинопольского дворца Топкапы, где обучалась роли султанской наложницы, ибо ничто иное не подготовило бы меня к Версалю. В отличие от Версаля султанский дворец рос без единого плана и снаружи представляется случайным нагромождением минаретов и куполов. Однако изнутри оба дворца одинаковы; множество тесных комнатёнок без окон, выгороженных из других комнат. Разумеется, таков дворец глазами мышонка: как я никогда не была в сводчатом чертоге, где турецкий султан лишает невинности своих невольниц, так мне не довелось вступить в Салон Аполлона и узреть Короля-Солнце во всём его великолепии. В обоих дворцах я видела лишь чуланы, подвалы и чердаки, где ютятся придворные.
Некоторые части дворца и почти все сады открыты для любого прилично одетого посетителя. То есть поначалу для меня они были закрыты, ибо люди Вильгельма изорвали все мои платья. Однако после того, как моя история стала известна, многие дамы принялись задаривать меня обносками со своего плеча — то ли из сострадания к моей горькой участи, то ли из желания освободить тесные гардеробы от прошлогодних нарядов. Мне удалось перешить их если не в совсем модные, то по крайней мере в такие, чтобы не вызывать насмешек, гуляя по саду с сыном и дочерью графа де Безьера.
Дворец живописать словами невозможно. Полагаю, так и задумывалось: всякий, кто хочет о нём узнать, должен явиться сюда лично. Замечу только, что каждая капля воды, каждый лист или лепесток, каждый квадратный дюйм стены, пола и потолка несёт на себе печать человека: всё продумано величайшими умами, ничто не случайно. Дворец преисполнен намерения, и куда ни глянь видишь устремлённые на тебя взгляды зодчих и, чрез них, Верховного Зодчего — Людовика. Я сравниваю увиденное здесь с каменными глыбами и кусками дерева, которые встречаются в Природе и которым строители в других местах лишь слегка придают форму. Ничего подобного в Версале нет.
В Топкапы всё убрано великолепными коврами, доктор, каких никто в христианском мире не видел, созданными нить за нитью, узелок за узелком трудами человеческих рук. Таков и Версаль. Здания, возведённые из обычного камня и дерева, рядом с ним — что мучной куль рядом с бриллиантовым ожерельем. Чтобы нарисовать рядовое событие, скажем, беседу или обед, надо было бы отвести пятьдесят страниц описанию залы и её убранства, ещё пятьдесят — нарядам, драгоценностям и парикам собравшихся, пятьдесят — их родословным, пятьдесят — разъяснению их нынешней роли в различных придворных интригах; наконец, собственно произнесённые слова уместились бы на одной.
Нет надобности говорить о бессмысленности такой затеи, и всё же надеюсь, что Вы простите многословные цветистые описания, от которых я порой не в силах удержаться. Знаю, доктор, что, даже не видя здешних нарядов, Вы, при Вашем несравненном уме, сумеете вообразить их по тем грубым подражаниям, которые наблюдаете при немецких дворах. Посему воздержусь от перечисления каждой мелочи. Знаю также, что Вы составляете генеалогическое древо Софии, и богатство Вашей библиотеки позволяет Вам ознакомиться с родословной любого захудалого дворянчика, какого мне случится упомянуть. Посему не буду чрезмерно распространяться и об этом. Попытаюсь описать нынешнее состояние придворных интриг, ибо о них Вам знать неоткуда. Например, два месяца назад моему хозяину, графу де Безьеру, выпала честь держать свечу на вечернем туалете короля, и в следующие две недели его приглашали на все самые значительные приёмы. Однако с тех пор его звезда закатилась, и жизнь стала очень тихой.
Если Вы читаете это, значит, нашли ключ из «Книги Перемен». Судя по всему, криптография во Франции сильно отстаёт от искусства украшения интерьеров, голландцы взломали их дипломатический шифр, однако шифр этот изобрёл придворный, о котором король весьма высокого мнения, поэтому никто ничего не смеет сказать. Если правда то, что говорят о Кольбере, он бы никогда такого не допустил, как Вы знаете, Кольбер умер два года назад, и шифры с тех пор не менялись. Я пишу этим взломанным шифром д'Аво в Голландию, полагая, что каждое слово расшифруют и прочтут голландцы. Вам я пишу, полагая, что Ваш шифр сохранит тайну нашей переписки.
Поскольку Вы пользуетесь шифром Уилкинса, в котором одна буква послания шифруется пятью буквами открытого текста, мне приходится писать пять слов чепухи, чтобы зашифровать одно слово сути, посему готовьтесь к длинным описаниям нарядов, этикета и тому подобным скучным длиннотам в следующих моих письмах.
Надеюсь, не будет чрезмерной самонадеянностью предположить, что Вы любопытствуете узнать о моём положении при дворе. Разумеется, я — ничто, меньше самого маленького чернильного пятнышка на полях «Уложения о церемониях». Однако от внимания знати не ускользнуло, что Людовик XIV выбирал наиболее значительных своих министров (таких, как Кольбер, который приобрёл одну из Ваших вычислительных машин!) из представителей третьего сословия и женился (тайно) на женщине низкого звания, посему модно иногда беседовать с простолюдинкой, если та умна или может быть чем-нибудь полезна.
Разумеется, толпы молодых людей мечтают о близости со мной, но расписывать подробности было бы безвкусно.
Поскольку жилище графа де Безьера в южном флигеле весьма неудобно, а погода стояла прекрасная, я по несколько часов в день гуляла с моими подопечными, Беатрисой и Луи, девяти и шести лет соответственно. Версаль окружён садами и парками, которые по большей части пустуют и наполняются придворными, лишь когда король выезжает на охоту или на прогулку. До недавнего времени здесь толпились простолюдины, приходившие из самого Парижа полюбоваться красотами, но они создавали такую давку и так портили статуи, что недавно король изгнал чернь из своих садов.
Как Вам известно, знатные дамы, выходя из дома, покрывают лицо маской, дабы уберечь его от загара. Многие утончённые мужчины поступают так же; брат короля Филипп, которого обычно называют Мсье, носит такую маску, хоть и жалуется, что она смазывает белила и румяна. Однако в сильную жару маска причиняет крайнее неудобство, и в последние дни версальские дамы, а также их слуги и ухажёры предпочитали вовсе не выходить на улицу. Я часами бродила по саду с питомцами, встречая лишь садовников да влюблённых, ищущих укромную рощицу или грот.
Сад прорезан прямыми дорожками и проспектами; на каждом шагу взорам открывается новая неожиданная панорама фонтанов, скульптурных групп или самого дворца. Я учу Беатрису и Луи геометрии, заставляя их рисовать план сада.
Если эти дети — будущее дворянства, то Франция, какой мы её знаем, обречена.
Вчера я гуляла вдоль канала к западу от замка. Канал имеет форму креста: длинная ось вытянута с запада на восток, короткая — с юга на север, и, поскольку это единый водоём, поверхность его, как свойственно воде, ровная. Я вставила иголку в один конец пробки, другой утяжелила (штопором, на случай, если Вам интересно!) и пустила её в круглый пруд на пересечении каналов, рассчитывая (как Вы уже наверняка догадались) ознакомить Беатрису и Луи с концепцией третьего пространственного измерения, перпендикулярного двум на плоскости. Увы, пробка не захотела плавать стоймя. Она отплыла, так что мне пришлось лечь на живот и рукой подгребать её к берегу. Рукава дарёного платья намокли. Всё это время я была занята нытьём скучающих детей и собственными чувствами: ибо, должна признаться, слёзы бежали у меня по щекам при воспоминании об уроках, преподанных мне, тогда ещё маленькой девочке, в Алжире матушкой и добровольным женским сестринством Общества британских невольников.
В какой-то момент я различила голоса — мужской и женский — и поняла, что они разговаривают неподалёку уже какое-то время, хотя я за другими заботами услышала их только сейчас. Я подняла голову и увидела на противоположном берегу двух всадников: высокого статного мужчину величавой наружности, в парике, напоминающем львиную гриву, и женщину борцовского сложения, в охотничьем наряде, с хлыстом в руке. Лицо её было открыто солнцу, и, вероятно, уже давно, ибо почернело от загара. Они со спутником говорили о чём-то другом, но когда я подняла голову, то привлекла внимание мужчины: он снял шляпу, приветствуя меня с другого берега! В этот миг солнце осветило его лицо, и я узнала Людовика XIV!
Я не знала, куда спрятаться от неловкости, и сделала вид, будто ничего не заметила. По прямой мы были совсем близко, однако, пожелай король и его дианоподобная спутница подъехать ко мне, им пришлось бы проделать значительный путь по своей стороне канала, обогнуть круглый пруд в дальнем конце и покрыть такое же расстояние по ближнему берегу. Итак, я убедила себя, что до них далеко, притворилась, будто ничего не вижу, и, чтобы скрыть неловкость, затараторила детям про Евклида и Декарта.
Король надел шляпу и спросил: «Кто это?»
Я закрыла глаза и вздохнула с облегчением; король решил мне подыграть и сделал вид, будто мы друг друга не видели. Наконец я поймала злополучную пробку, села, разложив юбки, в профиль к королю и тихо продолжила урок.
Меж тем про себя я молилась, чтобы спутница короля не знала моего имени. Однако, как Вы наверняка уже догадались, доктор, то была невестка его величества, Елизавета-Шарлотта, которую обитатели Версаля называют Мадам, а любимая тётушка София — Лизелоттой.
Почему Вы не сказали мне, что Рыцарь Шуршащих Листьев — лесбиянка? Полагаю, не следовало удивляться, учитывая, что её муж — педераст, однако в тот миг я совершенно опешила. Есть ли у неё любовницы? Впрочем, я забегаю вперёд; знает ли она сама, что ей нравятся женщины?
Долгое мгновение она смотрела на меня; в Версале ни одно значительное лицо не отвечает быстро и под влиянием чувств; каждая фраза просчитывается, как шахматный ход. Я понимала, что она собирается ответить: «Не знаю её», и молилась, чтобы прозвучали именно эти слова: тогда король понял бы, что я никто и достойна его внимания не более мимолётной ряби на поверхности канала. Наконец до меня донёсся голос Мадам: «Кажется, та девица, которую обманул д'Аво и всячески изобидели голландцы, — она ещё заявилась растерзанная, взывая к состраданию».
Мне представляется маловероятным, чтобы Лизелотта узнала меня, не имея какого-то дополнительного канала информации. Не Вы ли ей написали, доктор? Я не могу понять, до какой степени Вы действуете самостоятельно, а до какой — в качестве пешки (правильнее, наверное, было бы написать «слона» или «ладьи») Софии.
Будь я из сельских графинь, что приезжают в Версаль, дабы утратить невинность в постели какого-нибудь вельможи, эти жестокие слова исторгли бы у меня слёзы. Однако я уже освоилась здесь и знала, что по-настоящему жестоки были бы слова: «Она — никто». Их Мадам не произнесла. Соответственно, король ещё на несколько мгновений задержал на мне взгляд.
Луи и Беатриса заметили короля и застыли в священном ужасе, словно статуи. Последовала новая долгая пауза.
Король сказал:
— Я слышал эту историю. — И, помолчав, добавил: — Если бы д'Аво спрятал письма на груди у вонючей старой карги, за их сохранность можно было бы не тревожиться, однако какой голландец откажется вскрыть печать на таком конверте?
— Однако, сир, — отвечала Лизелотта, — д'Аво — француз, а какой француз согласится?
— Он не так разборчив, как пытался вас убедить, — возразил король, — а она не так груба, как вы хотели бы уверить меня.
Тут маленький Луи стремительно рванулся вперёд — я даже испугалась, что он упадёт в воду и придётся за ним нырять, однако он замер на краю, выставил ногу и поклонился королю, словно придворный. Я притворилась, будто лишь сейчас его увидела, и вскочила. Мы с Беатрисой сделали реверанс. Король вновь приветствовал нас, подняв шляпу, быть может, с некоторым шутливым преувеличением.
— Вижу блеск в ваших глазах, сир, — сказала Лизелотта.
— А я — в ваших, Артемида, — отвечал король.
— Вы напрасно верите слухам. Скажу вам, что простолюдинки, которые являются ко двору соблазнять дворян, подобны мышиному помёту в перце.
— В этом она пытается нас убедить? Как банально!
— Банальные уловки — самые действенные, сир.
На этом они закончил свой странный разговор и медленно поехали прочь.
Говорят, что король — великолепный наездник, однако в седле он сидит неестественно прямо. Полагаю, он страдает от геморроя или от болей в спине.
Я немедленно отвела детей домой и села писать Вам. Для такого ничтожества, как я, сегодняшнее событие — верх славы и торжества, и хочется записать его, пока подробности свежи в памяти.
Графу д'Аво
12 июля 1685
Монсеньор,
Сегодня у меня столько же посетителей, сколько и всегда (к большой досаде графа де Безьера), но поскольку я сильно загорела, стала носить дерюгу и пространно цитировать из Библии, их интересуют не амуры. Теперь они приходят спросить о моём испанском дядюшке. «Сожалею, что ваш испанский дядюшка вынужден был перебраться в Амстердам, мадемуазель, — говорят они, — по слухам, испытания закалили его разум». Когда некий сын маркиза впервые обрушил на меня эту чепуху, я объявила, что он меня с кем-то путает, и попросила закрыть дверь с другой стороны. Однако второй обронил Ваше имя, и я поняла, что его неким образом направили ко мне Вы — вернее, что он явился ко мне в ложном убеждении, будто у меня есть мудрый испанский дядюшка и что убеждение это возникло вследствие некой запущенной Вами цепочки событий. Исходя из этой догадки, я начала подыгрывать, осторожно, ибо не знаю, в чём состоит игра. С его слов я поняла, что меня считают тайной еврейкой — незаконной дочерью смуглого испанского сефарда и белокурой голландки; весьма правдоподобно, ибо от солнца волосы у меня выцвели, а лицо загорело.
Остальные беседы были такими же, посему не стану повторяться. Очевидно, Вы распускаете обо мне сплетни, монсеньор, и половина обитателей Версаля теперь убеждена, что с моей (или моего мифического дядюшки) помощью удастся выпутаться из карточных долгов, оплатить переустройство замка или приобрести новый модный экипаж. Могу лишь дивиться их алчности. Впрочем, если верить рассказам, их отцы и деды на свои доходы собирали войска и укрепляли города против отца и деда нынешнего монарха. Вероятно, лучше, чтобы деньги уходили портным, ваятелям, живописцам и поварам, нежели ландскнехтам и оружейникам.
Разумеется, золото, с умом вложенное в Амстердаме, принесёт больший доход, чем в сундуке под кроватью. Единственная трудность заключается в том, что я не могу заниматься размещением средств, сидя в версальском чулане и обучая двух крошек чтению и письму. Испанского дядюшку Вы придумали, вероятно, из опаски, что французский дворянин не доверит свои деньги женщине. Следовательно, размещать вложения я должна самостоятельно, а для этого необходимо посещать Амстердам несколько раз в году…
Готфриду Вильгельму Лейбницу
12 сентября 1685
Сегодня утром меня вызвали к фрейлине дофины. Её просторные и богатые апартаменты расположены в южном крыле дворца, рядом с покоями самой дофины.
У фрейлины, герцогини д'Уайонна, есть младшая сестра, маркиза д'Озуар, которая сейчас гостит в Версале вместе с девятилетней дочерью.
Девочка с виду умненькая, но страдает тяжёлой астмой. Маркиза, рожая её, что-то себе порвала и больше не может иметь детей.
Д'Озуары — редкое исключение из правила, по которому всякий сколько-нибудь значительный французский дворянин обязан жить в Версале. Причина в том, что обязанности удерживают маркиза в Дюнкерке. На случай, если генеалогический отдел Вашей библиотеки содержится не в должном порядке, напомню Вам, доктор, что маркиз д'Озуар — внебрачный сын герцога д'Аркашона.
Который, будучи пятнадцатилетним юнцом, заделал будущего маркиза некоей девице, проживавшей из милости у его бабки, — бедняжку принудили давать будущему герцогу первые уроки любви.
Герцог женился в двадцать пять лет, а его супруга произвела на свет жизнеспособное дитя — Этьенна д'Аркашона — лишь три года спустя. К тому времени незаконный сын герцога был уже юношей. Его отправили в Сурат с Буллэ и Вебером, которые в середине 60-х годов пытались учредить Французскую Ост-Индскую компанию.
Вы, наверное, знаете, что Французская Ост-Индская компания преуспела куда меньше английской и голландской. Буллэ и Вебер начали снаряжать в Сурате караван, но вынуждены были отбыть в спешке, не закончив приготовлений, ибо к городу подступили мятежные маратхи. Французы направились в глубь Индостана, чтобы заключить торговые соглашения. В воротах крупного города их встретила делегация банья — богатейших и влиятельнейших местных негоциантов, — сообразно индийскому обычаю неся в мисочках дары. Буллэ и Вебер приняли их за нищих и прогнали хлыстами, как поступает всякий уважающий себя французский аристократ с попрошайками, тянущими к нему миски для подаяния.
Ворота города захлопнулись перед французами. Они вынуждены были скитаться, как отверженные. Проводники и носильщики, нанятые в Сурате, разбежались. Несколько раз на отряд нападали разбойники и мятежные маратхи. Кое-как французы добрались до Шахджаханабада, где намеревались воззвать к Великому моголу Аурангзебу, но тот, как выяснилось, отбыл в Красный форт Агры. Они отправились туда и узнали, что сановники, перед которыми следует с дарами пасть ниц, дабы вымолить аудиенцию у Великого могола, находятся в Шахджаханабаде. Так они мотались туда-сюда по одной из опаснейших дорог Индостана, пока Буллэ не прикончили бандиты, а Вебера не скосила болезнь (или наоборот) и почти все члены экспедиции не пали жертвой экзотических напастей.
Внебрачный сын герцога д'Аркашона пережил своих спутников, добрался до Гоа, уговорил португальцев взять его на судно, следующее в Мозамбик, и после долгих и опасных скитаний по невольничьему побережью Африки приметил наконец корабль, над которым реял флаг его отца: негритянские головы в железных ошейниках и королевские лилии.
Негров, доставивших его на корабль, в благодарность окрестили, наградили украшениями на шею, бесплатным проездом на Мартинику и пожизненными рабочими местами в сельскохозяйственном секторе.
Итогом стала успешная карьера работорговца. За семидесятые годы молодой человек сколотил небольшое состояние на доставке негров во Французскую Вест-Индию и купил или получил от короля в награду титул маркиза, после чего женился и осел во Франции. Они с супругой не живут в Версале по нескольким причинам. Во-первых, герцог д'Аркашон предпочитает держать незаконного сына на отдалении. Во-вторых, дочь маркиза страдает астмой и нуждается в морском воздухе. В-третьих, обязанности требуют от него оставаться на побережье. Вы, наверное, знаете, доктор, что индусы верят в переселение душ; подобно тому Французскую Ост-Индскую компанию можно назвать духом, который разоряется каждые несколько лет, но всякий раз заново воплощается в другом обличье. Недавно произошла очередная реинкарнация. Естественно, часть деятельности компании сосредоточена в Дюнкерке, Гавре и других портах, поэтому маркиз проводит там заметную долю времени. Впрочем, его супруга часто навещает сестру, герцогиню д'Уайонна, и берёт с собой дочь.
Как я уже упоминала, герцогиня д'Уайонна — фрейлина дофины, то есть дама весьма высокопоставленная. Французская королева умерла два года назад, а король отдалился от неё много раньше. Теперь у короля есть мадам де Ментенон, однако официально она ему не жена. Соответственно, первая женщина в Версале — номинально, согласно этикету, а не на самом деле, разумеется, — дофина, супруга старшего королевского сына и наследника. Знатные французские дамы отчаянно борются за место её фрейлины.
Настолько отчаянно, что, по меньшей мере, четыре претендентки были отравлены. Не знаю, отравила ли герцогиня кого-нибудь собственноручно, но общеизвестно, что она предоставляла своё нагое тело в качестве живого алтаря для чёрных месс, проводившихся в заброшенной сельской церкви возле Версаля. Это было до того, как король узнал, что его двор кишит сатанистами, и учредил chambre ardente[9]. В числе других четырёхсот с лишним дворян герцогиню арестовали и допросили, однако уличить ни в чём не смогли.
Собственно, я хочу сказать, что герцогиня д'Уайонна — очень важная дама и принимает свою сестру маркизу д'Озуар по самому высокому разряду. Войдя в её салон, я изумилась, увидев моего хозяина, графа де Безьера, на табуреточке столь низкой, что казалось, будто он сидит на корточках, как собака. И впрямь, он втянул голову в плечи и поглядывал на маркизу, словно шавка в ожидании косточки. Герцогиня восседала в кресле литого серебра, а маркиза — на стуле без подлокотников, тоже серебряном.
Я осталась стоять. Опустив перечисление скучных церемоний и светской болтовни, сразу перейду к сути: маркиза сказала, что ищет наставницу для своей дочери. Нынешняя гувернантка практически неграмотна, и потому девочка отстаёт в развитии или, возможно, она умственно неполноценна. Почему-то маркиза остановилась на моей кандидатуре. Это работа д'Аво.
Я разыграла изумление и довольно долго отказывалась под тем предлогом, что не справляюсь с ответственностью, и вообще — кто же будет присматривать за бедными Беатрисой и Луи? Граф де Безьер сообщил мне радостную весть: он покидает Версаль, ибо перед ним открываются блистательные возможности на юге.
Вы, возможно, не знаете, что для французского дворянина единственный способ заработать, не теряя касты, — поступить офицером на торговый корабль. Безьер получил место на судне Французской Ост-Индской компании; весной он отправляется из бухты д'Аркашон к мысу Доброй Надежды, далее на восток и, если я что-нибудь в этом смыслю, на корм рыбам.
Если на следующий год мадам де Ментенон откроет, как собирается, пансион для девиц из обедневших дворянских семей в Сен-Сире — предмет её личной одержимости, Сен-Сир, лежит сразу за стеной Версаля, — Беатрису можно будет отправить туда — пусть постигает навыки придворной жизни.
В таких обстоятельствах мне, разумеется, негоже было упрямиться и оставалось лишь с благодарностью принять лестное предложение, посему пишу Вам уже с нового места — мансарды над покоями герцогини. Один Бог ведает, какие приключения меня ждут! Маркиза рассчитывает прожить в Версале до конца месяца, король, как всегда, проведёт октябрь в Фонтенбло, а без него в Версале делать нечего, после чего отбудет в Дюнкерк. Я, разумеется, отправлюсь с ней, а до тех пор ещё раз непременно Вам напишу.
Графу д'Аво
25 сентября 1685
Две недели, как я на службе у маркизы д'Озуар, и неделя до того, как мы отбываем в Дюнкерк; соответственно, это моё последнее письмо до отъезда.
Если я правильно угадываю Ваши намерения, в Дюнкерке я должна пробыть ровно столько, сколько надо, чтобы подняться по сходням отплывающего в Голландию корабля. Если так получится, то все письма, отправленные после сегодняшнего дня, доберутся до Амстердама после меня.
Когда я приехала сюда и остановилась на ночь в Париже, то имела возможность наблюдать в окно следующую сцену: на рыночной площади перед домом, куда Вы любезно меня направили, некие люди установили балку наподобие тех, с помощью которых купцы поднимают на чердак товары. Через балку перекинули верёвку, а внизу развели костёр.
Приготовления собрали значительную толпу, и мне трудно было разглядеть, что творится внизу, но по хохоту толпы и дрожанию верёвки я заключила, что там происходит какая-то потешная борьба. Из толпы вырвалась кошка, за которой тут же погнались двое мальчишек. Наконец верёвка натянулась, и в воздух взвился огромный мешок; он повис над огнём, и я решила, что в нём жарят или коптят какие-то колбасы.
Тут я увидела, что в мешке что-то шевелится.
Извивающийся мешок опустился, так что на нём заплясали отблески огня. Изнутри донёсся истошный визг, мешок забился и закачался. Только тут я поняла, что он наполнен бродячими кошками, выловленными на улицах Парижа и принесёнными сюда на забаву толпе. И, поверьте мне, толпа веселилась от души.
Будь я мужчиной, я бы вылетела на площадь верхом на коне и перерубила верёвку саблей, чтобы несчастные животные умерли быстрой смертью в огне. Увы, я не мужчина, у меня нет коня и сабли, а главное, мне в любом случае не хватило бы смелости. За всю свою жизнь я знала лишь одного человека, которому достало бы отваги или безрассудства на такой поступок, но он морально не стоек и, боюсь, забавлялся бы зрелищем вместе с толпой. Мне осталось лишь закрыть ставни и заткнуть уши; однако я успела заметить, что многие окна на площади открыты. Купцы и дворяне тоже наблюдали потеху, а многие прихватили с собой детей.
В недоброй памяти годы Фронды, когда малолетнего Людовика XIV преследовали на улицах мятежные принцы и голодная чернь, он, вероятно, видел кошачьи аутодафе, поскольку завёл в Версале нечто подобное: дворян, мучивших его, запуганного мышонка, поймали, засунули в мешок и вздёрнули на воздух; верёвку король держит в руке. Сейчас я в мешке, монсеньор, но я всего лишь котёнок, чьи когти ещё не отросли, посему могу лишь жаться к тем кошкам, что побольше и повоинственней.
Герцогиня д'Уайонна командует домом, как линейным кораблём: всё блестит, всё по распорядку. Я ни разу не вышла на улицу с тех пор, как поступила на службу к её сестре. Мой загар сошёл, все перешитые обноски из моего гардероба порвали на тряпки и заменили новыми. Не скажу, что роскошными — мне негоже затмевать высокородных сестёр в их собственных апартаментах, но не пристало и позорить их, так что теперь, по крайней мере, герцогиня не морщится, когда я попадаюсь ей на глаза.
В итоге юные вертопрахи вновь стали меня замечать. Будь я по-прежнему на службе у графа де Безьера, они не давали бы мне прохода, но у герцогини д'Уайонна есть когти (некоторые сказали бы — отравленные) и клыки. Посему вожделение придворных выливается в обычные слухи и домыслы на мой счёт: что я потаскуха, что я ханжа, что я лесбиянка, что я — неопытная девственница, что я — мастерица невиданных любовных утех. Забавное следствие моей славы: молодые люди табунами ходят к герцогине, но если большинство стремится со мною переспать, то некоторые приносят векселя или мешочки с бриллиантами и, вместо того чтобы нашёптывать мне на ушко льстивые или скабрезные слова, спрашивают: «Какой процент это может принести в Амстердаме?» Я всегда отвечаю: «Всё зависит от прихоти короля; ибо разве амстердамский рынок не колеблется вследствие войн и перемирий, объявлять которые во власти его величества?» Они думают, что я осторожничаю.
Сегодня меня посетил король, но не за тем, о чём Вы подумали.
Меня предупредил о визите его величества кузен герцогини, иезуитский священник Эдуард де Жекс, приехавший из семейного поместья на юге. Отец Эдуард очень набожный человек. Ему поручили некую небольшую роль в ритуале вечернего королевского туалета, и он услышал, как двое придворных обсуждают, кому удастся похитить мою девственность. Третий предложил побиться об заклад, что моя девственность уже похищена, четвёртый — что её похитит не мужчина, а женщина: либо дофина, у которой связь с собственной горничной, либо Лизелотта.
В какой-то момент, по словам отца Эдуарда, король обратил внимание на спор и спросил, о какой даме речь. «Она не дама, а воспитательница при дочери д'Озуаров», — сказал один из придворных, на что король, помолчав, ответил: «Я о ней слышал. Говорят, красавица».
Выслушав от де Жекса эту историю, я поняла, почему в последнее время ни один вертопрах не смеет мне докучать. Они вообразили, будто король мною заинтересовался, и не смеют перейти ему дорогу!
Сегодня герцогиня, маркиза и вся их челядь вопреки обыкновению отправились на мессу в половине первого. Меня оставили одну под предлогом, что надо собирать вещи для отъезда в Дюнкерк.
В час зазвонили колокола, но мои хозяйки не вернулись. Внезапно с чёрного хода вошёл знаменитейший парижский хирург, а за ним — толпа помощников и священник: отец Эдуард де Жекс. Через мгновение с парадного входа появился король Людовик XIV, один, прикрыл золочёную дверь перед носом придворных и приветствовал меня самым учтивым образом.
Мы с королём стояли в углу герцогининого салона и (как ни дико) обменивались ничего не значащими пустяками. Помощники лекаря тем временем развернули кипучую деятельность. Даже я, ничего не смыслящая в придворном этикете, знаю, что в обществе короля не принято замечать кого-либо ещё, посему делала вид, будто не вижу, как они отодвигают к стенам тяжёлые серебряные кресла, скатывают ковёр, застилают пол рогожей и втаскивают могучую деревянную скамью. Врач раскладывал на столике отталкивающего вида инструменты и время от времени вполголоса отдавал указания, но в целом стояла полная тишина.
— Д'Аво говорит, у вас талант к деньгам.
— Я бы сказала, у д'Аво талант льстить молодым дамам.
— В разговорах со мной напускная скромность неуместна, — твёрдо, но не сердито произнёс король.
Я осознала свою ошибку. Мы прибегаем к самоуничижению из страха, что собеседник увидит в нас угрозу или соперника. Это верно в общении с простыми и даже знатными людьми, однако не может относиться к монарху; умаляя себя в разговоре с его величеством, мы подразумеваем, что король так же мелочно завистлив и неуверен в себе, как остальные.
— Простите мою глупость, сир.
— Никогда; но я прощаю вашу неопытность. Кольбер был простолюдин. Он обладал талантом к деньгам и выстроил всё, что вы видите. Поначалу он не умел со мной разговаривать. Испытывали ли вы оргазм, мадемуазель?
— Да.
Король улыбнулся.
— Вы быстро научились отвечать на мои вопросы. Отрадно. Вы сможете доставить мне ещё некоторое удовольствие, если будете издавать звуки, какие обычно издаёте во время оргазма. Потребуется некоторое время — вероятно, около четверти часа.
Видимо, я прижала руки к груди или ещё как-то проявила девичий испуг. Король покачал головой и проницательно улыбнулся.
— Мне было бы приятно через четверть часа увидеть некоторый беспорядок в вашей одежде — но лишь с тем, чтобы его заметили стоящие в галерее. — Он кивнул на дверь, через которую вошёл. — А теперь извините меня, мадемуазель. Можете начинать, когда вам будет угодно.
Король отвернулся от меня, снял камзол, отдал одному из лекарских помощников и шагнул к скамье. Она теперь стояла посреди комнаты на рогоже и была застлана чистой белой простынёй. Лекарь и помощники облепили короля как мухи. И тут — к моему несказанному ужасу — штаны короля сползли до щиколоток. Он лёг животом на скамью. На миг я вообразила, будто французский король — из тех, кто получает наслаждение от порки. Однако тут он развёл ноги и упёрся ступнями в пол по две стороны скамьи. Я увидела огромный лиловый узел между его ягодицами.
— Отец Эдуард, — тихо сказал король, — вы один из образованнейших людей Франции, даже среди иезуитов вас почитают за скрупулёзность. Поскольку я не увижу операцию, окажите мне милость: следите за ней самым пристальным образом. Потом всё расскажете мне, дабы я знал, считать ли этого лекаря другом или врагом Франции.
Отец Эдуард кивнул и произнёс несколько слов, которые я не расслышала.
— Ваше величество! — запротестовал лекарь. — За те шесть месяцев, что мне известно о вашем недуге, я сделал сто таких операций, дабы довести своё искусство до совершенства…
— Эти сто меня не интересуют.
Отец Эдуард заметил меня в углу. Предпочитаю не гадать, что выражало моё лицо. Отец Эдуард устремил на меня взгляд пронзительный чёрных глаз (он очень хорош собой), потом выразительно поглядел на дверь. Было слышно, как за ней придворные обмениваются сальностями.
Я встала поближе — но не слишком близко — к двери и протяжно вздохнула: «М-м-м, ваше величество!» Придворные зашикали друг на друга. С другой стороны донёсся лёгкий звон — лекарь взял со стола нож.
Я застонала.
Король тоже.
Я вскрикнула.
Король тоже.
— О, не так сильно, это мой первый раз! — вопила я, покуда король изрыгал проклятия в подушку, которую отец Эдуард держал перед его лицом.
Так и продолжалось. Я кричала словно от боли, но через некоторое время начала постанывать как бы от удовольствия. Мне показалось, что прошло куда больше четверти часа. Я легла на скатанный ковёр и принялась рвать на себе одежду и выдирать ленты из волос, дыша как можно сильнее, чтобы лицо раскраснелось и вспотело. Под конец я закрыла глаза: отчасти чтобы не видеть кровавой картины посреди комнаты, отчасти — чтобы полностью войти в роль. Теперь я отчётливо различала голоса придворных за дверью.
— Ну здорова орать, — восхищённо произнёс один. — Мне нравится. Кровь горячит!
— Весьма нескромно с её стороны, — посетовал другой.
— Любовнице короля скромность ни к чему.
— Любовнице? Скоро он её бросит, и где она тогда окажется?
— В моей постели, надеюсь!
— Тогда советую прикупить затычки для ушей.
— Сперва научись ублажать, как король, тогда и затычки понадобятся.
Что-то мокрое капнуло мне на лоб. Испугавшись, что это кровь, я открыла глаза и увидела прямо надо собой отца Эдуарда де Жекса. Он и впрямь был весь в королевской крови, но упала на меня капелька пота с его лба. Он глядел прямо мне в лицо; не знаю, как долго он тут простоял. Я взглянула на скамью. Всё вокруг было в крови. Лекарь сидел на полу, выжатый как лимон. Его помощники запихивали ветошь меж королевских ягодиц. Замолчать внезапно значило бы погубить всю игру. Я закрыла глаза и довела себя до бешеного, пусть и притворного, оргазма, затем, испустив последний стон, открыла глаза.
Отец Эдуард по-прежнему стоял надо мной, однако глаза его были закрыты, лицо обмякло. Мне доводилось видеть такое выражение.
Король уже стоял. Двое помощников изготовились поддержать его, если бы он начал падать. Королевское лицо заливала смертельная бледность, он пошатывался, но — невероятно! — был жив, не в обмороке и сам застёгивал штаны. За его спиной другие помощники скатывали окровавленные простыни и рогожу, чтобы вынести их с чёрного хода.
— Французские дворяне заслуживают моего уважения по крови, но могут упасть в моих глазах, совершив промах. Простолюдины могут заслужить моё уважение, угодив мне, и тем возвыситься. Вы можете угодить мне, если проявите скрытность.
— Как насчёт д'Аво, сир? — спросила я.
— Можете рассказать ему всё, — отвечал король. — Пусть гордится в той мере, что он мне друг, и страшится в той мере, что он мне недруг.
Монсеньор, я не поняла, что его величество хотел сказать, однако Вы, без сомнения, поймёте…
Готфриду Вильгельму Лейбницу
29 сентября 1685
Доктор,
Пришла осень и принесла с собой заметное помрачение света[10]. Через два дня солнце опустится ещё ниже, ибо я еду с маркизой д'Озуар в Дюнкерк, самую северную точку королевских владений, а оттуда, Бог даст, в Голландию. Слышала, солнце по-прежнему ярко светит на юге, в Савойе (об этом позже).
Король воюет — не только с протестантской заразой в своём королевстве, но и с собственными врачами. Несколько недель назад ему вырвали зуб. Тут справился бы любой зубодёр с Пон-Неф, однако лейб-медик д'Акин что-то напортачил, и образовался гнойник. Чтобы вылечить его, д'Акин вырвал королю оставшиеся верхние зубы, при этом раскурочил нёбо и вынужден был прижечь рану калёным железом. Тем не менее она снова нагноилась, и пришлось прижигать ещё неоднократно. Есть и другие истории касательно королевского здоровья; о них в другой раз.
Немыслимо, что королю приходится так страдать; если бы простолюдины узнали о его несчастьях, то превратно истолковали бы их как знак Божьего гнева. В Версале, где почти обо всех — впрочем, не совсем! — королевских болезнях знает каждая собака, нашлись невежественные глупцы, рассуждающие подобным же образом. К счастью для всех нас, во дворце последние несколько недель живёт отец Эдуард де Жекс, рьяный молодой иезуит из хорошей семьи. Когда в 1667-м Людовик захватил Франш-Конте, родственники отца Эдуарда предали испанцев и открыли ворота французским войскам. Людовик вознаградил их титулами. Он пользуется большим расположением мадам де Ментенон, которая видит в нём своего духовного наставника. В то время как придворные малодушно обходили молчанием теологические вопросы, связанные с болезнями короля, отец Эдуард недавно взял быка за рога. Он разом поставил и разрешил эти вопросы самым решительным и публичным образом. После мессы он произносит длинные проповеди, которые мадам де Ментенон отдаёт в типографию и распространяет в Париже и Версале. Постараюсь как-нибудь прислать вам экземпляр. Суть в том, что король — Франция, и его недуги отражают нездоровье королевства в целом. Воспаления в различных полостях тела короля суть метафора неискоренённой ереси — RPR, или «religion pretendue reformed», иначе называемой гугенотством. Схожесть между гнойниками и RPR многообразна и включает в себя…
Простите эту бесконечную проповедь, но я многое должна Вам сказать и устала для заметания следов пространно описывать наряды и драгоценности. Семья де Жекса, герцогини д'Уайонна и маркизы д'Озуар издревле обитала в Юрских горах между Бургундией и южной оконечностью Франш-Конте. В этом краю сходятся народы и верования, потому всё пронизано враждой.
На протяжении поколений де Жексы с завистью наблюдали, как их сосед герцог Савойский пожинает богатство и власть, сидя поперёк дороги, соединяющей Женеву и Геную, — финансовой аорты христианского мира. Из своего замка в северной Юре они могли буквально смотреть на холодные воды Женевского озера, этого рассадника протестантизма, куда английские пуритане бежали в царствование Марии Кровавой и где находят убежище от гонений французские гугеноты. В последнее время я часто вижу отца Эдуарда, когда тот навещает кузин, и читаю в его глазах такую ненависть к реформатам, что у Вас мороз пошёл бы по коже.
Как я уже писала, счастливый случай представился де Жексам, когда Людовик завоевал Франш-Конте, и они не упустили свой шанс. В прошлом году им привалила новая удача: герцога Савойского вынудили жениться на Анне-Марии, дочери Мсье от первой жены, Генриетты Английской, то есть на племяннице Людовика. Герцог — до сей поры независимый — породнился с Бурбонами и должен теперь подчиняться старшему в семье.
Савойя граничит с пресловутым озером, и кальвинистские проповедники издавна вербуют прозелитов среди тамошнего простого люда, который, следуя примеру герцога, всегда был независим и потому восприимчив к бунтарской вере.
Вы можете сами досказать эту историю, доктор. Отец Эдуард говорит своей духовной ученице, мадам де Ментенон, что реформаты благоденствуют в Савойе и распространяют заразу RPR по Франции. Де Ментенон повторяет это страдающему королю, который и в лучшие-то времена ради блага королевства не останавливался перед жестокостью к подданным и даже близким. А сейчас для короля времена явно не лучшие — произошло заметное помрачение света, почему я и выбрала эту гексаграмму в качестве шифровального ключа. Король сказал герцогу Савойскому, что «мятежников» надо не просто подавить — истребить. Герцог тянул время в надежде, что король выздоровеет и смягчится. Однако не так давно он допустил ошибку: объявил, что не в силах выполнить волю короля, ибо не располагает средствами на военную кампанию. Король тут же щедро пообещал оплатить её из собственного кармина.
Покуда я пишу это письмо, отец Эдуард де Жекс готовится ехать на юг в качестве капеллана французской армии под командованием маршала де Катина. Они отправятся в Савойю, войдут в долины, населённые реформатами, и всех там перебьют. Нет ли у Вас возможности отправить туда предупреждение?
Король и все, кто знает о его муках, утешаются пониманием, которое дал нам отец Эдуард, а именно: меры против реформатов, при всей своей внешней жестокости, болезненны для короля не менее, чем для них; однако боль необходимо стерпеть, дабы не погибло всё тело.
Мне пора — надо спускаться к подопечной. В следующий раз, Бог даст, напишу уже из Дюнкерка.
Ваша любящая ученица и слуга
Элиза.
Лондон весна 1685
Философия написана в великой книге Вселенной, которая постоянно открыта нашему взгляду, но прочесть её может лишь тот, кто научится понимать её язык и толковать буквы, коими она написана. Написана же она языком математики, и буквы её суть треугольники, круги и другие математические фигуры, без которых в ней нельзя постичь ни слова; философствовать без них значит вслепую блуждать в тёмном лабиринте.
Галилео Галилей, «Пробирщик»Воздух в кофейне был такой спёртый, что Даниелю казалось, будто он задыхается под грудой старого тряпья.
Роджер Комсток смотрел через глиняную курительную трубку, словно пьяный астроном, положивший глаз на некую звезду. Звездой в данном случае был Роберт Гук, член Королевского общества, видимый неясно (за дымом и полумраком) и спорадически (за толкотнёй посетителей). Гук, забаррикадировавшись склянками, мешочками и фляжками, готовил себе ужин из ртути, железных опилок, серного цвета, слабительных вод (по большей части смертельных для водоплавающей птицы), а также настоек и вытяжек различных растений, включая ревень и опийный мак.
— Вижу, он ещё жив, — пробормотал Роджер. — Если он будет и дальше топтаться у дверей смерти, сам дьявол отправит его прочь, чтобы не мозолил глаза. Как только я начинаю гадать, смогу ли выкроить время на его похороны, надёжные источники сообщают, что он прошёлся по всем борделям Уайтчепела, словно французский полк.
Даниель не нашёл, что к этому добавить.
— А Ньютон? — спросил Роджер. — Вы говорили, будто он долго не протянет.
— Ну, он получал пищу только через меня, — устало ответил Даниель. — С тех пор, как мы поселились вместе, и до моего изгнания в 1677-м я нянчился с ним, как с младенцем. Так что у меня были все основания предсказывать его смерть.
— Значит, кто-то приносит ему еду — один из учеников?
— У него нет учеников, — сказал Даниель.
— Однако он должен есть, — возразил Роджер.
Даниель увидел, что Роберт Гук размешивает стеклянной палочкой свою стряпню.
— Быть может, он создал Elixir Vitae[11] и теперь бессмертен.
— Не судите, да не судимы будете! По-моему, это ваша третья порция асквибо[12], — сурово произнёс Роджер, глядя на стопку янтарной жидкости перед Даниелем.
Даниель спрятал её в кулаке.
— Я совершенно серьёзен, — продолжал Роджер. — Кто о нём печётся?
— Какая разница? Лишь бы пеклись.
— Разница большая, — отвечал Роджер. — Вы говорили, что студентом Ньютон давал деньги в рост и следил за их возвратом, как жид!
— Мне казалось, что заимодавцы-христиане тоже предпочитают получать деньги назад.
— Не важно, вы поняли, о чём я говорю. Подобным же образом, Даниель, если кто-то взял на себя заботу о Ньютоне, он будет ждать ответных любезностей.
Даниель выпрямился.
— Вы думаете об эзотерическом братстве.
Роджер выгнул брови, грубо пародируя полнейшее неведение.
— Нет, но, очевидно, так думаете вы.
— Когда-то Апнор пытался запустить когти в Исаака, — признал Даниель, — но то было давным-давно.
— Позвольте напомнить, что для людей, которые не забывают долги и — в противоположность тем, кто их прощает, — «давным-давно» означает «очень большие проценты на проценты». Вы говорили мне, что каждый год он исчезает на несколько недель.
— Не обязательно с дурной целью. У него есть земли в Линкольншире, за которыми надо присматривать.
— Тогда вы намекали, что речь явно идёт о чём-то дурном.
Даниель сжал руками виски. Теперь он видел собственную розовую ладонь в щербинах от оспы. Болезнь на четверть обратила тело Тесс в гнойники и уничтожила почти всю кожу, прежде чем несчастная наконец испустила дух.
— Если честно, мне безразлично, — сказал Даниель. — Я пытался удержать его. Обратить к астрономии, динамике, физике — естественным наукам в противоположность неестественной теологии. Безуспешно. Я уехал. Он остался.
— Уехал или был изгнан?
— Я оговорился.
— В какой раз?
— Произнося слово «изгнание», я выражался фигурально.
— Вы безобразно лжёте, Даниель!
— Что?!
— Произнося слово «лжёте», я выражался фигурально.
— Поймите, Роджер, обстоятельства моего разрыва с Исааком были… э-э… сложными. Питаясь определить их одним существительным, как то: «отъезд», «изгнание», — я поневоле лгу и в таковом качестве безобразен.
— Так назовите другие существительные! — Роджер встретился глазами со служанкой, словно говоря ей: «Я его подцепил, не забывай подливать и следи, чтобы нам не докучали». Потом подался вперёд в клубах табачного дыма. Свеча озаряла снизу его лицо, придавая чертам пугающую гротескность.
— Тысяча шестьсот семьдесят шестой год! — загремел он. — Лейбниц второй раз приезжает в Лондон! Ольденбург зол, потому что он не привёз обещанную вычислительную машину! Вместо этого Лейбниц последние четыре года хороводился с парижскими математиками! Теперь он задаёт крайне неудобные вопросы про какие-то математические изыскания, выполненные Ньютоном годы назад. Происходит нечто загадочное. Ньютон поручает вам, доктор Уотерхауз, переписывать какие-то бумаги и шифровать формулы… Ольденбург вне себя… Енох Роот как-то в этом замешан… ходят слухи о переписке и даже беседе между Ньютоном и Лейбницем. Потом Ольденбург умирает. Вскоре у вас в комнатах происходит пожар, и многие алхимические записи Ньютона гибнут в многоцветном пламени. Так какое существительное правильное: «отъезд» или «изгнание»?
— Мне там просто не оставалось места. Моя кровать занимала пространство, на котором мог бы разместиться ещё один алхимический горн.
— Интриги? Козни?
— Пары ртути подрывали моё здоровье.
— Поджог? Вредительство?
Даниель взялся за подлокотники с таким видом, будто сейчас встанет и уйдёт. Роджер поднял руку.
— Я председатель Общества, и мой долг — проявлять любознательность.
— Я секретарь, и мой долг — призвать к порядку, когда председатель делает из себя позорище.
— Лучше позорище в Лондоне, чем пожарище в Кембридже. Вы должны простить мне мою настойчивость.
— Раз вы теперь строите из себя католика, то за дешёвым отпущением грехов обращайтесь к своим французским попам, не ко мне.
— Такого рода праведное негодование ассоциируется у меня с честным человеком, который втайне совершил нечто очень дурное. Не утверждаю, что у вас есть тёмные тайны, — однако ваше поведение заставляет так думать.
— Вы просто добиваетесь, чтобы мне захотелось вас убить, Роджер, или у этого разговора есть и ещё цель?
— Я всего лишь пытаюсь выяснить, чем занят Ньютон.
— Тогда к чему расспросы о семьдесят седьмом?
Роджер пожал плечами.
— Вы отказываетесь говорить о настоящем, вот я и решил попытать счастья в прошлом.
— Откуда такой внезапный интерес к Исааку?
— Из-за «De Motu Corporum in Gyrum»[13]. Галлей говорит, это ошеломляет.
— Не сомневаюсь.
— Он говорит, это лишь набросок огромного труда, который сейчас целиком поглотил энергию Исаака.
— Рад, что Галлей получил объяснение для орбиты своей кометы, и ещё больше — что он взял на себя попечение об Исааке. Чего им от меня хотите?
— Галлей ослеплён кометой, — фыркнул Роджер. — Он счастлив, что Ньютон решил заняться проблемой тяготения и планетарных орбит. А поскольку Флемстид портит статистику, нам нужно больше счастливых астрономов.
В лето Господне 1674-е шевалье де Сен-Пьер (французский придворный, подробности не важны) присутствовал на великолепном королевском балу, когда внезапно над краем его бокала возникло декольте Луизы де Керуаль. Как любой мужчина, шевалье немедленно восхотел произвести на неё впечатление. Зная, что при дворе Карла II увлекаются натурфилософией, он разыграл следующий гамбит: заметил, что задачу определения долготы можно разрешить, наблюдая за движениями Луны на фоне звёздного неба, которое в данном случае будет играть роль исполинского циферблата. Керуаль в натурфилософской постельной беседе пересказала это королю. Его величество поручил четырём членам Королевского общества (герцогу Ганфлитскому, Роджеру Комстоку, Роберту Гуку и Кристоферу Рену) проверить, возможно ли такое. Те обратились к некоему Джону Флемстиду. Флемстид, ровесник Даниеля, по слабости здоровья не мог посещать школу и, сидя дома, самостоятельно изучал астрономию. Позже здоровье его улучшилось настолько, что он сумел поступить в Кембридж и узнать всё (весьма немногое), чему там учили. Когда уважаемые члены Королевского общества обратились к нему с вопросом, он как раз оканчивал университет и присматривал себе место. Флемстид ответил в письме, что метод, предложенный шевалье де Сен-Пьером, хоть и возможен в теории, совершенно бесполезен на практике за недостатком надёжных астрономических данных — каковой недостаток могли бы восполнить лишь продолжительные дорогостоящие исследования. То был первый и последний политический манёвр в жизни Флемстида. Карл II без промедления назначил его королевским астрономом и основал Королевскую обсерваторию.
Первые годы Флемстид размещался в лондонском Тауэре, на самом верху Белой башни. Здесь он делал свои первые наблюдения, покуда на пустующем клочке королевской земли в Гринвиче возводили Королевскую обсерваторию.
Генрих VIII, не довольствуясь шестью жёнами, содержал целый штат любовниц. Наследники его были не столь любвеобильны, и королевский сераль на вершине холма за Гринвичским дворцом постепенно разрушился. Фундамент, впрочем, ещё стоял. На нём-то, работая в спешке и при сильной нехватке средств, Гук с Реном и воздвигли несколько помещений, ставших опорой для восьмиугольной будки. На ней, в свою очередь, возвели башенку, миниатюрную аллюзию на норманнские донжоны Тауэра. В нижних помещениях жил Флемстид. Будка понадобилась, чтобы придворно-щёгольской части Королевского общества было где с умным видом заглядывать в телескоп. Однако здание, построенное на фундаменте старого блудилища, было ориентировано неправильно. Чтобы проводить собственно наблюдения, пришлось поставить в саду отдельную стену, вытянутую с севера на юг, а вдоль неё — что-то вроде хибарки без потолка. На концах стены Гук закрепил собственной работы квадранты, снабжённые визирными трубами. Соответственно, жизнь Флемстида текла так, днём он спал, а ночами, прислонясь к стене, смотрел через визирные трубы на проплывающие звёзды и отмечал их положение. Каждые несколько лет его труд разнообразила очередная комета.
— Что делал Ньютон год назад, Даниель?
— Если мои источники не лгут, рассчитывал день и час светопреставления, основываясь на тёмных намёках Библии.
— Сдаётся, у нас одни и те же источники, — вкрадчиво произнёс Роджер. — Сколько вы им платите?
— Я в ответ рассказываю им что-нибудь ещё. Это называется беседой, и некоторых такая оплата вполне устраивает.
— Наверное, вы правы, Даниель, ибо несколько месяцев назад Галлей заявляется к Ньютону и проводит с ним беседу «Послушай, старина, как насчёт комет?» Ньютон откладывает Апокалипсис, берётся за Евклида и — хлоп! — пишет «De Motu».
— Большую часть работы он проделал в семьдесят девятом, во время своей тогдашней грызни с Гуком, — сказал Даниель, — потом куда-то засунул, не смог найти и вынужден был повторить.
— Что общего, доктор Уотерхауз, между алхимией, Апокалипсисом и эллиптическими орбитами небесных тел? Помимо того, что Ньютон одержим ими всеми?
Даниель промолчал.
— Что угодно? Всё? Ничего? — вопросил Роджер и хлопнул ладонями по столу. — Ньютон — бильярдный шар или комета?
— Не понял.
— Идёмте покажу. — Роджер хохотнул и немедля пришёл в движение. Вместо того, чтобы сперва встать, а потом пойти, он надвинул парик, приподнял зад и, как бык, устремился в толпу. Несмотря на возраст, комплекцию, подагру и опьянение, он значительно опередил Даниеля. Когда тот в следующий раз увидел Роджера, маркиз плечом отодвигал придворного. Придворный сжимал длинную палку и целился в раскрашенный деревянный шар на зелёном суконном поле.
— Смотрите! — вскричал Роджер и рукой толкнул шар. Тот ударился о другой шар и остановился; второй шар покатился дальше. Придворный схватил палку двумя руками, намереваясь сломать её о голову Роджера, однако маркиз вовремя обернулся. Узнав его, придворный выронил палку.
— Превосходный удар, милорд, — начал он, — хотя не вполне соответствует духу и букве игры…
— Я — натурфилософ и подчиняюсь лишь богоданным законам Вселенной, а не произвольным правилам вашей несуразной игры! — прогремел Роджер. — Шар передаст свою vis viva другому шару, количество движения сохраняется, всё более-менее упорядоченно, — Роджер раскрыл ладонь — оказалось, он прихватил со стола ещё один шар. — Или я могу подбросить его в воздух, — подкрепляя свои слова действием, — и он опишет галилееву траекторию, параболу.
Шар плюхнулся в кружку с горячим какао на другом конце помещения; владелец кружки, быстро оправившись от неожиданности, поднял её, салютуя Роджеру, который тем временем продолжал:
— Кометы же не признают никаких законов, они являются бог весть откуда, непредсказуемо, и несутся сквозь космос по своим собственным неведомым траекториям. Итак, я спрашиваю вас, Даниель: Ньютон сходен с кометой? Или, подобно бильярдному шару, он следует по некой осмысленной траектории, которую мне не хватает ума постичь?
— Теперь я понял ваш вопрос, — кивнул Даниель. — Астрономы, объясняя попятное движение планет, измыслили небесные шестерни на хрустальных сферах. Теперь мы знаем, что планеты обращаются по эллипсам, а попятный ход есть иллюзия, порождаемая тем, что мы смотрим на них с движущейся платформы.
— То есть с Земли.
— Если бы мы могли увидеть планеты из некой неподвижной системы отсчёта, попятный ход исчез бы. Вот так и вы, Роджер, наблюдая блуждающую траекторию Ньютона — вчера рецепт философской ртути, сегодня конические сечения, — задаётесь вопросом; существует ли система отсчёта, в которой движение Исаака имеет хоть какой-нибудь, чёрт возьми, смысл?
— Сказано словно самим Ньютоном, — заметил Роджер.
— Вы хотите знать, что есть его нынешние занятия тяготением — смена темы или просто новая точка зрения, новый способ взглянуть на ту же самую Тему?
— Вот теперь вы говорите как Лейбниц, — проворчал Роджер.
— И не случайно, ибо Лейбниц и Ньютон работают над одной и той же задачей по меньшей мере с семьдесят седьмого. Над задачей, которую не смог разрешить Декарт. Она сводится к следующему: можно ли объяснить соударение бильярдных шаров с помощью геометрии и арифметики либо надо удалиться от чистой мысли в области эмпирики и метафизики?
— Довольно! — сказал Роджер. — У меня эмпирически раскалывается голова. Не желаю слушать про метафизику. — Слова его звучали отчасти искренне, однако взгляд был обращён на кого-то за спиной у Даниеля. Даниель обернулся и увидел, что прямо перед ним стоит…
— Мистер Гук! — сказал Роджер.
— Милорд.
— Вы, сэр, учили Даниеля делать термометры!
— Да, милорд.
— Я сейчас говорил, что хотел бы отправить его в Кембридж — замерить температуру в городе.
— На мой взгляд, вся страна перегрета, — мрачно заметил Гук, — в особенности восточный лимб.
— Я слышал, жар распространяется на запад.
— Вот повод, — сказал маркиз Равенскарский, засовывая стопку бумаг Даниелю в правый карман, — а вот чтение в дорогу, только что из Лейпцига, — засовывая в левый что-то потяжелее. — Доброй ночи, коллеги!
— Давайте прогуляемся по улицам Лондона, — сказал Гук. Ему не было нужды добавлять: «Большую часть которых я заложил лично».
— Равенскар ненавидел своего родича Комстока, разорил его, купил и снёс его дом, — Гук говорил так, словно загнан в угол и вынужден это признать, — и всё равно у него учился! Почему Джон Комсток поддержал Королевское общество на первых порах? Потому что интересовался натурфилософией? Возможно. Потому что его уговорил Уилкинс? Отчасти. Однако вы не могли не заметить, что многие наши эксперименты той поры…
— Были связаны с порохом. Разумеется.
— У Роджера Комстока нет пороховых заводов. И всё же не обольщайтесь, его интерес к нашему Обществу не менее практичен. Сейчас французы и паписты правят страной; правят ли они Ньютоном?
Даниель промолчал. Гук много лет цапался с Исааком по поводу тяготения, однако после визита Галлея тот вознёсся на недосягаемую для Гука высоту.
— Ясно, — сказал наконец Даниель. — Что ж, мне так и так отправляться на север в роли пуританского Моисея.
— В таком случае стоит заглянуть в Кембридж, дабы…
— …очистить имя Ньютона от гнусной клеветы, которой марают его завистники, — закончил Даниель.
— Я хотел сказать: дабы отвратить его от иноземных сподвижников обречённого короля, — сказал Гук. — Доброй ночи, Даниель. — И он, волоча ноги, исчез в сернистом тумане.
* * *
«На мой взгляд, вся страна перегрета… в особенности восточный лимб». Гук может бросаться обвинениями, но не словами. У людей, которые глядят в телескоп, слово «лимб» означает освещённый край видимого небесного тела, например, лунного серпа. Собираясь на северо-восток утром следующего дня, Даниель сверился с картой Эссекса, Суффолка и Норфолка и обнаружил, что они образуют выпирающий в Северное море лимб, ограниченный Темзой с юга и заливом Уош с севера. Яркий свет, зажжённый над Гаагой, преодолев сотни морских миль, озарил бы всё побережье, и оно бы засияло, как лунный серп — алхимический знак серебра. Луна — двойник Солнца, чей элемент — золото. И поскольку Король-Солнце изливает на Англию поток золота, существование серебряного полумесяца к северу от Лондона исполнено глубокого смысла. Роджер терпеть не может алхимических суеверий, но в политике он — дока.
Даниель неплохо знал эти края. Северное море запустило в побережье Суффолка длинные-предлинные рукава солоноватой воды; если на рассвете повернуться к востоку, то покажется, что вся местность лучится реками света. Вдоль берега тут не проехать; дорога идёт милях в десяти—двадцати от моря, более или менее прямо из Челмфорда в Колчестер и далее до Ипсвича, и всё, что справа от неё, безнадёжно с точки зрения короля или любого другого потенциального владельца: болота, разрезанные затопленными устьями рек, равно непреодолимые верхом и на лодке. Сюда легче попасть из Голландии, нежели из Лондона. Оставаться здесь неплохо, оставаться где-нибудь подальше отсюда — ещё лучше, но вот двигаться — врагу не пожелаешь. В сопротивляющейся среде тело перемещается лишь под воздействием некой значительной силы. В этой прибрежной полосе могли перемещаться только контрабандисты, движимые жаждой наживы. Даниель, как и его братья Стерлинг, Оливер и Релей, в юные лета провёл здесь немало времени, разгружая и загружая плоскодонные голландские судёнышки, укрытые за плакучими ивами по тёмным протокам.
В начале пути Даниель чувствовал себя так, будто его вместе с несколькими другими людьми заколотили в гроб и теперь несут через угольную шахту страдающие падучей носильщики. После Челмфорда пассажиров в карете поубавилось, дорога стала ровнее, и Даниель вытащил отпечатанные листки, которые Роджер сунул ему в Лондоне — «Acta Eruditorum», учёный журнал, основанный Лейбницем в родном Лейпциге.
Лейбниц давно пытался объединить умных немцев. Умные британцы считали это жалким подражанием Королевскому обществу, умные французы — потугами доктора (который с семьдесят седьмого жил в Ганновере) отразить в тусклом и кривом зеркале блистательную интеллектуальную жизнь Парижа. Даниель нехотя признавал резонность обоих мнений, но подозревал, что Лейбницем движет не страсть к подражанию, а то, что затея на самом деле хорошая. Так или иначе, «Acta Eruditorum» были лейбницевым (а следовательно, немецким) ответом «Journal de Savants»[14] и, как правило, публиковали самые свежие и занятные идеи из Германии — а именно: то, что думал сейчас Лейбниц.
Журнал был отпечатан несколько месяцев назад и содержал статью Лейбница о математике. Даниель начал её читать и сразу наткнулся на термины, которых не видел с семьдесят седьмого…
— Лопни мои глаза! — пробормотал Даниель. — Свершилось!
— Что?! — вопросил Благоговенье Гатер, сидевший напротив Даниеля в обнимку с сундучком денег.
— Лейбниц опубликовал дифференциальное исчисление!
— И что это, скажите на милость, брат Даниель? Исчисление дифферента корабля?
Экипаж покачивался из стороны в сторону на подвеске (вечно французы, будь они неладны, удумают что-нибудь такое полезное!), и монеты глухо позвякивали у Благоговенья Гатера в сундучке.
— Новый математический метод, основанный на счислении величин, бесконечно малых и стремящихся к нулю.
— Припахивает метафизикой, — заметил преподобный.
Даниель поднял на него глаза. Трудно было представить себе что-либо менее метафизическое, чем Благоговенье Гатер. Даниель вырос в обществе очень похожих людей и долгое время не замечал в их облике ничего необычного. Однако за несколько лет в лондонских кофейнях, театрах и королевских дворцах вкусы его коренным образом изменились. Теперь при виде члена пуританской секты он внутренне сжимался — чего пуритане и добивались. Если бы преподобного Гатера звали «Благоволенье», его внешность разительно противоречила бы имени; однако его звали «Благоговенье», а среди таких, как он, благоговению надлежало быть суровым и мрачным.
Даниель наконец убедил Якова II, что заверения короля в веротерпимости будут звучать куда убедительнее, если снять череп Кромвеля с кола, на котором тот проторчал всё четвертьвековое правление Карла II, и предать земле рядом с остальным Кромвелем. Для Даниеля и некоторых других череп был постоянным бельмом в глазу, а просьба его снять — вполне оправданной. Однако его величество и придворные страшно удивились — они и позабыли, что он здесь! Череп стал частью лондонского пейзажа, как птичий помёт на подоконнике, к которому давно присмотрелись. Просьба Даниеля, последовавший за ней декрет Якова и захоронение лишь привлекли к нему внимание. А внимание при нынешнем дворе означало поток злых острот. У придворных вошло в моду называть бродячих пуританских проповедников «Оливер», без париков, тощие, в строгой одежде, они очень напоминали череп на палке. Благоговенье Гатер напоминал череп на палке в такой степени, что Даниель почти физически перебарывал желание сбить его с ног и присыпать землёй.
— Ньютон, судя по всему, с вами согласен, — сказал Даниель, — или опасается таких же выводов со стороны иезуитов, что, по сути, одно и то же.
— Не надо быть иезуитом, чтобы остерегаться суетных умствований, — произнёс несколько уязвлённый Гатер.
— И всё же что-то в этом есть, — отвечал Даниель. — Посмотрите в окно. Водотоки — частью естественные, частью вырытые рачительными фермерами — делят болота на бесчисленные прямоугольные участки. Каждый такой прямоугольник можно разделить пополам; довольно провести по земле палкой, и вода заполнит борозду, как эфир — пустоту между частицами вещества. Это метафизика?
— Отнюдь, хорошее сравнение, земное, весомое, как из Женевской Библии. Давно ли вы открывали Женевскую Библию…
— Что будет, если делить дальше? — спросил Даниель. — Будет ли всё так же? Или что-то произойдёт — мы достигнем предела, за которым деление невозможно и в игру вступают фундаментальные свойства мироздания?
— Э… не знаю, брат Даниель.
— Суетно ли задаваться этим вопросом? Или Господь дал нам мозги не просто так?
— Ни одна религия, за возможным исключением иудейской, не поощряет образование, как наша, — сказал Благоговенье. — Так что не стоило и спрашивать. Однако мы должны рассматривать эти… э-э… бесконечно малые, стремящиеся к нулю, самым строгим и отвлечённым образом, избегая как языческого идолопоклонства, так и французской суетности вкупе с метафизическими увлечениями папистов.
— Лейбниц согласен. Применив рецепт, который вы только что прописали, к математике, он создал то, что на этих листах, — дифференциальное исчисление.
— А что брат Исаак? Согласен ли он?
— Был согласен двадцать лет назад, когда изобрёл всё это, — сказал Даниель. — Сейчас не знаю.
— Я слышал от одного из наших кембриджских братьев, что поведение брата Исаака в церкви ставит под сомнение его веру.
— Брат Благоговенье, — резко проговорил Даниель, — прежде чем распространять слухи, за которые Исаака могут бросить в тюрьму, озаботимся хотя бы, чтоб часть наших братьев оттуда выпустили, идёт?
Ипсвич искони был портом, из которого вывозили ткани, и теперь хирел по роковому стечению обстоятельств — дешевизны индийских тканей и способности голландцев доставлять их в Европу. Типичный образчик нелепого в своей древности английского городка, он стоит в устье реки Оруэлл, на таком месте, где любой — от троглодита до кавалера — решит вбить в землю колышек и осесть. Даниель предположил, что первой — пять или шесть тысячелетий назад — возвели тюрьму, и крысы перебрались в неё не позже чем неделю спустя. Когда Карлу II неожиданно взбрело в голову ужесточить закон против инакомыслия, всех сколько-нибудь заметных квакеров, гавкеров, рантеров, конгрегационалистов и пресвитериан Суффолка вкупе с подвернувшимися под руку евреями согнали вместе и бросили в эту тюрьму. Их вполне можно было выпустить месяц назад, но король желал, чтобы Даниель, его избранный представитель, приехал и осуществил это лично.
Карета остановилась перед тюрьмой. Благоговенье Гатер остался сидеть, нервно сжимая сундучок, а Даниель пошёл внутрь и до смерти напугал тюремщика официальным документом чуть поменьше скатерти с восковой печатью чуть поменьше человеческого сердца. Затем Даниель вошёл в тюрьму, прервав молитвенное бдение, и отбарабанил речь, которую произнёс уже в полудюжине других тюрем, — настолько заезженную и банальную, что сам не понимал, говорит что-то осмысленное или внезапно впал в глоссолалию. Судя по настороженным лицам, пуритане какой-то смысл из этого потока слов извлекали. Впрочем, Даниель не знал, какой именно, и не имел возможности узнать, по крайней мере, прямо сейчас. Заключённых выпускали по одному, причём каждый должен был прежде заплатить за кормёжку и иные услуги, а многие просидели здесь не один год.
Затем-то и требовался Благоговенье Гатер с сундучком денег. Мало кто оценил бы королевскую милость, останься узники в тюрьме — теперь уже за долги, набежавшие за время их (неправедного и нехристианского) заточения. Посему король (через Даниеля) организовал сбор средств в церквях соответствующего толка и (хотя сие почиталось строжайшей тайной) добавил недостающее из собственной казны. На практике это означало, что лондонские нонконформисты и английский король сгрузили в сундучок к Благоговенью Гатеру все свои самые старые и чёрные монеты — самые стёртые, отпиленные по краям и вообще порченые. Стоимость каждой оценивали (и оспаривали), с одной стороны, ипсвичский тюремщик, с другой — Благоговенье Гатер и те из освобождённых пуритан, кто любил (а) деньги и (б) попрепираться, то есть все до единого.
Даниель организованно отступил на церковный двор, выходящий к морю, — здесь звуки спора отчасти перекрывал прибой. Некоторые освобождённые пуритане находили его и выстраивались в очередь, чтобы прочесть нотацию. Так продолжалось до вечера, но только один — Эдмунд Поллинг — подошёл и пожал Даниелю руку.
Эдмунд Поллинг был вечный старик. Так всегда казалось Даниелю. Во всяком случае, полное отсутствие волос мешало определить возраст. Он выглядел стариком, когда бок о бок с Дрейком сражался против Карла I; стариком шагал он в погребальной процессии Кромвеля. Старый торговец Поллинг частенько появлялся на Стаурбриджской ярмарке с тем или иным товаром и всякий раз нежданно наведывался к Даниелю в Кембридж. Старик Поллинг был на поминальной службе по Дрейку, и, живя в Лондоне, Даниель нет-нет, да встречал почтенного старца на улице.
Сейчас он спросил:
— Скажи, Даниель, это глупость или безумие? Ты знаешь короля.
Эдмунд Поллинг был человек разумный. Собственно, он был из тех англичан, чья разумность переходит в идиотизм. Как объяснит любой офранцузившийся придворный, попытки разумно всё объяснить сами по себе неразумны.
— Глупость, — отвечал Даниель. Придворный до мозга костей, он не мог хитрить с такими, как Эдмунд Поллинг. В обществе подобных людей он чувствовал, что его отбросило на четыре десятилетия назад, когда обычные разумные англичане сплошь и рядом высказывали вслух многими признаваемую, но прежде непроизносимую мысль, что монархия — дрянь. То, что с тех пор произошла Реставрация и сейчас Европой правят великие короли, не имело никакого значения. Так или иначе, Даниель чувствовал себя с этими людьми легко и свободно — обстоятельство несколько тревожное, учитывая, что он был ближайшим советником Якова II. Он так же не мог защищать нынешнего короля, да и любого другого, перед Эдмундом Поллингом, как на собрании Королевского общества встать и объявить, что Солнце вращается вокруг Земли. Эдмунд Поллинг кивнул.
— Понимаешь, некоторые говорят, что безумие. Из-за сифилиса.
— Неправда.
— Удивительно, поскольку все убеждены, что он болен сифилисом.
— Болен. Однако, неплохо зная его величество, я как секретарь Королевского общества полагаю, что когда он… э-э…
— Откалывает чудовищную глупость.
— Как сказали бы некоторые, мистер Поллинг, да.
— Например, выпускает нас из тюрьмы в надежде, что мы не сочтём это циничной уловкой и поверим, будто он и впрямь стоит за свободу совести.
— Воздерживаясь от какой-либо позиции по отношению к последним вашим словам, мистер Поллинг, всё же полагаю, что ответ на поставленный вами вопрос следует искать в глупости. Учтите, я не исключаю и приступов сифилитического безумия…
— Так в чём разница? И есть ли она?
— Вот это, — Даниель указал на ипсвичскую тюрьму, — глупость. Приступы сифилитического безумия, напротив, выразятся в жестоком произволе, повальных арестах и массовых казнях…
Мистер Поллинг покачал головой и повернулся к воде.
— Однажды солнце, воссияв над морем, рассеет туман глупости и тень сифилитического безумия.
— Очень поэтично, мистер Поллинг. Однако я знаком с герцогом Монмутским, делил комнату с герцогом Монмутским, бывал облёван герцогом Монмутским и смею вас заверить: герцог Монмутский — не Карл II! И уж тем паче — не Оливер Кромвель!
Мистер Поллинг закатил глаза.
— Что ж, если Монмут потерпит неудачу, я первым же кораблём отплыву в Массачусетс.
* * *
Проведите прямую, затем ещё одну, пересекающуюся, и вращайте первую вокруг второй — получите конус. Проденьте его сквозь плоскость и (рис. 1) и отметьте все общие точки плоскости и конуса. Чаще всего получится эллипс (рис. 2), но если склон конуса параллелен плоскости, то выйдет парабола (рис. 3), если же плоскости параллельна его ось — то кривая из двух частей, называемая гиперболой.
Во всех этих кривых — эллипсе, параболе и гиперболе — интересно то, что их порождает нечто прямое — две линии и плоскость. В гиперболе интересно то, что посередине она круто изгибается, а на удалении ветви её приближаются к прямым.
Греки — например, Евклид, — проделали всё сказанное давным-давно и открыли разные более или менее интересные свойства конических сечений (как называется данное семейство кривых), а также других геометрических фигур — окружностей, треугольников и проч. Всякое утверждение Евклида и др. касательно геометрии поддержано цепочкой логических рассуждений, восходящей к одной или нескольким аксиомам — самоочевидным истинам вроде того, что кратчайшее расстояние между точками есть прямая. Истины геометрии — всеобщие истины. Человеческий мозг в силах вообразить Вселенную, в которой Даниель звался бы Дэвидом, или Ипсвич стоял бы на другом берегу Оруэлла, однако геометрия и арифметика непременно верны — ни в одной мыслимой вселенной 2 + 3 не равняется 2 + 2.
Время от времени обнаруживается соответствие между чем-то в реальном мире и математическими абстракциями. Например, траектория Даниеля от Лондона до Ипсвича была почти прямолинейной, однако после того, как всех диссентеров выпустили из тюрьмы, он круто поменял направление и утром следующего дня на взятой внаём лошади отправился в Кембридж по плавно спрямляющейся дуге. Другими словами, на пути через Эссекс, Сассекс и Кембриджшир он описал что-то вроде гиперболы.
Однако он двигался по ней не потому, что это гипербола (как и она стала гиперболой не оттого, что он по ней двигался). Просто сей дорогой всегда ездили купцы, направляющиеся из Ипсвича с фургонами импортного или контрабандного товара. Он мог бы ехать зигзагом. То, что его путь на карте Англии напоминает гиперболу, — случайная истина. Она ничего не значит.
В кармане Даниеля лежали заметки, которые его патрон, добрый маркиз Равенскарский, сунул ему в Лондоне со словами: «Вот повод». Их составил королевский астроном Джон Флемстид, очевидно, в ответ на запрос Ньютона. Даниель не решался распечатать и прочесть сами заметки: Исаак унюхает следы его пальцев или что-нибудь в таком роде. Однако сопроводительное письмо было не запечатано. Между исполинскими глыбами барочной словесности пробивались несколько сухих стебельков информации; выдернув их и связав воедино, Даниель выяснил, что Ньютон запрашивал сведения о комете 1680 года, недавнем схождении Юпитера и Сатурна и об океанских приливах.
Любой другой учёный, смешав в кучу столь далёкие друг от друга предметы, расписался бы в собственной невменяемости. То, что Ньютон думает обо всех трёх сразу, явственно указывало на их общность. Приливы определённо связаны с Луной, поскольку их высота зависит от её фазы: но как воздействие передаётся от далёкого каменного шара каждому морю, озеру и лужице на Земле? Временами Юпитер, мчась по второй с краю орбите, нагоняет плетущийся на задворках Солнечной системы Сатурн. Известно, что Сатурн замедляется при сближении с Юпитером и ускоряется, когда тот умчит прочь. Расстояние между Юпитером и Сатурном по меньшей мере в две тысячи раз превосходит расстояние от Луны до приливов. Какое воздействие способно преодолеть эту пропасть? А кометы, почти по определению, выше и вне доселе неразгаданных законов, правящих миром планет и лун. Кометы — не столько астрономические объекты и даже природные явления, сколько метафора чуждого, исключительного, трансцендентного; это чудища, перуны, письмена Бога. Подвести их под юрисдикцию любого свода естественных законов — дерзость, за которую могут и покарать.
Однако несколько лет назад в небе увидели приближающуюся комету, а ещё чуть позже — удаляющуюся, после чего Джон Флемстид вытянул шею миль так на десять и задал вопрос: «Может, кометы не две, а одна?» Очевидное возражение состояло в том, что они летят по разным прямым. Одна прямая — одна комета. Две прямые — две кометы. Флемстид, лучше любого из живущих знакомый с несовершенством астрономических наблюдений, ответил, что кометы не движутся по прямой и никогда не двигались. Астрономы наблюдают лишь короткий отрезок их пути, который на самом деле может быть частью исполинской кривой. Известно, например, что гипербола почти на всём своём протяжении едва ли отличима от прямой: кто скажет, что две кометы 1680 года на самом деле не одна, совершившая крутой поворот близ Солнца, где астрономы не могли её наблюдать?
Ещё полвека назад это поставило бы Флемстида вровень с Кеплером и Коперником, однако он жил сейчас и посему превратился в своего рода информационную корову, которой надлежит стоять в гринвичском хлеву и доиться всякий раз, как Ньютоном овладеет жажда. Даниель в роли молочницы спешил сейчас в Кембридж с тёплым подойником.
Любого европейца, претендующего на образованность, должно было во всём перечисленном занимать следующее:
1) Кометы свободно несутся в космическом пространстве, их траекторию определяет лишь (пока неведомое) воздействие Солнца. Коль скоро они движутся по коническим сечениям, это не случайно. Строго гиперболическая траектория кометы — не грубо гиперболический путь Даниеля через три графства. Коль скоро планеты с кометами движутся по коническим сечениям, за этим должна стоять некая всеобщая необходимая истина, некое непреложное свойство вселенной. Это что-то значит. Что именно?
2) То, что Солнце оказывает на планеты некое центростремительное действие, признали почти все, однако, запрашивая данные о взаимоотношениях моря и Луны, Юпитера и Сатурна, Исаак практически объявляет, что всё едино: всё притягивает всё. Влияние на, скажем, Сатурн Солнца, Юпитера и Титана (спутника, обнаруженного Гюйгенсом у Сатурна) различается лишь направлением и масштабом. Так товары, сваленные на каком-нибудь амстердамском складе, привезены из разных мест и стоят по-разному, но в конечном счёте важно лишь то, сколько золота дадут за них на площади Дам. Золото, вырученное за фунт малабарского перца, смешивается с золотом за сельдь, выловленную в Северном море, и не пахнет ни рыбой, ни пряностями. В случае небесной динамики золотом — универсальным мерилом — оказывается сила. Одна и та же сила действует на Сатурн со стороны Титана и со стороны Солнца. В конечном счёте они складываются, давая вектор, причём результирующая сила не несёт никаких следов своего источника. Это мощная алхимия: она сводит движение планет с недосягаемых высот в область, доступную людям, овладевшим оккультным искусством алгебры и геометрии. Силы и загадки, бывшие доселе исключительной прерогативой богов, — вот на что замахнулся Исаак.
Типичное следствие этого алхимического слияния состоит в том, что комета, несущаяся к Солнцу по почти прямой ветви гиперболы, испытывает влияние планеты, мимо которой летит. Солнце — не абсолютный монарх и не обладает особенной богоданной властью. Комета не должна чтить его притяжение больше, чем притяжение других планет; собственно, комета даже не ощутит эти влияния как различные, ибо они уже слились во всеобщий эквивалент, в единый вектор. Далеко от Солнца и вблизи планеты воздействие последней будет преобладать, и комета плавно изменит курс.
Так и Даниель, большую часть дня следовавший почти по прямой через болотистую местность к северу от Кембриджа, за утоптанным пустырём Стаурбриджской ярмарки, у реки Кем, внезапно свернул на орбиту, в центре которой лежали некие комнаты у главных ворот Тринити-колледжа.
У Даниеля по-прежнему были от них ключи, но сразу идти туда не хотелось, и он, поставив лошадь в конюшню, вошёл через задние ворота, о чём вскорости пожалел. Он знал, что библиотека Рена уже строится, поскольку Тринити-колледж в своё время дал званый обед в честь него, Роджера и прочих отцов-основателей. По бодрым или унылым отчётам, которые Рен представлял на каждом заседании Королевского общества, Даниель знал, что строительство несколько раз останавливалось и возобновлялось. Однако он не подумал о практических следствиях. На лугу между рекой и колледжем расположилась лагерем целая армия строителей со всем своим тягловым скотом и той публикой, какая обычно следует за армией, — не только потаскушками, но и торговцами спиртным, точильщиками, мальчишками на посылках и т. п. Даниелю пришлось довольно долго месить ногами конский навоз, забредать в тупики, спотыкаться о кур или отклонять более или менее заманчивые предложения половой близости, прежде чем он хотя бы увидел библиотеку.
Покуда он пробирался через становище строителей, большая часть Кембриджа погрузилась в сумерки. Не то чтобы это многое изменило: небо с раннего утра набрякло свинцовой серостью. Впрочем, с верхнего этажа библиотеки Рена можно было взглянуть ни завтрашнюю погоду, которая обещала быть хорошей и ясной. Крышу в основном уже настелили, в остальных местах её форму обозначили стропилами красного дуба. Казалось, они резонируют с закатом: не просто заслоняют свет, но гудят с ним в унисон. Даниель стоял там довольно долго: он знал, что такая красота быстротечна, и хотел, вернувшись в Лондон, описать её многострадальному Рену.
Зазвонил колокол, созывая профессоров на трапезу. Даниель, пройдя через пустые арки библиотеки и Невиллс-корт, еле-еле успел набросить мантию и присоединиться к коллегам.
Лица сидящих, красные от портвейна и пылающих свеч, выражали самые разные чувства, по большей части довольство. Последнего главу колледжа, пытавшегося установить хоть какое-нибудь подобие дисциплины, хватил удар, когда он распекал особо буйных студентов. И студенты, и преподаватели не преминули сделать свои выводы. Нынешний глава, друг Равенскара, граф, с начала семидесятых исправно посещал заседания Королевского общества и столь же исправно засыпал на их середине. Он наведывался в Кембридж, только когда там ждали кого-нибудь поважней него. Герцог Монмутский больше не числился почётным ректором; во время очередной опалы его лишили всех званий. Теперь им был герцог Твидский, он же генерал Льюис, «Л» в «кабальном кабинете» Карла II.
Впрочем, кто бы ни считался номинальным главой, университетом распоряжалась профессура. Двадцать пять лет назад, как раз когда Исаак и Даниель поступили в Тринити, Карл II вышвырнул вон пуритан, окопавшихся здесь при Уилкинсе, и насажал дилетантствующих кавалеров. Все они были джентльменами в первую очередь, учёными — во вторую. Покуда Исаак и Даниель занимались самообразованием, эти люди превратили колледж в свой личный муравейник. Теперь они возглавляли совет. Околопочечный жир, сыры и портвейн сделали своё дело, и трудно было определить, что размягчилось больше — телеса или мозги.
Никто не помнил, когда Исаак последний раз посещал совместную трапезу. Его отсутствие за общим столом рассматривалось не как знак некой ущербности колледжа, но как знак некой ущербности Исаака. В каком-то смысле так оно и было: если цель колледжа — приобщать следующее поколение к определённому образу жизни, то всё шло замечательно, и присутствие Исаака лишь портило бы картину.
Это прекрасно сознавала профессура. Так теперь Даниель о них думал — не целая комната индивидуумов, но «профессура», некий улей или стадо, совокупность. Вопрос совокупности в последнее время постоянно терзал Лейбница. Баранье стадо состоит из отдельных баранов и стадом зовётся потому, что так принято: свойство стадности привнесено людьми и существует лишь в их перцепциях. Недавно Гук открыл, что человеческий организм состоит из клеток, следовательно, представляет собой совокупность, как и баранье стадо. Означает ли это, что тело, как и стадо, — всего лишь домысел перцепции? Или есть некое объединяющее влияние, которое собирает клетки в единый организм? И что такое профессура Тринити-колледжа — стадо баранов или организм? Даниелю сейчас казалось, что скорее организм. Чтобы выполнить поручение, возложенное на него Роджером Комстоком, надо было как-то ослабить неведомое объединяющее влияние, а затем отсечь от стада нескольких баранов. Совокупность под названием «профессура Тринити-колледжа» заметила, что Исаак посещает церковь лишь раз в неделю, по воскресеньям, и не одобряла его поведение, хотя в отличие от пуритан джентльмены (все они принадлежали к Высокой церкви) находили неприличным говорить о религии. Даниеля, отлично знавшего, что делает Исаак и что здесь о нём думают, такое положение дел устраивало как нельзя лучше.
Однако чуть позже, когда часть профессуры поднялась наверх, чтобы выпить портвейна в более тесном кругу, Даниель забросил сакраментальный вопрос как наживку, чтобы протащить её через стоячий пруд и глянуть, что выловится в мутной воде.
— Учитывая, с кем водит сейчас компанию Ньютон, поневоле гадаешь, не склоняется ли он к папизму.
Молчание.
— Джентльмены! — продолжал Даниель. — В этом нет ничего зазорного. Вспомните, наш король — католик.
В комнате, кроме него, было тринадцать гостей. Одиннадцать сочли замечание неслыханным моветоном (чем оно и было) и потому промолчали. Даниель не переживал — его простят, потому что он пьян и знаком с высокопоставленными людьми. Один — Вигани, алхимик, — с ходу раскусил, к чему Даниель клонит. Если Вигани всё последнее время ходил за Исааком по пятам, как сегодня за Даниелем, и так же внимательно ловил каждое слово, он должен был знать многое. Во всяком случае, кончики его усов пошли вверх, и он спрятал нехорошую улыбку за бокалом с вином.
Однако самый молодой и пьяный из собеседников Даниеля, не скрывавший, что отчаянно хочет вступить в Королевское общество, проглотил наживку вместе с крючком.
— Уж скорее ночные посетители мистера Ньютона обратятся в его веру, чем он — в их!
Послышались сдержанные смешки. Раззадоренный оратор продолжал:
— Только Боже сохрани их потом вернуться во Францию! После того, что Людовик сделал с гугенотами, можно представить, как он примет завзятого…
— А уж тем более — в Испанию с её инквизицией! — со смехом ввернул Вигани, умело пытаясь свести разговор к чему-то совершенно банальному и не стоящему слов. В конце концов, вряд ли кто-нибудь из его собеседников стал бы защищать испанскую инквизицию.
Однако Даниель не для того столько лет прожил среди придворных, чтобы спасовать перед такой уловкой. Он так же умело развернул разговор назад.
— Боюсь, нам придётся ждать учреждения английской инквизиции, дабы узнать, что не договорил наш друг!
— За этим дело не станет, — пробормотал кто-то.
Круговая оборона дрогнула! Однако Вигани уже оправился от удара.
— Инквизиция! Чепуха! Король — рьяный поборник свободы совести… по крайней мере так уверяет доктор Уотерхауз.
— Я лишь говорю то, что поручил мне король.
— Не вы ли только что выпустили из тюрьмы целую толпу диссентеров?
— Вы исключительно хорошо осведомлены о моих занятиях, сэр, — сказал Даниель. — Истинная правда. В тюрьмах освободилось немало мест.
— Негоже им простаивать, — заметил кто-то.
— Король найдёт, кем их заполнить, — подхватил другой.
— Предсказать несложно. Вопрос позаковыристей: как будет зваться этот король?
— Англией.
— Я имею в виду христианское имя.
— Так вы считаете, он будет христианином?
— А вы считаете, сейчас он христианин?
— Мы о короле, который живёт в Уайтхолле, или о том, что был замечен в Гааге?
— Тот, что живёт в Уайтхолле, мечен с тех пор, как побывал во Франции; мечен на лице, на руках, на…
— Господа, господа, вы, кажется, угорели от духоты! — вскричал самый старый из учёных мужей с таким видом, будто его самого сейчас хватит удар. — Доктор Уотерхауз всего лишь справляется о своём старом друге, нашем коллеге Ньютоне.
— Эту ли версию мы будем излагать английской инквизиции?
— Господа, будьте серьёзнее! — возмутился старейший из учёных мужей, весь багровый (и не от неловкости). — Берите пример с мистера Ньютона: сколь прилежно он занимается геометрией, алгеброй, астрономией…
— Эсхатологией, астрологией, алхимией…
— Нет, нет! С тех пор, как здесь побывал мистер Галлей, Ньютон куда реже принимает гостей, и синьор Вигани вынужден искать общества в трапезной.
— Мне нет надобности его искать, — отвечал Вигани, — ибо оно всегда обретается под этими сводами.
— Прошу меня извинить, — сказал Даниель. — Сдаётся мне, что Ньютону не помешает гость.
— Возможно, ему не помешает пригоршня хлебных крошек, — проговорил кто-то. — Замечено, что в последнее время он роется у себя в саду, как курица.
Не могу не осудить тех, кто в ослеплении перед героическими свершеньями древних вознёс их до небес, не думая, что новое время явило нам не меньше славного и удивительного.
Джемелли КарериВ воротах Даниель одолжил у привратника фонарь и вступил в проход, ведущий к улочке между зубчатыми стенами. В стене слева от него была дверь; отомкнув её своим ключом, Даниель оказался в саду, засаженном отчасти невысокими плодовыми деревцами, отчасти кустами и травой. Слева деревья повыше заслоняли окна жилых помещений, втиснутых между воротами и церковью. Только что проклюнувшиеся листья фосфорическим взрывом застыли в свете из Исааковых окон. Впрочем, на первом этаже окна были темны, звёзды над крышей горели ясно и чётко, а не колыхались от жара и не прятались за дымом из труб. Исааковы печи простыли, содержимое тиглей затвердело, как камень. Весь их жар перешёл в его голову.
Даниель, держа фонарь на уровне колена, осветил гравийную дорожку, и всё, что Исаак нарыл, как курица, проступило отчётливым барельефом.
Каждый чертёж начинался одинаково: Исаак носком башмака или палкой проводил на земле кривую. Не какую-то определённую — окружность или параболу, — но кривую вообще. Всё во Вселенной криволинейно, всякая кривая постоянно меняется, однако движением ноги или палки Исаак выхватывал частную кривую — какую угодно — из гудящего многообразия, как лягушка языком — одного комара из роя. Заключённая в гравии кривая становилась недвижной и беззащитной. Исаак мог стоять и смотреть на неё сколько вздумается, как сэр Роберт Мори — на заспиртованного угря. Затем Исаак принимался чертить прямые, возводить эшафот из лучей, касательных, нормалей и хорд. Поначалу казалось, будто они растут произвольно, но когда прямые складывались в треугольник, тот как по волшебству оказывался эхом другого треугольника, расположенного в другом месте. Факт этот открывал шлюз, по которому информация устремлялась из одной части чертежа в другую или даже перетекала на соседний чертёж. Правда, результата Даниель так ни разу и не увидел, ибо на самом интересном месте чертёж обрывался и переходил в цепочку следов — лунных кратеров на гравии. Исаак спешил в дом, дабы закрепить чертёж чернилами на бумаге.
Даниель прошёл по следам в их некогда общее жильё. Всюду громоздился привычный алхимический сор, но не столь опасный, как прежде, ибо всё здесь давно остыло. Даниель обводил фонарём одну притихшую комнату за другой и видел застывшее минеральное вещество, косное и неподатливое, в которое всегда возвращается природа: тигли в коросте окалины, закопчённые колбы, оплавленные щипцы, чёрные куски угля, шарики ртути в трещинах между половицами, открытую шкатулку с гинеями у окна, оставленную словно в желании уверить прохожих, что здешний обитатель вполне равнодушен к золоту.
На столе лежали письма, написанные на латыни господами из Праги, Неаполя, Сен-Жермена и адресованные JEOVA SANCTUS ONUS. Между ними проглядывал огромный, прибитый к столешнице чертёж. Даниель сдвинул часть книг и бумаг, чтобы его рассмотреть. Ему подумалось, что Исаак — подобно Рену, Гуку и самому Даниелю — подался в архитекторы.
Судя по всему, он проектировал квадратный, обнесённый стеною двор с прямоугольным строением посередине. Осветив написанные внизу буквы, Даниель прочёл: «Один и тот же Господь дал размеры скинии Моисею и храма с его двором Иезекиилю и Давиду, не изменив пропорции, лишь удвоив их для храма. Итак, Иезекииль и Соломон сходятся, указывая размеры вдвое против Моисеевых».
— Я всего лишь силюсь восстановить то, что знал Моисей, — проговорил Исаак.
Щадя его слабые глаза, Даниель, прежде чем обернуться, поднял и задул фонарь. Исаак бесшумно спустился по каменной лестнице. В кабинете на втором этаже горели свечи, и на камнях за Исааком лежали тёплые оранжевые отсветы. Сам Исаак был чёрным силуэтом в шлафроке, голова — облако серебра. Он ничуть не поправился со студенческих лет — ничего удивительного, если он всё так же пренебрегает едой.
— Порою мне кажется, что ты и даже я знаем практически обо всём куда больше Соломона, — сказал Даниель.
Исаак долго не отвечал, однако что-то в его силуэте выдавало не то обиду, не то грусть.
— Всё есть в Библии, Даниель. Первая глава — Эдем. Последняя — Апокалипсис.
— Знаю, знаю. Мир вначале был совершенен и с тех пор только портится. Вопрос лишь в том, насколько он испортится до того, как Господь задёрнет занавес. С детства меня учили, что это непреложно, как тяготение. Однако в 1666-м конец света не наступил.
— Он наступит вскоре после 1867-го, — сказал Исаак. — В тот год падёт Зверь.
— Англиканские доктринёры предрекают падение католической церкви в 1700 году.
— Англикане ошибаются не только в этом.
— А не допускаешь ли ты, Исаак, что мир становится лучше или по крайней мере остаётся таким же? Ибо, по моему твёрдому убеждению, мы знаем много такого, что не приходило в голову Соломону.
— Я там наверху работаю над Системой Мира, — небрежно бросил Исаак. — Есть резон полагать, что Соломон и другие древние знали её и зашифровали в устройстве храмов.
— Согласно Библии, это устройство продиктовал им непосредственно Бог.
— Выйди наружу, взгляни на звёзды, и ты увидишь, что Господь диктует то же самое тебе. Надо лишь научиться Ему внимать.
— Если Соломон всё знал, почему он не сказал просто: «Солнце — в центре Солнечной системы; планеты ходят вкруг него по эллипсам»?
— Думаю, он сказал это устройством храма.
— Да, но почему Господь и Соломон так чертовски уклончивы? Почему не сказать прямым текстом?
— Хорошо, что ты не стал докучать мне письмами, — промолвил Исаак. — Читая письмо, я вижу слова, но не знаю, что на уме у писавшего. Лучше, что мы встретились в ночи.
— Как алхимики?
— Или как первые христиане в языческом Риме.
— Чертящие кривые на гравии?
— …или любые христиане, дерзнувшие противостоять идолопоклонникам. Если бы ты сказал это всё в письме, я бы заключил, что ты служишь Зверю, как иные про тебя говорят.
— Из-за предположения, что мир не только загнивает?!
— Разумеется, он загнивает, Даниель. Вечного двигателя нет.
— Кроме сердца.
— Сердце тоже загнивает. Иногда ещё при жизни владельца.
Эту тему Даниель развивать не решился. Помолчав, Исаак продолжал чуть более хрипло:
— Как отыскать Господа в этом мире? Вот всё, что я хочу знать. Пока я Его не нашёл. Однако, когда я вижу что-то, неподвластное тлению — ход Солнечной системы, евклидово доказательство или безупречность золота, — я чувствую, что приближаюсь к Божеству.
— Ты нашёл философскую ртуть?
— В семьдесят седьмом Бойль был уверен, что отыскал её.
— Помню.
— Какое-то время я ему верил… но то был обман. Теперь я ищу её в геометрии — вернее, там, где геометрия бессильна.
— Бессильна?
— Идём со мной наверх, Даниель.
Первый чертёж Даниель узнал сразу, как собственную подпись.
— Объект под действием центральной силы сохраняет момент количества движения; линии, соединяющие его с центром, описывают в равное время равные площади.
— Ты прочёл моё «De Motu Corporum in Gyrum»?
— Мистер Галлей представил эту работу Королевскому обществу, — сухо отвечал Даниель.
— Некоторые леммы выводятся из этого, — сказал Исаак, кладя второй чертёж поверх первого, — а отсюда можно перейти непосредственно к…
— …самому главному, — подхватил Даниель. — Если центральная сила подчиняется закону обратных квадратов, то объект движется по эллипсу или, во всяком случае, по коническому сечению.
— Я бы сказал: «То, что небесное тело движется по коническому сечению, доказывает закон обратных квадратов». Однако пока мы говорим лишь о собственных измышлениях. Доказательства сделаны для точечных тел, обладающих массой; в природе таких нет. Настоящие небесные тела обладают геометрической формой — состоят из большого числа крохотных частиц, вместе образующих сферу. Если существует всемирное тяготение, то каждая из частиц, слагающих Землю, притягивает Луну и наоборот. И каждая из частиц Луны притягивает воду в земных океанах, порождая приливы. Как же сферическая геометрия планет сказывается на их притяжении?
Он вытащил ещё лист, с виду гораздо более новый.
Даниель не узнал чертёж и поначалу принял его за схему глазного яблока, какие Исаак рисовал в студенчестве. Однако тут говорили о планетах, не о глазах.
Последовало несколько неловких мгновений.
— Исаак, — сказал наконец Даниель, — ты можешь нарисовать такую схему, сказать: «Вот!», и доказательство закончено. Мне требуются объяснения.
— Ладно. — Исаак указал на круг в центре чертежа. — Представь себе сферическое тело, то есть на самом деле совокупность бесчисленных частиц, каждая из которых создаёт гравитационное притяжение в соответствии с законом обратных квадратов. — Он взял ближайший предмет — чернильницу — и поставил её на край чертежа, как можно дальше от «сферического тела». — Что ощущает вот этот спутник, когда притяжение отдельных частиц складывается в совокупную силу?
— Разумеется, не мне учить тебя физике, Исаак, но, по-моему, это задача как раз для интегрального исчисления, так зачем ты решаешь её геометрически?
— Почему бы нет?
— Потому что Соломон не знал интегрального исчисления?
— Интегральное исчисление, как некоторые его называют, — грубый и некрасивый метод. Я предпочитаю строить доказательства на геометрии.
— Потому что геометрия идёт из древности, а всё древнее — хорошо?
— Пустой разговор. Итог, как всякий может увидеть из моего чертежа, состоит в том, что любое шарообразное тело — планета, луна, звезда, — состоящее из определённого вещества, притягивает так же, как если бы всё вещество было сосредоточено в геометрической точке — его центре.
— Так же? Ты хочешь сказать — в точности так же?
— Это доказано геометрически, — просто сказал Исаак. — То, что частицы распределены внутри шара, ничего не меняет, ибо такова геометрия сферы.
Даниелю пришлось отыскать стул; казалось, вся кровь от ног прихлынула к голове.
— Если так, — проговорил он, — то всё, что ты доказал прежде для точечных объектов — например, что они движутся по коническим сечениям…
— Без всяких изменений приложимо к сферическим телам.
— Реальным объектам. — Даниелю предстало странное видение: храм, восстающий из праха. Колонны поднимаются над руинами, обломки камня собираются в херувимов и серафимов, пламя вспыхивает на алтаре…
— Так, значит… ты создал Систему Мира.
— Её создал Господь. Я лишь её нашёл. Заново открыл позабытое. Взгляни на чертёж, Даниель. Всё здесь. Это явленная истина. Откровение.
— А ты говорил, что ищешь Бога там, где геометрия бессильна.
— Разумеется. Здесь нет выбора, — сказал Исаак, похлопывая по чертежу измождённой рукой. — Даже Бог не мог бы создать мир иначе. Бог, заключённый здесь, — он с силой ударил по листу, — Бог Спинозы, Бог, который есть всё и, следовательно, ничто.
— Однако, мне кажется, ты объяснил всё.
— Я не объяснил закон обратных квадратов.
— Ты доказал, что если тяготение следует закону обратных квадратов, то спутники движутся по коническим сечениям.
— А Флемстид подтверждает, что так оно и есть. — Исаак вытащил бумаги из кармана у Даниеля. Не обращая внимания на сопроводительное письмо, он сорвал печать и начал просматривать листки. — Значит, тяготение подчиняется закону обратных квадратов. Однако мы вправе сделать это утверждение лишь потому, что оно согласуется с наблюдениями Флемстида. Если завтра Флемстид обнаружит комету, летящую по спирали, он докажет, что я не прав.
— Ты говоришь: зачем нам вообще нужен Флемстид?
— Я говорю: самый факт, что он нам нужен, доказывает, что Бог делает выбор.
— Или сделал.
Лицо Исаака брезгливо скривилось. Он закрыл глаза и покачал головой.
— Я не верю, будто Бог сотворил мир и почил от дел, что Ему больше нечего выбирать и Его присутствие в мире неощутимо. Я убеждён: Он повсюду и всё время принимает решения.
— Но лишь потому, что не всё можешь объяснить с помощью геометрии.
— Я сказал тебе, что ищу Бога там, где она бессильна.
— Может быть, есть неизвестное доказательство закона обратных квадратов. Может быть, он как-то связан с эфирными вихрями.
— Никто ещё не сказал ничего вразумительного про эфирные вихри.
— Тогда с неким взаимодействием частиц?
— Частиц, несущихся от Солнца к Сатурну и назад, с бесконечной скоростью, не встречая сопротивления эфира?
— Ты прав, всерьёз об этом говорить не приходится. Какова же твоя гипотеза, Исаак?
— Hypotheses non fingo[15].
— Неправда. Ты начинаешь с гипотезы — я видел некоторые на гравии внизу. Потом рисуешь чертёж. Не знаю, как тебе это удаётся, разве что сам Господь водит твоей рукой. Когда ты заканчиваешь, это уже не гипотеза, а доказанная истина.
— Геометрия никогда не объяснит тяготения.
— Может быть, метод флюксий?
— Метод флюксий — лишь подручное средство для геометрии.
— И то, что недоступно геометрии, недоступно методу флюксий.
— Да, по определению.
— По-твоему выходит, что внутренняя сущность тяготения недоступна натурфилософии. Так к кому мы должны обратиться? К метафизикам? Теологам? Чародеям?
— Для меня они все едины, — сказал Исаак. — И я — один из них.
Побережье к северу от Схевенингена октябрь 1685
Казалось, Вильгельм Оранский прочесал весь мир в поисках места, наименее похожего на Версаль, и велел Элизе дожидаться его там. В Версале всё задумано и воплощено человеком, здесь взгляду представали только вода и песок. Каждую песчинку принесли сюда волны, рождающиеся в океане по неведомым законам, понятным, быть может, доктору, но не Элизе.
Она спешилась и пошла вдоль берега на север, ведя коня в поводу. Плотный мокрый песок был усеян пёстрыми ракушками всех форм и размеров — возможно, они и надоумили первых голландцев пуститься в странствия на поиски заморских богатств. Раковины являли приятный контраст унылой однообразности берега, воды и пасмурного неба. Они зачаровывали Элизу; ей требовалось усилие, чтобы время от времени поднять глаза и оглядеться. Впрочем, видела она лишь росчерки пены, оставленные волнами на песке.
Каждая волна, думала Элиза, уникальна, словно человеческая душа. Каждая набегает на берег, исполненная силы, замедляется, слабеет, растекается шипящею лентою белой пены и захлёстывается следующей. Итог их нескончаемых усилий — берег. Конкретная волна, окончившая здесь свою жизнь, оставила сложный узор песчинок, который можно было бы рассмотреть в лупу, однако Элиза с высоты своего роста видела лишь невыразимо плоский песок — «мерзость запустения в тёмном месте», выражаясь языком Библии.
За спиной раздался громкий треск, как будто рвут ткань. Элиза обернулась к югу, туда, где начиналась выемка в побережье — Схевенингенская гавань. Несколько минут назад там было безлюдно, лишь двое или трое местных жителей собирали моллюсков. Сейчас над песком стремительно двигался парус: треугольник холста, втугую натянутый влажным морским ветром. Ниже располагалась ажурная деревянная конструкция; основу её составлял поперечный брус с двумя тележными колёсами на концах. Конструкция сильно кренилась, и одно колесо висело в воздухе, усиливая впечатление полёта. Оно медленно вращалось, разбрызгивая мокрые комья с широкого — чтобы катиться, а не вязнуть в песке и ракушках — обода. Широкий след от второго колеса вился между согбенными сборщиками моллюсков; ярдах в ста позади его уже смыли волны.
Перед отливом к берегу подвели рыбачью лодку; теперь море отступило, оставив её на песке. Рыбаки подпёрли лодку брусьями и разложили на песке улов. Получился импровизированный рыбный рынок — до вечера, когда прилив разгонит покупателей и поднимет лодку. Горожане приходили с корзинами и приезжали на телегах, дабы подискутировать с рыбаками о стоимости того, что те извлекли из морских глубин.
Многие обернулись взглянуть на песчаный парусник. Он пронёсся мимо Элизы быстрее, чем лошадь на полном скаку. Элиза узнала человека, который управлял тросами и рулём. Узнали его и некоторые покупатели, а кое-кто даже потрудился приподнять шляпу и отвесить поклон. Элиза села на лошадь и поскакала вдогонку.
Берег отделяли от пляжа дюны, похожие не столько на барханы, какие Элиза видела в Сахаре, сколько на помесь дюны с живой изгородью. Их покрывала цепкая растительность, светло-зелёная внизу, кое-где с отливом в голубизну, а на самом гребне густая и тёмная, словно хмурящиеся на море кустистые брови.
Примерно в миле от рыбачьей лодки берег плавно изгибался, скрывая вид на город, и от дюны отходил небольшой поперечный отрог. Дальше о том, что Голландия — обитаемая страна, свидетельствовала лишь высокая сторожевая башня на расстоянии примерно в милю. Здесь песчаный парусник остановился, парус обвис и затрепетал на ветру.
— Я, наверное, должна спросить: «Где ваш двор, о принц, ваша свита, телохранители, придворные историографы, поэты и живописцы?» И выслушать суровую отповедь на тему разложения французского двора.
— Возможно, — сказал Вильгельм Оранский, штатгальтер Голландской республики. Он слез с парусинового сиденья и стоял теперь лицом к морю. Многослойная одежда, мокрая от брызг и облепленная песком, скрадывала щуплость его фигуры. — А может, мне просто нравится кататься в одиночестве, а то, что вы придаёте тому чрезмерное значение, доказывает, что вы слишком долго пробыли в Версале.
— Интересно, почему здесь эта дюна?
— Не знаю. Быть может, завтра её здесь не будет. А что?
— Я смотрю, как волны неустанно трудятся, передвигая песчинки, и дивлюсь, как порою они создают нечто удивительное, например, дюну. Этот песчаный бугор подобен Версалю — чудо мастерства. Волны Индийского океана, встречая товарок с аравийского или малабарского побережья, должно быть, обмениваются слухами о ней и спрашивают о последних вестях из Схевенингена.
— Женщинам свойственно в некоторые дни месяца и в некоторые времена года впадать в подобное настроение, — задумчиво проговорил принц.
— Догадка остроумная, но неверная, — сказала Элиза. — Знаете, христианские невольники в Берберии прилагают огромные усилия, чтобы достичь сущей малости, например, смастерить что-то из мебели в баньёлы.
— Баньёлы?
— Невольничьи лачуги.
— Какая жалобная история.
— Да, но невольники правы, стремясь к малому, ибо живётся им хуже некуда, — сказала Элиза. — В какой-то мере они счастливцы, ибо им есть куда воспарять в головокружительных мечтах, не рискуя удариться о потолок. Обитатели Версаля забрались так высоко, как только возможно смертному, и должны постоянно ходить пригнувшись, ибо задевают париками небосвод, который, соответственно, кажется им низким и заурядным. Подняв голову, они видят не манящие заоблачные выси, а…
— Безвкусно раскрашенный потолок.
— Да. Понимаете? Нет простора. И потому, прибыв из Версаля, легко смотреть на волны, достигающие столь малого, и думать, что, сколько бы мы ни пыжились, мы лишь перекладываем песчинки на берегу, который, по сути, остаётся прежним.
— Верно. А если мы воистину велики, то можем создать дюну или бугор, которые прослывут восьмым чудом света!
— Вот-вот!
— Очень поэтично, хоть и в мрачном готическом духе. Однако я поднимаю голову и не вижу потолка. Я вижу клятых французов, которые презрительно смотрят на меня с высоты в милю. Я должен низвести их до себя или вскарабкаться к ним, прежде чем судить, удалось ли мне создать дюну или чего ещё. Так что не будем рассеиваться мыслями.
— Хорошо. Здесь мало что может рассеять мысль.
— Что, по-вашему, означает угроза короля, которую вы приводите в конце последнего письма?
— Вы о том, что он сказал мне после операции?
— Да.
— «Пусть гордится в той мере, что он мне друг, и страшится в той мере, что он мне недруг»? Это?
— Да.
— Мне кажется, смысл самоочевиден.
— Но с какой стати королю адресовать такое предупреждение д'Аво?
— Может быть, король не вполне доверяет графу.
— Ерунда. Д'Аво предан ему душою и телом.
— Может быть, король слабеет, и ему мерещатся несуществующие враги.
— Сомнительно. У него слишком много настоящих врагов, чтобы воображать мнимых, и слабости в нём пока не замечено!
— Хм. Сдаётся, все мои объяснения нехороши.
— Теперь, за пределами Франции, вам следует отказаться от привычки надувать губки. У вас это получается очень мило, но у голландца может возникнуть желание шлёпнуть вас по губам.
— Вы поделитесь со мною своими наблюдениями, если я пообещаю не надувать губки?
— Очевидно, угроза короля предназначалась кому-то, кроме д'Аво.
Элиза на мгновение опешила. Вильгельм Оранский возился с тросами, давая ей время собраться с мыслями.
— Вы хотите сказать; король знает, что мои письма д'Аво читают голландцы… и в таком случае угроза адресовалась вам. Угадала?
— Вы почти начали догадываться… и это начинает меня утомлять. Давайте я объясню, ибо, пока вы не поймёте, вы для меня бесполезны. Всякое письмо, отправленное из Версаля, исходит оно от вас, от Лизелотты, от Ментенон или от какой-нибудь горничной, почтмейстер вскрывает и отправляет в Чёрный кабинет для прочтения.
— О Боже! Что такое Чёрный кабинет?
— Не важно. Главное, что там читают ваши письма д'Аво и всё существенное докладывают королю. Затем письмо возвращают почтмейстеру, тот искусно запечатывает его и отправляет на север… затем мой почтмейстер вскрывает его, прочитывает, вновь запечатывает и пересылает д'Аво. Итак, угроза короля могла адресоваться кому угодно в цепочке: д'Аво (хоть это и маловероятно), мне, моим советникам, членам его Чёрного кабинета… и вам.
— Мне?! С какой стати ему стращать такое ничтожество?
— Я упомянул вас лишь для полноты.
— Не верю.
Принц Оранский рассмеялся.
— Отлично. Вся система Людовика держится на том, что знать должна быть бедна и бессильна. Некоторым это по душе, некоторым — нет. Те, кому не по душе, стремятся раздобыть деньги. В той мере, в какой им это удаётся, они представляют угрозу для короля. Как вы думаете, почему Французская Ост-Индская компания всё время разоряется? Потому что французы тупы? Они не тупы. Вернее, тупых отправляют в Индию, поскольку Людовик хочет, чтобы компания разорилась. Целый порт богатых купцов, вроде Лондона или Амстердама, для него — страшный сон.
Некоторые дворяне в стремлении раздобыть деньги обратили взор к Амстердаму и начали нанимать голландских посредников. Королю на руку, что вы пустили по ветру Слёйса, поскольку вместе с ним разорились несколько французских графов: урок французским дворянам, ищущим богатства на амстердамском рынке. Однако теперь стали обращаться к вам. Только и разговоров, что о вашем «испанском дядюшке».
— Никогда не поверю, что король видит во мне угрозу.
— Разумеется, видит.
— Вы, Вильгельм Оранский, защитник протестантской веры, вы — угроза.
— Я, Вильгельм, какие бы титулы вы на меня ни навешивали, — враг, а не угроза. Я могу пойти на него войной, но не способен расшатать его власть. Опасны лишь те, кто живёт в Версале.
— Ужасные принцы, герцоги и так далее.
— И герцогини с принцессами, да. А поскольку вы в состоянии им помочь, за вами нужен пригляд. Зачем, по-вашему, д'Аво отправил вас в Париж? По доброте душевной? Нет, чтобы за вами удобнее было присматривать. В той мере, в какой вы помогаете Людовику сохранять власть, вы — орудие. Одно из многих в его наборе, но необычное, а необычные орудия, как правило, самые полезные.
— Если я так полезна Людовику — вашему врагу, — то кто я для вас?
— Покамест — довольно тупая ученица, на которую не следует полагаться.
Элиза вздохнула, пытаясь изобразить скуку и раздражение, но не смогла сдержать дрожь в плечах — предвестье рыданий.
— Хотя и не вполне безнадёжная, — снисходительно добавил Вильгельм.
Элиза почувствовала себя лучше и сразу разозлилась, что так похожа на одну из Вильгельмовых собак.
— Пока вы лишь осваиваете азы, — сказал принц, перебирая, как арфист, бегучий такелаж песчаного парусника. Он залез на сиденье, подтянул одни тросы, вытравил другие. Парусник покатился по склону дюны и, набирая скорость, устремился к Схевенингену.
Элиза взобралась в седло и развернула лошадь. Теперь ветер бил в лицо, как заряд льда и каменной соли из мушкетона. Она решила, что дальше от берега будет не так ветрено. Дюна здесь достигала значительной высоты, и выехать на гребень оказалось делом нелёгким.
В прибрежных кустах — кусты здесь были в человеческий рост, с бурыми листьями и красными ягодами — пауки растянули паутины. Туман унизал их сверкающими жемчужинами, сделав видимыми за сто футов. Вот и уповай на скрытность. Впрочем, человек, затаившийся в кустах, чтобы наблюдать за морем, был бы совершенно невидим. Выше по склону росли кривые деревца, и живущие в них хриплоголосые птицы сочли своим долгом известить весь мир об Элизином приближении.
Наконец она выбралась на гребень. Впереди расстилалось открытое море травы, через которое лежал путь к польдерам — осушенным землям вокруг Гааги. Чтобы туда попасть, надо проехать через рощицу низкорослых кривых деревьев с подветренной стороны дюны Элиза придержала коня и огляделась. С гребня она видела колокольни Гааги, Лейдена и Вассенара и смутно различила прямоугольники садов в усадьбах вдоль побережья.
Она въехала в рощицу. Шум волн затих, сменившись шелестом измороси в серебристых листьях. Впрочем, Элиза недолго наслаждалась покоем. Человек в плаще с капюшоном выступил из-за дерева и хлопнул в ладоши перед конской мордой. Лошадь встала на дыбы. Застигнутая врасплох Элиза свалилась на мягкий песок. Человек в плаще звонко шлёпнул лошадь по крупу, и та галопом унеслась в направлении дома.
Незнакомец какое-то время стоял спиной к Элизе, провожая глазами лошадь, потом оглядел гребень дюны и берег до сторожевой башни — не смотрит ли кто в их сторону. Однако единственными свидетелями нападения были вороны, которые с карканьем и хлопаньем крыльев взмывали в воздух, когда лошадь проносилась мимо их сторожевых пикетов.
У Элизы были все основания полагать, что ей уготовано нечто очень плохое. Она лишь краем глаза видела, как нападавший выступил из-за дерева, но заметила, что движения у него резкие и стремительные, без жеманной грации джентльмена. Он явно никогда не брал уроков фехтования или танцев и двигался как янычар… как солдат, поправила себя Элиза. Что не сулило ничего хорошего. Значительное число убийств, грабежей и насилий совершалось в Европе солдатами, оставшимися не у дел, а таких в Голландии были сейчас тысячи.
По условиям мира между Англией и Голландией шесть английских и шотландских полков расквартировали на голландской земле в качестве щита от вторжения из Франции (или, что более вероятно, из Испанских Нидерландов). Несколько месяцев назад, когда герцог Монмутский поднял в Англии мятеж, Яков II срочно затребовал эти полки обратно. Вильгельм Оранский, хоть и сочувствовал Монмуту больше, нежели королю, выслал их без промедления. Однако к прибытию полков восстание уже подавили. Король не торопился отсылать их обратно, поскольку не доверял зятю (Вильгельму Оранскому) и опасался, что когда-нибудь эти полки станут авангардом голландского вторжения. Яков хотел разместить их во Франции, но Людовик, у которого своих полков хватало, не захотел кормить лишние рты, и Вильгельм настоял, чтобы условия мира были соблюдены. Полки вернулись в Голландию.
Вскоре их распустили, и теперь Голландия кишела иноземными солдатами, голодными и неуправляемыми. Элиза догадывалась, что незнакомец — один из них; и, судя по тому, что он не потрудился украсть лошадь, намерения у него были иные.
Она перекатилась на четвереньки и, упёршись локтями в песок, часто задышала, как будто из неё вышибло дух. Одной рукой она поддерживала голову, другой схватилась за живот. Длинный плащ закрывал её, как шатёр. Упираясь лбом в запястье, Элиза смотрела внутрь этого шатра, а свободной рукой рылась во влажных складках пояса.
Живя во дворце Топкапы, она помимо прочих интересных фактов узнала, что больше всего в Оттоманской империи боятся не янычар, а гашишинов — специально натренированных убийц, вооружённых одним лишь спрятанным в поясе кинжалом. Элиза не обладала выучкой гашишина, но удачную мысль оценить могла, поэтому никогда не расставалась со стилетом. Вытащить его прямо сейчас было бы ошибкой. Она лишь убедилась, что он на месте.
Элиза подняла голову, выпрямилась, не вставая с колен, и взглянула на своего обидчика. Тот как раз обернулся и сбросил с лица капюшон. На Элизу смотрело лицо Джека Шафто.
В первый миг её парализовало.
Поскольку Джек почти наверняка умер, логика требовала признать, что перед нею его призрак. Однако всё обстояло прямо противоположным образом. Призрак был бы бледнее оригинала, истаявшая тень. Скорее уж Джек (по крайней мере Джек, каким она его последний раз видела) был призраком этого человека — крепкого, румяного, с более здоровыми зубами и кожей.
— Боб… — сказала она.
Он слегка удивился, потом с лёгким поклоном произнёс:
— Да, Боб Шафто, к вашим услугам, мисс Элиза.
— Сбить меня с лошади, по-твоему, услуга?
— Позвольте, вы сами упали с лошади. Приношу извинения. Просто я не хотел, чтобы вы ускакали прочь и позвали стражу.
— Что ты здесь делаешь? Ты состоял в одном из распущенных полков?
Видно было, как Боб ворочает мозгами. Теперь, когда он начал говорить и обдумывать её слова, сходство с Джеком ослабело. Внешне они были почти одинаковы, но их тела наполнял совершенно различный дух.
— Вижу, Джек кое-что обо мне рассказал, но опустил подробности. Нет. Мой полк по-прежнему существует, хоть и зовётся теперь по-новому. Он в Лондоне, охраняет короля.
— Так почему ты не с ним?
— Джон Черчилль, командир полка, отправил меня с довольно странным поручением.
— И впрямь странное поручение, если выполнять его надо по другую сторону моря.
— Это нечто вроде сбора обломков кораблекрушения. Никто не ждал, что здешние полки распустят. Я пытаюсь собрать нескольких старых сержантов и капралов, пока их не повесили за кражу кур, не забрили в войско Вильгельма Оранского или не загребли на корабль Ост-Индской компании.
— Я похожа на старого сержанта, Боб Шафто?
— Я отложил задание на несколько часов, чтобы поговорить с вами по личному делу. Я вполне успею всё объяснить по пути в Гаагу.
— Тогда идём, а то я уже замёрзла.
Дорсет июнь 1685
Я никогда не оправдывал цареубийство, однако несчастья, постигающие монархов в расплату за произвол, не вполне бесполезны и, словно маяки, освещают их преемником мели, коих следует избегать.
«Беды, которых можно справедливо ожидать от правительства вигов», приписывается Бернарду Мандевилю, 1714 г.— Если в бреднях бедняги Джека была хоть капля истины, вы вращаетесь среди знати. Коли так, вам известно, что для аристократов семья: она даёт им не только фамилию, но и титул, дом, клочок земли, который можно назвать своим, доход и пропитание. Всё вместе составляет окно, через которое они видят и воспринимают мир. И в этом же их беда: они наследуют властителей, которым следует покоряться, крыши, которые надо чинить, местные неурядицы, которые принадлежат им точно так же, как родовое имя.
Замените «аристократов» на «служивых», «семью» на «полк» — и получите правдивую картину моей жизни.
Вы, похоже, много времени провели с Джеком, так что не буду утомлять вас рассказом о том, как два лондонских жоха оказались в Дорсетском полку. Однако мой путь отражает его как в зеркале, в смысле — у нас всё было наоборот.
Полк, о котором он вам рассказывал, больше походил на исконный английский — то есть на ополчение. Солдаты — местные жители, командиры — местные джентльмены, а во главе стоял пэр, наместник, в нашем случае Уинстон Черчилль, который добывал свой хлеб, живя в Лондоне, одеваясь как положено и говоря то, что хотят от него услышать.
Некогда Кромвель собрал из местного ополчения Новую Образцовую армию, которая разбила кавалеров, снесла голову королю, упразднила монархию и даже пересекла Ла-Манш и выгнала испанцев из Фландрии. Карл II этого не забыл. Вернувшись, он завёл обычай держать профессиональных солдат на жалованьи. Они должны были приглядывать за ополчением.
Вы, вероятно, знаете, что кавалеры, посадившие Карла II на престол, высадились на севере и по пути из Твида форсировали Колдстрим. Командовал ими генерал Льюис. Теперь этот полк зовётся Гвардейским Колдстримским, а генерал Льюис — герцогом Твидским. Подобным же образом Карл создал гренадерский гвардейский полк. Будь его воля, он бы вообще отменил ополчение, но в шестидесятых было неспокойно из-за Пожара, Чумы и брожения среди пуритан. Король хотел, чтобы наместники держали народ в узде; он дал им право обыскивать дома и бросать в тюрьму всех, кого сочтут подозрительными. Без местного ополчения они бы не справились, поэтому его сохранили. Тогда-то мы с Джеком из бродяг стали полковыми мальчишками.
Не стоит рассказывать, как я служил под началом Джона Черчилля; наверняка вы слышали от Джека опошленную версию тех событий. По большей части служба состояла из долгих переходов и осад на Континенте — очень однообразных; в остальное время мы маршировали перед Уайтхоллом и Сент-Джеймским дворцом, ибо нашей номинальной обязанностью было охранять короля.
После смерти Карла II Джон Черчилль некоторое время провёл в Европе, встречаясь в Версале с Людовиком и время от времени наезжая в Дюнкерк — присмотреть за герцогом Монмутским. Меня он брал с собой, и когда Джек оказался в Дюнкерке на купеческом корабле, загруженном каури, я зашёл навестить брата.
Не буду описывать Джека. Довольно сказать, что на полях сражений я видел и похуже, и получше. Французская хворь окончательно доконала его рассудок. От Джека я услышал о вас, в частности, о том, что вы всем сердцем ненавидите рабство. Однако об этом позже.
На борту «Ран Господних» был некий мистер Фут, один из тех приятных и внешне безобидных людей, которым все всё рассказывают и которые потому всех и всё знают. Дожидаясь, пока Джек вернётся в сознание, я провёл с мистером Футом несколько часов и выслушал свежие новости — или, как говорят в армии, донесения разведки — из Амстердама. Мистер Фут сказал, что войска Монмута собираются на Текселе и почти наверняка высадятся в Лайм-Риджисе.
Распрощавшись с беднягой Джеком, я отправился на поиски своего командира, Джона Черчилля, чтобы сообщить ему новости. Однако он уже отплыл в Дувр и оставил мне приказ следовать за ним с некоторой частью полка.
Из моего рассказа вы, наверное, заключили, что гренадерский гвардейский полк стоял в Дюнкерке, но это не так. Полк в Лондоне охранял короля. Почему я не был с полком? Для ответа пришлось бы долго рассказывать, кто я для Джона Черчилля и кто Джон Черчилль для меня. Из-за солидного возраста — почти тридцать — и долгой службы я — старший унтер-офицер в полку. Если бы вы знали воинскую жизнь, то поняли бы, что это во многом объясняет необычный характер моих поручений. Я делаю то, что не всегда растолкуешь.
Не очень ясно, да? Вот пример: я ослушался приказа, сбросил мундир, одолжил деньги под честное имя командира и сел на корабль, идущий в сторону Лайм-Риджиса. Предварительно я отправил Черчиллю письмо, что еду на запад, где, по слухам, не мешало бы повесить нескольких смутьянов. Как вы наверняка догадались, это было разом и пророчество, и напоминание. Монмут отплыл в Дорсет, давний рассадник пуританских беспорядков. Эш-Хаус, усадьба Черчиллей, смотрит на Лайм-Риджис, выдержавший жестокую осаду во время Гражданской войны. Одни Черчилли были круглоголовые, другие — кавалеры. Уинстон примкнул к кавалерам и сумел усмирить бунтующую вотчину, за что их с сыном сделали большими людьми. Теперь Монмут — старый соратник Джона по осаде Маастрихта — собрался учинить там новую кровавую смуту. В глазах Парламента это выставило бы Уинстона либо дураком, либо изменником и бросило бы тень на Джона.
Джон с юных лет состоял в свите герцога Йоркского — теперь короля Якова, а вот его жена Сара недавно стала камер-фрейлиной герцогской дочери, принцессы Анны, протестантки, которая со временем может сделаться нашей королевой. Лондонцы, чей хлеб — сплетни, сочли, что Джон лишь для видимости хранит верность Якову, а на самом деле только и ждёт случая посадить на трон протестанта. Обычные придворные толки, но если бы Монмут поднял протестантский мятеж в родных краях Джона, как бы это выглядело?
Флот Монмута бросил якоря в заливе Лайм через два дня после того, как я туда добрался. Горожане как с цепи сорвались — им казалось, будто воскрес Кромвель. В первый же день под знамёнами Монмута собралось полторы тысячи человек. Кажется, единственным, кто не бросился к нему, был мэр, которому я заранее посоветовал собраться и оседлать лошадей. Я помог мэру и его семье выбраться из города тайными бродяжьими тропами, и он доставил вести Черчиллю в Лондон, чтобы Уинстон мог пойти к королю и сказать: «Мои подопечные бунтуют; вот что мы с сыном по этому поводу предприняли», и новость не оказалась для него громом с ясного неба.
Я понимал, что мой полк доберётся сюда самое раннее через неделю, то есть у Монмута была неделя, чтобы собрать армию, у меня — чтобы сделать что-нибудь полезное. Я отстоял очередь на ярмарочной площади Лайм-Риджиса, и писарь занёс меня в большую книгу. Я назвался Джеком Шафто и под этим именем записался в армию Монмута. На следующий день нас выстроили за городом, и мне выдали оружие: привязанный к палке серп.
То, что происходило в последующие дни, сильно повеселило Джона Черчилля, когда я ему рассказывал, но вам, вероятно, покажется утомительным. Событие, которое может заинтересовать вас, случилось в Таунтоне. Это городишко, в который мы вступили после четырёхдневного перехода. К тому времени нас было три тысячи. Таунтон встретил Монмута ещё большим ликованием, чем Лайм-Риджис. Школьницы из местного пансиона вручили герцогу знамя, которое для него вышили, а для нас на городской площади разбили полевую кухню. Среди девушек, которые обносили солдат едой, была шестнадцатилетняя Абигайль Фром.
Описать ли в тысяче слов или в десяти тысячах, как я влюбился в Абигайль Фром? «Я влюбился» ничего не говорит, но и десять тысяч слов ничего не выразят, так что остановлюсь на этом. Может, я влюбился в неё, потому что она была бунтарка, а я — душою с восставшими. Рассудком я понимал, что они обречены, но в сердце поселился бес противоречия. Я взял имя «Джек», поскольку считал, что брат умер и оно ему больше не нужно. Только стоило мне стать Джеком Шафто, как в душе проснулась давно забытая страсть: мне хотелось податься в бродяги и прихватить с собой Абигайль Фром.
Такими были мои чувства в первый, может, во второй день влюблённости. Однако между длинными июньскими днями были короткие ночи, когда тревожные мысли сменялись кошмарами, от которых я, проснувшись, вскакивал на постели, как матрос, чей корабль налетел на риф. Я чувствовал, что не дело валяться — надо что-то предпринимать. Я не переспал с этой девушкой, даже не целовался с нею, но верил, что отныне мы вместе и надо готовиться к совершенно иной жизни. В ней не будет места бродяжничеству и мятежу. Они хороши для мужчин, но мужчина, который втягивает в них жену и детей, — последняя сволочь. Если вы долго странствовали с Джеком, то поймёте, о чём я.
Итак, бродяжья страсть к мятежнице заставила меня в конце концов отказаться от участия в мятеже. Я должен был выбирать либо одно, либо другое и выбрал Абигайль.
Стало известно, что мой бывший полк, состоящий из местных жителей, призвали к своим обязанностям, а именно — к подавлению беспорядков. Я дезертировал от Монмута и явился на место сбора. Некоторые ополченцы готовы были встать на сторону мятежников, некоторые остались верны королю, а большая часть пребывала в полной растерянности. Я собрал тех, что понадёжнее, и привёл этот сброд — немногим лучше дезертиров — в Чард, где занял позицию подоспевший наконец Черчилль.
Здесь можно упомянуть, что, пока я выбирался из Таунтона, меня заметили — не часовой, сонный деревенский увалень, а его собака. Пёс догнал меня, схватил за штанину и не выпускал, пока не подбежал сам крестьянин с вилами. Как видите, я дал маху. Беда в том, что я страшно люблю собак — всегда любил, с самого детства, когда был бездомным жохом и любой аристократ называл меня псом. Серп я отвязал и оставил в Таунтоне, но палку прихватил с собой и теперь, размахнувшись, ударил собаку точно промеж смотрящих на меня глаз. Однако пёс был вроде терьера и челюстей не разжал. Крестьянин пырнул меня вилами. Я успел повернуться боком; один зубец прошёл под кожей на расстояние примерно в ладонь. Я палкой ударил парня по переносице. Он выпустил вилы и схватился за лицо. Я вытащил вилы из спины, занёс их над собакой и сказал парню, что, если тот велит своей зверюге выпустить мою ногу, мне не придётся проливать ничью кровь.
Тот увидел резон в моих словах. Однако к тому времени парень меня узнал. «Шафто! — сказал он. — Неужто так быстро сдрейфил?» Тут я тоже его узнал: мы вместе стояли в очереди, дожидаясь, когда нас запишут в армию Монмута.
Я привык к размеренной предсказуемости перехода, муштры, осад. И вот, едва успев влюбиться в Абигайль Фром, я запутался в нелепой коллизии вроде тех, что ждёт героя в четвёртом акте комедии. Меня, убившего немало людей, поймали и опознали из-за того, что я пожалел дворнягу. И я, не сочтите за хвастовство, совершавший поступки, которые требовали какой-никакой храбрости, и тем доказавший свою верность, отныне буду трусом и предателем в глазах Абигайль.
Штатский, не в обиду будет сказано, растерялся бы; я солдатским умом сразу смекнул, что оказался в жопе. Ну, нам не привыкать: такое случается сплошь и рядом, и последствия обычно хуже, чем презрение хорошенькой девушки. Чёрный юмор и крепкая выпивка — вот чем мы спасаемся. Я ушёл, никого больше не изувечив. Однако пока я добирался до своих, рана воспалилась, и полковому цирюльнику пришлось её вскрывать, Сам я её не видел, но кто видел, вздрагивал. Вообще-то она была неглубокая и затянулась, как только я окреп настолько, чтобы отбиваться от цирюльника. А вот то, что я ввалился в лагерь окровавленный, в лихорадке и с колонной местного ополчения, восприняли чуть ли не как героизм. Джон Черчилль наговорил мне хвалебных слов и подарил кошель с деньгами. Когда я рассказал ему всю историю, он рассмеялся и задумчиво произнёс:
— Теперь я вдвойне обязан твоему брату — и за великолепного коня, и за ценные сведения.
Джон сказал мне, что вы грамотная, так что подробности сражении читайте в исторических книжках. Упомяну лишь несколько деталей, потому как сомневаюсь, что историки решатся их обнародовать.
Король не доверял Джону Черчиллю по причинам, мною уже описанным. Верховное командование поручили Февершему, который, несмотря на английскую фамилию, француз. Годы назад Февершем взялся взорвать несколько домов, якобы стремясь остановить пожар, но на самом деле, подозреваю, из свойственной всем мужчинам тяги к разрушению. Удовлетворяя свою страсть, он получил летящим обломком по голове и потерял сознание. Мозг вздулся. Чтобы дать ему место, врачи проделали в черепе дыру. Подробности можете вообразить сами. Довольно сказать, что теперь он — ходячий парикмахерский болванчик. Яков II его любит, и даже если ничего больше не знать про нашего короля, по этому одному можно составить представление о его царствовании.
Вот этого-то Февершема и поставили во главе войск, ему и достались награды за подавление мятежа, однако сражения выигрывал Джон Черчилль, а сражался, как всегда, наш полк. В какой-то момент кавалерийскую атаку против Монмута возглавил герцог Графтонский. Стычка была не то чтобы важная, и я упоминаю её только для колорита, ибо Графтон, как и Монмут, незаконный сын Карла II.
Интригу кампании придавала лишь постоянная сонливость Февершема, который и наяву-то плохо соображает. День или два казалось, будто у Монмута и правда есть шанс. Я почти всё время пролежал пластом, залечивая рану, и считаю, что мне крупно повезло, потому что я не люблю и не любил короля и сочувствовал деревенским нонконформистам с их серпами и мушкетонами.
Под конец Монмут бросил тех, кто за него сражался и умирал. Мы нашли его в канаве и доставили в лондонский Тауэр, где он до самой казни униженно молил о прощении.
Крестьяне и ремесленники из Лайм-Риджиса и Таунтона были англичане до мозга костей. Им в голову не приходило, что Монмут попытается сбежать из страны. Но я долгие годы сражался на Континенте, поэтому догадывался, что этим всё кончится.
Равным образом они не предвидели всей жестокости карательных мер. Живя средь зелёных полей или в сонном городке, не представляешь горячечного сознания лондонцев. Если вы часто ходите в театры, как некогда мы с Джеком, то заметили, что сюжетов раз-два и обчёлся, поэтому их повторяют снова и снова. Часто проберёшься на новый спектакль, а персонажи и коллизии кажутся странно знакомыми. К концу первой сцены понимаешь, что уже видел пьесу сто раз, только теперь действие происходит не в Тоскане, а во Фландрии, школьный учитель превратился в пастора, а выживший из ума полковник — в безмозглого старика-адмирала. Так и у высокопоставленных англичан засела в башке история Кромвеля. Случись где беспорядки, особенно если в сельской местности, да с участием нонконформистов, им тут же мерещится, что началась гражданская война. Дальше нужно только выяснить, кто теперь Кромвель, и насадить его голову на палку, а само восстание подавить. И так будет, пока те, кто правит Англией, не придумают себе новый сюжет.
Хуже того, Февершем — французский дворянин, и для него мужичьё (как он воспринимает этих людей) — хворост для камина. К тому времени, как он вернулся в Лондон, на каждом дереве в Дорсете висели мёртвые йомены, колесники, бочары и рудокопы.
Черчилль не хотел принимать в этом участия. Он постарался как можно скорее вернуться в Лондон вместе с полком. Февершем без устали рассказывал о славных победах. Себя он, разумеется, выставлял героем и все остальные события раздувал до небес. Канава, в которой мы отыскали спрятавшегося Монмута, превратилась в бушующий поток под названием Блекторрент. Король, потрясённый рассказом, присвоил моему полку новое название; отныне и вовеки мы Собственный королевский блекторрентский гвардейский полк.
Теперь я наконец могу поговорить с вами о рабстве, к которому, по словам Джека, вы питаете величайшее отвращение.
Лорд главный судья — некий Джеффрис, который и в лучшие-то времена славился кровожадностью. Всю жизнь он заискивал перед кавалерами, католиками, офранцузившимся двором и, когда Яков взошёл на трон, получил-таки свою награду: стал верховным судьёй королевства.
Едва лишь в воздухе запахло кровью, Джеффрис, как угодливый пёс, держа нос по ветру, учредил ассизы — выездную сессию суда. Он осудил на казнь не менее четырёхсот человек — вдобавок к тем, кто погиб в боях или был вздёрнут Февершемом. В иных европейских странах четыреста казней прошли бы почти незамеченными; для Дорсета это очень и очень немало.
Как видите, Джеффрис всячески изыскивал поводы, чтобы отправить людей на виселицу, но против иных даже он не мог отыскать улик и вместо казни приговаривал их к рабству. И этот ирод считает, что рабство — более лёгкое наказание, чем смерть!.. Джеффрис продал в неволю тысячу двести протестантов из западной части страны. Сейчас их везут на Барбадос, где они, а затем их потомки будут рубить сахарный тростник вместе с ирландцами и неграми без малейшей надежды когда-нибудь обрести свободу.
Девушку, которую я люблю, Абигайль Фром, продали в рабство. Как и всех таунтонских школьниц. По большей части их на сахарные плантации не отправили — они бы не выдержали дороги, — а распродали лондонским придворным. Джеффрис торговал людьми, как устрицами из бочки. Таунтонским родственникам оставалось лишь выкупать их назад за любые деньги, которые потребует владелец.
Абигайль досталась старому однокашнику Джеффриса — Луи Англси, графу Апнорскому. Её отец повешен, мать давным-давно умерла, из двоюродных братьев, дядьёв и тёток многие сейчас плывут на Барбадос, а у оставшихся нет денег на выкуп. Апнор своими карточными долгами разорил отца и заставил его много лет назад продать дом; теперь он надеется расплатиться с частью долгов, продав Абигайль.
Можно не говорить, что я хотел бы убить Апнора и когда-нибудь, Бог даст, убью. Однако это не спасёт Абигайль — она перейдёт к его наследникам. Её свободу могут купить только деньги. Вы хорошо разбираетесь в деньгах. Выкупите Абигайль. Взамен я отдаю себя. Знаю, вы ненавидите рабство и не захотите владеть человеком, но если вы мне поможете, я буду вашим рабом во всём, кроме названия.
* * *
Рассказывая свою историю, Боб Шафто вёл Элизу по тропам через лес, который, судя по всему, знал как свои пять пальцев. Вскоре они вышли к каналу, идущему от города к схевенингенскому побережью. Берега здесь не были облицованы камнем, как в городе, а полого спускались к воде и местами заросли камышом. Коровы, жуя камыш, смотрели на Боба с Элизой, временами прерывая его повествование протяжными бессмысленными жалобами. Ближе к Гааге Боб засомневался, куда поворачивать, и Элиза взяла руководство на себя. Пейзаж почти не менялся, только дома и мелкие поперечные каналы стали попадаться чаще. Слева начался лес. Гаага подкрадывалась исподволь, ибо не была укреплённым городом, в который входят через ворота. У одного канала — настоящего, взятого в каменные берега, — Элиза свернула вправо, и Боб впервые понял, что они в пригороде. И не просто в пригороде, а в Хофгебейде. Ещё несколько минут, и они оказались у основания Бинненхофа.
В лесу Элиза остерегалась говорить со всей откровенностью; здесь, в городе, она могла, если что, кликнуть на помощь стражников из гильдии святого Георгия.
— Твоя готовность отплатить мне ровным счётом ничего не значит, — сказала она.
Ответ был холодный, но и день выдался холодный, и Вильгельм Оранский обошёлся с ней холодно, а Боб Шафто сбил её с лошади.
Боб сник. Не привыкший быть обязанным никому, кроме Джона Черчилля, командира, он внезапно оказался во власти двух девушек, не достигших и двадцати лет: Абигайль владела его сердцем, Элиза (по крайней мере так он полагал) могла купить Абигайль. Человек, более привычный к беспомощности, не сдался бы без борьбы. Однако Боб Шафто опустил руки, как янычары под Веной, когда те увидели, что все турки-командиры погибли. Он мог лишь смотреть на Элизу увлажнившимися глазами и ошалело трясти головой. Элиза продолжала идти. Ему ничего не оставалось, кроме как следовать за ней.
— Меня обратили в рабство так же, как твою Абигайль, — сказала Элиза. — Нас с матушкой смыло на берегу волною и унесло в пучину. Никто не бросился выкупать меня. Значит ли это, что я справедливо попала в рабство?
— Теперь вы говорите ерунду. Я…
— Если дурно, что Абигайль — рабыня, а я считаю именно так, то твоё предложение услуг несуразно. Если её следует освободить, то следует освободить и других. От того, что ты предложил мне какие-то услуги, она никак не становится первой в очереди.
— Ясно, вы хотите всё превратить в моральный вопрос.
Они вышли на площадь к востоку от Бинненхофа, Плейн. Боб настороженно огляделся. На вершине камня от них располагалась кордегардия, служившая заодно тюрьмой; Боб гадал, уж не туда ли Элиза его ведёт.
Она остановилась перед домом: большим, барочным, но несколько чудно украшенным. Над трубами, где обычно располагают кресты или статуи античных богов, торчали армиллярные сферы, флюгера и подзорные трубы. Элиза порылась в складках пояса и, отодвинув стилет, вытащила ключ.
— Это что, женская обитель?
— Не пори чушь. Я похожа на французскую мамзель, которая останавливается в монастыре?
— Постоялый двор?
— Это дом моего знакомого. Вернее, друга моего знакомого.
Элиза помахала ключом на красной ленточке, к которой тот был привязан.
— Идём, — сказала она наконец.
— Простите?
— Идём в дом и там поговорим.
— Соседи…
— Ничто не обеспокоит соседей этого джентльмена.
— А что сам джентльмен?
— Он спит, — отвечала Элиза, отпирая дверь. — Тише.
— Спит? В полдень?
— Он бодрствует по ночам — наблюдает звёзды.
На крыше, в четырёх этажах над ними, была установлена деревянная платформа с цилиндрическим приспособлением, недостаточно прочным, чтобы стрелять из него ядрами.
Большая комната на первом этаже выглядела бы великосветски, ибо смотрела огромными окнами на Плейн и Бинненхоф, не будь она замусорена отходами шлифовального производства и заставлена книгами — тысячами книг. Хотя Бобу это было невдомёк, здесь имелись не только натурфилософские труды, но также исторические и литературные сочинения, почти сплошь на французском и на латыни.
Бобу обстановка казалась лишь умеренно чудной, и он, несколько раз нервно оглядевшись, научился её не замечать. Что на самом деле парализовало его, так это всепроникающий шум — и не потому, что был громким, а совсем наоборот. В комнате разместились по меньшей мере две дюжины часов или часовых заготовок, приводимых в движение гирями и пружинами, суммарная энергия которых могла бы оторвать от земли амбар. Энергию эту сдерживали и направляли в нужное русло механизмы самых разных конструкций: бронзовые жучки неумолимо ползли по ободу шипастых колёс, созвездия металлических шестерёнок вращались на тёмных медлительных осях, всё — в ритме качающихся отвесов.
В Бобовом ремесле живучесть напрямую связана с умением постоянно быть начеку. Даже самый тупой новобранец наверняка услышит громкий звук. Старикам вроде Боба полагается различать тихие. У Элизы сложилось впечатление, что Боб — из тех, кто постоянно шикает на всех в комнате, чтобы задержать дыхание и понять, кто там скребётся: мышь в буфете или вражеские сапёры, ведущие подкоп под укрепления. Или что там мерно отдаётся вдалеке: сапожник в соседнем доме стучит молотком или вражеская колонна подходит к городу.
Каждая шестерёнка в комнате производила звук, от которого в обычных обстоятельствах Боб Шафто застыл бы, как испуганный зверь. Даже когда он окончательно усвоил, что всё это — часы, ощущение спокойной механической жизни вокруг заставило его утихнуть и присмиреть. Он стоял навытяжку посреди большой комнаты, пуская ртом пар и стреляя глазами по комнате. Все часы были созданы исключительно для того, чтобы точно показывать время, и ни для чего больше. Если Боб ждал боя, мелодий и уж тем более кукушек, он мог бы ждать долго — покуда не превратится в пыльный скелет среди затянутых паутиной зубчатых колёс.
Элиза заметила, что он перед встречей побрился — Джеку бы такое никогда не пришло в голову. Интересно, что заставляет мужчину сказать: «Перед этим делом я должен выскрести щёки бритвою». Может быть, он такой жертвой символически выражает свою любовь к Абигайль.
— Это вопрос гордости, да? — спросила Элиза, засовывая кусок торфа в чугунную печку. — Или, как бы ты сказал, чести?
Вместо ответа Боб на неё посмотрел. А может, взгляд и был ответом.
— Вести себя тихо не означает молчать, — сказала Элиза, ставя на печку чайник.
— Что у нас с Джеком общего — мы ненавидим побираться, — ответил Боб наконец.
— Так я и думала. Значит, ты не клянчишь у меня выкуп за Абигайль, а предлагаешь сделку — заём с последующей оплатой услугами.
— Я не знаю таких слов, но что-то в таком роде имел в виду.
— Тогда почему я? Ты в Голландской республике, финансовой столице мира. Ни к чему искать определённого кредитора. Ты можешь обратиться к любому.
Боб медленно мял в руках складки плаща.
— Для меня финансовый рынок — тёмный лес. Я предпочитаю не обращаться к чужим.
— А я тебе разве не чужая? — со смехом спросила Элиза. — Я хуже, чем чужая. Я метнула гарпун в твоего брата.
— Да, потому-то вы мне и не чужая. Отсюда я вас и знаю.
— Это доказывает, что я ненавижу рабство, да?
— Да, и другие качества, которые здесь важны.
— Я не важная особа, и нет у меня важных качеств, так что не говори со мной так. Это доказывает, что ненависть к рабству толкает меня на странные поступки — как тот, о котором ты меня просишь.
Боб выпустил из рук скомканный плащ и неуверенно присел на стопку книг.
Элиза продолжала:
— Она бросила гарпун в моего брата, быть может, бросит мне толику денег?
Боб Шафто закрыл лицо руками и заплакал — так тихо, что тиканье часов заглушало его рыдания.
Элиза ушла в кухню и заглянула в холодный чулан, где на палку были намотаны кишки для колбас. Отмотала шесть дюймов, потом, подумав, двенадцать. Завязала на одном конце узел. Надела получившийся чулок на рукоять топора, торчащего из чурбана для рубки мяса, и пальцами начала сворачивать в рулон. Быстрыми движениями она скатала всю кишку, так что получился прозрачный бублик, а завязанный конец натянулся, как кожа на барабане. Подобрав юбку, Элиза засунула его под чулок, доходивший до середины бедра, и наконец вернулась в комнату, где плакал Боб Шафто.
Церемонии были ни к чему, поэтому она просто втиснулась между его ног и прижалась грудью к лицу.
После недолгого колебания Боб убрал ладони, отделяющие его мокрые щёки от её груди. В первый миг лицо было прохладным, но только в первый. Потом его руки сошлись у неё за спиной, там, где корсаж соединяется с юбкой.
С минуту он держал её и уже не плакал, а думал. Элизе это прискучило, поэтому она перестала гладить ему волосы и занялась ушами, зная, что долго он не выдержит. Тут наконец Боб понял, что надо делать. Элиза видела, что для него самая трудная часть дела — принять решение. Долгие годы бродяжничества он был старшим и мудрым братом, сурово наставляющим Джека в одно ухо, в то время как бес противоречия нашёптывал в другое, и потому стал медлительным и осторожным. Однако, раз решившись, он превращался в выпущенное из пушки ядро. Элиза подумала, сколько братья могли бы совершить вместе, и пожалела, что жизнь рассудила иначе.
Боб одной рукой стиснул её талию и резким движением встал с книг. Она задела головой пыльную потолочную балку, пригнулась и обхватила его голову. Он сдёрнул с дивана покрывало; лежавшие на покрывале книги рассыпались по дивану в новом порядке. Неся Элизу и волоча покрывало, Боб под громкий треск половиц добрался до овального обеденного стола с остатками учёной трапезы: яблочной кожурой и корками от гауды. Обойдя его по медленной эллиптической орбите, Боб загнул углы скатерти к центру и потянул, превратив её в мешок с мусором, который мягко опустил на пол. Потом набросил покрывало на стол, прихлопнул ладонью, чтоб не слетело, и закатил Элизу на середину деревянного овала.
Стоя над ней, он принялся возиться со штанами, что Элиза сочла преждевременным, поэтому, продев колено между его ног, потянула Боба за вихор и заставила лечь сверху. Некоторое время они лежали, сплетясь ногами, словно пальцами рук; Элиза чувствовала, как в нём и в ней нарастает готовность. Однако они ещё долго продолжали вжиматься друг в друга, как будто Боб может проникнуть через столько слоёв мужской и женской одежды. Они лежали потому, что им хорошо вместе в холодном и гулком гаагском доме и никто их никуда не торопит. Элиза поняла, что Боб не привык чувствовать себя хорошо, и ему нужно время, чтобы расслабиться. Сперва всё его тело было напряжено, и лишь очень постепенно напряжение отпустило руки и плечи, сосредоточившись в одном-единственном члене, и так же не скоро он принял мысль, что на это потребно время. Поначалу он стоял, зарывшись лицом в её грудь, и прочно упирался ногами в пол, но Элиза дюйм за дюймом заманивала его всё выше. Как всякий вояка, он не хотел отрываться от земли, пока мало-помалу она не убедила его, что дальше — ещё лучше, и он, сбросив башмаки, не перебрался коленями, а потом и всеми ногами на стол.
Долгое время они лежали лицом к лицу, и лишь постепенно Боб согласился поднять подбородок и доверить Элизе горло. Исследуя его губами, она расстегнула несколько пуговиц на Бобовой рубашке и стянула её с плеч, прижав руки к бокам и оголив соски.
Обвив правым коленом его левое, она раздвинула языком защитный войлок волос, отыскала и легонько куснула сосок. Боб отпрянул в сторону и вверх. Удерживая правой ногою его колено, она подняла левую, упёрлась ступнёю ему в бедро и надавила. Боб перекатился на спину. Элиза высвободилась и уселась ему на ноги. Резким движением она сдёрнула с него штаны, оголив напряжённый член, вытащила из-за чулка кишку, надела на него и с силой уселась сверху. Боб притворялся, будто сердится, и внезапная нега застигла его врасплох. Элиза не ожидала такой боли — она впервые впустила в себя мужчину. Слёзы брызнули из глаз: она вскрикнула от злости прижала кулаки в глазницы, силясь удержать мышцы ног, норовящие стащить её с Боба. Элиза чувствовала, что он качает её вверх-вниз, и разозлилась ещё больше, однако колени её по-прежнему упирались в стол, так что ощущение качки было вызвано скорее головокружением — обмороком, который следовало пересилить.
Элиза не хотела, чтобы Боб, открыв глаза, увидел её такой, потому рухнула вперёд, упёрлась ладонями в стол по обе стороны его головы и опустила лицо, чтобы волосы упали завесой, скрыв всё, что выше груди. Не то чтобы Боб особо пялил глаза; он явно счёл, что попал в далеко не худшую ситуацию.
Некоторое время Элиза двигалась вверх-вниз — очень медленно, отчасти из-за боли, отчасти из-за того, что не знала, насколько близок финал. Все мужчины разные, и даже у одного мужчины это происходит по-разному в зависимости от времени суток; судить можно только по ритму дыхания (которое она слышала) и расслабленности лица (за которым могла наблюдать в просвет между прядями). Судя по всему, скорой развязки ждать не приходилось. Однако через какое-то время он всё-таки кончил честь по чести: выгибая спину и колотясь головой о стол.
Боб сделал первый вдох, показывающий, что оргазм позади, и открыл глаза. Элиза смотрела прямо на него.
— Чертовски больно, — объявила она. — Я проделала это над собою в качестве демонстрации.
— Чего? — спросил Боб, ошалевший, растерянный, но довольный собой.
— Хотела показать, что думаю о твоей хвалёной чести. И где сейчас была Абигайль?
Боб Шафто попытался рассердиться, но без особого результата. Англичанин познатней или побогаче сказал бы: «Знаешь что…», однако Боб лишь стиснул зубы и попытался сесть. В этом он преуспел больше — поначалу, — ибо Элиза была девушка миниатюрная. Тут из-за шелковистого занавеса вынырнула рука с маленьким турецким кинжалом. Изящный клинок дамасской стали, нацеленный в левый глаз, принудил Боба снова лечь на спину.
— Демонстрация очень важна, — продолжала Элиза, вернее, прорычала, поскольку ей было по-прежнему очень больно. — Ты приходишь и говоришь красивые слова о чести, ожидая, что я бухнусь в обморок и выкуплю тебе Абигайль. Я много раз слышала, как мужчины распинаются о чести при дамах и забывают о ней, когда похоть или телесный страх берёт верх над показным благородством. Как кавалеры, которые бросали дорогое оружие и пышные стяги, чтобы бежать от восставшей черни. Ты не хуже их, но и не лучше. Я не стану помогать тебе оттого, что растрогана твоею любовью и пустозвонством о чести. Я помогу тебе, потому что не хочу, как волна, уйти в песок на заброшенном берегу. Господин Мансар может строить королевские замки, чтобы оставить свой след в жизни, ты можешь жениться на Абигайль и наплодить целый клан Шафто, но если я оставлю по себе память, это будет как-то связано с рабством. Я буду помогать тебе постольку, поскольку это служит моей цели. Выкуп одной девушки моей цели не служит, но Абигайль может быть полезна мне в чём-то другом. Я должна подумать. Покуда я думаю, она будет рабыней Апнора. Если она тебя и помнит, то лишь как труса и перебежчика. Удел твой жалок. С течением скорбных лет ты, возможно, оценишь мудрость моей позиции.
Тут разговор — если это можно назвать разговором — нарушило мощное «кхе» из другого конца комнаты: галлоны воздуха выталкивали флегму из дыхательных путей.
— Кстати о позициях, — произнёс хриплый голландский голос, — не будете ли вы с вашим кавалером так любезны отыскать себе другую? Поскольку спать из-за вас невозможно, я намерен хотя бы поесть.
— Со всей охотой, минхеер, но ваша жиличка приставила мне к глазу кинжал.
— Вижу, с мужчинами ты ведёшь себя хладнокровнее, чем с женщинами, — шёпотом заметила Элиза.
— Такие, как ты, никогда не видят мужчин хладнокровными, разве что через щёлочку в заборе, — возразил Боб.
Хозяин дома — седой здоровяк лет пятидесяти пяти — снова громко прочистил горло. Бровями его Бог не обидел; сейчас он поднял одну, словно мохнатое знамя, и смотрел из-под неё на Элизу — типично для астронома, привыкшего глядеть одним глазом.
— Доктор предупредил меня, что следует ожидать странных гостей, однако ничего не сказал о деловых сношениях.
— Некоторые назвали бы меня шлюхой, а кое-кто и не без основания, — отвечала Элиза, предостерегающе глядя на Боба, — но в данном случае вы ошиблись, мсье Гюйгенс. Дело, которое мы обсуждаем, никак не относится к сношению, которое мы имели.
— Тогда к чему заниматься ими одновременно? Неужто вы настолько торопитесь? Так ли ведут дела в Амстердаме?
— Я пыталась прочистить ему мозги, дабы он лучше соображал, — сказала Элиза, выпрямляясь, потому что спина у неё заболела, а корсаж давил на рёбра.
Боб резким движением отвёл её руку и сел, так что Элиза кувыркнулась назад. Она бы приземлилась головой, если бы он не поймал её за плечи и не развернул — а может быть, он сделал что-то в равной степени сложное и опасное. Элиза — когда всё было позади — поняла только, что сердце у неё оборвалось, голова кружится, волосы упали на лицо, а кинжала в руке нет. Боб, выставив её перед собой, как ширму, одной рукой натягивал штаны. Другой рукой он крепко, как уздечку, держал её кружевной воротник.
— Никогда не выпрямляй руку, — тихо объяснил это, — это показывает противнику, что ты не можешь сделать выпад.
В благодарность за урок фехтования Элиза крутанулась так, чтобы вывернуть ему пальцы. Боб чертыхнулся, выпустил воротник и натянул наконец штаны.
— Господин Гюйгенс, Боб Шафто, сержант Собственного королевского блекторрентского гвардейского полка. Боб, это Христиан Гюйгенс, величайший натурфилософ мира.
— Гук бы вас за такие слова укусил. Лейбниц талантливее меня. Ньютон, хоть и сбился с пути, по слухам, очень даровит. Скажем лучше, что я — величайший натурфилософ в этой комнате. — Гюйгенс быстрым взглядом пересчитал присутствующих: себя, Боба, Элизу и висящий в углу скелет.
Боб только сейчас заметил скелет и несколько опешил.
— Прошу прощения, сударь, это было безобразно…
— Не оправдывайся, — прошипела Элиза. — Господин Гюйгенс философ, ему безразлично.
— Когда я был совсем юн, сюда приходил Декарт и за этим самым столом в сильном подпитии вещал о проблеме ума-тела.
— Проблема? В чём проблема? Не вижу никакой проблемы, — бормотал Боб, покуда Элиза не придавила каблуком его ногу.
— Так что Элиза не могла отыскать лучшего места, чтобы усилить ваш умственный процесс путём избавления от лишних телесных соков.
— Кстати о телесных соках, что мне делать с этим? — спросил Боб, покачивая на пальце продолговатый мешочек.
— Положи в коробку и отправь Апнору в качестве задатка, — предложила Элиза.
Покуда они говорили, солнце выглянуло и осветило комнату. Любой голландец обрадовался бы такой внезапной перемене, но Гюйгенс повёл себя странно, как будто ему внезапно напомнили о тягостной обязанности. Он обвёл глазами часы.
— У меня есть четверть часа на еду. Потом нам с Элизой предстоит работа на крыше. Вы, сержант Шафто, можете остаться…
— Не буду злоупотреблять вашим гостеприимством, — сказал Боб.
* * *
Работа Гюйгенса состояла в том, чтобы неподвижно стоять на крыше и щуриться в инструмент, покуда все колокола Гааги бьют полдень. Элизе было велено не вертеться под ногами, а записывать цифры в черновую тетрадь и время от времени подавать нужные принадлежности.
— Вы хотите знать, где солнце находится в полдень…
— Вы сформулировали с точностью до наоборот. Полдень — время, когда солнце достигает определённого места. Ничего другого полдень не означает.
— Так вы хотите знать, когда полдень…
— Сейчас! — объявил Гюйгенс и поглядел на часы.
— Тогда все часы в Гааге врут.
— Да, и мои в том числе. Даже хорошие часы спешат или отстают, поэтому их время от времени следует подводить. Я делаю это всякий раз, как выглядывает солнце. Через несколько минут Флемстид будет делать то же самое с вершины Гринвичского холма.
— Жаль, что людей нельзя так же просто отрегулировать, — заметила Элиза.
Гюйгенс взглянул на неё не менее пристально, чем за мгновение до того смотрел в инструмент.
— Очевидно, вы имеете в виду кого-то конкретного, — проговорил он. — Про людей могу сказать следующее: трудно определить, идут ли они верно, но всегда видно, когда они сбились.
— Очевидно, вы о ком-то конкретном, — сказала Элиза, — и боюсь, что обо мне.
— Вас рекомендовал Лейбниц, — отвечал Гюйгенс, — тонкий знаток человеческого ума. Увы, не столь тонкий знаток характеров, ибо предпочитает о каждом думать хорошо. Я навёл справки в Гааге, и весьма достойные люди заверили, что вы меня не скомпрометируете. Из этого я заключил, что вы умеете себя вести.
Элиза внезапно почувствовала себя очень высоко и у всех на виду. Она отступила на шаг и взялась за тяжёлую треногу телескопа.
— Простите, — сказала она. — Я поступила глупо. Я знаю это и знаю, как себя вести. Однако я не всегда жила при дворе. Я шла к своему нынешнему положению кружным путём, и жизнь не во всём сделала меня приглядной. Вероятно, мне следует стыдиться. Однако мне больше хочется держать себя вызывающе.
— Я понимаю вас лучше, чем вы думаете, — промолвил Гюйгенс. — Меня с детства готовили в дипломаты, но в тринадцать лет я соорудил себе токарный станок.
— Что, простите?
— Токарный станок. Там, внизу, в этом самом доме. Вообразите ужас родителей. Они учили меня латыни, греческому, французскому и другим языкам. Учили играть на лютне, виоле и клавесине. Из истории и литературы я выучил всё, что было в их силах. В математике и философии меня наставлял сам Декарт. А я сделал себе токарный станок, потом научился шлифовать линзы. Родители боялись, что произвели на свет ремесленника.
— Я очень рада, что для вас всё обернулось так хорошо, — сказала Элиза, — но по тупости не могу взять в толк, как ваша история относится ко мне.
— Не беда, что часы спешат или отстают, если время от времени проверять их по солнцу и подводить. Солнце может выглядывать раз в две недели. Больше и не надо. Достанет нескольких светлых полуденных минут, чтобы заметить ошибку и подправить часы, — при условии, что вы даёте себе труд делать наблюдения. Родители это понимали и потому смирились с моими странными увлечениями. Они верили, что научили меня видеть, когда я сбился, и выправлять моё поведение.
— Теперь я, кажется, поняла. Осталось лишь применить этот принцип ко мне.
— Если я вхожу утром в столовую и вижу, что вы совокупляетесь на столе с иноземным дезертиром, словно какая-нибудь голодранка, я возмущён. Признаю. Однако куда важнее ваше дальнейшее поведение. Если вы держитесь вызывающе, я понимаю, что вы не умеете распознать и поправить свою ошибку. В таком случае вы должны покинуть мой дом, ибо такие люди могут катиться лишь дальше к гибели. Однако если вы обдумываете своё поведение и делаете правильные выводы, то я понимаю, что в конечном счёте у вас всё будет как надо.
— Хороший совет, и я за него признательна, — сказала Элиза. — В принципе. Однако на практике я не знаю, как быть с Бобом.
— Мне кажется, вам кое-что с ним надо утрясти, — предположил Гюйгенс.
— Мне кое-что надо утрясти с миром, — отвечала Элиза.
— Что ж, утрясайте. Можете оставаться у меня. Только впредь, если захотите с кем-нибудь переспать, будьте так добры заниматься этим у себя в спальне.
Биржа (Между улицами Треднидл и Корнхилл) сентябрь 1686
Великие, слыхал я, с давних пор Умели мысль свою как разговор Представить; те, кто так склоняли к злу, Проклятье заслужили и хулу Своим трудом; но истину открыть, Чтоб тоею нас с вами покорить, Угодно Богу.[16] Джон Беньян, «Путешествие пилигрима»Действующие лица:
ДАНИЕЛЬ УОТЕРХАУЗ, пуританин.
СЭР РИЧАРД АПТОРП, бывший золотых дел мастер, владелец Банка Апторпа.
ГОЛЛАНДЕЦ.
ЕВРЕЙ.
РОДЖЕР КОМСТОК, маркиз Равенскарский, придворный.
ДЖЕК КЕТЧ, главный палач Англии.
ГЕРОЛЬД.
БЕЙЛИФ.
ЭДМУНД ПОЛЛИНГ, старик.
ТОРГОВЦЫ.
ПРИСПЕШНИКИ АПТОРПА.
ПОДРУЧНЫЕ ПАЛАЧА.
СОЛДАТЫ.
МУЗЫКАНТЫ.
Обрамлённый колоннадою двор. ДАНИЕЛЬ УОТЕРХАУЗ сидит на стуле среди спешащих и кричащих торговцев. Входит СЭР РИЧАРД АПТОРП с приказчиками, подручными и прихлебателями.
АПТОРП: Ба, кого я вижу! Никак доктор Даниель Уотерхауз!
УОТЕРХАУЗ: Рад встрече, сэр Ричард!
АПТОРП: На стуле, скажите на милость!
УОТЕРХАУЗ: День долог, сэр Ричард, у меня устали ноги.
АПТОРП: В таком случае лучше двигаться — для того и создана Биржа! Это храм Меркурия, не Сатурна!
УОТЕРХАУЗ: Вам кажется, что я угрюм, как Сатурн? Сатурн — Хронос, бог времени. Воистину сатурнианскую личность вы обретёте в Гуке, величайшем часовщике мира…
Входит голландец.
ГОЛЛАНДЕЦ: Сударь! Ваш Гук всему научился у нашего Гюйгенса!
Уходит.
УОТЕРХАУЗ: Разные народы чтят одних богов под разными именами. У греков был Хронос, у римлян — Сатурн. У голландцев — Гюйгенс, у нас — Гук.
АПТОРП: Коли не Сатурн, то кто вы такой, чтобы сидеть на стуле в угрюмом раздумье посреди Биржи?
УОТЕРХАУЗ: Я тот, кто рождён представлять семью при конце света и назван по самой тёмной из книг Библии, кто покинул Лондон с Чумой и въехал в него с Пожаром. Я провожал Дрейка Уотерхауза и короля Карла в мир иной и вот этими двумя руками положил в могилу голову Кромвеля!
АПТОРП: Вот тебе на! Сударь!
УОТЕРХАУЗ: В последнее время я замечен в Уайтхолле, где брожу весь в чёрном, наводя страх на придворных.
АПТОРП: Что привело Плутона в храм Меркурия?
Входит еврей.
ЕВРЕЙ: Простите, сеньор, простите, где здесь tablero?
Уходит.
АПТОРП: Он видит, что у вас есть Стул, и любопытствует, где Стол.
УОТЕРХАУЗ: В таком случае он сказал бы mesa. Возможно, его интересует banca, конторка.
АПТОРП: Все, кроме вас, сидящие здесь на стульях, сидят за конторками. Он хочет знать, куда подевалась ваша.
УОТЕРХАУЗ: Я хотел сказать, возможно, он ищет банковскую контору.
АПТОРП: То есть меня?
УОТЕРХАУЗ: Банк — новый титул, который вы присвоили своей златокузнечной лавке, не так ли?
АПТОРП: Да, но почему в таком случае он не спросил обо мне?
УОТЕРХАУЗ: Сеньор! Будьте любезны, на минуточку.
Еврей возвращается с бумажкой.
ЕВРЕЙ: Вот такая, вот такая!
АПТОРП: Что там у него? Я без очков.
УОТЕРХАУЗ: Он начертил то, в чём натурфилософ узнал бы декартову координатную плоскость, а вы — ведомость, и накарябал в одном столбце слова, в другом — числа.
АПТОРП: Tablero! Он ищет доску, на которой записывают названия товаров.
ЕВРЕЙ: Товары! Да!
УОТЕРХАУЗ: Прах меня побери, она за углом! Он что, слеп?!
АПТОРП: Рабби, не обижайтесь на сварливость моего друга, ибо он властелин подземного царства и славится своим норовом. Здесь, в храме Меркурия, всё движется; знания и сведения циркулируют подобно текущей воде, о которой говорится в Притчах. Однако вы совершили ошибку, обратив вопрос к Плутону, божеству тайн. Зачем здесь Плутон? Это своего рода загадка; я сам изумился, увидев его здесь, и подумал, будто гляжу на призрак.
УОТЕРХАУЗ: Tablero вон там.
ЕВРЕЙ: И это всё?!
АПТОРП: Вы из Амстердама?
ЕВРЕЙ: Да.
АПТОРП: Сколько товаров записано на tablero в Амстердаме?
ЕВРЕЙ: Вот столько.
Пишет.
АПТОРП: Даниель, что он там написал?
УОТЕРХАУЗ: Пятьсот пятьдесят.
АПТОРП: Боже, храни Англию. У голландцев на tablero почти шестьсот наименований, а у нас тут дощечка с несколькими десятками.
УОТЕРХАУЗ: Немудрено, что он её не узнал.
Еврей уходит в направлении дощечки, сетуя и закатывая глаза.
АПТОРП (приспешнику): Ступай за этим когеном и выясни, что он задумал: ему что-то известно.
Приспешник уходит.
УОТЕРХАУЗ: Так кто из нас божество тайн?
АПТОРП: Вы, ибо до сих пор не объяснили мне, зачем здесь сидите.
УОТЕРХАУЗ: Как властелин Аида я обычно сижу на троне в колодце, где души умерших кружат, подобно сухим листьям. Сегодня утром, покинув Грешем-колледж, я направлялся по Бишопсгейт, когда взгляд мой случайно упал меж колонн Биржи. Она была пуста, но ветер носил средь конторок листки, брошенные торговцами, словно вихрь палой листвы. Я ошибочно счёл, что оказался в аду, и воссел на привычное место.
АПТОРП: Ваша манера выражаться утомительна.
Входит маркиз Равенскарский в роскошном одеянии.
РАВЕНСКАР: «Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями»!
УОТЕРХАУЗ: Боже, храни короля, милорд!
АПТОРП: Боже, храни короля… и разрази плутов, говорящих загадками, милорд!
УОТЕРХАУЗ: Излишне клясть Плутона.
РАВЕНСКАР: Он клянёт меня, Даниель, за болтовню о вихрях.
АПТОРП: Загадка разрешилась. Ибо теперь я вижу, что вы условились здесь встретиться. А поскольку вы говорите о вихрях, милорд, я заключаю, что цель вашей встречи философическая.
РАВЕНСКАР: Со всем уважением, позволю себе не согласиться, сэр Ричард. Ибо место встречи назначил сей, сидящий на стуле. Обычно мы встречаемся в «Золотом кузнечике».
АПТОРП: Итак, загадка остаётся. Так почему вы сегодня на Бирже, Даниель?
УОТЕРХАУЗ: Скоро узнаете.
РАВЕНСКАР: Быть может, потому что он хочет кое-чем обменяться. Вуаля!
АПТОРП: Что это вы достали из кармана, милорд? Я без очков.
РАВЕНСКАР: Только что из Ганновера. Доктор Лейбниц шлёт вам, Даниель, подписанный экземпляр последних «Учёных записок». Много математических заклинаний с вытянутыми продолговатыми S — впервые вижу!
УОТЕРХАУЗ: Значит, доктор уронил-таки второй башмак, ибо это может быть только интегральное исчисление.
РАВЕНСКАР: А также письма, адресованные вам в собственные руки, а значит, их прочли пока не более десяти человек.
УОТЕРХАУЗ: Позвольте.
АПТОРП: Боже правый, милорд, мистер Уотерхауз не выхватил бы их быстрее, займись они огнём. Обитателям подземного мира следует быть осторожнее с горючими материалами.
УОТЕРХАУЗ: А вот, милорд, только что из Кембриджа, как обещано. Вручаю вам книги первую и вторую «Математических начал натуральной философии» Исаака Ньютона. Побережней, сэр, документы весьма ценные.
АПТОРП: Лопни мои глаза, это закладной кирпич здания или рукопись?
РАВЕНСКАР: Хм! Судя по весу, кирпич.
АПТОРП: В любом случае слишком длинно, слишком длинно.
УОТЕРХАУЗ: Здесь разъясняется Система Мира.
АПТОРП: Вашему приятелю нужен строгий редактор!
РАВЕНСКАР: Только гляньте на эти клятые иллюстрации! Вы представляете, во сколько встанут гравюры?
УОТЕРХАУЗ: Утешайтесь мыслью, что каждая из них экономит тысячу страниц скучных рассуждений, пересыпанных продолговатыми S.
РАВЕНСКАР: Так или иначе, типографские издержки обанкротят Королевское общество!
АПТОРП: Так вот почему мистер Уотерхауз сидит на стуле без banca. Он символически представляет финансовое положение Королевского общества. Опасаюсь, что сейчас у меня попросят денег. Эй! Кто-нибудь из вас слышит, что я говорю?
Молчание.
АПТОРП: Читайте на здоровье, я не в претензии. Так это что-то очень увлекательное?
Молчание.
АПТОРП: Ах, подобно лососю, что на пути к истокам огибает валуны и прыгает через брёвна, мой помощник пробирается обратно ко мне.
Входит приспешник.
ПРИСПЕШНИК: Вы были правы касательно еврея, сэр. Он намерен закупить большое количество определённого товара.
АПТОРП: Сейчас на доске в Амстердаме цена этого товара выше, нежели на нашей жалкой английской дощечке. Еврей хочет купить дёшево здесь и продать дорого там. Что же за товар пользуется таким спросом в Амстердаме?
ПРИСПЕШНИК: Он проявляет интерес к грубому и прочному полотну…
АПТОРП: Парусина! Кто-то строит флот.
ПРИСПЕШНИК: Он спрашивает не парусину, а более дешёвую ткань.
АПТОРП: Для палаток! Кто-то создаёт армию! Быстрее, скупим всё, потребное для войны.
Апторп и его спутники уходят.
РАВЕНСКАР: Так Ньютон трудился над этим?
УОТЕРХАУЗ: Как бы он написал столько, если бы не трудился?
РАВЕНСКАР: Когда я над чем-нибудь тружусь, оно выходит урывками, по кускам, сие же есть единое целое, подобно хитону нашего Спасителя, не сшитому, а тканому нацело… Что он свершит в книге третьей? Воскресит мёртвых и вознесётся на небеса?
УОТЕРХАУЗ: Объяснит орбиту Луны, если вырвет у Флемстида нужные данные.
РАВЕНСКАР: Если Флемстид не даст, я вырву у него ногти! Господи! Вот только послушайте, что за чудо: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны. Если кто нажимает пальцем на камень, то и палец его также нажимается камнем»[17]. Совершенство этого труда очевидно даже мне, Даниель! А как на ваш взгляд?
УОТЕРХАУЗ: Если двигаться дальше в том же направлении, то резонней спросить, как на взгляд Лейбница, ибо он настолько же впереди меня, насколько я впереди вас. Если Ньютон палец, то Лейбниц — камень, и они давят друг на друга с силой равной и противоположно направленной, постепенно возрастающей год от года.
РАВЕНСКАР: Однако Лейбниц не читал этих страниц, а вы читали, так что какой прок в его мнении?
УОТЕРХАУЗ: Я взял на себя смелость изложить самое существенное Лейбницу, посему он и шлёт все эти клятые письма.
РАВЕНСКАР: Однако, полагаю, Лейбниц не посмеет оспаривать столь блистательное сочинение?
УОТЕРХАУЗ: Лейбниц, на свою беду, его не видел. А может быть, и на своё счастье, ибо всякий, увидевший сей труд, будет ослеплён блеском геометрических доказательств, а трудно критиковать сочинение, когда лежишь ниц, закрыв рукою глаза.
РАВЕНСКАР: По-вашему, Лейбниц нашёл ошибку в одном из этих доказательств?
УОТЕРХАУЗ: Нет, в доказательствах Ньютона ошибок быть не может.
РАВЕНСКАР: Не может?
УОТЕРХАУЗ: Как человек, видя яблоко на столе, скажет: «На столе лежит яблоко», так вы, взглянув на чертежи Ньютона, можете сказать: «Ньютон изрёк истину».
РАВЕНСКАР: Тогда я перешлю экземпляр доктору, и, может быть, он вместе с нами падёт ниц.
УОТЕРХАУЗ: Не трудитесь. Лейбниц возражает не против того, что Ньютон сделал, а против того, чего он не сделал.
РАВЕНСКАР: Так, быть может, мы уговорим Ньютона восполнить пробел в книге третьей! Вы имеете на него влияние.
УОТЕРХАУЗ: Не путайте способность раздражать Исаака с влиянием.
РАВЕНСКАР: Тогда мы передадим ему вопросы Лейбница напрямую.
УОТЕРХАУЗ: Вы не осознали суть лейбницевых возражений. Дело не в том, что Ньютон не обосновал какое-то следствие или недостаточно развил некую многообещающую мысль. Вернитесь в начало, ещё до законов движения, и прочтите, что Исаак говорит в «Определениях». Скажу по памяти: «Эти понятия должно рассматривать как математические, ибо я ещё не обсуждаю физических причин и места нахождения сил».
РАВЕНСКАР: Что тут дурного?
УОТЕРХАУЗ: Некоторые возразят, что натурфилософам должно обсуждать физические причины и места нахождения сил! Сегодня утром, Роджер, я сидел в пустом дворе посреди воздушного вихря. Вихрь был невидим; откуда я знал, что он здесь? По движению, которое он сообщал бесчисленным кружащим листкам. Сподобься я принести инструменты, сделать замеры, рассчитать скорость и построить траектории листков и будь я гениален, как Ньютон, я бы свёл все данные в стройную систему воздушного вихря. Однако, будь я Лейбницем, я бы не стал со всем этим возиться. Я бы спросил: «Отчего здесь вихрь?»
АНТРАКТ
Шум за сценой: мрачная процессия движется по Фиш-стрит-Хилл со стороны ЛОНДОНСКОГО ТАУЭРА.
Торговцы выражают изумление и отчаяние из-за того, что процессия вступает на Биржу, нарушая торги.
Выходят два взвода Собственных королевских блекторрентских гвардейцев с мушкетами; к дулам примкнуты недавно принятые на вооружение французской армией длинные багинеты, или штыки. Ими солдаты разгоняют торговцев с середины Биржи и выстраивают концентрическими кругами, как на ярмарочном кукольном представлении.
Входят трубачи и барабанщики, за ними ГЕРОЛЬД, возглашающий казённую галиматью.
Под медленную скорбную каденцию барабанов входит ДЖЕК КЕТЧ в чёрном балахоне. Торговцы стоят в гробовом молчании.
Въезжает телега, запряжённая вороной лошадью, нагруженная связками дров и горшками. По бокам вышагивают ПОДРУЧНЫЕ Джека Кетча. Они сваливают дрова на землю и поливают маслом из горшков.
Входит БЕЙЛИФ с КНИГОЙ, окованной цепью и обвешанной замками.
ДЖЕК КЕТЧ: Именем короля, стой и назови своё имя.
БЕЙЛИФ: Джон Булль, бейлиф.
ДЖЕК КЕТЧ: Изложи своё дело.
БЕЙЛИФ: По велению короля я должен вручить тебе арестанта.
ДЖЕК КЕТЧ: Как зовётся арестант?
БЕЙЛИФ: «История гонений, воздвигнутых на французских гугенотов, с кратким описанием многих кровавых злодеяний, совершённых противу безвинных реформатов в герцогстве Савойском по велению короля Людовика XIV Французского».
ДЖЕК КЕТЧ: Обвинён ли арестант в каком-либо преступлении?
БЕЙЛИФ: Не только обвинён, но и справедливо осуждён за распространение лживых измышлений, попытки возбудить общественное недовольство и гнусную клевету на христианнейшего короля Людовика XIV, доброго друга нашего монарха и верного союзника Англии!
ДЖЕК КЕТЧ: Воистину гнусные преступления! Оглашён ли приговор?
БЕЙЛИФ: Да. Верховный судья лорд Джеффрис повелевает предать арестанта немедленной казни.
ДЖЕК КЕТЧ: Коли так, я приветствую его, как приветствовал покойного герцога Монмутского.
Джек Кетч подходит к бейлифу и берётся за цепь.
Бейлиф выпускает книгу, и она падает в пыль.
Под приглушённую каденцию барабанов Джек Кетч тащит книгу по мостовой, водружает её на груду дров, отступает на шаг и берёт у подручного факел.
ДЖЕК КЕТЧ: Последнее слово, гнусная книга? Нет? Тогда ступай в ад!
Поджигает костёр.
Торговцы, солдаты, музыканты, подручные палача и проч. молча смотрят, как пламя пожирает книгу. Бейлиф, герольд, палач, его подручные, солдаты и музыканты удаляются, оставив за собой дымящуюся груду углей. Торговцы возвращаются к торгам, как будто ничего не случилось, за исключением ЭДМУНДА ПОЛЛИНГА, старика.
ПОЛЛИНГ: Мистер Уотерхауз! Так как вы один прихватили с собой стул, справедливо ли будет допустить, что вы знали о предстоящем постыдном балагане?
УОТЕРХАУЗ: Здесь предполагался невысказанный намёк.
ПОЛЛИНГ: Занятное словцо — «невысказанный»… а как же правда, высказанная покойной книгой о преследовании наших братьев во Франции и Савойе? Осталась ли она невысказанной оттого, что сгорели листы?
УОТЕРХАУЗ: Я слышал немало проповедей, мистер Поллинг, и вижу, куда вы клоните… вы собирались сказать, что подобно тому, как душа, разлучась с телом, воспаряет к небесному Отцу, так и сказанное в этой книге разлетелось вместе с дымом по всем четырём ветрам… Разве вы не собирались в Массачусетс?
ПОЛЛИНГ: Меня удерживал лишь недостаток средств на дорогу, который я бы уже восполнил, если бы Джек Кетч не нарушил естественное течение торгов.
Выходит.
Входит сэр Ричард Апторп.
АПТОРП: Сожжение книг… не это ли излюбленная практика испанской инквизиции?
УОТЕРХАУЗ: Мне не доводилось бывать в Испании, сэр Ричард; что там жгут книги, я знаю лишь по обилию книг, об этом рассказывающих.
АПТОРП: Хм-м… я вас понял.
УОТЕРХАУЗ: Ради всего святого, не говорите «я вас понял» с таким многозначительным видом… я не желаю быть следующим гостем Джека Кетча. Вы неоднократно любопытствовали, почему я сижу на стуле. Теперь вы знаете ответ. Я пришёл посмотреть, как свершится правосудие.
АПТОРП: Вы знали, что произойдёт… вероятно, вы как-то приложили к этому руку. Зачем вы определили местом сожжения Биржу? На Тайберне, в день казни, успех был бы куда больше. Да что там, вы могли бы сжечь целую библиотеку, и чернь бы топала ногами, требуя продолжения.
УОТЕРХАУЗ: Чернь не читает книг. Она бы не поняла сути.
АПТОРП: Если цель — устрашить грамотеев, почему бы не сжечь её в Оксфорде или в Кембридже?
УОТЕРХАУЗ: Джек Кетч ненавидит переезды. В повозке некуда вытянуть ноги, большой топор не помещается в багажное отделение…
АПТОРП: А может быть, дело в том, что учёные мужи не располагают средствами на вооружённый мятеж?
УОТЕРХАУЗ: Ваша правда. Что проку стращать слабых? Лучше грозить сильным.
АПТОРП: Зачем? Чтобы держать их в повиновении? Или подтолкнуть к мятежу?
УОТЕРХАУЗ: Задавая такой вопрос, вы практически спрашиваете, кто я: отступник, предавший дело отцов и развращённый тлетворной атмосферой Уайтхолла, или изменник, сеющий тайную крамолу.
АПТОРП: Да, наверное.
УОТЕРХАУЗ: Тогда извольте задавать вопросы полегче или ступайте своею дорогой. Ибо кто бы я ни был — ренегат или фанатик, — я уже не тот учёный, с которым можно было шутить шутки. Коли вам угодно задавать такие вопросы, задайте их себе; коли желаете получить ответ, раскройте свои тайны, прежде чем выпытывать мои. Если они у меня есть.
АПТОРП: Полагаю, что есть, сэр.
Кланяется.
УОТЕРХАУЗ: Почему вы сняли передо мной шляпу?
АПТОРП: Дабы выразить уважение к вам, сэр, и восхищение тем, кто вас создал.
УОТЕРХАУЗ: Как, Дрейком?
АПТОРП: О нет, я говорю о вашем менторе, Джоне Уилкинсе, епископе Честерском, живом воплощении Януса. Ибо сей достойный муж написал одной рукой «Криптономикон», другой — «Всеобщий алфавит»; будучи добрым другом многих влиятельных кавалеров, женился на сестре самого Кромвеля и был подобен двуликому Янусу во многом другом, чего не стану перечислять. Ибо вы истинно его ученик и творение: то разносите вести, словно Меркурий, то храните тайны, словно Плутон.
УОТЕРХАУЗ: Обличье Ментора принимала Афина, чьим выучеником был сам великий Улисс. Прибегнув к столь строгой классической экзегезе, я стараюсь не расценивать ваши слова как оскорбление.
АПТОРП: Уж сделайте милость, любезный, ибо я ни в коей мере не желал вас оскорбить. Что ж, желаю здравствовать.
Уходит.
Входит Равенскар с «Математическими началами».
РАВЕНСКАР: Я несу их прямиком к печатнику, но по пути задумался про ньютоновы-лейбницевы дела…
УОТЕРХАУЗ: Как?! Представление Джека Кетча вас не впечатлило?
РАВЕНСКАР: А, это? Полагаю, что вы подстроили его, дабы укрепить свою репутацию пуританского лизоблюда при короле и в то же время возбудить недовольство мужей богатых и влиятельных. Простите, что не сказал комплимента. Лет двадцать назад я бы восхитился, но по теперешним моим меркам оцениваю лишь как умеренно закрученную интригу. Про Ньютона и Лейбница куда интереснее.
УОТЕРХАУЗ: Коли так, продолжайте.
РАВЕНСКАР: Декарт давным-давно объяснил, что планеты движутся вокруг Солнца, подобно кружащим в вихре листкам. Посему возражения Лейбница беспочвенны. Загадки нет, и Ньютон ничего не упустил.
УОТЕРХАУЗ: Лейбниц долгие годы пытался осмыслить декартову динамику и наконец сдался. Декарт не прав. Его теория динамики прекрасна чисто математически. Однако стоит сравнить теорию с реальным миром, как она рассыпается в прах. Гипотеза вихрей попросту не работает. Нет сомнений, что всеобщий закон обратных квадратов существует и управляет движением всех небесных тел по коническим сечениям. Однако вихри, небесный эфир и прочая подобная чепуха тут ни при чём.
РАВЕНСКАР: Так что же его определяет?
УОТЕРХАУЗ: Исаак говорит, что Бог или Божье присутствие в материальном мире. Лейбниц — что взаимодействие незримых взгляду частиц.
РАВЕНСКАР: Атомов?
УОТЕРХАУЗ: Атомы — если совсем в двух словах — не могут двигаться и меняться с достаточной скоростью. Вместо них Лейбниц говорит о монадах, которые ещё фундаментальнее атомов. Он не на шутку увлёкся, так что о них мы ещё услышим.
РАВЕНСКАР: Очень странно, ибо в личном письме он мне сообщил, что, опубликовав интегральное исчисление, намерен посвятить себя генеалогии.
УОТЕРХАУЗ: Таковая работа сопряжена с путешествиями, а доктору лучше всего работается в карете. К тому же он может заниматься и тем, и другим одновременно.
РАВЕНСКАР: Иные сочтут, что, занявшись историей, он признаёт своё поражение в схватке с Ньютоном. Я лично не понимаю, зачем ему терять время, выкапывая древние генеалогические деревья.
УОТЕРХАУЗ: Быть может, я — не единственный натурфилософ, способный провернуть «умеренно закрученную интригу».
РАВЕНСКАР: Что вы несёте?
УОТЕРХАУЗ: Откопайте несколько древних генеалогических деревьев, перестаньте считать Лейбница тупым неудачником и пустите в ход свои философические познания: например, что дети сифилитиков часто получают сифилис от родителей и не способны иметь жизнеспособное потомство.
РАВЕНСКАР: Сейчас вы заплываете в опасные воды, Даниель. Не забывайте, что в них обитают чудища.
УОТЕРХАУЗ: Истинная правда, и когда человек достигает той поры в жизни, когда должен сразить чудище, как святой Георгий, или быть проглоченным, как Иона, тут-то он и пускается и плавание.
РАВЕНСКАР: Так вы намерены сразить или быть проглоченным?
УОТЕРХАУЗ: Меня уже проглотили. Либо я сражу чудище, либо оно изблюёт меня на некий участок суши — быть может, в Массачусетс.
РАВЕНСКАР: Ладно. Иду к печатнику, пока вы не напугали меня ещё больше.
УОТЕРХАУЗ: Быть может, это лучшее дело в вашей жизни, Роджер.
Маркиз Равенскарский уходит.
Входит сэр Ричард Апторп, один.
АПТОРП: О горе! Ужасные вести! Страшись, Англия… удел твой — скорбь!
УОТЕРХАУЗ: Что в храме Меркурия ввергло вас в такое уныние? Вы потеряли много денег?
АПТОРП: Нет, заработал, скупая дёшево и продавая дорого.
УОТЕРХАУЗ: Покупая что?
АПТОРП: Ткань для палаток, селитру, свиней и другое, потребное для войны.
УОТЕРХАУЗ: У кого?
АПТОРП: У тех, кто знает меньше меня.
УОТЕРХАУЗ: И продавая кому?
АПТОРП: Тем, кто знает больше.
УОТЕРХАУЗ: Обычная коммерческая сделка.
АПТОРП: Только в придачу я кое-что узнал. И знание это наполняет меня ужасом.
УОТЕРХАУЗ: Так поделитесь им с Плутоном, ибо Плутон ведает все тайны, почти все хранит и купается в страхах, как старый пёс — в лучах летнего солнца.
АПТОРП: Покупатель — король Англии.
УОТЕРХАУЗ: Добрая весть! Король укрепляет нашу оборону.
АПТОРП: С чего, по-вашему, еврей отправился через море покупать полотно здесь?
УОТЕРХАУЗ: Потому что оно здесь дешевле?
АПТОРП: Не дешевле. Однако, покупая полотно в Англии, он экономит на перевозе. Ибо все военные припасы будут доставлены не на поле боя в какой-нибудь далёкой стране. Король намерен использовать их здесь, в Англии.
УОТЕРХАУЗ: Поразительно, ибо здесь нет чужеземцев, с которыми бы следовало воевать.
АПТОРП: Одни англичане, сколько хватает глаз!
УОТЕРХАУЗ: Быть может, король боится иноземного вторжения.
АПТОРП: Вас эта мысль утешает?
УОТЕРХАУЗ: Мысль о вторжении? Ничуть. Мысль, что Колдстримский гвардейский, Гренадерский и Собственный королевский блекторрентский гвардейский полки будут убивать иноземцев вместо англичан — да, немало.
АПТОРП: В таком случае выходит, что всякий добрый англичанин должен всемерно способствовать такому вторжению.
УОТЕРХАУЗ: Давайте осмотрительнее выбирать слова, ибо Джек Кетч сразу за углом.
АПТОРП: Никто не выбирает слова осмотрительнее вас, Даниель.
УОТЕРХАУЗ:
Чтоб братская не проливалась кровь, Пусть мы увидим в битве справедливой У наших берегов голландские суда, В кольце осады наши города. Солдаты, чтоб явить вождю любовь, Кровь чужаков прольют на наши нивы, А если дрогнут, бросив стяг в пыли, То вождь их не годился в короли.Версаль 1687
Д'Аво,
март 1687
Монсеньор!
Наконец-то настоящий весенний день — пальцы оттаяли, и я снова могу писать. Хорошо бы выйти и полюбоваться цветами; вместо этого я шлю письма в страну тюльпанов.
Вам приятно будет узнать, что с прошлой недели во Франции нет нищих. Король объявил нищенство вне закона. Дворяне, обитающие в Версале, обеспокоены. Разумеется, все согласны, что закон прекрасен, но многие сами практически нищи и боятся, как бы он не затронул их.
По счастью — по крайней мере для тех, у кого есть дочери, — мадам де Ментенон открыла девичий пансион в Сен-Сире, в нескольких минутах езды от Версаля. Это несколько осложнило моё положение. Моя воспитанница, дочь маркизы д'Озуар, теперь посещает занятия в пансионе, и я осталась не у дел. Правда, пока речь о том, чтобы меня отослать, не заходила. Я воспользовалась свободным временем, чтобы дважды съездить в Лион и ознакомиться с тамошней коммерцией. По всей видимости, Эдуард де Жекс расхвалил мадам де Ментенон мой педагогический дар, и та вознамерилась определить меня учительницей в Сен-Сир.
Упоминала ли я, что все тамошние учительницы — монахини?
Де Ментенон и де Жекс так преисполнены внешнего благочестия, что я не могу их раскусить и почти готова поверить, будто они подозревают во мне монашеское призвание — другими словами, настолько слепы к мирским делам, что не понимают моей истинной роли. А может быть, они знают, что я управляю капиталами двадцати одного французского дворянина, и намерены меня устранить либо подчинить себе угрозой монастыря.
К делу: прибыль за первый квартал 1687 года вполне удовлетворительная, о чём Вы знаете как клиент. Я объединила все средства в один фонд и инвестировала через надёжных посредников, которые спекулируют определённым товаром или деривативами на акции Голландской Ост-Индской компании. Мы по-прежнему зарабатываем на индийских тканях — благодаря Людовику, который наложил эмбарго на их ввоз и тем взвинтил цены. Однако акции Голландской Ост-Индской компании упали, когда Вильгельм провозгласил Аугсбургскую лигу. Вильгельм на седьмом небе и думает, что теперь-то протестантский союз задаст Франции жару, меж тем его собственный биржевой рынок уверен в обратном. И здешний двор тоже — все потешаются, что Вильгельм, София Ганноверская и прочий побитый морозом лютеранский хлам рассчитывает противостоять Франции. Многие горячие головы считают, что отец де Жекс и маршал де Катина, раздавившие реформатов в Савойе, должны теперь ехать на север и угостить тем же голландцев с немцами.
Сейчас я должна отбросить все личные чувства по поводу политики и думать лишь о том, как эти события отразятся на рынке. Здесь я вступаю на зыбкую почву и подобно кобыле, скачущей по песку, боюсь оступиться и увязнуть. Амстердамский рынок меняется ежеминутно, и я не могу управлять капиталами из Версаля — покупку и продажу осуществляют мои люди на севере.
Однако французским дворянам зазорно вести дела с испанскими евреями и еретиками-голландцами. Посему я подобна деревянной русалке на носу корабля, груженного чужим добром и ведомого смуглыми корсарами. Единственный плюс: русалка видит далеко вперёд, и у неё много времени на раздумья. Помогите мне, монсеньор, по возможности яснее увидеть лежащее впереди море. Похоже, в ближайшие год-два я должна буду поставить капиталы клиентов на кон грядущих великих событий. Инвестировать перед восстанием Монмута было несложно, ибо я знала Монмута и видела, чем всё кончится. Вильгельма я тоже знаю, пусть и не так хорошо, но достаточно, чтобы понимать: я не могу играть против него столь же уверенно. Монмут был деревянной лошадкой, Вильгельм — боевой конь; опыт детской способен лишь подвести при попытке оседлать скакуна.
Посему пишите мне, монсеньор. Рассказывайте мне больше. Можете смело доверять свои тайны бумаге — превосходный шифр надёжно защитит их в дороге — и мне — здесь нет друзей, которым я могла бы их выболтать.
Лишь мелкие умы хотят быть всегда правыми.
Людовик XIVД'Аво,
июнь 1687
Монсеньор!
Жалуясь, что отец де Жекс и мадам де Ментенон намерены сделать меня монахиней, я вообразить не могла, что Вы в ответ ославите меня шлюхой! Герцогиня д'Озуар практически вынуждена ставить у дверей швейцарцев, чтобы оградить Вашу покорную слугу от молодых селадонов. Что за слухи Вы распускаете? Что я нимфоманка? Что первый француз, который меня завоюет, получит тысячу луидоров?
По крайней мере теперь я догадываюсь, кто входит в Чёрный кабинет. В один прекрасный день отец де Жекс стал очень со мною холоден, а Этьенн д'Аркашон, однорукий герцогский сын, явился с визитом, дабы сказать, что не верит распускаемым обо мне слухам. Возможно, хотел ошеломить меня своим благородством; трудно сказать, я очень плохо понимаю его мотивы. С одной стороны, он столь чрезмерно учтив, что иные сомневаются в его рассудке, с другой — видел меня в Опере с Монмутом и знает часть моей истории. Иначе зачем герцогскому сыну тратить время на простую служанку?
Мужчина его ранга и женщина моего могут, не нарушая приличий, появиться вместе лишь в маскараде. Позавчера Этьенн сопровождал меня в Дампьер, замок герцога де Шевреза. Он был одет Паном, я — нимфой. Здесь настоящая придворная дама на нескольких страницах описала бы наряды, а также какими правдами и неправдами они добывались, но поскольку я — не настоящая придворная дама, а Вы — человек занятой, сберегу Ваше время и упомяну лишь, что Этьенн специально заказал себе искусственную руку из самшита. Она сжимала серебряную флейту и была увита плющом (изумрудные листья с рубиновыми ягодами, разумеется). Время от времени он подносил её к губам, и флейта наигрывала мелодию, специально сочинённую для него Люлли.
По дороге в карете Этьенн заметил: «Знаете ли вы, что наш хозяин, герцог де Шеврез, — зять простолюдина Кольбера, генерального интенданта финансов, помимо всего прочего выстроившего Версаль?»
Как вам известно, не первый раз высокопоставленный француз обращает ко мне подобный завуалированный намёк. Первый раз я пришла в необычайное волнение, полагая, что с минуты на минуту стану дворянкой. Затем некоторое время я полагала, что это кусок мяса, который держат перед мордой собаки, чтобы та служила на задних лапках. Однако в тот вечер, направляясь в роскошный замок Дампьер под руку с будущим герцогом, в маске и костюме, на несколько часов освободивших меня от бремени низкого рождения, я вообразила, будто замечание Этьенна — не пустые слова, и если я приложу все старания к чему-то великому, то получу ту же награду, что и Кольбер.
Притворимся, что я подробно описала костюмы, кушанья, убранство зал и увеселения, которые герцог де Шеврез устроил в замке Дампьер. Сэкономленные страницы составили бы небольшую книгу. Сперва все были в несколько подавленном настроении, ибо присутствовал королевский архитектор Мансар, только что узнавший о разрушении афинского Парфенона. Очевидно, турки устроили там пороховой склад, а венецианцы, обстреливая его из мортир, вызвали взрыв. Мансар, всегда мечтавший совершить паломничество в Афины и своими глазами увидеть это прекрасное здание, был безутешен. Этьенн с жаром объявил, что лично поведёт эскадру отцовского флота в Афины и возвратит их христианскому миру. Поскольку Афины стоят не на морском берегу, воцарилось неловкое молчание.
Я решила нанести удар. Никто не знал, кто я, а если бы и догадался, мою репутацию (с Вашей лёгкой руки) уже ничто не могло испортить.
— Мы так расстроены вестью из дальних стран, — сказала я, — но что суть вести, как не слова, и что суть слова, как не воздух?
Послышались смешки: все сочли, что ещё одна дура-герцогиня начиталась Паскаля. Однако мне удалось завладеть общим вниманием (видели бы Вы мой наряд. Вы бы не удивились: лицо моё скрывала плотная ткань, всё остальное — воздушная).
Я продолжала:
— Почему не создать новые по собственному вкусу и не повергнуть в горе наших врагов-голландцев, дабы самим преисполниться радостью и веселием?
Большинство присутствующих остались равнодушны к моим словам, хотя некоторые заинтересовались, особенно один, наряжённый Орионом после того, как Ойнопион его ослепил: маска изображала струящуюся из глазниц кровь. Орион просил меня продолжать, и я сказала: «Мы здесь подвержены сантиментам, ибо обладаем сильными чувствами и страстями; мы скорбим о гибели Парфенона, ибо ценим прекрасное. У амстердамцев вместо чувств — капиталы, и ценят они лишь акции Ост-Индской компании. Мы могли бы разрушить все сокровища античного мира, нимало их тем не опечалив, но если они услышат дурные вести касательно Ост-Индской компании, то упадут духом, вернее, упадут их акции, что для голландцев одно и то же».
— Сдаётся, вы в этом сведущи; скажите же, какая весть будет для них горше всего, — осведомился слепой Орион.
— Ну конечно, падение Батавии — краеугольного камня всей их заморской империи.
К этому времени Орион повернулся ко мне лицом, и нас окружило кольцо костюмированных придворных, ибо не было сомнений, что человек, одетый Орионом, — сам король. Он сказал:
— Дела сыроваров для нас — вульгарная суета; вникать в неё — всё равно что смотреть, как грязное английское мужичьё дерётся на кулачках, и силиться понять правила. Коль так легко обрушить амстердамский рынок, почему он не падает каждый день? Ибо любой может распустить подобный слух.
— Многие и распускают. Весьма обычно для нескольких игроков составить клику и манипулировать рынком в свою пользу. Махинации эти ныне достигли невероятной сложности и подобны замысловатому танцу со множеством движений и па. Однако в конечном счёте все они сводятся к распространению лживых слухов. Клики сходятся и расходятся, как облака на небе, и рынок выработал устойчивость к известиям, особенно к плохим; все игроки убеждены, что дурные вести из-за границы — дело рук очередной клики.
— Как же мы убедим недоверчивых еретиков, что Батавия и впрямь пала? — спросил Орион.
— Мой ответ затруднён тем, что все здесь под масками, — сказала я, — тем не менее есть резон полагать, что интендант Французской Ост-Индской компании (маркиз д'Озуар) и верховный адмирал французского флота (герцог д'Аркашон) присутствуют и слышат мои слова. Людям такого ранга несложно будет уверить французский флот сверху донизу и все порты, от Фландрии до Испании, будто французская эскадра обогнула мыс Доброй Надежды и внезапно овладела Батавией. Весть распространится на север вдоль побережья, как по пороховой дорожке, а когда она достигнет площади Дам…
— Площадь Дам взорвётся, как пороховой бочонок, — заключил Орион. — План изящен, ибо не связан для нас ни с риском, ни с издержками, а Вильгельму Оранскому причинит больше вреда, нежели вторжение пятидесяти тысяч наших солдат.
— И одновременно обогатит тех, кто будет знать о нём заранее и займёт правильную позицию на рынке.
Далее, монсеньор, мне достоверно известно, что на следующее утро Людовик XIV посетил свой охотничий домик в Марли, пригласив с собой герцога д'Аркашона и маркиза д'Озуара.
Что до меня, я весь день отвечала на расспросы французских дворян, желающих знать, какая позиция «правильная». Не упомню, сколько раз я объясняла принцип коротких продаж и то, как с падением акций Голландской Ост-Индской компании обычно дорожает любой товар, ибо деньги перетекают в другой сегмент рынка. А главное, я должна была растолковать, что, если множество французских дворян, новичков на рынке, бросятся играть на понижение акций Голландской Ост-Индской компании и вкладываться в товарные фьючерсы, голландцы сразу поймут, что при дворе Короля-Солнце создана клика. Короче, что подготовительную работу надо вести как можно более хитро и незаметно; другими словами, её надо поручить мне.
Так или иначе, на следующей неделе к северу отправится немало французского золота. Подробности следующим письмом.
Рачительный голландец, зря, сколь несложно выращивать Ягоду и как сия зависит от Земли, Воды и Воздуха не более, нежели в каком ином месте, сделал должный вывод и насадил Кофейное Дерево на острове Яве, близ города Батавии, где оное произрастает и плодоносит ничуть не хуже, чем в Мокке, и теперь поставляет от двадцати до тридцати тонн за раз из Батавии, на пяти градусах южной широты.
Даниель Дефо, «План английской торговли»Лейбницу,
август 1687
Доктор!
«Приумножение»[18] — девиз нынешней поры во Франции; сады и виноградники гнутся под тяжестью плодов, дороги запружены телегами, везущими их на рынок. Наступили мирные времена, солдаты вернулись по домам, чинят свои жилища и брюхатят девок, чтобы народилось следующее поколение солдат. По всему Версалю развернулось строительство, и многие здесь умеренно обогатились или по крайней мере покрыли карточные долги на биржевом кризисе в Амстердаме.
Простите, что не писала столько недель. Шифр требует исключительно много времени, а я была занята махинациями, связанными с «Падением Батавии».
Третьего дня герцогиня д'Уайонна давала приём в саду: главным увеселением было «Падение Батавии» — как теперь известно, мнимое, — разыгранное на канале. Французские «фрегаты» — не больше обычных прогулочных лодочек, но снабжённые парусами и феерически убранные, — атаковали «Батавию», выстроенную на берегу. Голландцы в городе пили пиво и считали золото, пока не уснули. Тут на них и напал игрушечный флот. Голландцы поначалу перепугались, затем пробудились и поняли, что это был сон… однако, вернувшись к своим конторкам, увидели, что золото и впрямь испарилось! Исчезновение золота было хитрым цирковым трюком, изумившим гостей. Затем чудесный флот почти час курсировал по каналу, и все любовались им, столпившись на берегу. Каждый кораблик символизировал некую добродетель, присущую Франции, как то: Воинскую Доблесть, Благочестие и проч., и проч., а капитаном на каждом был герцог либо принц в соответствующем наряде. Проплывая вдоль берега, они пригоршнями швыряли гостям добытое золото.
Дофина была в золотом платье, расшитом… Я видела пресловутого Апнора. Он занимает высокое положение при дворе Якова II и состоит в дружбе со многими здешними господами, ибо детство провёл во Франции. Все спрашивают его о рабыне-протестантке, и он говорит о ней с большой охотой. Воспитание не позволяет ему открыто кичиться, но видно, что он весьма горд своим приобретением. Здесь обращение в рабство английских мятежников сравнивают с французским обычаем отправлять гугенотов на галеры и находят более гуманным, чем то, что произошло в Савойе, где реформатов попросту перебили. Я не знала, верить ли Бобу Шафто, и была потрясена, увидев Апнора во плоти и услышав подтверждение из его уст. По мне, это постыдная история, которую виновник должен всячески скрывать. Сочувствуя бедняжке Абигайль Фром, я тем не менее рада, что так получилось. Если бы рабовладельцы были осмотрительнее и обращали в неволю лишь обитателей чёрной Африки, никто бы и бровью не повёл; я сама не лучше других, ибо кладу в кофе сахар, не вспоминая о неграх, которые взрастили тростник. Куда больше Яков и его присные рискуют, вывозя рабов из Ирландии, пусть даже за преступления. То, что в рабство продали школьниц из английского городка, возбуждает негодование почти везде (за исключением Версаля) и зовёт к мятежу. Слушая Апнора, я ещё больше уверилась, что вскоре Англия возьмётся за оружие. Очевидно, Яков думает так же, судя по тому, что разбил военный лагерь на окраине Лондона и осыпает деньгами любимые полки. Страшусь лишь, что в угаре восстания англичане позабудут о таунтонских школьницах и рабстве вообще… руль и румпель которого были увиты живыми виноградными лозами.
Простите за подробное описание герцогов с их удивительными корабликами. Перечитала несколько страниц и вижу, что непозволительно увлеклась.
Лейбницу,
октябрь 1687
Доктор!
Домашние[19], семья, род — только об этом здесь и разговоров. Как же, спросите Вы, говорят со мною, простолюдинкой? Ответ прост: в этом великолепном дворце целые залы отведены для азартных игр — единственного развлечения здешних дворян. В таких местах правила этикета менее строги, и каждый может обратиться к каждому. Разумеется, самое трудное — попасть в такой салон, однако успех «Падения Батавии» раскрыл для меня некоторые двери (по крайней мере с чёрного хода — я могу входить через двери для слуг), и теперь мне нередко случается обменяться несколькими словами с герцогиней или даже принцессой. Впрочем, я бываю там не так часто, как Вы можете подумать, ибо там только играют, а я не люблю игру, вернее было бы сказать — ненавижу картёжников, но среди тех, кто будет читать это письмо, есть завзятые игроки, и мне следует соблюдать осторожность.
Всё чаще и чаще меня спрашивают о семье. Кто-то пустил слух, что в моих жилах течёт голубая кровь! Надеюсь, Вы в своих генеалогических изысканиях найдёте какое-нибудь тому подтверждение… сделать меня герцогиней куда проще, чем Софию — курфюрстиной. Сейчас от меня зависит столько людей, что статус простолюдинки становится досадной помехой. Им нужен предлог, чтобы даровать мне титул, и тогда уже беседовать со мной, не прибегая к таким ухищрениям, как, например, маскарад.
Третьего дня я играла в бассет с герцогом Бервикским, незаконным сыном Якова II от Арабеллы Черчилль, сестры Джона. Здесь он в большой чести, ибо, как Вы понимаете, его бабкой по отцу была Генриетта-Мария Французская, сестра Людовика XIII… простите генеалогическую болтовню. Не разузнаете ли Вы всё, связанное с чернокнижниками, алхимиками, тамплиерами и сатанистами? Известно, что в начале карьеры Вы морочили богатых алхимиков, притворяясь, будто и впрямь верите в их бред. Тем не менее Вы дружны с неким Енохом Роотом, судя по всему — видным алхимиком. Время от времени за карточным столом возникает его имя. Кто-то пропускает его мимо ушей, однако иные поднимают бровь, кашляют в ладонь, обмениваются многозначительными взглядами и прочая, и прочая, заметно стараясь делать это незаметно. Такое же поведение я наблюдаю в связи с другими оккультными или эзотерическими темами. Все знают, что Версаль кишит сатанистами, отравителями, абортмахерами и проч.; в конце 1670-х многих (но не всех) осудили или изгнали, отчего атмосфера стала лишь ещё более зловещей. Отец герцога Апнорского умер, выпив стакан воды на приёме у герцогини д'Уайонна, чей муж за две недели до того скончался при сходных обстоятельствах, оставив ей титул и состояние. Нет никого, кто бы не подозревал в этих и других случаях действие яда. Апнор и д'Уайонна привлекли бы к себе больше внимания, если бы не множество других отравлений. Так или иначе, Апнор из тех, кто интересуется оккультными вопросами, и постоянно намекает на какие-то свои знакомства в кембриджском Тринити-колледже. Я склонна списать это на прихоть светского щёголя, приевшегося невыносимой скукой и унизительной тщетой Версаля. Однако, поскольку я избрала Апнора своим врагом, мне следует понять, значит ли это что-нибудь? Может ли он навести на меня порчу? Есть ли у него тайные собратья в каждом городе? Кто такой Енох Роот?
Я проведу большую часть зимы в Голландии, так что буду писать Вам оттуда.
Элиза.
Берег Ла-Манша между Гаагой и Схевенингеном декабрь 1687
Никто не забирается так высоко, как тот, кто не знает, куда идёт.
Кромвель— Приятная встреча, брат Уильям, — сказал Даниель, вставая на подножку и запрыгивая в карету, чем до полусмерти напугал пухлолицего англичанина с прямыми тёмными волосами. Пассажир торопливо подтянул к себе край долгополой пуританской одежды, то ли освобождая Даниелю место, то ли брезгуя к нему прикасаться — обе гипотезы правдоподобны. Человек этот дольше Даниеля пробыл в тесных английских тюрьмах и научился как можно меньше мешать другим. Наряд Даниеля был забрызган грязью, платье же пассажира, хоть строгое и чопорное, сверкало чистотой. У брата Уильяма был маленький рот, сейчас — плотно сжатый наподобие заднего прохода.
— Узнал ваш герб, — объяснил Даниель, закрывая дверцу и высовывая в окно руку, чтобы фамильярно по ней похлопать, — и остановил кучера, предположив, что мы едем в один и тот же охотничий домик к одному и тому же джентльмену.
— Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто джентльменом был спервоначала?
— Простите, я должен был сказать, к одному и тому же малому… Как дела в ваших заморских владениях, мистер Пенн? Уладили спор с Мэрилендом?
Уильям Пенн закатил глаза и выглянул в окно.
— Чтобы его уладить, потребуются сто лет и полк землемеров! По крайней мере клятых шведов удалось унять. Все воображают, будто, если я владею величайшим Пенсом в мире, мои дела устроены раз и навсегда… но скажу вам, Даниель, это одна сплошная морока… если грех стремиться к земным благам, лошади там или дверному молотку, то во что я угодил? Это целая новая вселенная греховности.
— Насколько я понимаю, выбор был: либо вы берёте Пенсильванию, либо король остаётся должен вам шестнадцать тысяч фунтов?
Пенн не отвёл взгляд от окна, хотя и сощурился, будто силясь сдержать сильнейший метеоризм, и уставился в какую-то точку за тысячу миль отсюда. Однако они ехали по Голландии, и за окном не было ничего, кроме закругления земли. Под низким зимним солнцем даже галька отбрасывала исполинские тени. Не замечать Даниеля было невозможно.
— Я огорчён, возмущён, взбешён вашим непрошеным появлением! Не желаю вас видеть, брат Даниель, и не будь я пацифистом, забил бы вас камнем до смерти!
— Брат Уильям, столь часто встречаясь в Уайтхолле в присутствии короля и мило беседуя о религиозной терпимости, трудно говорить начистоту; я рад, что вы наконец нашли случай вылить на меня ту желчь, которую столько копили.
— Я, как видите, человек прямой. Может быть, вам следовало чаще высказывать свои истинные мысли, брат Даниель, — всё было бы куда проще.
— Легко говорить со всей прямотой, владея убежищем размером с Италию по ту сторону океана.
— Такой выпад недостоин вас, брат Даниель. Но в ваших словах есть доля правды. И впрямь в самый неподходящий момент я ловлю себя на мыслях о том, что творится на берегах Сасквеханны…
— Верно! И если жизнь в Англии станет совсем уж невыносимой, вам есть куда скрыться. В то время как мне…
Пенн наконец поднял на него глаза.
— Не говорите мне, будто не думали о переезде в Массачусетс.
— Я думаю об этом каждый день. Однако большая часть моих соотечественников такой возможности лишена, и я хотел бы, чтобы мы сумели уберечь Добрую Старую Англию от ещё большей порчи.
Пенн сошёл с корабля в Схевенингене меньше часа назад. Портовый город соединяли с Гаагой несколько дорог и канал. Кучер Пенна поехал вдоль канала, мимо осушенных земель, где сейчас проводились учебные манёвры, и полей, подступавших к самому Бинненхофу.
Карета свернула на гравийную дорогу вдоль неогороженного парка под названием Малифелд, куда в хорошую погоду состоятельные горожане выезжали кататься верхом. Сегодня тут никого не было. На востоке Малифелд переходил в Гаагский лес, очень ухоженный, с многочисленными дорогами для верховой езды. Почти милю карета тряслась по одной из них. Пассажирам уже казалось, что они забрались в дикую глушь, как вдруг гравий под колёсами сменился булыжной мостовой, и они проехали сперва в ворота, затем по разводному мосту через канал. Дальше начинался сад. Карета остановилась перед сторожкой. Даниель успел заметить садовую изгородь и угол аккуратного домика, но тут окно загородила голова и в большей мере шляпа гвардейского капитана.
— Уильям Пенн, — сказал Уильям Пенн. Потом нехотя добавил: — И доктор Даниель Уотерхауз.
Охотничий домик располагался на удачном удалении от Гааги — и ехать недолго, и воздух по-сельски чист. Здесь Вильгельм Оранский не страдал от астмы и в то время года, когда вынужден был оставаться в Гааге, жил в этом домике.
Уотерхауза и Пенна провели в гостиную. На улице было свежо, и хотя в комнате горел жаркий огонь, оба не торопились снимать верхнюю одежду.
В комнате, кроме них, находилась девушка — миниатюрная, с огромными синими глазами; Даниель поначалу принял её за голландку. Услышав, что гости говорят по-английски, она обратилась к ним на французском и что-то объяснила про принца Оранского. Пенн знал французский куда лучше Даниеля, поскольку изгнанником несколько лет провёл в (ныне уничтоженной) протестантской академии Сомюра. Он обменялся с девушкой несколькими фразами, потом сказал Даниелю:
— Сегодня прекрасный день для катания на песчаном паруснике.
— Можно было догадаться по ветру.
— Принц будет только через час.
Англичане стояли перед огнём, пока хорошенько не подрумянились с боков, потом сели в кресла. Девушка, одетая в строгое голландское платье, поставила греться котелок с молоком и принялась дальше хлопотать по хозяйству. Что-то в её облике болезненно задевало Даниеля, и единственным лекарством было смотреть на неё, чтобы выяснить причину тревоги, но чем дольше он смотрел, тем хуже — а может быть, тем лучше, — становилось у него на душе.
Так они и сидели некоторое время. Пенн думал про Аллеганские горы, Уотерхауз пытался понять, что в девушке его мучит. Это походило на свербящее чувство, будто где-то человека встречал, но не помнишь, при каких обстоятельствах, однако он точно знал, что видит её впервые. И тем не менее внутри что-то зудело.
Она сказала Пенну несколько слов. Тот вышел из задумчивости и строго взглянул на Даниеля.
— Девица оскорблена. Она говорит, что, возможно, есть женщины непроизносимого свойства в Амстердаме, которые не прочь, когда на них смотрят; но как смеете вы, гость на голландской земле, позволять себе такую вольность?
— Много же она сказала, в пяти французских словах.
— Она выражалась кратко, ибо верит в мой ум. Я выражаюсь пространно, ибо не верю в ваш.
— Знаете, капитулировать перед королём только из-за того, что он помахал у вас перед носом Декларацией о Веротерпимости — отнюдь не признак ума. Некоторые бы даже сказали, что наоборот.
— Вы и впрямь хотите новой гражданской войны, Даниель? Мы с вами оба выросли во время такой войны. Одни из нас решили двигаться дальше, другим, сдаётся, охота заново пережить детство.
Даниель закрыл глаза и увидел картину, впечатавшуюся в его сетчатку тридцать пять лет назад: Дрейк швыряет мраморную голову святого в витраж, вместо пёстрых стекляшек возникает зелёный английский холм, серебристая изморось влетает в окно, словно Святой Дух, холодит и освежает лицо.
— Вы не понимаете, какой мы можем сделать Англию, если только постараемся. Меня воспитывали на вере в грядущий Апокалипсис. Затем я много лет в него не верил. Однако я плоть от плоти веривших и мыслю так же. Только я зашёл с другой стороны и смотрю с другой точки, как выразился бы Лейбниц. Есть что-то в идее Апокалипсиса: внезапная перемена всего, низвержение старого. Дрейк и другие ошиблись в частностях: заклинились на определённой дате, превратили её в идола. Если идолопоклонство — в поклонении образу вместо первообразного, то именно так они поступили с символическими образами из Откровения. Дрейк и другие подобны птичьей стае, которая, почувствовав что-то, разом взлетает в воздух: дивное зрелище и чудо Божьего мира. Однако они по ошибке залетели в сеть, их возмущение кончилось ничем. Означает ли это, что вообще не следовало расправлять крылья? Нет, они чувствовали верно, просто их подвёл разум. Должны ли мы вечно презирать их за ошибку? Неужто их наследие достойно лишь осмеяния? Напротив, я бы сказал, что теперь мы без особых усилий можем осуществить Апокалипсис… не так, каким мнилось, а лучше.
— Вам правда следовало бы переехать в Пенсильванию, — задумчиво проговорил Пенн. — Вы одарённый человек, Даниель, и некоторые из ваших дарований, за которые вас в Лондоне лишь повесят не до полного удушения, выпотрошат и четвертуют, сделали бы вас видным гражданином Филадельфии — или по крайней мере распахнули бы перед вами двери гостиных.
— Я ещё не разуверился в Англии, спасибо.
— Англия, возможно, охотнее пережила бы ваше разочарование, чем ещё одну Гражданскую войну или ещё одни Кровавые ассизы.
— Большая часть Англии считает иначе.
— Вы можете причислять меня к этой партии, Даниель, но кучке нонконформистов не по силам осуществить перемены, которыми вы грезите.
— Ваша правда… а как насчёт людей, чьи подписи стоят под этими письмами? — Даниель вытащил стопку сложенных бумаг, каждая из которых была обвязана лентой и запечатана воском.
Рот Пенна сжался до размеров пупка, мозг напряжённо работал. Девушка подошла и подала шоколад.
— Не по-джентльменски так меня огорошивать…
— Когда Адам пахал, а Ева пряла…
— Бросьте глумиться. Владение Пенсильванией не подняло меня в очах Господа выше простого бродяги, но служит напоминанием, что со мной лучше не шутить.
— Вот потому-то, брат Уильям, я с риском для жизни пересёк штормовое Северное море и скакал во весь опор по мёрзлой грязи, чтобы перехватить вас до встречи с вашим будущим королём. — Даниель вытащил гуковы часы и повернул к свету циферблат из слоновой кости. — Вы ещё успеете написать своё письмо и положить сверху на эту стопку.
* * *
— Я намеревался спросить, известно ли вам, сколько людей в Амстердаме жаждет вас убить… однако, приехав сюда, вы ответили на мой вопрос: «Нет», — сказал Вильгельм, принц Оранский.
— Вы получили моё предупреждение в письме к д'Аво, не так ли?
— Оно еле-еле поспело… главный удар пришёлся по тем крупным акционерам, которых я не стал предупреждать.
— Франкофилам?
— Ну, этот рынок совершенно подорван, мало кто из голландцев теперь продаётся французам. Сегодня мои враги — те, кого можно назвать политически недальновидными. Так или иначе, ваша батавская шарада доставила мне уйму хлопот.
— Первоклассный источник сведений при дворе Людовика XIV не мог обойтись дёшево.
— Ваш убогий трюизм легко вывернуть наизнанку: сведения, купленные столь дорого, обязаны быть первоклассными. К слову, что вы узнали от двух англичан? — Вильгельм взглянул на грязную ложку и раздул ноздри. Юный слуга-голландец, куда красивей Элизы, засуетился и принялся убирать свидетельства того, что здесь долго пили горячий шоколад. Звон чашек и ложек, казалось, досаждал Вильгельму больше грохота канонады на поле боя. Он откинулся в кресле, закрыл глаза и повернулся лицом к огню. Мир для него представал тёмным подвалом с натянутой внутри хрупкой, как паутина, сетью тайных каналов, по которым время от времени поступают слабые шифрованные сигналы: огонь, открыто рассылающий во все стороны явное тепло, был своего рода чудом, явлением языческого божества средь готического храма. Лишь когда слуга закончил уборку и в комнате снова стало тихо, морщины на лице принца слегка разгладились. Он не достиг ещё и сорока лет, но выглядел и вёл себя как человек преклонного возраста: солнце и солёные брызги преждевременно состарили кожу, сражения испортили характер.
— Оба верят в одно и то же и верят искренне, — сказала наконец Элиза, имея в виду двух англичан. — Оба прошли через горнило страданий. Сперва я думала, что толстый свернул с пути. Однако худой так не считает.
— Быть может, худой наивен.
— Он наивен в ином. Нет, оба принадлежат к одной секте или чему-то в таком роде — они знают и узнают друг друга. Они испытывают взаимную неприязнь и стремятся к разному, однако предательство, продажность и отступление от избранной цели для них немыслимо. Это та же секта, что у Гомера Болструда?
— И да, и нет. Пуритане — как индуисты, бесконечное разнообразие, а по сути одно и то же.
Элиза кивнула.
— Чем вас так завораживают пуритане?
Вопрос прозвучал неласково. Вильгельм подозревал какую-то детскую слабость, некий оккультный мотив. Элиза взглянула на него, как девочка, которую переехало телегой. От такого взгляда большинство мужчин распалось бы, словно варёная курица. Не сработало. Элиза видела, что Вильгельм окружает себя красивыми мальчиками. Однако у него была и любовница, англичанка Элизабет Вилльерс, умеренно красивая, зато очень умная и острая на язык. Принц Оранский никогда не позволил бы себе такую слабость, как зависимость от одного пола, любые чувства, которые внушала ему Элиза, он мог с лёгкостью направить на прислужника, как голландский крестьянин, открывая и закрывая шлюз, направляет воду на то или иное поле. А возможно, он лишь старался произвести такое впечатление, окружая себя красавчиками.
Элиза чувствовала, что допустила опасный промах. Вильгельм нашёл в ней изъян, и если она немедленно не рассеет его подозрений, запишет её в недруги. И если Людовик держит врагов в золочёной клетке Версаля, то Вильгельм, надо полагать, расправляется со своими куда проще.
Элиза решила, что сказать правду — не самое плохое.
— Я нахожу их занятными, — проговорила она наконец. — Они так не похожи на других. Такие странные. Однако они не простачки — в них есть пугающее величие. Кромвель был лишь прелюдией, упражнением. Пенн владеет немыслимо огромными землями. Нью-Джерси также принадлежит квакерам, и различные пуритане закрепились по всему Массачусетсу. Гомер Болструд говорил поразительнейшие вещи, низвержение монархии из них — самая заурядная. Он говорил, что негры и белые равны перед Богом, что с рабством надо покончить повсеместно и что его единоверцы не успокоятся, пока не убедят всех в своей правоте. «Сперва мы склоним на свою сторону квакеров, ибо они богаты, — сказал он, — потом других нонконформистов, затем англикан, следом католиков, а там и весь христианский мир».
Покуда Элиза говорила, Вильгельм перевёл взгляд на огонь, показывая, что верит ей.
— Ваша одержимость неграми внушает удивление. Однако я заметил, что лучшие люди частенько обладают той или иной странностью. Я взял себе за правило выискивать их и не доверять тем, у кого странностей нет. Ваши несуразные идеи по поводу рабства мне глубоко безразличны. Однако то, что у вас есть взгляды, внушает к вам некоторое, пусть и малое, доверие.
— Если вы доверяете моему мнению, обратите внимание на худого пуританина.
— Однако у него нет ни обширных владений в Америке, ни денег, ни последователей!
— Потому на него и следует обратить внимание. Готова поспорить, у него был властный отец и, наверное, старшие братья. Его постоянно проверяли и тюкали. Он никогда не был женат, не самоутвердился даже в такой малости, как рождение сына, и теперь достиг той поры, когда либо что-то свершит, либо уже не свершит никогда. Всё это смешалось в его голове с грядущим восстанием против английского короля. Он решил поставить на успех восстания свою жизнь; не в смысле — жить или умереть, а в смысле — добьётся в ней чего-нибудь или нет.
Вильгельм поморщился.
— Никогда не заглядывайте так глубоко в меня.
— Почему? Может быть, вам это было бы на пользу.
— Нет, нет, вы уподобляетесь члену Королевского общества, режущему живую собаку, — вы преисполнены холодной жестокости.
— Я?! А вы? Воевать — доброта?
— Для многих легче получить стрелу в грудь, чем выслушать ваше описание.
Элиза невольно рассмеялась.
— Не думаю, что жестоко описываю худого. Напротив, я верю, что он преуспеет. Судя по стопке писем, за ним стоят влиятельные англичане. Завербовать столько сторонников, оставаясь в такой близости к королю, очень трудно.
Элиза надеялась, что сейчас Вильгельм хотя бы отчасти проговорится, чьи это письма. Однако он едва ли не с первых слов разгадал её игру и отвёл взгляд.
— Безумно опрометчиво, — сказал он. — Не знаю, стоит ли полагаться на человека, затеявшего столь отчаянный план.
Наступила тишина. Одно из поленьев в камине с шипением и треском рассыпалось на угольки.
— Вы хотите мне что-то в связи с ним поручить?
Снова молчание, однако теперь бремя ответа лежало на Вильгельме. Элиза, отдыхая, изучала его лицо. Судя по всему, роль испытуемого ему не нравилась.
— У меня для вас важное дело в Версале, — признал он. — Я не могу отправлять вас в Лондон возиться с Даниелем Уотерхаузом. Впрочем, что касается него, в Версале вы будете даже полезней.
— Не понимаю.
Вильгельм широко открыл глаза, набрал в грудь воздуха и выдохнул, прислушиваясь к своим лёгким. Потом выпрямился, хотя его маленькое поджарое тело всё равно утопало в кресле, и взглянул на огонь.
— Я могу сказать Уотерхаузу, чтобы он был осмотрительнее. Он ответит: «Да, сир», но то лишь слова. Он не будет по-настоящему осторожен, пока ему не для чего жить.
— И вы хотите, чтобы я дала ему этот смысл.
— Я не могу потерять его. И тех, кто поставил свою подпись под письмами, из-за того, что однажды ему станет безразлично, жить или умереть. Ему нужна причина, чтобы цепляться за жизнь.
— Не вижу сложностей.
— Вот как? Я не могу придумать предлога, чтобы свести вас в одной комнате.
— У меня есть ещё одна странность, сир. Я увлекаюсь натурфилософией.
— Ах да. Вы остановились у Гюйгенса.
— А сейчас в городе находится ещё один друг Гюйгенса, швейцарский математик Фатио. Он молод, честолюбив и отчаянно хочет вступить в Королевское общество. Даниель Уотерхауз — секретарь Общества. Я устрою обед.
— Имя Фатио мне знакомо, — рассеянно произнёс Вильгельм. — Он назойливо добивается аудиенции.
— Я выясню, что ему нужно.
— Отлично.
— А что касательно остального?
— Простите?
— Вы упомянули, что у вас для меня важное дело в Версале.
— Да. Зайдите ещё раз перед отъездом, и я объясню. Сейчас я утомился, устал говорить. То, что вам предстоит сделать, очень существенно, от этого зависит всё остальное. Я должен собраться с мыслями, прежде чем давать вам указания.
Г-н Декарт умеет весьма правдоподобно подавать свои умопостроения и выдумки. С тем, кто читает его «Начала философии», происходит то же, что с читателем романов, которые доставляют удовольствие и производят впечатление подлинных историй. Образы мельчайших частиц и вихрей увлекают своей новизной. Когда я читал его книгу… впервые, мне казалось, будто всё превосходно обосновано; сталкиваясь с затруднениями, я полагал, что недостаточно хорошо понял его мысль… Однако со временем, обнаруживая вновь и вновь утверждения явно ложные или весьма сомнительные, я полностью избавился от былого преклонения и теперь не нахожу в его физике ничего, что могу принять как истину.
Гюйгенс, «Концепция силы в ньютоновой физике: динамика в семнадцатом столетии», Уэстфолл, 1971 г., стр. 186Христиан Гюйгенс сидел во главе стола, в перигелии эллипса, Даниель Уотерхауз — напротив него, в афелии. Элиза и Николя Фатио де Дюийер — друг напротив друга посередине. Обед — жареного гуся, ветчину и овощи — подавали члены семьи, давно превратившиеся в слуг. Где кому сидеть, Элиза продумала заранее. Уотерхауза с Гюйгенсом нельзя было сажать рядом — они бы замкнулись на себя и больше ни с кем не разговаривали. Так получилось лучше; Фатио хотел говорить только с Уотерхаузом, Уотерхауз — только с Элизой, Элиза притворялась, будто слушает только Гюйгенса, и в итоге разговор шёл вокруг стола по часовой стрелке.
Приближалось зимнее солнцестояние, солнце зашло в середине дня. Лица, освещённые натюрмортом из свечей в заплывших воском бутылях, висели во тьме, словно луны Юпитера. Тиканье часовых механизмов в дальнем конце комнаты сперва отвлекало, потом стало частью материи пространства, словно биение собственных сердец: они слышали его, только когда хотели, и тем не менее оно постоянно напоминало о ходе времени. Трудно быть дикарём в окружении стольких часов.
Даниель Уотерхауз пришёл первым и сразу извинился перед Элизой, что в прошлый раз принял её за служанку. Она встретила его извинения ехидной улыбкой и ничего объяснять не стала. То был самый заурядный флирт; в Версале любой, удостоивший его внимания, лишь закатил бы глаза. Однако Уотерхауз пришёл в полный ужас. Элизу это слегка встревожило.
Он попытался сделать новый заход.
— Мадемуазель, я был бы менее чем…
— О, говорите по-английски! — перебила Элиза по-английски. Собеседник едва не лишился чувств: сперва от удивления, что она говорит на его языке, затем — от испуга, что она слышала их с Пенном разговор.
— Так что вы хотели сказать? — продолжала она.
Он попытался вспомнить, что говорил. В человеке вдвое моложе такое смущение казалось бы даже милым, сейчас же Элиза с ужасом гадала, что будет, когда первая графиня, получившая выучку при французском дворе, запустит в него когти. Вильгельм прав: Даниель Уотерхауз — подводный риф, опасность для навигации.
— Э-э… я был бы менее чем честен… э-э… — Он поморщился. — По-французски это звучало галантно. По-английски — напыщенно. Я хотел спросить… при том, сколь сложны отношения между нашими странами и тем паче — между мужчинами и женщинами, а также не будучи силён в этикете… могу ли я сыскать предлог беседовать с вами и писать вам письма, не нарушая общественных приличий?
— Вам мало этого обеда? — кокетливо-обиженно произнесла она, и тут вошёл Фатио. На самом деле Элиза видела, как он идёт через Плейн, и соответственно подгадала время разговора. Уотерхауз вынужден был стоять в сторонке и мысленно пересчитывать свои оплошности, покуда Элиза и Фатио разыгрывали ритуал точно как в версальском салоне Аполлона. В нём было много от придворного танца, но с обертонами дуэли: они прощупывали друг друга, посылая сигналы, зашифрованные в наряде, интонации либо жесте, и с пристальностью фехтовальщиков примечали: заметил ли противник и как отреагировал. Элиза, только что от двора Короля-Солнце, была в превосходящем положении, оставалось лишь выяснить, какой приём оказать Фатио. Будь он католик, француз, титулованный, вопрос бы решился до того, как он вошёл в дверь. Однако он был протестант, швейцарец, незнатного дворянского рода. Никто не назвал бы его красавцем; из-под высокого выпуклого лба смотрели огромные голубые глаза, однако нижняя половина лица была мелковата, острый нос напоминал клюв, а во всей внешности сквозила мучительная настороженность пойманной в силок птицы.
В какой-то миг Фатио оторвал взгляд голубых глаз от Элизы и затеял такой же танец-поединок с Уотерхаузом. Опять-таки, будь Фатио член Королевского общества или доктор какого-нибудь университета, Уотерхауз знал бы, как к нему относиться, а так Фатио приходилось извлекать рекомендации из воздуха, роняя имена разоблачённых им шарлатанов, названия прочитанных книг, решённых задач, проделанных опытов и увиденных существ.
— Я почти ожидал встретить здесь Еноха Роота, — произнёс он на определённом этапе, — ибо один мой, гм, знакомец, любитель, гм, химии, поделился со мной слухом — учтите, всего лишь слухом, — будто человек сходной наружности третьего дня сошёл с корабля, прибывшего по каналу из Брюсселя.
Размазывая свою новость всё более тонким слоем, Фатио несколько раз устремлял взор на Даниеля. Некоторые французские придворные давно бы подмигнули и погладили усы, Уотерхауз лишь смотрел неподвижным взглядом василиска.
Больше Фатио об алхимии не заикался, с этого момента беседа шла только о математике и последней работе Ньютона. Элиза слышала и от Лейбница, и от Гюйгенса, что Ньютон написал нечто такое, от чего все другие натурфилософы попрятали головы между колен и не смеют больше взяться за перо, она понимала, почему Фатио свернул в эту сторону. Тем не менее он временами обращался к Элизе, поддерживая светское течение беседы. Все эти экзерсисы Фатио выполнял без малейших усилий, что делало честь и его выучке, и общему балансу гуморов. И всё же смотреть, как он отчаянно карабкается вверх, было утомительно. Едва переступив порог, молодой математик завладел разговором, до конца вечера все только и делали, что реагировали на Фатио. Элизе это было на руку, поскольку раздражало Уотерхауза, а ей давало возможность спокойно наблюдать. Она не могла понять одного, из какого источника Фатио черпает свой завод. Он и впрямь был самыми громкими и быстрыми часами в комнате, словно у него внутри свёрнутая пружина. И не проявлял никакого мужского интереса к Элизе, что тоже её устраивало: она ясно видела, что в ухаживаниях он крайне назойлив.
Почему они просто не прогнали Фатио и не пообедали в своё удовольствие. Потому что он обладал истинными достоинствами. Поначалу, увидев человека, столь явно стремящегося произвести впечатление, Элиза и, судя по всему, Уотерхауз склонны были счесть его позёром. Однако это было не так. Поняв, что Элиза не католичка, он нашёл, что сказать интересного про религию и состояние французского общества. Выяснив, что Уотерхауз — не алхимик, он заговорил о математических функциях, да так, что англичанин сразу встрепенулся. Даже Гюйгенс, когда наконец продрал глаза и спустился в гостиную, явственно показал, что видит в Фатио равного — во всяком случае, человека, настолько близкого к его уровню, насколько вообще можно приблизиться к Гюйгенсу.
— Человек моих юных лет и скромных достижений не может в полной мере воздать честь мужу, сидевшему однажды за этим столом…
— Вообще-то Декарт обедал за этим столом не однажды, а многажды! — прогремел Гюйгенс.
— …и предложившему объяснять физическую реальность с помощью математики, — заключил Фатио.
— Вы не стали бы так рассыпаться в похвалах, если бы не собирались сказать что-то против него, — заметила Элиза.
— Не против него, а против некоторых сегодняшних его эпигонов. Проект, начатый Декартом, закрыт. Вихри никуда не годятся. Удивлён, что Лейбниц по-прежнему возлагает на них какие-то надежды.
Все за столом чуточку выпрямились.
— Возможно, у вас более свежие вести от Лейбница, чем у меня, сударь, — сказал Уотерхауз.
— Вы оказываете мне незаслуженную честь, доктор Уотерхауз, предполагая, будто доктор Лейбниц сообщит о своих новых прозрениях мне до того, как отослать их в Королевское общество! Пожалуйста, поправьте меня.
— Дело не в том, что Лейбниц так уж привязан к вихрям, а в том, что он не может поверить в загадочное действие на расстоянии.
Услышав эти слова, Гюйгенс поднял руку, словно пытался остановить время. Жест его не ускользнул от Фатио. Уотерхауз продолжал:
— Действие на расстоянии есть некое оккультное понятие — быть может, и привлекательное для определённого рода умов…
— Но не для тех из нас, кто принял механическую философию, которую господин Декарт проповедовал за этим самым столом!
— Сидя в этом самом кресле, сударь! — возгласил Гюйгенс, указуя на Фатио жареной куриной ножкой.
— Я создал свою теорию гравитации, которая объясняет закон обратной квадратичной зависимости, — сказал Фатио. — Как от камня, брошенного в воду, расходятся круги, так и планеты производят концентрические возмущения небесного эфира, давящие на спутники…
— Запишите это, — сказал Даниель, — и пришлите ко мне. Мы напечатаем вашу гипотезу вместе с гипотезой Лейбница, и пусть верх возьмёт более сильная.
— С благодарностью принимаю предложение! — Фатио быстро взглянул на Гюйгенса, словно проверяя, слышал ли тот слова Уотерхауза и сможет ли их потом подтвердить. — Однако, боюсь, мы утомили мадемуазель Элизу.
— Ничуть, мсье, мне интересно всё, что имеет отношение к доктору.
— Есть ли тема, которая так или иначе не касается Лейбница?
— Алхимия, — мрачно произнёс Уотерхауз.
Фатио, чьей главной целью сейчас было вовлечь Элизу в разговор, оставил эту реплику без внимания.
— Я гадаю, уж не рука ли доктора угадывается за созданием Аугсбургской лиги.
— Полагаю, нет, — сказала Элиза. — Лейбниц давно мечтает объединить католическую и лютеранскую церковь и предотвратить новую Тридцатилетнюю войну. Аугсбургская лига больше похожа на подготовку к войне. Таковы устремления не доктора, а Вильгельма Оранского.
— Защитника протестантской веры, — присовокупил Фатио. Элиза привыкла слышать это сочетание, приправленное ядом французского сарказма, но Фатио произнёс его тщательно, словно натурфилософ, оценивающий недоказанную гипотезу. — Нашим соседям в Савойе не помешал бы защитник, когда де Катина прошёл по стране огнём и мечом. Да, тут я расхожусь с доктором, при всём уважении к его благим намерениям, нам и впрямь нужен защитник, и Вильгельм Оранский будет в этой роли весьма хорош, если не угодит в лапы к французам. — При последних словах он выразительно взглянул на Элизу.
Гюйгенс хохотнул.
— Дело несложное, учитывая, что он никогда не покидает голландскую почву.
— Однако побережье длинно и по большей части безлюдно. Французы высадят своих людей, где захотят.
— Французский флот не сможет незаметно подойти к голландскому берегу, — отвечал Гюйгенс, явно забавляясь такой мыслью.
По-прежнему наблюдая за Элизой, Фатио сказал:
— Я не говорю о флоте. Довольно будет одной яхты, полной головорезами.
— И что эти головорезы сделают против голландской армии?
— Если они встанут лагерем на берегу и будут дожидаться армии, им несдобровать, — сказал Фатио. — Однако если они подойдут к тому участку побережья, где Вильгельм катается на песчаном паруснике, в нужное время дня, то смогут в несколько минут перекроить карту и переписать историю Европы.
Несколько минут не было слышно ничего, кроме часов. Фатио по-прежнему смотрел на Элизу большими голубыми глазами — исполинскими линзами, которые словно вобрали в себя весь свет в комнате. Чего они не знают или о чём не догадывается их обладатель?
С другой стороны, каких только уловок не измыслит мозг, а глядя в такие глаза, кто не попадётся в их ловушку?
— Умно придумано. Похоже на главу из авантюрного романа, — сказала Элиза.
Высокий лоб Фатио собрался морщинами, взгляд, секунду назад столь проницательный, сделался молящим. Элиза взглянула на лестницу.
— Теперь, когда Фатио нас развлёк, быть может, господин Гюйгенс расширит наш кругозор?
— Как мне трактовать ваши слова? — полюбопытствовал Гюйгенс. — Последний раз, когда вы в этом доме расширяли кругозор своего гостя, мне пришлось отводить глаза.
— Пригласите нас на крышу, откуда мы увидим звёзды и планеты, и расширьте наш умственный кругозор, показав нам в телескоп новые явления природы, — спокойно отвечала Элиза.
— Ту же просьбу вы могли бы обратить к любому из присутствующих мужей, ибо я ничем не выше их, — сказал Гюйгенс.
Некоторое время Уотерхауз и Фатио состязались с ним в самоуничижении, затем все облачились в зимнее платье и поднялись на крышу. Небо замутнял лишь морозный пар изо рта. Гюйгенс закурил глиняную трубку. Фатио, помогавший ему прежде, с напряжённой точностью колибри расчехлил большой ньютоновский телескоп, одновременно прислушиваясь к Уотерхаузу и Гюйгенсу, беседующим об оптике, и поглядывая на Элизу, которая прогуливалась вдоль парапета, любуясь видами. На востоке лежал тёмный Гаагский лес, на юге дымились трубы и сияли окна Хофгебейда. На западе открытая всем ветрам площадь Плейн тянулась до Гренадерских ворот Бинненхофа. Много воска и ворвани жгли там в ту ночь, освещая торжество в большом зале. Для приглашённых на празднество молодых дам иллюминация была невиданной роскошью. Для Гюйгенса — досадной помехой: от множества ламп и свечей влажный воздух дрожал слабым рассеянным светом, неразличимым для большинства людей, однако губительным для наблюдений.
Через несколько минут старшие мужчины принялись наводить телескоп на Сатурн, отчётливо видимый вне зависимости оттого, сколько свеч жгут в Бинненхофе. Фатио подошёл к Элизе.
— Давайте не будем церемониться и поговорим напрямую, — сказала она.
— Как желаете, мадемуазель.
— Яхта и головорезы — ваше измышление или…
— Скажите, ошибаюсь ли я: каждое утро, если погода не совсем ужасна и ветер дует с моря, принц Оранский в десять часов отправляется на окраину Схевенингена, берёт песчаный парусник и мчит вдоль побережья до дюн у Катвейка, хотя в погожие дни он доезжает до самого Нордвейка, затем поворачивает назад и возвращается в Схевенинген к полудню.
Не желая радовать Фатио подтверждением его правоты, Элиза отвечала:
— Вы изучали привычки принца?
— Не я. Граф Фениль.
— Фениль… я слышала это имя в салоне герцогини д'Уайонна. Он из тех мест, где сходятся Швейцария, Савойя, Бургундия и Пьемонт.
— Да.
— Католик, франкофил.
— Он савояр по имени, но очень рано понял, что Людовик XIV затмит герцога Савойского и поглотит его земли, поэтому стал больше французом, чем сами французы, и поступил в армию Лувуа. Это одно должно было доказать французскому королю его верность. Однако после того, как французская армия продемонстрировала свою силу на самом пороге его страны, Фениль, очевидно, счёл, что надо выслужиться как-то ещё. Он составил план, о котором я вам рассказывал: похитить Вильгельма и доставить во Францию в цепях.
Они остановились на углу крыши, откуда открывался вид на Плейн и на Бинненхоф. Когда д'Аво впервые привёл сюда Элизу кататься на коньках, дворец выглядел в её глазах великолепным, по крайней мере по европейским меркам. Теперь она привыкла к Версалю, и Бинненхоф казался ей дровяным сараем, невзирая на множество огней. Там сейчас должен быть Уильям Пенн, а также другие члены дипломатического корпуса, включая д'Аво. Он пригласил Элизу сопровождать его; она сперва согласилась, потом переменила решение ради сегодняшнего обеда. Посол был недоволен и задавал неприятные вопросы. После того, как он завербовал её и отправил в Версаль, их отношения приняли характер вассальной зависимости. Не раз д'Аво показывал Элизе свою жестокую, мстительную сторону, главным образом через завуалированные намёки, чем чревато для неё его недовольство. Элиза подозревала, что именно д'Аво сообщил Фенилю о привычках Вильгельма.
Зима стояла тёплая, и Хофвейвер перед Бинненхофом лежал чёрным, ещё не замёрзшим прямоугольником; порывы ветра дробили отражение праздничных фонарей. Элиза вспомнила своё собственное похищение на берегу и едва не заплакала. Фатио мог говорить правду, а мог лгать, но вместе с недавними угрозами д'Аво слова швейцарца наполнили её сердце щемящей тоской — не связанной с каким-либо человеком, планом или событиями; просто тоской, чёрной, как вода, поглощающая весь свет.
— Откуда вам известно, что на уме у графа де Фениля?
— Несколько недель назад я навещал отца в Дюийере — нашем швейцарском поместье. Фениль в то же время нанёс ему визит. Мы вышли прогуляться, и он рассказал мне то, что я сейчас передал вам.
— Он должен быть совсем безмозглым, чтобы говорить об этом открыто.
— Допускаю. Хотя в той мере, в какой его главная цель — поднять свой престиж, чем больше он говорит, тем лучше.
— Очень необычный план. Граф изложил его кому-нибудь, кто способен его оценить?
— Да, маршалу Лувуа, который в ответ прислал письмо и велел начинать приготовления.
— Как давно это было?
— Достаточно давно, мадемуазель, чтобы закончить все приготовления.
— Так вы приехали, чтобы предупредить Вильгельма?
— Я всеми силами пытаюсь его предупредить, — сказал Фатио, — но он не даёт мне аудиенцию.
— Непонятно, зачем вы обратились ко мне. С чего вы взяли, будто принц Оранский станет меня слушать? Я живу в Версале, занимаюсь тем, что инвестирую капиталы придворных французского короля. Время от времени я езжу сюда посоветоваться с агентами, а также встретиться с моим добрым другом и клиентом д'Аво. Откуда вы взяли, будто я как-то связана с Вильгельмом?
— Довольно сказать, что я это знаю, — спокойно отвечал Фатио.
— Кто ещё знает?
— Кто ещё знает, что тело, подчиняющееся закону обратных квадратов, движется по коническому сечению? Что между кольцами Сатурна есть щель?
— Всякий, кто читает «Начала» и смотрит в телескоп, соответственно.
— И способен проникнуть в то, что прочёл или увидел.
— Да, из тех, кто владеет книгой Ньютона, мало кто может её понять.
— Истинная правда, мадемуазель. Подобным же образом всякий может вас видеть или слушать сплетни о вас, но, чтобы извлечь из этого истину, нужны дарования, которыми Господь одаряет немногих.
— Так вы узнали обо мне от своих собратьев? Они есть при каждом дворе, в каждой церкви и в каждом университете и узнают друг друга по тайным словам и знакам. Пожалуйста, не темните со мной, Фатио, это так утомляет.
— Темнить? Я и в мыслях не посмел бы оскорбить женщину вашего ума. Да, скажу без утайки, что принадлежу к эзотерическому братству, в рядах которого немало людей знатных и влиятельных, что самая цель этого братства — обмениваться знаниями, которые нельзя открывать профанам, и что из этого-то источника я и знаю про вас.
— Выходит, милорд Апнор и прочие господа, справляющие нужду в коридорах Версаля, знают о моих связях с Вильгельмом Оранским?
— Среди них большинство — позёры, не обладающие истинной способностью к пониманию. Не меняйте своих планов, вообразив, будто они смогут проникнуть в то, во что проник я.
Ответ не слишком успокоил Элизу. Она не ответила, и Фатио вновь взглянул на неё с мольбой. Она отвернулась — в противном случае пришлось бы фыркнуть и закатить глаза — и посмотрела на Плейн. Её внимание привлекла высокая фигура в длинном плаще, с рассыпанными по плечам серебристыми волосами. Человек вышел из Гренадерских ворот, словно только что с торжества. Он прокричал, выпуская изо рта облачко морозного пара:
— Как видимость?
— Много лучше, чем мне бы хотелось, — отвечала Элиза.
— Очень, очень плохо, господин Роот, из-за нашего беспокойного соседа.
— Не отчаивайтесь, — крикнул Енох Красный. — Полагаю, что сегодня ночью Пегас украсится метеором; обратите свой телескоп в ту сторону.
Элиза и Фатио обернулись к телескопу, стоявшему на противоположном углу крыши, где Гюйгенс и Уотерхауз не могли ни видеть, ни слышать Еноха Роота. Когда они снова посмотрели вниз, Роот уже повернулся спиной и пропал в одной из улочек Хофгебейда.
— Какая досада! Я хотел пригласить его сюда… должно быть, он с праздника в Бинненхофе, — сказал Фатио.
Элиза про себя закончила мысль: «Где по-свойски общался с моими собратьями при голландском дворе — теми самыми, что не смогли промолчать насчёт вас, Элиза».
Фатио взглянул на Полярную звезду.
— Полночь миновала, что бы ни говорили вам церковные колокола.
— Откуда вы знаете?
— Читая положение звёзд. Пегас далеко на западе, вон там. Через два часа он уйдёт за горизонт. Ужасное место для наблюдений! К тому же метеоры проносятся так быстро, что на них не успеваешь навести телескоп… что он имел в виду?
— Так это образчик того, как общаются в вашем эзотерическом братстве? Немудрено, что алхимики знамениты главным образом взрывами в собственных домах, — сказала Элиза, отчасти довольная, что заглянула одним глазком в загадку и не увидела там ничего, кроме намеренной каверзности.
Почти час они разглядывали и обсуждали щель между кольцами Сатурна, названную в честь французского королевского астронома Кассини. — Фатио объяснял её математически. Другими словами, Элизе было холодно, скучно и одиноко. В окуляр мог смотреть только один человек, а мужчины, совершенно забыв про учтивость, ни разу не подпустили её к трубе.
Потом Фатио уговорил остальных навести телескоп на созвездие Пегаса, вернее, на те несколько звёзд, что ещё не утонули в Северном море. Пегас занимал их куда меньше Сатурна, поэтому они уступили Элизе инструмент, и та могла сколько угодно поворачивать трубу, выискивая предсказанный метеор.
— Что-нибудь разглядели, мадемуазель? — спросил в какой-то момент Фатио, заметив, что Элиза взялась задубевшими пальцами за верньер.
— Облако. Оно только что вышло из-за горизонта.
— Такая славная погода, как сегодня, никогда не стоит долго, — произнёс Гюйгенс с чисто голландским пессимизмом, ибо погода была и без того ужасная.
— Похоже на дождевую тучу, или…
— Это я и хочу выяснить, — сказала Элиза, пытаясь навести телескоп на резкость.
— Енох над вами подшутил, — объявил Гюйгенс, ибо Элиза с Фатио уже рассказали ему про загадочные слова Еноха. — У него болят кости, и он знает, что погода меняется! И ещё он знает, что тучи придут из Пегаса, потому что Пегас на западе, и ветер дует оттуда. Очень умно.
— Несколько облачков, и впрямь… но то, что я сперва приняла за тучи, на самом деле корабль под парусом… воспользовался лунной ночью, чтобы поднять паруса, и мчит к берегу, — сказала Элиза.
— Контрабандисты, — предположил Уотерхауз. — Из Ипсвича. — Элиза отступила на шаг, и он заглянул в окуляр. — Нет, я ошибся. Парусное вооружение иное.
— Корабль быстроходный, но сейчас движется осторожно, — заявил Гюйгенс.
Наступил черёд Фатио:
— Уверен, он везёт контрабанду из Франции: соль, вино…
И так оно продолжалось некоторое время, всё скучнее и скучнее, пока Элиза не сказала, что идёт спать.
Разбудил её колокольный звон. Почему-то она знала, что очень важно сосчитать удары, но проснулась слишком поздно и могла пропустить первые. Элиза нащупала длинный плащ, которым укрывалась поверх одеяла, и быстрым движением накинула его на плечи, пока холодный воздух не забрался под ночную сорочку. Потом сбросила ноги с кровати, пнула меховые домашние туфли на случай, если внутрь забралась мышь, и сунула в них ступни.
Ибо как ночью мыши тихонько устраиваются в одежде, так в спящее сознание Элизы прокралась некая мысль. По-настоящему она оформилась чуть позже, когда Элиза спустилась в гостиную развести огонь и увидела на всех гюйгенсовых часах одно и то же время: несколько минут десятого.
Она выглянула в окно и увидела высокие белые облака. Дым из всех труб Бинненхофа стлался на восток. Идеальный день для катания на песчаном паруснике.
Элиза подошла к двери в спальню Гюйгенса и подняла кулак, потом замерла. Если её догадка ошибочна, глупо его беспокоить. Если верна, глупо тратить четверть часа, чтобы будить Гюйгенса и убеждать его в своих подозрениях.
Гюйгенс не держал много лошадей. На выстрел от его дома начинались Малифелд и Коекамп, так что, если ему самому или кому-нибудь из гостей хотелось покататься, они могли без труда дойти до любой из тамошних платных конюшен.
Элиза выбежала через чёрный ход, едва не сбив голландку, подметавшую мостовую, и, как была в домашних туфлях, побежала дальше.
Тут она остановилась, вспомнив, что не взяла денег.
Она обернулась и увидела, что к ней по улице бежит Николя Фатио де Дюийер.
— У вас есть деньги? — крикнула она.
— Да!
Элиза припустила вперёд. До конюшни было шагов двести. Сердце её колотилось, лицо раскраснелось. К тому времени, как Фатио её догнал, она уже торговалась с хозяином. В тот миг, когда швейцарец вбежал в ворота, она указала на него пальцем и крикнула: «…он платит!»
Чтобы взнуздать коней, требовалось несколько минут. Элизу мутило, она боялась, что её вырвет. Фатио тоже волновался, однако воспитание взяло верх над здравым смыслом: он попытался завязать разговор.
— Я заключаю, мадемуазель, что вы тоже имели сегодня утром разговор с Енохом Роотом?
— Только если он пришёл и нашептал мне что-то во сне.
Фатио не знал, как это понимать.
— Я встретил его несколько минут назад в кофейне, куда хожу по утрам. Он разъяснил свои вчерашние загадочные слова…
— Мне хватило того, что он сказал вчера, — отвечала Элиза.
Сонный конюх выронил седло и вместо того, чтобы сразу за ним нагнуться, решил отпустить шуточку. Хозяин конюшни суммировал цифры пером, на котором не держались чернила. Слёзы отчаяния брызнули из глаз Элизы.
— Чёрт!
* * *
«Скакать без седла — то же самое, что просто скакать, только круче», — сказал ей как-то Джек Шафто. Элиза старалась думать о Джеке как можно реже, но сейчас невольные воспоминания нахлынули сами собой. До их встречи под Веной она никогда не сидела на лошади. Поначалу Джек учил её с удовольствием, особенно когда она была не уверена в себе, или падала, или Турок от неё убегал. После того, как она стала заправской наездницей, Джек сделался привередлив и при всяком удобном случае напоминал, что невелика хитрость — держаться в седле; кто не умеет ездить без седла, тот вообще ничего не умеет. Джек, разумеется, умел, потому что так бродяги крадут коней.
Самое главное (объяснял он) — правильно выбрать лошадь. Если их много, надо красть скакуна с плоской спиной, но не слишком широкого в боках, чтобы их можно было обхватить ногами. Холка должна быть не слишком высокая — на неё не ляжешь, когда будешь скакать во весь опор, но и не слишком низкая — не за что будет уцепиться. И лошадь должна быть покладистой, потому что рано или поздно на крутом повороте или ухабе конокрад начнёт с неё сползать, и только от лошади зависит, удержать его или сбросить.
По чистому совпадению любимая Элизина лошадь в этой конюшне — кобыла, которую она брала всякий раз, как выезжала кататься, — обладала плоской, но не слишком широкой спиной, средней — не высокой и не низкой — холкой и покладистым нравом. А может, выбор Элизы подсознательно определили советы Джека. Так или иначе, кобыла звалась Фла («Крем»), и Элиза полагала, что сможет усидеть на ней без седла. Конюх седлал другую лошадь, однако Фла стояла всего в нескольких шагах. Элиза подошла, открыла дверцу стойла, приветствовала Флу по имени, потом поднесла нос к самому носу кобылы и легонько дунула ей в ноздри. Фла огромной мордой потянулась ближе к теплу. Элиза рукой взяла кобылу за подбородок и снова дохнула ей в ноздри; Фла благодарно затрепетала. Могучие мышцы задвигались, пробуждаясь. Элиза вошла в стойло, ведя рукой по лошадиному боку, потом забралась по дощатой перегородке настолько, чтобы запрыгнуть Фле на спину. Одной рукой сжимая идеальных размеров холку, она ногами обхватила лошадиные бока — для этого пришлось задрать узкую ночную сорочку, но плащ закрывал её с обеих сторон. Голые ягодицы и ноги прижимались к восхительно-тёплому телу кобылы. Фла восприняла всё довольно спокойно. Когда Элиза первый раз хлопнула её по крупу, она словно не заметила, на второй раз вышла во двор, а когда Элиза назвала её умницей и хлопнула в третий раз, пустилась рысью. Элиза, едва не слетев на землю, вытянулась вдоль лошадиной спины, зарылась лицом в гриву и вцепилась зубами в жёсткий конский волос. Несколько мгновений она думала только о том, как удержаться. Конюхи бежали сзади, не понимая, что произошло — нелепая случайность или преступление. Впрочем, Элиза скоро от них оторвалась.
Они направлялись по краю большого поля, называемого Коекамп и ограниченного с одной стороны каналом, идущим до самого Схевенингена. Фла хотела отворотиться мордой от холодного морского ветра и свернуть на Коекамп, где обычно отрабатывала свой овёс, катая седоков. Элиза строго пожурила кобылу и плотнее стиснула её бока. И так, покуда справа лежал Коекамп, а затем Манифелд, отношения между наездницей и лошадью оставались натянутыми. Однако когда соблазны остались позади, Фла наконец сообразила, что они скачут вдоль канала в Схевенинген, и заметно успокоилась. Элиза снова хлопнула её по крупу, и кобыла перешла на полевой галоп, куда более быстрый и не такой тряский. Очень скоро Элиза уже неслась во весь опор вдоль канала, крича: «Дорогу во имя штатгальтера!» всякому, кто попадался на пути. Впрочем, это происходило редко — здесь, за городом, коровы встречались чаще прохожих.
Прав был Джек, удержаться без седла на скачущей лошади оказалось вопросом равновесия, способности предугадать её движения, а также её доброй воли. Бока кобылы скоро покрылись мылом и стали скользкими. Элизе пришлось отбросить всякую мысль, что она сумеет удержаться за счёт грубой силы, и целиком положиться на странное, поминутно меняющееся взаимопонимание между ней и Флой.
Фатио нагнал её лишь ближе к Схевенингену. Их преследовали, правда, далеко отстав двое — надо думать, стрелки из гильдии святого Георгия. Пока их разделяло больше выстрела, можно было не беспокоиться. Время объясниться ещё будет.
— Корабль… который мы видели… — прокричала Элиза, задыхаясь и подпрыгивая на лошади, — это была яхта?
— Да… «Метеор»… флагман… герцога… д'Аркашона! Можно не сомневаться… что на нём… солдаты! — крикнул Фатио.
За их спиной кто-то затрубил в рог, предупреждая начальника схевенингенской полиции, подведомственного городскому совету Гааги; очень скоро Элизе и Фатио предстояло узнать, как хорошо начальник полиции справляется со своими обязанностями и насколько бдительны его часовые.
Они доскакали до лодочной станции в десять минут одиннадцатого. Элиза издалека увидела песчаный парусник, над которым трудились мастеровые, и крикнула: «Ага!», думая, что они поспели вовремя. Но тут она заметила полосы на песке и, проследив их на север, увидела другой парусник, уже на расстоянии мили, подгоняемый морским ветром.
Станция была на самом деле не одним зданием, а полукругом сараев, навесов и мастерских: кузнечной, столярной, парусной. На какой-то миг Элиза потерялась во всех этих частностях, затем, обернувшись, увидела настоящее столпотворение: запыхавшиеся гаагские стрелки, гвардейцы, моряки и схевенингенские дозорные пытались схватить Фатио, а тот торопливо объяснялся на французском. Он бросал взгляды на Элизу, то ли умоляя помочь, то ли желая защитить её от толпы.
— Палите из пушек! — закричала Элиза по-голландски. — Принц в опасности! — И, как могла, принялась на ломаном голландском пересказывать, что им известно. На каждое её слово кивал головой капитан синих гвардейцев, который, по всей видимости, изначально не ждал ничего хорошего от одиноких катаний принца. В какой-то момент он решил, что выслушал достаточно, и выстрелил в воздух, чтобы утихомирить толпу, потом кинул дымящийся пистолет гвардейцу, который перебросил ему назад заряженный. Затем капитан что-то сказал по-голландски, и толпа рассеялась.
— Что он сказал, мадемуазель? — спросил Фатио.
— Он сказал: «Гвардейцы — вперёд! Дозорные — огонь! Моряки — на воду! Остальные — с дороги!»
Фатио зачарованно смотрел, как эскадрон верховых гвардейцев во весь опор поскакал за принцем. Моряки бежали к пристани, артиллеристы на береговых батареях заряжали орудия. Каждый, у кого было огнестрельное оружие, палил в воздух, однако принц не слышал их за воем ветра и волн.
— Полагаю, мы относимся к «остальным», — обречённо проговорил Фатио. — Думаю, всё будет хорошо… кавалеристы скоро его догонят.
Солнце выглянуло из-за туч и осветило пар, поднимающийся от конских боков.
— На таком ветру им его не догнать, — сказала Элиза.
— Может быть, он услышит это! — возразил Фатио, вздрагивая от нестройной канонады.
— Он просто решит, что батарея салютует входящему в порт кораблю.
— Так что делать?
— Исполнять приказ. Убираться отсюда.
— Тогда почему вы спешиваетесь?
— Фатио, вы — дворянин, — крикнула Элиза через плечо, сбрасывая домашние туфли и босиком направляясь к песчаному паруснику, — и выросли на Женевском озере. Вы умеете управляться с парусом?
— Мадемуазель, — отвечал Фатио, спрыгивая с лошади, — на таком паруснике я дам фору голландцу. Мне недостаёт одного.
— Говорите.
— Парусник будет крениться, а парус — терять ветер. Если только кто-то маленький, ловкий, цепкий и очень храбрый не станет с наветренной стороны в качестве противовеса.
— Так вперёд, и защитим Защитника! — воскликнула Элиза, взбираясь на деревянную конструкцию.
* * *
Парусник не мог нестись так быстро, как мнилось Элизе; во всяком случае, так она думала, пока они не догнали гвардейцев. Повернув румпель, Фатио мог бы обогнуть всадников, словно те стоят неподвижно. Вместо этого он потравил шкот, выпустив из паруса заметную долю воздуха. Движение сразу замедлилось; казалось, парусник катится со скоростью пешехода, оставаясь тем не менее вровень со скачущими гвардейцами. Он опустился на все три колеса, и Элиза, игравшая роль противовеса, чуть не зарылась головой в песок. По счастью, она двумя руками держала трос, который Фатио обмотал вокруг мачты, и сумела вовремя выпрямиться. Теперь у неё было несколько мгновений, чтобы стереть с лица солёную грязь и завязать мокрые волосы узлом, чтобы не хлестали по лицу.
Фатио криками на смеси языков привлёк внимание гвардейцев. Что-то полетело к ним, крутясь в воздухе, ударилось о парус и сползло на колени Фатио — мушкет. Другой пролетел над их головами, зарылся дулом в песок, и его тут же накрыло волной. Теперь к ним летел пистоль; Элиза, сообразив наконец что к чему, поймала его в воздухе.
Тут же Фатио натянул шкот, и скорость резко возросла. Они обогнали передовых гвардейцев и свернули с прибойной полосы на более сухой и твёрдый песок. Элиза успела затолкать пистоль под пояс плаща и намотать трос на запястья; Фатио сильнее потянул шкот, и парусник рванул вперёд так, что чуть не опрокинулся. Одно колесо вращалось в воздухе, мокрый песок летел в нависшую над ободом Элизу. Та, упираясь босыми ступнями и перехватывая верёвку, отклонилась почти горизонтально и теперь видела (когда вообще что-нибудь видела) днище песчаного парусника.
Наверное, ещё никому в мире не случалось нестись с такой скоростью… Минуту она жила с этой мыслью, потом натурфилософ в ней напомнил, что на льду трение меньше, и такие парусники мчатся, наверное, ещё быстрее.
Тогда откуда упоение?.. Ибо несмотря на холод, опасность и неизвестность исхода, ей было легко, как никогда со времён скитания в обществе Джека. Интриги и заботы Версаля остались позади.
Вывернув шею, она могла посмотреть на море. Там сновали обычные судёнышки с косыми парусами. Яхта герцога д'Аркашона с её прямым парусным вооружением сразу бросилась бы в глаза. И впрямь, Элиза вроде различила в нескольких лигах к северу стоящий на якорях корабль с прямыми реями — наверняка это «Метеор»! Видимо, солдаты до зари подошли к берегу на шлюпке и спрятали её где-то неподалёку.
Фатио уже несколько минут что-то кричал о братьях Бернулли — швейцарских математиках, а следовательно, его друзьях и коллегах.
— Сто лет назад парусные мастера считали, будто паруса буквально вбирают воздух — потому-то на старых картинах паруса выгнуты так, что их хочется подтянуть… теперь мы знаем, что парус развивает тягу за счёт воздушных токов по двум его сторонам… Мы знаем, что они определяются кривизной паруса и сами её определяют, но не понимаем частностей… Бернулли этим занялись… скоро мы сможем использовать моё дифференциальное исчисление, чтобы шить паруса в соответствии с научными принципами…
— Ваше дифференциальное исчисление?
— Да… и сможем достигать скоростей… даже больших… чем эта!
— Вон он! — закричала Элиза.
Парус закрывал Фатио обзор, однако Элиза отчётливо видела мачту песчаного парусника за низким песчаным бугром. До него было, может, полмили. В четверти мили впереди (расстояние это быстро сокращалось) тянулась песчаная гряда — как раз такая, за которой можно устроить засаду. И впрямь, в это самое мгновение мачта выпрямилась и задрожала, останавливаясь…
— Началось! — крикнула Элиза.
— Хотите, чтобы я остановился и ссадил вас, мадемуазель, или…
— Не болтайте чепухи!
— Отлично! — Фатио по стремительной дуге обогнул бугор, и взглядам предстала миля открытого побережья.
Прямо впереди и пугающе близко с северной стороны дюны лежала груда разворошенных веток. Человек шесть рослых французов тащили к воде баркас — его киль пересекал след, оставленный парусником Вильгельма десять минут назад. Шлюпка отрезала принцу путь к отступлению, а Элизе и Фатио — путь вперёд. Фатио резко повернул румпель и обогнул баркас со стороны берега — Элиза едва удержалась за верёвку. Она стиснула зубы, чтобы не прокусить язык, и зажмурилась. Два колеса прыгали на борозде, пропаханной килем шлюпки, третье — то, что было в воздухе, — задело одного из французов, и тот рухнул, как истукан.
На расстоянии выстрела из лука шестеро французов бежали к паруснику принца Оранского. Он налетел на цепь, натянутую между вбитыми в песок колышками. Французы не видели Элизу и Фатио, они смотрели только вперёд, на принца, который спрыгнул на песок и повернулся лицом к противнику.
Вильгельм отступил от парусника, сбросил плащ и вытащил шпагу.
Фатио наехал на бегущих солдат и повалил двоих. На этом их с Элизой регата закончилась: парусник зарылся носом и аккуратно перевернулся. Элиза впечаталась лицом во влажный песок. Рядом сыпались обломки парусника, но её задели лишь несколько мокрых верёвок. Когда она с трудом поднялась на ноги — мокрая, замёрзшая, в песке и синяках, — то обнаружила, что потеряла пистолет, а когда отыскала, сражение уже закончилось: шпага Вильгельма, сверкавшая за мгновение до того, стала алой, а два француза лежали на песке. Ещё одного Фатио держал под дулом мушкета, последний бежал к баркасу, размахивая руками и крича.
Баркас уже качался на волнах, готовый доставить французов и пленника на «Метеор». Обменявшись несколькими словами, четверо из тех, что тащили его к воде, побежали к стоящим парусникам, а ещё один остался держать баркас за верёвку. Шестой по-прежнему лежал носом в песок, след от колеса шёл через его спину.
Элизу никто пока не заметил.
Она присела на корточки за сломанным парусником и несколько мгновений изучала замок пистоля, пытаясь вычистить песок и в то же время не стряхнуть весь порох.
Раздался крик. Элиза обернулась и увидела, что Вильгельм просто подошёл к французу, которого Фатио держал под дулом мушкета, и пропорол того шпагой. Потом забрал мушкет, опустился на одно колено, тщательно прицелился и выстрелил в бегущих солдат.
Ни один не упал.
Элиза легла на живот и поползла к берегу. В какой-то момент солдаты пробежали в десяти шагах. Как она и надеялась, её не заметили. Французы смотрели только на Фатио и Вильгельма, которые стояли теперь спина к спине, обнажив шпаги.
Элиза поднялась на ноги и сбросила длинный тяжёлый плащ. Перед тем, как взобраться на парусник, она одолжила у Фатио кинжал и теперь обрезала им подол ночной сорочки, освободив ноги. Покончив с этим, она бегом припустила к баркасу, с ужасом ожидая выстрелов, означавших бы, что французы решили уложить Вильгельма и Фатио на месте. Однако слышен был только шум прибоя. Видимо, французы получили приказ доставить принца живым. Фатио они не знали и убили бы без всякого сожаления, однако не могли стрелять в него, не задев Вильгельма.
Одинокий солдат у баркаса ошалело смотрел на бегущую к нему Элизу. Даже если бы он не ошалел, то всё равно ничего бы не сделал, поскольку не мог ни отпустить шлюпку, ни в одиночку втащить её на берег. Подбежав ближе, Элиза увидела, что за пояс у француза заткнут пистоль, но волны дохлёстывали ему до груди, так что порох уже намок.
Она остановилась, подняла свой пистоль, извела курок и с десяти шагов прицелилась в солдата.
— Он может выстрелить, может не выстрелить, — сказала она по-французски. — Пока я считаю до десяти, решай, готов ли ты поставить на кон жизнь и бессмертие души. Раз… два… три… я упомянула, что у меня месячные? Четыре…
Солдат додержался до семи. Его сломил не столько вид пистолета, сколько Элизино остервенение. Он отпустил верёвку, поднял руки, бочком выбрался на берег и побежал к товарищам. Решение было разумным. Пистолет мог бы выстрелить, он был бы мёртв, и баркас унесло бы в море, а так оставался шанс позднее отбить у Элизы шлюпку.
Она аккуратно отпустила затвор, бросила пистоль в баркас, пробежала несколько шагов по воде, схватилась за транец и подтянулась. После нескольких неудачных попыток ей удалось закинуть ногу наверх, выбраться на корму и перекатиться в лодку.
Первое, что бросилось ей в глаза, был законопаченный сундук. Взобравшись на него, Элиза увидела, что в лодке таких ещё несколько — вероятно, с оружием. Однако, если дело дойдёт до перестрелки, им всем конец.
Ей нужен был не мушкет, а весло. Они лежали на виду, поперёк дощатых банок. Элиза попыталась схватить одно и с ужасом обнаружила, что оно вдвое выше её ростом и почти неподъёмное. Кое-как удалось оторвать его от банок и погрузить лопастью в воду. Стоя на корме, где вода была мельче всего, Элиза упёрлась веслом в песчаное дно. Баркас не двигался; человек, не знакомый с «Началами» Исаака Ньютона, мог бы отчаяться. Однако из основных положении этого труда следовало, что если давить на весло, лодка должна двигаться, даже если движение поначалу будет незаметным для глаза. Поэтому она продолжала налегать всем телом, пренебрегая свидетельством собственных чувств, утверждавших, что лодка стоит на месте. Наконец весло наклонилось, и лодка начала отходить от берега.
Стоило вытащить весло, как волны погнали её назад, гася приданную шлюпке vis inertiae. Элиза снова упёрлась веслом в дно. Вода теперь оказалась глубже, чем в первый раз.
Элизе отчаянно хотелось взглянуть, что творится на берегу, но в этом не было бы никакого прока. Помочь Вильгельму она могла, лишь отведя лодку подальше в море. Только увеличив расстояние до берега вдвое, Элиза решилась поднять глаза.
Фатио лежал. Один из французов сидел на швейцарце верхом, приставив что-то к его голове. Вильгельм стоял с обнажённой шпагой, но под дулами четырёх мушкетов. Один из французов, судя по позе и жестам, говорил с принцем — видимо, обсуждал условия капитуляции. Солдат, которого оставили стеречь баркас, бежал к ним, крича и размахивая руками. Те, что стояли вокруг Вильгельма, не обращали внимания, однако тот, что сидел на Фатио, поднял голову и посмотрел на Элизу.
Она взглянула на берег и поняла, что прибой отнёс её назад на несколько ярдов, поэтому торопливо вставила вёсла в уключины, села и попыталась грести. Сперва ничего не получалось; волны взмывали и падали, вёсла проскальзывали по воде. Элиза привстала, глубже опустила вёсла и, упираясь ногами, откинулась назад. Лодка двинулась.
Фатио лежал неподвижно, никто его не охранял. Двое солдат стояли рядом с Вильгельмом, приставив мушкеты к его голове. Остальные пробежали по берегу и смотрели теперь на Элизу через примерно пятьдесят ярдов волн. Один уже почти разделся. Если бы Элиза привстала для следующего гребка, она бы увидела, как он забежал в воду и поплыл. Остальные трое, упираясь коленями в песок, целили в лодку, ожидая, когда Элиза снова поднимет голову.
Пригнувшись, она оставалась ниже линии огня — но не могла грести.
Над бортом показалась рука. Элиза ударила её рукояткой пистоля, рука исчезла, а через мгновение появилась, окровавленная, в другом месте. За ней последовала вторая рука, затем локти и голова. Элиза прицелилась промеж моргающих глаз и нажала на спуск. Кремень чиркнул, высек слабую искру… больше ничего не произошло. Элиза развернула пистолет, намереваясь ударить рукоятью, но француз поднял руку, защищая голову от удара, и она передумала. Выпрямившись, она схватила сундук за ручки, оторвала от палубы и обрушила на солдата, когда тот перекидывал ногу через планширь. Сундук и француз вместе упали в воду. Солдаты на берегу выстрелили. Пули отбили щепки от банок, но не задели Элизу. Тем не менее вид развороченного дерева начисто уничтожил всякое облегчение, которое она могла бы почувствовать, избавившись от пловца.
Покуда французы перезаряжали мушкеты, Элиза успела отвести лодку подальше от берега. Привстав для очередного гребка, она краем глаза различила какое-то движение на юге и, повернув голову, увидела, что десятки синих гвардейцев взлетают на песчаную гряду или скачут в объезд по берегу. Привстав на стременах, они оглядели открывшуюся картину, вытащили сабли и устремились вперёд со смешанными криками гнева и торжества. Французы, оскорблённые в лучших чувствах, бросили оружие на песок.
* * *
— Теперь вам долго не следует ко мне приближаться, — сказал Вильгельм Оранский. — Я прикажу, чтобы вас незаметно вывезли отсюда, а мои агенты распространят какие-нибудь слухи, чтобы объяснить, где вы провели это утро.
Принц замолчал, отвлечённый криками с дальней стороны дюны. Один из гвардейцев выбежал на гребень и объявил, что нашёл свежие следы конских подков. Кто-то совсем недавно (конский навоз не успел остыть) стоял за дюной, покуривая табак, и несколько мгновений назад ускакал прочь (песок, задетый конскими копытами, был ещё сухой). При этом известии трое гвардейцев пришпорили коней и устремились в погоню. Однако их кони устали от скачки, а лошадь наблюдателя, напротив, хорошо отдохнула; ясно было, что им его не догнать.
— Это д'Аво, — сказал Вильгельм. — Ему не терпелось увидеть меня в цепях.
— Тогда он знает про меня.
— Возможно, да, а возможно, нет, — отвечал принц с безразличием, не прибавившим Элизе спокойствия. Он взглянул на Фатио. Тот сидел на песке, один из гвардейцев перевязывал ему окровавленною голову. — Ваш друг — натурфилософ? Я пожалую ему кафедру в местном университете. Вас, когда придёт время, я провозглашу герцогиней. А сейчас вы должны вернуться в Версаль и пленить Лизелотту.
— Что?!
— Не разыгрывайте изумление, это утомляет. Думаю, вам известно, кто я, и потому вы должны знать, кто она.
— Но зачем?!
— Вот куда более разумный вопрос. Знаете что вы сейчас наблюдали? Искру, что воспламеняет порох, что выбрасывает пулю, что сразит короля. Запомните это накрепко. Теперь у меня нет иного выбора, кроме как завладеть Британией. Для того мне потребуются войска, а я не могу забрать их с южных рубежей, покуда мне угрожает Людовик. Однако если он, как я ожидаю, решит расширить свои владения за счёт Германии, то оттянет силы от голландского фланга и развяжет мне руки для вторжений в Англию.
— А при чём здесь Лизелотта?
— Лизелотта — внучка Зимней королевы, которые, как многие говорят, зажгла искру Тридцатилетней войны, приняв корону Богемии. Сказанная королева провела большую часть Тридцатилетней войны неподалёку, в Гааге; мой народ дал ей приют, ибо в Богемии царил хаос, а Пфальц, принадлежащий ей по праву, победитель забрал в качестве трофея. Сорок лет назад по условиям Вестфальского мира Пфальц вернулся в семью; курфюрстом стал Карл-Людвиг, старший сын Зимней королевы. Некоторые его братья и сёстры, включая Софию, перебрались туда и обосновались в Гейдельбергском замке. Карл-Людвиг умер несколько лет назад и передал престол слабоумному брату Лизелотты. Не так давно тот погиб во время потешного сражения, которое устроил в одном из своих замков на Рейне. Теперь идёт спор о наследстве. Французский король рыцарственно принял сторону Лизелотты — как-никак она замужем за его братом.
— Какая находчивость! — заметила Элиза. — Протянув руку помощи Лизелотте, король может присоединить к Франции Пфальц.
— Да, и не будь Людовик XIV Антихристом, наблюдать за этим было бы даже приятно, — сказал Вильгельм. — Я бессилен помочь Лизелотте и заступиться за бедных пфальцсцев, но я могу заставить Францию заплатить за Рейн Британскими островами.
— Вам надо знать, собирается ли король перебросить войска с ваших границ на Рейн.
— Да. И никто не будет знать этого лучше Лизелотты — если не совсем пешки, то, во всяком случае, пленной королевы на французской стороне доски.
— Коли ставки так высоки, я хотя бы попытаюсь завоевать её дружбу.
— Мне не надо, чтобы вы завоевали её дружбу. Мне надо, чтобы вы её соблазнили. Чтобы она стала вашей рабой.
— Я просто пытаюсь соблюсти декорум.
— Мои извинения! — Вильгельм отвесил придворный поклон и взглядом смерил Элизу. Перепачканная песком, в окровавленном солдатском камзоле, она была очень далека от того, что подразумевает слово «декорум». Видимо, это он собирался сказать, однако промолчал и отвёл взгляд.
— Вы сделали меня дворянкой, мой принц. С тех пор прошло несколько лет, и вы привыкли смотреть на меня как на дворянку, даже если это наш с вами секрет. В Версале я по-прежнему простолюдинка и чужестранка в придачу. Уверяю, Лизелотта на меня и внимания не обратит.
— При людях.
— Даже наедине! Не все там такие лицемеры, как вы склонны полагать.
— Я не обещал, что будет легко. Потому-то и обращаюсь к вам.
— Я сказала, что готова попробовать. Но если д'Аво видел меня здесь, то возвращаться в Версаль неразумно.
— Д'Аво гордится своим умением вести тонкую игру, и в этом его слабость, — объявил Вильгельм. — Кроме того, он зависит от ваших финансовых советов и потому не уничтожит вас сразу.
— Тогда потом?
— Попытается, — поправил Вильгельм.
— И преуспеет.
— Нет. Потому что к этому времени вы будете любовницей Мадам Лизелотты — королевской невестки. У которой тоже есть свои слабости и свои недоброжелатели, но которая несравненно выше д'Аво.
Версаль начало 1688
Лейбницу,
3 февраля 1688
Доктор!
Мадам любезно предложила отправить это письмо в Ганновер вместе с другими, которые её друг доставит лично Софии, поэтому обхожусь без шифра.
Вероятно, Вы удивлены, почему Мадам, ещё недавно считавшая меня мышиным помётом в перце, предложила мне такую любезность.
А дело вот в чём: однажды король, восстав от сна, объявил на церемонии утреннего туалета, будто слышал, что «особа с Йглма» благородных кровей, хоть и держит это в секрете.
Для меня это тоже было секретом, пока кто-то не обратился ко мне «Графиня де ля Зёр». Не сразу, но я сообразила, что так они произносят слово «схра». Как вы знаете, мой остров — хорошо известная навигационная опасность, которую перепуганные моряки узнают по трём высоким утёсам, носящим это название. Очевидно, некий придворный, имевший неосторожность в какой-то момент жизни пройти на корабле в виду Йглма, запомнил слово и сочинил для меня титул. Для придворных дам, особливо древнего рода, он звучит варварски. Однако здесь полно иностранных принцесс, не столь переборчивых, и они уже шлют мне приглашения.
Разумеется, король может даровать дворянство кому и когда пожелает, и непонятно, почему из меня решили сделать наследную дворянку. Впрочем, вот подсказка: отец Эдуард де Жекс расспрашивал меня о йглмской церкви, которая формально не считается протестантской, поскольку основана раньше римско-католической. Отец Эдуард собирается посетить Йглм и собрать доказательства, что наша вера, по сути, не отличается от его и должна с нею слиться.
Тем временем я выслушиваю соболезнования по поводу того, что моя страна стонет под игом англичан. На самом деле каждый йглмец был бы рад, если бы англичане и впрямь заняли наш остров, — по крайней мере они принесли бы с собой еду и тёплую одежду. Полагаю, Людовик знает, что скоро английским королём будет его заклятый враг, и хочет заранее привлечь на свою сторону Ирландию, Шотландию и ту песчинку в море, на которой я родилась. На Йглме много веков нет наследных дворян (девятьсот лет назад шотландцы загнали их в пещеру с медведями и привалили камнями), но теперь решено, что такой дворянкою буду я! Матушка бы очень гордилась!
Судя по дате Вашего последнего письма, Вы писали его, гостя у дочери Софии при бранденбургском дворе накануне Рождества. Пожалуйста, расскажите мне про Берлин! Я знаю, что туда бежали многие гугеноты. Удивительно думать, что несколько лет назад София и Эрнест-Август предлагали свою дочь в жёны Людовику XIV. Теперь София-Шарлотта — курфюрстина Бранденбургская и (если верить слухам) возглавляет берлинский салон религиозных диссидентов и вольнодумцев. Стань она женою Людовика, ей бы пришлось нести некую меру ответственности за убийство и преследования тех же самых людей. Полагаю, она рада-радёхонька, что всё обернулось иначе.
Говорят, будто София-Шарлотта на равных участвует в спорах между учёными мужами. Наверняка это потому, что она росла рядом с Вами, доктор, и слышала, как Вы беседуете с её матушкой. Теперь, получив в качестве графини возможность общаться с Мадам, я спросила, о чём Вы с Софией беседовали в Ганновере. Она лишь закатила глаза и объявила, что ничего не понимает в умных разговорах. Наверное, слишком много времени провела с доморощенными алхимиками и считает все учёные беседы пустой болтовнёй.
Звёздная палата, Вестминстерский дворец апрель 1688
…ибо (такова природа человека) для обвинения требуется меньше красноречия, чем для оправдания, и осуждение нам представляется более сообразным с принципом правосудия, чем оправдание.[20]
Гоббс, «Левиафан»— Как там говорится? «От работы без забавы мальчуган тупеет, право», — произнёс бестелесный голос. Лишь эту перцепцию получало сейчас сознание Даниеля. Зрение, вкус и прочие чувства спали, память отсутствовала, поэтому голос воспринимался с более чем обычной чёткостью во всём многообразии своих необычайных достоинств. Он был очень красивый и явно принадлежал человеку из высшего общества, который привык и любит, чтобы его слушали.
— Да уж, мальчуган сильно отупел от неусыпных трудов, туго соображает, — продолжал голос.
Смешки, движение одетых в шёлк тел. Эхо от очень высокого каменного потолка.
Сознание Даниеля вспомнило, что заключено в теле, однако, подобно полку, лишённому командира, оно давно не получало приказов, вышло из повиновения и не посылало сигналов в штаб.
— Дайте ему ещё воды! — приказал бархатный голос.
Даниель услышал шаги слева: что-то коснулось занемевших губ, бутылочное горлышко звякнуло о передние зубы. Лёгкие начали наполняться какой-то жидкостью. Он попытался запрокинуть голову, но шея слушалась плохо, и что-то жёсткое упёрлось в загривок. Жидкость бежала по подбородку и затекала под одежду. Грудь сдавило; силясь откашлять воду, он подался вперёд — но тут что-то холодное упёрлось в кадык. Его вырвало. Тёплая жидкость выплеснулась на колени.
— Пуритане совершенно не умеют пить — их никуда не возьмёшь.
— Разве что на Барбадос, милорд! — подхватил другой голос.
Глаза у Даниеля опухли и слиплись. Он попытался поднять руки к лицу, однако наткнулся на какой-то металлический прут, схватился за него, и тут же что-то очень плохое произошло с шеей. Кое-как он нащупал глаза, потом стёр с подбородка рвоту и воду. Теперь Даниель видел, что сидит посреди большой комнаты; ночь, и в помещении горят лишь несколько свечей. В полумраке смутно белели кружевные шейные платки джентльменов, стоящих перед ним полукругом.
Свет был тусклый, видел он неотчётливо, поэтому не мог разобраться, что за железяка у него на шее, и вынужден был исследовать её руками. Судя по всему, это была железная полоса, свёрнутая в ошейник. С четырёх сторон от неё отходили штыри длиною примерно в ярд, и каждый заканчивался двумя крюками наподобие абордажного.
— Покуда вы спали под воздействием настойки мсье Лефевра, я взял на себя смелость заказать вам новый воротник, — продолжал голос, — но поскольку вы пуританин и презираете роскошь, я вместо портного пригласил кузнеца. Такой фасон нынче моден на сахарных плантациях Барбадоса.
Даниель подался вперёд, и задний крюк зацепился за спинку стула. Он схватился за передний штырь и, надавив, сумел освободить задний. Инерция увлекла его вместе с ошейником; позвоночник упёрся в стул, ошейник же продолжал двигаться, силясь оторвать голову. Она запрокинулась так, что теперь Даниель смотрел прямо в потолок. Сперва ему подумалось, что кто-то зажёг там свечи, а может, солдаты от нечего делать стреляли в потолок горящими стрелами; потом взгляд сфокусировался, и стало видно, что блестят нарисованные на потолке звёзды. Теперь Даниель знал, где находится.
— Суд Звёздной палаты объявляю открытым. Председательствует лорд-канцлер Джеффрис, — произнёс другой бархатистый голос, наэлектризованный торжеством. Кем же надо быть, чтобы ликовать по такому поводу?
Как чувства возвращались к Даниелю по одному, начиная со слуха, так и сознание пробуждалось по частям. Та, в которой складируются старые факты, функционировала лучше той, что отвечает за разумные действия.
— Чепуха… Суд Звёздной палаты упразднён Долгим парламентом в 1641 году… за пять лет до моего рождения… и вашего тоже, Джеффрис.
— Я не признаю своекорыстных декретов мятежного Парламента, — брезгливо отвечал Джеффрис. — Суд Звёздной палаты славен своей древностью — он учреждён Генрихом VII, однако процедуры его ещё древнее и восходят к римской юриспруденции. Посему он являет собой образец чёткости и действенности в отличие от замшелого паскудства общего права — этого дряхлого, затянутого паутиной чудища, этого маразматического собрания бабьих сказок, этого гнусного решета, собирающего всю пену общественной жизни в один юридический ком.
— Правильно! Правильно, — поддакнул один из судей, видимо, чувствуя, что Джеффрис охватил все стороны английского общего права. Во всяком случае, Даниель предполагал, что все эти джентльмены — судьи, и каждый подобран лично Джеффрисом. Или, вероятно, они сами к нему стянулись; таких людей тот всегда видел, когда давал себе труд оглядеться по сторонам.
Другой сказал:
— Покойный архиепископ Лод находил Звёздную палату достойным средством, дабы сломить религиозных диссидентов, таких, как ваш отец, Дрейк Уотерхауз.
— Суть истории моего отца как раз в том, что его не сломили. Звёздная палата отрезала ему уши и нос и тем сделала его ещё более грозным.
— Дрейк был исключительно силён и упорен, — кивнул Джеффрис. — Мальчиком я видел его в кошмарах. Отец рассказывал мне про него сказки, как про какое-нибудь чудище. Но вы — не Дрейк. Двадцать лет назад в Тринити-колледже вы стояли и смотрели через окно, как милорд Апнор убивает вашего единоверца, и ничего не сделали. Ничего, припомните, и я знаю это не хуже вас.
— У этого фарса есть какая-либо цель, кроме как повспоминать университетские дни? — спросил Даниель.
— Сделайте ему революцию[21], — приказал Джеффрис.
Тот же человек, что раньше лил в Даниеля воду, подошёл и надавил на один из четырёх штырей. Колесо начало поворачиваться на шее, как на оси, пока Даниель не схватил его руками. Профан от одной только боли мог бы вообразить, что шея наполовину перепилена. Однако Даниель вскрыл немало шей и знал, где находится всё важное. Короткая проверка показала, что он в состоянии глотать, дышать и двигать пальцами ног, а следовательно, основные магистрали целы.
— Вы обвиняетесь в извращении английского языка, — объявил Джеффрис. — А именно: неоднократно за досужими беседами в кофейнях и в частной переписке вы употребляли доселе невинное и полезное слово «революция» в совершенно новом смысле, придуманном вами и означающем насильственную смену правления.
— О, насилие здесь совершенно ни при чём.
— Так вы признаёте свою вину?
— Я знаю, как вершила расправу настоящая Звёздная палата, и не думаю, что этот фарс в чём-то отличен, посему не вижу смысла подыгрывать и оправдываться.
— Подсудимый признан виновным! — объявил Джеффрис таким тоном, словно сверхчеловеческим усилием довёл до конца изнурительный процесс. — Не буду делать вид, будто для меня это неожиданность: пока вы спали, мы допросили нескольких свидетелей, и все подтвердили, что вы употребляли слово «революция» в значении, неведомом астрономам. Мы даже спросили вашего старого знакомца по Тринити…
— Монмута? Разве вы его не казнили?
— Нет, нет, другого. Натурфилософа, имевшего дерзость перечить королю в деле отца Фрэнсиса.
— Ньютона?!
— Да, его. Я спросил: «Вы написали столько толстых книжек о революции; как вы понимаете это слово?» Он ответил, что оно означает вращение планет, и даже не заикнулся о политике.
— Не могу поверить, что вы впутали сюда Ньютона!
Джеффрис внезапно перестал строить из себя Великого Инквизитора и отвечал небрежным тоном усталого придворного:
— Ну, мне так и так пришлось дать ему аудиенцию по поводу истории с отцом Фрэнсисом. Он не знает, что вы здесь… как и вы, очевидно, не знаете, что он в Лондоне.
Даниель отвечал тем же тоном:
— Немудрено, что вы удивлены! Ну разумеется! Вы считали, что, приехав в Лондон, Ньютон поспешит возобновить знакомство со мною и другими членами Королевского общества.
— По сведениям из надёжных источников, он проводит всё время с предателем-швейцарцем.
— С каким предателем?
— Тем, что предупредил Вильгельма Оранского о нападении французов.
— Фатио?
— Да, с Фатио де Дюийером.
Джеффрис рассеянно поглаживал парик, размышляя о странных знакомствах Ньютона. Такая перемена в настроениях лорда-канцлера толкала Даниеля к опасному легкомыслию, которое он силился перебороть. Однако сейчас его живот затрясся от сдерживаемого смеха.
— Джеффрис! Фатио — швейцарский протестант, предупредивший голландца о французском заговоре… и вы называете его предателем?
— Он предал графа де Фениля. Теперь предатель укрывается в Лондоне, поскольку на Континенте — везде, где значит правосудие, — его ждёт смерть. Но здесь! В Лондоне, в Англии! О, в иное время его бы здесь не потерпели. Однако в наши горькие времена, когда такой человек приезжает и селится в нашем городе, никто и ухом не ведёт, а когда он скупает алхимические припасы и беседует в кофейнях с нашим ведущим натурфилософом, никто не возмущается.
Даниель видел, что Джеффрис накручивает себя, и, пока лорд-канцлер снова не вошёл в раж, напомнил.
— Настоящая Звёздная палата славилась суровостью своих приговоров и скоростью их исполнения.
— Истинно! И обладай это собрание такой властью, ваш нос уже валялся бы в канаве, а сами вы плыли бы на корабле в Вест-Индию, чтобы до конца дней рубить тростник на моих сахарных плантациях. В нынешних обстоятельствах я не могу покарать вас, пока не вынесу приговор в суде общего права. Что, впрочем не так и сложно.
— И как же, по-вашему?
— Наклоните обвиняемого назад!
Приставы, или палачи, или кто там они были, подбежали к Даниелю сзади, схватились за спинку стула и дёрнули, так что ноги его повисли в воздухе. Теперь он не сидел, а лежал на спине; железный ошейник, придя в движение, попытался упасть на пол. Этому препятствовала шея Даниеля. Он дёрнулся было, чтобы схватиться за ошейник, пережавший дыхательные пути, но подручные Джеффриса не зевали: каждый свободной рукой прижал к стулу руку Даниеля, один — правую, другой — левую. Даниель не видел теперь ничего, кроме звёзд; звёзды, нарисованные на потолке, сияли в открытые глаза; другие возникали, стоило зажмуриться. Лицо лорда-канцлера полной луной выплыло на середину небосвода.
В юности Джеффрис отличался редкой красотой даже по меркам поколения, давшего миру таких адонисов, как герцог Монмутский и Джон Черчилль. Особенно хороши были глаза, может быть, поэтому юный Даниель Уотерхауз всякий раз цепенел под их взглядом. В отличие от Черчилля Джеффрис с годами подурнел. Живя в Лондоне и карабкаясь со ступеньки на ступеньку — поверенный герцога Йоркского, борец с мнимыми заговорщиками, верховный судья и, наконец, лорд-канцлер, — он заплыл жиром, как баранья почка. Брови выросли в огромные кустистые крылья, почти рога. Глаза хранили былую красоту, но смотрели уже не с юного безупречного лица, а из своего рода амбразуры между складками жира и ощеренными бровями. Прошло, наверное, лет пятнадцать с тех пор, как Джеффрис мог припомнить всех, кого отправил на смерть, он должен был сбиться со счёта, если не на папистском заговоре, то уж точно на Кровавых ассизах.
Во всяком случае, Даниель смотрел в глаза лорда-канцлера и не мог отвести взгляд. В некотором смысле Джеффрис просчитался, задумывая этот спектакль. Снотворное, вероятно, подмешали Даниелю в кофейне; затем подручные Джеффриса похитили его, когда он заснул в лодке. Однако под действием опия он до последнего мига забывал испугаться.
Дрейк не испугался бы и без всякого опия; в этой самой комнате он обличал архиепископа Лода в лицо, зная, что его ждёт. Даниель до сих пор держался храбро лишь потому, что плохо соображал. Сейчас же, глядя в лицо Джеффриса, он вспомнил все ужасы, которые про него слышал. О диссидентах, что «кончали с собой», перерезав себе горло до самого позвоночника; о повешенных в Таунтоне, умирающих долгой мучительной смертью, о том, как герцогу Монмутскому отрубили голову с пятого или шестого удара, в то время как Джеффрис смотрел на несчастного вот этими самыми глазами.
Мир утратил всякие краски. Что-то белое и воздушное возникло рядом с лунным лицом — рука в кружевной манжете. Джеффрис схватился за один из штырей.
— Говорите, ваша революция не связана с насилием… — промолвил он. — Советую вам серьёзней задуматься над природою революции. Ибо, как вы видите, этот крюк сейчас наверху. Другой внизу. Верно, мы можем поменять их местами, совершив переворот. — Джеффрис повернул ошейник, всем весом лежащий на Даниелевом кадыке. У Даниеля были все резоны закричать, но он только жалобно силился глотнуть воздуха. — Посмотрите! Тот, что был наверху, теперь внизу. Давайте повернём его, ведь ему это не по вкусу. — Джеффрис вернул ошейник в прежнее положение. — Увы, мы пришли к тому, с чего начали; верхи наверху, низы внизу, так в чём же смысл переворота? — Джеффрис повторил демонстрацию, смеясь тому, как Даниель ловит ртом воздух. — Можно ли мечтать о лучшей карьере! — воскликнул он. — Медленно обезглавливать однокашников! Мы всячески длили казнь Монмута, однако топор — грубое орудие, Джек Кетч — мясник, и всё закончилось скоро. Ошейник — идеальное средство для перепиливания шеи, с ним я мог бы растянуть смерть Монмута на дни! — Джеффрис вздохнул от удовольствия. Даниель уже ничего не видел, кроме бледно-лиловых пятен в сером клубящемся тумане. Однако Джеффрис, по всей видимости, дал приставам знак поднять стул — вес ошейника переместился на ключицы, и попытки Даниеля вздохнуть увенчались-таки успехом. — Надеюсь, я избавил вас от глупых обольщений касательно революции. Чтобы низы стали верхами, верхи должны стать низами, но верхи любят быть наверху, и у них есть армия и флот. Революция без насилия невозможна; рано или поздно она закончится поражением, как закончилась поражением революция вашего отца. Вы усвоили урок? Или повторить?
Даниель пытался что-то сказать, а именно — взмолиться, чтобы Джеффрис не повторял. Он должен был взмолиться, потому что демонстрация причиняла чудовищную боль и могла бы его убить, и молчал лишь потому, что гортань не работала.
— Судья обязан отчитать виновного, дабы направить его на путь исправления, — задумчиво продолжал Джеффрис. — С этим покончено, переходим к вынесению приговора. Касательно него у меня есть дурная новость и хорошая новость. Обычай требует, чтобы тот, кого они затрагивают, сам выбрал, какую услышать первой. Однако хорошая новость для меня — дурная для вас и наоборот, так что предоставить выбор вам значило бы внести путаницу. Итак, дурная новость для меня, что вы правы и суд Звёздной палаты до сих пор официально не восстановлен. Это лишь забава для нескольких старших юристов без полномочий выносить законный приговор. Хорошая новость для меня: вам я могу вынести суровейший приговор и без всяких законных полномочий; я приговариваю вас, Даниеля Уотерхауза, быть Даниелем Уотерхаузом до скончания дней и жить каждый час, каждый миг с сознанием собственной омерзительной трусости. Прочь! Вы позорите эту палату! Ваш отец был злодей и заслужил свою кару. Вы — жалкая пародия на него! Да, да, встать, кругом, марш! Убирайтесь! То, что вам придётся терпеть себя до смертного часа, не означает, что мы должны сносить тот же срам! Вон! Вон! Приставы, бросьте это трусливое животное в канаву, и пусть моча, текущая по его ногам, смоет его в Темзу!
* * *
Даниеля выбросили, как труп, за Вестминстером, между аббатством и городком Челси. Когда его сбрасывали с телеги, он чуть не лишился головы: один из крюков зацепился за борт и рванул так, словно душу выдирают из тела. Однако доска сломалась раньше позвоночника, и Даниель рухнул в грязь — во всяком случае, так он заключил, придя в сознание.
Больше всего на свете он хотел упасть ничком и рыдать, пока не умрёт от обезвоживания. Однако ошейник не позволял лечь, всё равно как если бы Дрейк стоял рядом и распекал его за нежелание встать. Поэтому Даниель поднялся и побрёл прочь, глотая горькие слёзы. Он узнал место: Свиной пустырь, или Пимлико, как предпочитали называть его торговцы недвижимостью; не город и не деревня, а собрание всего худшего, что в них есть. Бродячие псы гоняли диких кур по земле, изрытой свиньями и обглоданной козами до того, что не осталось и травинки. Ночные огни пекарен и пивоварен бросали багровые отблески на пьяниц и потаскух.
Впрочем, было бы куда хуже, если бы его бросили в лесу или в кустарнике. Ошейник изобрели для рабов: каждая ветка, лиана или ствол превращались в констебля, хватающего беглеца за шкирку. Даниель ощупал его и нашёл забитый в петли деревянный колышек, который без особого труда сумел раскачать и вытащить, после чего ошейник легко снялся. У Даниеля возник театральный порыв швырнуть его в реку, потом он опомнился и сообразил, что предстоит ещё милю тащиться по нехорошему месту, возможно, отбиваясь от бродячих псов и просто бродяг. Поэтому он крепко сжал ошейник и принялся помахивать им взад-вперёд, просто для храбрости. Однако никто не думал на него покушаться. Враги Даниеля были не из тех, кого можно отпугнуть железным прутом.
К югу от обжитой и цивилизованной части Вестминстера начали разбивать новую модную улицу — очередной проект Стерлинга Уотерхауза, который звался теперь графом Уиллсденским и большую часть времени проводил в своём скромном имении на северо-западе Лондона, стараясь собственным примером поднять престиж этих мест.
Среди тех, кто вложил средства в Вестминстер-стрит, была и небезызвестная Элиза, ныне графиня де ля Зёр. Мысли о ней занимали у Даниеля примерно пятьдесят процентов времени, то есть несообразно много. Если бы он приходил к новым и оригинальным соображениям касательно Элизы, это оправдывало бы трату десяти, ну, двадцати процентов времени. Однако он думал одно и то же снова и снова. За час, проведённый в Звёздной палате, он почти о ней не вспоминал и теперь навёрстывал упущенное.
В феврале Элиза посетила Лондон. Пользуясь рекомендательными письмами от Лейбница и Гюйгенса, она сумела попасть на заседание Королевского общества — одна из первых женщин, если не считать уродиц, которые демонстрировали множественные влагалища или кормили грудью двухголовых младенцев. Даниель немного нервничал, сопровождая графиню де ля Зёр в Грешем-колледж, — боялся, что она выставит себя на посмешище или члены Общества по ошибке проведут на ней вивисекцию. Однако Элиза пришла в скромном наряде и вела себя соответственно, так что всё прошло хорошо. Позже Даниель повёз её в Уиллсден и познакомил со Стерлингом. Они отлично поладили, что неудивительно: полгода назад оба были простолюдинами, а теперь расхаживали по будущему французскому саду Стерлинга, обсуждая, где поставить вазы и урны и в каких лавках лучше покупать фамильные ценности.
Так или иначе, теперь они вместе вкладывали средства в окультуривание Свиного пустыря. Даниель тоже внёс несколько фунтов (не потому, что собирался сделаться финансистом, но все последние двадцать лет британская монета только обесценивалась, и это был единственный способ сохранить деньги). Чтобы прежние обитатели (дву- и четвероногие) не совершали набеги на свои старые территории, здесь поселили сторожа с целой сворой полоумных собак. Перелезая через ограду в четвёртом часу утра, Даниель перебудил их всех. Сторож, разумеется, проснулся последним — к тому времени собаки изорвали на Даниеле одежду. Впрочем, после всего остального одежда была не самой большой потерей.
Даниель радовался уже тому, что кто-то его узнал. Само собой, он соврал про нападение негодяев, и сторож, само собой, подмигнул. Он напоил Даниеля пивом — от такой доброты у того снова навернулись слёзы — и послал мальчишку к Вестминстеру за портшезом — своего рода вертикальным гробом, который несли на палках рослые молчуны. Даниель забрался внутрь и уснул.
Проснулся он на заре перед Грешем-колледжем, на другом конце Лондона. Его ждало письмо из Франции.
Письмо начиналось:
Всё так ли ужасна погода в Лондоне? Здесь, в Версале, мы уже сподобились посещения весны. Ждите вскоре и моего посещения.
На этом месте Даниель, читавший письмо в вестибюле колледжа, остановился, сунул письмо за пояс и вступил в тайное святилище.
Сам сэр Томас Грешем, вернись он на землю, не узнал бы своего дома. Королевское общество хозяйничало в здании почти три десятилетия и практически исчерпало его возможности. Даниель только фыркал, слыша речи о том, чтобы поручить Рену строительство нового здания и переехать туда. Королевское общество не сводится к коллекции, и его так же нельзя переселить в другое здание, перевезя экспонаты, как невозможно отправиться во Францию, вырезав свои органы и отправив их через Ла-Манш в бочке. Как геометрическое доказательство содержит в ссылках и терминах всю историю геометрии, так и отдельные помещения Грешем-колледжа хранили историю натурфилософии с первых встреч Бойля, Рена, Уилкинса и Гука до сего дня. Расположение и порядок слоёв отражали то, что происходило в умах членов Общества (главным образом Гука) в любую конкретную эпоху; переместить их или разобрать всё равно что сжечь библиотеку. Тот, кто не может найти здесь нужную вещь, недостоин сюда входить. Даниель относился к Грешем-колледжу как француз — к французскому языку: тому, кто его знает, всё понятно, а кто не знает, может катиться к чёрту.
Он за полминуты отыскал в потёмках «И-Цзин», пошёл туда, где розовоперстая Аврора уже скреблась в пыльные окна, и открыл девятнадцатую гексаграмму, «Посещение». Далее книга расписывала неисчерпаемые значения символа. Даниеля интересовало только одно — 000011. Так узор сплошных и прерывистых линий переводился в двоичное число. В десятичном выражении ему соответствовало 3.
Даниель имел полное право подняться в свою мансарду и уснуть, но считал, что более чем выспался за сутки под влиянием опиума, а события в Звёздной палате и позже на Свином пустыре взбудоражили его разум. Любая из трёх причин сама по себе могла бы прогнать сон: свежая рана на шее, суета пробуждающегося Сити и животная, неутолимая страсть к Элизе. Он поднялся в комнату, которая оптимистично звалась библиотекой — не из-за книг (они были повсюду), а из-за окон. Здесь он положил Элизино письмо на заляпанный старыми чернильными пятнами стол, а рядом поместил листок черновой бумаги (на самом деле — пробный оттиск гравюры для третьего тома ньютоновых «Математических начал»). Исследуя буквы в Элизином письме, Даниель относил каждую к алфавиту 0 или к алфавиту 1 и записывал цифры на листке группами по пять, вот так:
DOCTO RWATE RHOUSE
01100 00100 100000
Первая группа цифр соответствовала числу 12, вторая — 4, третья — 16, четвёртая — 6. Записав их в новую строчку и вычтя из каждого тройку, он получил:
12 4 16 6
3 3 3 3
9 1 13 3
или в буквах:
IAMC
Покуда он работал, стало светлее.
Лейбниц строит великолепную библиотеку в Вольфенбюттеле, с высокой ротондой, в которой свет будет изливаться на стол через крышу…
Он лежал лбом на столе. Не лучшая поза для работы. И для сна тоже, разве что шея у тебя так раскарябана, что по-другому не ляжешь и не заснёшь. А Даниель и впрямь спал. Страницы под его лицом обратились в море жуткого света, невыгодного света полудня.
— Воистину вы — пример для всех натурфилософов, Даниель Уотерхауз.
Даниель выпрямился. Он окостенел, словно горгулья, и чувствовал, как трескается корка на шее. Через два стола от него, с пером в руке, сидел Николя Фатио де Дюийер.
— Сударь!
Фатио поднял руку.
— Не хотел вас беспокоить. Нет никакой надобности…
— Ах, но у меня есть надобность выразить вам благодарность. Я ещё не видел вас с тех пор, как вы спасли жизнь Вильгельму Оранскому.
Фатио на мгновение закрыл глаза.
— То было как схождение планет — чистая случайность, без всякой моей заслуги, посему не надо об этом.
— Я недавно узнал, что вы в Лондоне и что на Континенте ваша жизнь была в опасности. Узнай я раньше, я бы предложил посильное гостеприимство…
— А будь я достоин звания джентльмена, я бы спросил вашего разрешения, прежде чем располагаться здесь, — отвечал Фатио.
— Полагаю, Исаак вам всё тут показал? Очень рад.
Даниель заметил, что Фатио смотрит на него пристальным, анализирующим взглядом, словно Гук — через оптическое стекло. Почему-то у Гука это выходило естественно, у Фатио — самую чуточку оскорбительно. Разумеется, Фатио гадал, откуда Даниель знает про его дружбу с Исааком. Даниель мог бы рассказать про Джеффриса и Звёздную палату, но лишь запутал бы этим дело.
Фатио, кажется, только сейчас заметил, что у Даниеля с шеей. Глаза его видели всё, но были такие большие и лучезарные, что не могли скрыть, куда смотрят. В отличие от Джеффриса, чьи глаза выглядывали из глубоких амбразур, Фатио не мог ни на что посмотреть украдкой.
— Не спрашивайте, — сказал Даниель. — Вы, сударь, получили свою почётную рану на побережье. Я свою, не столь почётную, — в Лондоне, в борьбе за то же общее дело.
— Не вызвать ли врача, доктор Уотерхауз?
— Благодарю за заботу. Всё отлично. Чашка кофе, и я буду как новенький.
Даниель собрал бумаги и отбыл в кофейню, где было людно, хотя чувствовал он себя там уединённее, чем под взглядом Фатио.
Двоичные числа, запрятанные в тонкостях Элизиного почерка, в десятичном выражении принимали вид:
12 4 16 6 18 16 12 17 10
и, после вычитания тройки (ключа, зашифрованного в ссылке на «И-Цзин»):
9 1 13 3 15 13 9 14 7…
что означало:
I AM COMING…
Я приезжаю…
Полная расшифровка отняла изрядное время: Элиза подробно расписывала, как собирается ехать и что намерена делать в Лондоне. Записав сообщение, Даниель внезапно понял, что сидит очень долго, выпил много кофе и должен немедленно отлить. Он уже не помнил, когда последний раз справлял малую нужду. Итак, Даниель вышел на двор за кофейней.
Ничего не произошло, поэтому через полминуты он нагнулся вперёд, словно кланяясь, и упёрся лбом в каменную стену. Он знал, что такая поза помогает расслабить некоторые мышцы внизу живота, и тогда моча потечёт легче. Вместе с особыми движениями бёдер и глубоким дыханием это позволило вызвать несколько струек буроватой мочи. Когда метод перестал работать, Даниель повернулся, задрал одежду и сел на корточки, чтобы помочиться на арабский манер. Перемещая центр тяжести, он сумел выдавить тонюсенькую тёплую струйку, которая, если её поддерживать, должна была принести облегчение.
Соответственно, у него было вдоволь времени поразмышлять об Элизе, если можно назвать размышлением череду безумных фантазий. Из письма явственно следовало, что она рассчитывает посетить Уайтхолл. Это не составило бы труда, ибо через дворец мог пройти любой человек в одежде и без зажжённой гранаты в руке. Однако поскольку Элиза была графиня, а Даниель (чего бы там ни говорил Джеффрис) оставался придворным, её слова о желании посетить Уайтхолл означали намерение пообщаться со знатью. Что тоже несложно было устроить: Даниель представил, как католики-франкофилы, составляющие большую часть придворных, наперебой бросятся обхаживать Элизу хотя бы с тем, чтобы посмотреть на последнюю французскую моду.
Однако всё следовало тщательно спланировать — опять-таки если можно назвать планированием поток дурацких мечтаний. Подобно астроному, составляющему таблицы приливов, Даниелю надлежало спроецировать смену времён года, литургический календарь, сессии Парламента, помолвки, смертельные болезни и беременности разных выдающихся особ на то время, когда Элиза собирается посетить Лондон.
Сначала он подумал, что она приедет в самый подходящий момент: через три недели король должен подписать новую Декларацию о Веротерпимости, которая сделает его героем, по крайней мере в глазах нонконформистов. Однако затем, сидя на корточках и отсчитывая недели, словно кап-кап-кап желтоватой струйки, Даниель сообразил, что Элиза приедет никак не раньше мая. У священников Высокой церкви будет несколько воскресений, чтобы со всех амвонов обличить декларацию, Они скажут, что её истинная цель — расчистить дорогу папизму, а сам Даниель Уотерхауз в лучшем случае — глупец, в худшем — предатель. К тому времени ему придётся жить в Уайтхолле.
Вот тут-то — воображая, как живёт заложником под охраной гвардейцев Джона Черчилля, — Даниель припомнил ещё одну мысленную таблицу эфемерид, отчего вообще перестал журчать.
Королева была в тягости. До сих пор ей не удалось доносить ни одного ребёнка. Беременность явилась большей неожиданностью, чем обычно у других женщин. Может быть, о ней не торопились объявлять, боясь, что всё закончится очередным выкидышем. Однако, судя по виду, сейчас королева была на большом сроке, и весь Уайтхолл обсуждал размеры её живота. Предполагали, что она разрешится в конце мая — начале июня, тогда же, когда приедет Элиза.
Элиза рассчитывала с помощью Даниеля попасть в Уайтхолл, чтобы как можно раньше узнать, родится ли у Якова II законный наследник, и соответственно распределить инвестиции. Даниелю это должно было быть так же ясно, как то, что у него большой камень в мочевом пузыре, тем не менее загадочным образом он сумел закончить своё дело и вернуться в кофейню, не осознав ни того, ни другого.
Единственным, кто, казалось, всё понимает, был Роберт Гук, сидевший в той же кофейне. Он беседовал, как обычно, с сэром Кристофером Реном, однако в открытое окно наблюдал за Даниелем. У него было лицо человека, настроенного без обиняков поговорить о неприятных вещах, и Даниель сумел ловко уклониться от разговора.
Версаль июль 1688
Д'Аво
Мсье!
Как Вы и просили, я перешла на новый шифр. Никогда не поверю, что голландцы взломали старый и читали все Ваши письма! Однако, как всегда, я — сама осторожность и буду выполнять всё, что Вы мне предписываете.
Спасибо Вам за любезные, хоть и несколько ироничные поздравления по случаю вступления в наследственный титул. (Поскольку мы теперь ровня, несмотря на Ваши возможные сомнения в законности моего титула, надеюсь, Вы не обидитесь, что я обращаюсь к Вам не монсеньор, а мсье.) До последнего письма Вы молчали несколько месяцев. Сперва я предположила, что Вильгельм Оранский из вульгарной мести за так называемую «попытку похищения» заключил Вас под домашний арест и лишил возможности отсылать письма. Потом я забеспокоилась, что Вы охладели к Вашей покорной и преданной слуге. Теперь я вижу, что это были глупые фантазии — пустое беспокойство, свойственное нашему полу. Мы с Вами близки, как и всегда. Посему постараюсь написать Вам хорошее письмо, дабы побудить Вас ответить тем же.
Прежде всего о деле. Я ещё не подвела итоги второго квартала 1688 года, так что пока, пожалуйста, не сообщайте этого другим инвесторам, но думаю, мы добились больших успехов, чем кто-либо догадывается. Да, акции Голландской Ост-Индской компании падали, но рынок был слишком неустойчив для успешной игры на понижение. Однако кое-что — в Лондоне, как ни странно, — спасло наши инвестиции. Во-первых, это движение товаров, в особенности — серебра. Английская монета с каждым днём становится всё менее полновесной, фальшивомонетчики — бич Британских островов… дабы не утомлять Вас подробностями, скажу, что обесценивание денег подхлёстывает движение золота и серебра за рубеж и обратно, на чём можно получить неплохой профит, если правильно сделать ставки.
Вы, возможно, удивитесь, откуда я, живя в Версале, узнаю, как правильно делать ставки. Позвольте Вас успокоить и сообщить, что с нашей последней встречи я дважды посетила Лондон — первый раз в феврале и второй — в мае, тогда же, когда у Якова II родился сын. Второй визит я обязана была нанести, поскольку все знали, что английская королева беременна и будущее Европы и Британии зависит от того, родит ли она наследника. Ожидалось, что амстердамский рынок бурно отреагирует на вести из Англии, поэтому я поспешила туда. Я пленила англичанина, близкого к королю — настолько близкого, что он сумел провести меня в Уайтхолл в самое время родов. Поскольку это деловой отчёт, не стану распространяться подробнее, но появление на свет младенца сопровождали некоторые странные обстоятельства, которыми я позабавлю Вас позже.
Англичанин этот — довольно заметная фигура в Королевском обществе. У него есть старший брат, который делает деньги столькими способами, что всех и не перечислить. Старые семейные узы связывают их со златокузнечными лавками на Треднидл и Корнхилл, а более новые — с банком, учреждённым сэром Ричардом Апторпом после того, как Карл II разорил почти всех ювелиров. На случай, если Вы не знакомы с концепцией банка, это нечто вроде златокузнечной лавки, только без всякого отношения к ювелирному делу, — чисто финансовое учреждение, оперирующее металлами и ценными бумагами. Как ни трудно поверить, такая деятельность приносит солидный доход, по крайней мере в Лондоне, и Апторп занимается ею вполне успешно. Через него-то я и узнала о вышеупомянутых тенденциях в изменении курсов золота и серебра, так что смогла правильно распределить ставки.
У англичан, по их дикости, нет ничего похожего на Версаль; в Лондоне перемешаны знать, приверженцы разных религий, коммерсанты и вагабонды. Вы бывали в Амстердаме и можете представить себе Лондон, только тут всё куда менее упорядоченно. Встречи происходят в кофейнях. Вокруг Биржи полно заведений, где подают кофе или шоколад, и в каждом свой круг посетителей. Акционеры Ост-Индской компании собираются в определённой кофейне… и так далее. Английская заморская торговля сейчас на подъёме, поэтому большое значение приобрело страховое дело. Те, кому нужна страховка, отправляются в кофейню Ллойда, которую почему-то облюбовали страховщики. Это удобно и покупателю, и продавцу: покупатель может сравнить условия, просто переходя от столика к столику, а продавцы — объединиться и распределить риск. Надеюсь, что не утомила Вас до смерти, мсье, но дело это невероятно увлекательное; Вы сами получили на нём неплохой доход и можете на часть вырученных денег приобрести авантюрный роман, дабы прогнать скуку, которую я на Вас нагнала. Весь Версаль расхваливает книгу «Эммердёр в Берберии»; надёжные люди утверждают, что видели экземпляр в королевской опочивальне.
Довольно о деле: перейдём к сплетням.
Теперь, когда я — графиня, Мадам соблаговолила меня заметить. Долгое время она считала меня выскочкой, и я ждала, что она последняя при дворе согласится принять мой титул. Однако она изумила меня любезным и почти ласковым отношением, а третьего дня, в саду, даже удостоила короткой беседы. Её прежнюю холодность я объясняю двумя причинами. Во-первых, подобно другим членам иноземных королевских семейств, Палатина (как здесь порой называют Лизелотту по французскому произношению слова «Пфальц») не вполне уверена в своём положении, потому склонна возвышать себя, принижая тех, чья родовитость ещё сомнительнее. Это неприятно, но очень по-человечески! Во-вторых, её главная соперница — де Ментенон, которая из грязи стала неофициальной королевой Франции. Всякая честолюбивая молодая особа при дворе напоминает Лизелотте её врагиню.
Многие аристократы презирают меня за то, что я ворочаю деньгами. Лизелотта не такая. Напротив, полагаю, потому-то она до меня и снизошла.
Проведя два года в семье герцогини д'Уайонна в окружении молодых женщин того самого типа, который так презирает Мадам, я могу понять, почему она их сторонится. У этих девиц совсем немного за душой: имя, тело и (при некотором природном везении) ум. Имени и прилагающейся к нему родословной довольно, чтобы попасть в Версаль. Это подобно приглашению на бал. Однако у большинства семей долгов больше, чем средств. Очутившись в Версале, девица должна за несколько лет устроить свою жизнь. Она — словно срезанная роза в вазе: каждый день на заре выглядывает в окно, видит, как садовник вывозит телегу её увядших товарок за город, где их пустят на перегной, и ясно осознаёт своё будущее. Через несколько лет её затмят те, что помоложе. Братья получат наследство, пусть и обременённое долгами. Если она удачно выйдет замуж, как София, то, возможно, её ждёт будущее; если нет, её отправят в монастырь, как двух сестёр Софии, при всём их уме и красоте. Когда такая решимость во что бы то ни стало добиться своего соединяется с безоглядным эгоизмом юности, жестокость входит в привычку.
Немудрено, что Мадам чурается особ подобного рода. До последнего времени она относила к ним и меня, ибо не видела никаких отличий. Позже, как я уже писала, ей стало известно, что я занимаюсь вложением денежных средств. Это сразу меня выделило — показало ей, что я имею за душой что-то помимо придворных интриг и потому не так опасна, как остальные. Она держится со мной словно я вышла за красавчика-герцога и устроила свою жизнь. Я уже не срезанная роза, а розовый куст, пустивший корни в благодатную почву.
А может быть, я делаю слишком смелые выводы из короткого разговора!
Она спросила меня, хороша ли охота на Йглме. Зная её увлечение этим искусством, я ответила, что никакая, если не считать охотой метание камней в крыс… А какова охота в Версале? Разумеется, я имела в виду здешние охотничьи угодья, но Лизелотта отвечала:
— Во дворце или за его пределами?
— Я видела, как охотятся в стенах дворца, — проговорила я, — но лишь при помощи силков и яда на манер низкого люда.
— Йглмцы больше привыкли к жизни вне стен?
— Хотя бы потому, что ветер постоянно сносит наши жилища, Мадам.
— Вы умеете ездить верхом, мадемуазель?
— В некотором роде; ибо научилась ездить без седла, — отвечала я.
— Там, откуда вы родом, нет сёдел?
— Были, пока мы с вечера вешали их на деревья, дабы уберечь от прожорливых грызунов. Однако англичане вырубили все деревья, и теперь мы ездим на неосёдланных лошадях.
— Хотела бы я посмотреть, — сказала она, — хотя вряд ли это прилично.
— Мы — гости короля и должны следовать правилам приличий, которые он установил, — отвечала я.
— Если вы покажете здесь, что хорошо ездите в седле, я приглашу вас в Сен-Клу — моё имение, где вы сможете подчиняться моим правилам.
— Не будет ли Мсье возражать?
— Мой супруг возражает против всего, что я делаю, — сказала она, — и посему его возражения не имеют никакого веса.
В следующем письме опишу, сумела ли я показать себя достойной наездницей и получить приглашение в Сен-Клу.
Тогда же пришлю и квартальный отчёт!
Элиза де ля Зёр.
Лондонский Тауэр зима и осень 1688
Поэтому обычно люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путём подкупа государственного правосудия или получить прощение за деньги или другие формы вознаграждения.[22]
Гоббс, «Левиафан»Англия — страна, где чтят традиции: его поместили в ту же камеру, в которой двадцать лет назад сидел Ольденбург.
Однако кое-что изменилось: Яков II в отличие от старшего брата был злобен и подозрителен, поэтому Даниеля стерегли строже, чем Ольденбурга, и редко выпускали прогуляться по стенам. Почти всё время он проводил в круглой комнате среди загадочных значков, нацарапанных алхимиками и колдунами древности, и скорбных латинских сетований, оставленных папистами при Елизавете.
Двадцать лет назад они с Ольденбургом шутили, что надо бы написать изречение на универсальном алфавите Джона Уилкинса. Эхо разговора с Ольденбургом словно висело в комнате, как будто стены — зеркало телескопа, вечно возвращающее информацию в его центр. Теперь идея универсального алфавита казалась Даниелю наивной. Первые две недели заточения он даже не думал о том, чтобы царапать на стенах. Он полагал, что занятие это долгое, и не надеялся столько прожить. Джеффрис бросил его в Тауэр, чтобы убить, а когда Джеффрис намечает жертву, он действует неотвратимо, как крестьянка, выбравшая на обед курицу. Однако никакого судебного разбирательства не происходило — следовательно, убийство предполагалось не юридическое (то есть упорядоченное и более или менее предсказуемое), а иного рода.
В Тауэре было на удивление тихо. Монетный двор не работал, посетители к Даниелю не приходили, и хорошо: убийцы нечасто дают жертве такую возможность навести порядок в своей душе. Пуритане в отличие от католиков перед смертью не исповедуются; тем не менее Даниель считал, что стоило бы немного прибраться в пыльных уголках души, прежде чем придут люди с кинжалами.
Итак, он тщательно исследовал свою душу и ничего в ней не нашёл. Она была пустой и голой, как разорённая церковь. Он не обзавёлся ни женой, ни детьми. Он вожделел к Элизе, графине де ля Зёр, однако в этом круглом запертом помещении внезапно осознал, что она не питает к нему ни ответной страсти, ни даже особого расположения. Он не сделал в науке ничего выдающегося, потому что родился в одно время с Гуком, Ньютоном, Лейбницем и вынужден был довольствоваться ролью писаря, резонатора, мальчика на посылках. Апокалипсис, к которому его готовили, не состоялся, и он направил все силы на приближение мирского Апокалипсиса, который назвал революцией. Сейчас в подобного рода перемены верилось с трудом. Можно было бы нацарапать что-нибудь на тюремной стене — хоть какой-то след в жизни, да времени не оставалось.
В конечном счёте его эпитафией будет «ДАНИЕЛЬ УОТЕРХАУЗ, 1646—1688, СЫН ДРЕЙКА». Обычный человек впал бы в уныние, но душе пуританина и рассудку натурфилософа импонировала самая скудость этих слов. Положим, он родил бы дюжину детей, написал сотню книг, освободил от турок множество городов и весей, любовался бы памятниками самому себе, а потом угодил в Тауэр, где ему перережут горло. Что изменилось бы? Или всё это означало бы лишь лживую спесь, пустой блеск, мнимое утешение?
Душа каким-то образом создаётся и попадает в тело, которое некоторое время живёт. Всё остальное — вера и домыслы. Может быть, после смерти ничего нет. Но если есть, Даниель не верил, что это как-то связано с мирскими достижениями тела — рождением детей, накоплением золота — иначе как через те следы, какие остаются в сознании. Он убеждал себя, что скудная событиями жизнь ничуть не повредила его душе. Скажем, рождение детей могло бы его изменить, однако лишь через переживания, которые ускорили бы некое преображение духа. Всякий рост или перемена в душе должны быть внутренними, как метаморфозы в коконе, в яйце, в семени. Внешние причины в состоянии подтолкнуть их или замедлить, но не являются строго необходимыми. Иначе всё бессмысленно. Ибо всякая душа, как бы ни была она связана с миром, подобна Даниелю Уотерхаузу в одиночестве круглой камеры посреди каменного мешка, куда внешние впечатления попадают через редкие узкие амбразуры.
Во всяком случае, так он себе говорил; вскоре ему предстояло либо умереть и убедиться в своей правоте или неправоте, либо остаться в живых и гадать дальше.
На двенадцатый день заточения (17 августа 1688 года, если Даниель не сбился со счёта) перцепции, поступающие через амбразуры, сообщили о разительных переменах. Солдаты, которых он видел во дворе, исчезли, их сменили новые, в других мундирах. По виду — Собственный его величества блекторрентский гвардейский полк, что не могло соответствовать реальности, ибо полк этот размещался в Уайтхолле, и Даниель не понимал, с какой стати его бы перевели в Тауэр.
Незнакомые солдаты пришли вынести ночную посудину и принесли еду — много лучше той, к которой он успел привыкнуть. Даниель задал несколько вопросов. С дорсетширским акцентом солдаты объяснили, что и впрямь принадлежат к Блекторрентскому полку, а еда, которую они принесли, некоторое время лежала в привратницкой. Её присылали друзья Даниеля, а прежние тюремщики — пехотинцы самого низкого разбора — не давали себе труда передать.
Следом Даниель перешёл к вопросам, на которые солдаты отмечать не стали даже после того, как он угостил их устрицами. Он продолжал настаивать, и солдаты пообещали передать вопросы сержанту, который (предупредили они) сейчас страшно занят: принимает под своё начало заключённых и оборонительные сооружения Тауэра.
Сержант зашёл только через два дня. Эти двое суток дались Даниелю нелегко. Стоило убедить себя, что душа — бестелесное сознание в каменной башне, как ему принесли устриц. Самых лучших — от Роджера Комстока. Они доставляли радость телу, а душа отзывалась на них сильнее, чем приличествует бестелесному сознанию. Либо его теория ошибочна, либо мирские соблазны сильнее, чем он помнил. Когда Тесс умирала от оспы, гнойники слились, и вся кожа сошла, а внутренности через задний проход кровавым месивом выпали на постель. После этого она ещё как-то прожила десять с половиной часов. Памятуя телесные удовольствия, вкушённые с нею за десять лет, Даниель истолковал это в духе Дрейка: как притчу о бренности земных наслаждений. Лучше смотреть на мир глазами Тесс в эти десять с половиной часов, чем глазами Даниеля, когда он с ней тешился. Однако устрицы были отменные, их вкус — сильный и слегка опасный, консистенция — отчётливо эротическая.
Даниель угостил устрицами сержанта. Тот согласился, что они отменные, но в остальном всё больше молчал: на некоторые вопросы Даниеля только отводил глаза, от других — вздрагивал. Наконец он обещал передать вопрос своему сержанту, и у Даниеля возникло кошмарное видение бесконечной череды сержантов, всё более главных и недоступных.
Роберт Гук пришёл со жбанчиком эля. Даниель набросился на жбанчик, примерно как убийцы должны были наброситься на него.
— Я боялся, что вы презрите мой дар и выльете его в Темзу, — с досадой произнёс Гук, — но вижу, что уединение Тауэра превратило вас в истинного сатира.
— Я развиваю новую теорию взаимодействия перцепций с душой, так что это исследование. — Даниель опрокинул стакан, вытер пену с усов (он не брился несколько недель) и попытался сделать вдумчивое лицо. — Ожидание смерти — мощный стимул для философических умопостроений, которые будут утрачены для человечества в миг исполнения приговора. По счастью, я до сих пор жив…
— И можете изложить их мне, — кисло заключил Гук. Потом, с неуклюжим тактом: — У меня слабая память — лучше запишите.
— Мне не дают бумаги и перьев.
— Спрашивали ли вы в последнее время? До сего дня сюда не впускали ни меня, ни кого другого. Теперь здесь новый полк, новые порядки.
— Вместо бумаги я царапаю на стене. — Даниель махнул рукой в сторону начатого геометрического построения.
Серые глаза Гука скользнули по нему безразлично.
— Я увидел чертёж, как вошёл, и решил, будто это что-то древнее, сглаженное временем. Мне никогда не пришло бы в голову, что это нечто новое, в процессе развития.
Даниель опешил ровно настолько, чтобы пульс участился, кровь прихлынула к лицу, а горло перехватило.
— Трудно не счесть ваши слова упрёком. Я всего лишь проверял, смогу ли на память воспроизвести одно из доказательств Ньютона.
Гук отвёл взгляд. Солнце только-только зашло. Западные амбразуры отражались в его зрачках двумя парами алых параллельных щелей.
— Идеальная оборонительная тактика, — признал он. — Если бы в юности я больше изучал хитрости геометров и меньше вглядывался, учась видеть, возможно, я написал бы «Начала» вместо него.
Это были омерзительные слова. Зависть клубилась на заседаниях Королевского общества, как табачный дым, но мало кто отваживался высказывать её столь беспардонно. Впрочем, Гука никогда не заботило, что о нём думают.
Даниелю потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Выдержав паузу, он произнёс:
— Лейбниц сказал о перцепциях много такого, чего я до последнего времени не понимал. Вы можете как угодно относиться к Лейбницу. Однако рассудите: Ньютон думает о том, о чём никто до него не думал. Великое достижение, не поспоришь. Может быть, величайшее за всю историю человеческого разума. Отлично. Что это говорит о Ньютоне и о нас всех? Что мозг его устроен по-особому и даст фору любому. Итак, честь и хвала Исааку Ньютону! Восславим его и неведомую силу, породившую этот мозг. Теперь рассмотрим Гука. Гук видит то, чего никто до него не видел. Что это говорит о Гуке и обо всех нас? Что Гук как-то иначе устроен? О нет. Роберт, посмотрите на себя — не обессудьте, но вы сутулый, не флегматичный, дёрганный, снедаемый недугами, ваши зрение и слух не лучше, чем у людей, не видящих и тысячной доли того, что открыто вам. Ньютон совершает открытия в геометрических эмпиреях, куда нашему разуму не дано воспарить; он гуляет по саду чудес, к которому ни у кого больше нет ключа. Но вы, Гук, стоите на одной земле с обычными лондонцами. Всякий может взглянуть туда, куда смотрите вы. Но то, что видите вы, не видит никто. Вы — миллионный человек, глядящий на искру, блоху, каплю, луну, и первый, их увидевший. Сказать, что вы — ниже Ньютона, значит расписаться в собственной неглубокости, всё равно что сходить на шекспировскую пьесу и запомнить лишь поединки.
Гук некоторое время молчал. В комнате темнело, и он обратился в серого призрака, только алые искорки по-прежнему горели в глазах. Потом он вздохнул; искорки на мгновение исчезли.
— Я непременно раздобуду вам бумагу и перья, если вы об этом собирались писать, сэр, — молвил он наконец.
— Убеждён, что по прошествии времени взгляд, высказанный мною сейчас, утвердится среди учёных, — сказал Даниель. — Вряд ли это поднимет ваш статус в оставшиеся годы, ибо слава — былинка, репутация — медленно растущий дуб. При жизни мы можем лишь скакать, как белки, и собирать жёлуди. Мне нет причин скрывать свои мысли, однако предупреждаю, что могу высказывать их сколько угодно и не прибавить вам славы или богатства.
— Станет и того, что вы поведали их мне, в мрачном уединении этой комнаты, — отвечал Гук. — Отныне я ваш должник и обещаю вернуть долг, подарив вам некое сокровище, когда вы меньше всего будете ждать. Многоценную жемчужину.
Вид старшего сержанта заставил Даниеля почувствовать себя стариком. По тому, как о нём отзывались подчинённые, он ожидал увидеть седобородого старца, утратившего в сражениях руки-ноги. Однако, несмотря на шрамы и задубевшую кожу, было видно, что сержанту не больше тридцати. Он вошёл в комнату без стука, не представившись, и принялся осматривать её по-хозяйски, особо примечая, какой участок простреливается из каждой бойницы. Переходя от одной к другой, он, казалось, представлял себе груды мёртвых врагов на земле внизу.
— Собираетесь вести войну, сержант? — спросил Даниель. Он что-то писал пером на бумаге и лишь изредка косил на вошедшего глазом.
— Собираетесь её затеять? — отозвался сержант минуту спустя, как будто никуда не торопится.
— Почему вы задаёте мне такой странный вопрос?
— Пытаюсь сообразить, как пуританин сумел угодить в Тауэр сейчас, когда единственные друзья короля — пуритане.
— Вы забыли католиков.
— Нет, сэр, это король их забыл. Многое изменилось за то время, что вы тут сидите. Сперва он бросил в тюрьму англиканских епископов за отказ проповедовать терпимость к католикам и диссидентам.
— Знаю, тогда я ещё был на свободе, — сказал Даниель.
— Вся страна возмутилась, католические церкви запылали, как свечки, и король от них отвернулся, пока всё не уляжется.
— Это совсем не то же, что забыть католиков, сержант.
— Да, но с тех пор — покуда вы были в темнице, сэр, — дела у короля стали ещё хуже.
— Покуда я не узнал ничего нового, кроме того, что в королевской армии есть сержант, знающий слово «темница».
— Понимаете, никто не верит, что сын и вправду его.
— О чём вы, скажите на милость?
— Сделалось известно, что королева не была в тягости, просто носила под платьем подушку, а так называемый принц — на самом деле младенец, которого похитили из сиротского приюта и пронесли во дворец в грелке.
Даниель слушал в полном ошеломлении.
— Я своими глазами видел, как младенец выходил из королевиных недр, — сказал он.
— Что ж, профессор, берегите это знание, возможно, оно спасёт вам жизнь. Вся Англия убеждена, что младенец — безродный найдёныш. А король отступает по всем фронтам. Англикане его больше не страшатся, паписты на всех углах кричат, что он отрёкся от истинной веры.
Даниель задумался.
— Король хотел, чтобы Кембридж присвоил степень бенедиктинскому монаху, отцу Фрэнсису, которого весь университет считает засланцем Папы Римского, — сказал он. — Есть какие-нибудь новости о нём?
— Король пытался натолкать иезуитов и им подобных повсюду, — сказал сержант, — а за последние две недели почти всех отозвал. Уверен, что Кембридж выстоит, ибо власть стремительно ускользает от короля.
Даниель молчал. Некоторое время спустя сержант заговорил снова, более тихим, дружеским голосом.
— Я человек неучёный, но видел много пьес, из которых и нахватался словечек вроде «темница». Часто — особенно если пьеса идёт недавно — случается, что актёр забывает реплику, и слышно, как лютнист или оруженосец ему подсказывает. Я тоже подскажу вам следующую реплику, что-нибудь вроде: «Клянусь честью, это горькая весть; мой король, истинный друг нонконформистов, в опасности, что будет со всеми нами и чем я могу помочь его величеству?»
Даниель вновь промолчал. Сержант пришёл в некоторое возбуждение и принялся расхаживать по комнате, как будто Даниель — такое существо, которое лучше изучить с разных углов.
— С другой стороны, может быть, вы не такой уж рядовой нонконформист, коли вы в Тауэре.
— Как и вы, сержант.
— У меня есть ключ.
— Ха! А разрешение выйти?
Сержант на время приутих.
— Наш командир — Джон Черчилль, — сказал он наконец, пробуя зайти с другой стороны. — Король уже не вполне ему доверяет.
— Я всё гадал, когда же король усомнится в верности Джона Черчилля.
— Он хочет держать нас поблизости, потому что мы — лучшие его солдаты, но не так близко, как Королевскую конную гвардию, в самом Уайтхолле, на выстрел от его покоев.
— И потому вас поместили на хранение в Тауэр.
— Вам письмо.
Сержант выложил на стол конверт. На нём значилось: ЛОНДОН, ГРУБЕНДОЛЮ.
Письмо было от Лейбница.
— Это ведь вам? Не отпирайтесь, вижу по вашему лицу, — продолжал сержант. — Мы всю голову сломали, кому его отдать.
— Оно адресовано тому в Королевском обществе, кто сейчас занимается иностранной корреспонденцией, — возмущённо проговорил Даниель, — и в данный момент эта обязанность возложена на меня.
— Так это вы? Тот человек, который доставил некие письма Вильгельму Оранскому?
— Не имею никакого резона отвечать на ваш вопрос, — сказал Даниель после того, как слегка оправился от потрясения.
— Тогда ответьте вот на какой: есть ли среди ваших друзей некие Боб Кастет и Дик Шибб?
— Впервые слышу.
— Странно, потому что мы наткнулись на письменные указания тюремщику не впускать к вам никого, кроме Боба Кастета и Дика Шибба, которые могут явиться в любой час дня и ночи.
— Я их не знаю, — повторил Даниель, — и прошу ни при каких обстоятельствах не впускать в мою комнату.
— Вы многого просите, профессор, ибо указания написаны собственноручно милордом Джеффрисом, и под ними стоит его подпись.
— В таком случае вы не хуже меня должны знать, что Боб Кастет и Дик Шибб — просто убийцы.
— Я знаю, что милорд Джеффрис — лорд-канцлер, и ослушаться его — бунт.
— Тогда я прошу вас взбунтоваться.
— После вас, — отвечал сержант.
Ганновер,
август 1688
Даниель!
Не знаю, где Вы сейчас, поэтому шлю это письмо доброму старому Грубендолю и надеюсь, что оно застанет Вас в добром здравии.
Вскоре я отбываю в длительное путешествие по Италии, где надеюсь собрать доказательства, что смахнут последнюю паутину сомнений с родословного древа Софии. Возможно, Вы полагаете, что глупо отдавать столько сил генеалогии, но наберитесь терпения и в своё время увидите, что для того есть основания. Я проеду через Вену; там, коли Бог даст, попаду на аудиенцию к императору и расскажу ему о замысле Универсальной библиотеки. (Планы по добыче серебра в Гарце провалились — не потому, что мои изобретения были плохи, а потому что рудокопы, из страха остаться без работы, всячески мне противодействовали; следовательно, если библиотека будет основана, то не на прибыль от серебряных рудников, а на средства из казны какого-нибудь могущественного князя.)
Путь предстоит опасный, поэтому хочу до отъезда из Ганновера кое-что записать и отправить Вам. Это свежие идеи — незрелые яблоки, способные вызвать резь в животе. По дороге у меня будет много времени, чтобы облечь их в слова более благочестивые (дабы умиротворить иезуитов), витиеватые (дабы произвести впечатление на схоластов) либо простые (дабы потрафить салонам), но Вы, надеюсь, простите их грубость и прямоту. Если по дороге со мною приключится какое-нибудь несчастье, надеюсь. Вы или другой член Королевского общества сумеете подобрать оброненную мной нить.
Оглядываясь вокруг, мы легко можем увидеть множество Истин, например, что небо — синее, луна — круглая, люди ходят на двух ногах, собаки — на четырёх и так далее. Некоторые из истин просты и геометричны по природе, и не существует мыслимого способа их обойти, например, что прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками. До Декарта считалось, что истины такого рода малочисленны и что все они найдены Евклидом и другими мужами древности. Однако после Декарта у нас вошло в привычку рассматривать предметы в пространстве, которое можно описать числами. Теперь мы проводим две перпендикулярные прямые, которые называем декартовыми числовыми осями, и привычка эта столь заразительна, что в редкой аудитории не увидишь, как преподаватель рисует на доске большой +. Так или иначе, когда мы завели обыкновение описывать размеры, положение и скорость всего на свете посредством чисел, кривых, прямых и прочих построений, знакомых учёным мужам со времён Евклида, стало своего рода модным поветрием объяснять всё во Вселенной при помощи геометрии. Я помню, как сам увлёкся этой системой взглядов. Мне было четырнадцать, я гулял по Розенталю под Лейпцигом, якобы вдыхая ароматы цветов, а на самом деле ведя внутренний спор между схоластикой и механистической философией Декарта. Как Вы знаете, я выбрал последнюю. И с тех самых пор не перестаю изучать математику.
Сам Декарт исследовал движение и соударение шаров, как они набирают скорость, скатываясь по наклонной плоскости и проч., и пытался объяснить наблюдения в терминах теории, по природе своей чисто геометрической. Результат его труда — сугубо французский, то есть никак не соотносится с реальностью, зато красив и логически связен. С тех пор Ваши друзья Гюйгенс и Рен приложили немало усилий в том же направлении. Однако едва ли есть надобность говорить Вам, что Ньютон превыше всех расширил область истин, геометрических по своей природе. Воистину, когда бы Евклид и Эратосфен восстали из мёртвых, они бы простёрлись ниц и, будучи язычниками, поклонялись ему, как богу. Ибо их геометрия описывала лишь самые простые абстрактные фигуры, ньютонова же полагает законы, управляющие самими планетами.
Я прочёл экземпляр «Математических начал», который Вы мне столь любезно прислали, и не льщусь отыскать ошибки в доказательствах либо развить этот труд в области, автором не покорённые. Труд сей подобен куполу, который не устоял бы, не будучи целостным, а будучи целостным, стоит, и нет надобности чего-нибудь к нему прибавлять.
Однако самая его полнота наводит на мысль о необходимости дальнейшей работы. Я верю, что величественное здание «Математических начал» включает почти все геометрические истины о мире, какие только можно записать. Однако всякий купол, сколь бы ни был он велик, имеет нечто внутри и нечто вовне; ньютонов заключает в себе все геометрические истины, зато исключает прочие, имеющие основание в целесообразности и конечных причинах. Когда Ньютон встречает такую истину — например, что сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния, — он не тщится её понять, но объявляет, что мир таков, ибо таким его сотворил Бог. Для Ньютона все истины подобного рода вне сферы натурфилософии и лежат в области, к которой он почитает за лучшее приближаться с помощью алхимии.
Позвольте мне объяснить, почему Ньютон не прав.
Я пытался извлечь хоть что-нибудь ценное из геометрической теории соударений Декарта и не нашёл в ней ни капли истины.
Декарт утверждает, что два соударяющихся тела имеют до удара и после одно и то же количество движения. Откуда он это взял? Из эмпирических наблюдений? Нет, очевидно, он их не делал, а если и делал, то видел лишь то, что хотел. Он заранее решил, что его теория должна быть геометрической, а геометрия — строгая дисциплина; геометру позволено измерять и вносить в уравнения лишь некоторые определённые величины. Первейшая из них «протяжённость» — витиеватое слово, означающее «то, что можно измерить линейкой». Декарт и большинство других включают сюда и время, ибо его можно измерить с помощью маятника, а маятник — с помощью линейки. Пройденный телом путь (который можно измерить линейкой), делённый на время прохождения (которое можно измерить маятником, который, в свою очередь, можно измерить линейкой), даёт скорость. Скорость входит в декартовы вычисления количества движения: чем больше скорость, тем больше движения.
Пока всё прекрасно, а вот далее он допускает ошибку, рассматривая количество движения как скаляр, лишённое направления число, в то время как на самом деле оно — вектор. Но это ещё наименьший промах. В системе двух ортогональных осей достанет места для векторов, мы просто изображаем их стрелками на том, что я называю декартовой координатной плоскостью, и — хлоп! — получаем геометрические элементы, послушные геометрическим правилам. Мы можем складывать их геометрически, вычислять их модуль по теореме Пифагора и так далее.
Однако такой подход чреват двумя затруднениями. Первое — относительность. Нет неподвижной системы отсчёта для измерения протяженностей. Геометр в лодке, влекомой речным течением, измерив скорость летящей птицы, получит иное число, нежели его собрат, стоящий на берегу; а геометр, оседлавший сказанную птицу, не намеряет никакой скорости!
Второе: декартово количество движения, масса, помноженная на скорость (mv), не сохраняется при падении тел. Тем не менее проделав или хотя бы вообразив простейший эксперимент, легко показать, что масса, помноженная на квадрат скорости (mv2), сохраняется.
Величина mv2 обладает некоторыми интересными свойствами. Например, она определяет работу, которую движущееся тело способно произвести. Работа есть нечто, имеющее абсолютное значение, оно свободно от вышеупомянутой проблемы относительности, с которой неизбежно сталкивается всякая теория, основанная на использовании линейки. В формуле mv2 скорость возведена в квадрат и, следовательно, утрачивает направление — она уже не имеет геометрического смысла. В то время как mv можно нанести на декартову плоскость и подвергнуть любым евклидовым ухищрениям, mv2 нельзя, ибо при возведении в квадрат скорость v утратила направленность и, если позволите, приобрела метафизичность, вышла из геометрической плоскости в новую область, в область Алгебры. Величина mv2 тщательно сохраняется Природой, и самое её сохранение может считаться одним из законов Вселенной; однако он вне Геометрии, следовательно, вне купола, выстроенного Ньютоном. Это иной случай, негеометрическая истина, одна из множества, что открыла либо откроет натурфилософия. Должны ли мы, подобно Ньютону, сказать, что все такие истины созданы Богом по произволу? Должны ли мы искать их в оккультном? Ибо если Господь установил законы произвольно, то они оккультны по природе.
Для меня такой взгляд оскорбителен; он отводит Богу роль капризного деспота, желающего сокрыть от нас истину. В одних вещах, вроде теоремы Пифагора, Бог, создавая мир, возможно, не имел иного выбора. В других, как в случае обратно квадратичного закона гравитации, Он, возможно, имел выбор; но я склонен верить, что в таких случаях Он действовал мудро и в согласии с неким планом, который наш ум — будучи образом и подобием Его — способен постичь.
В отличие от алхимиков, которые всюду зрят ангелов, демонов, чудеса и божественные сущности, я не различаю в мире ничего, кроме тел и разумов. А в телах не различаю ничего, кроме неких наблюдаемых качеств, как то: протяжённость, форма, положение и перемена названных. Всё остальное просто говорится, но не понимается; пустой звук. Ничто в мире нельзя ясно постичь, не сведя к перечисленным понятиям. Если физическое невозможно объяснить механически, то Господь, даже пожелав, бессилен явить и растолковать нам природу.
Сдаётся, я проведу остаток жизни, объясняя эти идеи тем, кто пожелает слушать, и защищаясь от тех, кто не пожелает, и потому всё, исходящее от меня, будет рассматриваться в этом свете. Если Королевское общество вознамерится сжечь моё чучело, объясните им, Даниель, что я желаю расширить ньютонов труд, не ниспровергнуть.
Лейбниц.
P. S. Я знаю эту Элизу (ныне де ля Зёр), которую Вы упомянули в последнем письме. Она чрезвычайно увлечена натурфилософией. Необычная черта в женщине, но нам ли сетовать?
— Доктор Уотерхауз.
— Сержант Шафто.
— К вам посетители: мистер Дик Шибб и мистер Боб Кастет.
Даниель сел на постели; никогда он не просыпался так быстро.
— Умоляю вас, сержант Шафто… — начал он и осёкся, подумав, что, наверное, сержант Шафто уже принял решение, дело, почитай, сделано, и он только зря унижается. Он встал и зашаркал к лицу сержанта Шафто и свече, висящим в тёмной камере, словно нерезкая двойная звезда: лицо — размытое красноватое пятно, свеча — горящая белая точка. Кровь отхлынула от головы, и Даниель ступал как пьяный, однако не колебался. Он будет блеющим голосом из темноты, покуда не вступит в шар света от дрожащей свечи, и если Боб Шафто думает, впускать ли сюда убийц, пусть прежде посмотрит ему в глаза. Яркость света, как и сила тяготения, подчиняется закону обратных квадратов.
Лицо Шафто наконец сфокусировалось. Казалось, его слегка мутит.
— Я не такой бессердечный скот, чтобы позволить наёмным убийцам зарезать беззащитного профессора. Лишь одному человеку в мире я желаю подобной участи.
— Спасибо, — отвечал Уотерхауз, приближаясь так, что теперь ощущал на лице тепло пламени.
Шафто что-то заметил, повернулся боком к Даниелю и прочистил горло. То было не деликатное «гм» придворного, а честное отхаркивание вставшей в горле флегмы.
— Вы заметили, что я обмочился, да? — сказал Даниель. — Вы вините себя — думаете, будто напугали меня, и я со страху пустил струю. Да, я и впрямь немного струхнул, но моча течёт по моим ногам не из-за этого. У меня камень, сержант. Я не могу мочиться, когда пожелаю, а теку, как плохо проконопаченный бочонок.
Боб Шафто кивнул, явно радуясь, что он тут не виноват.
— И сколько вам осталось?
Вопрос был задан так небрежно, что Даниель не сразу его понял.
— Вы спрашиваете, сколько мне осталось жить?
Сержант кивнул.
— Простите, сержант Шафто, я забыл, что по роду деятельности вы близко сталкиваетесь со смертью и говорите о ней, как шкипер о ветре. Сколько мне осталось? С год, наверное.
— Его можно удалить.
— Спасибо, я наблюдал, как удаляют камень, сержант, и предпочту смерть. Бьюсь об заклад, это хуже, чем то, что вам случалось видеть на поле боя. Нет, я последую примеру своего наставника Джона Уилкинса.
— Люди живут после такой операции, разве нет?
— Мистеру Пепису камень удалили тридцать лет назад, и он до сих пор жив.
— Он ходит? Говорит? Мочится?
— Разумеется, сержант Шафто.
— В таком случае, доктор Уотерхауз, эта операция не хуже того, что я видел на поле боя.
— Знаете, как её делают, сержант? В промежности, между мошонкой и задним проходом…
— Мы можем обмениваться кровавыми байками, покуда свеча не догорит, и всё без толку; а если вы и впрямь намерены умереть от камня, вам не следует терять время.
— Здесь мне ничего другого не остаётся.
— Вот тут вы ошибаетесь, доктор Уотерхауз, ибо у меня интересное предложение. Мы с вами друг другу поможем.
— Вы хотите денег за то, чтобы не пускать сюда подосланных Джеффрисом убийц?
— Если бы хотел, то был бы жалким трусливым гадом, — сказал Боб Шафто. — И если вам угодно так обо мне думать, что ж, возможно, я впущу сюда Дика и Боба.
— Приношу извинения, сержант. Вы вправе обидеться. Мои слова продиктованы лишь тем, что я не знаю, какого рода дело…
— Видели малого, которого секли перед самым закатом? За сухим рвом, вы могли наблюдать сквозь вон ту бойницу.
Даниель отлично помнил экзекуцию. Вышли трое солдат с пиками, связали их концами и установили наподобие треноги. Вывели человека, голого по пояс, со связанными впереди руками, перебросили верёвку через треногу и натянули, так что руки его вздёрнулись над головой. Ноги развели и привязали к двум пикам, так что он не мог двинуться. Наконец вышел детина с плетью и пустил её в ход. Такая практика широко применялась среди военных и многое объясняла, почему состоятельные люди предпочитают селиться подальше от казарм.
— Я особо не вглядывался, — сказал Даниель, — но в целом с процедурой знаком.
— Возможно, вы смотрели бы внимательнее, если бы знали, что наказуемый зовётся мистер Дик Шибб.
Даниель на время утратил дар речи.
— Они пришли к вам вчера ночью, — продолжал Боб Шафто. — Для начала я рассадил их по разным камерам. Поговорил с каждым в отдельности, и оба отвечали мне с гонором. Некоторые люди имеют право так говорить — они заслужили его тем, что сделали в жизни. Мне не показалось, что Дик Шибб и Боб Кастет — люди такого рода. Другим разрешают так говорить, потому что они всех веселят. У меня когда-то был такой брат. Боб и Дик — не из этих. Увы, я не судья, поэтому не могу бросить их в тюрьму, заставить отвечать на вопросы и всё такое. С другой стороны, как сержант я вправе вербовать солдат на королевскую службу. Поскольку Боб и Дик — явные бездельники, я рекрутировал их в Собственный королевский блекторрентский гвардейский полк. В следующий миг я понял, что допустил оплошность, поскольку они не умеют подчиняться дисциплине и нуждаются в строгом наказании. Есть старый, как мир, приёмчик: я велел высечь Дика (который показался мне покрепче) под окнами у Боба Кастета. Дик — кремень, он выстоял, и, возможно, я оставлю его в полку. Однако Боб отнёсся к своей экзекуции — которая должна пройти на рассвете — как вы к удалению мочевого камня. Поэтому час назад он разбудил охранников, те разбудили меня, и я побеседовал с мистером Кастетом.
— Сержант, вы столь предприимчивы, что я едва поспеваю за вами мыслью.
— Он сказал, что Джеффрис лично велел ему и мистеру Шиббу перерезать вам горло, причём медленно, и, покуда вы будете умирать, объяснить, по чьему приказу они действуют.
— Чего я и ждал, — сказал Даниель, — и всё же от этих слов, произнесённых вслух, у меня кружится голова.
— Тогда я подожду, пока вы придёте в чувство. А главное — подожду, пока вы разозлитесь. Не пристало мне подсказывать мужу столь образованному, но в таких случаях положено злиться.
— Удивительное свойство Джеффриса: он поступает с людьми чудовищно, не вызывая злости. Его влияние на ум жертвы подобно действию стеклянного стержня, отклоняющего струйку воды; мы чувствуем, что наказаны по заслугам.
— Вы давно его знаете?
— Да.
— Давайте его убьём.
— Простите?
— Прикончим, порешим. Лишим жизни, чтобы он вам больше не досаждал.
Даниель был потрясён.
— Какая причудливая идея!
— Ничуть. И что-то в вашем голосе говорит мне, что вам она по душе.
— Почему вы сказали «мы»? Вам нет дела до моих забот.
— Вы занимаете высокое положение в Королевском обществе.
— Да.
— Вы знаете многих алхимиков.
— Хотел бы я, чтобы это было не так.
— Вы знакомы с милордом Апнором.
— Да, столько же, сколько с Джеффрисом.
— Апнор владеет моей милой.
— Простите… вы сказали, «владеет»?
— Да. Джеффрис продал ему её во время Кровавых ассизов.
— Таунтон… Ваша милая — из таунтонских школьниц!
— Да.
Даниель был зачарован.
— Так вы предлагаете своего рода пакт.
— Мы с вами избавим мир от Джеффриса и Апнора. Я получу свою Абигайль, а вы проживёте год, или сколько уж там даст Господь, в мире.
— Мне не положено мычать и телиться, сержант…
— Валяйте, профессор! Мои люди всё время так делают.
— …однако позвольте напомнить вам, что Джеффрис — лорд-канцлер королевства.
— Ненадолго, — отвечал Шафто.
— Откуда вы знаете?
— Он практически объявил это своими действиями! Вас бросили в Тауэр за что?
— За сношения с Вильгельмом Оранским.
— Так это измена! Вас должны повесить, выпотрошить, четвертовать! Но вам сохранили жизнь — почему?
— Потому что я — свидетель рождения принца и как таковой могу подтвердить законность следующего короля.
— И если Джеффрис теперь решил вас убить, что это означает?
— Что он предал короля… Боже мой, всю династию! — и готов бежать из страны. Да, теперь я понимаю ваши резоны. Благодарю за терпение.
— Учтите, я не предлагаю вам взяться за оружие или сделать что-то иное супротив вашей природы.
— Некоторые оскорбились бы, сержант, но…
— Хотя главный источник моих несчастий — Апнор, Джеффрис — первопричина, и я, не колеблясь, взмахнул бы саблей, если бы он случайно подставил мне шею.
— Приберегите саблю для Апнора, — отвечал Даниель после некоторого раздумья. На самом деле он давно принял решение, однако сделал вид, будто размышляет, не желая оставить впечатление, что для него это пустяки.
— Так вы со мной.
— Не столько я с вами, сколько мы с большей частью Англии, и Англия — с нами. Вы говорили о том, чтобы своими руками убить Джеффриса. Я скажу, что, будь мы вынуждены полагаться на мощь ваших рук, в коей я нимало не сомневаюсь, нас ждало бы поражение. Но коль скоро, как я полагаю, Англия с нами, нам довольно будет разыскать его и сказать громко: «Это милорд Джеффрис», и смерть его воспоследует закономерно, как шар, положенный на наклонную плоскость, неотвратимо скатится вниз. Вот что я имею в виду, когда говорю о революции.
— Так французы называют мятеж?
— Нет, мятеж — то, что затеял герцог Монмутский: мелкое возмущение, аберрация, обречённая на провал. Революция подобна кружению звёзд вокруг полярной оси. Ею движут неведомые силы, она неумолима, и люди мыслящие способны понять её, предсказать и употребить к своей выгоде.
— Тогда мне лучше отыскать мыслящего человека, — задумчиво пробормотал Шафто, — а не тратить ночь на жалкого неудачника.
— Я просто до сего момента не понимал, как могу употребить революцию к своей выгоде. Я делал всё для Англии, не для себя, и мне не хватало организующего принципа, чтобы придать форму моим планам. Никогда я не отваживался думать, что уничтожу Джеффриса.
— Как вор и солдат удачи всегда рад подсказать вам низкие, преступные мысли, — ответил Боб Шафто.
Даниель ушёл в полумрак к столу и вытащил из бутылки свечу. Потом быстро вернулся и зажёг её от свечи Боба.
Тот заметил:
— Я видел, как знатные люди умирали на поле боя, — реже, чем мне хотелось бы, но всё же достаточно, чтобы знать: это ничуть не похоже на картины.
— Картины?
— Ну, знаете, когда Победа спускается в солнечном луче, тряся голыми грудями, дабы возложить лавровый венок на чело умирающего, а Дева Мария соскальзывает по другому…
— Ах да. Такие картины. Да, я вам верю. — Даниель шёл вдоль круглой стены, держа свечу близко к камню, чтобы надписи, оставленные узниками на протяжении веков, отчётливее выступали в её свете. Он остановился перед незаконченной системой дуг и лучей, процарапанной поверх старой наскальной живописи.
— Не думаю, что закончу чертёж, — объявил он несколько мгновений спустя.
— Сегодня мы не уйдём. У вас скорее всего будет ещё неделя, может, больше. Нет надобности бросать работу.
— Это древние воззрения, ранее имевшие смысл, но теперь они перевернулись вверх тормашками и представляются мешаниной нелепых умствований. Пусть остаются здесь с прочим старьём, — сказал Даниель.
Замок Жювизи ноябрь 1688
От мсье Бонавантюра Россиньоля, замок Жювизи
Его Величеству Людовику XIV, в Версаль
21 ноября 1688
Сир!
Отцу моему выпала честь служить Вашему Величеству и Вашего Величества августейшему родителю в качестве придворного криптоаналитика. В искусстве дешифровки батюшка вознамерился обучить меня всему, что знал сам. Движимый сыновней любовью и рвением подданного услужить государю, я учился со всем тщанием, какое дозволяли мои скромные способности, и, когда несколько лет назад батюшка скончался, передав мне лишь десятую долю своих познаний, я тем не менее подошёл на роль Вашего Величества криптоаналитика лучше любого другого в христианском мире, не по моим достоинствам (коими не обладаю), но по отцовским, и по тому упадку, в коем пребывает криптография средь невежественных народов, окружающих Францию, как некогда варвары окружали могучий Рим.
Вместе с малой толикой отцовских знаний я унаследовал жалованье, которое Вы в своей щедрости ему положили, а равно и дворец, выстроенный ему Ленуаром в Жювизи и прекрасно Вашему Величеству известный, ибо Вы не раз посещали его по пути из Фонтенбло и обратно. Многие государственные дела обсуждались в малом салоне и саду, ибо Ваш блаженной памяти родитель и кардинал Ришелье также удостаивали этот скромный кров своими визитами во дни, когда мой отец расшифровывал письма из осаждённых гугенотских крепостей, способствуя тем самым разгрому мятежных еретиков.
Никто из монархов не осознаёт важность криптографии, как Ваше Величество. Именно прозорливости Вашего Величества, а не собственным заслугам, могу я приписать те почести и богатства, которыми Вы меня осыпаете. И лишь по глубокому интересу Вашего Величества к подобного рода вещам осмеливаюсь я взяться за перо и записать повесть о криптоанализе, не лишённую неких занимательных черт.
Как известно Вашему Величеству, несравненный Версальский дворец украшают несколько дам, ведущих обширную переписку, из которых наиболее плодовиты моя приятельница мадам де Севинье, Палатина и Элиза, графиня де ля Зёр. Есть и другие, но мы, имеющие честь служить в Чёрном кабинете Вашего Величества, тратим на корреспонденцию этих трёх столько же времени, что на письма всех прочих версальских дам.
Рассказ мой будет главным образом о графине де ля Зёр. Она часто пишет графу д'Аво в Гаагу, пользуясь одобренным шифром, дабы уберечь свои послания от моих голландских коллег. Также она постоянно переписывается с некоторыми амстердамскими евреями; письма эти состоят из цифр и финансового жаргона, который, прочитав, невозможно расшифровать, а расшифровав — понять. Они исключительно кратки и не интересны никому, за исключением евреев, голландцев и прочих меркантильных особ. Особенно пространны её письма ганноверскому учёному Лейбницу, чьё имя Вашему Величеству известно — несколько лет назад он сделал для Кольбера счётную машину, а ныне подвизается в качестве советника при герцоге и герцогине Ганноверских, усилия коих в объединении протестантов столь досаждают Вашему Величеству. В письмах к Лейбницу графиня де ля Зёр бесконечно расписывает великолепие Версаля и его обитателей. Самый объём и постоянство корреспонденции побудили меня задуматься, не шифрованный ли это канал передачи данных, однако мои слабые усилия отыскать скрытую закономерность в цветистых словах графини оказались тщетны. Если я подозреваю её, то не из-за каких-то упущений в шифре (который, если он существует, исключительно хорош), но по тому малому пониманию человеческой природы, коими обладаю. Ибо, заглядывая в Версаль, я несколько раз завязывал с графинею разговоры, в коих она обнаружила острый ум и знакомство с последними работами математиков и натурфилософов, как отечественных, так и зарубежных. И, разумеется, ум и гениальность Лейбница общеизвестны. Мне трудно поверить, что такая женщина будет столько писать, а такой мужчина столько читать про причёски.
Года два назад граф д'Аво во время одного из визитов ко двору Вашего Величества разыскал меня и, зная, что я вхожу в Чёрный кабинет, принялся настойчиво расспрашивать об эпистолярных привычках графини. Позже он сообщил, что своими глазами видел инцидент, доказывающий, что сия особа состоит на службе у принца Оранского. Д'Аво также упомянул швейцарского дворянина Фатио де Дюийера и сообщил, что этот господин и графиня де ля Зёр как-то связаны.
Д'Аво не сомневался, что знает достаточно, чтобы её уничтожить. Однако он решил, что сумеет лучше послужить Вашему Величеству, избрав другую, более рискованную стратегию. Как хорошо известно, графиня зарабатывает деньги для многих подданных Вашего Величества, в том числе д'Аво, управляя их инвестициями. Цена её немедленной ликвидации была бы очень высокой; довод, не могущий повлиять на суждения Вашего Величества, тем не менее весомый для тех, чей ум слабее, а кошельки — легче. Мало того: д'Аво разделяет мои подозрения, что она обменивается шифрованной информацией с Софией, а через Софию — с Вильгельмом, и надеется, что я взломаю шифр, и Чёрный кабинет сможет читать её депеши. Сие было бы куда полезнее Франции и Вашему Величеству, чем просто заточить её в монастырь и лишить связи с внешним миром до конца дней, как она того, несомненно, заслуживает.
В первой половине нынешнего года имел место некий флирт между графиней де ля Зёр и Палатиною, достигший кульминации в августе, когда Мадам пригласила графиню де ля Зёр присоединиться к ней (и Вашего Величества брату) в Сен-Клу. Все были уверены, что это обычная, хоть и сапфическая, интрижка — объяснение столь очевидное, что по самой своей природе должно было бы возбудить больший скептицизм у тех, кто гордится своей проницательностью. Однако всё произошло летом, погода стояла жаркая, и никто не обратил внимания. Вскоре по прибытии в Сен-Клу графиня отправила д'Аво в Гаагу письмо, которое затем оказалось на моём письменном столе. Вот оно.
Сен-Клу август 1688
Элиза, герцогиня де ля Зёр, графу д'Аво
16 августа 1688
Мсье!
Лето в разгаре, и для тех, кто, подобно Мадам, услаждается охотой на диких зверей, лучшие месяцы ещё впереди. Иные же, подобные Мсье, охотники на (и до) утончённо-воспитанных людей, находят эту пору лучшим временем года. Посему Мадам изнывает от зноя, забавляется с комнатными собачками и пишет письма, а Мсье жалуется лишь на то, что от жары румяна и пудра стекают со щёк. В Сен-Клу полно молодых людей, по большей части заядлых фехтовальщиков, готовых на всё, лишь бы воткнуть свой клинок в его ножны. Судя по звукам, долетающим из опочивальни Мсье, главный его любовник — шевалье де Лоррен. Однако когда силы шевалье иссякают, то за ним всегда есть маркиз д'Эффиа, а за маркизом — ещё череда молодых красавцев. Другими словами, в Сен-Клу, как и в Версале, существует строгая иерархия, и большинству молодых людей не приходится рассчитывать на иную роль, кроме декоративной. Однако кровь в них играет точно так же, как и во всех остальных. Не имея возможности утолить свою страсть с Мсье во дворце, они практикуются друг на дружке в саду. Невозможно отправиться на пешую или конную прогулку, не нарушив чьё-либо свидание. Когда этих молодых людей вспугиваешь, они не убегают в смущении, но, осмелев от милостей, оказанных им Мсье, принимаются поносить тебя самым что ни на есть оскорбительным образом. Куда бы я ни шла, обоняние различает гумор похоти в каждом дуновении ветерка, ибо он разлит здесь повсюду, как вино в таверне.
Лизелотта терпит такое уже семнадцать лет, с тех пор, как раз и навсегда пересекла Рейн. Немудрено, что она избегает появляться на людях, предпочитая общество чернильницы и комнатных собачонок. Известно, что Мадам очень привязывается к домочадцам — у неё была фрейлина, некая Теобон, единственная её отрада. Однако любовники Мсье, живущие за его счёт и не имеющие иных занятий, кроме интриг, нашёптывали про неё гадости, и Мсье отослал Теобон прочь. Мадам так рассердилась, что пожаловалась королю. Король сурово отчитал любовников Мсье, но не пожелал вмешиваться в семейные дела брата, так что Теобон, вероятнее всего, томится в каком-нибудь монастыре и никогда оттуда не выйдет.
Время от времени здесь принимают гостей, и тогда, как Вам известно, протокол требует облачаться в малый парадный туалет, который (как ни трудно это вообразить) ещё жёстче и неудобнее большого парадного. Как посол Вы постоянно видите дам, одетых таким образом, но как мужчина не знаете, какие усилия они прикладывают в течение нескольких часов перед выходом в своих гардеробных, дабы так выглядеть. Надеть малый парадный туалет не легче, чем оснастить судно, — в обоих случаях нужна большая вышколенная команда. Увы, своими мелочными происками любовники Мсье добились того, что домашний корабль Мадам совсем обезлюдел. Да и в любом случае она презирает женскую тщету. Она достаточно взрослая, достаточно иностранка и достаточно умна, чтобы понимать: мода (на которую женщины поглупее смотрят как на своего рода закон всемирного тяготения) — лишь выдумка, изобретение. Её придумал Кольбер, дабы нейтрализовать тех французов и француженок, которые по своему богатству и независимости представляли угрозу для короля. Однако Лизелотта уже нейтрализована тем, что выдана замуж за Мсье и вошла в королевскую семью. Единственное, что мешает Франции захватить её родину, — спор, кто должен наследовать её покойному брату: сама Мадам или другой потомок Зимней королевы.
Так или иначе, Лизелотта отказывается играть в придуманную Кольбером игру. Разумеется, в её гардеробе есть туалеты, достойные называться и малым парадным, и большим парадным. Однако Мадам велела изготовить их совершенно особым образом. В её гардеробе все слои белья, корсетов, нижних юбок и проч., обычно существующие порознь, сшиты в единое целое, настолько жёсткое, что стоит само по себе. Когда устраивают большой приём, Мадам входит в туалетную нагишом, забирается в наряд через разрез сзади и ждёт несколько минут, покуда камеристка застёгивает пуговицы и крючки. Затем она выходит прямиком к гостям, даже не взглянув в зеркало.
Я завершу свой маленький портрет жизни в Сен-Клу историей про собак. Как я уже упомянула, Лизелотта, подобно Артемиде, никогда не расстаётся со своей сворой. Разумеется, это не быстроногие гончие, а комнатные собачонки, которые зимой сворачиваются у её ног, согревая их собственным теплом. Она назвала любимиц в честь городов и людей Пфальца, памятных ей с детства. Собачонки весь день снуют по её покоям и грызутся из-за каждого пустяка, словно истинные придворные. Иногда она выводит их на лужайку, и они носятся, нарушая любовные утехи нахлебников Мсье, и тогда покой изысканных садов нарушается гневными воплями миньонов и лаем пёсиков; кавалеры в спущенных штанах пытаются их отогнать, а Мсье выходит на балкон в халате, ругается на чём свет стоит и проклинает час, когда женился на Лизелотте.
У короля есть пара гончих — Фобос и Деймос. Клички подходят им как нельзя лучше; псы, питаясь объедками с королевского стола, выросли до ужасающих размеров. Король так их балует, что они совершенно распустились и считают себя вправе задирать кого вздумается. Зная, как Лизелотта любит охоту и собак, а также сочувствуя её одиночеству и заброшенности, король решил разбудить в ней интерес к этим псам. Он предлагает Мадам смотреть на них как на своих собственных, дабы они с наступлением сезона могли поохотиться на крупную дичь в её восточных угодьях. Покуда это лишь предложение, которое Мадам не очень хотела бы принимать. Фобос и Деймос слишком велики и неуправляемы для Версаля, и король повелел своему брату держать их в Сен-Клу, в отдельном загоне, где они могут резвиться без помех. За это время псы выловили и сожрали всех кроликов, обитавших в пределах изгороди, и теперь неустанно ищут в ней слабые места, чтобы разорить и сопредельные территории. Недавно они проделали дыру в юго-восточном углу ограды, вырвались во двор и передавили всех кур. Дыру заделали. Покуда я пишу, Фобос прохаживается вдоль северной ограды, примеряясь, как бы перепрыгнуть на земли соседа, дворянина, к которому мои хозяева питают давнюю неприязнь. Тем временем Деймос подкапывается под восточную ограду, дабы учинить разбой во дворе, где Мадам выгуливает своих собачек. Не знаю, который из них преуспеет первым.
Сейчас я должна отложить перо, поскольку несколько месяцев назад обещала показать Мадам, как йглмцы ездят без седла, и теперь это время наконец настало. Надеюсь, моё маленькое описание жизни в Сен-Клу не шокировало вас своей вульгарностью; как всякий образованный человек, вы наверняка изучаете человеческую натуру и рады будете узнать, какие мужицкие свары происходят за аристократическим фасадом Сен-Клу.
Элиза, графиня де ля Зёр.
Россиньоль — Людовику XIV, продолжение ноябрь 1688
Ваше Величество уже поняли, что Фобос и Деймос — метафора вооружённой мощи Франции, эпизод с убийством кур — недавняя кампания, в ходе которой Ваше Величество усмирили мятежных савойских реформатов, а сомнения, какой из псов нападёт первым, означают, что графиня в то время не ведала, ударит Ваше Величество по Голландской республике на севере или по Пфальцу на востоке. Столь же очевидно, что фразы эти предназначались не столько адресату, сколько Вильгельму Оранскому, чьи люди прочли письмо прежде, нежели оно попало к д'Аво.
Менее прозрачен намёк на езду без седла. Я бы допустил, что это некая разновидность любовных утех, но графиня никогда не опускается в письмах до подобной вульгарности. Со временем я понял, что слова эти следует понимать буквально. От некоторых друзей Мсье я узнал, что Мадам и графиня де ля Зёр и впрямь отправились на верховую прогулку, причём графиня попросила не седлать её лошадь. Они выехали в сопровождении двух юных ганноверских кузенов Мадам, когда же вернулись, на лошади графини не было не только седла, но и наездницы; остальные уверяли, что она не удержалась на конской спине, упала и сильно расшиблась, так что не могла уже ехать верхом. Дело происходило на берегу реки, они сумели докричаться до проходящей лодки; она-то и доставила пострадавшую графиню в ближайший монастырь, который Мадам поддерживает от своих щедрот. Там, согласно уверениям Мадам, графиня должна пребывать, пока не срастутся сломанные кости.
Нет надобности говорить, что лишь младенец поверил бы в такую сказочку; все сочли, что графиня беременна и будет выздоравливать в монастыре ровно столько, сколько надо, чтобы вызвать искусственный выкидыш или родить. Я сам не вспоминал про эту историю, пока несколько недель назад не получил письмо от д'Аво. Оно было, естественно, зашифровано; прилагаю расшифровку за вычетом любезностей, формальностей и прочих длиннот.
Французское посольство в Гааге 17 сентября 1688
От Жана-Антуана де Месма, графа д'Аво
Французское посольство в Гааге
Мсье Бонавантюру Россиньолю
Шато Жювизи, Франция
Мсье Россиньоль!
У нас с Вами был случай поговорить о графине де ля Зёр. Довольно давно я знал, что она тайно служит принцу Оранскому. До сего дня она хотя бы пыталась это скрывать, теперь же отбросила всякое притворство. Все были убеждены, что она беременна и скрывается в монастыре под Сен-Клу. Однако сегодня она сошла перед самым Бинненхофом с баржи, только что прибывшей по каналу из Нимвегена. На том же корабле пожаловали еретики из куда более далёких краёв — жители Пфальца, узнав о неминуемом вторжении, они бегут оттуда, как крысы, которые, по слухам, успевают покинуть дом за секунды до землетрясения. Чтобы дать Вам представление о попутчиках графини, сообщу что среди них по меньшей мере две принцессы (Элеонора Саксен-Эйзенахская и её дочь, Вильгельмина-Каролина Бранденбург-Ансбахская), а также много других высокопоставленных особ, хотя по их оборванному и жалкому виду такого не скажешь. Соответственно графиня, ещё более оборванная и жалкая, чем остальные, не привлекла к себе обычного внимания. Однако я знаю, что она здесь, ибо мои источники в Бинненхофе сообщили, что принц Оранский приказал отвести ей апартаменты на неопределённое время. Прежде она скрывала свои связи с названным принцем, сегодня поселилась в его доме.
Мне ещё будет что по этому поводу сказать, сейчас же хочу задать риторический вопрос: как она сумела добраться из Сен-Клу в Гаагу с заездом на Рейн, в течение одного месяца, во время подготовки к войне, никем не замеченная? То, что она шпионка принца Оранского, не требует обсуждения за явной очевидностью, но где она побывала и что сейчас рассказывает в Бинненхофе Вильгельму?
Ваш в спешке,
Д'Аво
Россиньоль — Людовику XIV, продолжение ноябрь 1688
Ваше Величество уже поняли, насколько меня заинтриговало письмо д'Аво. Оно попало ко мне со значительным опозданием, ибо из-за войны д'Аво вынужден был переправлять его в Жювизи весьма хитроумными путями. Я знал, что следующих ждать не приходится, и отвечать значило бы попусту переводить бумагу. Соответственно я решил инкогнито посетить Гаагу, ибо ложусь спать и просыпаюсь с мыслью послужить Вашему Величеству, а в этом деле, оставаясь дома, я не принёс бы никакой пользы.
О моём путешествии в Гаагу я мог бы много написать в вульгарном и сенсационном ключе, когда бы первой своей обязанностью полагал доставить Вашему Величеству минутное развлечение. Однако все эти события не связаны с сутью моего отчёта. Мне не пристало их излагать в то время, как люди более достойные жертвуют жизнью на благо Франции, не помышляя об иной награде, кроме славы Отечества; в конце концов, то, что англичанин (к примеру) счёл бы волнующими и славными приключениями, для французского дворянина вполне обыденно.
Я прибыл в Гаагу 18 октября и явился во французское посольство, где по приказанию мсье д'Аво остатки моей одежды сожгли на улице, тело моего слуги достойно предали земле, мою лошадь уничтожили, чтобы не заразить остальных, а к моей скромной особе вызвали француза-цирюльника, дабы обработать раны от вил и ожоги от факелов. На следующий день я начал расследование, основываясь, разумеется, на прочном фундаменте, заложенном д'Аво в прошедшие месяцы. Так случилось, что в тот самый день, 19 октября лета Господня 1688-го, несчастливая перемена ветра позволила принцу Оранскому отплыть в Англию с эскадрой из пятисот голландских судов. Как ни огорчило это событие здешнюю французскую колонию, нам оно оказалось на руку, ибо еретики так ликовали (для них вторжение в чужую страну есть нечто новое и чрезвычайно будоражащее), что почти не обращали на меня внимания.
Первым делом я ознакомился с тем, что сделал за предшествующие недели д'Аво. В Хофгебейде, амстердамском дипломатическом квартале, слуг и придворных куда меньше, нежели в аналогичном районе Парижа, но всё же более чем достаточно; корыстных д'Аво подкупил, распутных так или иначе скомпрометировал, и теперь, дабы знать всё, что происходит в округе, ему довольно прилежания, чтобы опросить всех, и ума, чтобы связать обрывочные сведения в единое целое. Ваше Величество не удивится, узнав, что к моему приезду он всё это уже проделал. Д'Аво сообщил мне следующее.
Во-первых, графиня де ля Зёр в отличие от других пассажиров прибыла не из Гейдельберга, а из более близких краёв. Она поднялась на борт в Нимвегене, грязная и обессиленная, в сопровождении двух не менее потрёпанных молодых господ, судя по выговору — уроженцев Рейнской области.
Это само по себе поведало мне многое. И прежде было очевидно, что в Сен-Клу Мадам как-то сумела посадить графиню на баржу, идущую вверх по Сене. Следуя против течения, баржа легко могла после Шарантона избрать восточный приток и по Марне добраться до северо-восточных пределов королевства, откуда до родных краёв Мадам лишь несколько дней пути. Менее всего я желал бы бросить подозрение на Вашу невестку; подозреваю, что графиня де ля Зёр, известная интриганка, играя на вполне естественных чувствах Мадам к своим зарейнским подданным, каким-то образом сумела ей внушить, что таковая поездка послужит их благу. Разумеется, графиня сочла нужным посетить ту часть Франции, где приготовления к войне были особенно очевидны.
Во время многочисленных победоносных кампаний Ваше Величество уделили много часов изучению карт и разрешению всевозможных вопросов, от общей стратегии до мельчайших деталей, и Вы вспомните, что не существует водного сообщения между Марной и какой-либо из рек, протекающей через Нидерланды. Тем не менее в Аргоннском лесу берут начало как Марна, так и Мёз, проходящий, уже под названием Маас, в нескольких милях от Нимвегена. Посему, как д'Аво до меня, я принял рабочую гипотезу, что графиня высадилась вблизи Аргоннского леса — в котором, как Вашему Величеству известно, в то время разворачивались активные военные приготовления, — и как-то добралась до Мёза, а по Мёзу до Нимвегена, откуда д'Аво и получил о ней первые сведения.
Во-вторых, все, видевшие её на пути из Нимвегена в Гаагу, утверждают, что при ней почти ничего не было. Личные вещи графини помещались в седельной сумке одного из её спутников. Всё вымокло насквозь, так как в предшествующие дни лил дождь. На корабле графиня и её спутники вывернули седельные сумки и разложили содержимое на просушку. За всё время никто не видел книг, бумаг, перьев или чернильницы. В руках графиня держала сумочку и пяльцы с вышивкой — больше ничего. То же говорят и агенты д'Аво в Бинненхофе. По сообщению служанок, приставленных к графине, с корабля во дворец попали только:
1) Платье, бывшее на графине. Подопревшее от долгого лежания в седельной сумке, оно было пущено на тряпки, как только графиня сумела его от себя отлепить. Под ним ничего не было.
2) Комплект мужского платья приблизительно графининых размеров, изодранный и грязный.
3) Пяльцы и вышивка, неоднократно намокавшая и высушенная, а потому совершенно испорченная (нитки полиняли на ткань).
4) Сумочка, в которой обнаружились обмылок, гребень, тряпичные прокладки, швейный набор и почти пустой кошелёк.
Всё упомянутое было выброшено и уничтожено, за исключением монет, швейного набора и вышивки, к которой графиня питала трудно объяснимое пристрастие — оберегала её от слуг, а на ночь даже прятала под подушку, дабы её по ошибке не пустили на ветошь.
В-третьих, оправившись с дороги и получив приличный наряд, графиня на следующий после приезда день поспешила в охотничий домик принца Оранского, расположенный неподалёку в лесу, и три дня подряд встречалась с ним и его советниками, после чего принц отозвал войска с юга и начал готовиться к вторжению в Англию. Утверждают, что графиня как по волшебству представила объёмистый отчёт с фамилиями, фактами, цифрами и прочими подробностями, которые сложно было бы удержать в памяти.
Итак, д'Аво дал мне всё, что нужно криптологу, оставалось лишь применить бритву Оккама к полученным фактам. Я заключил, что графиня делала заметки не чернилами на бумаге, но иголкой и ниткой на куске ткани. Способ этот, при всей своей необычности, имеет ряд преимуществ. Женщина, которая постоянно что-то записывает, очень заметна, но едва ли кто обратит внимание на дамское рукоделье. Если человека заподозрят в шпионаже, то первым делом обыщут его вещи; прежде всего будут искать бумаги, но кто посмотрит на вышивку? Наконец, чернила в сырости расплывутся, вышитые же заметки можно уничтожить, лишь распустив нитку за ниткой.
Ко времени моего приезда в Гаагу графиня уже освободила покои во дворце и перебралась через площадь в дом своего друга, «философа»-еретика Гюйгенса. По прибытии я узнал, что она как раз сегодня уехала в Амстердам для встречи с деловыми партнёрами. Я нанял воришку, не раз выполнявшего сходные поручения для д'Аво, чтобы тот забрался в дом Гюйгенса, нашёл вышивку, не потревожив больше ничего в комнате, и доставил мне. Через три дня, закончив приведённый ниже анализ, я поручил тому же воришке поместить вышивку обратно. Графиня вернулась из Амстердама лишь несколько дней спустя.
Это кусок грубого холста, квадрат со стороною примерно в один фламандский локоть. Графиня оставила по краям пустое пространство в ладонь шириной. Таким образом, сама вышивка имеет приблизительно по восемнадцать дюймов в длину и ширину, вполне достаточно для opus puivinarium или, проще говоря, чехла на подушку. Пространство это почти целиком заполнено стежками, называемыми gros-point или «крестиком»; такая разновидность вышивки популярна в Англии, в заокеанских колониях и в иных краях, где царят грубость и простота нравов. Поскольку во Франции её совершенно вытеснил petit-point, мелкий шов, Ваше Величество едва ли видели вышивку крестом, и я позволю себе кратко её описать. Ткань берётся грубая, в которой уток и основа видны невооружённым глазом и образуют подобие декартовой координатной сетки. Каждый из крохотных квадратиков закрывается в процессе вышивки стежком в форме буквы «X», образующим квадратик цвета; при взгляде издалека стежки сливаются в картину. Рисунок, таким образом, неизбежно получается ступенчатым, особенно там, где сделана попытка передать кривизну; вот почему такого рода изделия не встретить в Версале и прочих местах, откуда утончённый вкус изгнал сентиментальную пошлость. Тем не менее Ваше Величество легко вообразит, как выглядит вблизи крохотный X-образный стежок: одна нить идёт с северо-востока на юго-запад, другая, внахлёст, с юго-востока на северо-запад. Какая будет сверху, зависит от последовательности шитья. У хороших вышивальщиц последовательность всегда одна, и все верхние нити наклонены в одну сторону, у более неряшливых могут идти вразнобой. Исследуя работу графини в увеличительное стекло, я обнаружил, что она относится к последним, и удивился, ибо во всём прочем она чрезвычайно педантична. Я задумался, не несёт ли ориентация стежков некой скрытой информации.
Плотность ткани примерно двадцать нитей на дюйм. Несложно сосчитать, что общее число стежков по одной стороне примерно 360, что даёт приблизительно 130000 крестиков.
Один крестик может содержать лишь крупицу информации, ибо допускает лишь два состояния; либо СВ-ЮЗ элемент сверху, либо СЗ-ЮВ. На первый взгляд это может показаться бесполезным, ибо как составить послание на алфавите, в котором только две буквы?
Mirabile dictu[23], способ такой существует, и я совсем недавно о нём узнал благодаря болтливости уже упоминавшегося господина Фатио де Дюийера. Сей Фатио, опасаясь за свою жизнь, бежал из Европы в Англию, где свёл дружбу с выдающимся английским алхимиком по фамилии Ньютон. Он стал своего рода Ганимедом при Зевсе-Ньютоне и неотступно ходит за ним по пятам; если же обстоятельства ненадолго их разлучают, бахвалится перед всеми и каждым дружбою с великим человеком. Я знаю это от синьора Вигани, алхимика, — он подвизается в том же колледже, что и Ньютон, а потому часто вынужден делить трапезу с Фатио. Фатио склонен к беспочвенной ревности и готов без устали чернить всякого, в ком подозревает соперника. Среди прочих мишенью его нападок стал некий доктор Уотерхауз, который в юности делил с Ньютоном комнату и, полагаю, состоял с ним в противоестественной связи; впрочем, важно не что было на самом деле, а что воображает Фатио. Недавно последний застал доктора Уотерхауза в библиотеке Королевского общества спящим на неких вычислениях, составленных исключительно из нулей и единиц. Сию курьёзную область математики активно развивает Лейбниц. Доктор Уотерхауз проснулся раньше, чем Фатио успел взглянуть на его работу, но документ походил на письмо из-за рубежа, и Фатио заключил, что это какой-то шифр. Вскоре после упомянутой встречи он отправился с Ньютоном в Кембридж и мимоходом обронил эту историю за общим столом, дабы показать свой ум и намекнуть, что доктор Уотерхауз — глупец и, по всей вероятности, шпион.
Из своих архивных записей я знаю, что графиня де ля Зёр вблизи указанной даты писала в Королевское общество и что у неё деловые связи с братом доктора Уотерхауза. Кроме того, я уже упоминал её подозрительно пространную и бессодержательную переписку с Лейбницем. Вновь применив бритву Оккама, я сформулировал гипотезу, что графиня использует шифр, вероятно, изобретённый Лейбницем и основанный на двоичном счислении, то есть состоящий из нулей и единиц; двухбуквенный алфавит, идеальный для вышивки крестом.
Д'Аво предоставил в моё распоряжение писаря, обладающего острым зрением, и тот переписал всю вышивку на бумагу, ставя единицу для крестиков, у которых СЗ-ЮВ элемент наверху, и ноль для остальных. Затем я приступил к взлому шифра.
Цепочка двоичных знаков может представлять число, например, 01001 — это 9. Пяти двоичных цифр хватит для 32 букв, то есть для всего латинского алфавита. Я исходил из гипотезы, что таков и графинин шифр, но, увы, не получил ни связного текста, ни хотя бы внушающих надежду закономерностей.
Из Гааги я, прихватив с собой запись нулей и единиц, отправился на корабле в Дюнкерк. Большая часть матросов были фламандцы, но некоторые отличались как обликом, так и языком — отрывистым и гортанным, не похожим ни на одно слышанное мною наречие. На вопрос, откуда они, эти люди — к слову, отважные мореходцы, — с изрядной гордостью назвались йглмцами. Тут я понял, что божественный промысел привёл меня на этот корабль. Я задал им множество вопросов касательно их языка и письменности — системы рун, едва заслуживающей названия алфавита. В нём нет гласных и только шестнадцать согласных, часть из которых может произнести лишь уроженец этого скалистого острова.
Шестнадцатибуквенный алфавит как нельзя лучше подходит для передачи двоичными цифрами; для одной буквы нужны всего четыре цифры — четыре стежка. Йглмский язык невероятно лаконичен: йглмец может сказать в нескольких щёлкающих или хрипящих звуках то, для чего французу потребуется несколько фраз. И то, и другое крайне выгодно для графини, которой в данном случае надо было общаться только с самой собой. В целом йглмский язык не требует шифровки, ибо сам по себе почти идеальный шифр.
Я попытался разбить записанные нули и единицы на группы по четыре и перевести каждую в число от 1 до 16. Вскоре я обнаружил закономерности из числа тех, что внушают криптографу уверенность в избранном пути. По возвращении в Париж я сумел отыскать в королевской библиотеке учёный труд, посвящённый йглмским рунам, и перевести числа в этот алфавит — всего около 30000 рун. Сверка результатов с кратким словарём в конце книги подтвердила, что текст расшифрован, однако перевести его я не мог. Я обратился к отцу Эдуарду де Жексу, который питает к Йглму большой интерес; он надеется обратить островитян в истинную веру, чтобы Йглм стал острым шипом в боку у еретиков. Отец Эдуард рекомендовал мне отца Мкенгра из Общества Иисуса, проживающего в Дублине, йглмца по рождению и воспитанию, всей душой преданного Вашему Величеству; он часто с большой опасностью для жизни посещает Йглм, чтобы крестить тамошних жителей. Я отправил ему расшифровку и через несколько недель получил латинский перевод в почти сорок тысяч слов, то есть в одной йглмской руне заключено больше смысла, нежели в целом латинском слове!
Текст настолько лапидарен и отрывочен, что читается с огромным трудом, кроме того, там используются странные словесные замены, например, «мушкет» — «английская палка» и так далее. Большую его часть составляет скучный перечень фамилий, полков, городов и проч., явственно доказывающий шпионаж, но никому не интересный теперь, когда война уже началась и всё меняется поминутно. Другая часть текста — личные записки графини, которые она на досуге поверяла вышивке. Они разъясняют, как ей удалось добраться из Сен-Клу в Нимвеген. Я взял на себя смелость переложить их более изящным слогом и объединить в связный, хоть и несколько фрагментарный рассказ, который прилагаю для Вашего Величества развлечения. Время от времени я вставлял примечания касательно действий графини, основываясь на сведениях, почерпнутых из других источников. В конце прилагаю постскриптум и записку д'Аво.
Ежели бы я читала романы подолгу, они бы мне приедались, но я прочитываю лишь по три-четыре страницы утром и вечером, сидя на (простите великодушно!) стульчаке, и не успеваю прискучить чтением.
Лизелотта в письме к Софии, 1 мая 1704ЗАПИСЬ ОТ 17 АВГУСТА 1688
Любезный читатель!
Не знаю что станется с этим куском холста, быть может, он пойдёт на подушку или будет уничтожен сознательно либо по небрежности, а может, некий умный человек расшифрует его годы или столетия спустя.
Хотя сейчас ткань, на которой я вышиваю эти слова, новая, сухая и чистая, к тому времени как кто-нибудь их прочтёт, она неизбежно покроется пятнами от слёз и сырости, плесени и дождя, возможно, почернеет от крови и дыма. В любом случае поздравляю тебя, неведомый читатель, когда бы ты ни жил, с тем, что тебе хватило ума прочесть мои записи.
Некоторые скажут что лазутчице не следует вести дневник, дабы он не попал в руки врагов. Отвечу, что мой долг — собрать подробную информацию и передать её моему господину, если я не узнаю больше, чем могу запомнить, значит, недостаточно усердна.
16 августа 1688 года я встретилась с Лизелоттой фон дер Пфальц, Елизаветой-Шарлоттой, герцогиней Орлеанской, которую французы называют Мадам и Палатина, а родственники в Германии — Рыцарь Шуршащих Листьев, у ворот конюшни в её поместье Сен-Клу на Сене, вблизи Парижа. Она велела вывести и оседлать свою любимую охотничью кобылу, я же тем временем переходила от стойла к стойлу, выбирая лошадь, на которой можно ехать без седла, ибо такова была внешняя цель нашей прогулки. Вместе мы углубились в лес, который тянется вдоль Сены на несколько миль от дворца. Нас сопровождали двое молодых людей из Ганновера. Лизелотта поддерживает тесную связь с роднёй; время от времени племянника или кузена направляют к ней «отшлифоваться» в версальском обществе. История этих юношей сама по себе примечательна, но не касается моего повествования, посему скажу лишь, что они немцы, протестанты, гетеросексуалы, а следовательно, на их молчание в пределах Сен-Клу можно было положиться хотя бы уже потому, что никто там с ними не разговаривал.
В тихой излучине Сены, закрытой от посторонних взглядов нависшими деревьями, ждала плоскодонка. Я забралась в неё и спряталась под грудой рыбачьих сетей. Лодочник оттолкнулся шестом, и мы вышли в основное русло, где вскоре встретились с судёнышком побольше, идущим вверх по течению. С тех пор я на нём. Мы уже прошли через центр Парижа, к северу от острова Сите, а сегодня за городом, на слиянии рек, выбрали левую развилку и теперь поднимаемся по Марне.
ЗАПИСЬ ОТ 20 АВГУСТА 1688
Несколько дней мы двигались навстречу марнским струям. Вчера миновали Мо и (как я полагала) оставили его в милях позади, но сегодня снова прошли так близко, что слышали звон тамошних колоколов, а всё оттого, что река ужасно петляет и меняет направление, словно доводы отца Эдуарда де Жекса. Наша баржа, или, как говорят французы, chaland — узкий, длинный, дешёвый в изготовлении деревянный гроб с единственным прямым парусом, который поднимают всякий раз, как ветер дует с кормы. Однако по большей части мачта служит для крепления буксирных тросов, за которые шаланду тянут против течения идущие по берегу лошади.
Мой капитан и защитник — мсье Лебрён, — должно быть, смертельно боится Мадам, ибо стоит мне подойти к борту или как-то ещё подвергнуть себя опасности, он покрывается потом и хватается за голову, словно боится её потерять. По большей части я сижу на корме, на бочонке с солью, смотрю, как мимо проплывает Франция, и разглядываю другие шаланды. Я одета мальчиком и прячу волосы под шляпой — этого довольно, чтобы скрыть мой пол от людей на других баржах или на берегу. Если меня окликают, я молча улыбаюсь, и они вскоре отстают, сочтя меня дурачком — возможно, ушибленным в детстве сыном мсье Лебрёна. Бездействие устраивает меня как нельзя лучше; пару дней назад начались месячные, и сейчас я сижу на груде тряпичных прокладок.
Очевидно, что эта местность в изобилии производит фураж. Через несколько недель поспеет ячмень, и армия, проходя через здешние края, не будет испытывать недостатка в кормах. Если планируется вторжение в Пфальц, войска перебросят с севера (ибо они стоят вдоль голландской границы), а фураж будут закупать на месте, так что лазутчику нечего высматривать, кроме, быть может, доставки боеприпасов. Что-то войска повезут с собой, но вполне разумно предположить, что порох и в особенности свинец отправят судами из арсеналов вблизи Парижа. Чтобы перевезти тонну свинца на телегах, нужны несколько воловьих упряжек и ещё несколько телег фуража; куда легче доставить этот груз по воде. Поэтому я вглядываюсь в шаланды, идущие вверх по реке, и гадаю, что у них в трюмах. Судя по виду, то же, что и у нас, — солёная рыба, соль, вино, яблоки и прочий товар из низовьев Сены.
ЗАПИСЬ ОТ 25 АВГУСТА 1688
В долгом сидении без дела есть свои преимущества. Я пытаюсь смотреть на окружающее глазами натурфилософа. Несколько дней назад я глядела на другую шаланду, идущую вверх по течению в четверти мили впереди нас. Одному из матросов потребовалось отвязать от мачты трос на высоте выше своего роста. Он схватился за обод огромной бочки, стоящей на палубе, наклонил её на себя, поворачивая, придвинул к мачте и взобрался на крышку. По тому, как он управлялся с бочкой, и по звукам было ясно, что она пустая. Ничего удивительного, ведь пустые бочки часто возят с места на место. Однако я задумалась: не существует ли внешних признаков, по которым можно отличить шаланду, нагруженную, как наша, от той, у которой в трюме несколько тонн пуль, для отвода глаз прикрытых пустыми бочками?
Я одолжила у мсье Лебрёна пару сабо и пустила их плавать в затхлой трюмной воде. В один я положила железку, в другой — столько же по весу соли, высыпавшейся из треснутой бочки. Хотя вес груза в сабо был одинаков, распределялся он по-разному: соль заполнила весь башмак, железка лежала в «трюме». Когда я качнула башмаки, то сразу заметила, что груженный железом качается медленнее, поскольку весь его вес дальше от оси движения.
Возвратив мсье Лебрёну его сабо, я вернулась на корму, на этот раз с часами, подаренными мне господином Гюйгенсом. Сперва я сосчитала сто качаний нашей шаланды, затем стала проводить те же наблюдения над другими баржами на реке. По большей части они качались с той же частотой, что и наша, хотя я заметила две, качавшиеся значительно медленнее. Разумеется, я принялась внимательно их изучать. К моему разочарованию, первая оказалась нагружена каменными плитами: само собой, никто и не пытался скрывать истинный характер груза. Однако вторая была наполнена бочками.
Теперь мсье Лебрён и впрямь считает меня дурочкой, но это не важно, поскольку скоро мы с ним расстанемся.
ЗАПИСЬ ОТ 28 АВГУСТА 1688
Мы пересекли Шампань и пришли в Сен-Дизье, где Марна подходит к самой границе Лотарингии, а затем поворачивает к югу. Мне надо на север и на восток, поэтому здесь моё путешествие на барже заканчивается. Оно было очень долгим, зато я увидела то, что пропустила бы, будь дорога более увлекательной, а сидеть на солнце в лодке, проплывающей через тихую местность, — занятие далеко не худшее. Как ни сильны мои убеждения, я чувствовала, что при дворе понемногу теряю решимость. Невозможно жить среди людей столь богатых, могущественных, привлекательных, уверенных в себе — и не подпасть под их влияние. Сперва оно еле заметно, но внезапно обнаруживаешь, что вращаешься по орбите вокруг Короля-Солнце.
Местность, которую мы оставили позади, плоская и в отличие от западной Франции открытая. Даже без карт чувствуешь, какие просторы лежат к северу и к востоку. Выражение «пуп земли» звучит здесь почти буквально, ибо нивы поспевают на моих глазах, словно жирные сливки, всплывающие из самой почвы. Для меня, родившейся на холодной скале, это почти рай, однако, глядя на столь благодатную землю глазами человека могущественного, я вижу, что она сама просится в руки завоевателя. Война нагрянет сюда оттуда или отсюда, так что лучше самому её упредить, не дожидаясь, покуда тучи сгустятся на горизонте. Всякий увидит, что захватчики будут проходить по этим полям, покуда Франция не расширится до естественных границ Рейна. Ни один рубеж, проведённый по такой земле, не устоит.
Судьба дала Людовику выбор: либо он попытается сохранить влияние на Англию — предприятие весьма сомнительное и для безопасности Франции несущественное, либо двинется к Рейну, захватит Пфальц и навсегда оградит Францию от германского вторжения. Не сложно увидеть, какой путь мудрее. Увы, лазутчик бессилен советовать королям, как им править, и может лишь наблюдать, как они это делают.
Сен-Дизье, где мне предстоит сойти на берег, скромных размеров речной порт, гордящийся несколькими очень древними церквями и римскими развалинами. За ним встаёт тёмный Аргоннский лес, а где-то в этом лесу проходит граница Франции с Лотарингией. В нескольких лигах к востоку раскинулась долина Меза, который несёт свои воды на север в Испанские Нидерланды, а далее переплетается с изменчивыми границами испанских, голландских и немецких государств.
Ещё в десяти лигах за Мезом, на Мозеле, стоит город Нанси. Мозель также течёт на север, но затем, обогнув герцогство Люксембургское, сворачивает на восток и впадает в Рейн между Майнцем и Кёльном — по крайней мере так я заключила из карт, которые изучала в библиотеке Сен-Клу. Учтивость не позволила мне захватить их с собой!
Согласно картам, на двадцати или тридцати лигах, отделяющих Нанси от Рейна, раскинулся архипелаг епископств и графств, принадлежавших до Тридцатилетней войны Священной Римской империи. Миновав их, попадаешь в Страсбург. Людовик XIV захватил его несколько лет назад. В некотором роде это событие создало меня, ибо чума и хаос увлекли Джека в Страсбург, а затем урожай ячменя и его неизбежное следствие — война — под Вену, где мы и встретились. Интересно, удастся ли мне завершить круг, добравшись в этот раз до Страсбурга? Коли так, я одновременно завершу и другой круг, ибо из этого самого города Лизелотта семнадцать лет назад отправилась во Францию, чтобы выйти замуж за Мсье и никогда больше не возвращаться на родину.
ЗАПИСЬ ОТ 30 АВГУСТА 1688
В Сен-Дизье я вновь сменила мужское платье на женское и поселилась в монастыре. Это одна из тех обителей, в которых доживают свои век знатные дамы, не сумевшие или не пожелавшие выйти замуж, а по образу жизни — скорее бордель, нежели монастырь. Многие здешние монахини и послушницы молоды и обуреваемы плотскими страстями, когда они не могут провести мужчин в монастырь, то выскальзывают в город, а когда не могут выскользнуть, то практикуются друг на дружке. Среди них есть Лизелоттины знакомые по Версалю, с которыми она поддерживает переписку. Она заранее уведомила их о моём приезде и сообщила, будто я её дальняя-предальняя родственница, направляюсь в Пфальц забрать некие ценные вещицы, которые должны были перейти ей по смерти брата, но оспариваются родственниками. Поскольку женщине немыслимо предпринять такое путешествие в одиночку, я должна дождаться некоего пфальцского дворянина, который прибудет с лошадьми и каретой, дабы отвезти меня на северо-восток через Лотарингию и спутанный клубок границ к востоку от неё в Гейдельберг. Имя и поручение у меня вымышленные, однако сопровождающий ожидается самый настоящий, ибо нет надобности говорить, что жители Пфальца с нетерпением ждут вестей о своей пленной королеве.
Мой сопровождающий ещё не прибыл, и вестей от него нет. Я тревожусь, что его задержали или даже убили, но пока мне остаётся лишь ходить к мессе по утрам, спать днём и кутить с монахинями ночью.
Я побеседовала с матерью-настоятельницей, милейшей женщиной лет шестидесяти, закрывающей глаза на проделки своих подопечных. Она между прочим упомянула, что неподалёку есть литейная мастерская, и я усомнилась в своих наблюдениях касательно медленно качающихся шаланд — быть может, они везли не свинец, а железо. Позже я вместе с несколькими молодыми монахинями отправилась в город, и мы прошли рядом с пристанью, у которой разгружали шаланду. Бочки вытаскивали и ставили на причал, здесь же дожидались запряжённые волами телеги. Я спросила спутниц, часто ли такое бывает, но они гордятся своим полным невежеством в житейских делах и не смогли ответить ничего путного.
Позже я, сказавшись усталой, ушла в свою келью якобы для сна, а на самом деле переоделась в мужское платье и выскользнула из монастыря через потайной лаз, которым монахини бегают в город на свидания. На сей раз мне удалось ближе подобраться к пристани. Я спряталась за бочками, которые сгрузили днём, и принялась наблюдать. И впрямь из трюма шаланды в телеги таскали что-то маленькое и тяжёлое. Присматривал за разгрузкой человек, чьего лица я не видела, но чей наряд многое мне сказал. В его ботфортах были некие нюансы, которые я перед отъездом из Сен-Клу начала примечать в ботфортах у любовников Мсье. Его штаны…
Нет. К тому времени, как кто-нибудь прочтёт эти слова, фасоны переменятся, так что подробно описывать его платье будет пустой тратой времени — довольно сказать, что оно было сшито в Париже не более месяца назад.
Мои наблюдения прервала неловкость нескольких бродяг, которые пробрались на пристань в надежде чем-нибудь поживиться. Один из них опёрся на бочку, полагая её полной, но она, будучи пустой, упала с глухим стуком. В тот же миг придворный выхватил шпагу и направил её на меня, ибо заметил, что я прячусь за бочками; несколько его людей бросились в мою сторону. Бродяги дали стрекача, и я за ними, рассудив, что они лучше меня знают, как скрыться в городе. И впрямь, перемахнув через несколько стен и проползя по нескольким канавам, они успешно скрылись от меня, отстававшей всего на десяток шагов.
Позже я разыскала их на погосте, где они устроили временное пристанище под дикими виноградными лозами сбоку от старинного мавзолея. Бродяги не звали меня к себе и не гнали прочь, так что я оставалась во тьме чуть поодаль и прислушивалась к разговору. Большая часть жаргона была мне непонятна, однако я сумела разобрать, что бродяг четверо. Трое вроде бы оправдывались, словно смирились с некой неминуемой участью; четвёртому хватало энергии не соглашаться с остальными и желания что-то изменить. Когда он отошёл по малой нужде, я приблизилась на несколько шагов и сказала: «Приходи один к углу монастыря, который зарос плющом», после чего побежала прочь, боясь, как бы он меня не схватил.
Через час я заметила его с монастырской стены. Я бросила ему монетку и пообещала ещё десять, если он проследит за возами и через три дня расскажет мне, что увидел. Он, не ответив, пропал во мраке.
На следующий день настоятельница вручила одной из молоденьких монахинь письмо, объяснив, что его ночью передали привратнице. Девушка взглянула на печать и воскликнула: «Ах, это от моего дорогого кузена!», после чего вскрыла письмо и начала читать, проговаривая вслух половину слов, ибо еле-еле складывает слоги. Я смогла уловить главную суть: её кузен был накануне в Сен-Дизье, но к своему величайшему сожалению не смог нанести визит, так как дело его весьма спешного свойства; впрочем, он надеется пробыть в этих краях ещё некоторое время и в самом скором времени с ней всё же увидеться.
Когда она вскрывала письмо, восковая печать отскочила и закатилась под стул. Я её подняла. Герб был мне не знаком, но некоторые элементы я видела в Версале; полагаю, что этот человек состоит в родстве с одним знатным гасконским семейством, прославленным военными подвигами. Вполне можно допустить, что его я и видела на пристани вчера ночью.
ЗАПИСЬ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1688
ПРИМЕЧАНИЕ ДЕШИФРОВЩИКА: В оригинале этот раздел содержит немало подробностей касательно того, что выгружали с шаланд в Сен-Дизье, и гербов лиц, которых графиня здесь наблюдала, куда более интересных принцу Оранскому, нежели Вашему Величеству. Я их выпустил. Б. Р.
За три дня в монастыре я более чем наверстала свою вышивку!.. Надеюсь, бродяга вернётся сегодня с новостями. Если до завтра я ничего не узнаю о пфальцском сопровождающем, то вынуждена буду отправиться одна, хоть и не представляю как.
Я решила, как прежде на шаланде, извлечь пользу из вынужденного бездействия: старалась завязать разговор с Элоизой, девушкой, получившей письмо от кузена. Это было нелегко, ибо она не отличается умом, и общих интересов у нас нет. Я словно бы нечаянно проболталась одной из её подруг, что недавно побывала в Версале и Сен-Клу. Через некоторое время Элоиза подсела ко мне за едой и стала расспрашивать, что я знаю о тех или иных людях и как поживает тот-то и тот-то. По крайней мере я узнала, кто она и кто её расфранчённый кузен; это шевалье д'Адур, последние несколько лет искавший милостей у королевского главнокомандующего маршала Лувуа. Он отличился в недавнем истреблении пьемонтских реформатов и вполне походит на человека, которому могли дать важное поручение.
По вечерам я стараюсь наблюдать за пристанью. Здесь разгрузили ещё несколько шаланд, примерно так же, как первую.
ЗАПИСЬ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 1688
Столько событий пронеслись стремительно, что я на несколько дней совершенно забросила вышивку. Теперь навёрстываю в тряской карете по дороге через Аргоннский лес. Такой способ письма куда удобнее для странствующей лазутчицы, нежели я предполагала вначале. Пером по бумаге я бы сейчас писать не могла, иголкою же вполне справляюсь.
Если совсем кратко: мой бродяга вернулся и получил десять серебряных монет за рассказ о том, что возы с грузом, доставленным шаландами, отправились на восток, из Франции в Лотарингию, по лесным дорогам в объезд Туля и Нанси, далее в Эльзас, который тоже принадлежит Франции (герцогство Лотарингское граничит с Францией и на востоке, и на западе). За отсутствием времени мой бродяга вынужден был повернуть назад, но вполне очевидно, что возы направляются к Рейну. От другого бродяги он узнал, что такие же возы по нескольким дорогам движутся в сторону Хагенауского леса, где в последнее время стало шумно и дымно. Человек этот бежал оттуда, потому что французские солдаты хватают бездельников и заставляют рубить деревья: мелкие на дрова, крупные на брёвна. Даже лачуги вагабондов разбирают и жгут.
Услышав эти новости, я не могла заснуть до утра. Если я правильно помню карты, Хагенау стоит на притоке Рейна и входит в «железный заслон», выстроенный Вобаном для защиты Франции от Испании, Германии, Голландии и прочих врагов. Предположим, я правильно угадала, что груз — свинец; тогда рассказ бродяги означает, что в Хагенау его переливают на ядра и пули. Это объясняет потребность в дровах. Но зачем брёвна? Я решила, что французы строят баржи для доставки боеприпасов по Рейну. Течение вынесет их к Пфальцу за день-другой.
Кое-что из виденного при дворе теперь обрело для меня новый смысл. Шевалье де Лоррен — властитель земель, которыми возы проезжают в Хагенау, — давно уже главный любовник Мсье и самый жестокий из притеснителей Мадам. Теоретически он вассал императора Священной Римской империи, однако на практике земли его полностью окружены Францией — ни в Лотарингию, ни из неё нельзя проехать, минуя области, управляемые из Версаля. Вот почему он проводит время при французском дворе, а не в Вене.
Принято думать, что герцога Орлеанского растили женственным и безвольным, чтобы он не стал соперником старшему брату-королю. Можно было бы предположить, что шевалье де Лоррен, который каждодневно входит в Мсье и правит его чувствами, пользуется слабостью французской династии. Опять-таки так принято считать при дворе. Однако теперь я вижу это в ином свете. Невозможно войти, не оказавшись стиснутым, и как шевалье де Лоррен бывает внутри Месье, так и его земли стиснуты теперь Францией. Людовик овладевает и входит, его брат отдаётся и объемлет, они действуют заодно и по-братски дополняют друг друга. Я видела извращенца, который заключил лживый брак и отвергает супругу ради любовника. Однако Людовик видит брата, который поведёт лживую войну в Пфальце якобы за права супруги, используя в качестве плацдарма владения любовника.
Когда всех троих — Мсье, Мадам и шевалье — без долгих слов отправили в Сен-Клу, я решила, что королю просто прискучили их дрязги. Теперь я понимаю, что король мыслит метафорами и собрал их вместе, чтобы стравить, как собак, перед началом кампании. Как в глазах римлян домашние свары Юпитера и Юноны проявлялись громом и молнией, так скандальный треугольник в Сен-Клу проявится войной в Пфальце. Империя Людовика, которая сейчас заканчивается в Аргоннском лесу, расширится до Мангейма и Гейдельберга, а когда в Сен-Клу воцарится семейный мир, Франция станет на двести миль шире, и «железный заслон» пройдёт по выжженным землям, населённым прежде немецкими реформатами.
Всё это я осознала в считанные мгновения, а затем всю ночь лежала без сна, гадая, что мне делать. Некоторое время назад я сочинила собственную метафору касательно псов по кличке Фобос и Деймос и вставила в письмо к д'Аво, надеясь, что люди принца Оранского прочтут её и поймут. Тогда я очень гордилась своим умом. Однако теперь моя метафора кажется детской и беспомощной в сравнении с метафорой Людовика. Хуже того, тогда я давала понять, что не знаю, ударит ли Лувуа по Голландской республике или отведёт армию к востоку и переправится через Рейн. Теперь я уверена, что знаю ответ и должна уведомить принца Оранского. Однако я была в Сен-Дизье и не имела никаких подтверждений своим догадкам, кроме слов бродяги и собственного убеждения, что я проникла в логику короля, да и это могло через несколько часов растаять, подобно росе, как с наступлением дня тают ночные страхи.
Я уже готова была сама пуститься в дорогу, словно бродяжка, когда, перед началом утренней мессы, у ворот обители остановился пыльный, забрызганный грязью экипаж, и некий господин, постучав в ворота, спросил меня по имени, которым я здесь назвалась.
Мы с ним двинулись в путь, как только его лошадей накормили и напоили. Моим новым спутником был доктор Эрнест фон Пфунг, многострадальный учёный муж из Гейдельберга. В его детстве Пфальц заняли и разорили императорские войска; по окончании Тридцатилетней войны, когда Пфальц, согласно договору, передали Зимней королеве, его семья помогала ей в обустройстве двора и осталась жить в гейдельбергском замке. Он давно знает Софию, её братьев и сестёр; образование, в том числе степень доктора юриспруденции, получил в Гейдельберге. Он служил советником у курфюрста Карла-Людвига (брата Софии, отца Лизелотты) и пытался вразумлять Лизелоттиного брата Карла, когда тот унаследовал трон. Однако Карл был слабоумный от рождения и хотел лишь устраивать потешные осады в своих рейнских замках, куда собирал отребье вроде Джека в качестве солдат. Во время одной из таких осад он подхватил лихорадку и умер, после чего и возник спор о наследстве, которым Людовик не преминул воспользоваться.
Доктор фон Пфунг, видевший ребёнком, как католическая армия грабит, насилует и жжёт его родину, вне себя от тревоги, что теперь то же самое повторят французы. События последних дней нимало не умерили его страхов.
Между Гейдельбергом и герцогством Лотарингским Священная Римская империя образует стомильной ширины клин, вдающийся во Францию до самого Мозеля. Он зовётся Сааром; доктор Пфунг, дворянин и подданный императора, всегда проезжал им свободно и безопасно. Ближе к Лотарингии Саар дробится на несколько микроскопических княжеств. Через них-то доктор фон Пфунг и намеревался добраться до Лотарингии, которая формально подчинена императору, а затем пересечь её границу с Францией неподалёку от Сен-Дизье.
По счастью, доктор фон Пфунг сполна наделён умом и предусмотрительностью, присущими человеку его возраста и учёности. Он не просто предположил, что его план увенчается успехом, а загодя выслал вперёд нескольких верховых, чтобы разведать местность. Когда они не вернулись, он всё же тронулся в путь, надеясь на лучшее, но вскоре встретил одного из них на дороге — тот возвращался с дурными вестями. Обнаружились некие препятствия весьма сложного свойства, которые доктор фон Пфунг разъяснять не стал. Он велел поворотить карету и проехал по восточному берегу Рейна до самого Страсбурга, там переправился в Эльзас и двинулся дальше со всей возможной поспешностью. Как дворянин он может носить оружие и не пренебрегает этим правом: помимо рапиры у него два пистолета и мушкет в экипаже. Его сопровождают двое верховых — сходным образом вооружённые молодые дворяне. Каждую заставу и переправу им пришлось брать обманом и хитростью; по лицу доктора фон Пфунга видно было, как утомило его постоянное напряжение. Как только мы выехали из Сен-Дизье, он весьма учтиво извинился, снял парик, явив обрамлённую седым пушком лысину, и на четверть часа закрыл глаза.
По пути сюда он укрепился в худших своих догадках, хотя и не узнал ничего определённого, посему терзался теми же сомнениями, что и я. Когда он немного ожил, я сказала:
— Не сочтите меня дерзкой, доктор, но, как мне представляется, очень многое зависит от того, что мы сумеем либо не сумеем выяснить в последующие несколько дней. Мы с вами пустили в ход весь свой ум, однако узнали лишь самую малость. Не следует ли нам, ослабив осторожность, укрепиться в мужестве и направиться в самую гущу событий?
Вопреки моим ожиданиям лицо доктора фон Пфунга тут же смягчилось и разгладилось. Он улыбнулся, явив отличные вставные зубы, и кивнул, словно отвешивая лёгкий поклон.
— Я уже решил испытать судьбу, — признал он, — и если кажусь вам нервным и рассеянным, то лишь потому, что не смел подвергать опасности вашу жизнь. Я по-прежнему неспокоен, ибо у вас в отличие от меня всё ещё впереди. Но…
— Довольно, не будем тратить силы на пустые разговоры, — отвечала я. — Решено. Бросаем жребий. А как ваши спутники?
— Они офицеры кавалерийского полка и в случае войны, вероятно, падут первыми. Оба — люди чести.
— А ваш кучер?
— Он сызмала служит нашему семейству и никогда бы не позволил мне пуститься в путь или умереть в одиночку.
— Тогда прикажите ему повернуть к Мёзу, до которого отсюда два или три дня пути через Аргоннский лес.
Доктор фон Пфунг, не колеблясь, постучал по крыше кареты и велел кучеру весь следующий день править на восток. Тот, естественно, выбрал самую наезженную дорогу, так что мы двинулись по колеям, оставленным тяжело нагруженными воловьими упряжками.
Уже через несколько часов мы нагнали обоз, который взбирался на возвышенность между Орненом и Марной. Кучер вынужден был обгонять возы по одному — на тех участках, где дорога расширялась. В окно кареты мы с доктором фон Пфунгом ясно видели, что возы нагружены чушками серого металла, явно не железа, судя по отсутствию каких-либо следов ржавчины. Итак, свинец. Читатель, надеюсь, ты не сочтёшь меня легкомысленной, если я признаюсь, что возликовала, видя подтверждение своей проницательности. Однако первый же взгляд на доктора фон Пфунга рассеял мою глупую радость: такое лицо бывает у человека, который поздно вечером вернулся домой и видит, что из окон валит дым и вырывается пламя.
Колонну возглавлял французский офицер, явно усталый и не очень опрятно одетый; он не стал нас окликать, и мы быстро оставили обоз позади. К сожалению, нашим попыткам наверстать упущенное время воспротивилась Природа. Аргоннская возвышенность тянется с севера на юг поперёк нашего пути и разрезана многочисленными ущельями. Там, где земля ровная, она густо заросла лесом. Нам оставалось лишь следовать по дорогам и переправляться по существующим бродам и мостам, пусть даже опасным и обветшалым.
Тем не менее жалкий вид молодого офицера подсказал мне мысль. Я попросила доктора фон Пфунга закрыть глаза и дать слово, что не будет подсматривать. Он настолько смутился, что вылез из кареты и пошёл рядом пешком. Я переменила затрапезное платье, взятое в монастыре, на то, которое привезла с собой. В Версале им бы побрезговали мыть полы. Здесь, в Аргоннском лесу, от него легко мог заняться пожар.
Через час, на спуске к Орнену, мы нагнали другой гружённый свинцом обоз; возы ползли под уклон, поминутно сталкиваясь, отчего долина оглашалась треском и яростной бранью погонщиков. Как прежде, во главе обоза ехал молодой офицер. Вид у него был такой же страдальческий, что у предыдущего, во всяком случае, пока я не высунулась из окна кареты и в значительной мере из декольте. Как только прошло первое изумление, он едва не разрыдался от счастья. Мне было приятно, что я доставила бедняге радость, да ещё без малейших усилий — всего лишь надев платье и выглянув в окно. Офицер так широко раскрыл рот, что напомнил мне рыбу, и я решила закинуть удочку.
— Простите, мсье, не скажете ли, где я могу найти моего дядю?
Он ещё шире открыл рот и залился краской.
— Тысяча извинений, мадемуазель, но я его не знаю.
— Не может быть! Все офицеры его знают! — вскричала я.
— Простите, мадемуазель, вы неправильно меня поняли. Без сомнения, ваш дядя — великий человек, чьё имя я бы немедленно узнал, если бы услышал, но я по тупости и невежеству не узнаю вас, а посему не ведаю, какой из знатных полководцев имеет счастье доводиться вам дядей.
— Мне казалось, что меня все знают! — Я надула губки. Офицер окончательно смешался. — Моё имя… — Тут я обернулась и легонько хлопнула доктора фон Пфунга по руке. — Прекратите! — Затем офицеру: — Мой сопровождающий — нудный старикашка — не позволяет мне представиться!
— Разумеется, мадемуазель, для юной дамы представиться молодому человеку было бы непростительно.
— Тогда будем беседовать инкогнито и скроем наш разговор от всех, будто любовное свидание. — Я ещё дальше высунулась из окна и поманила офицера рукой. Бедняга едва не грохнулся в обморок — я боялась, что он упадёт с лошади и намотается на ось нашего экипажа. Впрочем, он кое-как усидел в седле и подъехал настолько близко, что я смогла опереться на эфес его шпаги, после чего продолжила уже шёпотом: — Вы, наверное, догадались, что мой дядя — человек очень высокого ранга, присланный сюда королём, дабы в предстоящие дни исполнить волю его величества.
Офицер кивнул.
— Я возвращалась из Уайонны в Париж, но, прослышав по дороге, что он здесь, решила нанести ему внезапный визит — и ни вы, ни мой сопровождающий, никто на свете не сможет этому помешать! Мне надо лишь знать, где его ставка!
— Мадемуазель, ваш дядя — шевалье д'Адур?
Я сделала такое лицо, словно подавилась ложкой.
— Разумеется, нет, я и не думал… и вы не из Лотарингского дома, иначе не спрашивали бы дорогу… так это Этьенн д'Аркашон? О нет, он единственный ребёнок в семье и не может иметь племянницы. Однако по тому, как смягчилось ваше прекрасное лицо, мадемуазель, я вижу, что приближаюсь к истине. А в этих краях выше молодого д'Аркашона только сам маркиз де Лувуа. К сожалению, я не знаю, прибыл ли он уже с голландской границы… Если прибыл, вам следует искать его на берегу Мёза. Если же там скажут, что он уже отбыл, вам придётся последовать за ним в Саар.
Этот разговор произошёл позавчера, и с тех самых пор мы едем лесами на восток. Настроение похоронное, ибо как только доктор фон Пфунг услышал фамилию Лувуа, он понял, что вторжение предрешено. Впрочем, офицер мог строить догадки, или передавать беспочвенный слух, или говорить мне то, что я хочу услышать. Мы должны своими глазами получить неопровержимые свидетельства.
Покуда я пишу, мы вновь преодолеваем утомительный спуск, на этот раз к Мёзу. Отсюда река течёт через Арденны и через Испанские Нидерланды к территориям у голландской границы, где лучшие французские полки долгое время угрожали Вильгельму с фланга.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЕШИФРОВЩИКА: Здесь отчёт теряет всякую связность. Графиня по неосторожности заехала в расположение войск Вашего Величества, где с ней произошёл инцидент, который она не успела описать. Далее, по пути к Нимвегену, она оставила несколько обрывочных заметок о том, что произошло на берегу Мёза. Они перемежаются записями о полках, которые двигались на юг, дабы соединиться с силами Вашего Величества на Рейне. Опросив людей, видевших графиню во французской армии, я смог восстановить её перемещения и таким образом разобраться в записях. Приведённый рассказ осмысленнее оригинала, но, полагаю, не уступает ему в точности и будет куда содержательнее, а следовательно, приятнее Вашему Величеству. Одновременно я выпустил всё касательно передислокации батальонов и проч. Б. Р.
ЗАПИСЬ ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 1688
Скачу на север и едва успеваю набросать несколько слов, покуда меняют лошадей. Карета разбита, кучер и доктор фон Пфунг погибли. Я скачу вместе с двумя кавалеристами из Гейдельберга. Пишу эти слова в деревеньке на Мёзе, по всей видимости, неподалёку от Вердена. Меня уже зовут.
Продолжаю вечером. Думаю, мы недалеки от того места, где Франция сходится с Испанскими Нидерландами и герцогством Люксембургским. Пришлось свернуть от Мёза и углубиться в лес. Отсюда и до Льежа, который лежит примерно в ста милях к северу, река течёт не по прямой, а изгибается к западу, преимущественно по территории Франции, что удобно для доставки французских боеприпасов, но неудачно для нас. Вместо того чтобы следовать вдоль реки, попытаемся пересечь Арденны (как зовётся этот лес) с юга на север.
ЗАПИСЬ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1688
Переводим дух и потираем мозоли от сёдел, покуда Ганс ищет брод. Попытаюсь пока разъяснить, что с нами произошло.
Когда три дня назад [вынуждена была посчитать на пальцах, ибо казалось, что прошло не менее трёх недель!] мы наконец добрались до Мёза, то немедля увидели ожидаемые свидетельства: тысячи древних деревьев повалены, долина наполнена дымом, вдоль реки сооружены временные пристани. Авангарды полков с голландской границы прибыли по воде, встретились с присланными из Версаля офицерами и начали подготовку к встрече самих полков.
В течение нескольких часов доктор фон Пфунг не произнёс ни слова, когда же он попытался наконец что-то сказать, я услышала лишь бессвязное мычание и поняла, что его хватил удар.
Я спросила, не хочет ли он повернуть назад. Доктор лишь отрицательно помотал головой, указал на меня, затем на север.
Всё рассыпалось. До того момента я предполагала, что мы действуем по некоему продуманному доктором фон Пфунгом плану, но тут задним числом поняла, что мы опрометчиво устремились навстречу опасности, как человек, которого дикий конь вынес на поле брани. Способность мыслить на время совершенно меня покинула. Стыдно признаться, из-за этого мы и угодили прямо в лагерь кавалерийского полка. Капитан постучал по дверце кареты и потребовал объяснить, кто мы такие.
Он уже видел, что большая часть нашего отряда — немцы, и скоро догадался бы о пфальцском происхождении доктора фон Пфунга и остальных моих спутников, что неизбежно повлекло бы за собой подозрения в шпионаже и худшие из возможных последствий.
Во время долгого путешествия по Марне я не раз проигрывала в голове различные повороты событий и отрепетировала несколько легенд, которые смогу рассказать, если меня задержат. Однако сейчас, глядя в лицо капитана, я была так же не способна лгать, как онемевший от удара доктор фон Пфунг. На беду, мы с Лизелоттой не предусмотрели истинных масштабов операции, соответственно, не ожидали, что ею будут руководить люди столь высокопоставленные; поблизости мог оказаться граф или маркиз, с которым я обедала либо танцевала в Версале. Назваться чужим именем и поведать вымышленную историю значило бы расписаться в шпионаже.
Потому я сказала правду.
— Не ждите, что этот господин меня представит — с ним приключился удар, и он не может говорить. Я — Элиза, графиня де ля Зёр, прибыла сюда по поручению Елизаветы-Шарлотты, герцогини Орлеанской, законной наследницы Пфальца, во имя которой вы собираетесь вступать в эту страну. Мой спутник — сановник гейдельбергского двора — состоит у неё на службе. Она отправила нас сюда в качестве своих официальных представителей — проследить, чтобы всё было должным образом.
Последние бессмысленные слова я присовокупила, ибо не знала, что сказать, и почти потеряла голову. Даже под императорским дворцом в Вене, когда янычарский ятаган должен был опуститься на мою шею, я не чувствовала такого смятения.
Полагаю, капитана впечатлила сама расплывчатость моих слов; он отступил от кареты, низко поклонился и сказал, что без промедления доложит обо мне начальству.
Ганс вернулся и сказал, что нашёл брод, посему сообщу лишь, что весть о нашем прибытии передавалась по цепочке вверх, пока не достигла человека, который мог меня принять без ущерба для моего ранга. Человеком этим оказался Этьенн д'Аркашон.
ЗАПИСЬ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 1688
Мои спутники полагают, что мы в окрестностях Бастони. Некоторое время не могла вести записи из-за множества событий. Арденнский лес даже в мирное время кишит бродягами и разбойниками (а также, по уверениям некоторых, ведьмами и лешими). Теперь к ним прибавились французские дезертиры: они прыгают с медленно идущих шаланд и убегают в леса. Мы вынуждены продвигаться медленно и всю ночь поочерёдно нести дозор. Сейчас моя очередь бодрствовать: сижу в развилке дерева, закутавшись в одеяло, и вышиваю при лунном свете.
Люди, пережившие жестокие испытания, склонны в доказательство своего успеха воспитывать детей никчёмными и пустыми, подобно тому, как богатые арабы отращивают длинные ногти. Так и с герцогом д'Аркашоном и его единственным законным сыном Этьенном. Герцог пережил кошмар Фронды и построил королю флот. Этьенн выбрал армию — это его представление о юношеской непокорности.
О некоторых говорят: «Он скорее отрежет себе правую руку, чем сделает то-то и то-то». Об Этьенне говорили, что он пожертвует рукой, лишь бы не нарушить малейшее правило этикета. Теперь же говорят, что из вежливости он и впрямь отрезал себе правую руку: нечто подобное произошло на балу несколько лет назад. Свидетельства расходятся; полагаю, это было что-то постыдное для семьи. Короче, я не знаю подробностей, хотя нет дыма без огня. С тех самых пор молодой д'Аркашон сделался щедрым покровителем резчиков и ювелиров, которым заказывает искусственные руки. Некоторые из них совсем как живые. Рука, которую он подал мне, помогая выйти из экипажа, была слоновой кости с перламутровыми ногтями. Когда мы в его ставке обедали жареным гусем, у него была уже другая рука, чёрного дерева, с навеки закреплённым ножом для резки мяса — судя по виду, это ещё и превосходное оружие! А после ужина, когда он принялся меня соблазнять, я увидела совершенно новую руку — выточенную из нефрита, с непропорционально большим средним пальцем, собственно, не пальцем даже, а точным подобием восставшего фаллоса. Само по себе мне это было не в диковину: версальские господа и даже некоторые дамы коллекционируют подобные вещицы, и некоторые превращают свои покои в истинные святилища Приапа. Однако меня застигло врасплох удивительное свойство этой игрушки, когда Этьенн д'Аркашон нажал скрытый рычажок, палец ожил и зажужжал, словно шмель в банке. По всей видимости, в нём располагалась туго скрученная пружина.
Нет надобности объяснять тебе, читатель, что после недавних событий я сама была как пружина, и уверяю тебя, тело моё ослабело куда раньше, чем в нефритовом пальце кончился завод.
Ты вправе укорить меня за то, что я предавалась плотским утехам, покуда доктор фон Пфунг лежал, сражённый ударом, однако долгие часы в тесном экипаже один на один с умирающим пробудили во мне неукротимую жажду жизни. Я закрыла глаза и в экстазе рухнула на кровать, огласив воздух протяжным криком. Всё тело было пронизано сладкой истомой. Этьенн проделал какой-то ловкий манёвр, но я едва ли сознавала, что происходит. Когда я открыла глаза, то поняла, что место нефритового фаллоса занял настоящий. Ты скажешь, что безумие отдаваться подобным образом, — что ж, твоё право. И впрямь, выйти замуж за такого человека было бы роковой ошибкой; а вот опрятный, исключительно вежливый любовник с упоительно вибрирующим фаллосом вместо большого пальца — не худшее, что можно придумать. Его озорник меж моих чресел был тёплым и ласковым, мне не пришло в голову возражать, и, ещё не осознав возможных последствий, я поняла, что он кончает во мне.
ЗАПИСЬ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 1688
По-прежнему в треклятых Арденнах, ползём на север, время от времени останавливаясь, чтобы понаблюдать за перемещениями войск. Когда-нибудь этот лес должен закончиться!.. По крайней мере мы привыкли к местности, хотя временами всё равно продвигаемся не быстрее, чем мышь, прогрызающая ход в дереве.
Когда на следующий день я проснулась в постели Этьенна д'Аркашона, он, как это обычно бывает, уже ушёл; необычнее то, что он сочинил и оставил на столике любовное послание:
Дам возвышает знаменитый род, Гербы и грамоты под древней пылью. Но древо родовое червь грызёт, И тронуты побеги жадном гнилью. Кровь моей дамы, как родник, чиста, Заплачено за титул — мне нет дела. Её краса залог, что сбудется мечта Об отпрысках, чьё безупречно тело.Этьенн расположился в небольшом замке на восточном берегу Мёза. Из окна я видела бельгийские баржи — взятые внаём, купленные или реквизированные — с французскими солдатами на борту. Все они двигались в одну сторону — на юг. Я оделась и спустилась вниз, где меня дожидался кучер доктора фон Пфунга.
Накануне я рассказала Этьенну д'Аркашону, какая беда приключилась с моим другом, и тот отправил к нему своего личного врача. Я собственными глазами видела, что сотворил лейб-медик с французским королём, поэтому согласилась неохотно. И впрямь, кучер сообщил, что доктору фон Пфунгу ночью дважды отворяли кровь, и теперь он совсем слаб. Несчастный знаками выразил желание немедленно вернуться в Пфальц, чтобы перед смертью последний раз взглянуть на Гейдельбергский замок.
Мы с кучером понимали, что это невозможно. Согласно моей легенде, мы были здесь посланцами Лизелотты, и в таком случае нам надлежало либо оставаться с войском, либо возвращаться на запад в Сен-Клу, но никак не мчаться впереди наступающей армии. Однако доктор фон Пфунг хотел вернуться домой, мне же требовалось пробираться на север — сообщить принцу Оранскому, что французские войска скоро уйдут с его южного фланга. Итак, мы составили план: уехать в тот же день, якобы с целью доставить доктора фон Пфунга на запад, и выбраться из расположения войск, после чего экипаж повернёт на восток к Гейдельбергу, а я отправлюсь на север в сопровождении двух кавалеристов (оба они носят звучные титулы, но я буду называть их по именам — Иоахим и Ганс). Позже я могла бы оправдаться, объявив, что они оказались протестантскими шпионами на службе у Вильгельма Оранского и похитили меня силой.
Сперва всё шло по плану: мы переправились через Мёз, как если бы собирались на запад, но вместо этого двинулись на север навстречу нескончаемым вереницам конных и воловьих упряжек, тянувших вверх по реке баржи с французскими солдатами.
Примерно к середине дня мы достигли переправы, где и решили разделиться. Я поцеловала доктора фон Пфунга и сказала ему несколько слов — хотя никакие слова, тем более сочинённые в спешке, не могли выразить моих чувств; куда больше доктор сумел поведать глазами и тёплым рукопожатием. Я вновь переоделась в мужское платье, надеясь сойти за пажа моих спутников, и села на пони, которого любезно одолжил мне Этьенн д'Аркашон. С паромщиком пришлось долго торговаться — он не хотел двигаться наперерез баржам; однако наконец карета заехала на паром, под колёса подложили колодки, лошадей стреножили, и начался недолгий путь к другому берегу Мёза.
Они были уже у другого берега, когда их окрикнул французский офицер с одной из шаланд. Он в подзорную трубу разглядел герб доктора фон Пфунга на дверце кареты и узнал в нём пфальцского уроженца.
У кучера было письмо от Этьенна д'Аркашона с разрешением следовать на запад, но карета явно направлялась на восток. Оставалось одно: гнать прочь, что кучер и сделал, едва паром пристал к берегу. Единственная дорога шла вдоль реки и лишь затем сворачивала к деревне; кучер вынужден был править на виду у нагруженных мушкетёрами барж. У некоторых на корме были установлены фальконеты. Офицер отдал трубу помощнику, вытащил саблю, поднял её и в следующее мгновение опустил, давая сигнал. Немедленно французские баржи окутались облаком дыма. Над Мёзом закружили птицы, вспугнутые грохотом пальбы. Карета разлетелась в щепки, лошадей разорвало в клочья, судьба отважного кучера и недужного пассажира не оставляла сомнений.
Я могла бы остаться и немного поплакать, но местные крестьяне видели, что мы приехали вместе с экипажем; очень скоро кто-нибудь из них продал бы эти сведения французам. Итак, мы тронулись в путь, который продолжаем и по сей день.
ЗАПИСЬ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 1688
Жители говорят, что здешние земли принадлежат епископу. Это вселяет надежду, что мы в епископстве Льежском, не так далеко от Голландской республики. Иоахим и Ганс долго спорили на немецком, который я с трудом разбираю. Иоахим хочет в одиночку повернуть к востоку, добраться до Рейна и возвратиться в Пфальц, чтобы предупредить сограждан. Ганс считает, что родине уже не помочь; остаётся лишь мстить, помогая Защитнику протестантской веры.
Позже. Спор разрешился так: мы двинемся мимо французских позиций к Маастрихту, а дальше баржей доберёмся до Нимвегена, где Рейн и Мёз едва не сливаются в поцелуе. Это сто миль к северу отсюда, но, возможно, до Рейна так добраться быстрее, чем напрямик к востоку через бог весть какие опасности. В Нимвегене Иоахим и Ганс узнают последние новости от лодочников и пассажиров, прибывших по Рейну из Мангейма и Гейдельберга.
Покинув место привала под Льежем, мы довольно быстро миновали зону французского военного контроля и ехали по развороченной земле, где ещё несколько дней назад стояли французские полки. На границе для видимости оставлены несколько французских рот. Они останавливают и проверяют всех, кто едет с севера на юг, хотя беспрепятственно пропускают тех, кто, подобно нам, всего лишь направляется к Маастрихту.
ЗАПИСЬ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1688
На судёнышке, идущем из Маастрихта в Нимвеген. Условия не лучшие, но по крайней мере не надо больше идти или скакать верхом. Возобновила знакомство с мылом.
ЗАПИСЬ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1688
Я в каюте корабля, идущего по каналу на запад через Голландскую республику.
Рядом спят принцессы.
Немцы, при всём своём аккуратизме, обожают сказки или, как они говорят, Marchen. Параллельно с их опрятным христианским миром существует Marchenwelt, языческое царство чудес и волшебных персонажей. Почему они верят в Marchenwelt, для меня было и остаётся загадкой, однако сегодня я ближе к пониманию, чем вчера. Ибо вчера мы добрались до Нимвегена и тут же отправились на пристань. Я стала искать баржу, идущую в Гаагу или Роттердам, Иоахим и Ганс тем временем расспрашивали пассажиров, прибывших по Рейну. Не успела я устроиться в удобной каюте, как появился Иоахим с двумя персонажами прямиком из Marchenwelt. Это были не гномы и не феи, а принцессы: одна взрослая (думаю, ей нет тридцати), другая с ноготок (она уже трижды повторила мне, что ей пять). Натурально, у маленькой была кукла, по её уверениям — тоже принцесса.
Они ничуть не походили на государынь. У матери — её зовут Элеонора — есть что-то от королевской повадки, но тогда я этого не заметила, ибо, едва увидев чистую постель (мою) и поняв, что я пригляжу за Каролиной — так зовут дочь, — она рухнула на (мою) кровать, уснула и проспала несколько часов кряду. К тому времени баржа давно уже была в пути. Я почти всё это время болтала с маленькой Каролиной, которая старательно уверяла меня, что она — принцесса, но поскольку то же самое она говорила про грязный лоскутный комок у себя в руках, я не очень-то обращала внимание.
Иоахим заверил, что оборванка, храпящая в моей постели, и впрямь принадлежит к августейшему дому. Я уже хотела ответить, что его провела мошенница, когда вспомнила про Зимнюю королеву: как та, изгнанная папистами из Богемии, скиталась по всей Европе, покуда не обрела пристанище в Гааге. Живя в Версале, я больше, чем нужно, узнала о бедственном положении многих аристократических и королевских семейств. Так ли невероятно, что три принцессы — мать, дочь и кукла — остались без крова и куска хлеба на Нимвегенской набережной? Ведь в эту часть Европы пришла война, а войны рвут завесу между повседневным миром и Marchenwelt.
К тому времени, как Элеонора проснулась, я успела починить куклу и настолько прониклась ответственностью за Каролину, что готова была похитить её у матери, если бы та, проснувшись, оказалась сумасшедшей. (Я вовсе не склонна относиться так к детям вообще; в Версале моим заботам то и дело поручали малолетних засранцев, чьи имена я давно позабыла. Однако Каролина умна, с ней интересно разговаривать; такой приятной беседы у меня не было уже несколько недель.)
Когда Элеонора встала, умылась и подкрепилась моей провизией, она поведала историю, хоть и дикую, но по современным меркам вполне правдоподобную. Она назвалась дочерью герцога Саксен-Эйзенахского, вдовою маркграфа Бранденбург-Ансбахского; дочь её полностью именуется Вильгельминой Каролиной Ансбахскою. Когда несколько лет назад маркграф умер, его титул перешёл к сыну от первого брака, который всегда считал Элеонору злой мачехой (куда без неё в сказке!), поэтому выгнал их с Каролиной из замка. Они вернулись на родину Элеоноры, в Эйзенах — местность на краю Тюрингского леса, в двухстах милях к востоку от того, где мы сейчас. Её положение тогда, несколько лет назад, было полной противоположностью моему: знатный титул и никаких средств, в то время как я, не имея иных титулов, кроме «невольница» и «бродяжка», располагала кое-какими деньгами. Так или иначе, они с Каролиной вынуждены были поселиться в фамильном охотничьем домике среди Тюрингского леса. Однако в Эйзенахе Элеонору хотели видеть не больше, чем в Ансбахе после смерти мужа, поэтому она хоть и проводила там часть года, старалась больше гостить у дальних родственников в разных частях северной Европы, переезжая время от времени, чтобы не слишком надоесть хозяевам.
Недавно она нанесла короткий визит в Ансбах, пытаясь наладить отношения с пасынком, а оттуда отправилась в Мангейм к какому-то кузену, который и прежде им помогал. Они с Каролиной прибыли, разумеется, в самое неудачное время, несколько дней назад, когда выстроенные в Хагенау французские баржи подошли по Рейну и принялись бомбардировать городские укрепления. Кому-то хватило присутствия духа посадить их на баржу с состоятельными беженцами. Вскоре они были вне опасности, хотя ещё день или два слышали отголоски канонады. До Нимвегена добрались без происшествий, но на борту было столько беженцев, в том числе тяжелораненых, что Элеоноре лишь изредка удавалось прикорнуть. Когда они с дочерью, пошатываясь, перебирались по сходням на пристань, Иоахим — знатный пфальцский дворянин — узнал их и привёл ко мне.
Теперь рейнское течение несёт нас, вместе с плавучим мусором, к морю. Я не раз слышала, как немцы и французы презрительно сравнивают Нидерланды со сточной канавой, которая собирает все помои христианского мира, но не может смыть их в море, а откладывает грудой под Роттердамом. Это грубый и нелепый поклёп на отважную маленькую страну. Однако глядя на себя и на принцесс, а также вспоминая наши недавние странствия (долгий мучительный путь через тёмные опасные края к воде и дальше вниз по течению), я различала в приведённом сравнении долю жестокой правды.
Впрочем, мы не позволим, чтобы нас смыло в море. В Роттердаме мы отклонимся от естественного течения реки и по каналу двинемся к Гааге. Здесь принцессы обретут убежище, как Зимняя королева на исходе своих мытарств, а я попытаюсь дать связный отчёт принцу Оранскому. Вышивка моя, ещё не законченная, уже безнадёжно испорчена, но в ней есть всё, что нужно Вильгельму. Закончив отчёт, я сошью из неё подушку. Все будут дивиться, зачем я храню в доме старую линялую тряпку; я не выброшу её, что бы ни говорили. Начиная её, я думала отмечать лишь перемещения французских войск и тому подобное, однако странствия давали мне досуг для вышивки, и я понемногу начала поверять ей свои мысли и чувства. Может быть, мною двигала скука, а может — желание, чтобы какая-то частичка меня сохранилась, если я погибну или попаду в плен. Глупо, наверное, но женщина, лишённая семьи и почти без друзей, живёт на краю отчаяния, проистекающего из страха умереть, не оставив по себе следа; страха, что всё, ею сделанное, канет в небытие, а воспоминания (скажем, о докторе фон Пфунге) оборвутся, как крик в тёмном лесу. Писать такой подробный дневник небезопасно; я делаю это, дабы не думать с тоской, что жизнь моя пройдёт бесследно. Так по крайней мере я становлюсь частью истории, вроде тех сказок, какие матушка рассказывала мне в алжирских баньёлах или какими Шахерезада продлила себе жизнь на тысячу и одну ночь.
Впрочем, учитывая шифр, которым я пользуюсь, тебя, любезный читатель, скорее всего не будет, посему не вижу причины и дальше тыкать иглой в грязную ткань, когда я так устала и покачивание барки соблазняет меня смежить веки.
Россиньоль — Людовику XIV продолжение ноябрь 1688
Ваше Величество ужаснётся истории дерзости и предательства, которая, стань она известна, нанесла бы непоправимый ущерб репутации Вашей невестки, герцогини Орлеанской. Говорят, она убита горем и не ценит усилий, которые Вы, Ваше Величество, приложили к восстановлению её законных прав на Пфальц. Из уважения к рангу и человеческого сострадания к чувствам Мадам я тщательно храню в тайне те сведения, которые в случае огласки лишь усугубили бы её муки. Приложенный отчёт я направляю только Вашему Величеству. Д'Аво неоднократно просил у меня экземпляр, но я отклонил все его просьбы и буду отклонять впредь, если только Ваше Величество не повелит мне отправить ему этот документ.
За то время, что я его дешифровывал, Фобос и Деймос вырвались на восточный берег Рейна. Свинец, за которым графиня столь дерзко следовала до самого Мёза, окончил свой долгий путь в телах и домах пфальцских еретиков. Половина молодых версальских придворных отправилась на охоту в Германию; многие из них пишут письма, которые мне по долгу службы приходится читать. Я узнал, что Гейдельбергский замок ярко пылал несколько дней, и всем не терпится повторить эксперимент в Мангейме. Филипсбург, Майнц, Шпейер, Трир, Вормс и Оппенгейм запланированы на конец года. В начале зимы Ваше Величество с прискорбием узнает о совершённых зверствах. Вы отзовёте армию и примерно отчитаете Лувуа за излишнюю жестокость. Историографы объяснят, что Король-Солнце не может отвечать за поступки своих солдат.
От своих агентов в Англии Ваше Величество, несомненно, знает, что Вильгельм Оранский сейчас там, во главе войска, составленного не только из голландцев, но также из английских и шотландских полков, размещённых на голландской земле согласно мирному договору, гугенотского отребья, бежавшего из Франции, скандинавских наёмников и пруссаков, которых для такого случая одолжила ему София-Шарлотта, дочь треклятой ганноверской сучки Софии.
Всё это лишь доказывает, что Европа — шахматная доска. Ваше Величество не в силах получить (скажем) Рейн, не пожертвовав (скажем) Англией. Подобным образом София и Вильгельм в конечном счёте поплатятся за то, что выиграли своими бесчестными махинациями. Что до графини де ля Зёр, новый английский король может сделать её герцогиней Йглмской, но Ваше Величество, без сомнения, позаботится, чтобы утраты её были сопоставимы.
Граф д'Аво удвоил наблюдения за графиней в Гааге. Прачка, стирающая бельё в доме Гюйгенса, заверила его, что с самого приезда у графини ни разу не было обычного женского. Она брюхата от Аркашона и посему принадлежит теперь к французскому королевскому дому, коего Ваше Величество является главой. Поскольку это теперь дело семейное, я устраняюсь от дальнейшего вмешательства, если только Ваше Величество не распорядится иначе.
С глубоким почтением имею честь быть Вашего Величества нижайший и покорнейший слуга Бонавантюр Россиньоль.
Ширнесс, Англия 17 декабря 1688
Тогда царь изменился в лице своём, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое.
Даниил, 5, 6В обычное время Даниель не имел ничего общего с другими придворными; собственно, за это его и держали при дворе. Сегодня, впрочем, его объединяли с ними сразу два обстоятельства. Во-первых, большую часть ночи и почти весь день он рыскал по Кенту в поисках короля. Во-вторых, ему просто необходимо было промочить горло.
Обнаружив себя в одиночестве на берегу среди лодок и заприметив неподалёку таверну, Даниель отправился прямиком в неё, рассчитывая исключительно на кружечку пива и, может быть, на сосиску, в придачу к каковым обнаружил Якова (милостью Божией короля Англии, Шотландии, Ирландии и небольшого клочка Франции) Стюарта, избиваемого двумя пьяными английскими рыбаками. Именно такого унижения абсолютные монархи всячески стараются избежать. Как правило, на сей счёт имеются телохранители и регламент. Можно вообразить, как какой-нибудь древний английский государь, Свен Вилобородый там или Эдмунд, король Кентский, заходит в трактир и раздаёт пару зуботычин. Однако за последующие пять столетий куртуазная мода вытеснила кабацкие драки из списка того, что положено уметь принцам. И это сказалось: королю Якову II расквасили нос. Причём расквасили хорошо: ему предстояло ходить с красной дулей ещё несколько недель. Как прежние поколения воспевали схватки Ричарда Львиное Сердце и Саладина, так грядущие будут славить расквашенный нос Якова II Стюарта.
Короче, такой сценарий не предусматривали книги по этикету, которые Даниель изучал, подавшись в придворные. Он знал, как обратиться к королю на маскараде в Уайтхолле или на охоте в обширных угодьях его величества, но представления не имел, как нарушить монарший мордобой в портовом кабаке, поэтому просто заказал кружечку пива и принялся обдумывать свои дальнейшие действия.
Его величество держался на удивление достойно. Разумеется, он участвовал в сражениях на суше и на море; ещё никто ни разу не назвал его трусом. Да и сама потасовка состояла больше из оплеух, не столько настоящая драка, сколько развлечение для себя и для тех, кому нечасто доводится посмотреть на представления с Пульчинелло. Таверна была очень старая, наполовину вросшая в землю; близость потолка к полу не позволяла рыбакам размахнуться как следует. Град мощных ударов не достигал короля, ему доставались лишь звонкие шлепки да затрещины. Даниель чувствовал, что, если бы король просто перестал втягивать голову в плечи, отпустил шутку и заказал всем по кружечке пива, атмосфера мигом переменилась бы. Впрочем, будь Яков такого рода королём, он бы тут просто не оказался.
Во всяком случае, Даниель обрадовался, поняв, что это не серьёзное избиение, — в противном случае он должен был бы обнажить шпагу, которой не умел пользоваться. Король Яков II со шпагой управился бы отлично; погружая верхнюю губу в пивную пену, Даниель на мгновение вообразил, как отстёгивает шпагу и бросает через комнату государю, тот ловит её в воздухе, выхватывает из ножен и начинает разить подданных. Даниель мог бы отличиться ещё больше, огрев кого-нибудь кружкой по голове, а лучше — получив рану-другую, чем заслужил бы бесплатный (строго в одну сторону) билет до Парижа, заочное графство в Англии и почётное место при дворе короля-изгнанника.
Впрочем, он недолго предавался фантазиям. Один из нападавших почувствовал в кармане его величества что-то твёрдое и, запустив туда руку, извлёк распятие. Наступила тишина. Те, кто хоть что-то видел, сочли своим долгом воздать должное символу страданий нашего Спасителя — в значительной мере потому, что крест был из чистого золота.
В атмосфере таверны, густой и тяжёлой, как рыбное заливное, золотисто поблёскивающее распятие окружал слабый ореол. Декарт не признавал вакуума; то, что мы считаем пустотой, утверждал он, есть на самом деле скопище частиц, которые, соударяясь, перераспределяют фиксированный импульс, приданный Вселенной Богом при сотворении. Наверное, он пришёл к своим взглядам в кабаке вроде этого. Даниель сомневался, сумела бы пуля, выпущенная у одной стены, пробить туннель в воздухе и долететь до противоположной.
— Это чё?! — вопросил тот, который держал крест.
Яков II неожиданно пришёл в ярость.
— Чё-чё!.. Распятие!
Новая пауза. Даниель окончательно прогнал мысль стать графом-изгнанником в Версале и теперь сам чувствовал себя в какой-то степени голодранцем. Его сильно подмывало встать и засветить королю по физиономии, хотя бы в память о Дрейке, который сделал бы это без колебаний.
— Ну, ежли ты не сукин кот езуит, откуда у тебя с собой идолище? — допытывался ловкий на руку малый. — Гри, где взял святыню? Спёр в церкви, гри?
Они знать не знают, с кем имеют дело. Теперь всё встало на свои места. До сей минуты Даниель гадал, у кого тут галлюцинации на почве сифилиса.
Яков изумил лондонцев, во весь опор ускакав из Уайтхолла после полуночи. Кто-то видел, как он швырнул в Темзу большую королевскую печать — поступок для государя не вполне обычный — и умчался на восток. Никого из людей благородного или учёного звания не было подле него до той минуты, когда Даниель забрёл в таверну с намерением промочить горло.
По счастью, желание двинуть королю в зубы отпустило. Пьяница, развалившийся на скамье, смотрел на Даниеля не вполне благожелательно. Тот задумался: если здешние нравы позволяют избить и ограбить хорошо одетого незнакомца, в котором заподозрили иезуита, то и для пуританина Даниеля Уотерхауза всё может обернуться не слишком удачно.
Он одним глотком выпил полкружки пива и повернулся к середине таверны, так, чтобы плащ распахнулся и стала видна шпага. Наличие оружия отметил с профессиональным интересом кабатчик, на Даниеля не смотревший; он был из тех, у кого сильно развито периферическое зрение — дай ему подзорную трубу, он поднесёт её к уху и увидит не меньше Галилея. Его лицо, с не раз переломанным носом и запавшим от удара левым глазом, походило на смятую в кулаке глиняную фигурку. Даниель сказал ему:
— Передайте своим друзьям, что, если с этим джентльменом случится беда, есть свидетель, от слов которого у судьи парик встанет дыбом.
С этими словами он вышел на набережную, которая могла бы откликаться и на «веранду» и на «пристань», смотря откуда глядеть. Теоретически судёнышки с неглубокой оснасткой могли бы швартоваться прямо к ней, практически они лежали футах в пятидесяти от обросших ракушками опор. Цепочки следов вспухшими ранами тянулись от лодок и грязными шлепками продолжались на пристани. В полумиле отсюда, там, где Медуэй впадает в Темзу, покачивались на якоре корабли. Шёл отлив!.. Яков, прославленный флотоводец, сражавшийся с голландцами на море и порою даже их побеждавший, великий адмирал, наполнивший уши Исаака Ньютона отзвуками своей канонады, прискакал из Лондона в самое неудачное время. Подобно королю Кануту, он вынужден был дожидаться прилива. Жестокая ирония судьбы! Измотанный долгой скачкой и вынужденный как-то убить несколько часов, король забрёл в таверну — а почему бы нет? Куда бы он ни заходил, ему служили, преклонив колени. Однако Яков, который не пил и не ругался, заика, не говорящий на языке английских рыбаков, с тем же успехом мог бы зайти в индуистский храм. Он сменил белокурый парик на тёмный, который свалился в самом начале потасовки, так что стали видны рябая плешь и сальный, липкий от пота бобрик. Парик скрадывает возраст. Сейчас Даниель видел пятидесятипятилетнего малосимпатичного неудачника.
Он внезапно почувствовал, что у него больше общего с этим сифилитичным деспотом-папистом, чем с простыми ширнессцами. Ему совсем не понравилось, куда подобные мысли могут занести, поэтому он просто позволил ногам нести себя в другую сторону — на улочку, которая в Ширнессе носила гордое название главной, в гостиницу, где множество хорошо одетых джентльменов метались из угла в угол, заламывая руки и отпихивая ногами кур. Все они, включая Даниеля, сломя голову примчались из Лондона, полагая, что если государь покинул город, то они, оставшись там, пропустят что-то весьма важное. Наивные!
* * *
Он рассказал об увиденном Элсбери, постельничему короля, который тут же ринулся к выходу, где его едва не затоптали другие придворные; каждый торопился поспеть первым. На конюшне Даниелю подвели лошадь. Взобравшись в седло и оказавшись вровень с другими всадниками, он увидел обращённые к себе нетерпеливые лица и, ни в коей мере не разделяя с остальными чувство романтической драмы, бодрым галопом устремился к реке. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что отряд кавалеров преследует круглоголового, и Даниель искренне надеялся, что образ не станет пророческим.
Доскакав до таверны, представители знати в весьма незаурядном количестве набились внутрь и принялись делать громкие заявления. Казалось бы, пьяницы и прочая голытьба должны брызнуть в окна, как мыши от фонаря, но никто и не подумал очистить таверну, даже когда стало ясно, что перед ними — его величество. Другими словами, ширнесский сброд так и не научился всерьёз воспринимать идею монархии.
Даниель минуту-другую стоял на улице. Солнце садилось в рваные тучи, бросая полосы закатного света на Медуэй — громадный отстойник в несколько миль шириной, с берегами извилистыми, как мозг, наполненный всевозможными торговыми и военными кораблями. Военные робко жались к дальнему концу, за цепью, протянутой через реку под защитою пушек замка Апнор. Яков почему-то решил, что флот Вильгельма Оранского ударит сюда, в самое неподходящее место, однако протестантский ветер донёс голландца до залива Тор, в сотне миль к западу, почти в Корнуолле. С тех самых пор принц уверенно продвигался на восток. Английские полки, посланные преградить ему путь, немедленно переходили под знамёна голландца. Если Вильгельм ещё не в Лондоне, то скоро там будет.
Тем временем портовый люд уже возвратился к незлобивому английскому радушию; женщины, подобрав юбки, спешили к таверне. Они несли королю провизию! Они ненавидели его и хотели, чтобы он убрался, но это не повод забывать о гостеприимстве. У Даниеля были причины медлить: он чувствовал, что должен зайти и попрощаться с королём. В смысле же практическом он почти не сомневался в том, что, если развернуть лошадь к Лондону, его могут обвинить в конокрадстве.
С другой стороны, до темноты оставался ещё час, а по отливу можно было сэкономить немало времени, если не огибать эстуарий. В Лондоне, чувствовал Даниель, происходят важные события; что до короля и придворных в Ширнессе — если кабацкая рвань не принимает их всерьёз, то с какой стати должен принимать секретарь Королевского общества? Он развернул лошадь крупом к английскому королю и поскакал к свету.
Со дней халдейских звездочётов солнечные затмения время от времени отбрасывали на землю зловещую тень, но Англия зимою иногда радует многострадальных жителей феноменом противоположного свойства, когда после нескольких недель беспроглядной серости солнце, казалось бы, уже севшее, внезапно пробивается из-за туч и заливает всё розовой, оранжевой и зелёной иллюминацией. Даниель, хоть и был эмпириком, счёл возможным приписать увиденному символический смысл. Впереди всё горело, как будто он ехал через витраж. Позади (а он лишь раз удосужился оглянуться) лежали синюшно-чёрное небо и земля — длинная полоса грязи. Таверна торчала средь покосившихся свай, на дощатых стенах лежали слабые закатные отблески; единственное оконце поблёскивало карбункулом. Такой гротескный пейзаж следовало бы написать голландцу. Впрочем, если подумать, голландец его и написал.
* * *
Редкий путешественник обратит внимание на замок Апнор — каменный форт, выстроенный Елизаветой сто лет назад, но по виду куда более древний: вертикальные стены были пережитком уже в шестнадцатом столетии. После Реставрации он стал номинальной вотчиной Луи Англси, графа Апнорского, владельца прелестной Абигайль (во всяком случае, Даниель полагал, что она прелестна), и потому Даниель не мог смотреть на замок без содрогания; он чувствовал себя мальчишкой, едущим мимо дома с привидениями. Он объехал бы Апнор стороной, но здесь располагалась ближайшая переправа, и сейчас было не время поддаваться суевериям. Иначе пришлось бы тащиться несколько миль до базы военного флота в Чатаме и там нанимать лодку, а военная база во время чужеземного вторжения — не лучший перевалочный пункт.
На пристани он сделал вид, будто даёт лошади отдохнуть, и без особого энтузиазма провёл рекогносцировку. Солнце окончательно село, всё стало тёмно-синим на ещё более тёмно-синем фоне. Замок на западном берегу утопал в собственной тени. Впрочем, некоторые окна — особенно в служебных пристройках — светились. На канале под стеной замка стоял двухмачтовик.
Когда в шестьдесят седьмом голландцы подошли с моря, хозяйничали тут три дня, захватили несколько военных кораблей Карла II, а остальные сожгли, замок Апнор выстоял; оттуда даже постреливали по голландцам, когда те приближались. Отблеск этих славных деяний лёг и на Апнора, чьи мытарства — истерия папистского заговора и карточные долги — были ещё впереди. Однако даже такому нерадивому хозяину, как Карл II, показалось обидно, что голландцы заходят в его главный военный порт, словно к себе домой, поэтому с тех пор тут выстроили современные укрепления, а замок Апнор низвели до статуса огромного порохового погреба — с тем подтекстом, что, если он взлетит на воздух, никто не расстроится. Баржи подходили от Тауэра и бросали якорь там, где сейчас стоял двухмачтовик. Даниель плохо разбирался в кораблях, но даже фермер увидел бы, что у этого на корме несколько кают с большими окнами и что за их закрытыми ставнями горит свет. Луи Англси редко здесь бывал: да и какой нормальный граф отправится в сырой каменный мешок сидеть на бочонках с порохом? Другое дело, что во времена беспорядков замок был бы не худшим убежищем. Каменные стены, вероятно, не выдержат голландских ядер, зато остановят разъярённую протестантскую толпу, а до реки рукой подать: Апнору довольно выйти на причал, и он, почитай, во Франции.
Редкие дозорные на стенах стояли в обнимку с алебардами, грели руки под мышками и травили баланду; по большей части они смотрели на римскую дорогу внизу, хотя иногда оборачивались, чтобы позабавиться какой-нибудь домашней сценкой во дворе. По течению плыли куриные перья и картофельные очистки, ветер доносил запах дрожжей. Короче, замок жил своей немудрёной жизнью. Даниель заключил, что сейчас Апнора здесь нет, но его ждут.
Он оставил Апнорский замок позади и поскакал через Англию — один, в темноте. Сейчас ему казалось, что так он провёл полжизни. После переправы через Медуэй между ним и Лондоном в двадцати пяти милях впереди не осталось серьёзных преград. Даже не будь здесь римской дороги, он, наверное, смог бы отыскать путь, следуя от огня к огню. Опасаться можно было лишь одного: как бы местные жители не приняли его за ирландца. То, что Даниель ничуть на ирландца не походил, значения не имело — пронёсся слух, будто Яков выписал в Англию легион кельтских мстителей. Без сомнения, многие англичане сегодня согласились бы, что незнакомого всадника лучше для начала сжечь, а уже потом, когда пепел остынет, опознавать по зубам.
И так всю дорогу: скука и страх, скука и страх. На скучных отрезках у Даниеля было время задуматься о тяготеющем над ним фамильном проклятии: присутствовать при конце английских королей. Он видел, как скатилась голова Карла I, видел, как Карла II залечили врачи, теперь вот это. Если следующий государь хочет править долго, он позаботится, чтобы Королевское общество отправило Даниеля до скончания дней ежеутренне замерять атмосферное давление на Барбадосе.
Последний отрезок пути проходил в виду реки, которая являла собой приятное для глаз зрелище: извилистое созвездие корабельных фонарей. С ней резко контрастировала плоская местность, утыканная столпами дымного огня, жар которых щёки Даниеля ощущали за милю, как первый безотчётный румянец стыда. По большей части это были просто костры — единственный способ англичанину выказать чувства. Впрочем, в одном городке, через который он проезжал, папистскую церковь не просто жгли, но и крушили — разбивали ломами оранжевые от зарева люди, в коих он больше не узнавал своих соотечественников.
Река притягивала к себе. Сперва Даниель думал, что его манят её спокойствие и прохлада. Добравшись наконец до Гринвича, он свернул с дороги на траву. Не видно было ни зги — забавно, потому что место это звалось обсерваторией. Однако он придерживался неукоснительной политики: заставлял лошадь идти туда, куда она не хочет, то есть вверх; с таким же успехом можно поднимать на революцию большую и в целом благополучную страну.
На вершине холма торчало одинокое здание, нелепое и наполненное тенями. Тенями натурфилософов. Нижнюю — жилую — часть обступили деревья, закрывавшие весь вид из окон. Любой другой жилец давно бы их вырубил. Флемстиду они не мешали: днём он спал, а ночами смотрел не вокруг, а вверх.
Даниель достиг того места, с которого мог различить между деревьями лондонские огни. Мерцающее небо рассекал чёрный крест шестидесятифутового отражательного телескопа, подпёртого корабельной мачтой. Приближаясь к гребню, Даниель взял вправо, машинально избегая Флемстида, обладающего загадочной отталкивающей силой. Скорее всего сейчас тот не спал, но и наблюдения вести не мог по причине зарева, поэтому был наверняка раздражительнее обычного и, возможно, напуган. Ставни он для безопасности велел заколотить намертво и сейчас, должно быть, сидел в своей каморке, не слыша ничего, кроме тиканья часов. Наверху, в восьмиугольной башенке, располагалась пара сконструированных Гуком и изготовленных Томпсоном часов с тринадцатифутовыми маятниками, которые тикали или, вернее, лязгали каждые две секунды, медленнее, чем человеческое сердце, — гипнотический ритм, ощущавшийся во всём здании.
Даниель вёл лошадь в обход вершины холма. Внизу, у реки, показались сперва кирпичные руины Плацентии, Тюдоровского дворца, потом новые каменные постройки, которые начал возводить Карл II. Следом Темза: сначала гринвичская излучина, затем прямой отрезок до самого Ист-Энда. И наконец перед Даниелем открылся весь Лондон. Огни отражались в морщинистой водной глади, нарушаемые лишь неподвижными силуэтами кораблей. Если бы когда-то он не видел собственными глазами Лондонский пожар, то решил бы сейчас, что весь город охвачен пламенем.
Здесь, на краю рощицы, дубы и яблони цеплялись за самую крутую часть склона. Жилище Флемстида осталось в нескольких ярдах выше и позади, на нулевом меридиане. Голова кружилась от пьяного запаха преющих на земле яблок — Флемстид не давал себе труда их подбирать. Даниель не стал привязывать лошадь, а пустил её покормиться падалицей — тут тебе и выпивка, и закуска. Потом выбрал место, с которого меж деревьями видел Лондон, спустил штаны, сел на корточки и стал экспериментировать с разными положениями таза, пытаясь выдавить из себя струйку. Он чувствовал, как камень перекатывается в мочевом пузыре, словно пушечное ядро в торбе.
Лондон не был таким ярким с тех пор, как двадцать два года назад сгорел до основания. И не звучал так за всю свою многовековую историю. Когда Даниель привык к тишине рощицы, он стал различать несущийся из города гул — не канонады и не тележных колёс, но человеческих голосов. Иногда лондонцы просто горланили, каждый сам по себе, а временами сливались в глухие хоры, которые взмывали, сталкивались и рассыпались, словно волны прилива в извилистом речном устье. Люди пели «Лиллибуллеро» — песню, которая в последнее время звучала повсеместно. Слова не значили почти ничего — пустой набор звуков, однако общий смысл понимали все: долой короля, долой папизм, ирландцев — вон.
Если бы сцена в таверне не показала этого со всей определённостью, Даниель понял бы сейчас по виду ночного города: свершилось то, что он назвал Революцией. Революция произошла, она была Славной — славной тем, что не стала потрясением. На сей раз не было ни гражданской войны, ни резни, деревья не гнулись под тяжестью повешенных, корабли с невольниками не отплывали к Барбадосу. Льстил ли себе Даниель, полагая это своей заслугой?
Воспитание научило его ждать одномоментного драматического Апокалипсиса. Апокалипсиса не было; была медленная эволюция, действующая постепенно и незаметно, как навоз на пашне. Если что-то важное и происходило, то там, где Даниеля не было. Где-то существует неведомая точка перегиба, про которую потом скажут: «Вот тогда-то всё и случилось».
Даниель не был настолько старым и усталым пуританином, чтобы не радоваться происшедшему. Однако самая безбурность революции, её, если можно так выразиться, диффузность, воспринималась как знак. Подобно астроному, читающему в письме Кеплера, что Земля на самом деле не центр Вселенной, Даниель знал многое и лишь кое в чём заблуждался; но теперь должен был пересмотреть и переосмыслить всё. Это несколько охладило его пыл, словно случайный порыв ветра, что, залетев в трубу, обдаёт веселящихся золой и оставляет на пудинге горькую корку сажи. Он был не вполне готов жить в этой новой Англии.
Теперь Даниель понял, почему его так тянуло к реке; не потому, что она безмятежна, а потому, что она может его отсюда унести.
Он оставил лошадь в рощице, с объяснительной запиской Флемстиду, который будет вне себя, потом спустился к реке и разбудил знакомого перевозчика, мистера Бхнха, патриарха крохотной йглмской колонии на южном берегу Темзы. Мистер Бхнх давно привык, что натурфилософы переправляются через реку в самое неурочное время; кто-то в шутку даже предложил выбрать его членом Королевского общества. Он согласился доставить Даниеля на Собачий остров.
Снижение цен на стекло и прогресс в архитектуре позволили строить лавки с большими, выходящими на улицу окнами, чтобы прохожие видели разложенный в них дорогой товар. Ушлые застройщики, такие как Стерлинг (граф Уиллсденский) Уотерхауз и Роджер (маркиз Равенскарский) Комсток возвели целые кварталы, куда придворные ходили глазеть на витрины. Развлечение вошло в моду. Даниель, разумеется, никогда не опускался до новоизобретённого порока, только всякий раз, переправляясь через реку, глазел на корабли, словно переборчивый покупатель. Лодки и баржи, снующие по Темзе, для него не существовали; каботажные судёнышки с косыми парусами казались досадной помехой. Он поднимал глаза от их толчеи, чтобы глядеть на большие корабли, которые вздымали реи, словно англиканские священники — руку с благословением, в небо, где веял свежий и чистый ветер. Паруса свисали с реев, как иерейские ризы. Сегодня в лондонской гавани таких кораблей было немного, и каждый из них Даниель придирчиво оценивал. Он выискивал, какой мог бы унести его прочь, чтобы не видеть эту землю, чтобы умереть и быть похороненным в другой части света.
Один корабль в особенности приковывал взгляд чёткостью обводов и проворством команды; пользуясь начавшимся приливом, он со слабым южным ветерком поднимался вверх по реке. Движение воздуха было таким слабым, что Даниель не ощущал его на лице, но команда «Зайца» приметила колыхание вымпелов и подняла марсели. Паруса заслонили какую-то часть ветра. Ещё они заслонили свет от костров, отбросив на небо длинные призматические тени. Паруса «Зайца» нависли над чёрной Темзой, светясь, как зашторенные окна. Мистер Бхнх с полмили шёл в его кильватере, пользуясь тем, что маленькие судёнышки расступаются перед большим кораблём.
— Снаряжён для дальнего плавания, — заметил он, — небось уходит в Америку со следующим отливом.
— Будь у меня абордажный крюк, — сказал Даниель, — я бы взобрался на борт, как пират, и уплыл с ними.
Мистер Бхнх, не привыкший к таким взлётам фантазии у пассажиров, опешил.
— Собираетесь в Америку, доктор Уотерхауз?
— Когда-нибудь, — отвечал Даниель, — а пока ещё надо навести порядок в этой стране.
Сердобольному мистеру Бхнху не хотелось высаживать Даниеля в джунглях восточного Лондона, где пьяная рвань преследовала реальных и вымышленных иезуитов. Даниель не разделял этой тревоги. Он без всяких помех доехал от самого Ширнесса. Даже в таверне его не тронули. Его либо не замечали, либо, заметив, сразу теряли к нему интерес, либо (самое странное) дрейфили и отводили глаза. Ибо в Даниеле чувствовалась сейчас непритворная бесшабашность человека, который знает, что так или иначе скоро умрёт; от него словно веяло кладбищенским духом, и это распугивало людей.
С другой стороны, тому, кто скоро умрёт, не оставив наследников, можно не скупиться. «Плачу фунт, если доставите меня прямиком в Тауэр», — сказал Даниель. Потом, прочтя сомнение на лице мистера Бхнха, раскрыл кошель и высыпал рядом с корабельным фонарём пригоршню монет, в которой отыскал одну не очень тусклую и почти круглую. Если повертеть её под разными углами к свету, сощуриться и добавить капельку воображения, можно было угадать полустёртый портрет Якова I, который умер шестьдесят с лишним лет назад, но в своё время сумел навести порядок на Монетном дворе. Лодочник взял монету; мгновение спустя веки Даниеля захлопнулись с почти различимым стуком. Он смутно почувствовал, как мистер Бхнх укрыл его тяжёлым шерстяным одеялом, и тут же провалился в беспамятство.
Ибо царь северный возвратится, и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придёт с большим войском и большим богатством.
В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут.
И придёт царь северный, устроит вал и овладеет укреплённым городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его; недостанет силы противостоять.
Даниил, 11, 13—15Заснув ночью в лодке, естественно проснуться в той же лодке в ту же самую ночь; однако Даниель далеко не сразу сообразил, что к чему. Телу было жарко сверху, холодно снизу и вообще плохо. Он попытался несколько раз открыть и закрыть глаза, чтобы усилием воли вызвать тёплую постель, но чья-то более мощная воля судила иначе и приговорила его к этим времени и месту. Для кошмара всё выглядело чересчур отчётливым, чересчур вывернутым наизнанку. Лондон — горящий, дымный, поющий — по-прежнему окружал Даниеля. Прямо перед ним вставала из Темзы отвесная каменная стена, густо заляпанная всей той дрянью, которая плывёт по реке. На стене разместились небольшие строения, подъёмные балки, пушки, несколько маленьких и дисциплинированных костров; средь вооружённых людей шныряли мальчишки. Запахи угля, железа и серы напомнили Даниелю лабораторию Исаака. А поскольку обоняние сообщается с самыми глубинными подвалами мозга, где живут и плодятся полуоформленные мысли, Даниелю на миг представилось, что Исаак приехал в Лондон, захватил власть и построил лабораторию размером с Иерусалим.
Потом он заметил над пристанью каменные башни и стены, за ними другие, ещё более высокие, и понял, что смотрит на Тауэр. Рёв искусственных стремнин между опорами Лондонского моста справа подтверждал догадку.
Причальную стену пронзала арка, полом которой служила чёрная вода Темзы. Лодка мистера Бхнха держалась более или менее рядом с аркой, хотя течение толкало её в одну сторону, а прилив — в другую, так что шальные волны и разбойные водовороты трепали её, как вздумается. Короче, мистер Бхнх использовал все навыки выживания на воде, приобретённые у берегов Йглма, и более чем отрабатывал свой фунт: он не только боролся с рекой, но и вёл переговоры с кем-то на причале, сразу над аркой. Человек этот в свою очередь перекрикивался в рупор с джентльменом на парапете стены. Из-за средневековых зубцов выглядывали вполне современные пушки, и возле каждой угадывался в темноте внушительный орудийный расчёт.
Некоторые солдаты на пристани стояли близко к кострам, и Даниель видел цвет их мундиров. Это был Блекторрентский полк.
Он встал, превозмогая тяготение сырых одеял и недовольство тела, разом припомнившего все обиды, причинённые ему с тех пор, как двадцать четыре часа назад Даниеля разбудили известием, что король ударился в бега.
— Сержант! — закричал он человеку на пристани. — Пожалуйста, сообщите вон тому офицеру, что беглый узник вернулся.
* * *
Собственный королевский блекторрентский гвардейский полк пробыл на востоке ровно столько, сколько потребовалось его командиру, Джону Черчиллю, на тайную встречу с Вильгельмом Оранским. Это, возможно, удивило некоторых гвардейцев, но ничуть не удивило Даниеля, который больше года назад отвёз письма Джона Черчилля, в числе прочих, Вильгельму Оранскому в Гаагу; что в письмах говорится, он не знал, хотя примерно догадывался.
Через несколько дней Черчилль и его солдаты вернулись в Лондон. Однако если они надеялись снова разместиться в Уайтхолле, то жестоко просчитались. Вильгельм окружил себя голландцами, а Черчилля отправил стеречь Тауэр, который так и так нуждался в защите, ибо там располагались арсенал и Монетный двор, а пушки на стенах держали под прицелом реку.
Даниеля солдаты этого полка знали как человека, которого Яков II бросил в тюрьму, — ура Даниелю! Джеффрис подослал к нему убийц — двойное ура! И он о чём-то столковался с сержантом Бобом — тройное ура! Так что в последние недели перед «побегом» Даниель стал чем-то вроде полкового талисмана; ирландские полки держали исполинских волкодавов, Блекторрентский гвардейский — пуританина.
Короче, мистеру Бхнху разрешили провести лодку в туннель под пристанью. За аркой небо ненадолго показалось вновь, недобрую половину его закрывала башня Святого Фомы, сама по себе крепость, прилепленная к внешней стене Тауэра. В её основании располагалась ещё одна арка, вымощенная затхлой речной водой. Вход в арку закрывали ворота; при приближении лодки они распахнулись, оставив на воде череду маслянистых завихрений. Мистер Бхнх замялся, как замялся бы всякий на его месте, и быстрым движением запрокинул голову, словно не рассчитывая больше увидеть небо. Потом стал нащупывать шестом дно.
— Это мой фамильный герб, — заметил Даниель. — Замок, переброшенный через реку.
— Не говорите так! — прошипел мистер Бхнх.
— Почему?
— Мы входим через Ворота предателей!
* * *
За воротами лежал прудик, перекрытый большой каменной аркой. Некий инженер недавно поставил здесь машину, которая, используя энергию прилива, качала воду в более высокие здания цитадели, и её жуткий скрежет — как будто тролль в пещере скрипит зубами — пугал мистера Бхнха больше, чем все впечатления этой ночи. Он с большой охотой повернул назад. Даниель выбрался на древние склизкие ступени и осторожно вышел к Уотер-лейн, идущей между внешними и внутренними укреплениями. Здесь раскинулся импровизированный лагерь: по меньшей мере несколько сотен ирландцев лежали на одеялах либо соломе, курили трубки, если повезло разжиться табачком, или наигрывали на дудочках жалобные мелодии, от которых волосы шевелились на голове. Праздничных костров тут не жгли, только несколько невесёлых костерков согревали чайники и бросали скупые отблески на руки и лица ирландцев. Наверняка их присутствие здесь объяснялось как-то рационально, однако Даниель не мог сообразить как. Тем-то и увлекательна городская жизнь.
Подошёл Боб Шафто, за которым трусили двое босоногих, несмотря на декабрь, мальчишек, которым он резко, даже грубо велел убираться прочь. Когда один обернулся, Даниель успел увидеть его лицо и вроде бы приметил фамильное сходство с Бобом.
Сержант Шафто шёл по направлению к Сторожевой башне, то есть к выходу из Тауэра. Даниель догнал его и пошёл рядом. Оба молчали, чтобы не перекрикивать скрежещущую машину.
— Я уже готов был отправиться без вас, — с лёгкой укоризной проговорил Боб, когда они отошли достаточно далеко.
— Куда?
— Не знаю. В замок Апнора.
— Его там нет. Ручаюсь, он ещё в Лондоне.
— Тогда к Чаринг-Кросс. Вроде бы у него там дом, — сказал Боб.
— Можем мы раздобыть лошадей?
— Вы спрашиваете, одолжит ли комендант Тауэра лошадь беглому узнику?..
— Не важно, есть и другие способы добраться до Стренда. Есть какие-нибудь новости о Джеффрисе?
— Я объяснил Бобу Кастету, как важно для него раздобыть нам сведения о местонахождении этого человека, — сказал Боб. — Не думаю, что он напуган; напротив, у него короткая память, а в Лондоне сегодня много развлечений, заманчивых для человека такого склада.
За Сторожевой башней им предстояло пересечь ров: сперва по деревянному подъёмному мосту, затем по каменной дамбе. Здесь они увидели Джона Черчилля, курившего трубку в обществе двух вооружённых господ, которых Даниель хорошо знал в лицо; он бы даже вспомнил их имена, если бы дал себе такой труд. Черчилль, заметив Даниеля, откололся от них и взглядом приказал Бобу, чтобы тот шёл и не останавливался. В итоге Даниель остался на середине дамбы лицом к лицу с Черчиллем.
— Правду сказать, не знаю, собираетесь вы обнять меня и поблагодарить или заколоть и бросить в ров, — выпалил Даниель. Он был на взводе и от усталости уже не контролировал свою речь.
Черчилль воспринял эти слова с величайшей серьёзностью; видать, Даниель ненароком изрёк что-то крайне глубокомысленное. Они часто встречались в Уайтхолле, где Черчилля окружал некий ореол значимости, начинавшийся с парика. Всегда заранее чувствовалось, что он подходит. Сегодня Черчилль был куда значительнее обычного, и всё же от ауры остался один парик, который не мешало бы почистить и причесать. Легко было увидеть просто сынишку сэра Уинстона, выпестованного Королевским обществом и отправленного на время в мир царедворцев.
— Отныне так будет при встрече с каждым, — сказал Черчилль. — Старые схемы, по которым мы оценивали человека, рухнули вместе с абсолютной монархией. Ваша революция проникла повсюду. И она коварна. Не знаю, может быть, в конечном счёте вы падёте её жертвой, но, коли это случится, не от моей руки…
— Ваше лицо словно говорит: «при условии»…
— При условии, что вы и впредь будете врагом моих врагов.
— Увы, у меня нет выбора.
— Так вы говорите. Однако когда вы пройдёте в эти ворота… — Черчилль указал на Среднюю башню в конце дамбы — зубчатый силуэт на фоне оранжевого неба, — то окажетесь в новом, неузнаваемом Лондоне. Пожар столько не изменил. В этом Лондоне узы верности и союзничества тонки и непостоянны. Будто шахматная доска, на которой есть фигуры не только чёрные и белые, но и других оттенков. Вы — слон, я — конь. Я могу заключить это по нашим силуэтам и по тем переменам, которые мы производим на доске, но в свете костров трудно определить ваш истинный колер.
— Я не спал двадцать четыре часа и затрудняюсь вас понять, когда вы говорите метафорами.
— Дело не в усталости, а в том, что вы пуританин и натурфилософ. Обе эти категории не горазды воспринимать намёки и недомолвки.
— Я безоружен против ваших выпадов. Поскольку никто нас не слышит, прошу вас говорить без обиняков.
— Отлично. Я многое знаю, мистер Уотерхауз, поскольку принадлежу к тем людям, которые обмениваются новостями, как торговцы бумагами на бирже. В частности, я знаю, что Исаак Ньютон сегодня в Лондоне.
Даниеля изумило, что Джон Черчилль вообще знает, кто такой Исаак Ньютон. Тот продолжал:
— И ещё я знаю, что несколько дней назад в городе объявился Енох.
— Енох Красный?
— Не стройте из себя дурачка. Это внушает подозрения, поскольку я знаю, что вы умны.
— Я так презираю алхимию, что сердце отказывается принимать ведомое разуму.
— Именно так вы бы ответили, будь вы из их числа и желай это скрыть.
— А-а, теперь я понимаю, что вы имели в виду, говоря о цвете шахматных фигур… Вы думаете, что я прячу под платьем алую мантию алхимика?! Какой абсурд!
— По-вашему, мне должно быть известно, что это абсурд? Прошу вас, ответьте, сэр, откуда? Я не так учён, как вы, признаю; но ещё никто не обвинял меня в тупости. И я говорю, что не знаю, связаны вы с алхимией или нет.
— И вам досадно не понимать, — задумчиво протянул Даниель.
— Не просто досадно — опасно. Я знаю, как в данных обстоятельствах поступит солдат, пуританин, французский кардинал или бродяга, — за одним-единственным исключением; однако мотивов эзотерического братства не понимаю, и мне это не по душе. А поскольку при новой власти я собрался быть человеком влиятельным…
— Да, да, ясно. — Даниель вздохнул и постарался взять себя в руки. — По-моему, вы слишком серьёзно их воспринимаете. Ибо не было ещё такого скопища прохиндеев, фанфаронов, шарлатанов и простофиль…
— И к какой из этих категорий относится Исаак Ньютон?
Вопрос оглушил Даниеля, как удар в челюсть.
— А как насчёт короля Карла II? Кто был его величество — шарлатан или простофиля?
— Я так и так должен с ними поговорить, — сказал наконец Даниель.
— Если вы сумеете разъяснить эту загадку, мистер Уотерхауз, я буду вам обязан.
— Насколько?
— Что вы задумали?
— Если граф встретит смерть нынешней ночью, может ли это сойти с рук?
— Смотря какой граф, — спокойно отвечал Черчилль. — Кто-то и где-то этого не забудет. Учтите.
— Сегодня я прибыл со стороны реки, — сказал Даниель.
— Это уклончивый способ сказать, что вы попали сюда через Ворота предателей?
Даниель кивнул.
— Я, как видите, прибыл по суше, но многие скажут, что я вошёл через те же ворота.
— Значит, мы в одной лодке, — объявил Даниель. — Говорят, что нет чести меж ворами — не знаю, не проверял, зато, может быть, есть честь меж предателями. Если я и предатель, то честный; совесть моя чиста, если не репутация. Посему сейчас я протягиваю вам руку, Джон Черчилль, и можете стоять и смотреть на неё всю ночь, коли вам так угодно. Однако если вы готовы встать за моей спиной и поддержать меня, покуда я буду разбираться с алхимиками, мне бы очень хотелось, чтобы вы взяли мою руку в свою и пожали по-джентльменски; ибо, как вы заметили, эзотерическое братство сильно, и я не могу против него действовать, не чувствуя за собой другого эзотерического братства.
— Вы прежде заключали договоры, мистер Уотерхауз?
— Да, когда работал архитектором.
— Тогда вы знаете, что всякий договор включает взаимные обязательства. Я могу поддержать вас, когда под вас будут подкапываться. А в ответ буду время от времени к вам обращаться.
Даниель не шелохнулся.
— Что ж, отлично, — сказал Черчилль, протягивая руку сквозь дым, сырость и мрак.
* * *
Чаринг-Кросс пылал кострами, но внимание Даниеля привлёк зелёный огонь.
— Особняк милорда Апнора там! — прокричал Боб Шафто, настойчиво указывая в сторону Пиккадилли.
— Положитесь на меня, сержант, — сказал Даниель, — как если бы я был проводником и вёл вас на охоту за диковинным зверем, о котором вам ничего не известно.
Они начали протискиваться через обширный космос площади, наполненный сейчас тёмной материей: толпами, распевающими «Лиллибуллеро», нищими и ворами со Свиного пустыря, выбравшимся сюда для поживы, и драными псами, дерущимися из-за того, что пропустили воры и нищие. Даниель потерял из вида зелёный огонь и уже готов был сдаться, когда на том же месте взметнулось красное пламя — не обычное оранжево-красное, но неестественное ало-малиновое.
— Если толпа нас разделит, встречаемся в начале Кинг-стрит.
— Так точно, ваш-благородь.
— Что за мальчишка говорил с вами, когда мы выходили из Тауэра?
— Посланец Боба Кастета.
— И какие новости?
— Дом Джеффриса заколочен, в окнах темно.
— Что ж, он предусмотрителен, коли велел заколотить дом.
— Как мы заключили несколько недель назад, — отвечал Боб, — Джеффрис хорошо спланировал свой отъезд.
— Хорошо для нас. Если бы он бежал в панике, где бы мы его искали? Сообщил ли мистер Кастет что-нибудь ещё?
— В намерение Кастета входило не столько сообщить нам новости, сколько продемонстрировать усердие и расторопность.
— Этого я и опасался, — рассеянно произнёс Даниель. Его внимание привлёк взметнувшийся к небу синий огонь.
— Фейерверк? — догадался Боб.
— Некоторые планируют свой отъезд лучше, чем остальные, — отвечал Даниель.
Наконец они выбрались на юго-восточный край площади, где Кинг-стрит встречается с Пэлл-Мэлл, а особняки выпирают на Чаринг-Кросс, словно плотина, сдерживающая неимоверный напор сзади. Костёр, который постоянно менял цвет, был разложен на расстоянии полёта стрелы от этих домов. Его не окружала толпа — может быть, потому что главная гульба происходила в другом месте, ближе к Сенному рынку, а может, потому, что костёр взрывался разноцветными языками и распространял удушливый смрад. Даниель двинулся вкруг него по орбите и заметил, что огонь пожирает книги, карты и деревянные ящики. Из горящего сундука сыпались склянки; они лопались от жара и выпускали облачка пара, которые иногда взрывались ярко окрашенным огнём.
Боб Шафто толкнул Даниеля в бок и указал на один из особняков. Слуга придерживал парадную дверь, двое других, помоложе, тащили с лестницы чемодан. Крышка открылась, на ступени высыпались бумаги и книги. Слуга, державший дверь, отпустил её и бросился к остальным, подбирая то, что они выронили, и складывая в охапку на своём объёмистом животе, после чего засеменил к огню. Казалось, он хочет с разбега нырнуть в разноцветное пекло, однако он остановился и мощным движением живота бросил охапку в пламя. Двое других, подоспев, забросили чемодан в геенну. Пламя на миг присмирело, словно опешив, затем языки принялись вгрызаться в новое топливо и побелели, разгораясь ещё жарче.
Продолжая обход, Даниель остановился взглянуть на карту, вычерченную разноцветной тушью на превосходном пергаменте. Пламя костра светилось через белые пятна, которые преобладали (карта изображала по большей части неисследованные моря), — обширные лакуны, украшенные левиафанами и косматыми каннибалами. Некая россыпь островов была нанесена позолотой и подписана «Острова царя Соломона». Пока Даниель смотрел, позолота вспыхнула, словно пороховая дорожка; слова исчезли из мира, но огненными буквами запечатлелись в сознании Даниеля.
— Дом мсье Лефевра, — сказал Даниель идущему за ним Бобу. — Обратите внимание на три больших окна над входом, завешенные кроваво-красными шторами. Однажды через эти окна я увидел Исаака Ньютона в его собственный телескоп.
— Что он там делал?
— Знакомился с графом Апнорским, который так желал встречи, что даже установил за ним слежку.
— Так что это за дом? Притон содомитов?
— Нет, главное гнездо алхимиков со времён Реставрации. Я никогда там не был, но сейчас войду. Если не выйду, отправляйтесь в Тауэр и скажите Черчиллю, что пришло время выполнить свою часть обязательств.
Пузатый слуга увидел Даниеля и встал в дверях.
— Я к ним, — бросил Даниель, проскальзывая мимо него в прихожую.
Дом был украшен в версальском стиле, со всем великолепием и расточительностью, чтобы сразу повергнуть в священный трепет знатных господ, приходящих сюда за порошками и мазями мсье Лефевра. Самого хозяина и след простыл. Впрочем, его бегство ещё не объясняло, почему дом сегодня изящен примерно как рыбный рынок. Слуги и два джентльмена сносили вещи со второго этажа, вываливали их на столы или на пол и разбирали. Несколько мгновений спустя Даниель сообразил, что один из джентльменов — Роберт Бойль, другой — сэр Элиас Ашмол. Девять предметов из десяти бросали в сторону дверей, чтобы нести в костёр. Остальное укладывали в ящики и мешки для транспортировки. Для транспортировки куда, вот в чём вопрос. На кухне бондарь запечатывал старинные книги в бочки; очевидно, кто-то собрался путешествовать морем.
Даниель двинулся вверх по лестнице — решительно, как будто и впрямь знал дорогу. На самом деле он руководствовался воспоминаниями о том, что видел в телескоп двадцать лет назад. Если память не подводила, Апнор и Ньютон сидели тогда в комнате, обшитой тёмным деревом, со множеством книг. Два десятка лет эта комната являлась Даниелю в причудливых снах. Теперь ему предстояло войти в неё наяву. Однако он валился с ног от усталости, поэтому явь мало отличалась от сна.
По меньшей мере две сотни свечей горели на лестнице и в прихожей второго этажа — что их было теперь беречь! Из кладовых вытащили затянутые паутиной канделябры; свечи, не поместившиеся в них, прилепили прямо к дорогим полированным перилам. Живописное изображение Гермеса Трисмегиста, сорванное со стены, подпирало дверь в маленькую комнатку вроде буфетной. Там было темно, но в свете из прихожей Даниель различил худощавого длинноносого человека с чёрными глазами, придававшими лицу вид печальный и озабоченный. Он беседовал с кем-то в дальнем конце комнаты, кого Даниель не видел, Человек прижимал к груди старинную книгу, держа палец на заложенном месте. Большие глаза без всякого удивления остановились на Даниеле.
— Доброе утро, мистер Уотерхауз.
— Доброе утро, мистер Локк. Поздравляю с возвращением из голландской ссылки.
— Какие новости?
— Король укрылся в Ширнессе. А вы, мистер Локк, разве вы не должны сейчас писать нам новую конституцию или что-нибудь в таком роде?
— Я жду соизволения принца Оранского, — спокойно отвечал Джон Локк, — и это место годится для ожидания не хуже любого другого.
— Оно определённо лучше того, в котором я обретался несколько прошлых месяцев.
— Мы все у вас в долгу, мистер Уотерхауз.
Даниель повернулся, прошёл пять шагов по коридору и остановился перед большой дверью в его конце. Он слышал, как Исаак Ньютон говорит:
— И что мы на самом деле знаем о вице-короле? Положим, он и впрямь переправит его в Испанию — осознает ли он его истинную ценность?
Даниель послушал бы ещё, однако знал, что Локк на него смотрит, поэтому открыл дверь.
Три больших окна, выходящих на Чаринг-Кросс, были завешены алыми шторами размером с корабельный парус. Их освещало множество свечей в причудливых канделябрах, похожих на обращённые в серебро увитые лианами ветви. Даниелю показалось, что он падает в море алого света; он медленно сморгнул, перебарывая головокружение.
Посреди комнаты стоял стол чёрного, с алыми прожилками мрамора; за ним лицом к Даниелю сидели двое: слева — граф Апнорский, справа — Исаак Ньютон. В дальнем углу небрежно расположился Николя Фатио де Дюийер, делая вид, будто читает книгу.
Почему-то Даниель сразу увидел эту сцену подозрительным взглядом Джона Черчилля. Вот сидят дворянин-католик, которому Версаль роднее, чем Лондон; англичанин пуританской закваски, недавно впавший в ересь, умнейший человек в мире; швейцарский протестант, знаменитый тем, что спас Вильгельма Оранского от французского заговора. Сейчас к ним вошёл нонконформист, только что предавший своего короля. Различия, которые в других местах порождали дуэли и войны, здесь значения не имели, их братство было важнее мелочных склок вроде Реформации или грядущей войны с Францией. Немудрено, что Черчилль ожидал какого-нибудь подвоха.
Исааку через две недели должно было исполниться сорок шесть. С тех пор, как он поседел, внешность его почти не менялась; он никогда не прерывал работу для еды и питья, поэтому оставался всё таким же худым, только кожа с годами становилась всё прозрачнее, и отчётливее проступали синие прожилки у глаз. Как многие университетские учёные, Ньютон охотно пользовался возможностью спрятать одежду (в его случае не только ветхую, но и заляпанную и прожжённую реактивами) под мантией, только мантия у него была алая, что выделяло его и в Кембридже, и особенно здесь, в Лондоне. На улицах он её не носил, а сейчас был в ней. Париков он не признавал, и белые волосы свободно лежали по плечам. Кто-то их старательно расчесал. Вряд ли Исаак; наверное, Фатио.
Графу Апнорскому за эти два десятилетия пришлось хлебнуть лиха. Раз или два его высылали за убийство на дуэлях, которые для него были делом самым обыденным, примерно как для грузчика — поковырять в носу. Он спустил в карты семейный особняк, потом вынужден был бежать на Континент в разгар преследований по так называемому папистскому заговору. Соответственно и одевался он теперь строже; к высокому чёрному парику и чёрным усикам носил в целом чёрное платье — обязательные верхний камзол, нижний камзол и штаны, всё из одной материи, вероятно, тончайшей шерсти. Костюм был покрыт серебряной вышивкой, под которую подложили что-то вроде тонких полосок пергамента, чтобы она выступала над чёрной тканью. Впечатление было такое, будто он с головы до ног опутан серебристыми лианами. На нём были сапоги с золотыми шпорами: гарду испанской рапиры образовывал смерч изящных стальных стержней с утолщениями на концах, словно рой комет, рвущихся из сжатой руки.
Фатио был одет относительно скромно: долгополый камзол со множеством пуговиц поверх льняной рубахи, кружевной галстук и каштановый парик.
Они лишь самую малость удивились при виде Даниеля и не более чем естественно возмутились, что он ворвался без стука. Апнор не выказал намерения проткнуть его насквозь рапирой. Исаак, похоже, счёл, что явление Даниеля здесь и сейчас не причудливее других перцепций, предстающих ему в обычные дни (как оно, вероятно, и было), а Фатио, по обыкновению, просто наблюдал.
— Простите великодушно, что тревожу, — сказал Даниель, — я полагал, вы захотите узнать, что король обнаружился в Ширнессе — менее чем в десяти милях от замка Апнор.
Граф Апнорский с заметным усилием поборол некое сильное чувство, готовое проступить на его лице; Даниель не стал бы утверждать наверняка, однако полагал, что это — недоверчивая усмешка. Покуда Апнор силился с ней совладать, Даниель продолжил:
— В данный момент при особе его величества находится лорд-постельничий; прочие государевы приближённые, полагаю, сегодня же отправятся к нему. Пока же он лишён всего; еду, питьё и постель пришлось изыскивать на месте. Проезжая сегодня вечером мимо замка Апнор, я подумал, что вы располагаете возможностью обеспечить его величество всем потребным…
— Да, да, — кивнул Апнор, — у меня есть всё.
— Мне распорядиться, чтобы послали гонца?
— Я могу и сам.
— Разумеется, я понимаю, милорд, что вы можете отправить своих людей, но в желании быть полезным я…
— Нет. Я хотел сказать, что сам отдам приказания, ибо на рассвете выезжаю в Апнор.
— Приношу извинения, милорд.
— Что-нибудь ещё, мистер Уотерхауз?
— Нет, если только я не могу быть чем-нибудь полезен в этом доме.
Апнор взглянул на Ньютона. Ньютон, смотревший на Даниеля, уголком глаза это заметил и заговорил:
— В этом доме, Даниель, скопилось большое собрание алхимических знаний. Преобладающая часть — злостная дребедень. Малая доля — истинная мудрость и должна оставаться в тайне от тех, в чьих руках станет опасной. Наша задача — отобрать одно от другого, сжечь бесполезное и проследить, чтобы всё истинное и ценное оказалось в библиотеках и лабораториях адептов. Я затрудняюсь представить, как вы можете этому способствовать, ибо вы считаете всю алхимию дребеденью и уже продемонстрировали поджигательские склонности в присутствии такого рода писаний.
— Вы по-прежнему видите мои действия с 1677 года в худшем возможном свете.
— Нет, Даниель, я понимаю: вы думали, что действуете мне во благо. Тем не менее случившееся в 1677-м не позволяет доверять вам алхимическую литературу вблизи открытого огня.
— Хорошо, — молвил Даниель. — До свидания, Исаак. Милорд. Сударь.
Апнор и Фатио несколько опешили от загадочных слов Исаака. Даниель, не теряя времени, откланялся и вышел в коридор.
Они вернулись к разговору, как будто Даниель был слугой, заглянувшим подать чай. Апнор сказал:
— Кто знает, каких мыслей он набрался за десять лет бок о бок с криптоиудеями и краснокожими, которые приносят друг друга в жертву под пирамидами.
— Вы могли бы просто спросить его письмом, — предложил Фатио голосом столь бодрым и рассудительным, что даже Даниелю сделалось тошно, и он отступил подальше от двери. Уже по этим словам можно было заключить, что Фатио — не алхимик или новичок в алхимии, не привыкший ещё напускать туман по поводу и без повода.
Даниель наконец обернулся и едва не налетел на человека, в котором по первому впечатлению определил забредшего сюда ненароком весёлого монаха; тот был в длинном балахоне и держал большую глиняную кружку, какие подают в питейных заведениях самого низкого разбора.
— Осторожнее, мистер Уотерхауз. Для человека, который так внимательно слушает, вы слишком невнимательно смотрите, — дружески произнёс Енох Роот.
Даниель вздрогнул и отпрянул. Локк по-прежнему стоял в обнимку с книгой; Роот и был его недавним собеседником. Несколько мгновений Даниель приходил в себя. Роот воспользовался затишьем, чтобы отхлебнуть эля.
— От хозяйских щедрот? — спросил Даниель.
— Что вы сказали? Роот?
— Я сказал, что невежливо пить в одиночку хозяйский эль.
— У каждого своя невежливость. Некоторые врываются в дома и без разрешения встревают в разговоры.
— Я доставил важные новости.
— А я их отмечаю.
— Вы не боитесь, что эль сократит ваше долголетие?
— Вас сильно занимает долголетие, мистер Уотерхауз?
— Оно занимает всякого человека, и я — человек. А кто вы?
Глаза Локка двигались вправо-влево, как на теннисном матче. Сейчас они остановились на Енохе. Тот старательно изображал спокойствие — что совсем не означает быть спокойным.
— В вашем вопросе, Даниель, содержится некая априорная дерзость. Как Ньютон допускает, что есть некое абсолютное пространство, мерило всех вещей — включая кометы! — так вы считаете вполне естественным и предначертанным, что земля должна быть населена людьми, чьи предрассудки обязаны служить мерилом всего сущего; но почему бы мне не спросить вас: «Кто вы, доктор Уотерхауз? И для чего мироздание кишит такими, как вы? Ради какой цели?»
— Напомню вам, любезный, что канун Дня всех святых был больше месяца назад, и я не расположен слушать сказки про нечисть.
— А я не расположен быть причисленным к нечисти и прочим человеческим измышлениям, ибо меня, как и вас, измыслил Господь и тем дал нам бытие.
— Вы исходите презрением к нашим суевериям и домыслам, и всё же вы здесь, как всегда, в обществе алхимиков.
— Вы могли бы сказать: «Здесь, в сердце Славной Революции, беседуете с выдающимся политическим философом». — Роот обратил взгляд на Локка, который потупил глаза в лёгком намёке на поклон. — Однако вы никогда не оказывали мне такой чести, Даниель.
— Я видел вас исключительно в обществе алхимиков. Разве нет?
— Даниель, я видел вас исключительно в обществе алхимиков. Однако я знаю, что вы занимаетесь и другим. Например, вы были с Гуком в Бедламе. Возможно, вы видели священников, которые приходят к безумцам. Вы считаете, что священники безумны?
— Не уверен, что одобрю сравнение… — начал Локк.
— Полноте, это просто фигура речи! — рассмеялся Роот, трогая Локка за плечо.
— Неверная, — сказал Даниель, — ибо вы сами алхимик.
— Меня называют алхимиком. Ещё живы люди, помнящие времена, когда так называли всех, кто изучал то же, что я — и вы, кстати. А большинство и сейчас не видит различия между алхимией и более молодой, более здоровой отраслью знаний, которая ассоциируется с вашим клубом.
— Я слишком устал, чтобы отвечать на ваши увёртки. Из уважения к вашим друзьям мистеру Локку и Лейбницу поверю вам на слово и пожелаю успехов, — сказал Даниель.
— Храни вас Бог, мистер Уотерхауз.
— И вас, мистер Роот. Однако скажу вам… и вам, мистер Локк… Идя сюда, я видел в костре карту, только что из этого дома. Карта была пустая, ибо изображала океан — скорее всего ту часть, где люди ещё не бывали. На пергаменте были проведены несколько параллелей, и несколько островов изображены с большой уверенностью, а там, где картограф не смог сдержать воображение, он изобразил фантастических чудищ. Эта карта для меня — алхимия. Хорошо, что она сгорела, и правильно, что она сгорела сейчас, в канун Революции, которую я осмелюсь назвать делом своей жизни. Через несколько лет мистер Гук создаст настоящий хронометр, завершив труд, начатый тридцать лет назад Гюйгенсом, и тогда Королевское общество составит карты, на которых будут не только широты, но и долготы, дающие сетку, которую мы называем декартовой, хоть не он её изобрёл, и если там есть острова, мы нанесём их правильно. Если нет, мы не будем рисовать ни их, ни драконов, ни морских чудищ. Настанет конец алхимии.
— Устремление достойное, и Бог вам в помощь, — сказал Роот. — Но не забывайте про полюса.
— Какие полюса?
— Северный и Южный, в которых сойдутся ваши меридианы — уже не отдельные и параллельные, но слитые воедино.
— Это лишь геометрическая абстракция.
— Когда вы строите всю науку на геометрии, мистер Уотерхауз, абстракции становятся реальностью.
Даниель вздохнул.
— Что ж, возможно, мы в конце концов вернёмся к алхимии, но покамест никто не может подобраться к полюсам — разве что вы летаете туда на помеле, мистер Роот, — я буду верить геометрии, а не тем сказочкам, которые мистер Бойль и сэр Элиас разбирают внизу. На мой краткий век хватит и того. А сейчас мне некогда.
— Остались ещё дела?
— Хочу как следует проститься с моим старинным другом Джеффрисом.
— Графу Апнорскому он тоже старинный друг, — чуть рассеянно заметил Енох Роот.
— Ясно, ибо они взаимно покрывали друг другу убийства.
— Несколько часов назад Апнор послал Джеффрису ящик.
— Бьюсь об заклад, что не домой.
— Шкиперу на стоящий в гавани корабль.
— Что за корабль?
— Не знаю.
— Тогда как звать посыльного?
Енох Роот перегнулся через перила и поглядел на лестницу.
— Тоже не знаю. — Он переложил кружку в левую руку, а правой указал на молодого слугу, который только что вышел из двери с очередной охапкою книг. — Да вот.
* * *
«Заяц» качался на якорях, сверкая огнями, напротив Уоппинга — района, примостившегося в излучине Темзы сразу за Тауэром. Если Джеффрис уже поднялся на борт, то поделать ничего было бы нельзя, разве что нанять пиратов, чтобы те нагнали его в открытом море. Однако лодочники в один голос уверяли, что никаких пассажиров на корабль не доставляли. Очевидно, Джеффрис чего-то ждал, и наверняка неподалёку, чтобы в случае чего быстро добраться до «Зайца». А будучи пьяницей, он должен был выбрать место, где можно выпить. Это сужало круг до полудюжины таверн между Тауэром и Шадвеллом, расположенных вблизи пристаней — врат из мира сухого во влажный. Светало, обычные питейные заведения должны были бы закрыться часов шесть назад. Однако таверны у Темзы обслуживали сомнительную публику в сомнительные часы; время здесь определяли по приливам, а не по солнцу. А ночка выдалась бурная — одна из самых бурных в истории Англии. Ни один вменяемый кабатчик не запрёт сейчас двери.
— Теперь давайте скоренько, ваш-благородь, — сказал Боб Шафто, выбираясь на пристань короля Генриха из лодки, которую они наняли у Чаринг-Кросс. — Может, это и самая длинная ночь в году, но и она когда-нибудь кончится, а я надеюсь, что моя Абигайль ждёт меня в замке Апнор.
Не самое вежливое обращение со старым, усталым и больным натурфилософом, однако лучше, чем первая настороженная холодность в Тауэре и пришедший ей на смену покровительственный тон. Рукопожатие Джона Черчилля подняло Даниеля в глазах Боба — отсюда уважительное «ваш-благородь», — но не избавило того от утомительной привычки поминутно спрашивать: «Вы не устали?», «У вас ничего не болит?», пока четверть часа назад Даниель не предложил для экономии времени пройти на лодке под Лондонским мостом.
Он первый раз в жизни отважился на такой риск. Боб — во второй, лодочник — в четвёртый. Вода горой вставала перед мостом и устремлялась в арки, как обезумевшая толпа — к выходу из горящего театра. Вес лодки не имел ровно никакого значения; она завертелась, как флюгер, ударилась о пирс так, что треснул планширь, отлетела к другому пирсу и, набирая скорость, боком понеслась дальше, успев черпнуть примерно тонну воды. Даниель с детства воображал, как пройдёт под аркой, и всегда гадал, каково это — взглянуть на мост снизу; однако когда он решился поднять голову, они были уже в полумиле ниже по течению и вновь проходили перед Воротами предателей.
Боб наконец понял, что Даниель твёрдо решил доконать себя в эту ночь, и отстал со своей заботливостью: позволил Даниелю самостоятельно выпрыгнуть из лодки и не предложил на закорках внести его по ступеням. Они затрусили к Уоппингу, роняя на мостовую галлоны речной воды, а лодочник (которому щедро заплатили) остался работать черпаком.
Даниель и Шафто успели побывать в четырёх тавернах, прежде чем зашли в «Рыжую корову». За ночь веселящиеся изрядно её покрушили, но сейчас тут уже наводили порядок. Район был малозастроенный: один-два слоя таверн и складов вдоль самой Темзы. Сразу за главной улицей, ведущей прямиком к Тауэру, начинались зелёные поля. Так что в «Рыжей корове» сошлись те же крайности, что Даниель наблюдал в Ширнессе, а именно: молочница, такая свежая и чистая, будто ангелы только что перенесли её с росистых девонширских лугов, внесла подойник через чёрную дверь, уверенно переступив через одноногого матроса-португальца, заснувшего на соломе в обнимку с бутылью из-под джина. Эти и другие подробности, скажем, малайского вида джентльмен, курящий гашиш у парадной двери, навели Даниеля на мысль, что «Рыжую корову» надо будет обыскать потщательнее.
Как на корабле, когда усталые матросы спускаются с вантов и падают в гамаки, ещё тёплые от тех, кто сменил их на вахте, так и здесь ночные гуляки, пошатываясь, выходили вон, а освободившиеся места занимали люди, так или иначе профессионально связанные с водой, заглянувшие выпить и перекусить.
Лишь один человек в дальнем углу не шевелился. Он застыл в свинцовой неподвижности, лицо скрыто в тени — то ли без единой мысли в голове, то ли весь обратившись в зрение и слух. Рука лежала на столе, обхватив стакан, — поза человека, которому надо просидеть много часов и который делает вид, будто просто растягивает выпивку. Пламя свечи освещало руку. Большой палец дрожал.
Даниель подошёл к стойке в другом конце комнаты, которая была не больше вороньего гнезда. Заказал стопку, заплатил за десять.
— Вон тот малый, — сказал он, указывая глазами. — Ставлю фунт, что он из простых, простой, как башмак.
Трактирщик был лет шестидесяти, такой же чистокровный англичанин, что и молочница, седой и красномордый.
— Согласиться на такое пари было бы хуже воровства, потому что вы видите только его одежду, а я слышал его голос и точно знаю: он не из простых.
— Тогда ставлю фунт, что он кроток, как новорождённая овечка.
Лицо трактирщика скривилось, словно от боли.
— Как ни жалко отвергать ваше глупое пари, согласиться не могу — точно знаю, что не так.
— Ставлю фунт, что у него самые роскошные брови, какие вы когда-либо видели, — брови, которыми можно было бы чистить горшки.
— Он вошёл в надвинутой шляпе, низко опустив голову, бровей его я не видел. Принимаю ваше пари, сэр.
— Позволите?
— Не трудитесь, сэр, я пошлю мальчишку. Если сомневаетесь, можете послать другого.
Трактирщик обернулся, поймал за руку парнишку лет десяти и, нагнувшись, что-то ему прошептал. Мальчик направился прямиком к человеку в углу и произнёс несколько слов, указывая на стакан. Человек, не давая себе труда ответить, только отмахнулся. На миг блеснуло массивное золотое кольцо. Мальчик вернулся и что-то сказал на птичьем языке портовых окраин. Даниель ни слова не понял.
— Томми говорит, вы должны мне фунт, — объявил трактирщик.
Даниель сник.
— У него не было густых бровей?
— Мы об этом не спорили. Его брови не густые — мы спорили об этом. А уж какие там они были, до дела не касается.
— Не понимаю.
— У меня за стойкой живёт крепкая дубинка — свидетельница нашего пари, и она говорит, что вы должны мне фунт, как ни юлите!
— Пусть ваша дубинка спит дальше, любезный, — сказал Даниель. — Вы получите свой фунт, я только прошу вас объясниться.
— Может, вчера у него и были густые брови — почём мне знать, — сказал трактирщик, несколько остывая, — но сегодня у него вообще бровей нет. Одна щетина.
— Он их сбрил!
— Уж не знаю, сэр. Моё дело маленькое.
— Вот ваш фунт.
— Спасибо, сэр, я предпочёл бы полновесный, серебряный, а не эту фальшивку…
— Погодите. У меня будет для вас кое-что получше.
— Другая монета? Так давайте её сюда.
— Нет, другая награда. Хотите, чтобы ваша таверна прославилась на сто и более лет как место, где задержали именитого убийцу?
Теперь сник трактирщик. По его лицу было видно, что он предпочёл бы обойтись без именитых убийц в своём заведении. Однако Даниель подбодрил его несколькими словами и убедил отправить мальчишку в Тауэр, а самому с дубинкою встать у чёрного хода. Бобу Шафто хватило одного взгляда, чтобы занять позицию у другой двери. Даниель взял из камина головню, прошёл в дальний конец и замахал ею из стороны в сторону, чтобы она разгорелась и осветила угол.
— Будь ты проклят, Даниель Уотерхауз, вонючий пёс! Продажная девка, ублюдок, ссущий в штаны! Как смеешь ты так обращаться с дворянином! По какому праву? Я — барон, а ты — трусливый предатель! Вильгельм Оранский — не Кромвель, не республиканец, но принц, дворянин, как я! Он выкажет мне заслуженное уважение, а тебе — презрение, которого ты достоин! Это по тебе плачет топор, это ты сдохнешь в Тауэре, как побитая сука!
Даниель повернулся и обратился к другим посетителям — не столько к бесчувственным от ночного пьянства гулякам, сколько к завтракающим матросам и лодочникам.
— Прошу прощения, что отвлекаю, — сказал он. — Вы слышали о Джеффрисе, судье-вешателе, который украсил дорсетские деревья телами простых англичан и продал в неволю английских школьниц?
Джеффрис вскочил, опрокинув стол, и метнулся к ближайшему, то есть чёрному выходу, однако трактирщик двумя руками поднял дубинку и занёс её, как дровосек над деревом. Джеффрис развернулся к другой двери. Боб Шафто выждал, пока он разгонится и поверит в своё спасение, потом встал в двери и вытащил из-за голенища кинжал. Джеффрис еле-еле успел затормозить, чтобы не напороться на остриё; по лицу Боба было ясно, что он не отведёт клинок.
Теперь и остальные посетители принялись, вскочив, хлопать по одежде, обнаруживая местоположение ножей, свинчаток и других полезных предметов. Все ждали указаний от Даниеля.
— Человек, о котором я говорил и чьё имя вы все знаете, виновник Кровавых ассизов и множества других преступлений — юридических убийств, за которые до сей минуты надеялся никогда не ответить, — Джордж Джеффрис, барон Уэмский. — И Даниель направил палец, как пистолет, в лицо Джеффриса, чьи брови взметнулись бы от ужаса, будь у него брови. Без них лицо было лишено всякой способности выражать чувства и всякой власти над чувствами Даниеля. Никакое его выражение не могло бы возбудить у Даниеля страх, или жалость, или невольное жутковатое восхищение. Нелепо приписывать такое значение всего лишь паре бровей; вероятно, что-то изменилось в самом Джеффрисе, а может быть, в Даниеле.
Ножи и свинчатки появились на свет — не для того, чтобы пойти в ход, но чтобы Джеффрис не вздумал рыпаться. Впервые на памяти Даниеля тот онемел. Он не мог даже браниться.
Даниель поймал взгляд Боба и кивнул.
— Бог в помощь, сержант Шафто. Надеюсь, вы спасёте свою принцессу.
— И я надеюсь, — отвечал Боб. — Переживу я эту ночь или погибну, не забывайте, что я вам уже помог, а вы мне — пока нет.
— Не забыл и никогда не забуду. Я не горазд преследовать по бездорожью вооружённых людей, не то бы отправился с вами. Жду случая оказать ответную услугу.
— Это не услуга, а ваш долг по договору, — напомнил Боб, — и осталось лишь решить, в какой монете я его получу. — Он повернулся и выбежал на улицу.
Джеффрис огляделся, быстро оценивая людей и оружие вокруг, потом снова взглянул на Даниеля — уже не гневно, но с недоумённой обидой, словно спрашивая: почему? Зачем было утруждаться? Я убегал! Какой смысл?
Даниель посмотрел ему в глаза и сказал первое, что пришло в голову:
— Мы с тобой прах.
Потом вышел в город. Солнце уже поднялось, от Тауэра к таверне бежали солдаты с мальчишкою во главе.
Венеция июль 1689
Венецианская республика возникла так: жалкая горстка людей бежала от ярости варваров, захвативших Римскую империю, и укрылась на недоступных островках в Адриатическом море.
Город их мы зрим великолепным и процветающим, а их богатое купечество причтено к древней знати — всё сие благодаря коммерции.
Даниель Дефо, «План английской торговли»Элизе, графине де ля Зёр, герцогине Йглмской
От Г. В. Лейбница
Июль 1689
Элиза,
Ваши опасения касательно надёжности венецианской почты вновь оказались необоснованны — Ваше письмо добралось до меня быстро и, судя по внешнему виду, не вскрытое. По правде сказать, я думаю, что вы слишком долго живёте в Гааге и заразились у голландок их ханжеством. Вам надо приехать сюда ко мне. Тогда Вы убедитесь, что самый разгульный в мире народ без труда своевременно доставляет почту и справляется со множеством других трудных занятий.
Я пишу, сидя у окна, выходящего на канал. Два гондольера, чуть не столкнувшиеся минуту назад, яростно кричат и грозятся друг друга убить. Утверждают, что раньше такого не было, гондольеры, мол, так между собой не бранились, а нынче развелось хамство. Это воспринимают как симптом стремительных перемен в современном мире и сравнивают с отравлением ртутью, превратившим стольких алхимиков в сварливых безумцев.
Вид из моего окна мало изменился за последние сто лет (да и комнату не помешало бы прибрать!), однако письма, разбросанные на столе (все пунктуально доставлены венецианцами), рассказывают о переменах, невиданных с падения Рима. Не только Вильгельм и Мария коронованы в Вестминстере (о чём Вы и некоторые любезно меня уведомили); с той же почтой пришло письмо от Софии-Шарлотты, которая пишет из Берлина, что в России новый царь по имени Пётр. Он высок, как Голиаф, силён, как Самсон, и мудр, как Соломон. Русские подписали договор с китайским императором и провели границу по реке, которая даже на картах не обозначена; по всем отчётам Россия теперь простирается до самого Тихого океана или (в зависимости от того, каким картам верить!) до самой Америки. Возможно, Пётр мог бы дойти до Массачусетса, не замочив ног!
Впрочем, София-Шарлотта пишет, что взоры нового царя обращены на запад. Они с её несравненной матушкой уже замышляют пригласить его в Берлин и Ганновер, чтобы обворожить лично. Я ни за что на свете не желал бы пропустить их встречу, но Петру предстоит уничтожить столько соперников и сразить столько турок, прежде чем он сможет хотя бы задуматься о подобном путешествии, что я вполне успею вернуться в Германию.
Тем временем этот город глядит на восток: венецианцы объединились с другими христианскими воинствами, чтобы ещё дальше оттеснить турок, поэтому здесь только и разговоров, что о новостях, пришедших с последней почтой. Для тех из нас, кого более занимает философия, такие застольные беседы очень скучны! Священная Лига взяла город, который зовётся Липова (как Вы наверняка знаете, это ворота Трансильвании), так что есть надежда вскорости отбросить турок к самому Чёрному морю. Через месяц я смогу написать Вам письмо с той же фразой, но с другим набором неудобоваримых географических названий. Бедные Балканы!
Простите, если мой стиль покажется Вам легкомысленным — таково воздействие Венеции. Она финансирует войны по старинке, обкладывая налогами торговлю, и потому не может вести их с большим размахом. По контрасту очень тревожат вести из Англии и Франции. Сперва Вы сообщаете, что (согласно Вашим источникам в Версале) Людовик XIV велел переплавить серебряную мебель из парадных покоев, чтобы на эти средства собрать ещё большую армию (может, ему просто захотелось сменить убранство?). Затем Гюйгенс пишет из Лондона, что правительство решило финансировать армию и флот за счёт государственного долга — используя в качестве обеспечения всю Англию — и установить особую подать на его погашение. Затрудняюсь вообразить, какой шум это произвело в Амстердаме! Гюйгенс пишет, что на корабле с ним плыли множество амстердамских евреев, которые перебираются в Лондон со всем скарбом, чадами и домочадцами. Без сомнения, часть серебра, бывшего когда-то любимым креслом Людовика, через амстердамское гетто попадёт в лондонский Тауэр, где будет перечеканена на монеты с изображением Вильгельма и Марии, чтобы потом пойти на постройку новых военных кораблей в Чаттеме.
В этих краях покамест никак не сказывается то, что Людовик объявил войну Англии. Флот герцога д'Аркашона по-прежнему господствует в Средиземном море; по слухам, он захватил много английских и голландских купеческих судов, хотя о крупных морских сражениях на сегодняшний день ничего не слышно. Опять-таки по слухам, Яков II высадился в Ирландии, откуда рассчитывает нанести удар по Англии, но никаких вестей оттуда ещё нет.
Больше всего меня заботите Вы, Элиза. Гюйгенс подробно о Вас написал. Он очень тронут, что Вы с принцессой Элеонорой и маленькой Каролиной пришли его проводить, в особенности учитывая Ваше деликатное положение. Он прибег к различным астрономическим метафорам, чтобы описать Вашу округлость, Вашу непомерность, Вашу лучезарность и Вашу красу. Он явно к Вам неравнодушен и, как мне кажется, слегка огорчён, что ребёнок — не его (чей, кстати? Помните, что я в Венеции. — Вы смело можете писать что угодно без страха меня шокировать).
Так или иначе, зная Вашу привязанность к финансовым рынкам, я опасаюсь, как бы последние бурные события не увлекли Вас на площадь Дам — самое неподходящее место для будущей матери.
Впрочем, что толку мне теперь тревожиться, ибо к этому сроку вы должны были с тем или иным исходом разрешиться от бремени; молюсь, чтобы и Вы, и Ваш малютка были сейчас живы. Всякий раз, видя изображение Мадонны с Младенцем (что в Венеции случается примерно три раза за минуту), я воображаю, будто смотрю на Ваш портрет.
Также молюсь за принцесс и шлю им наилучшие пожелания. Участь их была прискорбной ещё до того, как война погнала бедняжек на чужбину. Рад, что в Гааге они обрели надёжное пристанище и такого друга, как Вы. Однако новости с Рейнского фронта (Бонн и Майнц захвачены и проч.) заставляют думать, что они не скоро смогут вернуться в Германию.
Вы задали мне много вопросов о принцессе Элеоноре, и Ваше любопытство возбудило моё; Вы напомнили мне купца, который наводит справки о человеке, с которым собрался заключить крупную сделку.
Я не встречал принцессу Элеонору, только слышал сдержанные описания её красоты (например, «самая очаровательная из немецких принцесс»). Впрочем, я знал её покойного супруга, маркграфа Иоганна-Фридриха Бранденбург-Ансбахского. Кстати, я только вчера о нём вспоминал, ибо нового русского царя описывают теми же словами, что некогда супруга Элеоноры: прогрессивно мыслящий, дальновидный, намеренный во что бы то ни стало закрепить место своей страны в новой экономической системе.
Отец Каролины всячески привечал гугенотов и различных умельцев, он пытался превратить Ансбах в центр того, что наш общий друг Даниель Уотерхауз называет технологическими искусствами. Однако он ещё и писал романы, покойный Иоганн-Фридрих (а Вы знаете мою постыдную слабость к такому чтению), любил музыку и театр. Очень жаль, что он скончался от оспы, и возмутительно, что его собственный сын дурным обращением вынудил Элеонору уехать.
Кроме этих фактов, не могу сообщить Вам о принцессах ничего, кроме сплетен. Зато сплетни у меня первостатейные. Ибо София и София-Шарлотта в своих интригах имеют виды на Элеонору, почему имя её то и дело возникает в письмах, летающих между Ганновером и Берлином. Я убеждён, что София и София-Шарлотта вознамерились создать некое немецкое сверхгосударство. Разумеется, оно невозможно без принцев. Немецкие протестантские принцы и принцессы в дефиците, а война далее сократит их число; соответственно, красивая безмужняя принцесса — ценный товар.
Будь Элеонора богата, она могла бы сама выбирать свою судьбу или хоть как-то на неё влиять. Однако из-за неладов с пасынком она осталась без гроша, и всё её достояние — собственное тело и дочь. Поскольку её тело доказало свою способность производить на свет маленьких принцев, оно отныне в ведении властей предержащих. Я очень удивлюсь, если в ближайшие годы Элеонору не выдадут за какого-нибудь более или менее гадкого немецкого принца. Я бы посоветовал ей выбирать из сумасбродов — по крайней мере жить станет интереснее.
Надеюсь, мои слова не покажутся Вам чёрствыми, ибо такова правда. Всё не так плохо. Они в Гааге, здесь им не грозят зверства, которые творит над немцами армия Лувуа. Есть более блистательные города, но Гаага — место вполне приемлемое и уж точно лучше той кроличьей норы в Тюрингском лесу, где, по слухам, Элеонора с Каролиной прозябали несколько лет. Что главное, в Гааге принцесса Каролина смотрит на Вас, Элиза, и учится быть великой женщиной. Какую бы участь ни готовили Элеоноре две ненадёжные свахи, София и София-Шарлотта, Каролина, надеюсь, научится от Вас и от них, как устраивать свои дела, и, достигнув брачного возраста, сможет выбрать того принца и ту страну, которые ей больше по вкусу. И тем утешит Элеонору на склоне лет.
Что до Софии, она никогда не удовольствуется одной Германией. Её дядя был английским королём, она хочет стать английской королевой. Вы знаете, что она прекрасно говорит по-английски? Вот почему я здесь, вдали от дома, пытаюсь проследить всех предков её мужа средь гвельфов и гибеллинов. Ах, Венеция! Каждый день я коленопреклонённо благодарю Бога, что София и Эрнст-Август не произошли от князей какой-нибудь Липовы.
Так или иначе, надеюсь, что Вы, Элеонора, Каролина и, дай Бог, Ваш малютка здоровы и находитесь на попечении степенных голландских кормилиц. Пишите, как только окрепнете.
Лейбниц.
P. S. Мистический подход Ньютона к силе так меня раздражает, что я начал разрабатывать отдельную дисциплину, посвящённую этому предмету. Подумываю назвать её «динамикой», от греческого названия силы. Как Вам? Ибо я могу знать греческий вдоль и поперёк, но у Вас есть вкус.
Гаага август 1689
Дорогой доктор,
«Динамика» напомнила мне не только о силе, но и о династиях, которые используют для своего поддержания силы, часто сокрытые, как Солнце посредством неведомой силы заставляет планеты вращаться вокруг себя. Так что, думаю, слово удачное, тем более что Вы становитесь дивным знатоком династий, старых и новых, и умело уравновешиваете могущественные силы. А поскольку наречение имени даст именующему определённую власть, Вы очень умно поступаете, включая свои возражения против Ньютона в само название дисциплины. Хочу лишь предупредить, что граница между понятиями «умный» и «умник» определена так же плохо, как большинство границ нынешнего христианского мира. Особенно умников не любят англичане, что странно, поскольку они сами большие умники. Они хотели бы провести границы так, чтобы все творения Ньютона (или любого другого англичанина) попали в страну «умных». Вас же изгнать в государство «умников». Англичан, безусловно, стоит принять в расчёт; они, похоже, становятся главными картографами. Гюйгенс отправился в Англию, чтобы присоединиться к Королевскому обществу, ибо это единственное место в мире (не считая помещения, в котором находитесь Вы), где он может вести беседу, не умирая со скуки. И несмотря на постоянные оскорбления, чинимые Гуком, ему не хочется с этим Обществом расставаться.
Я не тороплюсь писать о себе. Отчасти поскольку письмо, которое Вы читаете, само по себе доказывает, что я жива, отчасти из-за того, что никак не соберусь с силами написать про моего малютку, да упокоит Господь его невинную душеньку. Ибо сейчас он на Небесах с ангелами.
После нескольких ложных предвестников схватки начались вечером 27 июня, на мой взгляд, с большим опозданием — я чувствовала, что проходила беременной года два! На следующее утро воды хлынули из меня, словно море, нашедшее выход[24] в плотине. В Бинненхофе воцарилась суета. Тут же был запущен механизм повивального искусства и родовспоможения. Послали за докторами, акушерками и священниками, а каждый сплетник в радиусе пяти миль навострил уши.
Как Вы догадались, непомерно затянутое описание родов ниже — лишь сосуд для шифрованного послания. Однако всё же прочтите его, ибо мне потребовались несколько черновиков и галлон чернил, чтобы вложить в слова одну сотую долю мук, того нескончаемого возмущения в утробе, от которого всё тело норовит вывернуться наизнанку. Вообразите, что проглотили дынную косточку, чувствуете, что она выросла внутри Вас в полновесный плод, и теперь силитесь изблевать его через то же малое отверстие. Благодарение Богу, ребёнок наконец родился. Но молите Бога помочь мне, ибо я его люблю.
Да, я пишу «люблю», а не «любила». Вопреки тому, что написано в незашифрованном письме, ребёнок жив. Впрочем, я забегаю вперёд.
По причинам, которые вскоре станут понятны, я прошу Вас уничтожить моё письмо. Если я сама не уничтожу его, растворив слезами слова. Простите за неприглядные расплывшиеся пятна.
Для голландцев и англичан я герцогиня Йглмская. Для французов — графиня де ля Зёр. Однако ни протестантской герцогине, ни французской графине не позволено иметь внебрачных детей.
Беременность свою мне удалось скрыть от всех, за исключением небольшого числа людей, ибо, когда живот начал расти, я почти перестала появляться на людях. По большей части я оставалась на верхних этажах в доме Гюйгенса, так что весна и лето выдались для меня очень скучными. Принцессы Ансбахские, Элеонора и Каролина, остановились в Бинненхофе, который, как Вы знаете, расположен неподалёку от дома Гюйгенса. Почти каждый день они шли через площадь, чтобы навестить меня. Вернее, Элеонора шла, а Каролина мчалась впереди. Запустить любознательного шестилетнего ребёнка в дом, наполненный часами, маятниками, линзами, призмами и тому подобным, — счастье для самого ребёнка и мука для взрослых. Каролина способна задать сто «почему» и «зачем» по поводу самой заурядной вещицы, которую вытащила из угла. Элеонора, ничего не смыслящая в натурфилософии, быстро устала отвечать «не знаю» и начала тяготиться визитами ко мне. Однако я, не имея другого занятия и не желая терять их общество, взяла Каролину под своё крыло и постаралась в меру сил ответить на каждый её вопрос. Видя это, Элеонора завела обыкновение усаживаться где-нибудь в светлом уголке с рукоделием или письмами. Иногда она оставляла Каролину со мной, а сама отправлялась на верховую прогулку или на приём. Таким образом, мы все были довольны. Вы упомянули, доктор, что покойный маркграф Иоганн-Фридрих, отец Каролины, был одержим натурфилософией и технологическими искусствами. Могу заверить, что Каролина унаследовала эту его страсть, а может, сохранила смутные воспоминания о том, как отец показывал ей коллекцию окаменелостей или новейшие маятниковые часы, и, когда я показала ей диковины в доме Гюйгенса, словно бы вновь прикоснулась к его отошедшей душе. Коли так, рассказ этот покажется Вам знакомым, ибо и Вы узнали отца, лишь читая книги в его библиотеке.
Зато с Элеонорой мы подолгу беседовали ночами, когда Каролина уже спала в своей бинненхофской спаленке. Мы говорили о динамике. Не о динамике катящихся шаров и наклонных плоскостей, но о динамике аристократических и королевских семей. Мы с ней — не более чем мышки, бегущие через лужайку, где знать играет в шары, любой из которых способен нас раздавить; наша задача — увернуться. Мы должны понимать динамику, чтобы выжить.
За несколько месяцев до того, как забеременеть, я побывала в Лондоне. Даниель Уотерхауз провёл меня в Уайтхолл, когда рождался (или якобы рождался) сын Якова II, нынешнего претендента на престол. Была ли Мария Моденская беременна или только засовывала под платье подушку? А если была, то от сифилитичного короля или от какого-нибудь здоровяка-конюха, которого ей привели, дабы получить крепкого наследника? Положим, она и впрямь носила под сердцем дитя; пережило ли оно роды? Или из королевиных покоев вынесли на всеобщее обозрение сироту, коего похитили из приюта и пронесли туда в грелке, чтобы торжественно предъявить как следующего Стюарта? В каком-то смысле это не важно, ибо король низложен, а ребёнок воспитывается в Париже. Однако в другом смысле очень важно: по последним вестям из-за моря, его отец взял Дерри и продолжает наступление в Ирландии, намереваясь вернуть сыну трон. И всё из-за того, что произошло — либо не произошло в одном из покоев Уайтхолла.
Однако я принижаю Ваш ум, расписывая всё так подробно. Нашли ли Вы подменышей или бастардов среди предков Софии? Вероятно. Предали ли Вы эти факты огласке? Разумеется, нет. И всё равно сожгите моё письмо, а пепел развейте над каналом, о котором так часто пишете, только прежде убедитесь, что под Вашими окнами нет вспыльчивых гондольеров.
Как незамужняя дворянка я не могла понести и родить дитя. Элеонора понимала это не хуже меня. Мы разговаривали долгие часы по мере того, как живот мой рос и рос.
Моя беременность была секретом Полишинеля — о ней знали многие слуги и служанки, однако позже я всегда могла бы отпереться. Сплетники знали бы, что я лгу, но в конечном счёте сплетни можно не принимать в расчёт. Если бы, не дай Бог, ребёнок родился мёртвым, всё можно было бы скрыть. При другом исходе возникли бы сложности.
Впрочем, они не слишком меня заботили. В Версале я усвоила, что знатные дамы знают столько же способов скрыть свои похождения, извращённые склонности, выкидыши, роды и незаконных детей, сколько моряки знают узлов. Покуда месяцы беременности шли, грозно и неумолимо, как часы господина Гюйгенса, у меня было время подумать, какой из способов я выберу.
Поначалу, покуда живот мой лишь самую малость округлился, я подумывала отдать ребёнка на воспитание. Как Вам известно, существует немало богатых «сиротских приютов», куда знать определяет своих внебрачных детей. Либо я могла отыскать достойную бездетную пару, которая охотно взяла бы здорового ребёнка.
Однако в тот день, когда ребёнок впервые зашевелился во мне, всякая мысль отдать его обратилась в абстракцию, а вскорости и совсем улетучилась.
Когда я была на седьмом месяце, Элеонора послала в Ансбах за некой фрау Геппнер. Фрау Геппнер прибыла через несколько недель, якобы с тем, чтобы смотреть за принцессой Каролиной и учить её немецкому языку. Всем этим она и впрямь занялась, хотя на самом деле фрау Геттер — повитуха. Она принимала Элеонору и множество других простых и знатных младенцев. Элеонора не сомневалась ни в ней самой, ни в её умении хранить тайны.
Бинненхоф значительно уступает в пышности Версалю, однако и здесь есть анфилады комнат, в которых высокородные гости могут разместиться со всеми своими фрейлинами, камеристками и проч. Как Вы поняли из моих предыдущих писем, у принцессы Элеоноры не столько приближённых, чтобы заполнить целые апартаменты; всего-то двое слуг, которых она привезла из Германии, и две горничные-голландки, которых из милости предоставил ей Вильгельм. Теперь появилась фрау Геппнер, но одна свободная комната всё равно осталась. Итак, когда фрау Геппнер не давала уроков Каролине, она начала готовить простыни и прочее потребное для повивального искусства, превращая свободную комнату в родильный покой.
План состоял в следующем: когда придёт срок, меня перенесут через площадь в портшезе и доставят прямиком в апартаменты Элеоноры. Верите ли, мы даже всё отработали! Я наняла двух дюжих голландских носильщиков и, пока дохаживала последние недели, каждый день заставляла их носить меня в Бинненхоф, не замедляясь и не останавливаясь, пока не поставят портшез в опочивальне Элеоноры.
Тогда я полагала, что очень умно придумала с репетициями. Я недооценила своего врага и число его соглядатаев в Бинненхофе. Задним числом я понимаю, что фактически рассказала ему о своём плане и дала все необходимые подсказки.
Однако я снова забегаю вперёд. Предполагалось, что фрау Геппнер примет у меня роды. Если ребёнок умрёт, а я останусь жива, тайна не выйдет за пределы комнаты. Если умру я, а ребёнок выживет, он останется на попечении Элеоноры и унаследует моё состояние. Если мы оба выживем, я выжду несколько недель и, когда пройдут последние симптомы родов, уеду в Лондон. Ребёнка я взяла бы с собой и выдала за племянника или племянницу — сироту, случайно уцелевшего во время резни в Пфальце. Не было бы недостатка в англичанах, готовых поверить в такую сказочку, особенно если сказочка исходит от герцогини, оказавшей ценные услуги их новому королю.
Да, всё это звучит дико. Я бы никогда не поверила, что такое возможно, если бы не побывала в Уайтхолле и собственными глазами не видела (издалека) толпу высокопоставленных особ, готовых целый день торчать в королевиной опочивальне и пялиться в её лоно, словно мужичьё на представлении бродячего фокусника: удастся поймать его на мухлеже или нет.
Я полагала, что моё лоно, такое простое и смиренное, не привлечёт внимания сильных мира сего, и, проведя загодя несложные приготовления, я смогу устроить всё желательным для себя образом.
Теперь можете обратиться к открытому тексту и ознакомиться с теми восхитительными ощущениями, которые я пережила в первые часы родов. (Точно не знаю, сколько времени это заняло, но сначала за окном было темно, потом рассвело.) Когда отошли воды, я послала за носильщиками. Между схватками я осторожно спустилась на первый этаж, где дожидался портшез, забралась внутрь и задёрнула занавеску, чтобы спрятаться от любопытных взоров по пути через площадь. Мрак и теснота ничуть меня не пугали, ведь ребёнок в моей утробе много месяцев сносил куда худшие тесноту и мрак, не выказывая неудовольствия, и лишь время от времени пихался ножками.
Снаружи раздались знакомые голоса носильщиков, портшез оторвали от пола и развернули, чтобы нести через площадь. Её миновали без всяких происшествий. Вероятно, я на какое-то время задремала, во всяком случае, точно потеряла счёт поворотам в длинных галереях Бинненхофа. Однако вскоре я почувствовала, как портшез опустился на каменный пол, и услышала удаляющиеся шаги носильщиков.
Я отодвинула щеколду и открыла дверцу, ожидая лицезреть фрау Геппнер, Элеонору и Каролину.
Вместо них на меня смотрел доктор Алкмаар, придворный медик, которого я видела раз или два, но с которым никогда не разговаривала.
Я была не в покоях Элеоноры, а в незнакомой комнате в какой-то другой части Бинненхофа. Расстеленная кровать стояла наготове — наготове для меня! На полу исходило паром ведро с водой, на столе лежала груда рваных простынь. В комнате находились несколько женщин, которых я немного знала, и незнакомый молодой человек.
Это была ловушка — настолько неожиданная, что я не знала, как поступить. Хотела бы я написать, доктор, что не растерялась, мигом оценила обстановку, выпрыгнула из портшеза и выбежала в спасительную галерею. Однако в действительности я совершенно оторопела. Едва осознав, что нахожусь в незнакомой комнате, я почувствовала новую сильную схватку, лишившую меня всякой способности к сопротивлению.
К тому времени, как боль немного отпустила, я лежала на кровати: доктор Алкмаар и молодой человек вытащили меня из портшеза. Носильщики давно ушли. Тот, кто задумал эту ловушку (а я догадываюсь, кто он), либо перекупил их, либо убедил, что такова моя воля. Я не имела возможности переправить весточку наружу. Я могла бы закричать и позвать на помощь, но роженицы всегда кричат. А помощи здесь и так было предостаточно.
Доктор Алкмаар не отличается душевностью, но всегда слыл опытным и (что почти так же важно) преданным. Если он кому и расскажет мои секреты (думала я), то лишь Вильгельму Оранскому, который и без того их знает. Доктору помогали ученик (молодой человек) и две девицы, которым, собственно, незачем было здесь находиться. Когда, почти девять месяцев назад, я прибыла в Гаагу с Элеонорой и Каролиной, Вильгельм решил окружить меня свитой — не потому, что я так хотела, а потому, что так принято; немыслимо, чтобы герцогиня жила в Бинненхофе без слуг и приближённых. И приставил ко мне этих двух девиц. Обе — дочери мелкопоместных дворян, обе живут при дворе в ожидании замужества и горюют, что они в Бинненхофе, а не в Версале. Шпионаж со стороны слуг — неотъемлемая часть любой придворной интриги, и я следила, чтобы наши с Элеонорой беседы происходили подальше от их ушей. Затем я переехала к Гюйгенсу и начисто забыла обеих. Однако, согласно правилам этикета, они формально оставшись в моей свите, хочу я того или нет. Мой затуманенный мозг, силясь разобраться в происходящем, остановился на этом объяснении.
Вновь обратитесь к открытому тексту за описаниями различных мучений и малоаппетитных подробностей. Суть, важная для рассказа, состоит в том, что, когда начались самые болезненные схватки, я мало что соображала. Если сомневаетесь, доктор, съешьте испорченных устриц и попытайтесь решить дифференциальное уравнение, когда почувствуете сильные позывы на низ.
После одной из схваток я из-под полуприкрытых век увидела доктора Алкмаара, стоящего между моих ног. Рукава у него были засучены, волосы на руках — в чём-то мокром. Очевидно, он ощупывал меня изнутри.
— Мальчик, — объявил он не столько для меня, сколько для собравшихся. По тому, как они переглядываются, было видно: они считают, что я сплю или без сознания.
Я слегка приоткрыла глаза, думая, что всё кончилось, и рассчитывая увидеть ребёнка. Однако руки у доктора Алкмаара были пусты, и он не улыбался.
— Откуда вы знаете? — спросила Бригитта — одна из двух девиц, рослая и коренастая. Она естественно смотрелась бы на ферме у маслобойки, а в придворном платье выглядела большой и неуклюжей. Её я не опасалась.
— Он идёт ягодицами, — рассеянно сказал доктор Алкмаар.
Бригитта ахнула. Несмотря на дурное известие, мне немного полегчало. Бригитта всегда казалась мне глуповатой из-за своей доброты. Сейчас она единственная в комнате мне сочувствовала.
Мари — другая девушка — спросила:
— Значит, они оба умрут?
Поскольку я пишу это письмо, нет смысла томить Вас неизвестностью — очевидно, я не умерла. Привожу эти слова, чтобы прояснить характер Мари. В противоположность добрячке Бригитте она всегда была абсолютно бездушной — если в комнату вбегала мышь, Мари затаптывала её до смерти. Она — дочка барона, её родословная составлена из ошмётков, объедков, опивков и огарков различных голландских и немецких знатных родов. У меня сложилось впечатление, что (извините) в их семье инцесты практикуются часто и с раннего возраста.
Доктор поправил её:
— Значит, придётся поворачивать его на головку. Тут нужна осторожность — как бы не выпала и не пережалась пуповина. Сложнее всего справиться с сокращениями матки, которая давит на плод сильнее любой руки. Надо дождаться, пока матка расслабится.
И мы стали ждать. Однако даже между схватками матка оставалась такой напряжённой, что доктор Алкмаар не мог повернуть ребёнка.
— У меня есть снадобье, которое, возможно, поможет, — задумчиво проговорил он. — Или я могу ослабить её кровопусканием… Лучше всё-таки подождать, когда она совсем выбьется из сил. Тогда у меня скорее получится.
Новое ожидание. Для них оно состояло в том, чтобы стоять и ждать, когда пройдёт время, для меня — становиться жертвой кровавого убийства и возвращаться к жизни снова и снова, но с каждым разом к низшей её форме.
К тому времени, как в комнату ворвался посыльный, я могла лишь лежать, как мешок с картошкой, и слушать, что говорят.
— Доктор Алкмаар! Я только что от постели шевалье де Монлюсона!
— А почему новый посол в постели, хотя сейчас четыре часа дня?
— С ним какой-то приступ, и вы должны немедленно пустить ему кровь.
— Я занят, — отвечал доктор Алкмаар по некотором размышлении. Мне стало не по себе от того, что он задумался.
— Повитуха идёт сюда, чтобы вас сменить, — сказал гонец.
Словно по сигналу, раздался стук в дверь; Мари, обнаружив больше живости, чем за всё предшествующее время, бросилась к дверям и впустила повивальную бабку — старую каргу более чем сомнительной репутации. Сквозь туман ресниц я видела, как Мари с криком притворной радости бросилась старухе на шею и что-то зашептала. Бабка выслушала её и что-то сказала в ответ, снова выслушала и снова ответила; так три раза, прежде чем обратить ко мне серые глаза. И в этих глазах я отчётливо увидела смерть.
— Расскажите подробнее о симптомах, — обратился доктор Алкмаар к посланцу. По тому, как он на меня смотрел — глядя, но не видя, — я чувствовала, что он готов сдаться.
Я, собрав все силы, приподнялась на локте и ухватила доктора за окровавленный шейный платок.
— Если думаете, что я мертва, то как вы объясните это? — сказала я, дёргая его за галстук.
— Пройдёт много часов, прежде чем вы окончательно обессилите, — отвечал доктор. — Я успею пустить кровь шевалье де Монлюсону.
— После чего с ним приключится второй приступ, а потом ещё и ещё! Я не дура и понимаю: если я ослабею настолько, что вы сможете повернуть ребёнка, то потом не сумею его вытолкнуть! О каком лекарстве вы говорили?
— Доктор, французский посол, может быть, умирает! Согласно правилам старшинства… — начала Мари, но доктор Алкмаар остановил её движением руки. Мне он сказал:
— Это всего лишь образец. На время расслабляет некоторые мышцы, затем действие проходит.
— Вы его уже пробовали?
— Да.
— И?
— У меня приключилось недержание мочи.
— Кто вам его дал?
— Странствующий алхимик, побывавший тут две недели назад.
— Шарлатан или…
— У него отменная репутация. Он заметил, что при таком количестве беременных женщин во дворце оно мне, возможно, понадобится.
— Роот?
Доктор Алкмаар украдкой огляделся, прежде чем еле заметно кивнуть.
— Дайте мне ваше снадобье.
Это оказалась травяная настойка, очень горькая; примерно через четверть часа тело моё ослабело, а в голове наступила такая пустота, как будто я уже потеряла много крови. Так что я была в полубессознательном состоянии, когда доктор Алкмаар повернул ребёнка; и хорошо, поскольку я совершенно не хотела этого осознавать. Моя страсть к натурфилософии имеет свои пределы.
Я слышала, как он сказал повитухе:
— Теперь ребёнок предлежит головкой, как и положено. Слава Богу, пуповина не выпала. Вот и головка показалась. Через несколько часов действие лекарства пройдёт, схватки возобновятся, и, с Божьей помощью, роженица благополучно разрешится. Имейте в виду: беременность переношенная, плод полностью созрел и уже обкакался в утробе.
— Я такое видела, — обиженно произнесла бабка.
Доктор продолжал, не обращая внимания на её недовольство:
— У ребёнка во рту первородный кал. Есть опасность, что при первом вдохе он попадёт в лёгкие. Коли так, ребёнок не проживёт и неделю. Я пальцем в основном очистил ребёнку ротик, но не забудьте сразу перевернуть его вверх ногами, ещё до первого вдоха.
— Спасибо за наставление, доктор, — недовольно отвечала повитуха.
— Вы ощупали ребёнку рот? Его рот? — спросила Мари.
— Да, это я и сказал.
— Он… нормальный?
— В каком смысле?
— Нёбо… челюсти?..
— Если не считать, что он полон жидким калом, — сказал доктор Алкмаар, вручая помощнику сумку с ланцетами, — то совершенно нормальный. А теперь я пойду пущу кровь французскому послу.
— Прихватите несколько кварт для меня, доктор, — сказала я.
Услышав эту слабую шутку, Мари, закрывавшая дверь за доктором, обернулась и устремила на меня неописуемо злой взгляд.
Старая карга села рядом, прикурила от свечи трубку и принялась наполнять комнату клубами дыма.
Слова Мари были шифрованным посланием, которое я разгадала, как только оно коснулось моих ушей. Вот расшифровка.
Девять месяцев назад я попала в беду на берегу Мёза. Чтобы выпутаться, я переспала с Этьенном д'Аркашоном, отпрыском древнего рода, в котором фамильные дефекты передаются вместе с фамильным гербом. Всякий, бывавший при дворах Версаля, Мадрида и Вены, видел их заячью губу, странной формы челюсть, сплюснутый череп. Карл II Испанский, кузен д'Аркашонов по трём разным линиям, не в состоянии даже есть твёрдую пищу. Когда в этой семье появляется новорождённый, ему, едва ли дав сделать вдох, первым делом осматривают рот.
Я рада была услышать, что у моего ребёнка не будет этих пороков. Своим вопросом Мари ясно показала, что догадывается относительно отцовства. Однако как такое возможно? «Очевидно, — скажете Вы, — Этьенн направо и налево похвалялся, что овладел графинею де ля Зёр; девять месяцев — вполне достаточный срок, чтобы слухи достигли ушей Мари». Однако Вы не знаете Этьенна. Он чудной, вежливый донельзя и не стал бы хвастаться победой. Кроме того, он не мог знать, что ребёнок — его. Он знал только, что один раз меня отымел (как выразился бы Джек). В предшествующие и последующие недели я путешествовала в обществе мужчин и уж явно не произвела на него впечатление целомудренной!
Единственное возможное объяснение состояло в том, что Мари прочла — или, вернее, прочёл тот, кто ею управляет, — расшифрованную версию моего дневника, в котором я чётко писала, что спала с Этьенном и только с ним.
Очевидно, Мари и повитуха действовали по наущению какого-то высокопоставленного француза. Графа д'Аво отозвали в Версаль вскоре после Революции в Англии, на его место прислали шевалье де Монлюсона. Однако Монлюсон — никто, марионетка, которую дёргает за ниточки д'Аво либо другой могущественный обитатель Версаля.
Внезапно, лёжа в чужом дворце, в окружении чужих людей, уставившихся мне между ног, я пожалела супругу Якова II.
Кто всё это подстроил? Какие приказы получила Мари?
Мари ясно показала, что её задача — выяснить, здорового ли ребёнок телосложения.
Кому важно, правильной ли формы череп у незаконного ребёнка Этьенна?
Этьенн написал мне любовные стихи, если это позволительно так назвать:
Дам возвышает знаменитый род, Гербы и грамоты под древней пылью, Но древо родовое червь грызёт, И тронуты побеги жадной гнилью. Кровь моей дамы, как родник, чиста, Заплачено за титул — мне нет дела. Её краса залог, что сбудется мечта Об отпрысках, чьё безупречно тело.Этьенн д'Аркашон хочет иметь здоровых детей. Он знает, что их кровь — порченая. Ему нужна жена со здоровой наследственностью. Меня сделали графиней, но ни для кого не секрет, что родословная моя вымышлена, и я всего лишь простолюдинка. Этьенна это не заботит; его знатности хватит на трёх герцогов. Ему не важно моё происхождение. Ему важна моя способность производить на свет здоровых детей. Он или кто-то от его имени управляет Мари. А я у Мари в руках.
Это объясняло вопрос, который Мари задала доктору. Но что ещё ей поручили?
Ребёнок, рвущийся из меня на свет, при всём своём здоровье навсегда останется внебрачным — не большая помеха для Этьенна (у многих мужчин есть бастарды), однако очень существенная для меня.
Я доказала свою способность рожать здоровых маленьких д'Аркашонов. Узнав об этом, Этьенн захочет на мне жениться, чтобы я плодила ему законных детей. Но что уготовано этому ребёнку — ненужному и нежеланному бастарду? Отправят его в приют? Воспитают в одной из младших ветвей рода? Или — простите, что рисую такой жуткий образ, но таковы были мои тогдашние мысли, — Мари поручено проследить, чтобы он родился мёртвым?
Между схватками я оглядывала комнату, ища выход. Надо было выбраться от этих ужасных женщин и родить среди друзей. Однако после целого дня схваток я не могла бы даже приподняться, а уж тем более — вскочить и выбежать в дверь.
Когда нельзя положиться на свою силу, приходится уповать на чужие слабости. Я уже упомянула, что Бригитта сложена, как лошадь. И я верила в её доброту. Временами я могу ошибаться в людях, но тех, с кем рядом много часов рожаешь в тесном помещении, узнаёшь очень близко.
— Бригитта, — сказала я, — мне бы очень хотелось, чтобы вы нашли принцессу Элеонору.
Бригитта стиснула мою потную руку и улыбнулись, но Мари заговорила раньше:
— Доктор Алкмаар строго запретил пускать в комнату посетителей.
— Далеко ли Элеонора? — спросила я.
— Сразу в конце галереи, — отвечала Бригитта.
— Тогда бегите к ней и скажите, что у меня очень скоро родится здоровый мальчик.
— Это ещё далеко не известно, — заметила Мари, когда Бригитта выбежала из комнаты.
Мари и бабка тут же отошли в угол и принялись шептаться. Я потянулась к столику и вытащила из подсвечника свечу. На столике лежала кружевная скатерть. Я поднесла к ней свечу, и кружево вспыхнуло, как порох. К тому времени, как Мари и бабка обернулись посмотреть, что происходит, пламя уже перекинулось на кружево балдахина.
Вот что я имела в виду, говоря о полезности чужих слабостей. Едва Мари и бабка увидели огонь, между ними началась борьба, кто первый проскочит в дверь. Они даже не крикнули «Пожар!», выбегая из здания. Это сделал слуга, который шёл по коридору с тазом горячей воды. Увидев, что из открытой двери валит дым, он закричал, подняв на ноги весь дворец, и вбежал в комнату. По счастью, таз он не выронил и сразу выплеснул воду туда, где горело сильнее всего, — на балдахин. Вода ошпарила меня, но не долетела до огня, взбиравшегося по занавесям.
Учтите, я лежала, глядя через дыры в пылающем балдахине на клубы дыма под потолком. Дым опускался всё ниже и ниже. Оставалось лишь ждать, когда он меня накроет.
И тут в дверях появилась Бригитта. Она опустилась на корточки, чтобы под клубами дыма встретиться со мной глазами. Я назвала её тупой? Беру свои слова обратно. В следующий миг лицо её приняло яростное выражение, она рванулась вперёд и двумя руками схватила мою перину. Потом сбросила туфли, упёрлась босыми ступнями в пол и дёрнула всем своим весом. Перина едва не выскользнула из-под меня, но я двигалась вместе с ней и вскоре почувствовала, как кровать уходит из-под спины. Зад ударился об пол, голова — о край кровати, перина лишь немного смягчила удар. Что-то порвалось внутри. Ощущение было такое, словно всё тело разваливается, как налетевший на риф корабль, каждая схватка — волна, дробящая меня на куски. Отчётливо помню скользящий рядом каменный пол, башмаки слуг, бегущих навстречу с одеялами и вёдрами, и, впереди, между моими поднятыми коленями, огромные босые ступни и мясистые икры Бригитты, мелькающие под окровавленным подолом, — левая-правая-левая-правая. Она тащила меня в другой конец галереи. Воздух здесь был чище, я уже различала фрески на потолке. Мы остановились под Минервой, которая смотрела из-под забрала строго, но, как мне показалось, одобрительно. Бригитта плечом распахнула дверь и втащила меня прямо в спальню Элеоноры.
Элеонора и фрау Геппнер пили кофе, принцесса Каролина читала вслух. Как легко догадаться, они опешили; однако фрау Геппнер, повитуха, лишь раз взглянула на меня, сказала что-то по-немецки и встала.
Надо мной возникло лицо Элеоноры.
— Фрау Геппнер говорит: «По крайней мере, день становится интересными!»
Очень дурные люди, сознающие свою порочность, такие, как Эдуард де Жекс, возможно, стремятся к религии в отчаянной надежде стать лучше. Однако если они так же умны, как он, то находят способ извратить веру, направить её на службу своим изначальным дурным наклонностям. Доктор, я пришла к убеждению, что польза религии не в том, чтобы сделать людей добродетельными — это невозможно, — но в том, чтобы как-то обуздать крайние проявления порочности.
Я мало знакома с Элеонорой и не знаю, какие пороки таятся в её душе. Она не отвергает религию (как Джек, которому вера могла бы пойти на пользу) и не держится за неё мёртвой хваткой, как отец Эдуард де Жекс. Это внушает мне надежду, что в случае Элеоноры религия выполняет своё истинное назначение: поддерживает её, когда она готова споткнуться под натиском дурного порыва. Я должна в это верить, потому что препоручила ей своего ребёнка. Из рук повитухи он перешёл к Элеоноре, которая сразу прижала его к груди. Я не пыталась противиться. Я была в таком изнеможении, что не могла двинуться, и вскоре уснула беспробудным сном.
В открытом тексте, доктор, я излагаю версию, которой верит весь Бинненхоф: из-за постыдной трусости Мари и повитухи ребёнок умер, и я умерла бы тоже, если бы отважная Бригитта не перетащила меня в комнату, где добрая немка, фрау Геппнер, остановила кровотечение и тем спасла мне жизнь.
Всё это чушь. Правдив лишь один абзац тот, где я пишу о радости, которую испытывает тело, избавившись от девятимесячного бремени — чтобы через несколько мгновений ощутить новое бремя, на сей раз душевной природы. В открытом тексте я пишу, что это бремя — горе об умершем ребёнке. Однако в жизни — которая гораздо сложнее — это бремя неопределённости и безотчётных страхов.
Я вернулась в дом Гюйгенса, ребёнок остался в Бинненхофе на попечении Элеоноры и фрау Геттер. Мы уже начали распространять слух, что он — сирота; его мать якобы бежала от резни в Пфальце и на барже умерла родами.
Сдаётся, я останусь жить. В таком случае я возьму ребёнка и постараюсь добраться до Лондона, чтобы там строить нам обоим новую жизнь. Если я заболею и умру, его возьмёт Элеонора. Но рано или поздно, завтра или через двадцать лет, мы разлучимся, он будет где-то в мире жить отдельной, не вполне мне ведомой жизнью. Дай Бог, чтобы он меня пережил.
Через несколько недель или месяцев в Гааге предстоит расставание. Я с ребёнком отправлюсь на запад, Элеонора с Каролиной — на восток, принять гостеприимство женщин, которым Вы служите, и ту роль в европейских интригах, которую они ей отведут.
Добравшись с Божьей помощью до Лондона, я сразу Вам напишу. Если письма не будет, значит, я пала жертвой козней д'Аво. Желает ли он смерти моему ребёнку, не знаю, но я определённо нужна ему в Версале, где он сможет насильно выдать меня за Этьенна д'Аркашона. Следующие недели, покуда я не встану на ноги, самые опасные.
Осталось разъяснить две неувязки. Первое: если ребёнок от Этьенна, то почему у него нет врождённых пороков? И второе: если шифр взломан и Чёрный кабинет читает мою переписку, зачем я рассказываю Вам эти секреты?
Возможно, Вас смущает и третья неувязка: зачем я вообще переспала с Этьенном, если могла выбирать из десяти миллионов любвеобильных французов?
Все три неувязки сходятся в один узел. Живя в Версале, я познакомилась с королевским криптоаналитиком Бонавантюром Россиньолем, или Бонбоном, как люблю его называть (привет, Бонбон!). Осенью прошлого года при подготовке вторжения в Пфальц его отправили на Рейн. Когда я нечаянно заехала в расположение французских войск, Бонбон узнал об этом через несколько часов (ведь он читал все депеши) и буквально во весь опор прискакал мне на выручку. Трудно рассказывать сейчас всю историю; перепрыгну в конец и признаюсь, что такое благородство зажгло в моей крови неведомый прежде жар. На письме всё это выглядит очень просто и грубо, но ведь по сути дело и впрямь простое и грубое, не так ли? Я на него набросилась. Мы несколько раз переспали. Было чудесно. Однако требовалось придумать, как мне выпутаться. Выбора практически не оставалось. Решили, что я соблазню Этьенна д'Аркашона. На самом деле я просто впала в прострацию, полностью отключила сознание от тела и позволила ему меня соблазнить, после чего уговорила отпустить нас на север. Всё это я записала в дневнике. Когда я добралась до Гааги, д'Аво узнал о существовании дневника и потребовал, чтобы королевский криптоаналитик его расшифровал, что тот и сделал, опустив, впрочем, лучшие места — те, где фигурировал в качестве романтического героя. Он не мог меня обелить, потому что д'Аво уже слишком много знал и многие французы видели меня в тех краях. Вместо этого Бонбон рассказал историю так, чтобы выставить меня любовницей д'Аркашона. Женщиной, способной рожать здоровых детей, о которых мечтают он и его семья.
Надо заканчивать письмо. Тело моё изнывает от желания кормить; когда по ночам я слышу, как малыш плачет во дворце через площадь, из грудей моих текут тонкие струйки молока, которые я смываю обильным потоком слёз. Будь я мужчиной, я бы сказала, что обабилась. Прощайте. Если, вернувшись в Ганновер, Вы встретите девочку по имени Каролина, наставьте её так же хорошо, как наставили Софию и Софию-Шарлотту. А если рядом с Каролиной окажется сирота, якобы рождённый на берегах Рейна, то Вам будет известно, кто его отец и что сталось с его матерью.
Элиза.
Бишопсгейт октябрь 1689
Ты слишком мелок, чтобы постигать Себя, казалось бы, ты должен знать Хоть тело. Разве души не считают Давно уже, что тело составляют Огонь, вода, другие элементы? Теперь нашли ещё ингредиенты, Одна душа так мыслит, а иная Инако, все в сомненье пребывают. Подумай, камень как проникнуть может В твой мочевой пузырь, не ранив кожи? Джон Донн, «Вторая годовщина»Гость — пятидесятишестилетний старик, но куда более крепкий, чем хозяин, — с притворным вниманием наблюдал, как его помощники пробираются между стопками, ящиками, полками и бочками, составлявшими теперь личную библиотеку доктора Уотерхауза. Один из них шагнул к открытому бочонку. Гость стремительно зацокал языком, захмыкал, защёлкал пальцами, торопясь его остановить.
— Надо думать, всё, что доктор Уотерхауз уложил в бочки, отправляется в Бостон.
Когда помощники занялись сортировкой, он обернулся к Даниелю и заискрился, как бокал шампанского.
— Не могу выразить, какое огромное удовольствие видеть вас, старина!
— Вряд ли вид мой способен доставить удовольствие, мистер Пепис, но весьма благородно было изобразить его с таким жаром.
Самюэль Пепис выпрямился, сморгнул и приоткрыл рот, словно торопясь вставить заготовленные слова. Рука задрожала и потянулась к карману, в котором все эти тридцать лет сберегался камень. Однако некий джентльменский инстинкт подсказал ему не нарываться на столь ранней стадии разговора.
— По тому, что говорят в Обществе, я думал, вы уже в Массачусетсе.
— Мне следовало начать сборы сразу после Революции, — признал Даниель, — но я ждал, пока Джеффрис встретится с палачом в Тауэре. Тут наступил апрель, и я понял, что до отъезда из Лондона должен ликвидировать свою жизнь. Даже не думал, что это такая морока. Куда удобнее: раз — и умереть, предоставив другим скучные хлопоты. — Он махнул на стопки книг, быстро убывающие по мере того, как армия наёмных библиотекарей несла их своему полководцу — Пепису — и складывала у его ног. Тот взглядывал на титульный лист и глазами показывал, вернуть книгу на место или забрать. Отобранные тома несли старику-счетоводу, который, вооружившись переносным бюро, пером и чернильницей, составлял опись.
Слова «раз — и умереть» стали для Самюэля Пеписа вторым тяжким искушением; он вынужден был сжать руку в кулак, чтобы не сунуть её в карман. По счастью, его отвлёк помощник, поднеся раскрытый фолиант с гравюрными изображениями рыб. Пепис на мгновение свёл брови. Впрочем, он тут же узнал и сразу отверг книгу. Несколько лет назад Королевское общество издало её избыточным тиражом. С тех пор члены Общества всеми правдами и неправдами сбагривали друг другу экземпляры, пытались использовать их в качестве универсального платёжного средства, придавливали ими гербарии, подпирали колченогие столы и прочая, и прочая.
Даниель был по натуре человек не злой, но его тошнило несколько дней кряду, а соблазн помучить Пеписа в третий раз был слишком велик.
— Ваш суд скор и безжалостен, мистер Пепис. Книги отправляются одесную или ошуюю. Когда в бурю опрокидывается корабль и перед святым Петром выстраивается очередь промокших душ, даже он не успевает рассортировать их так быстро.
— Вы меня дразните, мистер Уотерхауз; вы разгадали мою уловку и знаете, зачем я пришёл.
— Отнюдь. Что вы поделываете с Революции? Я ничего о вас не слышал.
— Я ушёл в отставку, мистер Уотерхауз, и посвятил себя науке. Сейчас мои цели: собрать библиотеку не хуже, чем у сэра Элиаса Ашмола, и хоть в малой степени заполнить пустоту, оставшуюся после вашего отхода от повседневных дел Королевского общества.
— Вам, наверное, хотелось окунуться в жизнь нового двора, нового Парламента…
— Ничуть.
— Странно.
— Двигаться в таких кругах — всё равно, что плыть. Плыть с камнями в карманах! Нужны постоянные усилия. Остановиться — смерть. Пусть этим занимаются те, кто помоложе и поживей, как ваш друг маркиз Равенскарский. В мои лета куда приятней стоять на суше.
— Что насчёт камней в карманах?
— Простите?
— Ваша реплика, мистер Пепис, — я вас к ней плавно подвожу.
— Отлично! — Пепис одним прыжком оказался возле кровати и поднёс старый добрый камень к самому лицу Даниеля.
Даниель впервые видел его так близко. Сейчас он приметил два симметричных отростка вроде рогов, которые начали расти в мочеточники, ведущие к почкам мистера Пеписа. Ему сделалось нехорошо, и он перевёл взгляд на лицо мистера Пеписа, которое было почти так же близко.
— СМОТРИТЕ! Моя смерть — преждевременная, бессмысленная, отвратимая. Моя и ваша, Даниель. Однако свою смерть я держу в руке. Ваша — вот здесь. Не вздрагивайте, я не стану вас трогать, только показываю, что ваш камень в двух дюймах от моей руки, когда я держу её здесь. Мой камень у меня в руке. Всего два дюйма! И всё же для меня это малое расстояние означает лишние тридцать лет жизни. Тридцать лет — и, Бог даст, ещё десяток-другой, чтобы пить, любить женщин, петь и учиться. Умоляю, Даниель, обратитесь к врачам, пусть камень переместят на два дюйма в ваш карман, где он сможет пролежать ещё четверть века, ничуть вас не беспокоя.
— Это очень важные два дюйма, мистер Пепис.
— Не спорю.
— В Чумной год, в Эпсоме, я помогал мистеру Гуку вскрывать различных животных, в том числе людей. К тому времени я сам мог резать почти любой орган почти любого животного. Однако меня всегда ставили в тупик шеи и несколько дюймов вокруг мочевого пузыря. Их приходилось оставлять мистеру Гуку, куда более искусному. Все эти отверстия, сжимательные мышцы, железы, невероятно важные каналы…
При упоминании Гука Пепис просветлел, как будто вспомнил, что собирался сказать, но по мере того, как Даниель продолжал урок анатомии, лицо его поскучнело.
— Разумеется, я всё это знаю, — оборвал он Даниеля.
— Не сомневаюсь.
— Знаю всё это на собственном опыте, к тому же я имел возможность освежить свои познания всякий раз, как очередной мой близкий друг умирал от камня. На память приходит преподобный Уилкинс…
— Низко, очень низко с вашей стороны, мистер Пепис, вспомнить сейчас о нём!
— Он смотрит на вас с Небес, говоря: «Жду, не дождусь встречи, Даниель, но готов потерпеть ещё лет двадцать-тридцать, ради всего святого не торопитесь ко мне, удалите камень и завершите свой труд».
— Я искренне считаю, что ничего более позорного вы уже не скажете, мистер Пепис. Пожалуйста, оставьте больного человека в покое.
— Отлично!.. Тогда едем в паб.
— Спасибо, мне нездоровится.
— Когда вы последний раз принимали твёрдую пищу?
— Не помню.
— А жидкую?
— Я не имею намерения принимать жидкость, поскольку не могу её выводить.
— Всё равно едем в паб, мы устраиваем вам проводы.
— Отмените их, мистер Пепис. Начались равноденственные шторма. Отправляться сейчас в Америку было бы глупо. Я договорился с одним очень старым знакомым, мистером Эдмундом Поллингом, который давно собирается перебраться в Массачусетс вместе с семьёй. Мы условились в апреле следующего года взойти на строящийся сейчас корабль «Торбэй» и примерно через…
— Вы умрёте в течение недели.
— Знаю.
— Самое время для проводов. — Пепис дважды хлопнул в ладоши. Хлопки почему-то отозвались глухим стуком в соседней комнате.
— Я не дойду до вашей кареты.
— И не надо, — сказал Пепис, открывая дверь. За ней стояли двое носильщиков с портшезом — очень маленьким, не больше саркофага, сделанным специально, чтобы пассажира можно было внести прямо в дом. Такими предпочитали пользоваться стеснительные особы, в частности, проститутки.
— Фи, что люди подумают?
— Что Королевское общество пригласило на своё заседание загадочную личность — исключительно с научной целью! — отвечал Пепис. — Бросьте, не думайте о наших репутациях, их уже не испортить, и у нас будет уйма времени с этим разобраться.
Напутствуемые по большей части неконструктивной критикой со стороны мистера Пеписа носильщики, слегка позеленев, подняли Даниеля с кровати. Он помнил вонь, стоявшую в комнате умирающего Уилкинса; видимо, от него разило так же. Тело было лёгким и сухим, как вяленая рыба. Даниеля усадили в чёрный ящик и закрыли дверцу. От прежних пассажирок внутри сохранился аромат пудры и духов, а может быть, так пах обычный лондонский воздух по контрасту с его комнатой. Система отсчёта накренилась и закачалась — его несли вниз по лестнице.
На север вдоль римской стены — то есть не в ту сторону. Однако перед лицом смерти нелепо тревожиться о таком пустяке, как то, что тебя похитили носильщики. С усилием повернув шею и выглянув в занавешенное окошко сзади, Даниель увидел едущую за ними карету Пеписа.
По мере того как портшез маневрировал по улицам и проулкам, за окошком мелькали различные виды и в большей или меньшей степени печальные сцены. Некое большое, почти законченное каменное здание с высоким куполом вновь и вновь возникало впереди, с каждым разом всё ближе. Это был Бедлам.
Сейчас любой лондонец принялся бы кричать и вырываться, осознав, что его собрались запереть на неопределённый срок. Однако Даниель в числе немногих лондонцев знал, что Бедлам — не только мусорная свалка безумцев, но и приют его друга и коллеги мистера Роберта Гука. Он спокойно позволил внести себя в главные ворота.
Тем не менее ему полегчало, когда носильщики свернули от запертых комнат к обители Гука под самым куполом. Вопли помешанных стихли, обратившись в едва различимый гул, а вскоре их и вовсе заглушили весёлые голоса из-за полированной двери. Пепис обежал портшез и распахнул дверь, за которой оказались все: не только Гук, но Христиан Гюйгенс, Исаак Ньютон и его тень Фатио, Роберт Бойль, Джон Локк, Роджер Комсток, Кристофер Рен и ещё человек двадцать — по большей части завсегдатаи Королевского общества, к которым присоединились несколько стариков, таких как Эдмунд Поллинг и Стерлинг Уотерхауз.
Даниеля вынули из портшеза, как заморскую диковину из ящика, и поддержали под локти, чтобы он выслушал троекратное «ура» собравшихся. Роджер Комсток (который, с тех пор как все сдерживающие факторы дали дёру во Францию, день ото дня становился всё более значительным), взобравшись на гуков стол для шлифовки линз (Гук вскипел, и Рену пришлось удерживать его за полу), призвал собравшихся к молчанию.
— Все мы знаем, как высоко мистер Даниель Уотерхауз ставит алхимию, — начал Роджер. Комизм усугублялся преувеличенной важностью голоса и манер, он обращался, как к Парламенту. Когда слушатели отсмеялись, он продолжил так же торжественно. — Алхимия в наше время явила множество чудес и, как заверили меня самые выдающиеся её адепты, в ближайшие годы осуществит цель, к которой алхимики стремились тысячелетиями, подарить нам жизнь беспутную!
Комната взорвалась хохотом, обратившись в истинный Бедлам. Роджер Комсток изобразил на лице величайшее недоумение. Даниель покосился на Исаака, вот уж кто не склонен был смеяться шуткам над алхимией и бессмертием. Однако Исаак улыбался и переглядывался с Фатио.
Роджер поднёс ладонь к уху и внимательно прислушался, потом сделал вид, будто совершенно опешил.
— Что? Вы говорите, «бессмертную»? — Он с притворным возмущением указал пальцем на Бойля. — Сударь, завтра я пришлю к вам своего поверенного — извольте вернуть деньги назад!
Слушатели совершенно обессилели от хохота, чего Роджер и добивался. Они могли лишь ждать, когда оратор продолжит.
— Покамест алхимики явили много чудес поменьше. Те, кто посещает питейные заведения — во всяком случае, так мне рассказывали, — эмпирически установили, что пьянящие напитки содержат нежелательные примеси. Самая вредная из них — вода, которая, скапливаясь в мочевом пузыре, вынуждает пьющего выходить на холод, ветер и дождь, под осуждающие взгляды друзей и прохожих, дабы опорожнить сказанный пузырь, что в случае нашего почётного гостя занимает до двух недель.
— В своё оправдание могу заметить, что за эти две недели я успеваю протрезветь, — сказал Даниель, — и, вернувшись, обнаруживаю, что вы опорожнили все стаканы.
Роджер Комсток отвечал:
— Истинно. Я отдаю их содержимое нашим собратьям-алхимикам для опытов. Они научились удалять воду из вина и получать чистый дух. Однако речь моя начинает смахивать на отвлечённую проповедь, посему перейдём к вопросам практическим. Джентльмены, прошу погасить все курительные принадлежности! Мы не желаем спалить творение мистера Гука. Здешние обитатели так напугаются, что со страху придут в рассудок! Я держу в руке упомянутый чистый дух, и он способен сжечь всё здание не хуже греческого огня. Опасность не минует, пока наш почётный гость не соблаговолит перелить содержимое стакана в себя. Ваше здоровье, Даниель! Будьте уверены: напиток ударит в голову, но ни единая капля не попадёт в почки!
Под самым центром купола на возвышении установили очень прочное дубовое кресло — подобие трона. Даниель мысленно поблагодарил друзей за предусмотрительность — сидя в кресле, он оказался вровень с остальными и даже чуть выше. В кои-то веки он мог разговаривать, не чувствуя, что на него смотрят сверху вниз. Подушки, подпирающие со всех сторон, позволяли двигать лишь челюстью да рукой, которая держала бокал. Остальные по двое, по трое подходили засвидетельствовать Даниелю своё почтение.
Рен поведал, как идёт строительство купола над собором Святого Павла. Эдмунд Поллинг — о подготовке плавания, намеченного на апрель. Гук, когда не спорил с Гюйгенсом о часах и не отбивался от похабных каламбуров Комстока, рассказывал о создании искусственных мышц. Он не говорил, что они нужны для летающей машины, — Даниель и так знал. Исаак жил теперь в Лондоне — его выбрали в Парламент от Кембриджа; Фатио гостил под его кровом. Стерлинг вместе с сэром Ричардом Апторпом собирались как-то хитроумно финансировать очередные безумства правительства. У Франции есть неисчерпаемый запас податных крестьян, у Испании — серебряные рудники в Мексике; Стерлинг и сэр Ричард, очевидно, полагали, что Англия посредством некоего метафизического фокуса сумеет компенсировать недостаток и того, и другого. Гюйгенс подошёл и сообщил печальную новость: графиня де ля Зёр прижила внебрачного ребёночка, но он умер в родах. В каком-то смысле Даниель был рад слышать, что для неё жизнь продолжается. Когда-то он мечтал предложить ей руку и сердце. Учитывая его нынешнее положение, это была крайне неудачная мысль.
Воспоминания об Элизе погрузили Даниеля в своего рода мечтательную задумчивость, из которой он так и не вышел. Не то чтобы он внезапно потерял сознание — скорее оно мало-помалу уплывало в течение всего вечера. Каждый подходивший друг поднимал бокал, и Даниель в ответ поднимал свой. Напиток не стекал по горлу, а яростно рвался через слизистые оболочки прямиком в мозг. В глазах темнело. Гул голосов навевал сон.
Разбудила Даниеля тишина. Тишина и свет. В первое мгновение мелькнула мысль, что его вынесли на солнце. Однако в лицо било целое созвездие солнц. Он попытался поднять сперва одну руку, потом другую, чтоб заслонить глаза, но руки не слушались. Ноги тоже застыли на месте.
— Вы, быть может, вообразили, что переживаете некие предсмертные или даже посмертные ощущения, — произнёс голос. Он доносился снизу, из-за Даниелевых колен. — И что несколько архангелов обступили вас, ослепляя своим сиянием. В таком случае я должен быть тенью, жалким серым призраком, а несущиеся издалека вопли — стонами душ, влекомых в адскую бездну.
Гука и впрямь было почти не различить: свет шёл из-за его спины. Он раскладывал какие-то инструменты на столе, поставленном перед креслом.
Теперь, когда Даниель перестал смотреть на свет, глаза привыкли и различили, что мешает ему двигаться: белая бельевая верёвка, целые мили, обвивала руки и ноги, сплетаясь в нечто вроде сети или паутины, идеально подогнанной по фигуре. Очевидно, её сплёл скрупулёзный Гук, ибо даже пальцы были пришнурованы, каждый в отдельности, к подлокотнику кресла, тяжёлого, как орудийный лафет.
Даниелю вспомнился Эпсом в Чумной год, когда Гук часами просиживал на солнце, наблюдая в лупу, как паук опутывает клейкою нитью овода.
Ещё он видел блестящие инструменты, которые Гук разложил на столе. Помимо увеличительных стёкол, с которыми Гук никогда не расставался, здесь был изогнутый зонд, который проводят через мочеиспускательный канал, чтобы найти и удержать камень. Рядом — ланцет, чтобы разрезать промежность и мочевой пузырь. Затем крюк, чтобы, протащив камень позади яичек, извлечь его из мочевого пузыря; набор ложек различных размеров и формы, чтобы выскоблить из пузыря и мочеточников мелкие, прячущиеся в складочках камни, буде таковые обнаружатся. Ещё была серебряная трубка, которую введут в мочеиспускательный канал, чтобы неизбежный отёк не мешал выходить моче, крови, лимфе и гною; тонкие бараньи жилы, чтобы зашить рану; кривые иголки и зажимы, чтобы протащить их через его мясо. Однако почему-то даже сильнее инструментов его напугали весы на дальнем конце стола. Полированные чашки покачивались на блестящих цепочках, неумолимо посылая в глаза вспышки-сигналы. Гук, эмпирик во всём, разумеется, собирался взвесить извлечённый камень.
— На самом деле вы живы и проживёте ещё много лет — больше, чем я. Верно, некоторые умирают от шока: быть может, поэтому ваши друзья захотели прийти и побыть с вами, пока я не начал. Однако, помнится, вы как-то получили в спину заряд картечи из мушкетона, встали и пошли. Так что на сей счёт я не опасаюсь. Яркий свет, который вы видите, — палочки горящего фосфора, а я — Роберт Гук, лучше которого никто в мире этого не сделает.
— Не надо, Роберт.
Гук воспользовался мольбой Даниеля, чтобы засунуть полоску кожи ему в рот.
— Можете закусить её, если хотите, а можете выплюнуть и орать сколько угодно — это Бедлам, никто не возмутится. Никто не обратит внимание, и никто вас не пожалеет, а уж тем более Роберт Гук. Ибо, как вы знаете, Даниель, я начисто лишён жалости. Оно и к лучшему — в противном случае я не смог бы провести эту операцию. Год назад, в Тауэре, я сказал, что в благодарность за дружбу подарю вам нечто — многоценную жемчужину. Пришло время сдержать обещание. Осталось ответить лишь на один вопрос: сколько эта жемчужина будет весить, когда я отмою её от вашей крови и положу на чашку вон тех весов. Жаль, что вы очнулись. Не буду оскорблять вас предложением расслабиться. Пожалуйста, не сойдите с ума. Встретимся по другую сторону Стикса.
Когда они с Уилкинсом и Гуком в Чумной год резали живых собак, Даниель глядел в страдальческие карие глаза и пытался понять, что происходит в собачьем мозгу. Под конец он решил, что ничего; собаки не способны мыслить сознательно, не думают о прошлом и будущем, живут только в настоящем, и потому им ещё хуже — они не могут мечтать о конце боли или вспоминать время, когда гоняли кроликов на лугу.
Гук взял скальпель и потянулся к Даниелю.
Действующие лица
Многие аристократы помимо имени и фамилии имели ещё и титул. Скажем, младший брат Карла II принадлежал к роду Стюартов, был крещён Джеймсом и, следовательно, мог бы именоваться Джеймсом Стюартом, однако значительную часть жизни (до того, как стать королём Яковом II) носил титул герцога Йоркского и потому звался (по крайней мере в третьем лице) Йорком (во втором же — исключительно «ваше королевское высочество»). Титул часто менялся на протяжении жизни: простолюдина могли пожаловать дворянством, а дворянина вознести на следующую ступень знатности. Так что зачастую одно и то же лицо не только одновременно именовалось по-разному, но и меняло имена по мере возведения в новое достоинство, карьерного взлёта, завоеваний или — что может считаться комбинацией всех трёх — брака.
Такой разнобой в именах привычен многим читателям, которые живут по восточную сторону Атлантики или воспитаны на приключенческой литературе. Других он может смутить и даже раздосадовать. Приведённый список действующих лиц поможет избежать путаницы.
Если обращаться к нему слишком рано и слишком часто, можно выпустить котов из мешков, узнав, кто умрёт, а кто нет.
Составитель подобного указателя сталкивается с той же трудностью, что и Лейбниц, когда тот пытался упорядочить библиотеку своего патрона. Объекты классификации (книги в случае Лейбница, персонажей — в указателе) следует расположить линейным образом по какой-то предсказуемой схеме, но поскольку один персонаж часто фигурирует под несколькими именами, не всегда ясно, под каким его заносить в список. Здесь я пожертвовал единообразием ради удобства и поместил каждого персонажа под тем именем, под которым он чаще упоминается. Так, Луи Франсуа де Лавардак, герцог д'Аркашон, помещён на букву «А», поскольку его чаще всего называют просто герцог д'Аркашон. А вот Нотт Болструд, граф Пенистонский, стоит на «Б», потому что его чаще упоминают как Болструда. Перекрёстные ссылки помещены на «Л» и «П» соответственно.
Пункты указателя, приведённые по более или менее достоверным источникам, напечатаны обычным шрифтом. Пункты, набранные курсивом, содержат информацию, которая может повлечь недоразумения, тяжёлые увечья и смерть при использовании путешественником во времени, посещающим упомянутые места и эпоху.
АВО, ЖАН-АНТУАН ДЕ МЕСМ, ГРАФ Д'. Французский посол в Голландской республике, затем — советник Якова II во время Ирландской кампании.
АНГЛСИ, ЛУИ, 1648—?. Граф Апнорский. Сын Томаса Мора Англси. Придворный и друг герцога Монмутского во время Междуцарствия и после Реставрации в колледже Святой Троицы, Кембридж.
АНГЛСИ, ТОМАС МОР, 1618—1679. Герцог Ганфлитский. Видный роялист, кавалер и придворный Карла II в изгнании. После Реставрации — одно из «А» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.). Во время «католического заговора» бежал во Францию, где и умер.
АНГЛСИ, ФИЛИП, 1645—?, граф Ширнесс. Сын Томаса Мора Англси.
АННА, КОРОЛЕВА АНГЛИИ, 1665—1714, дочь Якова II от первой жены, Анны Гайд.
АПНОР, ГРАФ: см. Англси, Луи.
АПТОРП, РИЧАРД, 1631—?. Банкир и делец. Одно из «А» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.). Основатель Английского банка.
АРКАШОН, ГЕРЦОГ Д', 1634—?. Луи-Франсуа де Лавардак. Кузен Людовика XIV. Строитель, а затем и адмирал французского флота.
АРКАШОН, ЭТЬЕНН Д', 1662—?. Этьенн де Лавардак. Сын и наследник Луи-Франсуа да Лавардака, герцога д’Аркашона.
АРТАНЬЯН, ШАРЛЬ ДЕ БАЦ ДЕ КАСТЛЬМОР Д', ок. 1620—1673. Французский мушкетёр и мемуарист.
АШМОЛ, СЭР ЭЛИАС, 1617—1692. Астролог, алхимик, самоучка. Ревизор Акцизного управления, собиратель диковин и основатель Музея Ашмола в Оксфорде.
БОЙЛЬ, РОБЕРТ, 1627—1691. Химик, член Экспериментального философского клуба в Оксфорде и Королевского общества.
БОЙНЕБУРГ, ИОГАНН ХРИСТИАН ФОН, 1622—1672. Покровитель Лейбница в Майнце.
БОЛСТРУД, ГОМЕР, 1645—?. Сын Нотта. Ярый диссидент, затем — иммигрант в Новой Англии, мебельщик.
БОЛСТРУД, ГРЕГОРИ, 1600—1652. Диссидентский проповедник. Основатель пуританской секты гавкеров.
БОЛСТРУД, НОТТ, 1628—1692. Сын Грегори. Возведён Карлом II в пэры под именем графа Пенистона и назначен членом кабинета «Б» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.).
ВЕЛИКИЙ КУРФЮРСТ: см. Фридрих-Вильгельм.
ВИЛЬГЕЛЬМ II ОРАНСКИЙ, 1626—1650. Отец куда более известного Вильгельма III Оранского. Умер молодым (от оспы).
ВИЛЬГЕЛЬМ III ОРАНСКИЙ, 1650—1702. Соправитель Марии, дочери Якова II, на английском престоле с 1689 года.
ВИЛЬГЕЛЬМИНА-КАРОЛИНА, см. Каролина, принцесса Бранденбург-Ансбахская.
ВИЛЬЕРС, БАРБАРА (ЛЕДИ КАСЛМЕЙН, ГЕРЦОГИНЯ КЛИВЛЕНДСКАЯ), 1641—1709. Неутомимая возлюбленная многих высокопоставленных англичан, в том числе Карла II и Джона Черчилля.
ГАЙД, АННА, 1637—1671. Первая жена Джеймса, герцога Йоркского (впоследствии Якова II). Мать двух английских королев: Марии (правившей совместно со своим мужем Вильгельмом) и Анны.
ГАНФЛИТ, ГЕРЦОГ: см. Англси, Томас Мор.
ГВИН, НЕЛЛ, 1650—1678. Торговка фруктами и актриса, одна из фавориток Карла II.
ГЕНРИЕТТА-АННА, 1644—1670. Сестра английских королей Карла II и Якова II, первая жена Филиппа, герцога Орлеанского, брата Людовика XIV.
ГЕНРИЕТТА-МАРИЯ, 1609—1669. Сестра французского короля Людовика XIII, жена английского короля Карла I, мать английских королей Карла II и Якова II.
ГУК, РОБЕРТ, 1635—1703. Художник, полиглот, астроном, геометр, микроскопист, механик, часовщик, химик, оптик, изобретатель, философ, ботаник, анатом и т. д. Куратор экспериментов Королевского общества. Землемер Лондона после Пожара. Друг и сподвижник Кристофера Рена.
ГЮЙГЕНС, ХРИСТИАН, 1629—1695. Великий голландский астроном, часовщик, математик и физик.
ДЖЕФФРИС, Джордж, 1645—1689. Валлийский джентльмен, юриспрудент, генеральный стряпчий герцога Йоркского, Верховный судья и затем лорд-канцлер при Якове II. В 1685-м получил титул барона Уэмского.
ЕКАТЕРИНА БРАГАНЦСКАЯ, 1638—1705, дочь португальского короля, жена английского короля Карла II.
ЕЛИЗАВЕТА-ШАРЛОТТА, 1652—1722, Лизелотта, Палатина, известная при французском дворе как Мадам. Дочь Карла-Людвига, курфюрста Пфальцского, и племянница Софии. Вышла замуж за Филиппа, герцога Орлеанского, младшего брата Людовика XIV. Родоначальница линии Бурбонов-Орлеанских.
ЖЕКС, ОТЕЦ ЭДУАРД ДЕ, 1663—?, младший отпрыск Маргариты-Дианы де Крепи (умершей при его рождении) и стареющего Франсиса де Жекса. Воспитан в Лионском приюте иезуитами, которые нашли в нём на редкость даровитого ученика. Сам стал иезуитом в возрасте двадцати лет. Был направлен в Версаль, где попал в фавор у мадам де Ментенон.
ЖЕКСЫ, ДЕ. Захудалый дворянский род из Юры. Упадок семьи сменился подъёмом в начале семнадцатого века, когда двое детей Анри де Жекса (1595—1660), Франсис и Луиза-Анна, связали себя узами брака с более процветающим родом де Крепи. Потомство Франсиса носило фамилию де Жекс. Младшим из его отпрысков был Эдуард де Жекс. Среди детей Луизы-Анны были Анна-Мария де Крепи (впоследствии герцогиня д'Уайонна) и Шарлотта-Аделаида де Крепи (впоследствии маркиза д'Озуар).
ЗЁР, ГРАФИНЯ ДЕ ЛЯ: титул, дарованный Элизе Людовиком XIV.
ЗИМНИЙ КОРОЛЬ: см. Фридрих V.
ЗИМНЯЯ КОРОЛЕВА: см. Стюарт, Елизавета.
ИОГАНН-ФРИДРИХ, 1620—1679. Герцог Брауншвейг-Люнебургский, библиофил, покровитель Лейбница.
ЙГЛМ: титул, пожалованный Элизе Вильгельмом Оранским.
ЙОРКСКИЙ, ГЕРЦОГ: титул, который традиционно носит следующий наследник английского престола. На протяжении большей части книги — Джеймс, брат Карла II.
КАБАЛА: неофициальное название кабинета Карла II после Реставрации, созданного приблизительно по подобию «верхнего совета» Людовика XIV, т. е. каждый из членов имел общий круг обязанностей, но границы их были расплывчаты и перекрывались (см. табл.).
КАРЛ I АНГЛИЙСКИЙ, 1600—1649, король Англии из династии Стюартов, обезглавлен перед Дворцом для приёмов после победы парламентских сил под командованием Оливера Кромвеля.
КАРЛ II АНГЛИЙСКИЙ, 1630—1685. Сын Карла . Во время Междуцарствия жил сначала во Франции, потом в Нидерландах. Вернулся в Англию в 1660-м и восстановил монархию (Реставрация).
КАРЛ, КУРФЮРСТ ПФАЛЬЦСКИЙ, 1651—1685, сын и наследник Карла-Людвига, любитель войны и охоты. Умер молодым от болезни, подхваченной во время потешной осады.
КАРЛ-ЛЮДВИГ, КУРФЮРСТ ПФАЛЬЦСКИЙ, 1617—1680. Старший сын Зимних короля и королевы, брат Софии, отец Лизелотты. После Тридцатилетней войны вернул своей семье Пфальц.
КАРОЛИНА, ПРИНЦЕССА БРАНДЕНБУРГ-АНСБАХСКАЯ, 1683—1737. Дочь Элеоноры, принцессы Саксен-Эйзенахской.
КАСЛМЕЙН, ЛЕДИ: см. Вильерс, Барбара.
КЕРУАЛЬ, ЛУИЗА ДЕ, 1649—1734. Герцогиня Портсмутская. Одна из фавориток Карла II.
КЕТЧ, ДЖЕК — прозвище палача.
КЛИВЛЕНД, ГЕРЦОГИНЯ: см. Вилльерс, Барбара.
КОМЕНСКИЙ, ЯН-АМОС, латинизирован. COMENIUS, 1592—1670. Моравский пансофист, вдохновивший в числе прочих Уилкинса и Лейбница.
КОМСТОК, ДЖОН, 1607—1685. Видный роялист и придворный Карла II в изгнании. Отпрыск так называемой Серебряной ветви рода Комстоков. Оружейник. Покровитель Королевского общества. После Реставрации — «К» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.). Отец Ричарда и Чарльза Комстоков.
КОМСТОК, РИЧАРД, 1638—1673. Старший сын и наследник Джона Комстока. Погиб в Саутуолдском морском сражении.
КОМСТОК, РОДЖЕР, 1646—?. Отпрыск так называемой Золотой ветви рода Комстоков. В начале 1660-х учился вместе с Даниелем Уотерхаузом, герцогом Монмутом, графом Апнором и Джорджем Джеффрисом в колледже Святой Троицы в Кембридже. Затем — успешный застройщик и маркиз Равенскарский.
КОМСТОК, ЧАРЛЬЗ, 1650—1708, сын Джона, натурфилософ. После отставки Джона и смерти старшего брата Ричарда эмигрировал в Коннектикут.
КРЕПИ, ДЕ, захудалые французские дворяне, во время религиозных войн стремительно пошли в гору. Связали себя узами брака с более древним, но пришедшим в упадок родом де Жексов. Анна-Мария де Крепи (1653—?) вышла за престарелого герцога д'Уайонна и пережила его на много лет. Её сестра (Шарлотта-Аделаида де Крепи, 1656—?), вышла за маркиза д'Озуара.
КРОМВЕЛЬ, ОЛИВЕР, 1599—1658. Предводитель антироялистских сил во время Гражданской войны в Англии, бич ирландцев, первый человек страны во время Республики или Междуцарствия.
КРОМВЕЛЬ, Ричард, 1626—1712. Сын и (до Реставрации) преемник своего куда более великого отца, Оливера.
ЛАВАРДАКИ: отрасль рода Бурбонов, породившая многих герцогов крови, в том числе герцога Аркашонского (см.).
ЛЕЙБНИЦ, ГОТФРИД-ВИЛЬГЕЛЬМ, 1646—1710. См. в книге.
ЛЕСТРЕЙНДЖ, СЭР РОДЖЕР, 1616—1704. Автор роялистских памфлетов и (после Реставрации) главный цензор при Карле II. Преследователь Мильтона. Переводчик.
ЛЕФЕВР: Французский аптекарь-алхимик, переехавший в Лондон во время Реставрации вместе с королевским двором.
ЛИЗЕЛОТТА: см. Елизавета-Шарлотта.
ЛОКК, ДЖОН, 1632—1704. Натурфилософ, врач, политический советник, философ.
ЛЬЮИС, ХЬЮ, 1625—?. Генерал. После Реставрации получил от Карла II титул герцога Твидского в память о том, как со своим полком (который с тех пор стал именоваться Колдстримским гвардейским) форсировал реку Твид, спеша на помощь высадившемуся в Англии монарху. «Л» в «Кабальном кабинете» Карла II (см.).
МАРИЯ МОДЕНСКАЯ, 1658—1718. Вторая и последняя жена Якова II Английского. Мать Джеймса Стюарта, называемого также старшим претендентом.
МАРИЯ, 1662—1694. Дочь Якова II и Анны Гайд. После Славной Революции (1689) правила Англией вместе со своим мужем, Вильгельмом Оранским.
МЕНТЕНОН, МАДАМ ДЕ, 1635—1719. Фаворитка, затем вторая и последняя жена Людовика XIV.
МЕСМ, ЖАН-АНТУАН ДЕ: см. Аво, де.
МИНЕТТА: см. Генриетта-Анна.
МОНМУТ, ГЕРЦОГ, ДЖЕЙМС СКОТТ, 1649—1685. Незаконный сын Карла II от некой Люси Уолтер.
МОРИ (МЮРРЕЙ), РОБЕРТ, ок. 1608—1673. Шотландский военачальник, государственный деятель и придворный, фаворит Карла II. Сыграл определённую роль в создании Королевского общества, вероятно, организационную.
МОРИЦ, ПРИНЦ, 1621—1652. Один из многочисленных отпрысков Зимней королевы. Во время Гражданской войны сражался на стороне кавалеров.
НЬЮТОН, ИСААК, 1642—1727. См. в книге.
ОЗ, КЛОД: см. Озуар, маркиз д'.
ОЗУАР, КЛОД ОЗ, МАРКИЗ Д', 1650—?. Незаконный сын Луи-Франсуа де Лавардака, герцога д'Аркашона, от служанки Люси Оз. В конце 1600-х годов отправился в Индию в составе злополучной экспедиции Французской Ост-Индской компании. В 1679-м, когда дворянские титулы выставили на торги для сбора средств на Голландскую войну, приобрёл титул маркиза д'Озуара, одолжив у своего отца деньги, полученные от африканской работорговли.
ОЗУАР, ШАРЛОТТА-АДЕЛАИДА ДЕ КРЕПИ, МАРКИЗА Д', 1656—?. Супруга Клода Оза, маркиза д'Озуара.
ОЛЬДЕНБУРГ, ГЕНРИХ, 1615—1677. Эмигрант из Бремена. Секретарь Королевского общества, издатель «Философских трудов», автор обширной переписки.
ПЕНИСТОН, ГРАФ: см. Болструд, Нотт.
ПЕПИС (ПИПС) САМЮЭЛЬ, 1633—1703. Клерк, чиновник Военно-морской коллегии, секретарь Адмиралтейства, член Лондонского королевского общества, автор дневников, щёголь и сплетник.
ПЕТЕРС, ХЬЮ, 1598—1660. Пламенный пуританский проповедник. Провёл какое-то время в Голландии и в Массачусетсе, затем вернулся в Англию, где стал капелланом Кромвеля. Заслужил нелюбовь ирландцев избиением мирных жителей Дроэды и Уэксофорда. За участие в цареубийстве казнён Джеком Кетчем в 1660-м при помощи ножа.
ПОРТСМУТ, ГЕРЦОГИНЯ, см. Керуаль, Луиза де.
РАВЕНСКАР, МАРКИЗ: см. Комсток, Роджер.
РЕЙТЕР, МИХИЕЛ АДРИАНСЗОН ДЕ, 1607—1676. Исключительно даровитый голландский флотоводец. Особенно успешно сражался против англичан.
РЕН, КРИСТОФЕР, 1632—1723. Человек невероятной одарённости, натурфилософ и архитектор, член Экспериментального философского клуба и позже Королевского общества.
РОССИНЬОЛЬ, АНТУАН, 1600—1682. «Первый профессиональный криптоаналитик во Франции» (Дэвид Кан, «Взломщики кодов» — непременно купите и прочитайте). Фаворит Ришелье, Людовика XIII, Мазарини и Людовика XIV.
РОССИНЬОЛЬ, БОНАВАНТЮР, ум. в 1705-м. Криптоаналитик Людовика XIV после смерти своего отца, учителя и соратника Антуана.
РУПЕРТ, ПРИНЦ, 1619—1682. Один из многочисленных отпрысков Зимней королевы. Во время Гражданской войны в Англии сражался на стороне кавалеров.
СОФИЯ, 1630—1714. Младшая дочь Зимней королевы. Вышла замуж за Эрнста-Августа, впоследствии герцога Брауншвейг-Люнебургского. Затем его владения получили статус курфюршества Ганноверского, так что Эрнст-Август и София стали курфюрстом и курфюрстиной. С 1707-го — ближайшая наследница английского престола.
СОФИЯ-ШАРЛОТТА, 1668—1705. Старшая дочь Софии. Вышла замуж за Фридриха III, курфюрста Бранденбургского и сына Великого курфюрста. В 1701-м, когда решением императора Священной Римской империи Бранденбург-Пруссия получила статус королевства, стала первой прусской королевой и родоначальницей прусской династии.
СТЮАРТ, ДЖЕЙМС, 1688—1766. Законный (вероятно; хотя на сей счёт имелись определённые сомнения) сын Якова II от второй жены, Марии Моденской. Вырос в изгнании во Франции. После смерти отца стал Яковом III для английских якобитов и старшим претендентом для сторонников Ганноверской династии.
СТЮАРТ, ЕЛИЗАВЕТА, 1596—1662. Дочь короля Якова Английского, сестра Карла I. Вышла замуж за Фридриха, курфюрста Пфальцского. В 1618-м ненадолго провозглашена королевой Богемии, отсюда прозвание «Зимняя королева». Тридцатилетнюю войну провела в изгнании, по большей части в Голландской республике. Пережила мужа на три десятилетия. Мать множества детей, в том числе Софии.
УАЙОННА, АННА-МАРИЯ ДЕ КРЕПИ, ГЕРЦОГИНЯ, Д', 1653—?. Фрейлина дофины, сатанистка, отравительница.
УИЛКИНС (ВИЛКИНС), ДЖОН, ЕПИСКОП ЧЕСТЕРСКИЙ, 1614—1672. Криптограф. Научный фантаст. Основатель, первый председатель и первый секретарь Королевского общества. Личный капеллан Карла-Людвига, курфюрста Пфальцского. Ректор Уодем-колледжа (Оксфорд) и мастер колледжа Святой Троицы (Кембридж). Пребендарий Йоркский, благочинный Рипона, обладатель множества других церковных должностей. Друг нонконформистов, борец за свободу совести.
УИЛЛСДЕН, ГРАФ; см. Уотерхауз, Стерлинг.
УИЛРАЙТ, ДЖЕЙН: см. Уотерхауз, Джейн.
УИМ, УОЛТЕР, 1652—?. Муж Эммы Уотерхауз.
УОЛБРУК, ГРАФ: см. Хам, Томас.
УОТЕРХАУЗ, АННА, 1649—?. Урождённая Анна Робертсон. Английская колонистка в Массачусетсе. Жена Восславь-Господа Уотерхауза.
УОТЕРХАУЗ, СТЕРЛИНГ, 1630—?. Сын Дрейка. Застройщик. Впоследствии — граф Уиллсден.
УОТЕРХАУЗ, ТЕРПИ-СМИРЕННО, 1675—?. Сын Восславь-Господа в Бостоне. Выпускник Гарвардского университета. Конгрегационалистский проповедник.
УОТЕРХАУЗ, БЕАТРИСА, 1642—?. Урождённая Беатриса Дюран, дочь гугенотов, жена Стерлинга.
УОТЕРХАУЗ, БЛАГОДАТЬ, 1689—?. Урождённая Благодать Пейдж. Английская колонистка в Массачусетсе. Молодая жена престарелого Даниеля, мать Годфри.
УОТЕРХАУЗ, ВОССЛАВЬ-ГОСПОДА. 1649—?. Старший сын Релея и Элизабет. Иммигрировал в Колонию Массачусетского залива. Отец Терпи-Смиренно Уотерхауза.
УОТЕРХАУЗ, ГОДФРИ ВИЛЬЯМ, 1708—?. Сын Даниеля и Благодати в Бостоне.
УОТЕРХАУЗ, ГОРТЕНС, 1625—1658. Урождённая Гортенс Бауден. Вторая жена (брак заключён в 1645-м) Дрейка Уотерхауза, мать Даниеля.
УОТЕРХАУЗ, ДАНИЕЛЬ, 1646—?. Младший и поздний сын Дрейка от второй жены, Гортенс.
УОТЕРХАУЗ, ДЖЕЙН, 1599—1643. Урождённая Джейн Уилрайт, из семьи лейденских пилигримов. Первая жена (брак заключён в 1617-м) Дрейка, мать Релея, Стерлинга, Оливера и Мейфлауэр.
УОТЕРХАУЗ, ДЖОН, 1542—1597. Ревностный английский протестант. Перебрался в Женеву при Марии Кровавой. Отец Кальвина Уотерхауза.
УОТЕРХАУЗ, ДРЕЙК, 1590—1666. Сын Кальвина, отец Релея, Стерлинга, Мейфлауэр, Оливера и Даниеля. Торговец-индепендент, политический смутьян, предводитель пилигримов и диссидентов.
УОТЕРХАУЗ, КАЛЬВИН, 1563—1605. Сын Джона, отец Дрейка.
УОТЕРХАУЗ, МЕЙФЛАУЭР, 1621—?. Дочь Дрейка и Джейн, жена Томаса Хама, мать Вильяма Хама.
УОТЕРХАУЗ, ОЛИВЕР I, 1625—1646. Сын Дрейка и Джейн. Погиб в Ньюаркском сражении во время Гражданской войны в Англии.
УОТЕРХАУЗ, ОЛИВЕР II, 1653—?. Сын Релея и Элизабет.
УОТЕРХАУЗ, РЕЛЕЙ, 1618—?. Старший сын Дрейка, отец Восславь-Господа, Оливера II и Эммы.
УОТЕРХАУЗ, ЭЛИЗАБЕТ, 1621—?. Урождённая Элизабет Флинт. Жена Релея Уотерхауза.
УОТЕРХАУЗ, ЭММА, 1656—?. Дочь Релея и Элизабет.
ФИЛИПП, ГЕРЦОГ ОРЛЕАНСКИЙ, 1640—1701. Младший брат Людовика XIV, называемый при французском дворе Мсье. Муж сперва Генриетты-Анны Английской, затем Лизелотты. Родоначальник династии Бурбонов-Орлеанских.
ФРИДРИХ V, КУРФЮРСТ ПФАЛЬЦСКИЙ, 1596—1632. Король Богемии («Зимний король») в течение нескольких месяцев 1618 года. Умер в изгнании во время Тридцатилетней войны. Отец множества принцев, курфюрстов, герцогинь и так далее, в том числе Софии.
ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ, КУРФЮРСТ БРАНДЕНБУРГСКИЙ, 1620—1688, прозванный «Великий курфюрст». После Тридцатилетней войны создал регулярную армию, небольшую, но эффективную. Стравливая между собой ведущие силы своего времени (Швецию, Францию и Габсбургов), собрал разрозненные гогенцоллернские земли в одно государство, Бранденбург-Пруссию.
ХАМ, ВИЛЬЯМ, 1662—?. Сын Томаса и Мейфлауэр.
ХАМ, ТОМАС, 1603—?, золотых дел мастер и денежник, муж Мейфлауэр Уотерхауз, старший партнёр компании «Братья Хамы, златокузнецы». Получил от Карла II титул графа Уолбрукского.
ЧЕРЧИЛЛЬ, ДЖОН, 1650—1722. Придворный, воин, бретёр, потаскун, герой, впоследствии герцог Мальборо.
ЧЕРЧИЛЛЬ, УИНСТОН, роялист, помещик, придворный, один из первых членов Королевского общества, отец Джона Черчилля.
ЧЕСТЕРСКИЙ ЕПИСКОП: см. Уилкинс, Джон.
ШЕНБЕРН, ИОГАНН-ФИЛИПП ФОН, 1605—1673. Архиепископ и курфюрст Майнцский, государственный муж, дипломат, покровитель Лейбница.
ШИРНЕСС, ГРАФ: см. Англси, Филип.
ЭЛЕОНОРА, ПРИНЦЕССА САКСЕН-ЭЙЗЕНАХСКАЯ, ум. в 1696-м. Первым браком была замужем за маркграфом Ансбахским, от которого и родила дочь Каролину, принцессу Бранденбург-Ансбахскую. После долгого вдовства вышла за курфюрста Саксонского.
ЭПСОМ, ГРАФ: см. Комсток, Джон.
ЯКОВ I, КОРОЛЬ АНГЛИЙСКИЙ, 1566—1625. Первый король Англии из династии Стюартов.
ЯКОВ II, КОРОЛЬ АНГЛИЙСКИЙ, 1633—1701. Герцог Йоркский на протяжении значительной части жизни. Стал королём Англии после смерти своего брата в 1685-м. Низложен в ходе Славной Революции, в конце 1688 — начале 1689-го.
ЯКОВ VI, КОРОЛЬ ШОТЛАНДСКИЙ: см. Яков I, король Английский.
Примечания
1
Перевод А. Гутермана.
(обратно)2
Герцог Нортумберлендский был незаконным сыном Карла II от его любовницы Барбары Палмер, урождённой Вильерс, герцогини Кастлмейнской.
(обратно)3
Герцог Ричмондский был незаконным сыном Карла II от его любовницы Луизы де Керуаль, герцогини Портсмутской.
(обратно)4
Герцог Сент-Олбанский был незаконным сыном Карла II от его любовницы Нелл Гвин, хорошенькой актрисы и торговки фруктами.
(обратно)5
«Краткое доказательство примечательной ошибки Декарта и других, относящейся к естественному закону…» (лат.)
(обратно)6
Перевод А. Франковского.
(обратно)7
Перевод издательства «Свет с востока».
(обратно)8
Начальная трудность — название третьей гексаграммы «И-Цзин», или 010001 — ключ к посланию, скрытому в тексте письма. (Здесь и далее перевод фрагментов из «Книги Перемен» Ю. Щуцкого.)
(обратно)9
«Огненная палата» (фр.) — чрезвычайный суд, учреждённый Людовиком XIV для расследования отравлений и чёрной магии, ранее такое же название носил чрезвычайный трибунал при парижском парламенте, судивший еретиков, главным образом гугенотов.
(обратно)10
Помрачение света. 36-я гексаграмма «И-Цзин» или 000101.
(обратно)11
Эликсир жизни (лат.).
(обратно)12
Старинное название виски (от ирландского uisce beathadh, которое в свою очередь представляет собой производное от латинского aqua vitae, то есть «живая вода»). (Прим. перев.)
(обратно)13
«О движении тел по орбите» (лат.).
(обратно)14
«Журнал учёных» (фр.).
(обратно)15
Гипотез не измышляю (лат.).
(обратно)16
Перевод издательства «Свет с востока».
(обратно)17
Здесь и далее цитаты из трудов Ньютона даны в переводе академика А. Н. Крылова.
(обратно)18
Приумножение: 42-я гексаграмма «И-Цзин», или 110001.
(обратно)19
Домашние: 37-я гексаграмма «И-Цзин», или 110101.
(обратно)20
Перевод А. Гутермана.
(обратно)21
Слово «революция» происходит от латинского revolutio — вращение, и в большинстве европейских языков помимо переворота обозначает ещё целый круг понятий — оборот, круговорот и т. п., в том числе движение планет.
(обратно)22
Перевод А. Гутермана.
(обратно)23
Странно сказать (лат.).
(обратно)24
«Выход» — название 43-й гексаграммы «И-Цзин», или 011111.
(обратно)
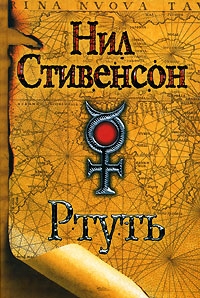



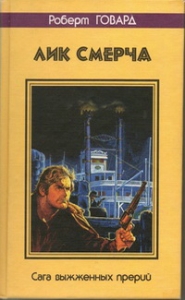

Комментарии к книге «Одалиска», Нил Стивенсон
Всего 0 комментариев