Юлия Остапенко Тебе держать ответ
Памяти Насти Ш.
Часть 1 Тот, кто в ответе
1
Ничего не случилось бы, если бы он не запер калитку. Если бы просто оставил её открытой. Ничего бы не было.
Впрочем, нет. Калитка тут ни при чём, всё началось гораздо раньше. Дело было в Бетани. И что ей только стоило остаться наверху, как велели, так нет же — потащилась за Адрианом, ещё и малыша за собой потянула. И если для двоих у замочной скважины в двери зала ещё нашлось бы место, то для троих его никак не хватало.
— Убирайся отсюда, — прошипел Адриан, едва заслышав стук её башмаков на лестнице. Оборачиваться не требовалось — так семенить, топоча при том, будто лошадь, могла только его ненаглядная сестрёнка.
— Сам убирайся, — громко ответила Бетани и больно ткнула его локтем под ребро. Адриан дёрнулся и едва не наступил на Бертрана, тише мышки шмыгнувшего за сестриной юбкой. Бетани немедленно воспользовалась замешательством брата и прильнула к замочной скважине. Ей для этого даже приседать не пришлось — достаточно было чуть-чуть нагнуться. Малыш Бертран пристроился рядом, благоразумно приложив ухо к дверной щели. Адриан оказался бесповоротно вытеснен с занимаемых позиций. Он рассеянно поглядел на сестру, размышляя, не стукнуть ли её прямо сейчас, потом решил быть куртуазным и стиснул её локоть.
— Пусти, — не двигаясь, сказала Бетани. Когда она говорила таким тоном, Анастас кривился и просил, чтобы она перестала изображать матушку. — Не пустишь, закричу, и тебя выставят вон вместе с нами.
Бертран шумно засопел снизу, возмущённый их вознёй. Временно сдавшись, Адриан отпустил сестру и, отодвинувшись от неё, окинул дверь обречённым взглядом. Между панелью и косяком проходила тоненькая щель; на зиму её забивали паклей; но сейчас стояло лето, посему все дыры и трещины замка Эвентри были гостеприимно раскрыты для сквозняков. Щель была совсем узкая и располагалась высоковато. Адриан приподнялся на цыпочки, для опоры упёрся ладонями в дверь и прильнул к щели.
Конечно, с такого обзорного пункта зал было видно не так хорошо, как через скважину. Адриан видел только кресло, в котором сидела мать, и Анастаса на корточках рядом с ней, и ещё ноги отца, вытянутые к каминной решётке. Ричард оставался вне поля зрения — должно быть, стоял за отцовским креслом. Они всегда так располагались на семейных советах: первенец поближе к отцу, второй сын — рядом с матерью. Странно, отчего бы так — Адриану казалось, что оба родителя любили старших сыновей одинаково. Анастас даже чаще спорил с матерью, чем с отцом, хотя в конце концов всегда соглашался с обоими, как и положено второму сыну. Ричард, впрочем, совсем никогда с ними не спорил.
«Они бы меня хоть разочек послушали», — подумал Адриан. Но где уж там…
— Бертран, ты на моём подоле стоишь! Слезь сейчас же! — возмущённо пискнула Бетани снизу.
— Да заткнись ты уже, — шикнул Адриан. — И так не слышно ничего…
Бетани, на удивление, послушалась. Адриан затаил дыхание. Родители сидели далеко от двери, только потому до сих пор не услыхали возни младших прямо за ней, но их собственный разговор Адриан мог разобрать.
— Я знаю, кто такие Сафларе, Мелинда, — спокойно говорил отец. — И, верь мне, знаю лучше твоего. Не пытайся смутить меня дворовыми сплетнями, которых ты набралась от челяди. К тому же я уже принял решение.
— Ещё бы! — сказала мать; она сидела неестественно прямо, стиснув подлокотники кресла напрягшимися пальцами, её голос звучал высоко и почти визгливо. — Ещё бы, ты всё решил! Ты всегда всё решаешь сам! Уж и не знаю, к чему тебе делать вид, будто тебя интересует мое мнение и мнение твоих наследников! О, если бы только был жив твой отец!..
— Мои наследники, — всё так же спокойно ответил лорд Эвентри, — присутствуют здесь потому, что нынешние наши заботы касаются их самым непосредственным образом.
— Мы сделаем, как вы скажете, отец, — поспешно заверил Ричард. Адриан скривился: даже не видя старшего брата, он как наяву видел его подобострастное лицо. Отец, должно быть, сейчас похлопал его по плечу или, по крайней мере, одарил ободряющим взглядом…
— Знаю, что сделаете, Ричард. Но вы оба взрослые мужчины, и я хочу, чтобы вы понимали причины, по которым ваша судьба решается именно так, а не иначе. Со временем вам придётся вершить судьбами собственных детей, и мне хотелось бы, чтобы, когда этот час пробьёт, вы помнили о сегодняшнем дне.
— Во имя Гилас, Ричард, перестань читать им нравоучения, — сварливо перебила мать. — Ты не для того их сюда позвал.
— Верно. Не для того. То, что я сейчас сказал, предназначалось больше для тебя, Мелинда.
Мать вспыхнула и села ещё ровнее. Её выпуклый лоб под ровной линией платка пошёл пятнами. Она открыла рот, намереваясь ответить, но потом, должно быть, поймала взгляд отца и опустила глаза.
Снизу тихонько чихнул Бертран. Бетани шикнула на него, Адриан вздрогнул, но не оторвался от щели.
— Итак, — после долгой паузы снова заговорил отец, — один из наших детей должен будет соединиться браком с представителем клана Сафларе. Нам предстоит решить, здесь и сейчас, кто это будет.
— Я готов, отец, — покорно сказал Ричард.
Бетани захихикала. Адриан отвесил ей подзатыльник, и в ответ она пнула его в голень так метко и с такой силой, что он едва не взвыл от боли.
— Благодарю тебя, сын мой, — сказал отец с теплотой, вынудившей Адриана забыть об ушибленной ноге и стиснуть зубы. — Я знал, что ты это скажешь. Но, боюсь, это не лучший случай для тебя засвидетельствовать свою преданность клану.
— Почему? — недоуменно спросил Ричард. Адриан снова без труда задействовал воображение: так и видел обиженно распахнутые голубые глаза и удивлённо отвисшую губу, что в сочетании с приподнятыми бровями придавало Ричарду-младшему сходство с замковым дурачком Олпортом.
— Сафларе, что бы ни думала о них ваша мать, — достойный и славный клан, спору нет. Однако, если говорить начистоту, — не самый древний и не самый сильный.
— К тому же они почитают Аравин, Мологову дочь, — снова вмешалась леди Мелинда. — Подумать только, мало того, что приспешники Молога, так ещё и торгаши!
— Мне всё равно, каких богов они чтят, — сказал отец так, что возмущённая речь матери немедля оборвалась. — Главное, чтобы их слова не расходились с делом.
— Ты бы и самому Мологу родных детей отдал, если бы только…
— Хватит, матушка! — резко поднявшись на ноги, сказал Анастас. — Довольно. Имейте, в конце концов, почтение.
Леди Мелинда шумно захлопнула рот. Бетани опять захихикала, а Бертран спросил:
— Бетани, почему Анастас кричит на матушку?
— Он не кричит, дурачок. Он всё верно сказал.
— А раз верно, то умолкни, наконец, женщина! — полушёпотом рявкнул на неё Адриан.
Бетани показала ему язык. Адриан быстро отвернулся от неё к своей щели, раздражённый, что пришлось отвлечься. Отец в это время успел что-то сказать, и мать теперь смотрела на свои ладони.
— Брак с Сафларе сейчас необходим, но это не главная карта, которую нам предстоит разыграть. Ты мой прямой наследник, Ричард, и спешить с твоей женитьбой было бы неосмотрительно… особенно теперь, перед жатвой, — многозначительно добавил он.
— А что жатва? — удивлённо спросила Бетани. Адриан не ответил, и она настойчиво подёргала его за рукав. — Адриан, при чём тут жатва?
Адриан отмахнулся. После жатвы и до осенних дождей — время больших сражений, но как такое объяснить сопливой девчонке?
— Вы правы, как всегда, отец, — беспечно сказал Анастас, хотя лорд Эвентри обращался вовсе не к нему. — Я всё понял и, разумеется, не пойду против вашей воли. Вы одно только скажите — она и впрямь так страшна, как говорят, или всё не столь плохо?
Адриан почувствовал, что ухмыляется. Ох уж этот Анастас! И как ему это даётся только — так говорить с родителями, так дерзко глядеть на них, широко расставив ноги и заткнув большие пальцы за пояс, и ни капельки их не гневить! Даже мать оттаяла, услышав его звонкий голос, звучавший громче и твёрже бормотания Ричарда-младшего. Да и немудрено — что бы Анастас ни делал, что бы ни говорил, им нельзя было не любоваться, даже в такую минуту, когда его отправляли под венец неизвестно с кем.
— Какие у меня послушные сыновья, — заметил лорд Эвентри, и в его голосе звучало беспредельное удовлетворение сим отрадным обстоятельством.
— Ой! — сказала Бетани. — Анастаса женят! Всё-таки будет свадьба, Адриан! Как думаешь, может, ещё до осени?
Адриан не удостоил её ответом, любуясь открытым лицом Анастаса, — и как ему ещё доставало сил так широко и искренне улыбаться?
— Но, увы, а может, и к счастью, на сей раз мне не придётся злоупотреблять вашей сыновней любовью, дети мои. Тебя, Анастас, я не отдам Сафларе по той же причине. Ты слишком хорош для них.
— Счастье ваше, что они не слышат, отец, — фыркнул Анастас, и лорд Эвентри рассмеялся, хотя Адриан на месте Анастаса за подобную вольность огрёб бы крепкий подзатыльник.
— Зачем же ты позвал их сюда? — спросила леди Мелинда, слегка изменившись в лице.
— И в самом деле, зачем? — подхватил Ричард, до которого, как обычно, туго доходило.
Отец заговорил, и из его голоса ушла даже тень смешинки.
— Затем, что, как я уже сказал, вы оба достаточно взрослые, чтобы принимать решения наравне со мной и вашей матерью. Тебе, Ричард, двадцать один, Анастасу в осенние праздники исполнится девятнадцать… — Он смолк. Потом заговорил чуть изменившимся голосом, хотя Адриан не смог понять причин такой перемены: — Вы уже совсем выросли, сыновья мои. И не как мои сыновья, но как мои первые советники, помогите решить, кого из моих детей мы этим летом отдадим клану Сафларе.
— Всё-таки будет свадьба! — сказала Бетани и беззвучно захлопала в ладоши.
Адриан вдруг почувствовал, как онемели прижатые к двери ладони. Он слабо пошевелил ими, будто проверяя, на месте ли они. Сердце ёкало в груди безо всякого повода… он ведь знал, что они решат, не сомневался, иначе и быть не могло.
— Ричард, скажешь что-нибудь? — после затянувшегося молчания спросил Анастас, отдавая дань старшинству. Тот, видимо, помотал головой, потому что Анастас кивнул и, облокотившись о подголовник материного кресла, небрежно сказал: — Тогда, с вашего позволения, отец, — Алисия, разумеется. Она как раз достигла брачного возраста, к тому же она старшая из ваших дочерей. Отдавая её Сафларе, вы тем самым свидетельствуете, сколь ценен этот дар.
— Алисия? — неуверенно переспросила мать. — Ей же едва пятнадцать исполнилось… к тому же… какое будущее ей там уготовано? Поклонники Аравин, подумать только! Моя девочка будет с утра до ночи вести счета и…
— Она будет вести счета вне зависимости от того, за кого выйдет замуж, — сухо ответил отец. — И я уже высказал своё мнение насчёт богов, Мелинда. Не вынуждай меня повторяться. Предложение Анастаса видится мне мудрым и резонным, но есть одно немаловажное обстоятельство. Вам известно, что у Кирка Сафларе было две жены. Четверо его старших отпрысков — от первой, и они уже достигли зрелого возраста. Дочери около двадцати, а неженатые сыновья подбираются к сорока…
Мать воздела руки, молчаливо взывая к заступничеству Милосердного Гвидре. Отец оставил её жест без внимания.
— Двое же младших, от второй жены, совсем юны. Сыну четырнадцать, дочери десять. Полагаю, вот на этих младших нам и стоит сосредоточиться. Всё же двадцатилетняя разница в возрасте — не то, на чём строятся счастливые браки. Если бы не было иных путей, разумеется, пришлось бы смириться…
— Четырнадцать и десять, — задумчиво проговорил Анастас. — Мальчику четырнадцать, да? На два года старше Бетани… Они будут идеальной парой.
— Что?! — вскрикнула Бетани.
Адриан круто развернулся и схватил её за тоненькие плечи, чувствуя, что не может удержать расплывающуюся по лицу ухмылку.
— Будет сва-адьба, — протянул он и, подхватив сестру, закружил её в шутовском танце. — Будем петь и плясать, когда Бетани пойдёт под венец нынче летом!
— Пусти, дурак! Не пойду я под венец! — вырываясь, пищала Бетани. Адриан хохотнул, поставил сестру на пол и, бесцеремонно оттолкнув её и Бертрана, встал на колени у замочной скважины. Отсюда было видно всех — и родителей, и братьев, и даже кусочек окна, сквозь которое лился розоватый вечерний свет.
Отец смеялся, хотя Адриан прослушал, что его так развеселило.
— Нет, нет и нет! — заявил он. — Ты, жестокосердая мать, и думать забудь! Моя маленькая принцесса Бетани выйдет замуж только за принца. Во всяком случае, не менее чем за Фосигана. Это моё последнее слово.
— Понятно? Я пойду за Фосигана, а не за какого-то там мальчишку, который поклоняется Аравин! — сказала Бетани и со злостью наступила Адриану на ногу. Но ему теперь было не до неё — он перестал дышать, перестал видеть что-либо, кроме фигур родных у камина, перестал слышать что-либо, кроме их голосов.
— Тогда остаются мальчики, — сказала мать.
— Младшей девочке Сафларе десять, — напомнил Анастас. — Чуть старше Бертрана, но всего три года разница…
— Вот ещё! — взвилась мать. — И думать о том не смей, Ричард, слышишь? Только посмей отдать моего любимого мальчика этим дрянным Сафларе, и ты узнаешь, что такое материнский гнев!
— Двадцать третий год на него любуюсь, и жив пока, — спокойно отозвался отец, но мать его не слушала.
— Нет и нет! Я уж скорее отдам Алисию за взрослого мужчину. Она всё-таки уже не маленькая, а Бертран совсем дитя! Да и где это видано, чтобы жена была старше мужа?!
— Тогда остаётся Адриан, — сказал Ричард.
И Адриан подумал: «Вот, вот, вот. За это я тебя и ненавижу. Ты, гадкий тупоголовый болван. Зачем надо было это говорить?!»
— В самом деле! — тут же поддакнула мать. — Адриан подходит превосходно. Ему четырнадцать, девочке Сафларе десять. Чудная разница в возрасте, прямо как у нас с тобой, Ричард.
— Да уж, воистину гарантия счастливого супружества, — с иронией заметил лорд Эвентри.
— Но ей только десять, — сказал Анастас. — Не рановато ли для брака?
— Пока ограничимся помолвкой. Этого будет достаточно. А поженить их можно будет, скажем, года через четыре. Адриан как раз достигнет совершеннолетия, и я отдам Сафларе не просто сына, но мужчину, способного взять в руки меч. Если же обстоятельства изменятся за эти четыре года, мы всегда сможем взять своё слово назад, — отец удовлетворённо кивнул, будто не сам изрёк эти чудовищные для Адриана слова, а услышал их от кого-то и был полностью согласен. — Да. Это мудрое решение. Единственно верное, возможно. Благодарю вас, дети мои, что помогли мне увидеть его.
— Не стоит благодарности, отец, — пробормотал дуралей Ричард, а Анастас добавил:
— Вопрос только, что на это скажет сам Адриан…
Отец поднял голову. Солнечные лучи путались в рыжих прядях его бороды, точно такой же, какая была у его отца, лорда Уильяма. Адриан вспомнил, как кололась и кусалась эта борода, когда дед вынимал его, совсем маленького, из колыбели и разглядывал, вскинув на могучих руках к самому небу, довольно щуря голубые, как у всех Эвентри, глаза. Вспомнил и вздохнул, потому что это было ужасно давно. Дед умер, когда Адриану едва исполнилось два года, а отец никогда на него так не смотрел.
Теперь он так не смотрел даже на Анастаса. Лучистая голубизна глаз превратилась в пронизывающий резкий свет, от которого хотелось отвести взгляд.
— Почему я должен думать об этом? — спросил лорд Эвентри своего второго сына, и беспечный, нахальный Анастас, смевший дерзить ему почти всегда, потупился.
— Простите, отец, я…
— Ты изъявил готовность беспрекословно исполнить мою волю ещё до того, как узнал о моих намерениях. Отчего же твой брат должен поступить иначе? Чем он хуже тебя или Ричарда?
— Он ещё мал, — сказал Анастас, не поднимая взгляда. — Он может не понимать…
— Ему придётся понять. Если не сейчас, то позже, так не всё ли равно, когда. Интересы клана прежде всего, затем воля богов, затем приказы конунга, затем личная корысть. Только так, сын мой.
— Я это знаю, отец.
— Я знаю, что ты знаешь, Анастас, — сказал лорд Эвентри, и в его голосе прозвучала нежность, смешанная с гордостью, которую он даже не пытался скрыть.
Повисло недолгое, почти торжественное молчание, во время которого сердце Адриана, кажется, остановилось вовсе. Потом леди Мелинда с явным облегчением всплеснула руками и сказала:
— Ну, слава Гилас и сыну её, Гвидре Милосердному! Стало быть, решено. Мой третий сын будет помолвлен этим летом. Ну, вот и начали мои птенчики разлетаться кто куда, — вздохнула она и смахнула набежавшую слезу.
— Да, — сказал лорд Эвентри. — Решено.
«Да. Решено», — набатным гулом отозвалось в голове Адриана. Он обнаружил, что Бетани со всей силы дёргает его за рукав.
— Ну что, ну что, ну что? — монотонно бубнила она, должно быть, уже давно, а он и не замечал. Адриан взглянул на неё, ужасно нелепую в своём длинном платье, из которого Алисия выросла совсем недавно, и такую похожую на мать… Особенно сейчас, когда её круглое смазливое личико расплылось в понимающей улыбке, мгновенно затем сменившись фальшивым сочувствием.
— О-о, — протянула Бетани. — О-о-о!
— Что случилось? — спросил Бертран, которому за ногами старшего брата и сестры уже давно ничего не было ни видно, ни слышно.
Бетани сгребла его в охапку и закружила по тесному коридору, в точности как Адриан кружил её несколько минут назад.
— Адриан женится! — запела она. — Женится-я… ля-ля-ля… Адриана женят!
— Заткнись, — сказал Адриан, сжимая кулаки.
— Женят, женят! На девчонке десяти лет! Ля-ля-ля… она тебе в самый раз по уму!
— Если ты не заткнёшься, я тебя ударю! — закричал Адриан.
Последствия, конечно, не заставили себя ждать.
— Что там за шум? Это дети? — раздался из-за двери голос отца, а за ним — звук отодвигаемого кресла и шагов. Адриан не двинулся с места, всё так же глядя в презрительно прищуренные глаза сестры. Бетани скорчила рожу, но не отступила, только прижала ничего не понимающего Бертрана крепче к себе.
— Ну и ударь, — сказала она. — И ударь. Был бы ты мужчина, давно научил бы болтливую женщину молчать.
Адриан стиснул кулак крепче. Шаги звучали уже у самой двери, и, когда она стала открываться, Адриан разжал кулак и рванулся к лестнице, не оборачиваясь на бегу. Он бросился вниз, перепрыгивая через две ступеньки, услышал, как Анастас сверху зовёт его по имени, но не становился. С чего бы? Анастас точно такой же предатель, как и они все. Точно такой же. И даже хуже!
Адриан на бегу распахнул дверь и вылетел во двор, едва не споткнувшись о курицу, с кудахтаньем выскочившую из-под его ног. Чуть не навернулся, вот позорище было бы! Это заставило его чуть сбавить шаг — ладно, будет ему, как маленькому, сломя голову нестись куда глаза глядят. Хотя именно это ему сейчас больше всего хотелось сделать.
На подворье было шумно — люди как раз возвращались с полей и пастбищ, ручейками стекаясь в главные ворота, через которые как раз прогнали замковое стадо овец, с блеяньем толпившихся теперь у загона. Сперва непонятно было, отчего затор, — а потом Адриан увидал, что путь овцам преградили паломники, которых впустили в замок утром и о которых он совсем забыл. Ещё днём ведь собирался потолкаться около них, повыспрашивать всякие интересности, но потом Бетани принесла на хвосте сплетню про собирающийся семейный совет, и такое, конечно, нельзя было пропустить. Лучше бы пропустил, право слово. Ну, подумаешь, решили его судьбу, обручили за глаза с какой-то глупой малявкой. Мог бы хоть в самый день помолвки узнать — всё равно его спрашивать никто не собирается!
— Не стойте тут, вашмилсть, и так тесно, — гаркнул старший пастух Петро, бесцеремонно отпихивая хозяйского сына в сторону. А что тут такого, подумаешь — благородного в сторону пихнуть! Овцы важнее, конечно, уж если не важнее благородного, то важнее Адриана — точно… ну, может, и не важнее. Скорее, такие же. Их ведь тоже никто не спрашивает, когда гонит в загон, или на случку, или на убой.
Адриан закусил нижнюю губу, предательски задрожавшую, и пустился бегом вокруг донжона, расталкивая овец, мимо колодца, всё равно куда, только бы подальше, подальше отсюда, ото всех…
…И, завернув за угол, с размаху влетел в крепкие объятия Анастаса.
— Пусти! Пусти, говорю! — кричал Адриан, вырываясь, хотя это и было совершенно бесполезно: брат был на сажень шире его в плечах, а макушка Адриана едва доставала ему до подбородка.
— Ш-ш, братишка, тише.
— Пусти, сказано! — снова крикнул тот, на сей раз с подозрительной дрожью в голосе, и тут же испуганно смолк. Ну да, разреветься посреди двора, на глазах у челяди — только этого ему для полного счастья сейчас и недоставало.
— Угомонился? Молодчина. Ну-ка пойдём, потолкуем, — сказал Анастас и, обхватив младшего брата рукой за плечи, повлёк в заднюю часть замкового двора, к кузнице. Там сейчас было совсем пусто — хозяйственные постройки громоздились у восточной стены, и только далёкая суматоха у главных ворот нарушала тишину — ну да ещё храп часового у калитки возле северной башни. В другое время Анастас сделал бы старику-стражнику нагоняй, но теперь было не до того.
— Сядем-ка, — сказал он и плюхнулся на поваленную колоду, громоздившуюся у стены. Адриан остался стоять, хмуро глядя в сторону. Теперь можно было убежать, но он понимал, что это выглядело бы глупо. Да оно с самого начала выглядело глупо, понял он наконец и залился краской. Анастас сделал вид, будто ничего не заметил, и повторил, с мягкостью, которой Адриан никогда в жизни не слышал ни от кого, кроме него:
— Ну садись, говорю.
Адриан сел на колоду на расстоянии вытянутой руки от брата, опёрся на расставленные колени. Ладно, пусть его, удирать он больше не станет, но и разговаривать тоже не собирается. Хочется ему сидеть, ну, они посидят, и только.
Анастас полез за пояс, вытащил трубку, не спеша набил и раскурил её. Затянулся, с видом крайнего блаженства пустив облачко дымка. Адриан покосился на него. Анастас чуть заметно подмигнул ему.
— Отец же не велит тебе смолить, — резко сказал Адриан.
— Не велит, — согласился Анастас. — Только он ведь меня сейчас не видит.
— А ты там знаешь, видит или нет?
— Ну, я надеюсь, что нет, — хохотнул Анастас и затянулся снова.
— Дай мне, — попросил Адриан. Он и раньше просил, каждый раз, когда заставал Анастаса с трубкой, и всегда получал одинаковый ответ.
— Даже не думай.
— Но почему? — выпрямившись, спросил Адриан. — Почему тебе можно, а мне нельзя?
«Ты мал ещё», — отвечал обычно на это Анастас и, смеясь, ерошил волосы Адриана в ответ на его глухое предупреждающее рычание, а дальше за этим обычно следовала хорошая дружеская драка. Но сейчас Анастас так не сказал, и не улыбнулся, только затянулся снова, еще глубже.
— Я не знаю, — сказал он наконец, и Адриан вскинулся от удивления.
— Что?
— Не знаю, почему. Правда. И сам тем же вопросом задаюсь… иногда. Почему мне можно то, чего нельзя тебе. Мне, и Ричарду, и Алисии. С младшими-то понятно — они младшие. А ты…
— А от меня избавиться только рады, — закончил Адриан, и тут же понял, что не стоило этого делать — нижняя челюсть снова задрожала, и ему пришлось крепко-крепко стиснуть зубы. Брат, к счастью, на него в тот миг не смотрел — или ловко притворялся, будто не смотрит.
— Не избавиться, нет… Просто с тебя больше спрос. И я не знаю, отчего.
— Так отца бы спросил, — с горечью сказал Адриан.
Анастас посмотрел на него. Очень ясно и открыто.
— Я не могу его о таком спросить, Адо. Прости.
А ещё он единственный среди всей родни называл Адриана уменьшительным именем. Мать так его называла, пока ему не исполнилось три года, а потом перестала. Почему — Адриан тоже не смог бы её спросить, поэтому он понял то, что сейчас сказал Анастас, и не стал настаивать.
— Десятилетняя малявка… ужас, — сказал Адриан и обречённо свесил голову. — Наверное, страшная… — неуверенно, с затаенной надеждой добавил он и похолодел, когда Анастас безжалостно качнул головой.
— Не знаю про малышку, но я видел старших Сафларе. Если она уродилась в них, то… крепись.
Адриан свесил голову ещё ниже, так, что болтавшиеся перед носом пряди его светло-русых волос утонули в пыли. Потом решительно сказал:
— Я сбегу.
Анастас бил его нечасто, вернее, почти никогда — дурашливые потасовки не в счёт, — потому Адриан обалдел вдвойне, кувырнувшись через голову и очутившись на земле с ноющим от затрещины затылком. Ещё через мгновение Анастас встал, сгрёб брата за шиворот и, хорошенько встряхнув, бесцеремонно усадил обратно на колоду. Адриан лишь отметил, ошалело хлопая глазами, что трубку Анастас всё это время сжимал в зубах.
— Сбегу, — процедил Анастас, садясь рядом, и снова повторил: — Сбегу. Я тебе дам — сбегу! Глупый щенок. Хочешь превратиться в шелудивого пса, предавшего собственный клан? Ты хоть понимаешь, что для Эвентри значит союз с Сафларе? Понимаешь или нет? Отвечай!
— Не понимаю, и понимать не… — проворчал Адриан и обиженно взвыл, заработав ещё одну затрещину, впрочем, уже не столь внушительную.
— Так я тебе объясню, — мрачно сказал Анастас, вытряхивая трубку. — Сафларе — свободные бонды. Всё время свары между Фосиганами и Одвеллами они сохраняли нейтралитет. А сейчас, впервые за двадцать пять лет, стали поглядывать в сторону прислужников Молога.
— Отец говорит, что боги не важны, — проворчал Адриан.
— Отец говорит это матери, чтобы сбить с неё спесь. На самом деле боги, которых мы чтим, — отражение того, чем мы стремимся быть. Одвеллы дурны не потому, что чтят Молога. Они чтят Молога, потому что они дурны.
— Сафларе поклоняются богине Аравин, а она — дочь Молога, — возразил Адриан. — Это то же самое, что…
— Вижу, занятия с местром Адуком не прошли для тебя даром, — насмешливо сказал Анастас. — Я в твои годы этого не знал.
— Ну а я знаю, — взъярился Адриан, — и…
— И, — спокойно перебил Анастас, — есть разница между тем, чтобы чтить хитроумную богиню дельцов, и тем, чтобы почитать своим духовным родичем самого Черноголового. Если Сафларе один раз встанут на этот путь, им не повернуть назад. С этой дороги возврата нет, понимаешь, Адо?
Адриан всё ещё не очень понимал, а потому счёл разумным промолчать. Анастас тоже смолк и какое-то время набивал трубку под выразительный храп стражника у стены. Возня у главных ворот вроде бы поутихла, где-то заунывно запела свирель.
— Поэтому, — как ни в чём не бывало заговорил Анастас, будто и не умолкал вовсе, — если сейчас Сафларе отдаст двести своих воинов Одвеллам, обратно он их уже не отзовёт. А двести воинов для Одвелла — это двести воинов против Фосигана.
— И против Эвентри, — сказал Адриан.
Анастас взглянул на него с одобрением и взъерошил ему волосы свободной рукой.
— Ты не дурак, братишка. Ты дураком никогда не был, в том даже наша дражайшая матушка тебя не смогла бы упрекнуть. Если мы сейчас не присоединим Сафларе, это может потом стоить нам дорого… очень дорого.
— Моя жизнь дешевле, дело ясное.
На удивление, Анастас не рассердился — но по его лицу скользнуло что-то такое, чему Адриан не мог подобрать описания.
— Да нет тут речи о твоей жизни, глупыш. Не злись! Ну, подумаешь, делов-то — женишься. Всё равно ведь придётся, рано или поздно. К тому же это не теперь, а только через четыре года. К тому времени обязательно начнётся война, так что пойдём в поход, может статься, аккурат после твоего венчания. Только и беды, брачную ночь отмучиться, — серьёзно закончил Анастас и с многозначительным видом выпустил дым.
Адриан почувствовал, как невольно заливается краской, и быстро отвернулся. Мальчишки из челяди, его сверстники, уже вовсю бегали ночами на сеновал, назначая там свидания дворовым девушкам. Но сам Адриан никогда ничего такого не делал, да и вообще не очень чётко представлял себе, чем они там, на сеновале, занимаются. Нет, конечно, он видел, как это делают кони и овцы или как петух топчет курицу, но только…
Он почувствовал ладонь брата на своём плече и вскинулся, будто его застали за чем-то непотребным.
— Тебе придётся это сделать, Адо. И мне придётся это принять, как и тебе. Я бы лицемерил, если б сказал, что мне так же нелегко. Но, веришь, брат, если бы я мог тебя заменить в этом союзе — я бы заменил. Только отец не позволит.
— Ага, — сказал Адриан.
Анастас внимательно посмотрел ему в глаза, не убирая руки с его плеча. Потом чуть заметно кивнул и, быстро и почти грубо притянув Адриана к себе, коротко поцеловал его в лоб. Потом оттолкнул.
— Беги. Да отцу на глаза не попадайся сегодня. Я с ним сам поговорю.
— А… ты? — бестолково спросил Адриан.
— А я ещё одну выкурю, если раньше не попалят, — лукаво сказал Анастас и легонько пнул Адриана сапогом по лодыжке. — Пшёл, кому сказано, мелюзга! Шастает тут…
— За мелюзгу бока намну, — мрачно пообещал Адриан. Анастас серьёзно кивнул, принимая вызов.
— Завтра. В полдень. У большого дуба, — зловеще сказал он, и Адриан вскинул руку с раскрытой ладонью, выявляя готовность к бою. Потом они обменялись ухмылками, не сговариваясь; им не нужно было сговариваться, да и говорить не нужно было — они всегда понимали друг друга без лишних слов. Адриан вдруг ужасно удивился тому, как они провели последние четверть часа. Говорили о чём-то, вроде бы даже важном… но он уже смутно помнил, что это было, знал только, что ошибался насчёт Анастаса: брат на его стороне.
Брат всегда на его стороне.
Проскользнуть в детскую спальню незамеченным, к сожалению, не получилось.
— Где ты шлялся? Младшие уже спят! И тебе давно пора быть в постели! — громко сказала Алисия, стискивая плечи Адриана тонкими, но на удивление крепкими руками. Сложением она удалась в мать — длинная и нескладная, словно цапля, уже сейчас выше Адриана почти на голову, но силы в ней было, пожалуй, как в Анастасе. Во всяком случае, Анастаса Адриан в удачный день ещё мог уложить на лопатки, но вырываться из хватки старшей сестрицы было делом совершенно безнадёжным. Поэтому он мог только огрызаться, что и сделал, злясь, что она поймала его:
— Так и не орала бы, раз младшие уже спят. Сама-то чего не спишь?
— Тебя караулю. Вот расскажу завтра матушке, что ты снова шлялся до ночи. С солдатами, небось?
— Не твоё дело, — бросил Адриан, дёргая плечом. Он действительно ошивался возле казарм, когда стало ясно, что утомлённые дорогой пилигримы расположились ко сну. Алисия сварливо вздохнула (Анастас говорил, что Бетани временами изображает матушку, но Алисии её даже изображать не надо — и так на одно лицо) и, выпустив Адриана, подтолкнула его в спину.
— Спать! — прошипела она, закрывая дверь детской. Было уже совсем темно, оставалось не более часа до полуночи. Ночь выдалась ясная, тусклый свет ущербной луны сочился в узкое окно. Зимой в это время суток тут стояла бы совсем непроглядная тьма, но на лето стёкла из окон вынули и ставни держали распахнутыми настежь. Адриан пошёл к своей кровати по белёсой полоске лунного света. Он спал у окна, и в жаркое время года это было здорово — постель продувалась и всегда оставалась приятно холодной. Осенью было похуже, что уж говорить о зиме. «Интересно, — подумал Адриан, — когда я женюсь на девчонке Сафларе, у меня будет своя большая кровать посреди комнаты, как сейчас у старших? А может, даже свои покои? Да почти наверняка! У меня ведь будет жена, а с женой положено уединяться…»
Зря он об этом подумал — немедля вспомнился весь сегодняшний вечер, гнусный и позорный, и настроение сразу испортилось. Адриан медленно стянул через голову рубашку, разглядывая замковый двор. Окно детской спальни выходило на северную стену — Адриан видел колоду, на которой недавно сидел с Анастасом. Теперь Анастаса там не было… и стоило Адриану так подумать, как он увидел старшего брата, крадущегося вдоль стены. Он сперва глазам своим не поверил: чтобы Анастас — и крался, будто вор?! Но это совершенно точно был он, Адриан хорошо видел в темноте, да и узнать Анастаса смог бы в любую видимость и с любого расстояния. Что же он там делает? Проверяет караул? Но зачем тогда красться?
Анастас остановился у задней калитки, возле которой, скрестив могучие руки на груди, дремал старый Гридо. Протянул руку, осторожно тронул стражника за плечо. Тот мигом вскинулся, завертел головой, но ту же успокоился. Похоже, нежданная проверка его ничуть не смутила… если только это и впрямь проверка, во что Адриану верилось всё меньше. Анастас что-то сказал, Гридо ответил ему и, поднявшись на ноги, воровато огляделся. Потом загремел ключами, отпирая ход. Адриан смотрел и глазам своим не верил. Старым ходом под стеной, заложенным вместе с самим замком Эвентри, не пользовались, долгое время он вообще был завален, и никто не знал, куда он прежде выводил. Но потом лорд Уильям велел его расчистить, однако место выхода хранилось в тайне, а сама калитка охранялась днём и ночью. Толстая стальная дверь, сквозь которую можно было пройти лишь одному человеку, и то согнувшись, отпиралась только изнутри, и проникнуть через неё в замок снаружи было немногим проще, чем через главные ворота, да и на время осады её заваливали кирпичом. Однако, судя по всему, Анастас вовсю пользовался этим ходом, причём явно не в первый раз…
Старый Гридо закрыл за Анастасом калитку и — Адриан вновь отказывался верить глазам — не стал её запирать! Снова огляделся, пробормотал что-то себе под нос и уселся на место, видимо, собираясь досмотреть прерванный сон.
Это на случай, если он уснёт слишком крепко, понял Адриан. Анастас вернётся в замок, видимо, до рассвета, и тем же ходом, каким ушёл. Иначе…
— Адриан! Что ты встал там столбом? Ложись наконец! — громким шепотом сказала Алисия. Бертран обиженно застонал во сне, заворочался, шурша сползающим одеялом. Адриан забрался в постель, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок, рассечённый надвое косой линией лунного света. Алисия ещё какое-то время ворочалась в своей постели у двери. Потом всё стихло, только сверчок стрекотал под половицей.
— Адриан, — прошептала Бетани.
Адриан напрягся. Потом усилием воли заставил мышцы расслабиться.
— Адриан, ты спишь?
— Чего тебе? — так же шепотом спросил он.
— Ты отца видел?
— Нет.
— А я видела. Он меня отругал за тебя, за то, что ты подслушивал!
— Ты и сама подслушивала.
— Ну да, а если б ты не заорал, никто нас и не заметил бы. А так я за нас двоих огребла, ещё и за то, что Бертрана привели.
— Это ты Бертрана привела! — свирепея, сказал Адриан. — Я говорил, чтоб ты его оставила, да и сама не совалась!
— Опять ты кричишь, — возмутилась Бетани. Алисия застонала во сне. Бетани умолкла, потом продолжила, снова шепотом: — Нам вечно влетает из-за тебя.
Адриан отвернулся к стене и ткнулся в неё лбом, подтянув колени к груди. Право слово, а может, и не так плохо, что скоро всё поменяется. Для девчонки Сафларе он будет мужем… А муж — это хозяин. Это господин, которого надо слушаться. И пусть только попробует пойти ему наперекор…
— А Анастас тебя ещё и защищал, — продолжала тихо возмущаться Бетани. — Не надо, говорит, батюшка, я сам с ним поговорю! Ну, поговорил?
Адриан промолчал.
— Поговорил? — настойчиво повторила Бетани.
— Ну, — буркнул Адриан.
— И что?
— Ничего. Не твоего ума дело. Спи давай, шмакодявка, деткам давно пора баиньки.
— Поня-ятно, — протянула Бетани.
Адриан резко повернулся в постели. Бетани лежала на спине, раскинув руки поверх одеяла. Её светлые кудряшки разметались по подушке.
— Что тебе понятно?
— Понятно, что из тебя делают дурачка, а тебе нипочём. А впрочем, и впрямь нипочём, ты дурак и есть…
— Что ты несёшь?
— Анастас тебе говорил что-то про честь клана, верно? Про сыновний долг… ну, вроде как то, о чём ему батюшка тогда толковал? Да?
— И что? — напряжённо спросил Адриан.
— А то! Ты думаешь — почему он батюшке так покорен? Потому что знает, что батюшка поперёк его блага не пойдёт. Видишь, как — у Сафларе двадцатилетняя дочь, но Анастаса на ней женить не стали. Вот ему-то легко болтать о сыновнем долге. Женюсь, батюшка, никак не пойду против вашей воли, — передразнила Бетани недавние слова Анастаса — и, вынужден был признать Адриан, передразнила очень похоже. — А сам-то сейчас, небось, побежал на свидание к своей девице в деревню!
— Какой девице?
— А ты не знал? У него зазноба в долине. Доярка какая-нибудь или пастушка, — Бетани хихикнула и картинно вздохнула, будто в восхищении. — Подумай, Адриан, как романтично! Он знает, что отец никогда не позволит такого союза, и тайно встречается с ней за замковой стеной по ночам… Делает, словом, что ему хочется. Такому-то легко рассуждать о сыновнем долге, когда его выполнять другим!
Адриан перевернулся на спину. Его руки, лежавшие поверх одеяла, были сжаты в кулаки. Он попробовал разжать их и понял, что не может.
— Вот такой он, твой ненаглядный Анастас, — с обидой сказала Бетани. — Ну да ничего, рано или поздно батюшка всё узнает, и тогда ему влетит тоже, как мне сегодня за тебя. Вечно одна беда от вас, мальчишек!
«Тебе придётся принять это, Адриан, — сказал Анастас сегодня, глядя на него печально и серьёзно. — И тебе, и мне, хотя, видит Гилас, если бы я мог занять твоё место…»
— Адриан, ты что, уснул?
«…я бы сделал это. Принял бы мученичество во имя блага клана, пожертвовал бы собой… если бы да кабы. А пока что я бегаю к своей девчонке за замковую стену, а ты, дурак этакий, слушай мои побасёнки да лапшу покрепче на уши мотай!»
— Я не вру, — сказал Бетани и, насупившись, отвернулась, положив конец ночной болтовне.
И что хуже всего — Адриан знал, что она не врёт.
Он лежал в постели очень долго, совсем потеряв счёт времени. Месяц ушёл за угол донжона, темень стала почти непроглядной. Замок Эвентри погрузился в сон.
И тогда Адриан встал, оделся, беззвучно прокрался мимо постелей сестёр и брата и выскользнул за дверь.
В караулке внизу коптил факел, и Адриан прополз мимо неё на четвереньках, не дыша и молясь, чтобы никто из лениво переговаривавшихся стражников не бросил взгляд в его сторону. Пронесло — и через минуту, пробравшись мимо спавших вповалку на сеновале пилигримов, он уже был на заднем дворе.
Оставалось самое сложное. Хотя это с какой стороны посмотреть — то, что ему удалось зайти так далеко, уже ободряло и придавало решимости.
Старый Гридо храпел на табурете у железной калитки, свесив голову на плечо. Спал он, однако, чутко — это Адриан знал. Связка с ключами болталась у него на поясе. Адриан остановился и сглотнул. Ему стало холодно — ночной ветерок выдался свежим и пробирал до самых костей. Поёжившись, Адриан медленно наклонился вперёд, вытягивая руку с растопыренными пальцами и стараясь, чтобы она не дрожала. Он видел, как это делал Анастас пару лет назад, когда они как-то своровали у дремлющей поварихи ключ от кладовой, где были до праздника Эоху заперты всякие сладости. Адриан тогда стоял в дверях, следя, чтобы никто не прошёл, а Анастас встал от поварихи в полушаге и вытянул руку, унимая дрожь. И Адриан смотрел на его пальцы как завороженный, будто в мире ничего лучше и прекраснее тогда не было, смотрел, как рука Анастаса медленно, очень медленно касается связки, потом подцепляет её и тянет вверх, очень медленно, очень спокойно, без единого звука…
Они тогда пробрались в кладовую и налопались орехов и цукатов так, что у Адриана три дня болел живот. Анастаса, как старшего и зачинщика, посадили на хлеб и воду, но он всё равно был ужасно доволен — не столько марципаном, сколько удавшейся вылазкой.
Адриан почувствовал, что улыбается, думая об этом, и вдруг застыл, испугавшись того, что собирается сделать. Но потом он вспомнил, как Анастас пускал табачный дымок в небо, щурясь и серьёзно глядя Адриану в глаза, а потом — как он крался вдоль замковой стены, как хлопал старого Гридо по плечу… И страх ушёл, будто не бывало, сменившись холодной решимостью.
Рука Адриана медленно, очень медленно коснулась связки, потом подцепила её и потянула вверх, очень медленно, очень спокойно, без единого звука.
Гридо продолжал храпеть, свесив в голову на плечо.
Адриан крепко стиснул ключ от задней калитки в кулаке. Несколько мгновений стоял пошатываясь, сам не веря в успех. Потом быстро сунул связку за пояс сзади, одёрнул сверху рубаху и со всей силы врезал Гридо по плечу.
— Не спать, солдат! — рявкнул он, подражая Анастасу. — Что за вольность на посту?!
Стражник мгновенно распахнул глаза, такие ясные и внимательные, что Адриана бросило в дрожь. А ну как он и не спал вовсе, а только притворялся, чтобы поймать вора?! Но через мгновение на морщинистом лице старика проступило смущение.
— А, милорд Адриан, ваша милость, — пробормотал он, неуклюже выпрямляясь. — Виноват, задремал.
— Тебя в караулку кличут. Бегом, — сурово сказал Адриан, сведя брови.
— Да ну? — удивился старик. — И вашу милость с постели подняли, чтоб мне доложить?
Адриан открыл рот и закрыл его, так и не придумав, что ответить. Он почувствовал, что краснеет, и, хотя в темноте это наверняка не было заметно, уже счёл свою затею полностью проваленной, когда старый Гридо с кряхтеньем поднялся и стиснул плечо Адриана, но не грубо, а сочувственно.
— Эх, малыш, вовсе не жалеют они тебя, — тихо сказал он и зашагал в сторону караулки, чуть припадая на правую ногу — засидел, должно быть, со сна. Адриан смотрел ему вслед несколько бесконечно долгих мгновений, которые не имел права терять. Едва старик растаял во тьме, он опомнился и бросился к калитке.
Она действительно была не заперта.
За дверью, подавшейся с тугим скрипом, зияла тьма. Из тьмы тянуло сквозняком, слабо, чуть ощутимо, — ход, видимо, шёл почти прямо и выводил на поверхность совсем недалеко от крепостного рва. Адриан прикрыл глаза, и воображение нарисовало ему склон холма, блестевший огоньками пастушьих костров, и деревеньку Дубовая Роща, темневшую далеко внизу. Где-то там, на сеновале, его старший любимый брат Анастас сейчас тратит свою жизнь так, как ему хочется, а не как будет лучше для клана. Он там, ему тепло и весело в девичьих объятиях. А Адриан — здесь. Возле двери, стоит и смотрит во тьму.
Адриан шагнул назад и захлопнул калитку.
Железо громыхнуло о косяк. Адриан подскочил на месте и заозирался, будто загнанный заяц. Но страх его был безоснователен — вроде бы никто ничего не услышал. Поспешно вставив ключ со связки в замок, Адриан непослушными руками повернул его, что удалось не сразу. Потом запер второй замок, что висел пониже первого. Воровато обернулся, не спешит ли обратно старый Гридо, обнаруживший обман — и ткнулся взглядом в стену кузницы, неподалёку от которой они с Анастасом сидели вечером.
Хорошенько прицелившись, Адриан замахнулся и забросил связку с ключами от задней калитки на крышу кузницы. Ключи тяжело громыхнули о деревянный настил, потарахтели и, зацепившись за что-то, застряли.
Не оглядываясь, Адриан стремглав кинулся вокруг замка, против направления, в котором отправил Гридо. Он представил, что будет, когда старик, обнаружив обман, вернётся на свой пост, потом обнаружит, что дверь заперта, хватится ключей — и крепко зажмурился на бегу.
Пробираясь в спальню, он дышал глубоко и часто, так шумно, что его должны были слышать на весь замок, но почему-то не слышали. Сердце колотилось в груди, как бешеное, а губы растягивала нелепая, дикая ухмылка, хотя на душе было совсем не радостно. Так-то, Анастас! Попробуй-ка, вернувшись до рассвета, проникнуть в замок привычным путём — а вот тебе! Нет уж, милый братец, будь любезен утром постучаться в главные ворота, как все честные люди, а после объясни батюшке своё ночное отсутствие. Не только другим за тебя отдуваться, хватит уже…
«Да я и прежде за него не отдувался, — подумал Адриан. — Вот хотя бы с теми цукатами — наказали ведь его, а не меня, потому что я тогда заболел… И за драки наши тоже всегда отчитывали Анастаса, как старшего… а меня не ругали даже. Меня просто не замечали. Что есть Адриан, что нет его. И даже теперь, на вчерашнем совете, — вспомнили в самую последнюю очередь, и то лишь для того, чтобы продать с потрохами клану Сафларе. Других-то жалко, а Адриана не жалко. Верно старик Гридо сказал сейчас — не жалеют они меня, вовсе не жалеют!
Адриан остановился и привалился спиной к стене. Яростно вцепился зубами в костяшки пальцев. Вспомнил звук, с которым ключи оседали по крыше кузницы, цепляя деревянные заусеницы на досках. Потом выпрямился и твёрдым шагом пошёл в детскую.
У двери он замер, вслушиваясь. Кажется, его отлучку никто не заметил — иначе Алисия уже подняла бы крик. Адриан удовлетворённо улыбнулся и протянул руку к двери.
Но прежде чем он успел коснуться её, кто-то схватил его сзади.
«Всё-таки поймали! — в панике подумал Адриан, и ещё в его голове успели мелькнуть имена возможных соглядатаев: Алисия, Ричард, отец… а может, даже Анастас. — Что если он вернулся прежде, чем я запер калитку? Хотя нет, Анастас никогда не схватил бы меня так грубо… и так больно… что ты делаешь, пусти…»
— Что ты де… — начал Адриан, и чья-то большая, жёсткая от мозолей ладонь накрыла и зажала его рот.
Адриан глухо вскрикнул и тут же ощутил, как земля уходит из-под ног. Он попытался отодрать эту жуткую руку от своего лица, но тут другая рука схватила и сдавила его горло.
«Что это такое, я же ничего не сделал, я не знаю ничего, Анастас!» — подумал Адриан Эвентри и впервые в жизни потерял сознание.
И ведь ничего бы не было, если бы не Бетани и если бы он не спустился закрыть калитку.
2
Адриану нечасто доводилось ездить на телегах — а точнее, только один раз, давным-давно, когда он ещё был совсем мелкий и всюду бегал за Анастасом, а Анастаса тянуло в долину, к деревням, хотя отец запрещал ему ошиваться там без дела. Однажды кто-то из крестьян, возвращавшийся с сенокоса, прокатил их на телеге, и они всю дорогу кувыркались в душистом сене. Анастаса потом, конечно, наказали, и если он после и бегал тайком в деревню, то без Адриана, один.
Он и сейчас был в деревне, без Адриана, а Адриан трясся на раздолбанной колымаге, катившейся по грунтовой дороге вниз с холма. Только душистого сена на сей раз тут не было.
Адриан приподнялся на руках, стараясь удержать равновесие, что было мудрёно в широко раскачивавшейся телеге. У него болела голова, першило в горле, на зубах скрипела какая-то дрянь. Адриан сплюнул несколько раз, прямо себе под руки, но легче не стало. В глазах немного прояснилось, но толку от этого было чуть — луна зашла за облака, и кругом стояла непроглядная ночь. Деревья пролеска неслись мимо, и только стучали колёса телеги да всхрапывала лошадь.
Адриан сел и тут же повалился набок от резкого рывка. Под руками захрустело, в ладонь впилось что-то острое. Адриан отдёрнул руку и уставился на неё, растерянно моргая. Руки, да и весь он, перемазались чем-то сухим и чёрным, этим же сухим и чёрным было усыпано днище телеги.
«Да это же уголь. Я в телеге угольщика!» — понял Адриан, и с этой мыслью память вернулась к нему окончательно. Он вспомнил схватившие его жуткие руки, ещё более жуткую темноту, в которую они его швырнули, и снова ощутил панику. Обернувшись, Адриан посмотрел на козлы телеги, где сидел возничий, и увидел тёмную согнутую фигуру, взмахивавшую кнутом. Если этот человек и услышал возню Адриана, то виду не подал, но хотелось верить, что он всё ещё считает, будто его пленник лежит без сознания. Затравленно озираясь, Адриан отполз к краю телеги. Задний бортик был поднят, и беззвучно соскользнуть с досок никак бы не получилось — оставалось только прыгать. Телега шла ходко, и когда Адриан заглянул за борт, от беспорядочного мельтешения внизу камней и палых веток ему стало страшно. Но оставаться в набитой углём телеге за спиной у жуткого человека было ещё страшнее, поэтому Адриан приподнялся, схватился обеими руками за бортик и, набрав полную грудь воздуха, как перед нырком, подался вперёд…
Падая, он слышал дикое ржание резко осаженной лошади, заглушившее его собственный короткий вопль. Телега дёрнулась, отчасти погасив инерцию падения, но Адриан всё равно кубарем прокатился несколько ярдов и ткнулся головой в траву. Несколько мгновений он просто лежал, не смея пошевелиться и гадая, что именно и в скольких местах себе сломал, однако когда крепкие руки вздёрнули его на ноги, завопил скорее от неожиданности и страха, чем от боли.
— Ты цел? Цел, спрашиваю? — повторял отрывистый мужской голос, но Адриан только шумно всхлипывал без слёз, совершенно одурев от страха.
— Цел или нет?! — крикнул ему человек в самое ухо, и Адриан, подскочив, выдохнул:
— Цел!
После чего немедленно получил тяжёлую, будто удар обухом, оплеуху.
— Малолетний идиот! Ты в своём ли уме? Если бы я лошадь не осадил, ты костей бы не собрал! — рявкнул мужчина и с силой толкнул Адриана в загривок. — А ну пошёл! Залезай обратно. Живо!
Адриан глубоко вздохнул, тряхнув гудящей головой — рука у незнакомца была тяжёлая. Самого человека Адриан по-прежнему не мог разглядеть — только видел, что он одет в какое-то рубище, какое обычно носят самые бедные простолюдины, и вымазан в саже с головы до пят.
Адриан сделал шаг, потом другой. Незнакомец по-прежнему стоял у него за спиной, но больше не держал. Тогда, понимая, что другой возможности может и не быть, Адриан сорвался с места, как заяц, и кинулся в заросли у дороги.
— Молог, сжалься! — выдохнул мужчина, и уже через несколько мгновений сгрёб Адриана в охапку, прижимая беглеца к земле и предоставляя сколько угодно барахтаться в его медвежьих объятьях.
— Слушай, парень, угомонись, — сказал угольщик. — Я не хочу быть грубым, но если мне придётся тебя связать, ты сам будешь виноват.
Адриан испуганно застыл, перестав вырываться. Так дело не пойдёт: пока он свободен в движениях, у него ещё остаётся шанс удрать, а связанным далеко не убежишь.
— Вот и молодец. Вставай, мы и так потратили время попусту. Впрочем, раз уж ты очнулся… вставай, говорю.
Мужчина встал сам и протянул Адриану руку. Тот поднялся, даже не поглядев на неё.
— Кто ты такой? Чего тебе от меня надо?
— Будет ещё время наболтаться. Иди пока сюда. Вот, — мужчина пошарил на дне телеги и швырнул Адриану какое-то тряпьё, которое тот машинально поймал на лету. — Надевай это, и поживей.
— Это что такое? Что за рваньё?..
— Верно, это рваньё, которое ты сейчас наденешь. Третий раз я повторять не стану.
Что-то в голосе незнакомца полностью убедило Адриана, что это чистая правда. Неохотно стягивая с себя одежду, в которой выскочил в замковый двор, Адриан подумал, что этот угольщик говорит явно не как угольщик, да и руки у него явно привыкли скорее вышибать дух из врагов, чем раздавать затрещины нерадивым подмастерьям. И в плечах — косая сажень… ещё увидеть бы лицо, но как раз лица было совершенно не разглядеть.
Натянув штаны и рубаху, которые дал ему незнакомец, Адриан неуклюже прижал к груди свою дорогую и до недавнего чистую одежду.
— Дай сюда, — сказал мужчина и отобрал у него одежду прежде, чем Адриан успел что-то сказать. — Пригодится ещё. Теперь полезай в телегу.
Адриан подчинился.
— Теперь, — уже немного мягче продолжал незнакомец, — набери полную пригоршню угля и как следует им умойся. И не забудь поваляться по дну — ты должен выглядеть так, будто всю жизнь провёл в угольной яме.
— Зачем? — хмуро спросил Адриан.
— Затем, что мы с тобой угольщики, а угольщикам положено быть чернее Молога, — почти весело ответил мужчина и запрыгнул на козлы. — Ещё четверть часа, и доедем до деревни, а там встанем в каком-нибудь сарае на ночлег, что тоже положено честным угольщикам. — Он закинул хлыст на плечо и, полуобернувшись, добавил: — И помни, о чём я тебя предупреждал. Без фокусов, иначе пожалеешь.
Телега, тяжело качнувшись, тронулась. Адриан какое-то время сидел, упираясь ступнями в бортик. Грубая ткань рубахи царапала тело, хотелось пить, головная боль не отпускала. Просто так сбежать не удастся, это он уже понял: этот мужик сильнее и быстрее его, и шутить явно не расположен, несмотря на затеянный маскарад. Что это маскарад, Адриан уже не сомневался: очевидно, неизвестный похититель был угольщиком не больше, чем его пленник. За десять минут он по меньшей мере трижды помянул Молога, имени которого суеверные крестьяне чураются больше, чем прокажённых… Ох, не к добру всё это, совсем не к добру.
Однако пока что приходилось смириться и выжидать. Исчезновение Адриана наверняка будет замечено с рассветом: Алисия, как всегда, проснётся первой и сразу поднимет крик. Отец снарядит погоню, и на вечерней заре голова загадочного мологопоклонника украсит пику на замковой стене. Лорд Эвентри мог любить Адриана меньше, чем других своих детей, но коль дошло до такого оскорбления, как похищение члена семьи прямо из родового замка, месть его будет скорой и страшной. Стало быть, только и оставалось, что стиснуть зубы и притвориться паинькой, хотя за недавнюю оплеуху Адриан затаил на неизвестного глухую и глубокую обиду.
Вспомнив о последнем приказе незнакомца, Адриан зачерпнул ладонями уголь, немного подержал, перебирая крошащуюся массу, потом поднёс к лицу и осторожно размазал. Ощущение было странное: сажа сыпалась, а там, где оседала, стягивала кожу, но тут Адриан представил, будто матушка видит, что он сейчас сделал — и ему заложило уши от её воображаемого крика. Немедленно по рукам бы надавала и потащила к колодцу мыться — где это видано, чтобы сын благородного лорда в саже вымазался, будто угольщик какой! Адриан обнаружил, что улыбается, да не просто так, а во весь рот. Вот дурак, а? Его похитили и заставили обрядиться чучелом, а он и рад. Нет, рад он не был, конечно… и сердце гулко билось в груди, но уже не от страха (когда Адриан обдумал ситуацию и её единственно возможное разрешение, страх ушёл, как не бывало), а от восторга — того самого, который обуревал его, когда они с Анастасом удирали из дому и дурачились на воле, упиваясь недолгими минутами сладостной вседозволенности…
Движимый необъяснимым порывом, Адриан нагнулся, зачерпнул ещё сажи, погуще, с самого дна, и обильно вымазал ею лицо и руки. Потом кинулся на доски и несколько раз перевернулся со спины на живот, стараясь как следует извозить одежду. Наконец, усевшись снова у бортика телеги, вздохнул, и в этом вздохе прозвучало такое глубокое удовлетворение, что, кажется, даже неизвестный мужчина его почуял — и обернулся.
— Сделал? Молодец. Я знал, что ты не дурак.
Хорошее настроение моментально улетучилось.
— Не дурак, ага, — угрюмо отозвался Адриан. — Я это вчера уже слышал.
— Правда? — спросил мужчина, и голос его звучал странно — словно он улыбался. — И от кого же?
— Ни от кого, — буркнул Адриан и нахмурился, услышав то, что показалось ему приглушённым смехом.
— Почти приехали. Потерпи немного, — сказал мужчина, хотя Адриан вовсе не торопился никуда приезжать.
— А тебя как звать-то? — спросил он, хотя, конечно, это не имело никакого значения. Он ждал в ответ окрика или грубости, но, к его изумлению, мужчина ответил:
— Том.
— Том? И всё?
— И всё.
— Так только простолюдинов зовут.
— Я и есть простолюдин.
— Ага, ври больше, — проворчал Адриан, поворачиваясь на бок. В телеге, если приноровиться, можно было устроиться почти уютно. Адриан понял, что хочет спать, но тут человек, назвавшийся Томом, произнёс негромкое «тпр-ру», и телега остановилась.
— Просыпайся, Тобо. Кстати, тебя теперь зовут Тобо.
— С чего бы это?! — возмутился Адриан.
— Потому что я так сказал. Вылезай, живо. И возьми кобылу под уздцы.
Они подъехали к одной из деревенек, прилепившихся к подножию холма, на котором стоял замок Эвентри. Всего таких деревенек было четыре. Адриан бывал только в одной, и то — давным-давно, так что узнать его тут никто бы не смог, даже если бы он не вымазался в саже с ног до головы… Если бы только именно в этой деревне жила подружка Анастаса! От этой мысли Адриан встрепенулся. Вот бы столкнуться сейчас с братом! А уж он-то узнает Адриана, хоть бы тот по уши в болоте сидел, в этом Адриан был уверен.
Анастас-то узнает — но что, если Анастаса здесь нет? Впервые Адриану пришло в голову, что в идее испачкать лицо сажей не было ничего такого уж хорошего. Он запоздало провёл рукой по щеке, но, поскольку руки тоже были выпачканы, только размазал грязь.
— Пошли. И, что бы ни случилось, ни звука. Говорить буду я, — спокойно сказал Том и, взяв лошадь под уздцы с другой стороны, зашагал вперёд.
Деревня, как и замок, давно лежала в глубоком сне, но над дверями корчмы ещё горел огонёк, высветляя вывеску в виде пенящейся пивной кружки. Внутри тоже светилось, хотя и неярко, а из-за прикрытой двери доносились хмельные голоса припозднившихся посетителей.
Том постучал в дверь кулаком — коротко и твёрдо, как человек, привыкший, чтобы ему отпирали по первому требованию. И впрямь отперли, хотя в фигуре и лице хозяина, окинувшего гостей неодобрительным взглядом, было крайне мало дружелюбия.
— Доброй ночи, мил человек, — сказал Том; он старался говорить простецки, но всё равно выговаривал слова слишком чётко, не сглатывая окончания на манер крестьянского говора, а будто героическую песню читая. — Не надо ли угля?
— После полуночи-то? Нет, не надо, — сказал корчмарь. — Завтра приходи.
— Нам с сыном переночевать негде. Мы с Шементонской ярмарки едем, до ночи не успели к деревне добраться. У меня ещё восемь мер угля осталась от продажи — не выменяешь ли на хлеб и кров?
— Что, не удалась ярмарка? — усмехнулся корчмарь.
— Бывало и лучше, — мрачно сказал Том, будто и впрямь был более всего на свете озабочен сбытом угля. — Так что, по рукам?
— В сарае ночуйте. Тут вы мне перепачкаете всё, жена ор подымет. А в сарае как раз кожевник с подмастерьем спят, тоже с ярмарки. Вони от них… ну, словом, разберётесь там как-то. Лошадку твою я распрягу. Сарай вон там.
— Спасибо, мил человек, — душевно поблагодарил Том и взял Адриана за руку. Тот как раз озирался, выглядывая пути к бегству. Как назло, всей деревеньки было — шесть дворов, ни закоулков тебе, ни поворотов, а пролесок остался позади, да и месяц снова вышел из-за облака, озарив долину, — никак не спрячешься. Том направился к сараю, и Адриан пошёл за ним, кривясь от боли в будто тисками сжатой руке.
Дверь сарая отворилась со скрипом, в нос ударило сильной смесью прелого сена, кож и немытых тел.
— Потеснитесь, люди добрые, принимайте соседей, — сказал Том, проталкивая Адриана внутрь.
— Ну, чего ещё? — заворчал кто-то из темноты, затем раздалось движение и шуршание — сонные кожевники передвигались в глубь сарая.
— Устраивайся, Тобо, я у двери лягу, — сказал Том.
«Ну ещё бы, — подумал Адриан, опускаясь на пол. — Небось и ногами её подопрёшь, чтоб я за ночь не сбежал». Тяжело вздохнув, он упал в сено, не столь мягкое, как хотелось бы, но почему-то даже более удобное, чем его постель в замке. «Ну и приключеньице на мою голову», — и он нервно хохотнул в кулак.
В тот же миг тяжёлая рука легла ему на плечо. Не схватила, просто сдавила на несколько мгновений, будто предупреждая. А, да, он же сказал: ни звука.
«Это та самая рука, которая меня чуть не задушила в замке всего несколько часов назад, — понял Адриан. — И пощёчину мне влепила ни за что ни про что — будь здоров. Да о чём я вообще думаю?! Этот тип через слово поминает Молога! А ну как он меня на жертвоприношение какое везёт? Отведёт завтра в пролесок да прирежет там втихую — с него станется!»
Адриан лежал, окаменев от этих запоздалых, но таких очевидных предположений. Том, ошибочно истолковав его поведение и приняв неподвижность за проявление покорности, убрал руку. В полумраке Адриан видел его силуэт, ворочавшийся у двери.
Дверь открылась, в сарай полыхнуло светом от подвесного фонаря, который держал в руке корчмарь.
— Эй, угольщик, я хлеба вам принёс. Тебе и сыну твоему.
— Спасибо, мил человек… — сказал Том, и тут Адриан, сев, закричал:
— Я ему не сын! Я Адриан Эвентри, сын вашего лорда! Этот человек меня похитил, помогите мне, доложите отцу!
Он ждал чего угодно — новой пощёчины, удара, даже смерти. Но вместо того чтобы ударить его или ещё как-то выдать, что преступление раскрыто, Том обернулся, мягко обхватил Адриана за плечи и, притянув к себе, потрепал по голове.
— Простите, добрые люди, — сказал он корчмарю и окончательно проснувшимся от всей этой суматохи кожевникам. — Я говорить не хотел, чтоб вас не тревожить. Мой сын, он… придурковат немного. Дурачок, одним словом. Вообще-то он тихий, молчит больше, но если устанет, начинает порой городить ахинею. А так он безобидный.
— Да вижу, — сказал корчмарь, неодобрительно глядя на Адриана, онемевшего от такой невообразимой наглости, а ещё больше — от невозмутимости похитителя. — Только ты, угольщик, смотри, как бы он в присутствии благородных чего-нить такого не ляпнул. Так недолго и языка лишиться дурачку твоему.
Он бросил Тому две хлебные краюхи и, не дожидаясь ответа, захлопнул дверь.
— Во даёт пацан! — сказал кожевник — не тот, что бранился, а другой, молодым голосом. — Сын ихнего лорда! И часто он себя лордёнышем воображает?
— Когда лордёнышем, — печально отозвался Том, — когда бродячим актёром… бывает, что и котом. В минувшем месяце и вовсе прикинулся скамьёй и целый день простоял на четвереньках. Пришлось поливать холодной водой, чтоб опомнился.
— Ишь ты, — удивлённо сказал молодой кожевник. — Да, видать, совсем сдвинутый.
— А всё ж сын родной. Единственный. Жена и остальные детки от оспы померли, один он крохой остался.
— Поганая штука — жизнь, — проговорил старший кожевник. Похоже, он, как и его подмастерье, безоговорочно поверил в эту дикую историю.
— Не без того, — согласился Том.
Адриан сидел, всё ещё не в силах двинуться с места. Он знал, конечно, что в таком виде его никто не узнает, но и подумать не мог, что ему не поверят, если он позовёт на помощь.
— Держи, Тобо, — сказал Том.
Адриан посмотрел на него и увидел только глаза, блестевшие в темноте. А потом — руку, протягивавшую краюху белого хлеба.
Конечно, Адриан не собирался спать — хотел только выждать, пока уснёт его сторож. А чтобы притупить бдительность Тома, свернулся в сене, прикидываясь спящим, закрыл глаза для пущей убедительности… и всего через несколько мгновений удивлённо распахнул их и тут же зажмурил от яркого света, пробивавшегося сквозь прорехи в стенах сарая.
— Поднимайся, Тобо, сколько дрыхнуть-то можно? Дорога не ждёт.
Адриан сел, ошалело моргая и пытаясь понять, что происходит. А ничего, собственно, не происходило — всего лишь наступило утро, и Том стоял над ним, загораживая собой вход. Адриан вскинул голову и попытался всмотреться ему в лицо, но ничего толком не смог разглядеть со сна.
— Сам пойдёшь или волоком? — спокойно спросил Том.
Адриан мигом вскочил на ноги. Том коротко усмехнулся и, отвернувшись, вышел из сарая. Адриан, поколебавшись, пошёл за ним. Кожевник со своим подмастерьем всё ещё храпели в сене.
Телега уже стояла во дворе, запряжённая всё той же кобылой, лениво дожёвывавшей овёс. Том пошёл прямо к ней, будто нимало не заботясь, что происходит у него за спиной. Адриан быстро осмотрелся, всё ещё не теряя надежды сбежать. Стояло раннее утро, совсем раннее — Том поднял его до первых петухов. Народу вокруг не было — в корчме хозяин стучал посудой, но на его помощь рассчитывать было нечего. Через час или два крестьяне пойдут на сенокос, и кто-то из них узнает в мальчишке-угольщике сына здешнего лорда… да только к тому времени, когда они проснутся, Том уже увезёт его отсюда.
— Вот мошенник! — вполголоса ругнулся Том, и Адриан вздрогнул от страха, всерьёз поверив, что этот человек читает его мысли. — Весь уголь выгреб подчистую, только что доски не выскоблил. Эх, ладно… Полезай, Тобо.
Адриан в отчаянии бросил через плечо последний взгляд — и остановился.
Между сараем и колодцем, у самой дороги, на земле сидел человек. С виду он был взрослый мужчина, почти пожилой, но вёл себя подобно пятилетнему ребёнку: с радостным урчанием копошился в луже у дороги, вытаскивая из неё пригоршни грязи и обильно расплёскивая её вокруг себя. Всякий раз, когда грязевая лепёшка шлёпалась оземь, человек причмокивал толстыми губами и торжествующе встряхивал головой.
— Олпорт, — прошептал Адриан. — Олпорт!
Он теперь знал, что это за деревня: Том увозил его на восток, туда, где быстрее всего оканчивались границы отцовских владений. Дурачок Олпорт жил как раз в деревеньке, лежавшей на восточном склоне холма. Когда-то давно он был шутом лорда Уильяма, деда Адриана, но у лорда Ричарда чувство юмора было не совсем таким, как у его отца, и со смертью лорда Уильяма он отослал дурака в деревню. Иногда Олпорт забредал в замок, и отец не велел его гнать, потому что Милосердный Гвидре одинаково милосерден ко всем, включая сирых и убогих. Алисия всегда визжала, когда видела увальня Олпорта, тащившегося по двору, Бетани выпрашивала для него на кухне кусок свежего пирога, а Адриан бросал в дурачка яблоки и смеялся, глядя, как тот неуклюже ползает, пытаясь подобрать их, пока они не раскатились.
Только теперь Адриану вовсе не хотелось смеяться.
— Олпорт! — закричал он и кинулся к дурачку. Тот будто не слышал и очнулся только когда Адриан схватил его за плечи и силой развернул к себе, умоляюще глядя в удивлённые равнодушные глаза. — Олпорт, это я! Это я, Адриан! Ты меня узнаёшь?
— А-адриан, — недоуменно протянул дурачок, будто впервые пытаясь произнести какое-то мудрёное слово.
— Да, Адриан! Я давал тебе яблоки! Помнишь?
— Я-яблоки, — повторил Олпорт и принялся жевать нижнюю губу.
— Яблоки! — чуть не плача, крикнул Адриан и снова встряхнул дурачка. Плешивая голова Олпорта медленно запрокинулась на бок, а глаза округлились и стали похожи на плошки.
— Яблоки, — почти осмысленно повторил он. — Я помню яблоки. Ты кидал яблоки в грязь, а я собирал яблоки.
— Да, да! Ты помнишь?!
— Помню. Ты гадкий, — сказал Олпорт и толкнул Адриана в грудь.
Адриан повалился на спину, одинаково потрясённый что словами дурачка, что его поступком, что его невероятной силой. Но прежде чем он успел подняться, небо над головой потемнело от нависшей над ним фигуры человека, лица которого Адриан снова не смог разглядеть.
— Что ты делаешь, Тобо? Оставь его, — сказал Том и, рывком поставив Адриана на ноги, потащил к телеге. Адриан понуро шёл за ним, не смея даже оглянуться на Олпорта, вновь весело заплескавшегося в своей луже.
— Эй, что там такое? — спросил от дверей вышедший на шум корчмарь; руки у него были по локоть в пивной пене, и он отирал их передником на ходу. — Ты, угольщик! Убери-ка своего дурака от нашего. Подерутся ещё.
— Прости, мил человек, — виновато сказал Том и подзатыльником намекнул Адриану, что пора забираться в телегу. — Мы уезжаем уже. Спасибо за хлеб и кров.
— Давно пора, — проворчал корчмарь, не ответив на благодарность, и скрылся в доме.
Адриан забрался в телегу, мучительно чувствуя неправильность происходящего и в то же время слишком страшась безжалостной невозмутимости своего похитителя. Том занял место возницы и пустил лошадь рысью. Телега двинулась с места. Адриан не отрываясь смотрел на дурачка, даже не вздрогнувшего, когда телега тяжело ухнула колесом в лужу и окатила его тучей грязных брызг, — он только поднял голову и встретился с Адрианом глазами.
— А-адриан, — негромко сказал дурачок, провожая его пустым взглядом. — А-адриан.
Том стегнул кобылу, и она пошла быстрее.
Адриан смотрел на деревеньку, пока та не скрылась из виду. Потом развернулся в телеге и, сев на голый дощатый пол, обхватил плечи руками.
— Чего тебе всё-таки надо от меня? — спросил он, стараясь, чтобы голос прозвучал не очень жалобно.
Том не ответил, лишь снова стегнул кобылу. Телега покатилась веселее. Уже рассвело, лучи просыпавшегося солнца золотили некошеные поля, тянувшиеся по обе стороны от дороги. Отсюда до границы владений Эвентри всего-то семь или восемь лиг. День пути, а то и меньше. Если отец не поторопится, то может и не успеть перехватить их до ночи…
Внезапно Адриана взяло зло. Всё это было так глупо! Он мог сбежать в любую минуту, но всё равно этого не делал, слишком боясь и слишком рассчитывая на своевременную помощь отца. А что если подобрать камень побольше да засадить этому ублюдку по башке? Пока от замка недалеко ещё отъехали, обратно и пешком добежать можно… Только чтобы подобрать камень, надо снова прыгать с телеги, а что после этого будет, Адриан уже знал и повторять не стремился.
— Почему ты выставил меня дураком? — спросил он. Это было ещё глупее, чем прыгать с телеги, но ему хотелось выпустить злость. — Как ты вообще посмел вести себя со мной так при смердах моего собственного отца?! Они же теперь никогда не будут меня уважать!
Том не ответил, только снова взмахнул хлыстом, коротко свистнувшим над его головой. Теперь, при свете дня, Адриан видел, что у него тёмные волосы, неприлично отросшие и неаккуратно подстриженные. Надо же, выговор как у благородного, а за собой последить не в состоянии. Эта мысль отчего-то взъярила Адриана ещё сильнее.
— Ну, отвечай! — зло крикнул он и рванулся было к Тому, чтобы дёрнуть его за рукав, но тут телега покачнулась, и Адриан полетел на дно, больно стукнувшись спиной о доски.
Том сунул хлыст за спину и рассеянно почесал рукояткой лопатку.
— Я назвал тебя дураком, потому что ты дурак, — равнодушно отозвался он, и его тон потряс Адриана больше, чем само оскорбление. Он не только верил в собственные слова — больше того, он, кажется, ничуть не злился на Адриана за его давешнюю выходку, словно это была не более чем шалость непослушного ребёнка.
— Ты сам сказал вчера, что я не дурак! — возмущённо выпалил Адриан.
— Я ошибся. Дурак и есть. Был бы умный, не стал бы ор поднимать, зная наперёд, что это ничего не даст. Неужели ты и впрямь думал, что я этого не предвидел?
Адриан открыл рот и закрыл его, так ничего и не сказав.
— Так что это не я тебя выставил дураком, — добавил Том, постукивая хлыстом по плечу. — Ты с этим превосходно справился сам. А я тебе только подыграл.
Адриан стиснул зубы. «Что ж, Том, выдающий себя за простолюдина и меж тем поминающий Молога… Этого я тебе тоже не забуду. Счёт открыт, и ты его, похоже, вознамерился с каждым днём пополнять — что ж, когда придёт время платить, не жалуйся».
— Молодец, — одобрительно сказал Том, и Адриан уронил челюсть от изумления.
— Чего?! Кто молодец?!
— Ты молодец, что не огрызаешься. Не всегда стоит оставлять последнее слово за собой. Особенно если не можешь вовремя придумать достойный ответ.
Произнося эти слова, он обернулся и впервые посмотрел Адриану в лицо. И не просто посмотрел — с улыбкой.
Он был не старый ещё, хотя и годился Адриану в отцы. И, без сомнения, благородный — черты лица были правильными, гармоничными. Мать Адриана такую внешность называла «породистой»; отец, впрочем, добавлял, что породы бывают у лошадей и собак, а у человека — происхождение. Адриан не знал, и впрямь ли этот человек происходил от Молога, но поверить в это было не очень сложно: тёмные волосы и глаза, до черноты загоревшая кожа — ну точно и впрямь дьявол, только-только вылезший из печки. Только вот улыбался дьявол вовсе не так, как в понимании Адриана было положено улыбаться нечистой силе: от этой улыбки не было ни страшно, ни муторно. И даже хотелось улыбнуться в ответ, чего Адриан, впрочем, не сделал.
А ещё через мгновение он забыл и про странные слова Тома, и про его внешний вид, и даже про Молога, потому что внезапная догадка озарила его и вытеснила все остальные мысли.
— Постой, я знаю тебя! Я тебя видел вчера в замке. Ты пилигрим, ты пришёл с пилигримами!
— Вот, это уже точнее, — усмехнулся Том, сверкнув зубами, неестественно белыми на фоне его вымазанного сажей лица. — Я и правда пришёл с пилигримами, хотя сам не пилигрим. Был бы ты всегда таким наблюдательным, может, вышел бы толк.
— Так ты проник к нам в замок специально, чтобы… чтобы меня…
— Чтобы тебя забрать, — просто закончил Том. — Да. Специально для этого.
— Зачем? Ну… ну зачем?
Адриан задал этот вопрос с тоской в голосе, не особенно надеясь на ответ — но получил его. Том посмотрел на него блестящим, внимательным, ужасно странным взглядом. И сказал:
— Тебе нельзя было там оставаться.
Беда стряслась ещё до полудня. Вернее, стряслась-то она гораздо раньше, просто до полудня Адриан о ней не знал. Не знал и Том, и отцовские крестьяне, приютившие на ночь двух заезжих угольщиков. Слух проник за толщу замковых стен только с рассветом и понёсся по холму вниз, разносимый солнечными лучами и людским страхом.
Группа крестьян бросила работу в поле и шумно переговаривалась, стоя у дороги. При виде их сердце в груди Адриана заколотилось: может, отец уже успел разослать весть о его исчезновении, может…
— Эй, вы! — крикнул один из крестьян ещё до того, как телега успела с ними поравняться. — Часом не из замка теперь будете?
— Не из замка, мил человек, — с прежней невозмутимостью отозвался Том — даже вплотную приблизившаяся опасность не вынудила его потерять самообладание. — Мимо ехали, в деревне вашей заночевали.
— А не слыхали, правду про замок говорят? — спросил другой крестьянин.
Они ждали ответа в явном волнении, лица у всех были напряжённые и испуганные. Том придержал кобылу, и сердце в груди Адриана снова ёкнуло, но на сей раз — от невыносимо дурного предчувствия, так что захотелось вцепиться Тому в плечи и закричать: «Нет, не останавливайся! Давай скорее уедем отсюда!»
— А что — замок? — обеспокоенно спросил Том.
— Да, говорят, там ночью стряслось что-то, — нервно теребя в кулаке шапку, ответил первый крестьянин. — Вроде напал кто-то, то ли лорд соседний, то ли ещё какой бес. И лорда нашего, говорят, и леди повязали, и детишек их — всех как есть! Как знать теперь, солдат не пришлют?..
— Так не слышно же нечего, — возразил кто-то. — Всю ночь спокойно простояли, в замке вроде тоже всё тихо было…
— Ну да, говорят, там даже тревоги поднять не успели. Предатель в стены пробрался, видать, и ворота открыл…
— Что ж теперь будет? — в панике спросил кто-то, и тут все заговорили разом, крича и перебивая друг друга. Кто-то, махнув рукой, кинулся к деревне — собирать скарб и бежать в лес, пока время есть. Войны дорого обходятся крестьянам, порой дороже, чем их господам — особенно накануне жатвы.
На угольщиков внимания никто больше не обращал. Том воспользовался этим и стегнул кобылу.
— О чём он болтал? — наконец опомнившись от невероятного известия, выдавил Адриан.
— Молчи, — не оборачиваясь, ответил Том, продолжая стегать кобылу. Телега теперь не катилась, а скакала, взлетая на колдобинах и грузно валясь в ямы. Адриан вцепился обеими руками в бортики, пытаясь удержать равновесие, и обернулся на голубой силуэт замка Эвентри, высившийся на холме. Солнечные лучи беспечно блестели на башенных кровлях, и Адриан много отдал бы, чтобы узнать, что сейчас происходит под ними. Мысли у него путались.
Новость разносилась быстрее, чем телега катилась по долине. Поля пустели, крестьяне бросали работу и бежали к своим домам, кричали женщины, плакали ничего не понимающие дети. «Это неправда, — думал Адриан, — стойте, перестаньте кричать, ведь это же всё неправда, вас обманули! Не могло там ничего случиться, Эвентри уже почти восемьдесят лет не осаждался, не бывает такого, просто не может быть…»
Кнут свистел в воздухе, безжалостно охаживая взмыленные бока лошади. Том больше не останавливался и не оборачивался, только стегал и стегал кобылу, неуклонно правя к лесу, темневшему там, где кончались поля. За этим лесом проходила граница фьева Эвентри, дальше были земли лорда Кордариола, а сразу за ним — фьев Сафларе. Они придут на помощь отцу, если и впрямь стряслась беда, попытался уверить себя Адриан. Обязательно придут, они ведь собирались заключить с нами союз, и теперь…
И теперь не заключат, с холодным ужасом понял он. Отец не раз говорил, что запланированный, но не скреплённый союз ещё более шаток, чем одна только мысль о союзе. Сафларе пока что не давали им никакого слова. А значит, на их землях Адриан будет чужим… и хорошо если не врагом.
Хотя какая теперь-то разница… Сейчас у него есть только один враг — тот, что хлещет кнутом над его головой, — и у Адриана было чувство, будто это его бока вздрагивают под ударами, а не бока лошади. Избавиться от него как можно скорее, сбежать и…
И что, Адриан Эвентри? Дальше-то — что?
До леса они добрались, никем не остановленные. Проехав немного вглубь, так, что дорога и поле скрылись из виду, Том наконец позволил измученной кобыле остановиться и спрыгнул с козел.
— Выбирайся, парень, и поживее. Надо найти ручей, — отрывисто сказал он и, сняв с оглобли прицепленный к ней узел, сграбастал Адриана за плечо. Тот понял, что на сей раз вывернуться тоже не удастся, и подчинился.
Ручей нашёлся быстро. Том остановился, выпустил Адриана и, сев на корточки, опустил грязные руки по локоть в стремительно бежавшую воду.
— Слушай, Адриан, — сказал он, глядя перед собой. — Я знаю, что был груб с тобой. Но сейчас всё изменилось. Подумай головой. Тебе теперь просто некуда бежать.
Адриан замер, чувствуя невыносимое желание ответить — но любой ответ, приходивший в голову, казался глупым и нелепым. Кричать, что всё враньё, что он вернётся домой, что отец не допустит… Глупости, глупости и страх, опутавший грудь и горло при виде крестьян, в панике бегущих с полей. Нет, они не стали бы бежать просто так. Адриан знал, что не стали бы.
Том тем временем вымыл руки и, окунув голову в ручей, наскоро сполоснул волосы. Потом скинул лохмотья угольщика, и Адриан понял, что не ошибся — у этого человека была фигура воина, а не смерда. Ничуть не смущаясь наготы, Том развернул свой узел и вынул оттуда серый свёрток, который оказался балахоном пилигрима — тем самым, благодаря которому Том вчера слился с толпой паломников.
— Это ты, — сказал Адриан. — Ты впустил этих… этих… Ты открыл им ворота!
Мускулистые руки скользнули в рукава, подол балахона упал в траву.
— Не мели ерунды, — сухо сказал Том и вдруг замер, пристально глядя на Адриана. Адриан увидел, что этот человек моложе, чем ему сперва показалось. И лицо, как, впрочем, и волосы, были у него не такими уж тёмными. Но только легче от этого открытия не стало: в обращённом на Адриана взгляде было лишь подозрение, отрешённое раздумье и отстранённая неприязнь.
— Я сейчас уйду, — сказал Том. — Попытаюсь пробраться в деревню и узнать, что к чему. Надо бы тебя связать… но не стану. Если сбежишь, значит, ты в самом деле дурак, а дуракам — туда и дорога.
Адриан только потрясённо смотрел на него. Том подобрал с земли свои нищенские лохмотья и сунул их Адриану.
— Выстирай. Своё тоже. И вымойся как следует. Потом жди меня. Если не вернусь к ночи, беги через лес на юг. К Кордариолу не иди — если замок и вправду захвачен, могут перекрыть заставы.
Сказав это, он повернулся и зашагал туда, где они оставили телегу, а Адриан стоял, глядя ему вслед широко раскрытыми глазами. Вот она, долгожданная возможность побега — только её и ждал! Словно заворожённый, Адриан следил, как Том распрягает кобылу и, тихо приговаривая, уводит её за собой из леса. Потом он скрылся, и Адриан заметил, до чего же в лесу тихо — только высоко над головой тревожно шумели ветви деревьев.
Адриан увидел, что всё ещё сжимает тряпьё угольщика, и разжал руки. Груда рванья упала наземь. Он какое-то время смотрел на неё, пытаясь понять, что ему делать дальше.
Потом с отвращением стащил собственную замызганную одежду и полез в ручей.
Вода, казалось, смысла с него страх и оторопь. Вымывшись, Адриан неумело выстирал своё и Томово тряпьё. Раньше ему никогда не приходилось стирать, он только видел, как это делают дворовые женщины, макая одежду в пенящуюся воду, и пытался делать так же, но грязь почему-то не сходила, будто намертво въевшись в ткань. Бросив мокрое тряпьё на берегу, Адриан вернулся к телеге и вытащил оттуда узел со своей собственной одеждой — той, в которой он был, когда Том напал на него в замке. Она была сухой и чистой, и он переоделся в неё, но удовлетворения не почувствовал — почему-то казалось, словно он надел чужое, да ещё и к тому же неуместное платье.
Теперь надо было что-то делать, но что, Адриан по-прежнему не знал.
Надеясь, что решение найдётся само собой, он пробрался к кромке леса — и замер, будто громом поражённый.
В долине густо клубился дым. Не очень близко, за полями, но и не далеко. Адриан не сразу сообразил, что горит та самая деревушка, в которой они с Томом провели эту ночь. Дым низко стелился и полз над полем вдоль подножия холма, а над ним всё так же безмятежно сиял на солнце, сверкая крышами, замок Эвентри.
Адриан сполз на землю и сел, рассеянно обрывая пучками траву. Суматохи отсюда не было видно, да и бегущих прочь крестьян не наблюдалось — поле будто вымерло, сиротливо пестря брошенными шапками и мотыгами. Что бы ни стряслось там, в деревне, кто-то в ней пристально следил за порядком… и вряд ли это были солдаты отца.
«Если Том пошёл туда, он не вернётся», — подумал Адриан и не ощутил ни малейшей радости. Напротив, с этой мыслью к нему вернулся страх.
Он неожиданно понял, то боится остаться один.
«Может, Анастас уцелел? — в отчаянии подумал он. — Я же запер калитку, он не мог ночью вернуться в замок. Может, поискать его?..»
Стоило поискать, конечно. Да только десять против одного, что гораздо раньше, чем Анастаса, он встретит тех, кто поджёг деревню в долине и захватил его семью. И тогда уже не будет иметь никакого значения, был ли Анастас в замке во время нападения.
Тихо застонав, Адриан подтянул колени к груди и обхватил их руками, пытаясь унять дрожь. В этой-то позе и застал его, вернувшись, Том. Он шёл пешком, кобылы с ним больше не было. Адриана он заметил ещё с дороги, и на мгновение его хмурое лицо просветлело, но тут же снова стало угрюмым и жёстким.
При его приближении Адриан вскочил, не зная толком, что сделать или сказать. Том избавил его от этого затруднения, в качестве приветствия одарив очередной оплеухой.
— Какого дьявола торчишь на виду? Совсем мозги растерял? — рявкнул он и пинками погнал Адриана обратно в лес. Оказавшись на безопасном от дороги расстоянии, критически осмотрел его с ног до головы и влепил ещё одну затрещину.
— Я велел тебе выстирать твоё тряпьё, а не выряжаться в это!
— Я выстирал! — поспешно выпалил Адриан, боясь огрести ещё один подзатыльник. — Но оно же мокрое…
— Так голышом бы подождал, пока высохнет, не девка всё-таки, — сказал Том. Его лицо было мрачным, как маска Молога на картинках в старых книгах, и в то же время — странно и страшно неподвижным, словно его свело судорогой. При одном взгляде на него Адриана пробирал озноб; он уже отчаянно жалел, что не сбежал, пока была возможность.
Том взял его за локоть и грубо поволок к ручью. Там швырнул на землю и заставил переодеться в одежду угольщика, успевшую высохнуть на полуденном солнце — теперь, впрочем, это была не одежда угольщика, а обычные нищенские обноски. Рубашку и штаны Адриана Том снова скрутил в узел, вместе со своими.
— Пойдём через лес. И быстро пойдём — может, заставу выставить ещё не успели.
— Что там? — сдавленно спросил Адриан. — Я видел дым…
— А Молога ты там часом не разглядел? — резко спросил Том и снова ударил его — совершенно непонятно, за что. Адриан упал в траву, задыхаясь и сплёвывая кровь, сочившуюся из разбитой губы. — Твоя семья захвачена кланом Индабиран. Их люди были в толпе пилигримов и ночью открыли ворота. Индабираны вырезали гарнизон замка и взяли в заложники всех Эвентри, которых нашли. Двоих недосчитались, и один из этих двоих ты. И если бы ты вчера ночью держал рот на замке, солдаты Индабирана не подпалили бы деревню, в которой тебя видели! Они сожгли каждый дом, думая, что крестьяне тебя укрывают — ты понимаешь это или нет?! Полсотни человек лишились всего, что у них было, только из-за того, что ты не соизволил подумать своей дурной башкой, прежде чем орать!
Он кричал, и от этого крика смолкли птицы в тревожно шумящих ветвях. В конце своей речи Том снова ударил Адриана, и в этом ударе было столько злости, будто это его родные лишились крова и его семья была в плену у предателей, и всё это по вине Адриана.
И странное дело — Адриану было больно и страшно, но он чувствовал, что каким-то непостижимым образом Том прав. Что дело действительно в нём, и ему не надо было вчера кричать. Всё равно из этого не вышло никакого проку.
Том остановился, тяжело дыша, будто после быстрого бега. Адриан стоял в траве на четвереньках, капала кровь из рассечённой губы. Широко расставленные ноги Тома упирались в землю перед его лицом.
— Кто второй? — хрипло спросил Адриан.
— Что? — после короткой паузы переспросил Том.
— Ты сказал, что Индабираны… что они недосчитались двоих.
— Не знаю, — хмуро ответил Том. Он всё так же стоял над Адрианом, но злость из него ушла. Адриан неловко сел в траву и утёр рот.
— Наверное, это Анастас, — сказал он. — Я ему… ну… в общем, я думаю, его не было в замке этой ночью. Из-за меня.
Кровь всё ещё сочилась, и Адриан, повернувшись к ручью, промыл рану. Тягучая ленточка крови выгнулась в бурном потоке и тут же унеслась вниз по течению. Адриан прикоснулся к губе онемевшими от холодной воды пальцами и скривился от боли.
Внезапно он понял, что молчание затянулось, и обернулся.
Том стоял, всё так же широко расставив ноги, и неотрывно глядел на него. И от этого взгляда Адриану стало так худо, как не было ни разу за прошедшие двенадцать часов, бесспорно, самые ужасные в его недолгой, сытой, счастливой жизни.
«Ты меня теперь убьёшь?» — хотел спросить он, но вместо этого с языка сорвались совсем другие слова, нелепые и смешные:
— Ты знал, что всё так случится? Ты поэтому увёз меня из замка?
Том не засмеялся. Только покачал головой, медленно и тяжело, словно движения давались ему с трудом.
— Нет. Я не знал. А если бы знал… — он умолк и решительно протянул Адриану руку.
И на сей раз, вставая, Адриан опёрся на неё.
— Дальше пойдём как пилигримы, — проговорил Том; его давешняя невозмутимость наконец вернулась к нему. — Если остановят, запомни: я — паломник, ты — мой подопечный, сирота, которого я веду на послушничество в храм Гвидре в Скортиаре.
— Это правда? — тихо спросил Адриан.
— Нет, не бойся. В монастырь я тебя не запроторю.
— Да я не о том… Что я сирота. Это… это правда?
Том отвёл глаза.
— Я не знаю наверняка, мальчик. Не было возможности расспрашивать. Я слышал только обрывки разговоров крестьян и индабиранских солдат. По ним выходит, что твои родители живы, но отец тяжело ранен. Твой брат Ричард, по слухам, погиб. Что с остальными, я не знаю.
Он не добавил слов соболезнования, и это было хорошо. Адриан деревянно кивнул, жалея, что спросил. «Ричард погиб», — подумал он и ничего не почувствовал. А если бы он узнал, что погиб Анастас, то тоже ничего бы не ощутил?.. От этой мысли ему захотелось закричать, или сдавить голову руками и рухнуть в траву, или что угодно, только бы куда-нибудь деться от чёрного ужаса, охватившего его, когда он представил Анастаса холодным, неживым…
К счастью, именно в этот миг Том крепко взял его за плечо и сжал, будто всё ещё предупреждая попытку к бегству. Конечно, он не стремился помочь, он вообще не понял, что происходит с Адрианом, да ему и не было до этого никакого дела, — но Адриан всё равно ощутил вспышку благодарности за то, что его вырвали из кошмара.
— Идём. Проси, чтобы нас благословил в пути Милосердный Гвидре. Это ведь ему поклоняется твой клан? Надо же, какая удача, выбрать себе бога странников…
— А кому поклоняется твой клан? Уж не Мологу ли?
— У меня нет клана, мальчик, — коротко и криво улыбнувшись, ответил Том. — А про Молога я тебе как-нибудь потом расскажу. Времени у нас впереди более чем достаточно.
3
У неё было лицо Камиллы. Кожа Камиллы, её волосы, её руки, даже одежда цветов её клана. Только глаза выдавали, кто она на самом деле, но он не смотрел ей в глаза.
— Что ты делаешь? — спросила она. — Что ты делаешь, Том?
Конечно, она не была Камиллой, даже тенью или духом Камиллы. Камилла умерла намного раньше, чем он стал зваться Томом. А она называла его этим именем, потому что знала, что именно так он в мыслях называет сам себя. Это действовало.
— Я знаю, что я делаю, — как всегда спокойно ответил он.
— Неужели? Прежде ты не мог похвалиться этим.
— Оставь меня в покое, — устало попросил Том, хотя и знал, что она не уйдёт.
Лже-Камилла наклонила голову, качнув вплетённым в волосы жёлтым цветком. Наверное, Том должен был помнить, как сам срывал и вплетал его, и оттого расчувствоваться, но он ничего не помнил. Всё это было так давно.
— Меня волнуешь не ты, Том…
— Я знаю.
— …меня волнует мальчик.
— Я знаю.
— Ты сказал ему?
— Нет.
— Почему? Почему нет? Чего ты ждёшь?
— Ещё рано.
Она тяжело вздохнула. Её всегда раздражало его упрямство.
— Пойми, ты не можешь просто держать его здесь силой.
— Почему не могу? Вполне могу.
— Ты погубишь его. Так же, как себя, и как…
— Может, ты права, — сказал он задумчиво. — Может, так было бы лучше. Если бы он умер. Я подумаю над этим.
Она тихонько рассмеялась смехом Камиллы… должно быть, её смехом — Том плохо его помнил, а может, не помнил вовсе и ему только казалось, что и смех у неё должен быть, как у Камиллы, раз уж она украла всё остальное.
— Ты не станешь думать об этом, Том. Ты давно решил и теперь делаешь.
— Спасибо. Польщён твоей верой в мою целеустремлённость.
— Я не говорила, что это хорошо.
— Ну тогда не взыщи.
Она протянула руку и провела ладонью по его щеке. Том почувствовал это прикосновение, будто оно случилось наяву.
— Ты так зарос, — сказала она со смесью ласки и неодобрения. — И загорел. И отощал. Я тебя помнила совсем другим. Что ты сделал с собой?
— Ничего такого, о чём стоило бы жалеть, — ответил он и убрал её руку от своего лица. Она не стала смеяться, но улыбнулась улыбкой Камиллы.
— Адриан не позволит тебе, — сказала она, и это звучало как обещание. — Он не захочет стоять в стороне. Он не такой, как ты.
— Дай-то бог, чтоб не такой, — сказал Том и проснулся.
Он сел в постели и с остервенением потёр лицо ладонями, хотя в этом и не было нужды. Ему казалось, что он не спал вовсе, и почти наверняка так оно и было: только что состоявшийся разговор не был сном, хотя и явью тоже не был. Выбросив его из головы, Том откинул волчью шкуру, служившую ему одеялом в становившиеся прохладными ночи, и встал. Сквозь дверные щели слабо пробивалось утреннее солнце.
Том сделал шаг и легонько пнул босой ногой Адриана, свернувшегося калачиком на полу.
— Просыпайся, парень. День на дворе.
Адриан заныл сквозь сон и скрутился улиткой, натягивая шкуру на голову. Он никак не мог привыкнуть вставать так рано, хотя прошёл уже почти месяц, и каждый день его приходилось поднимать пинками. Том традиционно дал ему несколько минут, как раз успев сходить во двор, справить с ночи нужду и умыться, а потом вернулся и сорвал с Адриана одеяло.
— Подъём, солдат! — заорал он, и начался обычный сельский день, ничем не отличавшийся от предыдущих.
Они пришли сюда три недели назад, аккурат перед летним праздником Эоху. На сам праздник, правда, не попали — после того, что случилось в деревне Эвентри, Том всячески ограждал Адриана от встреч с людьми. Тот, конечно, думал, что дело в обычных предосторожностях, которые предпринимает разбойник, чтоб утаить украденное; Том его не разуверял. Они успели проскочить на земли Сафларе прежде, чем Индабиран добрался до границы; дальше пошли землями Флейнов, клана, по счастью, также остававшегося нейтральным в сваре между главенствующими родами Бертана. Том продал лошадь в Дубовой Роще человеку, стремившемуся как можно скорее убраться оттуда, и таким образом выручил гораздо больше денег, чем мог рассчитывать — почти втрое больше, чем он отдал за кобылу и телегу несколькими днями ранее, когда затеял вылазку в замок Эвентри. Тогда на это ушли все его деньги; теперь он почти роскошествовал и мог не бояться случайных застав и сборщиков податей. Земли Флейнов они прошли без происшествий — Адриан даже не пытался бежать, несколько удивив Тома и немало его обнадёжив. В тот момент ему даже показалось, что изначально он недооценил мальчика, заранее приписав ему глупость, самоуверенность и задиристость всех мальчишек этого возраста, а в особенности — если им повезло родиться в семье главы клана. Но стоило им покинуть Флейнов и ступить на земли Гвэнтли, где Том собирался осесть, начались проблемы.
Мальчишке, видите ли, взбрело в голову, что он должен вернуться и отыскать брата, в счастливое спасение которого он твёрдо верил. Ни как, ни зачем это нужно делать — он, разумеется, не думал и думать не собирался. Ему не было дела, что Анастас Эвентри, если даже его не схватили вычёсывающие местность ищейки Индабиранов, наверняка удрал к лояльным соседям на западе или на юго-востоке, ну а дальше — либо подастся с жалобой к конунгу, либо, что более вероятно, безропотно вольётся в его войско. Ведь пока лорд Ричард Эвентри жив, Анастас остаётся всего только лэрдом — первым наследником главы клана, и не более того. Формально у мальчишки нет никаких прав, в том числе и на требование заступничества. И Адриану, и его брату можно было надеяться лишь на то, что другие кланы, лояльные Фосигану, в достаточной степени возмутятся этим дерзким нападением и, объединив усилия, всё-таки надавят на конунга. Но такие дела не делаются скоро, и в ближайшее время Адриану некуда бежать, потому что не к кому возвращаться.
Всего этого четырнадцатилетний парнишка без малейшего знания жизни, но с ветром в голове, конечно, понять не мог, поэтому Том даже не пытался объяснить. В Гвэнтли он старался не отпускать Адриана далеко от себя и не сводил с него глаз. Ему в этом даже помогали. Байка про непокорного щенка, противящегося посвящению Гвидре, оказалась очень удачной, и на каждом постоялом дворе или хуторе, где они останавливались, хозяева следили за мальчишкой чуть ли не зорче, чем сам Том. Адриан тоже заметил это и попытался сбежать всего один раз, в результате чего едва не был затравлен собаками, которых спустил не в меру ретивый хуторянин прежде, чем Том успел его остановить. К счастью, мальчишка отделался подранными штанами. Том заставил его заштопать их, причём не пускал спать, пока работа не была окончена, потом дал профилактический подзатыльник и простил. Это приключение произвело на Адриана впечатление, и потом он вёл себя тихо до самого Уивиелла.
Они шли в горы, хотя Адриан почти до самого конца об этом не знал. В горах Уивиелл у Тома была хижина с клочком плодородной земли, обустроенной под незамысловатый огород. Он купил её десять лет назад на деньги, оставшиеся у него от продажи всего, что на нём было — благо в те времена он, безмозглый щенок вроде Адриана Эвентри, щеголял в тряпье, стоившем целое состояние. Деревья здесь не росли, скотины он не держал — вернее, держал раньше, но, собираясь в дорогу, всю распродал: ему нужны были деньги, к тому же за животными всё равно некому было смотреть во время его отсутствия. Хижина находилась высоко, и, что важнее, была надёжно спрятана от людских глаз. К ней почти невозможно было пройти, не зная дороги наверняка; сам Том, когда она досталась ему, целую неделю ходил вверх-вниз ущельями и едва заметными тропками, разматывая за собой красную шерстяную нить, чтобы выучить дорогу. Юго-западный склон Уивиелла, отделявший Гвэнтли от северо-восточных равнин, был неприступен, пустынен и безразличен для людей из долины. Даже сами Гвэнтли мало интересовались горным участком своих владений — с тех пор, как сто лет назад в Уивиелле окончательно иссякло золото. Именно тогда здесь стали появляться странные люди, бродившие по ущельям с куда меньшим азартом, чем положено припозднившимся золотоискателям, но упрямо и воровато. Некоторые из них были беглыми каторжниками — даром что прииск иссяк, Уивиеллская каторга осталась и процветала, ибо не было в Бертане лучшего способа неторопливо, но надёжно угробить преступника. Однако другие путники — и их было большинство — про каторгу знали только из обвинительных приговоров, которые выкрикивали глашатаи на городских площадях. И таких людей Том остерегался больше, чем беглых разбойников. Впрочем, ни те ни другие увидеть его не могли — они шлялись внизу, а дом Тома стоял намного выше по склону.
Разумеется, богатый знатный мальчик Адриан пришёл от этого места в ужас. В других обстоятельствах мальчишка вроде него был бы в восторге от перспективы целыми днями скакать по горам, будто не в меру энергичный горный козлик. Однако ввиду сложившейся ситуации пещеры и перевалы Адриана не заинтересовали, тем более что Том не собирался его к ним подпускать. Когда после трёх часов утомительного подъёма он остановился перед покосившейся за зиму, неухоженной избой, воткнул посох в грунт и сообщил: «Жить будем здесь», Адриан вытаращился на него и, забыв обо всех предосторожностях, заявил: «Да я сегодня же отсюда сбегу!» Том ответил: «Не сбежишь», — и он знал, что говорит. Отсюда было невозможно сбежать — запутанные и опасные, местами почти непроходимые горные тропы держали надёжнее замков и решёток. Адриан тоже понял это, хотя и не сразу.
Тогда-то драка у них началась всерьёз.
Том с самого начала отдавал себе отчет, что мальчишка не сразу ему подчинится, и заранее пообещал себе ничего ему не спускать. Он вдоволь насмотрелся на избалованных сынков знати и понимал, как опасно хоть раз показать перед ними слабину. Разумеется, Адриан прошёл с ним весь этот путь только потому, что был растерян и напуган — он впервые в жизни оказался один против всего мира и не знал, что делать дальше. Это дало Тому нешуточную фору, и, стремясь продлить её, он старался быть с Адрианом не очень грубым. Теперь они были на месте, и необходимость в нежничанье отпала.
Утро начиналось с суровой побудки, почти неизменно сопровождавшейся тумаками. Том гнал Адриана во двор, где заставлял раздеться донага и несколько раз облиться ледяной водой. Мальчишка был слишком малого роста для своих лет, и хотя Том не назвал бы его тщедушным, очевидно, что его физическим воспитанием до сих пор никто толком не занимался. Вообще сложно понять, что с ним собирались делать дальше: ему не светил хоть сколько-нибудь жирный кусок от наследства, на воина его тоже не тренировали, но и в учёбу не закапывали, явно не рассчитывая посвятить мальчика богам. Получалось, что он рос как бы сам по себе, будто сорняк, который лень выпалывать, но и растить его тоже ни к чему. Это было не просто грустно — с учётом обстоятельств, о которых Адриан пока не знал, это было очень опасно. Поэтому Тому пришлось, помимо своей собственной работы, делать ещё и ту, которую перекинули на него безответственные родичи Адриана Эвентри.
После ледяного душа мальчишке полагалось бежать за водой. К горной речушке вела отчётливая дорожка между камней, идти было недалеко, а заблудиться — невозможно. Натаскав полную бадью воды, на что требовалось не менее трёх ходок, Адриан зарабатывал право на завтрак, состоявший из пшеничной каши, которую Том варил из старых запасов, и репы, выкопанной на заросшем за год огороде. Репа была прошлогодняя и разрослась огромными клубнями, твёрдыми и почти безвкусными, но есть её было можно. Понимая, что подрастающий организм на таком не поднимешь, Том принялся заново осваивать огород. Вернее, осваивать его пришлось Адриану под бдительным руководством Тома, не позволявшего ни халтурить, ни делать передышки слишком часто. За неделю огород был перекопан и засажен, и каждое утро после завтрака юный Эвентри утыкался носом в землю, чтобы до самого полудня очищать её от сорняка. Он, как и положено лордёнышу, ничего не смыслил в огородах, потому не мог знать, что работает почти впустую — урожая в этом году им всё равно не снять. Но ничего — весной они засеют землю заново. У них было много времени.
Вторую половину дня Том занимал Адриана мелкими хозяйственными делами — то дров наколоть, то полы выдраить, то крышу подлатать. А если дел не находилось, давал ему в руки палку и заставлял отрабатывать навыки фехтования до тех пор, пока мальчишка не валился с ног, а с самого Тома не начинал катиться пот. Последнее, впрочем, он делал больше для самого себя. Драка на палках с глупым ершистым мальчишкой — это единственная битва, которую Том мог теперь себе позволить.
На закате Адриан получал вторую, и последнюю за день, миску каши и пинками отправлялся спать. Том быстро обнаружил, что режим дня у мальчишки ни к бесу не годится: он привык поздно ложиться и поздно вставать, и с этим тоже надо было что-то делать. Впрочем, тут Том действовал не без корысти: вымотанный за день Адриан вырубался, едва улёгшись на дощатый пол (в хижине была только одна лежанка, и Том на правах старшего занял её, выделив своему невольному воспитаннику две медвежьи шкуры и клочок пола), так что Том мог спокойно посидеть на крыльце, разглядывая ночное небо и вдыхая резкий воздух гор. В такие минуты ему очень хотелось затянуться трубкой, но, как выяснилось, все запасы табака он выкурил ещё в прошлом году. В конце концов именно это сподвигло Тома спуститься в долину; впрочем, он и так собирался сделать это — рацион из пшена и репы понемногу вгонял Адриана в чёрную депрессию, а в планы Тома не входило лишать мальчика разума. Совсем наоборот: он хотел, чтобы парень набрался ума, только и всего. Это было трудно, адски трудно. Но также и адски важно, и он знал заранее, на что шёл.
Разумеется, Адриан его ненавидел. Так, как, должно быть, не ненавидел никого и никогда в своей недолгой пока ещё, глупой жизни — даже Индабирана, захватившего его семью, потому что Индабиран был далеко и мучил кого-то другого, а Том был рядом и мучил самого Адриана. Несмотря на обещание Тома, что у них будет время всё обсудить, разговаривали они мало. Том приказывал, Адриан огрызался, получал затрещину и на время затихал, но позже всё повторялось снова. За прошедшие недели поговорить толком им пришлось всего один раз, и то — при не самых заурядных обстоятельствах.
Это случилось в один из первых дней, когда Адриан ещё не до конца оправился от шока, вызванного новым распорядком дня. Тяжелей всего он переносил ранний подъём и больше всего из-за этого возмущался, причём словечки подбирал ядрёные — парень явно слишком много времени проводил с отцовскими солдатами, которые учили его не мечу, а площадной брани. Однажды, нахамив Тому особенно дерзко, он получил в награду звонкую пощёчину, взъярился и, выкрикнув очередное бессмысленное оскорбление, сорвался с места и удрал. Том не кинулся в погоню — мальчишке надо было попытаться сбежать хотя бы раз, чтобы убедиться в бессмысленности этой затеи. Он прождал до полудня и только тогда отправился на поиски. Какой-то частью разума он понимал, до чего рискованно такое равнодушие — за эти пять часов Адриан мог сотню раз сорваться с неверной тропки и полететь в обрыв, мог и просто забрести в расщелину, о существовании которой не знает сам Молог, или провалиться в старую штольню и навсегда остаться там, лишь через много дней приняв мучительную смерть от голода и жажды. И где-то ещё глубже, ещё смутнее Том сознавал, что некая часть его хотела этого, потому что, возможно, так было бы лучше для всех — как было бы лучше, если бы этот мальчик не родился вовсе. Но не родился бы он — родился бы кто-то другой. И остальное естество Тома решительно гнало эти мысли, когда он спускался по горной тропе, осыпавшейся гравием у него из-под ног.
Адриана он нашёл уже под вечер, когда почти стемнело. Как и следовало ожидать, мальчишка пошёл тем путём, что казался самым широким и лёгким, и вскоре упёрся в тупик, из которого был только один лаз — в запутанную систему ущелий и скальных лабиринтов. То, что Том всё-таки нашёл его там, было сродни чуду — а может быть, и знаку богов. Том думал об этом, пока нёс наверх бесчувственное тело мальчика, очень лёгкое, почти невесомое. Именно тогда Том подумал, что парень слишком тощий и слабый, и надо бы заняться его тренировкой. Чтобы, если снова взбредёт блажь сбежать, не упал без сознания посреди дороги.
Кашу на сей раз Том сварил понаваристее и даже, расщедрившись, добавил сушеного мяса. Адриан очнулся к вечеру и долго не мог понять, где находится. Похоже, от прогулки по горам он слегка одурел.
— Проветрился? — поинтересовался Том, силой впихивая ему в руки ложку и горшок с кашей. Адриан тупо уставился на них, потом с жадностью набросился на еду и не отвечал, пока не умёл всё до последней капли. Затем посмотрел на Тома с таким видом, словно готов был вылизать горшок. Более милосердный человек принял бы во внимание нервное истощение и дал парню добавки, но Том был непреклонен. Как-никак, мальчишка провинился, и пострадал исключительно из-за собственной глупости.
— Ну как, понравились здешние пейзажи?
— Ладно, хватит глумиться, — отвернувшись, проворчал Адриан. — Я всё понял. Дороги вниз нет.
— Почему же нет. Есть дорога. Другое дело, что её знать надо. Я вот её знаю, ты — не знаешь. Делай выводы.
— Теперь понятно, почему тут такая глушь, — уныло сказал Адриан. — Тут сам Молог шею свернёт.
— Ну уж нет, как раз Мологу это место — в самый раз. Это, можно сказать, его дом родной. Единственное место в телесном мире, где хозяйствует он, а не Гилас.
Адриан насторожился. Он вообще вздрагивал всякий раз, когда Том заводил речь о Мологе. Богобоязненность была, судя по всему, единственным, что его родичи озаботились в него вложить.
— А ты не знал? — делано удивился Том. — Ведь именно в Уивиелле находится тайное святилище Молога. Не единственное, конечно, но главное — это точно.
— Святилище Молога?! — неестественно высоким голосом переспросил Адриан. И тут же, сорвав голос до хрипоты, сдавленно добавил: — Здесь?!
— Ну, не прямо здесь, конечно. Оно под землёй. Лабиринты, по которым ты сегодня бродил — только верхняя, самая малая часть горной гряды. По слухам, эти ущелья уходят на много миль в глубь земли, и где-то там находится святилище, такое же огромное, как святилище Гилас в Сотелсхейме. Впрочем, ты, должно быть, никогда не бывал в Сотелсхейме…
— А ты бывал там? — всё так же хрипло спросил Адриан. Глаза у него стали огромные, как блюдца, и от этого он стал казаться ещё младше — сущий цыплёнок.
— В Сотелсхейме? Приходилось пару раз. Хотя святилище Гилас там — не самое большое строение, ты б поглядел на замок конунга…
— Да не Гилас, — просипел Адриан. — Молог! В святилище Молога ты… был?
— Нет, — улыбнулся Том. — И тебе не советую. Вряд ли там происходит нечто такое, что может послужить стоящим назиданием для юноши твоих лет. Но учти: будешь шастать ночами по ущельям — не ровен час, забредёшь и в святилище. Никто не знает его точного местонахождения, во всяком случае, никто им зазря не поделится… но вот так набрести — людское счастье. Так что гляди.
— Гляжу, — понуро отозвался Адриан.
Том пожалел, что не воспользовался этой историей сразу: ему не хотелось запугивать мальчишку лишний раз, но вот так, понемножку, — почему бы и нет. Тем более, насколько он мог судить, толки о святилище Молога в Уивиелле были вовсе не лишены основания.
— А ты откуда столько знаешь про Молога?
На сей раз Том ответил лишь холодным взглядом.
— Вымой горшок, — велел он, и на том их разговор окончился, так и оставшись единственной беседой на последующие несколько недель.
Однако расчёт Тома оказался ошибочен. Хотя Адриан и боялся злого бога и явно подозревал Тома в поклонении ему, на самого Тома этот страх не распространился. Том, впрочем, не слишком из-за этого переживал. Адриан по-прежнему глухо ненавидел его, по-прежнему огрызался, но, по крайней мере, делал всё, что ему велели, и больше не пытался удрать. Конечно, наверняка это было неспроста, и мальчишка вынашивал новый глупый план, но пока что Тома вполне устраивало и такое напряжённое перемирие. Так и жили: Адриан втихаря точил зуб, Том же как ни в чём не бывало мордовал Адриана, загружая его работой до предела мальчишеских сил, не оставляя времени, чтобы думать и страдать в полной мере. Ведь Адриан не знал, и не должен был знать, главного: важнее его физического возмужания, и даже важнее изоляции от людей была необходимость тяжёлым каждодневным трудом заглушить в нём тоску и тревогу по родным, по прежней жизни, потому что ни к чему из этого у него не было возврата. О чём он тоже пока не должен был знать; эта мысль, могущая в нём зародиться, Томом всячески подавлялась. И не без успеха: только однажды Адриан спросил его: «Когда ты отпустишь меня?» — за что получил затрещину — и больше не спрашивал.
На четвёртой неделе их совместного отшельничества Том решил, что уже может оставить Адриана одного на день-другой. Бегать он не будет, с хозяйством управится, с голоду не помрёт.
— Я иду в долину, — непререкаемым тоном сказал Том, когда они, как обычно, завтракали в атмосфере молчаливой враждебности. — Вернусь завтра к вечеру.
— Зачем? — мрачно спросил Адриан.
— Зачем иду или зачем вернусь?
— Да пошёл ты, — всё так же мрачно посоветовал Адриан, коротко крякнул от дежурного подзатыльника и смолк.
Том показал ему, где лежат припасы.
— Каши я тебе наварил на два дня, но холодная она дрянь, так что бери отсюда что хочешь. К огню не лезь, ещё сожжёшь тут всё. Лучше уж лопай мясо, пока есть возможность, — когда я вернусь, пировать больше не получится.
Адриан хмуро посмотрел на то, чем ему предлагалось пировать, и мотнул головой — видимо, это означало примирение со своей судьбой.
Том снял с пояса нож в простых кожаных ножнах и протянул Адриану.
— Держи. На случай, если беглый каторжник заглянет на огонёк. На моей памяти, правда, такое лишь раза два случалось, но мало ли.
Адриан вытаращился на нож, потом на Тома. Поняв, что тот ничуть не шутит, принял подарок и, неуверенно потянув из ножен, осмотрел лезвие, будто ожидая увидеть вместо него тупую деревяшку. Убедившись в дееспособности оружия, вернул клинок на место.
— Спасибо.
Том удивился, но виду не подал.
— Не за что, дурья твоя башка. Дай-то Гилас, чтоб не пригодился.
Собираясь в дорогу, Том размышлял, не совершил ли ошибку. Ему казалось, что Адриан не из тех, кто станет бить в спину, но жизнь научила его, что ни в ком и ни в чём нельзя быть уверенным до конца. Однако если мальчишка и затевал что-то подобное, то собирался с духом слишком долго — а может, даже понимал, что, убив своего мучителя, останется навеки заперт в этом богами забытом месте. Том беспрепятственно вышел из хижины, и Адриан ступил за ним на порог. Нож он заткнул за пояс и стоял теперь, спрятав руки за спину, будто скрывал что-то от чужих глаз.
Том подумал, что надо бы дать ему ещё какое-то напутствие, но ничего толкового в голову не приходило. Поэтому он просто коротко кивнул на прощание и зашагал вниз по тропе.
Он опасался, что Адриан проследит за ним, оставляя метки на дороге, поэтому нарочно шёл длинным путём по открытой местности, где мальчишке негде было бы укрыться. Но, похоже, Адриану не хватило на это ума — за Томом никто не следил. Уже на полпути к долине он вспомнил, как посоветовал Адриану не зажигать огонь, и вслух обругал себя идиотом. Лучшее, что парень мог сейчас предпринять, чтобы избавиться от заточения — это поджечь хижину. Правда, так недолго и самому сгореть или задохнуться в дыму, но если отсидеться в одной из ближних расщелин, то можно было дождаться Тома и, разведя руками, поставить его перед фактом: горное убежище уничтожено, жить и кормиться негде. И Тому пришлось бы отвести его в долину. Сперва бы выпорол, конечно, но потом бы отвёл. Оставалось молиться Хитроумной Аравин, чтобы она отвратила свой взор от мальчишки и не дала ему ума на такой коварный трюк.
Эти мысли изрядно подпортили Тому настроение, и по пути вниз он постоянно оборачивался, ожидая увидеть клубящийся в вышине дым. Но дыма видно не было, и он всё-таки спустился в долину, где было тепло и сухо и вовсю кипела жатва.
От подножия гор до ближайшей деревеньки было часа четыре пешего ходу, и, когда Том добрался до неё, послеполуденный зной спал, а большинство крестьян уже вернулись с полей, и можно было без труда выторговать необходимые товары. Тома в деревне знали, хотя и несколько сторонились — никто не станет радостно привечать чудака, живущего отшельником в горах. К тому же они не знали, что он вернулся, — Том вёл Адриана в Уивиелл мимо деревни, окольной дорогой. Так что со стороны это и впрямь смотрелось странно: то пропадал незнамо где, а теперь нате — явился как ни в чём не бывало. Однако Том был вежлив, одет в чистое и предлагал звонкую монету, поэтому никто не стал задавать ему слишком много вопросов. А вот сам он вопросы задавал, и это тоже было совершенно нормально для человека, раз в год спускающегося с гор в долину.
На слухи и новости деревня оказалась богата. Только и разговоров стояло, что про недавнюю бурю во фьеве Эвентри. От Гвэнтли до Эвентри был не один десяток лиг, их разделяли два других фьева, но беглые крестьяне из разорённых Индабиранами деревень добрались и сюда. Кое-кто из них осел на землях Гвэнтли, и никому это не казалось изменой, потому что все сходились в одном: клана Эвентри больше нет, а потому и верность хранить некому.
— Всех повязали, всех! — охотно делился впечатлениями один из перебежавших крестьян, которому кружка дармового эля, благодушно оплаченного Томом, мгновенно развязала язык. Он снялся с места одним из первых и успел вывезти всю семью, а поскольку в Гвэнтли жила родня его жены, туда и направились, однако по дороге успели набраться слухов, и теперь крестьянин охотно их распространял. — Старшего сына Эвентри, лэрда то бишь, порубили в первую же ночь. Говорят, сопротивленье оказывал — ну да ещё бы, когда такой гвалт творится! Старый лорд тоже за меч взялся, и ему досталось. Говорят, не выжил.
— Что, и лорда, и наследника? Так кто же теперь глава клана? — вмешался один из мгновенно подсевших к общему столу слушателей — про бурю в Эвентри поговорить горазды были все.
— Выходит так, что Анастас, второй сын лорда Ричарда. Да только его как раз найти не смогли — говорят, не было его в замке той ночью. И его, и третьего сына тоже. Говорят, они вдвоём сбежали и теперь войско собирают.
— Какое войско? — испугался кто-то. — Что, война будет?!
— Да не у нас, дурень! Наш лорд-то сам по себе, он ни Фосигану, ни Одвеллу присяги не давал, — растолковал осведомлённый крестьянин. — Стало быть, и мы ни при чём.
— Однако ж быстро ты своего прежнего лорда позабыл, — заметил кто-то.
Говоривший не обиделся, только пожал плечами.
— А разница-то в чём? Там землю пахал, и тут буду, там повинность платил, и тут стану. А лорды — они на то и лорды, чай меж собой как-нибудь сами разберутся.
— Постой-ка, но ведь у лордов Эвентри вроде ещё младший сынок был? И дочки? — влез ещё один знающий, не исключено, что тоже беглый. Рассказчик окинул его оценивающим взглядом.
— Был и есть, — изрёк он наконец. — Только он мальчонка семи, что ли, годков. Говорят, его собираются в дальний монастырь отослать, к Лутдаху, вроде.
— Милосердный Гвидре, помилуй мальчика! — жалостно воскликнул кто-то — Гвэнтли тоже поклонялись богу странников, поэтому сочувствие выглядело искренним. — Мало что в монастырь, так ещё и чужому богу отдали…
— Сыну Молога, — мрачно напомнил крестьянин. — Да, что уж говорить, не повезло пацану. Но и двоим старшим, что пропали, — как знать, больше ли повезло. Уж и в живых-то нет наверняка.
— Да нет, я слыхал, младшего из тех двоих — как там бишь его? — видели в окрестностях замка, будто под видом угольщика…
— Ага, — сказал крестьянин и смачно сплюнул под стол. — Угольщик, как же, помню. И с ним мужик какой-то, что за его отца себя выдавал. Индабираны всё вокруг перерыли и перевязали всех угольщиков в округе. Две деревни дотла сожгли.
— Прям сожгли?! — ахнул кто-то.
— А то. Чай не их земля, не их люд, чего им жалеть.
— Но теперь-то, выходит, земля — их?
— Не их, а Одвеллов. Индабираны — верные септы, если воруют, то не для себя, а для великого клана.
Мужики зло посмеялись, без особого веселья. Том чувствовал их затаенное напряжение и, несмотря на разговоры о том, что Гвэнтли сохранят нейтралитет, понимал, что всё не так просто. Равнодушие мужиков было понятно — простолюдины на землях Эвентри не сильно пострадали; судя по этому и другим разговорам, которые он слышал, всё ограничилось стихийным набегом на две восточные деревни у замка и репрессиями против угольщиков. Грабить и жечь Индабираны не стали — они просто совершили поразительный в своей наглости набег, почти бескровно захватив клан, приходившийся септой главенствующему ныне клану Фосиган. Это был могучий удар по конунгу, но также — и удар по Одвеллам, которым присягали и от имени которых действовали Индабираны. Тому с трудом верилось, что Одвеллы в самом деле пошли на такую дерзость — подобный произвол возвращал Бертан в давние времена хаоса и кровавых междоусобных распрей, существовавших испокон веков и если не прекратившихся, то хотя бы поутихших с установлением власти великого конунга. Однако за этот титул, за причитавшиеся ему замок-город Сотелсхейм, за влияние и власть шли битвы подчас не менее, а то и более кровавые, чем в прежние времена. Что более коварные — так это точно. Прежде замок Эвентри взяли бы штурмом или подвергли изнурительной осаде, но чтобы вот так, прокрасться ночью и одним ударом обезглавить целый клан… это было просто, изящно и очень подло.
Продолжая слушать и помалкивать, Том выяснил, что леди Эвентри жива и невредима, но после смерти мужа пожелала удалиться от мира и посвятить себя Гвидре. Похоже, в отличие от младшего братишки Адриана, бедной женщине, по крайней мере, позволили самой выбрать бога, которому отныне будет отдана её жизнь. Девочки Эвентри также были живы и — тут Том прислушался внимательнее — помолвлены с септами Одвеллов, причём свадьба одной из них уже состоялась. Такая поспешность, а главное, осмотрительность наводила на самые нехорошие подозрения. Одвеллы вознамерились как можно крепче связать себя с Эвентри, что было в принципе невозможно в мирное время — поскольку Эвентри присягнули Фосиганам, а также в силу других причин, о которых Том знал больше, чем ему хотелось бы. Однако методы, которыми создавалась эта искусственная связь, были слишком неуклюжи — будто кто-то наспех пытался загладить допущенную ошибку. А ведь ничем иным, кроме как ошибкой, нападение на Эвентри не было. Спасут ли их Фосиганы от полного уничтожения — вопрос спорный, в особенности если Анастас Эвентри погиб, а Адриана Том выдавать ни в коем случае не собирался. Малолетний Бертран отдан в монахи, живых братьев и дядьев по отцовской линии у погибшего лорда Ричарда не осталось — возглавить клан некому, значит, клана не существует. Но ничто не мешает Фосиганам отомстить за павшего септу, организовав карательный поход против Одвеллов. И чем больше Том об этом думал, тем больше ему казалось, что сложившаяся ситуация гораздо более выгодна Фосиганам, давно мечтавшим уничтожить извечных соперников в битве за конунгат, чем Одвеллам, которые всего лишь сняли одну пешку с доски. Хорошо, пусть не пешку — пусть ладью, дела это не меняло. Так или иначе, эта минутная победа грозила Одвеллам скорым шахом и матом.
«И какое же счастье, что всё это ни в коей мере меня не касается», — мрачно подумал Том.
Однако эти размышления, пусть и бесполезные, окончательно утвердили его в мысли, что сами боги — не стоит уточнять, кто именно из них, — послали его за Адрианом именно в это смутное время. Потому что этот мальчик, будь он сейчас в эпицентре событий, мог всё изменить. И не просто мог — он изменил бы, и, возможно, так, что Бертан захлебнулась бы в крови, как это уже случилось двенадцать лет назад. Тогда в ответе за это был другой мальчик, и рядом с ним не было умудрённого жизнью Тома, чтобы вовремя выдернуть его из мясорубки, в которой первыми летели головы ни в чём не повинных людей. Впрочем, когда доходит до войны, в ней не бывает ни в чём не повинных.
Убедившись, что все необходимые продукты собраны, Том поблагодарил за интересную беседу и отправился спать. Следующим утром, встав по привычке рано, поддался внезапному порыву и сходил на деревенский рынок, где купил несколько леденцов, ещё горячих, пахнущих сладкой патокой. Пацана негоже баловать, конечно, и Том собирался отдать их ему, только если по возвращении обнаружит образцовый порядок, а самого Адриана — смирно сидящим у крыльца, а лучше занятым какой-нибудь работой. Вероятность этого была невелика, так что Том почти не сомневался, что леденцы не пригодятся. Сам он сладкого никогда не любил, поэтому деньги заранее можно было считать выброшенными на ветер, однако и эта мысль его почему-то не удержала от бездумной траты.
Несмотря на обещание вернуться к вечеру, Том возвращался днём. Он не хотел признаваться себе в этом, но его подгонял страх, от которого он отмахивался весь вчерашний день, — как бы мальчишка не додумался устроить поджог. Однако на середине пути, там, где обычно дым уже был хорошо виден, ничего подозрительного не наблюдалось. Неожиданно для себя Том ощутил такое облегчение, что решил: «Молог с ним, пусть нажрётся этих леденцов, как бы там ни было. А потом я его за водой вверх-вниз так загоняю, что весь жирок мигом сгонит». Оставшийся до дома широкий участок пути он проделал быстрым шагом, почти бегом.
Хижина стояла на месте.
Адриана нигде не было.
* * *
Сперва Том не обеспокоился и даже не удивился. Он обещал парнишке два дня почти полной свободы — было бы наивно ожидать, что он ими не воспользуется. До вечера Том разгружал свои покупки, разогревал кашу на ужин (нетронутую, как и следовало ожидать) и пропалывал огород, к которому Адриан опять же предсказуемо не прикасался. Сушёных запасов стало меньше, но не настолько, чтобы дать повод опасаться, будто мальчишка снова затеял побег — в то же время было очевидно, что ушёл он не далее как сегодня утром, иначе не успел бы столько съесть. Словом, Том не видел поводов для тревоги и даже почти не думал об Адриане до тех пор, пока не начало смеркаться.
Тогда он решился посмотреть правде в глаза.
Парень удрал, в этом не оставалось сомнений. И припасов не взял не потому, что не собирался бежать, а потому что дурак. Он уже по меньшей мере сутки бродит по ущельям и, если не разбился и его не укусила змея, сидит сейчас, забившись в угол какой-нибудь расщелины, и ждёт, пока Том его снова отыщет.
Было очень сильное искушение не доставлять ему такого удовольствия.
Вышвырнув в ущелье леденцы, Том взял палку и пошёл искать.
На сей раз ни ему, ни Адриану не повезло. Что неудивительно — лукавая Тафи, покровительница игроков и безмозглых идиотов, редко бывает милостива дважды. Том ходил по склону до утра, обойдя все известные ему закоулки, заглянув в каждую расщелину и изойдя криком — бесполезно. Мальчишка как в воду канул, а более вероятно — валялся среди камней с раскроенным черепом.
Когда начало светать, Том понял, что дальнейшие поиски бессмысленны. Он выбился из сил от усталости и злости, и ещё — от мучительного чувства вины и страха, что с самого начала ошибался во всём. Он всё равно не смог бы уснуть, поэтому предпринял последнее, что мог сделать, — спустился в долину и пошёл к деревне, которую покинул всего сутки назад. Невероятно — но что если Адриану удалось самостоятельно найти путь с гор? Что ж, в таком случае всё кончено, и в то же время Том много отдал бы, чтобы было именно так. Иначе пройдёт неделя, и запах приведёт его к давно остывшему телу в одной из расщелин, мимо которых он проходил сегодня ночью — и он старательно отбрасывал мысли о том, что будет делать тогда.
Он думал об этом всё время, пока спускался с гор, и настолько погряз в запоздалых самообвинениях, что не сразу заметил, как изменилась долина.
Поля опустели. Единственная улица деревни, несмотря на ранний час, была полна людей. Мужчины возбуждённо переговаривались, женщины причитали, дети непонимающе плакали и тянули родителей за полы кожухов. Всё пришло в движение, никто не стоял на месте. И у многих было оружие, но только выглядели люди так, будто вовсе не хотели им пользоваться.
— Что стряслось? — спросил Том, протиснувшись в центр толпы.
Все говорили разом, не умолкая, и, казалось, вопроса никто не услышал, но тем не менее ему ответили.
— Лорд Гвэнтли собирает ополчение! На заре гонцов прислал!
— И спешно, всё так спешно, — всплеснув руками, запричитала одна из женщин, перекрикивая полдюжины орущих детей, цеплявшихся за её юбку. — Прямо всё бросай и в поход!
— Какой поход? Куда? — волновались остальные, растерянные не меньше Тома.
— На Одвелла! Куда ж ещё! — басовито прогремел над толпой мужик, в котором Том признал одного из вчерашних собеседников.
— Да не на Одвелла, нет! На Фосигана! На конунга! — выкрикнул кто-то, и толпа потрясённо примолкла. Несколько секунд был слышен только детский плач и тревожное мычание неподоенной коровы в соседнем дворе. Потом снова заговорили все разом:
— Как на конунга? Почему, зачем?
— То не наше дело, зачем! Сказано — на конунга, и собираться спешно, в замок всем явиться до полудня!
— Да совсем подурели — до полудня! Туда ж от нас добрый день ходу!
— Так и хватит лясы точить! Хотите, чтоб солдатню сюда понаслали?! Дождётесь!
Том ничего не понимал. И то, что в этом он был не одинок, ничуть его не утешало. Он отыскал парня, который первым заорал про Фосигана, и схватил его за грудки.
— Что ты несёшь, дурак? Кто тебе сказал, что война будет против Фосигана?
— Да гонец же сказал, гонец! — крикнул тот; щёки у него разалелись, глаза блестели, но он не был похож ни на дурака, ни на враля. — Я сам слышал, и вот, Роб тоже слышал, и Гунс — они там были, верно, ребята?
— Верно, верно! — охотно подтвердили те.
Том выпустил парня. Голова у него шла кругом, ноги почти не держали — сказывалась бессонная ночь. А кругом продолжали голосить.
— Цапаются нынче лорды, что ж, нашему в стороне быть?
— Лорды цапаются, а нашим бошкам лететь!
— Пропади они пропадом!
— Жатва же в разгаре! Кто урожай собирать станет, бабы, что ли?
Если Адриан и проходил через деревню, то выяснить это при нынешней суматохе было совершенно нереально. Выбравшись из толпы, Том побрёл назад, к горам. То, что он только что видел и слышал, казалось дурным сном. Гвэнтли выступят против Фосиганов? Почти немыслимо. Если они и решились нарушить давний нейтралитет, на то должна была быть очень веская причина, и ещё вчера Том поставил бы сто к одному, что, доведись всё-таки выбирать, они поддержат сильнейшего… но разве Фосиган — не сильнейший? Разве Одвеллы нападением на клан Адриана не подтвердили лишний раз свою вероломность, разве это не должно было окончательно отвратить от них тех, кто подумывал о союзе?.. И разве Гвэнтли, чьи земли располагались между землями враждующих кланов, не были всегда обращены лицом в сторону Сотелсхейма? К тому же такие вещи не решаются за день, а ещё вчера подобного поворота событий никто не ждал.
То, что сейчас происходило, отдавало абсурдом. Объяснение было одно: что-то случилось за прошедшую ночь. За ту ночь, которую Адриан провёл одни боги знают где…
Интересно, какие именно боги?
Поднимаясь по горной тропе, Том чувствовал себя дряхлым стариком. Один раз он даже едва не сорвался в опасном месте, которое знал и всегда обходил. Он уже не расчищал посохом путь, а тяжело опирался на него, будто столетний старец. И виной тому была не физическая усталость, а мутное, вязкое чувство, такое знакомое и такое ненавистное. Это было чувство знания — то, что осталось ему как отголосок давних времён, издевательское напоминание о том, от чего он сам сознательно отказался. Но ни одну ношу нельзя просто сбросить и пойти дальше как ни в чём не бывало — в лучшем случае останется боль в плечах. У Тома болело что-то — какое-то странное, тайное место в глубине его естества, которое и существовало, кажется, лишь для того, чтобы болеть.
Оно всегда болело, когда он думал об Адриане Эвентри.
«Гилас! Пусть он всё-таки окажется мёртв!» — взмолился Том — по-настоящему, со страстью, с которой не взывал к богам уже много лет. Это до того потрясло его, что он остановился, даже не заметив, как из-под ноги сорвался и понёсся вниз увесистый камень. Пусть он окажется мёртв, Гилас. Пусть его возьмёт Молог в своём тайном святилище. Том повторил это про себя ещё раз, яростно стискивая посох обеими руками. Ему не хотелось этого, но он знал, что об этом надо просить — не важно, чего хочешь ты сам, всегда есть нечто более важное…
Но боги никогда его не слушали — ни раньше, ни теперь.
Выйдя на последний виток тропы, откуда уже была видна хижина, Том увидел Адриана. Мальчишка сидел на земле, обхватив голову руками. Будто почувствовав взгляд Тома, вскинулся — и, хотя они были ещё слишком далеко друг от друга, Тому почудилось, будто они встретились взглядами. Он остановился на месте, будто вкопанный.
Внутри судорожно скрутилось в последний раз — и перестало болеть.
Адриан вскочил и побежал ему навстречу.
Том смотрел, как он бежит. Стиснул зубы так крепко, что свело судорогой челюсти. Потом разжал их.
И пошёл вперёд.
4
В этот раз он не собирался сбегать. Правда же, не собирался — просто ему стало смертельно скучно, и он решил немного разведать местность вокруг хижины, не отходя далеко — когда ещё представится такая возможность! И глазам своим не поверил, когда, пройдя всего полсотни шагов к долине, увидел этих людей.
Его до сих пор колотило, когда он вспоминал их. Их лица, обращённые к нему, когда он закричал им: «Постойте!»
— Том! Где ты был?! Я думал…
— Где я был? — мягко переспросил тот. Никогда прежде Адриан не слышал от него такого тона. Внезапно он обнаружил, что они стоят друг против друга посреди тропы — и понял, что сам подбежал к Тому. Хотя теперь, глядя в его неподвижное лицо, на его странную, напряжённую полуулыбку, Адриан не мог понять, зачем сделал это.
Мгновением позже до него дошло, что Том не только что вернулся из деревни… отнюдь не только что. Адриан потупился и непроизвольно отступил назад.
— Так ты…
Том молча прошёл мимо него. Адриан помедлил и поплёлся следом, глядя на обитый железом конец посоха, впивающийся между камней, с тихим шорохом осыпавшихся Адриану под ноги. А он спотыкался о них, забывая преступать, и понемногу сбавлял шаг.
Том подошёл к дому и поставил посох у стены. По-прежнему ни слова не говоря, стянул через голову рубаху и повернулся к бадье с водой, приготовленной на утро. Бадья была полна на две трети — Адриан брал из неё воду вчера днём, но к ручью потом не ходил. Дьявол, ещё и за это теперь влетит… Том схватил бадью обеими руками и, резко подняв, опрокинул над головой. Поток воды шумно хлынул по его телу наземь, струясь по взбугрившимся мускулам. Адриан завороженно смотрел, как ходят под тёмной кожей тугие мышцы, и вздрогнул от грохота, с которым Том швырнул бадью на землю.
Всё так же ни слова не говоря, Том развернулся и вошёл в дом.
Адриан какое-то время топтался во дворе, ничего не понимая. Он не удивился бы выволочке, и даже, пожалуй, на сей раз согласился бы с ней — да что там, он был бы ей попросту рад! Потому что тогда он смог бы объяснить, что случилось… а он сам этого не понимал и потому мучительно хотел поделиться, пусть бы и с Томом — всё равно ведь не с кем больше.
Тяжело вздохнув, Адриан спрятал руки за спину и робко ступил на порог.
— Том?..
— Сядь.
Том обтирал полотенцем руки и шею. К двери он стоял спиной, и на Адриана по-прежнему не смотрел. Адриан пробрался к столу и сел на краешек скамьи. Том шагнул к двери и захлопнул её.
На дворе стоял ясный день, но в хижине сразу стало сумрачно. Окна были забраны ставнями, и лишь пробивавшийся сквозь щели свет рассеивал полумрак. Адриан зябко повёл плечами.
Том подошёл к печи и порылся за ней. Вытянул что-то, завёрнутое в солому, и какое-то время отряхивал. Потом поставил на стол, и Адриан увидел, что это бутылка толстого зелёного стекла — в таких в замке Эвентри хранили выдержанное вино.
Том сел напротив Адриана, откупорил бутылку и плеснул себе в кружку. Подумал немного, потом плеснул ещё, а потом вино полилось струёй, и лилось, пока кружка не стала полна до краёв. Том взял её и пил не отрываясь, а Адриан, так же не отрываясь, смотрел на него, пока дно опорожнённой посуды не стукнуло о столешницу.
— Рассказывай, — спокойно приказал Том.
Адриан сглотнул.
— Я не собирался сбегать, — поспешно сказал он, полагая, что это самое главное. — Просто… ну…
— Просто я ушёл, и ты возомнил, что тебе всё позволено, — без выражения закончил Том. — Дальше.
— Я не собирался отходить далеко, честное слово! Я же помню… как ты… Ну, словом, я просто бродил тут неподалёку…
— Сутки напролёт? — мрачно спросил Том.
Сердце у Адриана подскочило. Когда же он вернулся?!
— Ну… так вышло…
— Я велел, чтобы ты рассказывал, а не мямлил всякую чушь. И я не повторяю в третий раз, Адриан, тебе это известно.
Ему действительно было известно. Но только то, что так хотелось рассказать человеку, готовому выслушать, никак не складывалось в слова теперь, когда он чувствовал себя будто на допросе.
Том смотрел на него, сжимая ручку пустой кружки, и Адриан решил не тянуть.
— Я увидел людей.
Пальцы Тома сжались крепче.
— Людей?
— Да… их было трое. Я обалдел просто, ты же говорил, тут никто никогда не ходит!
— Так и есть.
— Но они же ходили! Я их точно видел! Я с ними…
— Говорил? — обречённо закончил Том.
Адриан опасливо кивнул.
— Я… попытался. Ну ты сам подумай, ты меня уже целый месяц тут держишь! — внезапно разозлившись, выпалил он. — Я человеческого лица всё это время не видал, кроме твоей рожи, а от тебя меня тошнит уже!
Ещё вчера он непременно получил бы за эту вспышку крепкий подзатыльник. Но сейчас Том не двинулся с места, всё так же глядя на Адриана ясными, абсолютно непроницаемыми глазами. Будто ждал.
Злость Адриана моментально прошла. Он снова сгорбился и отвёл взгляд.
— Я крикнул им. Чтоб подождали… чтоб помогли мне отсюда выбраться, — мрачно закончил он, уже не заботясь, что ему за это будет.
— А они, однако же, не помогли, — жёстко усмехнулся Том.
Адриан посмотрел на него с ненавистью.
— Ладно, Адриан. Что было, то было. Эти люди ушли, а ты всё ещё здесь. Как они выглядели?
— Это были не каторжники, — сказал Адриан, думая, что именно эта опасность ввергла Тома в такое странное состояние. — Я потому так и удивился. Обычные люди, хорошо одетые… слишком даже хорошо. И бороды у них были аккуратные, словно вчера подстригали.
Том неотрывно смотрел на него. Адриан растерялся.
— Я правду говорю!
— Какого цвета на них была одежда?
— Что?
— Отвечай! — закричал Том и с силой ударил кулаком по столу — так, что тот качнулся.
— Фиолетовая… фиолетовая с жёлтым, — помертвевшими губами ответил Адриан. — На всех троих.
Том расхохотался.
Он смеялся долго, будто услышал очень хорошую, свежую шутку. Всё ещё смеясь, снова налил себе вина — на сей раз не до краёв, а половину кружки. Потом выпил. Его плечи всё ещё подрагивали от смеха.
— Чудо-то какое, — проговорил он наконец, ни к кому не обращаясь. — Ну просто чудо! Эх, Адриан Эвентри! Видать, и правда…
Он умолк. Даже тени улыбки не осталось на его лице. Он быстро протянул руку и крепко сжал запястье Адриана, так, что едва не хрустнули кости.
— Что они сказали? Когда ты закричал, что они тебе ответили?
— Н-ничего, — выдавил Адриан, почти не чувствуя боли в стиснутой руке — гораздо сильнее был недавно пережитый страх, в этот миг нахлынувший с новой силой. — Они… убить меня хотели…
— Убить? — переспросил Том; его глаза чуть расширились, словно от удивления, хотя потрясённым он вовсе не выглядел. — Это как? За что?
— Почём я знаю! — бросил Адриан и попытался вырваться, но Том тут же сжал его запястье с такой силой, что тот застыл, боясь, как бы этот сумасшедший в самом деле не сломал ему руку. — Я правда не знаю, Том. Я им крикнул, чтобы они подождали меня, что я хочу спуститься с ними…
— Ты назвал им своё имя?
— Нет… я не успел. Они сначала просто на меня смотрели, и лица у них были такие странные… вроде совсем обычные, один даже на отца чем-то походил, и в то же время они так странно глядели, что я пожалел… пожалел, что заговорил с ними.
— Правда? — с улыбкой спросил Том. — Правда пожалел?
— А то, — совершенно искренне ответил Адриан. — Они меня послушали, потом перемолвились между собой, и один из них вытащил меч. Ну, я и испугался, конечно! Не знаю, чего это они…
— А я знаю.
Адриан осёкся. Какое-то время они с Томом смотрели друг на друга. Их лица находились очень близко. Адриан мог разглядеть каждую морщинку возле глаз Тома, даже в полумраке, чувствовал влажный запах его мокрых волос. Снаружи беспечно свистела птица, и внешний мир внезапно показался Адриану ужасно чужим и далёким.
Том выпустил его и выпрямился.
— Эти люди, Адриан, из клана Гвэнтли. Судя по всему, сам лорд с братом и старшим сыном.
— Гвэнтли? — моргнул Адриан. — Здесь? Но они же… зачем же они…
— У поклонников Молога есть обычай, — продолжал Том, подливая себе вино. — В смутное время трое старших членов клана обращаются к нему с просьбой о заступничестве. Молог зол, но честен, и, дав слово, держит его. Однако надо твёрдо знать, даёт он это слово или нет. Старшие члены клана надевают родовые цвета и идут к тайному алтарю Молога — хорошо бы, конечно, в главном святилище. Гвэнтли повезло, что оно находится на их земле. Там они приносят жертву и просят отца-Молога о заступничестве. Свои одежды при том окропляют кровью. Ты не заметил на них крови?
— Н-нет…
— Что ж, значит, аккуратно окропили. Им ведь надо было пройти через собственные земли, в собственных цветах… Возвращаясь, они должны молчать, не глядеть друг на друга и не прекращать молитв до тех пор, пока кто-нибудь, встретившийся по дороге, не обратится к ним с просьбой. Если это будет женщина — значит, Молог отринул их молитву. Если мужчина — значит, Молог молитву принял.
Он смолк и надолго приложился к кружке. Адриан пытался осознать то, что только что услышал.
— Так значит… они теперь…
— Накануне, — невозмутимо перебил его Том, — Гвэнтли объявили набор в ополчение. Они знали, что война неизбежна, вопрос был лишь в том, на чьей стороне выступать. Молог принял их, и теперь они рассчитывают на Молога. Теперь они не побоятся воевать с Фосиганами.
— Но ведь Гвэнтли поклоняются Гвидре, сыну Матери-Гилас!
— Ты хорошо знаешь историю своей страны. Молодчина.
— Но как же…
— Это не первый случай, когда клан меняет богов. И уж совсем не редкость, когда он берёт себе бога того клана, чьим септой становится.
— Гвэнтли примкнут к Одвеллам? — еле слышно спросил Адриан.
— Уже примкнули. И погляди, как всё отлично складывается! Теперь им достаточно перекрыть перевал через Уивиелл, и армии Фосигана придётся делать огромный крюк, чтобы подтянуться на север. По меньшей мере они выиграют для Одвеллов несколько недель. А те за эти несколько недель успеют присоединить ещё пару-тройку кланов…
Адриана колотила дрожь. Он стиснул руки под столом в кулаки, и всё равно не мог её унять. Дело было даже не в том, что говорил Том. Намного хуже было то, как он при этом на Адриана смотрел.
— Но я же не виноват, — прошептал Адриан. — Я же не знал… я не хотел!
— Конечно. Ты не знал и не хотел. Но ты виноват. Ты в ответе за это.
— Да они могли какого угодно мужика встретить по дороге! Какая разница, я или…
— Они бы не встретили мужика. Они бы встретили женщину. Все мужчины сейчас, подчиняясь приказу, уходят из деревень. А женщины остаются, и одна из них узнала бы своих лордов и кинулась бы им в ноги, прося не забирать мужчин в самый разгар жатвы. И они бы выполнили эту просьбу, потому что женщина — это Гилас, и Гилас говорила бы голосом этой женщины, предостерег их от союза с Мологом. Они не посмели бы ослушаться.
— Я не виноват, — повторил Адриан. — Я же не…
Том вздохнул. Это был самый обычный вздох, короткий и усталый, но на Адриана он подействовал будто ушат холодной воды. Том отставил кружку, встал и прошёлся по хижине, ероша мокрые волосы. Адриан пытался понять, о чём он думает, какое решение собирается принять, — и чем больше пытался, тем меньше ему хотелось что-либо понимать. Хотелось забраться с головой под медвежью шкуру, свернуться под ней и заснуть… и спать, спать, пока всё это не закончится.
— Адриан. Слушай меня очень внимательно. То, что я сейчас скажу, очень важно. Я не собирался говорить тебе это так скоро, но ты не оставляешь мне выбора. Я не знаю, поможет ли это… Не знаю, способен ли ты вообще думать о том, что делаешь, или всё впустую. Но теперь я скажу, и ты уже не сможешь отнекиваться, будто не знал и не виноват.
— Да о чём ты говоришь?! — сорвался на крик Адриан — эта спокойная, монотонная и притом совершенно непонятная речь повергла его в ужас.
Том остановился. И сказал, не оборачиваясь и не глядя на Адриана, роняя слова с безжалостностью палача, опускающего топор:
— Адриан Эвентри, ты — человек, который в ответе за всё.
Это обвинение повисло в воздухе. Адриан не осмелился переспросить, а Том не продолжал. Это длилось ужасно долго, потом раздался странный свистящий звук, и Адриан понял, что Том всё это время задерживал дыхание.
— Ты не понимаешь, конечно. Конечно… Я попытаюсь говорить просто. Раз в поколение рождается человек, который неизбежно меняет всё, с чем соприкасается. Что бы ни случилось, будь то хоть великая радость, хоть большая беда, — оно всегда связано с этим человеком. С его поступком. С выбором, который он однажды сделал… как правило, не думая ни о чём. Адриан, ты понимаешь, что натворил прошлой ночью? Ты обратился к людям, которых мог просто пропустить мимо, они даже не заметили бы тебя. Но ты заговорил с ними, и это, может статься, изменит расстановку сил в будущей войне.
— Это… бред, — сипло сказал Адриан.
— В деревне твоего отца ты закричал, пытаясь выдать меня. Ты мог смириться и смолчать, но сделал другой выбор. Из-за этого пошёл слух, что тебя видели в деревне, и Индабираны спалили её дотла. Этого тоже не случилось бы, если бы не ты.
Том обернулся к нему. Он стоял далеко, и Адриан не видел его лица.
— Подумай хорошенько, Адриан. Вспомни свою жизнь, своё детство. Вспомни, часто ли вокруг тебя происходили вещи странные или страшные. Вспомни, часто ли это случалось оттого, что ты сделал или сказал что-то не подумав. Вспомни, как другие люди относились к тебе. И подумай, отчего бы так.
Адриан вспоминал.
Ему было что вспоминать.
Детские глупости… какие случаются с каждым.
Он поспорил с сыном оружейника, кто глубже нырнёт на реке и дольше просидит под водой. Он хотел выиграть во что бы то ни стало, он решил выиграть — и нырял снова и снова, и терпел, почти задыхался. Сын оружейника тоже решил выиграть, и он выиграл. Он пробыл под водой дольше, чем Адриан, и его тело вытаскивали из воды баграми.
Он удирал от матери, пытавшейся задать ему взбучку, и спрятался за коровником. Мать не видела, куда он забрался, и кричала, чтоб он выходил, и тогда он, чтобы отвлечь её, распахнул калитку в загоне. Он хотел просто создать суматоху, чтобы мать о нём забыла, но из коровника выскочил бык и поднял на рога трёх человек, прежде чем взбесившуюся скотину успели пристрелить из арбалета.
А однажды его за какую-то провинность заперли в чулане, и он со скуки и от обиды поменял содержимое нескольких горшочков, которые нащупал в темноте. Вот пусть, думал, матушке вместо сахару соли насыплют в пирог. Насыпали — только не соли вместо сахару, а крысиного яду вместо перца, и, по счастью, не матушке, а часовому в караулке, который попросил крепко перченный супчик и свалился после него с жестокой хворью — едва оклемался потом…
Всё это глупости. Незлобивые детские глупости, которые случаются со всяким. И ведь он никогда не хотел ничего плохого. Просто так получалось.
Адриан почувствовал далёкую тупую боль — и обнаружил, что грызёт кулак. Вздрогнув, он отдёрнул руку.
Том стоял напротив и не сводил с него взгляда.
— Откуда ты знаешь? — спросил Адриан.
Том недобро усмехнулся в ответ.
— Я много чего знаю, парень. Дай боги тебе никогда не узнать того, что знаю я. Но ты понимаешь теперь, почему тебе нельзя было оставаться в Эвентри? Ты и без того успел наделать бед. Пока что ты мал, и беды от тебя тоже малые… были, — короткая кривая улыбка пробежала по его лицу и пропала. — Теперь ты подрос, мальчик, и творимые тобой беды подросли. Если ты уже сейчас одним своим словом палишь деревни и меняешь ход войн, то что будет дальше?
— Ты убьёшь меня? — в ужасе спросил Адриан.
Том посмотрел на него с осуждением.
— Думай, — приказал он.
Но думать не получалось. Он был слишком ошарашен и напуган, чтобы думать. Ему смертельно хотелось домой, в Эвентри, и пусть бы мать кричала, и отец глядел мимо, пусть бы Бетани язвила, шипела Алисия и малыш Бертран крутился под ногами, пусть бы Ричард смотрел с брезгливостью, пусть Адриана продали бы клану Сафларе… и пусть даже его возненавидел бы Анастас, пусть бы узнал обо всём и возненавидел за это — пусть! Только бы вернуться.
Адриан замотал головой, разбрызгивая навернувшиеся слёзы, за которыми ничего не было видно. Лицо Тома расплывалось и таяло в полутьме, а Адриану так хотелось понять, что же на нём написано.
— Может, и стоило бы тебя убить, — сказал Том. — Другой так и поступил бы на моём месте. Я бы так поступил… лет десять назад. Возможно. Но теперь — нет. Теперь я поступлю с тобой иначе, мальчик.
— К-как?
Твёрдая рука взяла Адриана за подбородок. Он дёрнул головой, пытаясь вырваться, стыдясь слёз, стыдясь страха, но не получилось. Том безжалостно разглядывал его. В нём не было ни милосердия, ни жалости, ни капли сострадания. Он мог только обвинять, и обвинял. Как и все взрослые.
— Тебе придётся научиться жить с тем, что ты есть, — спокойно сказал он. — Это будет непросто. Я попытаюсь помочь, чем смогу, но многое зависит от тебя… как и всегда. Я же говорил, ещё рано было для этого разговора, — вздохнул Том и выпустил его подбородок. Адриан запоздало отдёрнул голову.
— Зачем ты меня сюда привёз?
— По-прежнему не понимаешь? Чтобы ты был подальше от людей. От мест, которые можешь уничтожить играючи, одним словом, даже и не заметив.
— Но это ведь не помогло! — вскочив, почти торжествующе закричал Адриан. — Ты видишь, что не помогло! Не имеет никакого значения, где я и с кем. Ты ушёл, а я был совсем один. И всё равно я сделал… я изменил!
Он задохнулся, осознав только что сказанное. Если Том не лжёт и не сошёл с ума… и если не сошёл с ума сам Адриан, то… то он способен менять всё, что ему вздумается! В голове всё разом перемешалось. Проклятый Том, почему он объявился только теперь? Ведь столько всего можно сделать! Можно даже заставить родителей изменить решение насчёт женитьбы. Можно… можно всё изменить!
Рука Тома легла ему на плечо. Адриан посмотрел ему в глаза, впервые без опасения, без страха, — и увидел там лишь обречённость.
— Ты всё-таки ничего не понял, — сказал Том. — Я знал, что не поймёшь… Ты не тот, кто изменяет, Адриан. Ты — тот, кто отвечает. Ты не способен ничего изменить сам. Просто ты в ответе за всё, что изменится. И тебе так или иначе придётся держать этот ответ.
Адриан упрямо смотрел на него. Том вздохнул и покачал головой.
— Как предсказуемо, — пробормотал он — Что ж. Хорошо. Будем считать, что мы друг друга поняли… хотя это не так, конечно.
— Теперь я могу уйти? — с надеждой спросил Адриан.
Том посмотрел на него с нескрываемым изумлением.
— Ты слушал меня или нет? Тебе нельзя находиться среди людей и отвечать за их судьбы до тех пор, пока ты не научишься отвечать хотя бы за самого себя…
— Да хватит мне мораль читать! — сбросив его руку со своего плеча, зло крикнул Адриан. Голова горела, в ней не было ни единой мысли, но мысли и не требовались — слова, накопившиеся за последний унизительный месяц, сами собой слетали с языка. — Какого дьявола ты вообще себя назначил моим учителем?! Кто тебя об этом просил? Какое вообще тебе дело до меня? Это были мои люди! Те, в деревне! И семья была тоже моя, и жизнь была моя! А ты по какому праву в неё влез, всё сломал, когда тебя никто не просил?! С чего ты взял, что можешь за меня решать?! Это мне решать, а не тебе! Вот возьму, скажу сейчас… сделаю что-нибудь, и убью тебя! И уйду, и буду делать что хочу!
Он умолк, захлебнувшись, и только часто дышал, стискивая кулаки. Том смотрел на него.
— Значит, убьёшь, — сказал он. Это не было вопросом.
Кровь отхлынула у Адриана от лица и от сердца. Руки и ноги озябли и стали неметь.
— Убьёшь, стало быть.
— Том…
— Убьёшь, — утвердительно повторил Том в третий раз и протянул к Адриану руку. Тот шарахнулся, но Том всего лишь снял с его пояса нож, который сам же дал ему два дня назад. Адриан ошалело смотрел, как он вынимает клинок из ножен — и вкладывает рукоятку в мокрую от пота ладонь Адриана.
— Так убей, — сказал человек по имени Том, разводя руки в стороны. — Давай. Убей. Вот сюда ударь, в печень. Долго не протяну. Прими решение, Адриан, и измени мир.
В его голосе звучала неприкрытая, желчная издёвка. Адриан неуклюже попытался всунуть нож обратно в ножны, но Том перехватил его руку и силой стиснул пальцы Адриана вокруг рукоятки.
— Бей, — приказал он.
Адриан подскочил к двери и, распахнув её, швырнул нож в столб белого света.
Он не обернулся, так и стоял, задыхаясь и дрожа. Он не видел, куда упал нож, и видеть не хотел. Он чувствовал себя страшно глупо, и ещё было стыдно, что не смог ударить.
— Том, прости меня, — прерывисто сказал он. — Я дурак. Я не должен был… я глупость сказал и…
— Ты умеешь извиняться, — негромко сказал Том за его спиной. — Надо же. Я знал, что ты не совсем потерян.
Адриан порывисто обернулся к нему, чувствуя волну громадного облегчения, затопившую его — и от того, что всё позади, и от того, что так легко отделался. Он открыл было рот, чтобы на всякий случай повторить извинения — да так и застыл, увидев, что Том снимает ремень.
— Теперь иди сюда. И снимай штаны.
— Я же извинился, — деревянно сказал Адриан. — Я прошу прощения…
— Я тебя прощаю. Подойди и спускай штаны, Адриан.
Адриан сделал шаг назад, потом ещё. Потом рванулся прочь из хижины.
Как всегда, Том не стал повторять в третий раз.
Адриана никто никогда не бил. Нет, конечно, в своей жизни он получил не одну сотню затрещин, тумаков и подзатыльников — причём не менее половины из них от Тома. Но его никогда не пороли. Это было немыслимо, ему даже в голову такое не могло прийти — он был сыном лорда, а для лорда нет большего позора, чем порка. Секут провинившихся солдат, и преступников, и послушников в монастырях, и крестьянских детей. А знатных наказывают совсем иначе — сажают на хлеб и воду, отправляют на чёрные работы, в крайнем случае, бьют палками по пяткам… Это благородные наказания, и каждый мужчина должен стерпеть их с достоинством, подобающим чести его клана.
Честь клана Эвентри была навеки запятнана поркой Адриана.
Том был безжалостен. Адриан дрался с ним, но очень скоро оказался бесцеремонно смят и скручен. Поняв, что экзекуция неминуема, он стиснул зубы и дал себе слово не проронить ни звука, но уже через минуту кричал во весь голос. Ему казалось, что ремень выдирает из его ягодиц куски мяса, что каждый новый удар просекает плоть всё глубже, до самой кости. Пытаясь стинуть зубы, Адриан прокусил язык до крови и оставшуюся часть экзекуции глухо скулил, уткнувшись лбом в предплечье. Он даже не заметил, когда Том отпустил его и отошёл, оставив лежать в траве и давиться слезами и ненавистью.
Ему неоткуда было узнать, что Том бил его на порядок слабее, чем простолюдины бьют своих чад, и уж ни в какое сравнение это не шло с поркой, применявшейся ко взрослым людям. Но это не имело никакого значения. Не имели значения причины, которыми руководствовался Том, когда сделал с ним такое — сделал уже после того, как Адриан извинился, сделал, сказав, что принимает извинения! Адриан готов был сносить постоянные издёвки и зуботычины, готов был забыть прошедший кошмарный месяц, готов был даже попытаться понять, что этот человек похитил его из родного дома, руководствуясь самыми благородными побуждениями. Всё это было ужасно, и всё это Адриан был готов простить. Всё, кроме порки.
Он встал на колени и кое-как натянул штаны. Зубы всё ещё были крепко сцеплены, так, что Адриан не смог бы их разжать, даже если бы захотел. Лицо опухло от слёз, но всхлипы больше не рвались из груди. Он прерывисто выдохнул сквозь зубы и повернулся к дому.
— Очухался? — спросил Том. — Теперь марш к ручью, бадья пустая. И огород не полот второй день.
Адриан не проронил ни звука. Повернулся и пошёл за водой. А потом до самого вечера прилежно вкалывал на огороде, словно батрак. На ужин Том дал ему вдвое большую, чем обычно, порцию каши и немного мяса, что прежде случалось всего один раз. Адриан всё съел и лёг спать, едва стемнело, ловя на себе одобрительный взгляд.
Он лежал в темноте, свернувшись под шкурой, и слушал. Когда дыхание Тома стало ровным, Адриан беззвучно выбрался из-под одеяла и вышел из дома.
Стояло полнолуние, и тропа была как на ладони. Было почти так же светло, как днём. Адриан смотрел на уползающий вниз склон и вспоминал, как шёл здесь в прошлый раз.
Он ведь так и не сказал Тому, где пробыл целые сутки. Встреча с Гвэнтли произошла днём, когда Адриан уже облазил все ущелья вокруг и собирался возвращаться. И хотя воинственность мологопоклоннков, решивших убрать свидетеля, изрядно его напугала, он тем не менее понимал, что эти люди — его первый и, может статься, последний шанс найти путь в долину. Он отбежал на безопасное расстояние и пошёл за ними, прячась за обломками скал, пока не понял, куда именно они идут. Можно было, конечно, прямо тогда и сбежать, но почему-то он вернулся. Адриан и сам тогда не очень понимал, почему, — может, боялся, что в долине, на открытой местности, которой он совсем не знал, они заметят его и всё-таки убьют. Поэтому он решил, что пока что вернётся, но хорошенько запомнив дорогу. Он пытался запомнить её весь остаток дня, бродя меж ущелий, заблудился и в итоге заночевал среди скал, решив, что утром, при свете дня, вернее выбредет на знакомые ориентиры. Так и произошло, и, сложись всё иначе, он, может, даже похвастался бы перед Томом своим неожиданно открывшимся топографическим талантом. Ведь почти от самого низовья гор к хижине Адриан вернулся сам.
Стало быть, теперь и спуститься он сможет тоже сам.
И тем не менее не было предела его счастью, когда он утром всё-таки вышел к хижине — и почти сразу увидел поднимающегося по тропе Тома. Кто бы мог подумать, что это когда-нибудь покажется ему счастьем… Адриан бы точно такое представить не мог. Не теперь.
Он услышал позади какой-то шорох и замер. Но это всего лишь ветер шевелил тряпьё, развешенное под окном.
Адриан встал на колени, содрогнувшись от воспоминания о том, как стоял вот так же сегодня утром, пока его охаживали ремнём, и зашарил в траве. Нож, который он вышвырнул через дверь, нашёлся довольно скоро. Адриан очистил его от прилипшей травы и прицепил к поясу. Встал, выпрямился, снова настороженно прислушался.
Потом зашагал вниз по тропе.
Он преодолел половину пути, прежде чем вспомнил, что ничего не взял с собой в дорогу — ни запасной одежды, ни инструментов, ни еды. Всё, что у него было, — нож Тома. Однако возвращаться было поздно, и Адриан утешился тем, что от подножья гор недалеко до деревни, а там ему наверняка укажут путь в замок Гвэнтли…
Мологопоклонников Гвэнтли, присягнувших Одвеллам, которые уничтожили его семью.
* * *
Когда Адриан вышел в долину, небо на горизонте уже начинало розоветь. Он потерял кучу времени при спуске, но ничего не мог с этим поделать — приходилось всё время останавливаться, пытаясь восстановить в памяти дорогу, которой он шёл вчера утром, а в темноте это было вдвойне трудно — хорошо хоть ночь выдалась лунной и ясной. Ночь, но не утро — к рассвету небо помутнело, и над долиной сырел туман, временами срывавшийся в мелко моросящий дождик. Было холодно, и у Адриана зуб на зуб не попадал. Он старался не думать о том, что будет, если начнётся настоящий ливень.
Подумав, к деревне Адриан пошёл не прямо, а вдоль хребта, держась дороги, но не приближаясь к ней. Он сам не знал, чего опасается, помимо, разумеется, Тома, который уже наверняка проснулся и обнаружил побег своего узника; однако не прошло и часа, как Адриану пришлось возблагодарить Гвидре, направившего его окольной дорогой. По тракту в направлении деревни проехал отряд вооружённых людей, за ним, чуть позже, ещё один. Пригибаясь, Адриан пробрался меж сползавших с горного склона деревьев и кустов так близко к дороге, как мог, — и тогда увидел деревню, пестревшую от жёлто-фиолетовых одежд клана Гвэнтли. Мужики со всей деревни сходились и под руководством гвэнтлийской стражи строились рядами; воодушевлёнными они не выглядели, но и удивлёнными или недовольными — тоже. Лорд посылал их сражаться, и они шли, хотя и не знали, за что им предстоит биться и, может быть, умирать. Только женщины голосили, но не слишком шумно — жёлто-фиолетовые одежды смиряли и их.
Крестьянам не доставало ни выправки, ни расторопности; люди Гвэнтли, большинство их которых не спешивались, довольно бестолково пытались организовать их. Адриан понял, что это затянется надолго, а он не мог ждать — ему то и дело чудилось, что он уже слышит дыхание Тома на затылке, и вот-вот вкрадчивый голос скажет ему на самое ухо: «Далеко ли собрался, парень?» Это неожиданно яркое видение заставило Адриана порывисто обернуться и, убедившись, что пока — но только пока — это лишь его воображение, всё-таки сдвинуться с места.
Выбора не было — деревню пришлось обходить. А что за ней и, главное, где будет безопасно, а от чего надо держаться подальше — Адриан понятия не имел.
А тут ещё зарядил дождь, как по заказу. И лил весь день, то стихая, то расходясь с новой силой, лупя по земле, сминая траву и высекая из тракта брызги грязи. Адриан сперва бежал, потом перешёл на шаг, потом просто брёл вдоль дороги, уже не прячась. За деревней тянулись поля, сколько хватало взгляда, кое-где маячили рощицы, но ни городских стен, ни громады замка, ни хотя бы огней новой деревушки было не разглядеть. Если что-то из этого и находилось в долине, то сейчас дождь и туман скрадывали их. Адриан помнил путь, которым Том привёл его сюда, но не собирался им возвращаться: они шли едва различимыми тропами через поля, останавливаясь на хуторах, хозяев которых Том в основном знал, и относились они к Адриану ничуть не приветливее, чем сам Том. Любой из них, увидев его теперь, чего доброго, запер бы в погребе, а сам тем временем донёс. Нет уж, лучше одному.
Он и шёл — один. Ни редкие крестьяне, избегнувшие призыва и работавшие в поле, ни столь же редкие путники, проезжавшие по тракту, не обращали на Адриана внимания. Тем временем он явно продвигался в глубь фьева: дорога становилась шире, придорожные сторожки — крепче, стали попадаться путевые столбы, на которых с трудом, но можно было разобрать незнакомые Адриану названия. Возле одного такого столба он стоял особенно долго, вчитываясь в ничего не говорящие ему слова и пытаясь понять, куда же он идёт и, когда всё-таки куда-нибудь дойдёт, что станет там делать. Так он стоял, пока его не обнюхала, а затем и облаяла невесть откуда взявшаяся собака. Её загривок доходил Адриану до бедра, и настроена она была явно недружелюбно, так что Адриан поспешил убраться.
Дождь лил весь день, хотя, поскольку не было солнца, Адриан даже не мог определить, сколько времени прошло. Грубые деревянные башмаки, которые Том ему презентовал вместе с остальными обносками, не были приспособлены для долгой ходьбы — а может, к ней не был приспособлен Адриан, но только в конце концов он стёр ноги до крови, а потом ещё и потерял башмак, причём заметил это далеко не сразу, благо шлёпать босиком по мягкой грязи было не очень трудно. Обнаружив потерю, Адриан выругался — и обернулся, впервые за весь день пути едва ли не с надеждой. Но дорога пустовала, теряясь вдали, — и, разумеется, Тома на ней видно не было. Адриан закусил губу, стараясь не думать о том, правильно ли поступил, и побрёл дальше.
То ли тучи сгущались, то ли уже смеркалось, когда он вышел к перекрёстку, у которого располагалась небольшая опрятная таверна. Её благопристойность выдавали до блеска вычищенная вывеска над входом и крепкий забор, опоясывавший само здание. В ворота смогла бы пройти карета, запряжённая тройкой, а к самим воротам вела столь же широкая дорога — приличное заведение, приличные посетители. Сам лорд Эвентри не погнушался бы остановиться в подобном месте, если бы ему случилось путешествовать с семьёй, и даже леди Мелинда сочла бы такой выбор приемлемым.
Грязным, оборванным и совершенно нищим мальчишкам вроде Адриана тут точно никто не обрадуется.
Эта часть дороги уже была довольно оживлённой: пока Адриан стоял, голодными глазами глядя на зазывно трепетавший под вывеской огонёк лампы, в ворота успели проехать двое всадников. Из-под навеса к ним немедленно подбежал мальчик, помог господам спешиться и увел коней туда, где было сухо, тепло и сытно; господа отправились в зал таверны, соответственно тем же нуждам. Ещё месяц назад хозяин подобного места выбежал бы Адриану навстречу, кланяясь в пояс и спрашивая, чего угодно сиятельному господину. Сейчас можно было попробовать прокрасться в зал, но, скорее всего, его тут же вышвырнут вон, хорошо если не побьют… а брести на задний двор и клянчить у поваров корку хлеба Адриан не мог. Все-таки он был Эвентри и пока что об этом помнил.
Истошное конское ржание и чей-то сердитый окрик за спиной вырвали его из тоскливой задумчивости. Адриан инстинктивно шарахнулся в сторону, успев заметить тёмные конские копыта, взмахнувшие прямо перед его лицом, так что в этот краткий миг Адриан мог разглядеть каждый гвоздь на подковах. Ошалев от неожиданности, Адриан грохнулся в грязь, расплескав её по траве, по конским ногам и собственной безнадёжно изгаженной одежде.
— Что ж под копыта лезешь, щенок! Жить надоело?! — рявкнул всадник.
Адриан помотал головой, будто кого-то и впрямь интересовал ответ, а потом словно очнулся. Да что это он?.. Этот человек — не Том! И если Том отчего-то решил, что смеет обращаться с сыном лорда, как с батраком, и по праву силы так и поступал, то ни у кого другого этого права и подавно не было.
— Я не лез под копыта вашей лошади, сударь. Это вы едва меня не задавили, — холодно ответил он и поднялся, сообразив наконец, как глупо звучат эти слова от человека, валяющегося в грязи.
Человек не ответил. Это заставило Адриана поднять голову — и обнаружить, что мужчина внимательно смотрит на него.
— И то правда, — поймав встречный взгляд, легко согласился всадник — и вдруг рассмеялся. Он был молод, чуть-чуть старше Ричарда, в дорожной одежде серых тонов, и не казался ни хмурым, ни злым. — И впрямь, к месту ты меня осадил, мальчик! Прости, я просто боялся, что тебе досталось. Ты не ушибся?
— Нет, благодарю вас, — с достоинством ответил Адриан, пытаясь отмахнуться от воспоминания, как с тем же вопросом тряс его Том в самую первую ночь, когда он сиганул с телеги.
— Тебе, я так понимаю, негде ночевать?
— Я собирался остановиться в этой таверне, — с неожиданной для него самого иронией ответил Адриан.
Мужчина понимающе улыбнулся.
— Какое совпадение, я тоже. Но ты, как я вижу, стеснён в средствах, а это местечко не из дешёвых, так что позволь мне возместить тебе неудобства от этого досадного инцидента.
Адриан кивнул, деликатно скрыв бурный восторг. Всадник въехал во двор таверны, Адриан держался рядом с ним, но всё равно удивился, когда мужчина сказал привратнику: «Этот мальчик со мной». Надо же, и на землях вероломных Гвэнтли встречаются иногда честные люди…
Взгляд, которым одарил Адриана хозяин таверны, был оскорбительнее всего — ну или почти всего, — что ему пришлось вытерпеть от Тома. К счастью, неизвестный благодетель не стал задерживаться в зале и сразу снял комнату. Это и в самом деле было очень пристойное заведение: помимо общих спален, здесь были также одноместные покои, которые мужчина и занял. Комната оказалась маленькая, но чистая и уютно убранная, на стене висел гобелен, дощатый пол оказался устлан ковром. Там была только одна кровать, но Адриан уже привык спать на полу, и на сей раз даже не испытал досады — только бесконечную радость от мысли, что наконец-то можно будет оказаться в сухости и тепле, и даже поспать. Он был на ногах уже больше суток, и только привитые матерью, въевшиеся до мозга костей нормы этикета не позволили ему немедленно растянуться на пороге и вырубиться.
— Как тебя зовут? — спросил мужчина.
— Тобо, — ответил Адриан.
Сказал — и сам поразился этому ответу. Он понятия не имел, почему ответил именно так, но тут же рассудил, что это правильно — ни к чему распускать слух, что член клана Эвентри опустился до такого состояния. Мужчина улыбнулся и кивнул, будто это имя для него что-то значило.
— Отлично, Тобо. А меня можешь звать милорд Элжерон, или просто милорд.
Адриан промолчал — не место и не время было объяснять, что он будет называть милордом только своего отца, главу своего клана и конунга.
Элжерон предложил ему вымыться, и Адриан с радостью согласился. Принесли воды; мужчина спустился вниз, распорядиться насчёт ужина, а Адриан с наслаждением смыл с себя грязь и усталость этого бесконечного дня. Дождь за окном всё шумел, и гул низвергавшейся с небес воды казался даже громче, чем когда Адриан находился снаружи. Вдалеке раскатисто загремело, за окном сверкнула молния. Дождь наконец переходил в настоящую грозу — грядущая ночь полностью принадлежала Мологу. Адриан поёжился, подумав о том, что мог провести её под открытым небом, — и тут же облегчённо вздохнул. Пусть там дождь, а тут — свет, спокойствие, тёплая вода и мягкий ковёр на полу… и на сегодня ему этого было довольно.
Адриан закончил мыться и, взяв выпачканную одежду, остановился в нерешительности. Страшно не хотелось снова напяливать на себя эти лохмотья, ещё и такие грязные. За этими размышлениями и застал его Элжерон.
Он вошёл так внезапно, что Адриан невольно вздрогнул и быстро прикрылся своим тряпьём. Элжерон негромко рассмеялся и закрыл за собой дверь. В руке он держал бутылку вина.
— Не смущайся, Тобо. Мы ведь оба мужчины. Можешь бросить одежду тут, слуги заберут и выстирают.
Адриан хотел ответить, что он и сам может, потом закусил губу и, отвернувшись к стене, поспешно натянул штаны. Обернувшись, он увидел, что Элжерон по-прежнему стоит у двери, держа бутылку в руке, и смотрит на него.
— Из какого ты клана, мальчик?
Адриан распрямил спину. Он не собирался отвечать, но сам вопрос одновременно и ошарашил, и оскорбил его. Выходит, этот человек сразу распознал в нём благородное происхождение — и всё равно обращался со снисходительным покровительством, будто с безродной швалью.
— Не хочешь — не отвечай, — сказал Элжерон. И добавил: — Тобо…
Он шагнул к кровати и поставил непочатую бутылку на столик у изголовья. Адриан снова вспомнил, как на его глазах напивался Том, — и его пронзило чувством необъяснимой, смутной угрозы… которой он вовсе не чувствовал, находясь рядом с напивавшимся Томом, но ощутил теперь, рядом с этим человеком.
Тот будто почувствовал это напряжение и предложил:
— Выпьешь?
— Нет, — мгновенно ответил Адриан.
— Почему нет? Вино согрело бы тебя. Это хорошее вино, аутеранское, трёхлетней выдержки… или ты привык к чему-то получше?
Адриан напряжённо молчал. Мужчина снова рассмеялся. У него было приятное открытое лицо, и смех приятный, и говорил он ласково, но только Адриан почувствовал неудержимое желание выскочить в окно, даром что находился на втором этаже.
— Ну как хочешь, как хочешь. Я не буду тебя расспрашивать, не тревожься. Если ты сбежал из дому, это твоё дело. Но сейчас, Тобо, надвигаются неспокойные времена, и благородным мальчикам лучше не оказываться в одиночку на проезжих трактах…
Произнося эти слова, он неспешно двигался вперёд, но Адриан понял это, только когда оказался прижат к стене. Элжерон упёрся одной рукой в стену над плечом Адриана, а другую положил ему на пояс — спокойным, хозяйским жестом.
— Что вы делаете… — потрясённо начал Адриан.
— В первый раз? Ничего. Тебе надо привыкать, если ты и впрямь вздумал валандаться по дорогам без охраны — с такой-то смазливой мордашкой…
Адриан попытался поднырнуть ему под руку. Почти получилось — Элжерон в последний миг успел ухватить его за край рубахи.
— Куда бежишь, глупый? Куда ты пойдёшь?
Он рванул Адриана к себе — и через мгновение заорал, получив удар промеж ног, в который Адриан вложил всю свою силу, ярость и страх.
Надо было воспользоваться этим и давать дёру, и Адриан так бы и поступил, но тут его взгляд упал на бутылку, сиротливо стоявшую на краю стола. Адриан схватил её и круто развернулся, намереваясь обрушить на голову совратителю, — но не успел. Элжерон перехватил его руку до того, как она начала опускаться, и резко вывернул её назад и вверх. Адриан, вскрикнув от боли, разжал пальцы и оказался на полу, чувствуя бьющее в лицо горячее, чистое дыхание. «Он не пьян, он даже не пьян!» — пронеслось в мозгу у Адриана. Он снова попытался ударить в промежность, но был придавлен к полу тяжёлым телом и не смог высвободить колено. Стиснув зубы, Адриан вскинул руки, вцепился в отвороты куртки Элжерона и со всей силы врезал головой ему в лицо.
Стряхивая с себя обмякшего врага, Адриан инстинктивно всё ещё хватался за его куртку. Вскакивая, он услышал треск, заглушивший сдавленное ругательство. И обернулся.
Элжерон стоял на коленях, собирая в подставленную ладонь кровь, капавшую с переносицы, и бормотал проклятья. Подкладка его куртки порвалась, свиток белой бумаги, скрученной в трубочку, вывалился на пол и лежал теперь рядом с чудом уцелевшей бутылкой.
Бумага была перевязана двойной лентой с печатью на конце, белого и красного цветов.
Цветов клана Эвентри.
Адриан смотрел на неё несколько бесконечно, непозволительно долгих мгновений, которые могли стоить ему жизни. Потом, не думая, что делает, кинулся вперёд и подхватил свиток с пола за миг до того, как окровавленные пальцы Элжерона успели вцепиться в его запястье. Увернувшись, Адриан бросился к двери и, в три прыжка преодолев лестницу, стрелой промчался через нижний зал. Он уже был у выхода, когда с лестницы послышался гневный крик Элжерона:
— Держите его! Остановите мальчишку! Он вор!
Адриан кинулся во двор. Мальчик-слуга, услышавший крик, схватил его за рукав. Адриан вырвался и побежал вперёд, к воротам. Сзади уже настигала погоня.
— Ворота! Ворота закройте! Стой, паскуда, не уйдёшь! Собак, собак спускай!
«Эвентри, — отрешённо думал Адриан, выскакивая со двора снова в дождь, ветер и мрак. — Он Эвентри. Как он может быть с Эвентри? Как Эвентри могут быть… такими?..»
— Адриан!
Он инстинктивно вскинул голову. На том самом месте, где всего час назад ему встретился проклятый Элжерон из клана Эвентри, теперь стояла карета. Дверца была распахнута настежь, и женский голос кричал оттуда:
— Сюда, быстрее!
Поскальзываясь в грязи и пригибаясь под нещадными ударами дождевых струй, Адриан юркнул в карету. Дверца захлопнулась за ним, и карета рванула с места так, что Адриан повалился вперёд. Крики и проклятья остались позади и быстро стихли. Остался только шум дождя, барабанившего по крыше кареты, и раскаты грома — голос Молога, заявлявшего своё право на эту ночь.
Адриан с трудом сел прямо и посмотрел в лицо своей спасительнице. Он ничего толком не мог разглядеть во мраке, но тут она взяла его за руки, и тогда каким-то непостижимым образом он увидел — и застыл, не понимая, но зная, где и когда он уже видел это лицо.
И так же не понимая, почему, он глубоко вздохнул и разрыдался, без стыда и утайки, не пытаясь сдержаться. Тёплые ладони вокруг его рук сомкнулись крепче, и Адриан только теперь вспомнил, что эта женщина, кем бы она ни была, назвала его по имени.
— Не бойся, Адриан, — сказала она. — Теперь всё будет хорошо.
Часть 2 Праздник Эоху
1
Третьего дня последнего летнего месяца в четверть часа пополуночи Магдалена Фосиган отправилась искать своего мужа.
— Миледи, постойте! Миледи, что вы задумали? О Cветлоликая Гилас, помилуй… Что вы делаете? — проклиная свой болтливый язык, надрывался слуга.
— Отстань. Ступай к себе. Ложись спать, — отвечала Магдалена Фосиган, вытягивая из платяного шкафа очередную сорочку мужа, критически оглядывая её и бросая на пол, где уже громоздился ворох одежды.
Эд был не очень крупным мужчиной, но выше Магдалены на голову и, разумеется, значительно шире в плечах. И если рубашку ещё можно было заправить в штаны, то с самим штанами и с курткой возникли сложности. Согласно признанной в Сотелсхейме моде, одежда подчёркивала контуры тела, потому костюм, сшитый не по мерке, немедля навлёк бы подозрения. Наконец Магда вспомнила, что Эд был недоволен последним костюмом, который изготовила для него швея конунга, — дескать, жмёт в паху и подмышках, — и клялся впредь одеваться только у портных из Нижнего города. Это было вполне в его духе, однако сейчас Магдалене оставалось лишь порадоваться, что лучшей швее Бертана не удалось угодить её мужу.
Чтобы найти злосчастный костюм, весь шкаф пришлось перетряхнуть заново.
— Миледи, о, миледи…
— Ты ещё здесь? Вон, — сказал Магда и вытолкала слугу за дверь.
Одеться без посторонней помощи оказалось не так-то просто, тем более что она совершенно к этому не привыкла, — но выяснилось, что в мужском костюме намного меньше крючков и завязок, чем в женском. Надеть платье для бала без помощи двух горничных было занятием безнадёжным, в охотничий же костюм Эда Магда сумела облачиться за несколько минут. Разумеется, он болтался на ней, и сапоги тоже оказались велики, но Магда затянула потуже пояс и стала выглядеть как пятнадцатилетний мальчишка, влезший в обноски старшего брата. Костюм был из чёрного бархата, и тёмный цвет отчасти скрадывал лишние складки. Впрочем, вряд ли кто-то будет присматриваться к ней слишком пристально.
Оставались ещё волосы, и они оказались самой серьёзной проблемой. В помещении принято снимать головные уборы, а капюшон плаща поможет только на улице. В задумчивости постояв перед зеркалом с минуту, Магда наконец решилась и, перехватив волосы на затылке, заплела их в тугую аккуратную косу — так же, как делал Эд. Конечно, её волосы были намного длиннее, чем у Эда, но всё же короче, чем у некоторых мужчин. Перевязав свободный кончик волос лентой, Магда посмотрела на себя. Из зеркала на неё глядел бледный черноволосый юноша с напряжённым лицом, готовившийся совершить отчаянную ночную вылазку из родительского дома. «Наверное, таким был бы наш сын», — подумала Магдалена и, перебросив через руку дорожный плащ, вышла из дому.
Была половина первого ночи.
Верхний город, где располагался их особняк, давно погрузился в сон. Все увеселительные заведения Сотелсхейма находились в нижней части города, и там-то жизнь кипела в любое время суток. Столица Бертана всегда была весёлым местом, а с тех пор, как в Сотелсхейм пришли Фосиганы, ночные гулянья приобрели ещё больший размах. Первым указом, который издал Грегор Фосиган, взойдя на конунгский трон, стало повеление о начале строительства храма Тафи — прямо в городе, на пересечении главных улиц. Это было неслыханно и сперва вызвало всеобщее возмущение: никто из прежних властителей Сотелсхейма не возводил в городе храмов богам своего клана. Фосиганы же таким образом будто заявляли, что обосновались в Сотелсхейме надолго. Однако недовольство быстро утихло, когда одновременно с храмом вокруг него стали возводиться всякого рода увеселительные заведения. Ничего непристойного, конечно — для непристойностей существовали трущобы, — всего лишь две дюжины кабаков, таверн и игровых домов облепили святилище своей покровительницы со всех сторон, за несколько десятилетий превратившись в отдельный квартал, где проводили ночи не только приезжие и городские гуляки, но и многие мужчины из клана Фосиган. И неудивительно — в Верхнем городе ничего подобного не было. Верхний город вообще был другим миром — миром респектабельности, давних традиций и религиозного смирения. И, конечно, миром женщин.
Магда Фосиган ненавидела этот мир так же сильно, как и весёлый мир богини Тафи. Она ненавидела богиню Тафи. И всех остальных богов.
Ворота между Верхним и Нижним городом запирались на ночь только зимой, а в летние месяцы стояли открытыми — иначе благородные мужи клана штурмовали бы стены каждое утро, мертвецки пьяными возвращаясь к своим жёнам в Верхний город. Магда взяла свою любимую кобылу, которую ценила за тихий нрав и понятливость, и уже через несколько минут пересекла границу между миром, к которому принадлежал её муж, и миром, к которому не принадлежали ни он, ни она. Караульные у ворот не обратили никакого внимания на закутанного в плащ всадника, проехавшего через ворота; не заинтересовались ею и гуляки, возвращавшиеся из города домой. Был риск нарваться на ночной патруль, но Магдалена знала, что в таком случае делать. Когда ворота остались позади, она пустила кобылу рысью. Нижний Сотелсхейм простирался ниже по холму, и квартал Тафи, сверкавший алыми и жёлтыми огнями на фоне кромешной темноты, узнавался безошибочно.
Магдалена Фосиган перешла на галоп.
«Спокойно, — сказала она своему бешено колотящемуся сердцу. — Спокойно».
Площадь Тафи раздирала прилегающие кварталы приглушённой какофонией музыки, криков и хохота. Все прилегающие к храму дома озарялись ярким светом, но двери их были плотно заперты, окна занавешены, а кое-где даже прикрыты ставнями, несмотря на летнюю жару. Хотя официально в этих заведениях не творилось ничего непристойного, до Верхнего города доходили самые извращённые и невероятные сплетни о том, что на самом деле происходит, когда улыбчивый слуга в золотистой ливрее закрывает за посетителем дверь. Никто не знал, как относится к этому сама богиня Тафи и нравится ли ей выступать укрывательницей тайных наслаждений и разврата, но судя по тому, что это длилось уже немало лет, и ни один из притонов ещё не обрушился и не сгорел, ничего против она не имела. Её лукавая улыбка, высеченная на миловидном лице статуи, венчавшей парапет над входом в храм, лишний раз свидетельствовала об этом.
Впрочем, на сей раз Магда надеялась, что нет нужды готовиться к худшему. Слуга сказал, что Эд отправился в «Серебряный рог» — закрытый клуб для мужчин, где преимущественно собирались заядлые охотники, чтобы за вином и картами ночь напролёт похваляться свежими успехами. Эд, с его славой и пристрастиями, выделял этот клуб среди прочих — и Магде следовало бы радоваться, что он не предпочитает «Серебряному рогу» «Вечный сад» или «Утреннее небо», которые располагались здесь же и имели куда более дурную репутацию. Вот и сейчас у дверей «Вечного сада» ворковала парочка, причём мужчина явно был пьян и говорил слишком громко, а женщина взвизгивала, но отнюдь не пыталась вырваться, что сразу выдавало род её занятий. Спешиваясь у входа в «Серебряный рог», Магда старательно отводила от них взгляд — и вздрогнула всем телом, когда мужчина громко окликнул её заплетающимся языком:
— Эй, малец! Иди-ка сюда, подсоби мне задрать юбку этой красотке! А то я никак один не справлюсь…
— Умолкни, мерзавец, я уж еле на ногах держусь, меня не хватит на двоих! — отвечала женщина хорошо поставленным музыкальным голоском и, хохоча, била мужчину веером по рукам.
Не поднимая головы, Магда ступила на порог и, пытаясь унять дрожь в руке, постучала по косяку дверным молотком. Звук вышел резким и, как ей показалось, чересчур прерывистым.
— Ну иди же-е…
— Оставь его, олух, видишь, мальчика и так качает.
Приоткрывшаяся дверь избавила Магду от необходимости продолжать выслушивать эти пошлости. Вежливое лицо лакея ничего не выражало.
— Чем могу быть полезен? — любезно осведомился он.
Вместо ответа Магдалена стянула с руки перчатку и, стиснув пальцы в кулак, позволила слуге полюбоваться её кольцом с оттиском Фосиганов на печатке. Лакей долго разглядывал его, близоруко щурясь, и когда Магде уже казалось, что сейчас он велит ей убираться вон, дверь наконец открылась достаточно, чтобы в неё можно было пройти.
— Добро пожаловать, милорд.
Магда незаметно выдохнула ему в спину, и, с трудом сохраняя ровный шаг, вошла в приглушённо освещённый коридор.
— Ваш плащ, милорд, позвольте.
Она колебалась мгновение, потом с отчаянной решимостью откинула капюшон. Лицо лакея по-прежнему ничего не выражало. Передавая плащ, Магдалена старалась не соприкоснуться с ним руками. Лакей передал его кому-то в полумраке коридора и снова повернулся к Магде.
— Прошу вас, милорд. Вы впервые у нас, не так ли? Я вас проведу.
Не дожидаясь ответа, он зашагал вперёд. Магда пошла за ним, с трудом преодолевая желание обхватить руками озябшие плечи.
Мужской клуб — место столь же запретное для женщины, как глубины храма Гилас — для всякого смертного, не принявшего постриг. Магда не имела ни малейшего представления, что будет, если её узнают. Но если держаться в тени, риск этого был не так уж велик. Она была Фосиган, и это избавляло её от любых вопросов… И как жаль, что правило это действовало лишь ночью и лишь в квартале лукавой Тафи. Очередная шутка богини, и на сей раз — очень злая шутка.
Лакей остановился, открыл дверь, и у Магды оборвалось сердце.
— Право слово, я клянусь, что он так и сделает! — воскликнул мужской голос, и ответом на него был дружный хохот дюжины мужчин, собравшихся в просторном, ярко освещённом зале. Свет был повсюду — свечи на столах, в настенных и напольных канделябрах, масляные лампы по углам и под потолком. Никакой тени, и совершенно негде укрыться. Лакей поклонился, отступая, и Магда твёрдо вошла в зал, не глядя на группу мужчин, сгрудившихся за карточным столом и вокруг него. Они что-то бурно обсуждали и смеялись, прервав игру, и никто из них не обратил на Магдалену внимания — несколько голов повернулось на шаги, но, не узнав вошедшего, мужчины вернулись к разговору. Если бы Магда могла, она бы немедленно повернулась и вышла прочь.
Эда среди этих мужчин не было.
«Рикки солгал мне?» — подумала она, и эта мысль отозвалась в ней мучительной, отчаянной надеждой. Но нет — скорее всего, слуга просто перепутал название клуба. Или Эд был здесь, но уже ушёл и сейчас возвращается домой… где вместо ожидающей его жены найдёт пустую постель… а может быть, он уже и сам давно лежит в постели — с какой-нибудь развязной девицей, прямо тут, за соседней стеной…
Магда сама не знала, какая из этих мыслей вызывала в ней больший ужас.
Но так или иначе, просто развернуться и уйти, не привлекая внимания, она уже не могла. К счастью, в зале находилось несколько кресел по углам. Одно из них было занято мрачным пожилым мужчиной, хмуро потягивавшим вино в стороне от компании молодёжи, и Магда тоже села в кресло на приличном расстоянии от него. Рядом немедленно очутился новый лакей, услужливо поинтересовавшийся пристрастиями молодого лорда. Магда рассеянно попросила вина на его вкус, чем осчастливила слугу, которому не часто выпадал случай самовыразиться подобным образом, и ненадолго от него избавилась. Мужчины за карточным столом тем временем продолжали шутить и смеяться. Почти все они были молоды, и никого из них Магда не знала в лицо. Она пыталась вслушаться в их болтовню, но ничего не понимала и нервничала всё сильнее с каждой минутой, когда дверь с шумом распахнулась и в зал вошёл рослый человек с широкой улыбкой на скуластом лице.
— Шутки в сторону, милорды, — вы что, всерьез полагаете, будто… О! Глядите-ка, кто явился! — наперебой заговорили мужчины, шагая к вновьприбывшему и пожимая ему руки. Некоторые специально вставали, чтобы сделать шаг ему навстречу. Похоже, это была популярная фигура в клубе — а к новичкам, по счастью, никто не проявлял ни малейшего интереса. «Хотела бы я знать, как они встречают Эда», — подумала Магдалена.
— Фокстер, где тебя Молог носил? — перекрывая гул остальных голосов, спросил один из мужчин. — Я лучше не буду даже говорить тебе, что ты пропустил, не то ты убьёшь меня, как гонца, принесшего дурную весть.
— Верно, Блейз, верно! Не говори ему! Шлялся дьявол знает где, будет ему наука! — хохоча, подхватили остальные.
Фокстер, непонимающе улыбаясь, прошёл к игральному столу и сел на освободившееся место. Его немедленно обступили — было ясно, что, несмотря на подначки, присутствующие сгорают от желания поделиться свежей сплетней. Это до того походило на поведение их жён, когда они собирались вместе, что Магда с трудом сдержала смех — но ей немедленно расхотелось улыбаться, когда она перехватила взгляд мрачного господина, сидевшего отдельно ото всех. То ли он не знал, в чём дело, то ли отнюдь не разделял всеобщего веселья.
— Так что там стряслось? — спросил Фокстер, рассеянно сгребая карты. — Ну, кто со мной сегодня? Блейз, Аленви… Твисто, может, ты? Давай. Джексит, я помню про долг, но не сегодня, ладно? Без обид…
— О да, обид на сегодня довольно, — со смехом сказал долговязый юнец с едва пробившимся над губой пушком, садясь напротив него. Двое других тоже заняли места, остальные сгрудились вокруг, попыхивая трубками и ухмыляясь.
— А что так? Кто и кого обидел? Уж не ты ли, Блейз, мой мальчик?
— Помилуй, делов-то было бы, если бы я! — расхохотался тот. — Ты знаешь, у меня обычно разговор короткий.
Мужчины взорвались хохотом. Магда смотрела на них, ничего не понимая и особенно остро чувствуя свою невероятную от них далёкость. Лакей поставил на подлокотник её кресла бокал, шепча что-то об урожае одиннадцатого года, но она едва заметила его и чуть не сшибла бокал локтем. «Выпью и уйду, — решила Магда. — Всё равно мне нечего здесь делать».
— Так что за обида? Довольно томить, господа, выкладывайте, — сказал Фокстер, небрежно сдавая карты.
— О, это невозможно пересказать, это надо было видеть, — закатил глаза Блейз. — Но так и быть, я скажу, слушай… Эфрин и Бристансон завтра дерутся на дуэли!
Рука, с ленивым изяществом раскидывавшая карты, замерла над сукном. Фокстер не улыбнулся, только его глаза расширились.
— Бристансон? — переспросил он. — С… Эфрином?!
— В том-то и соль анекдота, — усмехнулся другой партнёр, но в наступившей тишине смешок прозвучал фальшиво.
— Да он в своём уме?!
— В тот миг, вероятно, временно из него вышел. Но тогда это никому не показалось странным… верно, лорды?
— Не то слово, — отозвался один из зрителей. — Веришь, Фокстер, мне и самому хотелось надавать этому щенку пощёчин, боюсь, на месте Бристансона я бы не удержался. Но Сальдо — ходячее благородство, ты же знаешь, он жаждет удовлетвориться по всем правилам…
— Вы хотите сказать, — перебил Фокстер, — что Сальдо из клана Бристансон бросил вызов безродному выскочке Эфрину? Именно это вас так развеселило, милорды?
Никто не ответил. Фокстер швырнул карты на стол.
— Быть может, кто-нибудь из вас объяснит мне, что в этом смешного? — сухо спросил он.
— Ну, я же говорю, это надо было видеть, — неловко улыбаясь, отозвался наконец Блейз. — Никто толком и не понял, что случилось — я не понял, во всяком случае. Сперва они даже не разговаривали — ну, ты знаешь, какого мнения Бристансон об Эфрине…
— Такого же, как и все благородные люди, — холодно перебил Фокстер.
— И тем не менее ты играешь с ним в карты, как и все мы, — встрял мужчина, сидевший между Блейзом и Фокстером.
Тот пришпилил его взглядом к спинке кресла.
— Я терплю его здесь, так же как и любой из вас, Твисто, — чеканя слова, ответил он. — Но пусть выйдет вперёд тот, кто видел меня за одним столом с этим смердом. Я готов спросить с него за такие слова.
— Ох, будет вам, — вмешался кто-то из стоящих. — Довольно одного вызова за ночь.
— Так как это вышло? — тут же спросил Фокстер.
— Как это обычно выходит. Бристансон с Пиллано спорили о соколах — ну, ты знаешь, у Пиллано пунктик на этом. Эфрин влез в разговор и моментально перетянул его на себя. Неожиданно согласился с Пиллано насчёт соколиц — хотя я своими ушами слышал, как он на прошлой неделе говорил, будто считает их разведение бабской придурью…
— Ближе к делу! — рявкнул Фокстер.
Блейз пожал плечами:
— Гилас знает, как это вышло, Тед. Бристансона, конечно, взбесило, что этот щенок влез в разговор, ещё и отбил у него собеседника. Но ты знаешь его характер, он никогда не полезет на рожон. Они стали спорить о соколах втроём, это было любопытно — Эфрин, как всегда, за словом в карман не лез… И будто нарочно делал всё, чтобы оскорбить Сальдо.
— Оскорбить?
— Нет, не прямо… ничего такого он не говорил, но тон и взгляд у него были такие, будто он считает Бристансона полным ничтожеством и бездарем во всём, что касается соколов, и будто это Бристансон встрял в чужой разговор, а не он. В конце концов Сальдо вышел из себя и заявил, что Эфрин сам ничего не смыслит в охоте и только языком трепать горазд… и тогда… ох…
— И тогда, — торжественно закончил один из мужчин, — Эфрин говорит: «Вы несправедливы, милорд, мой язык горазд вовсе не только на трёп, и вы о том можете с определённостью узнать у леди Чаттоны!»
Мужчины снова зашлись хохотом. Фокстер недоуменно приподнял брови.
— Эфрин навещает «Вечный сад»? Я ничуть не удивлён. Но при чём тут Сальдо, разве он…
— О, Тед, — ощерившись, с деланным участием протянул Блейз. — Ты всегда узнаёшь новости последним. Госпожа Чаттона уже третий месяц принимает нашего Сальдо у себя в частном порядке, и уверяла его, будто ни с кем другим не делит постель. Наш Сальдо, разумеется, сперва не поверил, но Эфрин немедленно посвятил его — а заодно и всех нас — в столь деликатные подробности, что сомнений не осталось никаких…
— Бристансон вызвал Эфрина на дуэль из-за шлюхи?
— Думаю, намного сильнее его задело то, что ему подсунули лежалый товар, — развёл руками Блейз. — Чаттона выдурила у него кучу денег, заливая, будто никому больше не даёт. Эфрин всего лишь развеял иллюзии. Бедняга Сальдо, он просто озверел…
— Хотел драться тут же. Что было за представление!
— Еле их разняли.
— Это следовало видеть, Фокстер!
Фокстер молча слушал сбивчивые восторги товарищей. Он не смотрел ни на кого из них — только перед собой. Потом его взгляд задержался на мрачном человеке в другом конце зала, затем на Блейзе.
— Он уже выбрал секунданта?
— Выбрал? Слышали? — заговорили между собой мужчины. — Нет, не выбрал. Кажется, нет.
Фокстер отодвинул стул и встал.
— Прошу простить меня, милорды. Я должен ехать. Благодарю вас за своевременные сведения. Где эти двое сейчас?
— С Эфрином ты разминулся на четверть часа, он сказал, что едет в замок. Бристансон ушёл сразу, должно быть, домой…
— Благодарю, — сказал Фокстер и вышел.
Магда поставила бокал, который все прошедшие минуты судорожно стискивала в руках, встала и вышла следом. На плечи ей накинули плащ, яркий зал сменился полумраком коридора и теменью улиц, но она не заметила ничего этого, как не замечала и Тедора Фокстера, шедшего прямо перед ней.
Магдалена Фосиган вскочила в седло и, вонзив шпоры в бока кобылы, сорвалась в галоп.
Так это правда. Всё, что сказал Рикки — правда. Её муж собирался драться на дуэли с Сальдо Бристансоном. Из-за женщины. Из-за шлюхи.
И тех, кто не находил это событие смешным, оно приводило в ярость.
«О боги, — стучало в висках Магдалены, задыхавшейся от горечи, злости и стыда. — Боги, какая низость, какая глупость и гнусность, и как он посмел… и как они посмели так говорить о нём?!» Они даже называли его Эфрином — Эфрином, тогда как он вот уже год как стал Фосиганом. Стал благодаря женитьбе на ней… и как же она ненавидела его за это в первые дни их брака! Или нет, в первые часы… в первые минуты. В первые мгновения, когда только увидела его, своего будущего мужа и господина, стоя у алтаря в храме Гилас. Она ненавидела его заранее, лишь только узнала, что отец отдал её незнакомцу — безродному, нищему, бог знает откуда взявшемуся. Не то чтобы она была удивлена. Да, она Фосиган, но в то же время — бастард, а бастардам не положены блестящие партии. Но даже будучи дочерью замковой прачки, Магда оставалась также дочерью Георга Фосигана и считала, что заслуживает лучшей доли, чем насильный брак с безродным смердом, у которого нет даже родового имени, только собственное — Эд…
Это имя она беззвучно шептала, а потом выкрикивала ему в лицо ночью того же дня, выгибаясь и извиваясь под ним, как последняя потаскуха, умирая от наслаждения, которого никогда не знала раньше, хотя впервые отдалась мужчине в тринадцать лет. Мужчине… мужчины ли это были? Нет, впервые в жизни она увидела мужчину, когда безродный Эд Эфрин в белых одеждах новобрачного ступил к алтарю Гилас, протянул ей руку и улыбнулся уверенно и спокойно.
Так Магдалена Фосиган, любимейшая из незаконных детей конунга, стала женой самого скандального, самого презренного и самого странного человека в Сотелсхейме.
«Они не смеют. Не смеют. Так. Говорить. О нём. О боже. Гилас, помилуй меня и пощади. Так это правда. Это всё правда», — думала Магдалена, и встречный ветер, бьющий в лицо от бешеной скачки, срывал слёзы с её лица. Конечно, она знала, что Эд изменяет ей… иногда… ведь он мужчина, а все мужчины имеют любовниц, если только не заняты войной. Впрочем, в отличие от большинства женщин, обитавших в Верхнем городе, Магда считала, что лучше всё же война, чем любовница. Однако до тех пор, пока мужа удовлетворяли шлюхи, она соглашалась закрывать глаза и на это. Но, Гилас, дуэль… дуэль из-за одной из них. Явное предпочтение. Защита чести… чести? Чьей чести, хотелось бы знать? Этой «леди Чаттоны», как её глумливо называли мужчины в «Серебряном роге», или чести Эда, у которого не было её ни по происхождению, ни по праву? «Он дерётся за эту женщину, — подумала Магда, чувствуя, как лицо заливает кровь. — За неё, а не за себя. Хотя он единственный тут оскорблён».
Боги, если бы она была мужчиной! Не маскарадным мальчиком, а настоящим мужчиной — если бы, надев платье Эда, она могла бы взять его меч, его силу, его дерзость, его беспечную ледяную злость! Тогда она сама вызвала бы их — тех, кто называл его Эфрином, мерзавцем и щенком, — всех их вместе и каждого по отдельности, и прежде всего этого Фокстера, этого холодного сноба, который считал, что Эд недостоин даже того, чтобы кто-либо из благородных бросил ему вызов…
Фокстера, который считал, что женитьба на незаконнорожденной не способна облагородить, пусть даже она бастард самого конунга.
Магда шумно всхлипнула и закусила костяшку пальца. Ничего. Ничего. Всё пройдёт. Ничего не случилось. Ссора пустяшная: она сама только что убедилась, что никто не воспринимает этот вызов всерьёз. Фокстер сейчас наверняка мчится к Бристансону. Быть может, он отговорит друга от поединка. Если же нет… если нет — что ж, они будут драться до первой крови, как и всегда на дуэлях такого рода. Смертные поединки возможны только в рамках судейства, при защите преступника, — иное запрещено. Магда мысленно благословила отца за то, что он в мудрости своей издал этот указ. Даже в припадке своей невообразимой дерзости Эд не станет противиться воле конунга — он слишком многим ему обязан. Значит, будет дуэль до первой крови… «И пусть, — подумала Магда, — пускай ему пустят кровь, пускай моему Эду, моему бессердечному белому солнцу, пустят кровь. Пускай она брызнет из него вместе с ядом, вместе с соками той женщины, к которой он ходил, пускай всё это выйдет прочь и никогда не вернётся назад. А я буду рядом, думала Магда Фосиган, капая слезами на гриву кобылы, — я буду там и подхвачу его, и обниму, и отнесу домой, и буду целовать, пока его раны не затянутся, пока он не увидит меня… пока не посмотрит, как тогда, когда подошёл к алтарю и протянул мне руку.
И когда мы будем вот так смотреть друг на друга, никто не посмеет назвать его выскочкой, а меня бастардом. Но даже если и назовут, пусть — мы не услышим».
Магдалена покачнулась в седле и, вскинувшись, вцепилась в гриву кобылы. Та недовольно заржала и повела головой. Они стояли за воротами, на территории Верхнего города. Перед лицом Магды пылал огонь факела в поднятой руке стражника.
— Миледи? Я могу вам помочь?
Миледи?.. Магда испуганно вскинулась — и растрепавшиеся волосы хлестнули её по лицу. Капюшон соскользнул с головы, коса распустилась, а она этого даже не заметила. Что ж, не страшно — всё, что хотела, она уже сделала…
Всё? В самом деле?
В четверть часа пополуночи, третьего дня последнего летнего месяца Магдалена Фосиган отправилась искать своего мужа. Время шло к трём, а она его так и не отыскала. Так и не отыскала и не надавала пощёчин по его красивому наглому лицу.
— Я должна проехать в замок, — сказала Магдалена.
Стражник покачала головой.
— Замковые ворота не откроются до рассвета, миледи. Позвольте провести вас домой.
— Нет. Не надо… Я знаю дорогу, — сказала Магда и, движением головы откинув волосы за спину, тронула коленями бока кобылы. Патрульный отошёл в сторону — в Верхнем городе стража была любезна и обходительна с горожанами, зная, что почти все они — Фосиганы либо ближайшие септы Фосиганов. Верхний Сотелсхейм был жилищем жрецов Гилас, войск и самого цвета бертанской знати, но иногда, и даже чаще, чем жилищем, для всех них он был тюрьмой.
Дом Магдалены находился восточнее ворот, почти у самой стены, отделявшей замок конунга от Верхнего города. Дорога туда вела одна, и у Магды было время решить, что ей делать теперь. Одно из двух: либо Эда, как всех прочих, завернули на дороге к замку, и тогда он почти наверняка вернулся домой, либо его пропустили. Последнее означало лишь одно: Эда потребовал к себе конунг. Маловероятно, что это связано с дуэлью, — шпионы Фосиганов, конечно, расторопны, но вряд ли врываются к своему господину с докладом посреди ночи, если только это не дело государственной важности, а насколько Магда могла судить, ничем подобным тут не пахло. Значит… значит, отец просто захотел увидеть Эда. И одна Гилас знает, зачем. Магда никогда не спрашивала Эда об этом, и даже если бы спросила, то в ответ получила бы только привычную небрежную улыбку.
Что ж, если Эд и правда у лорда Грегора, Магдалена не имела ни права, ни оснований его упрекать. Так что, с какой стороны ни глянь, единственным разумным решением было ехать домой и ложиться спать… или хотя бы попытаться уснуть.
Но разве можно ждать от женщины, которая бродит ночами по Нижнему городу, переодетая в мужское платье, что она поступит разумно?
У внутренней стены не было патруля — по крайней мере, со стороны города. Ворота, разумеется, оказались заперты; Магда увидела это издалека и не стала подъезжать ближе. Съехав с дороги на высаженную аккуратным кустарником обочину и отъехав в как можно более глубокую тень, подальше от света придорожных факелов, Магда придержала кобылу и повернулась лицом к воротам, поглаживая лошадь по морде и не отводя взгляда от замковых ворот.
Так она простояла два часа.
Ещё не светало, но небо над замком начало мутнеть и воздух набух предрассветной сыростью — это единственное время суток, которое напоминало о том, что нынешний летний месяц всё же последний и следом за ним придёт осень, — словом, была всё ещё ночь, хотя она и кончалась, когда калитка замковых ворот открылась и сквозь неё проехал всадник. Магдалена смотрела на него какое-то время, не выходя из оторопи, в которую её ввергло долгое ожидание и неподвижность. Всадник двигался спокойно, неторопливо; он явно никуда не спешил и ни от кого не прятался, и это было странно, потому что человека, выезжающего из дому до рассвета, ждёт либо дальний путь, либо слежка. Однако этот человек просто выехал из замка Фосиган в пять часов утра — видать, не спалось ему, только и всего. Он пустил коня лёгкой рысью, оглушительно звеня подковами по мощёной дороге. В преддверии утра, когда смолкли даже шаги расслабившихся под конец дежурства патрульных, это был единственный звук, смущавший ленивый покой Верхнего Сотелсхейма.
Магда тронула морду кобылы ладонью.
— Тихо, — прошептала она. — Тихо, милая, я тебя прошу, только тихо.
Теперь, при неумолимо разгорающемся свете утра, она видела, до чего же проигрышную позицию заняла. Кустарник рос низко, кругом не было ни деревца, и приближавшийся всадник мог видеть её так же ясно, как и она его. Негнущимися пальцами Магда натянула на голову капюшон. Надо было просто сорваться с места и умчаться — он не стал бы её преследовать. Но руки словно приросли к уздечке, а ноги — к стременам, и она не могла пошевелить ни единым мускулом. Просто смотрела, как её муж едет к ней, и слышала, что он насвистывает. Судя по всему, у него было прекрасное настроение.
— Доброго вам утра, мой лорд, — сказал Эд, поравнявшись со своей женой и тронув висок двумя пальцами в знак фамильярного приветствия.
Магда кивнула, не глядя ему в лицо. Он проехал мимо, не взглянув на неё и продолжая насвистывать. Ему не было никакого дела до подозрительных типов, ошивающихся у замковой стены в пять утра. «Я могла быть убийцей, — подумала Магда. — Могла воткнуть стилет ему под ребро, когда он проезжал мимо меня, на расстоянии вытянутой руки. Это было бы так просто — он ведь не носит кольчугу. Говорит, это страшно неудобно и к тому же бессмысленно — когда на роду написано, тогда и помрёшь…»
Он ехал вниз по дороге. Он возвращался в Нижний город, а Магда смотрела ему вслед.
Застоявшаяся кобыла укоризненно всхрапнула. К Магде вернулась способность управлять своим телом.
— Тише, милая, — сказала она. — Тише.
У её супруга была длинная ночь, но, похоже, он не намеревался так скоро её заканчивать. Что ж, жена должна делить с мужем все тяготы, выпавшие на его долю, разве нет?
На сей раз она не выпускала Эда из виду. Ворота в Нижний город уже открыли, и оба они проехали беспрепятственно. Улицы пустовали, хотя кое-где уже выползали из своих нор нищие, чьи трудовые будни начинались чуть свет. Сперва Эд ехал по направлению к кварталу Тафи, но потом резко свернул на развилке к югу. Если бы дело происходило днём, Магда почти наверняка не успела бы заметить этого манёвра и потеряла бы мужа в толпе, но сейчас на маленькой площади перед развилкой был только золотарь, копавшийся в сточной канаве. Магда обогнула его по широкой дуге — и внезапно поняла, что Эд этого не сделал, и даже не прикрыл нос, проезжая мимо отходника.
Ещё она поняла, что он направляется в ремесленный район.
Ничего не понимая, Магда двинулась следом. Здесь не было ни особняков знати, ни весёлых домов, ни даже богатых лавок — все они остались ближе к торговой площади и центру города. Заставив коня ускорить шаг, Эд продвигался в глубь лабиринта замызганных невзрачных улочек, названий которых Магда не знала. Да это было и ни к чему, потому что никто из благородных, всю жизнь проживших в Сотелсхейме, никогда не попадал в этот район. Тут были ряды ткачей, маляров, сапожников, прачек и мебельщиков, стеклодувов и бочаров, и знатные леди вроде Магдалены Фосиган в большинстве своём даже не знали, чем занимаются все эти люди. Магда знала, потому что её статус бастарда в некотором роде стирал границу между нею и этим миром, но в то же время она была любимым бастардом конунга, а потому никогда этого мира не видела. Зато Эд, судя по уверенности, с которой он петлял среди немыслимых переулков, почти мгновенно сменявших друг друга и так непохожих на строгие правильные линии богатых кварталов, выдавало в нём большого знатока местности. Магда потеряла его и несколько минут металась по оживавшим улочкам, прежде чем поймала наконец взглядом знакомый белый плащ, мелькнувший перед очередным поворотом.
У этого поворота она и остановилась.
Улочка, которую выбрал Эд, ничем не отличалась от всех остальных — разве что глухая вонь, доносимая крепнущим ветерком, свидетельствовала о близком соседстве трущоб. По обеим сторонам улочки тянулись хилые одноэтажные домики с соломенными крышами. Сточная канава здесь была почти такой же ширины, как и дорога. Чистили её намного реже, чем стоки в центре города, и кобыла Магды волновалась и гневно раздувала ноздри, пятясь от зловонной лужи.
— Тише, милая, пожалуйста, — прошептала Магдалена, не отрывая глаз от Эда, который, спешившись, подошёл к двери, не отличавшейся от всех остальных. Впрочем, нет, кое-чем всё же отличавшейся: под стрехой крыши Магда заметила небольшую деревянную вывеску, на которой красной краской была просто, но чётко и даже красиво нарисована змея, заглотившая собственный хвост.
Эд постучал, по-прежнему спокойно, не таясь и никуда не спеша, как будто знал, что его ждут здесь. Его и правда ждали: дверь отворилась почти тотчас же. Любой дворянин на месте Эда, взбреди ему в голову посетить подобное место, воровато оглянулся бы и опасливо скользнул внутрь, плотно прикрыв за собой дверь…
Но Эд из города Эфрин не был дворянином. Он был смердом, которого возвысил конунг, и смердом остался. Поэтому он не стал оглядываться.
Та, кто открыла дверь, шагнула на порог, закинула руки Эду на шею и приникла к его рту долгим, исступлённым поцелуем. Она правда его ждала, и, судя по всему, ожидание было долгим. Крепкие руки Эда легли ей на талию, быстро и плавно притянули к себе, и женщина чуть не задохнулась, но не оторвалась от его губ.
Они не прятались. Их заливало светом взошедшее солнце.
— Су-ударь… су-ударь, да-айте моне-етку.
Маленькая грязная лапка дёргала Магдалену за сапог.
Магда посмотрела вниз, на чумазую рожицу ребёнка, возраст и пол которого было невозможно определить. Оглянулась, сквозь застилавший глаза туман различая обращённые к ней лица, удивлённые, тупые, как у овец. Они все смотрели на неё, и никто не смотрел на её мужа, целовавшего в пяти шагах от них какую-то женщину. К этому-то зрелищу они, похоже, привыкли — а незнакомый лорд был в новинку.
Магда отстегнула от пояса кошелёк и разжала пальцы. Тяжёлый мешочек, набитый серебром, хлюпнулся в грязь. Бесполое дитя выпустило сапог Магды и, истошно завопив, кинулось наземь. К нему немедленно подоспела стайка соперников. С этой отчаянной потасовкой и с неистово целующейся парой Нижний Сотелсхейм вступил в новый день, а жизнь Магдалены Фосиган начала подходить к концу.
— Моё-ё! Это моё, да-а-ай! Ма-а-а!
Магда вонзила шпоры в бока своей кобылы. Грязь и нечистоты брызнули из-под конских копыт.
2
Неизвестно, как в иных частях мироздания, но в этом мире и под этим небом не существовало занятий, которые Эд Эфрин любил бы больше любовных утех. Иногда, под настроение и в хорошую погоду, он мог предпочесть им стрельбу по диким уткам, но это случалось редко. А вот хорошая трубка с отменным табаком после этих самых утех — удовольствие, почти сравнимое с бурным излиянием в гостеприимное женское лоно. Именно этому удовольствию он и собрался предаться, когда Лизабет Фосиган сморщила носик и сказала:
— Фу! Не смей! Ты же знаешь, как я ненавижу дым.
Эд застыл, сжимая трубку в приподнятой руке и глядя на Лизабет самым несчастным взглядом, каким только может одарить мужчина только что переспавшую с ним бабу, не рискуя при этом навеки уронить себя в её глазах. Однако Лизабет Фосиган отличалась фамильным упрямством своего клана и осталась непреклонна.
— Убери, — потребовала она, сердито сверкая янтарными очами. Эти янтарные очи, ну и, конечно, ненасытное лоно были единственными её достоинствами, впрочем, совершенно неоспоримыми. В противовес им наличествовал вздорный нрав, плоская фигура, жиденькие волосёнки и изрытое застарелыми оспинами лицо — тоже своего рода фамильный подарок. Иная на месте Лизабет предпочла бы помереть от оспы, как все приличные люди. Однако Фосиганы отличались легендарной живучестью: дружно переболев заразой в первой её волне, они в полном составе уцелели, обзаведясь на память рытвинами на коже. Ходили слухи, будто на землях Одвеллов и их септ слово «фосиган» означает «урод». Хотя, может быть, и врали — люди любят врать. Эд врать не любил; он любил охоту, любовные утехи, трубку после них и, иногда, малышку Лизабет. Не в те минуты, впрочем, когда она запрещала ему курить. Эх, были бы они в его доме или хотя бы в борделе… но здесь, в замке Фосиганов, она была хозяйка, а он вор, для которого она любезно раскрыла свой маленький тайничок. Поэтому и он по меньшей мере обязан быть любезным.
Очень любезно Эд вытряхнул табак на ковёр и бросил трубку на стол. Надо было бы сунуть её в карман, но поскольку он сидел на столе голым, а штаны и куртка вместе с плащом валялись на кресле, сделать это было затруднительно.
Лизабет хихикнула.
— Утром Марджи снова спросит, откуда табак. А я скажу…
— Скажешь, что златокудрый Эоху залетал пожелать спокойной ночи, — подсказал Эд, — и присел на край стола покурить, а ты не смогла ему отказать, понятное дело.
— Язык бы у тебя отсох, богохульник.
Эд поцокал тем самым языком, которому только что пожелали такой незавидной участи.
— И что вам всем сегодня мой язык так не угодил, — риторически заметил он и лениво почесал живот.
— Кому — всем? — спросила Лизабет и, в обычной своей манере, тут же сменила тему: — Потуши свечи. Я переоденусь на ночь.
Эд покачал головой. Лизабет возмущённо зашипела и подтянула парчовое одеяло к подбородку. Эд смотрел на неё с умилением: его всегда восхищала в ней эта преувеличенная стыдливость, просыпавшаяся после соития, причём проявлялась эта стыдливость тем сильнее, чем извращённее была свежая выдумка юной леди Фосиган. Впрочем, сегодня ничего такого особенного они не делали, всего лишь выбрали плацдармом не постель, а стол, на котором ныне восседал Эд. Сам он считал, что это не очень удобно, прежде всего для Лизабет, но ей нравилось. Ох уж как ей нравилось… и, едва они выдохлись, она немедленно сбежала в постель, откуда продолжала им командовать. Восхитительная женщина.
— Сама потушишь, — сказал Эд. — Или велишь своей Марджи. Я сейчас уйду.
— Почему? — насупилась Лизабет, однако в её ярких, бесстыдно искренних глазах мелькнуло облегчение. Эд задумался, первый ли он её гость за сегодняшнюю ночь и, главное, последний ли.
— Магда, должно быть, уже извелась, — беспечно пояснил он, заранее забавляясь её реакцией, которая всегда была одна и та же.
— Опять ты!.. Я же сказала, не смей говорить мне о ней!
— Курить не смей, о Магде говорить не смей, — скучным голосом начал перечислять Эд. — Втроём не смей, сзади тоже не смей… Вы так капризны, моя леди.
— Ты ещё толком ничего не знаешь о моих капризах, — многозначительно сказала Лизабет, и это прозвучало как обещание. На следующую ночь наверняка приготовит что-нибудь интересненькое…
Курить хотелось очень сильно. Спать тоже. Эд подавил вздох. Интересно, который сейчас час? Вроде бы ещё не рассвело, хотя ставни были закрыты наглухо и судить было трудно.
— А как ты попал в замок? — спросила Лизабет; не то чтобы это её и вправду интересовало, но, похоже, ей надоело фантазировать о будущей ночи, и она решила подумать о чём-нибудь другом. Такое часто с ней бывало — она не могла долго удержаться на одной мысли или намерении, и это делало их ночи особенно разнообразными.
— Как обычно, — отозвался Эд.
— Я слышала, ворота сегодня закрыли. Как ты прошёл?
— Ну как всегда же. Сказал, что иду к конунгу.
— Ох, Эд, — хихикнула Лизабет. — Однажды ты всё-таки попадёшься на этом, и отец спустит с тебя шкуру!
— Не попадусь, — заверил Эд. — В крайнем случае, скажу, что в самом деле шёл к нему, а по дороге заскочил к тебе.
— Эдвард!
Он подмигнул ей, и она боязливо захихикала, ткнувшись носом в одеяло. Развратность и бесстыдство зрелой женщины дивным образом сочетались в ней с глуповатой наивностью восемнадцатилетней девчонки, которой она и была. Впрочем, там, где Эд родился и вырос, в этом возрасте ни одна леди уже не была девчонкой. Только дочь конунга, за всю жизнь носа не совавшая дальше Нижнего города (и то — по большим праздникам), могла сохранить этот очаровательный юношеский идиотизм. Её менее знатные сверстницы здесь, в Сотелсхейме, уже были куда более искушенными, а потому и более пресными. Эду они давно надоели.
— Ты ведь будешь ко мне приходить после свадьбы? — спросила Лизабет. Эд подумал, как хорошо было бы сейчас обнять её и покровительство похлопать по мягкому задику, но тогда она бы его уже не выпустила, а ему в самом деле надо было скоро уходить.
— Ну, милая, если меня не остановила моя собственная свадьба, то твоя-то уж тем более не остановит.
Ей, видимо, не понравились нотки снисходительности в его голосе, и она сочла нужным строго свести неровно растущие рыжеватые брови.
— А не пугает ли вас, милорд, возможность встречи с моим мужем?
— Не пугает! — хохотнул Эд. — Хотя где бы мне с ним встретиться? Разве что он будет возвращаться от своей любовницы примерно в то же время, когда я буду возвращаться от своей?
— Эд!
— Думаю, в таком случае мы обменяемся рукопожатием и, раскланявшись, разойдемся. Не бойся, малышка, мужчины в таких вещах куда более терпимы друг к другу, чем вы, женщины, привыкли думать…
— Эд! — завопила Лизабет и запустила в него своей туфелькой — спасибо, хоть не ночным горшком. Эд увернулся и, вздохнув про себя, всё-таки поплелся заглаживать её гнев. Для этого хватило основательного поцелуя — Лизабет, как и большинство юных и страстных дев, до одури любила целоваться.
— Ты невозможен, — пробормотала она, и Эд оставил эту констатацию очевидного без комментария.
— Я пойду, — сказал он наконец тоном, не располагающим к продолжению диалога. Иногда не мешает продемонстрировать превосходство мужского пола, пусть и над дочерью конунга.
— Завтра ты у меня, — тем же тоном ответила она, демонстрируя превосходство происхождения, пусть и над мужчиной.
Эд кивнул было, но потом, будто спохватившись, виновато уставился на неё.
— Я забыл тебе сказать. Проклятье, совсем вылетело из головы… вот что ты со мной делаешь!
Лизабет смотрела на него, ожидая, что напоследок этот невыносимый мужлан скажет что-нибудь скучное.
— Послезавтра я дерусь с Бристансоном.
Не скучное, нет. Лизабет часто заморгала, глядя в предельно серьёзное и даже немного смущённое лицо Эда.
— Я хотел, чтобы ты узнала от меня, — пояснил он. — А то наболтают, как обычно, всякой чуши…
— С Сальдо? — тонко спросила Лизабет. — С моим Сальдо?!
— Так получилось.
— Из-за меня?! — пискнула Лизабет, белея от ужаса и краснея от восторга. И ужас её, и восторг длились не долее секунды, потому что Эд ответил, успокоив её и одновременно разочаровав:
— Нет, не бойся. По крайней мере, формальный повод был другой.
— А какой? — немедленно спросила Лизабет. Закономерный вопрос, даже для восемнадцатилетней конунговой дочери. Эд подождал немного, надеясь, что она привычно сменит точку приложения своего женского любопытства. Ожидание пропало впустую. Эд вздохнул и попытался встать. Коготки Лизабет впились в его запястье.
— Неужели… леди Чаттона?!
— Так получилось, Лиз, — страдальчески ответил Эд, и Лизабет Фосиган, рухнув на подушки, пронзительно расхохоталась.
— О, Гилас, помилуй грешные души наши! Неужели правда?! Эта шлюха! Сальдо всерьёз согласился драться из-за неё?!
— С большой охотой.
— Гилас и Тафи, если б я только знала! Вот дурачок!
Эд искоса наблюдал за ней, продолжая изображать страшное раскаяние. Что ж, он явно был прав в своих подозрениях: к увлечению Сальдо Бристансона куртизанкой из веселого квартала приложила руку его невеста. Не то чтобы Эд был удивлён — ведь он сам не стесняясь расписывал Лизабет прелести леди Чаттоны. Маленькой принцессе нравилось слушать о его похождениях с другими женщинами, её это заводило, а излишней ревнивостью она не отличалась — если только речь не шла о Магдалене. Сводную сестру Лизабет презирала и ревновала к ней дико, всех же остальных женщин Эда считала своими боевыми подругами. Леди Чаттоной она особенно заинтересовалась — как раз в то время Лизабет искала источник надёжного и контролируемого удовольствия для своего будущего мужа. По мнению Эда, это был разумный и дальновидный ход, настолько, что впору было заподозрить в нём авторство кого-то из старших подруг конунговой дочери. Впрочем, насколько он знал, у неё не было подруг.
— И вы дерётесь послезавтра? — отсмеявшись, переспросила Лизабет. От смеха её рябые щёчки раскраснелись, и она стала почти хорошенькой.
— Да.
— За две недели до моей свадьбы! Эд, ты совсем обезумел, вызывая его!
— Я не вызывал его. Он сам меня вызвал.
Она захлопала глазами. Потом фыркнула, уже не выглядя столь довольной, как прежде.
— Так он и впрямь всерьёз увлёкся этой Чаттоной…
— Ревнуешь? — поддел Эд. — А я? За меня ты не боишься?
— Не смеши меня. — Она скользнула ладонью по его плечу, мимоходом погладив небольшие, но твёрдые и упругие мускулы, выпирающие под кожей, отдав этим жестом наибольшую дань его телу и силе, какую только может дать мужчине женщина. — Я скорее боюсь за Сальдо. Ты ведь не убьёшь его?
— Ты его любишь? — напористо спросил Эд.
Лизабет смутилась, что нечасто с ней бывало.
— Тогда убью.
— Эд!
— Брось, Лиз. Где видано, чтобы члены благородных кланов убивали друг друга из-за шлюхи?
— И тем не менее вы дерётесь, — обиженно заметила она. Боги, как быстро у неё менялось настроение. Вот уже и недовольна, а только что смеялась над ситуацией.
— Я бы оскорбил его, если бы не согласился.
— Ты и так его оскорбил.
— Обида обиде рознь, — загадочно сказал Эд, переводя разговор в плоскость таинственной сферы мужских представлений о чести, чем вынудил Лизабет замолчать. Воспользовавшись паузой, он мягко отвёл от себя её руку, встал и принялся одеваться.
— Я на самом деле никак не поверю, что стану его женой, — проговорила Лизабет за спиной Эда, будто про себя. Она часто так говорила, особенно после соития — так у неё выражалась ночная меланхолия. — Ты вот спросил, люблю ли… а я… Я не знаю, Эд. Вот сама думаю всё время и не знаю. Он мне нравится. Может, я его полюблю, когда узнаю в постели. Он же думает, что я девственница, знаешь? — она хихикнула, забавляясь этой мыслью. — Я-то сумею провести его в брачную ночь, но… что если он окажется неуклюжим? Или будет дурно пахнуть, или некрасиво выглядеть голым? Ты очень красив, когда голый, — заявила она.
— Спасибо, моя леди, — коротко отозвался Эд, затягивая пояс. — Хотя вообще-то я полагал, что и одетым смотрюсь недурно.
— А у Сальдо красивое лицо, — не слушая, продолжала Лизабет. — Очень красивое. Лучше, чем твоё. У тебя рот такой… терпеть не могу твой рот. И когда вот так ухмыляешься, да! А у него губы мягкие… тёплые… И нежные такие! И кожа на лице нежная, как у женщины. Я когда его целую, чувствую себя пятнадцатилетней, — она прижала пальцы к губам и широко улыбнулась. Потом улыбка разом сбежала с лица. — Но и что, что он красивый? Вдруг он скучный? Я вижу его пока только на официальных приёмах… ты же знаешь, раз я его невеста, нам запрещено оставаться наедине. Так глупо, по-моему… И на этих приёмах он всегда молчит или несёт такую чушь! Он ужасно скучный.
— Зато красивый, — напомнил Эд. — Влюбишься хотя бы за это. Что, к слову, уже больше, чем есть у многих твоих потенциальных мужей. Вспомни хотя бы Крестона, тебя же вроде бы за него сперва сватали?
— Уилл-Вислоух? — хихикнула Лизабет.
— Точно. Видишь, могло быть намного хуже.
Лизабет посмотрела на него с благодарностью. Эд на миг почувствовал себя неуютно — он хотел её подколоть, а на деле утешил. Надо же, какой конфуз.
— А может, я и не захочу, чтобы ты приходил ко мне после свадьбы. Если с таким лицом у Сальдо ещё и тело, как у тебя… то не захочу.
— Тогда я точно его убью, — пообещал Эд. — В приступе дикой ревности.
— А хотела бы я выйти за тебя. Хотела бы! Но ты ведь женился на этой ублюдочной сучке Магдалене…
Эд решил, что самое время заткнуть ей рот прощальным поцелуем. Не в том даже дело, что Лизабет лгала — хотя, может быть, не до конца отдавая себе в этом отчёт. Она никогда не вышла бы за него. Она могла выбирать между Бристансоном и Крестоном, сравнивая хоть их внешность, хоть могущество их семей, но никогда не стала бы выбирать между Эдом Эфрином и кем-то ещё — потому что выбор этот однозначно не оказался бы в пользу безродного смерда, как бы он ни был хорош в постели. Эд понимал это и ни в чём её не винил. Другое дело — её отношение к Магдалене, её мелочная, пакостливая ненависть, которая может существовать только между женщинами и только между сёстрами. Магда любила Лизабет не больше, чем та её, но Эд ни разу не слышал от неё подобных слов.
Он прервал поцелуй, и Лизабет крепко ухватила его за шею, требовательно заглянув в глаза.
— Пообещай не убивать Сальдо.
— Обещаю.
— Клянись Гилас!
— Клянусь Гилас не убивать твоего Сальдо. Ты что, за дурака меня держишь? Я не стану портить тебе свадьбу, моё милое строгое дитя, — сказал Эд. Потом чмокнул её в лоб, высвободился и задул свечу, мерцавшую у изголовья кровати.
— Всё. Можешь переодеваться, — сказал он, забрал со стола свою трубку и, откинув гобелен на двери, вышел из спальни конунговой дочери.
Служанка клевала носом в кресле у входа. Эд тронул её за плечо и приложил палец к губам. Вкладывая в ладонь женщины золотой — привычную дань, — Эд подумал, сколько же всё-таки платит ей Лизабет, и платит ли вообще. А если нет, то скольких её любовников в неделю должна пропускать милашка Марджи, чтобы оплачивать платья, в которых она щеголяет…
Служанка провела Эда будуаром и тесной, обильно опрысканной духами приёмной, дальше которой не могли пройти простые смертные и мужчины с некрасивыми телами. Лизабет Фосиган пользовалась немалым влиянием на своего отца и ничуть этого не скрывала. Днём её апартаменты в замке осаждало не многим меньше лизоблюдов, чем приёмную самого конунга, а на балах право танцевать с ней, быстро шепча ей на ушко прошения вперемешку с комплиментами, расписывалось и оплачивалось не менее чем за неделю. Неизвестно, какую часть этих прошений Лизабет удовлетворяла, и вообще доходило ли хоть что-то до её отца, или эта маленькая развратница была ещё и ловкой мошенницей — как-никак, покровителем её рода была Лукавая Тафи. Но деловая хватка у девочки была та ещё: её покои и наряды были едва ли не самыми роскошными не только в замке, но и во всём Верхнем Сотелсхейме, и непохоже, что всё это — щедростью любящего родителя. Эд знал, что лорд Фосиган довольно-таки прижимист, и хотя для тех, к кому у него лежала душа, его карман был открыт так же широко, как и сердце, использовать конунга как дойную корову не получалось даже у его любимых дочерей. Лизабет же обеспечивала себя сама, и хотя явно этого никто не утверждал, ибо это было неприлично, на самом деле многие ею восхищались. Эд тоже, но не из-за этого. Урвать свой кусок пожирнее он и сам умел, этим его трудно было удивить, и в этом отношении ему от Лизабет ничего не было нужно. Он не обивал её пороги и не искал её взгляда на балах, не прислуживал ей за общим столом и не подсаживал на коня во время охоты. По большому счёту, это она добивалась его — из спортивного интереса. Едва он появился, она была поражена: как, первый мужчина при дворе, который не пытается через её голову дотянуться до конунга! Поскольку Эд дотянулся до конунга самостоятельно, Лизабет была ему не нужна. Это её ужасно заводило. Их связь длилась уже три года — практически с того дня, когда конунг приблизил Эда ко двору. Это была самая давняя его связь, не считая Северины, конечно. И всё это время Лизабет подогревало то, что Эду по-прежнему ничего не было от неё нужно. Всё, что Эд хотел взять у конунга, он просто брал у конунга. И если весь Сотелсхейм ненавидел его за это, то Лизабет именно за это и любила, потому что воображала, что он с ней ради неё самой.
В действительности это была очень несчастная и очень одинокая девочка. Эд надеялся, что она и вправду сумеет полюбить Сальдо Бристансона… хотя это и было довольно цинично с его стороны.
Жизнь в замке Сотелсхейма не замирала никогда, лишь утихала, когда большинство его обитателей погружались в сон, и ночью в коридорах и галереях можно было встретить отдельных стражников или даже целый патруль. К счастью, Эду не было нужды от них прятаться — никто и никогда не стал бы задавать ему вопросов. Они не сомневались, что он от конунга, даже если официально конунга не было в замке. Мало ли, что там официально, на деле могло быть всякое… Беспечно разрывая ночную тишину звуком своих шагов, Эд в который раз подумал, что мог бы последовательно зайти в покои всех членов семьи конунга, включая его самого, и вырезать их одного за другим, прежде чем кто-нибудь поинтересовался бы происхождением крови на его одежде. Слепая и немая преданность людей Фосигана своему лорду поражала — не только своей безмерностью, но и тем, как близко она граничит с глупостью. Эд подумал, что это, пожалуй, тема для ночной беседы с лордом Грегором, если ему вздумается послушать очередной досужий трёп своего любимца. Но не в ближайшие дни, это точно. В ближайшие дни — дуэль, а потом неизбежная головомойка за неё. Может быть, арест. Магда расстроится… Эд вздохнул. Жаль, что присутствовавшие в «Серебряном роге» друзья Бристансона отговорили его от немедленной дуэли. Эд предпочёл бы разобраться с этим делом быстро. Это было неизбежно, и всё же одна только мысль о предстоящем поединке вызывала в Эде смесь досады, раздражения и глухого отвращения к самому себе. Нет, не надо было до этого доводить. С другой стороны, как можно было до этого не довести? И разве были другие пути?
Во дворе Эд вздохнул снова, более глубоко, наполняя лёгкие предрассветной свежестью. До рассвета оставалось не менее часа, но как же славно дышалось. Эд нарочно замедлил шаг, идя к конюшням. Домой ехать страшно не хотелось. Постельный разговор с Лизабет, вроде бы вполне невинный, отчего-то испортил ему настроение. И почему только женщины не могут, сделав дело, просто заткнуться и дать мужчине спокойно покурить? Покурить! Эд вытащил трубку и, на ходу набив её, блаженно затянулся. Магда тоже не любила, когда он курил. А вот Северине всё равно. Она равнодушна к запахам — вернее, ей нравятся все запахи, которые исходят от него.
Второй раз за ночь он думал о Северине. Эд сбавил шаг, пытаясь вспомнить, когда был у неё последний раз. Месяц тому, что ли? Или уже больше? Он помнил, что ночь была холодная, он выскочил на задний двор отлить и чуть не застудил себе всё, что можно. Не летом, значит, дело было, весной ещё… так давно? Эд остановился и глубоко затянулся табаком. Хороший табак. В лавке Северины такого, конечно, не было, но он всегда брал у неё немного и выкуривал прямо там. Ей нравилось делать ему такие вот маленькие подарки, а он никогда ничего ей не дарил. Только давал деньги, стараясь отмахнуться от мысли, что таким образом превращает её в шлюху. Проще было убедить себя, что это всё ещё благодарность за то, что она для него сделала, когда он впервые попал в этот город. Хотя на самом деле он поступал так потому, что, не заплатив ей золотом, должен был бы платить чем-то другим. Чем-то, что нельзя купить. А у него не было на это ни времени, ни сил.
Странно — подобные мысли должны были утомить его и вызвать раздражение, но вместо этого только сильнее захотелось её увидеть. Эд вытряхнул из трубки прогоревший табак и вошёл в конюшню. Дежурный конюх знал его и не остановил. Эд задумчиво провёл ладонью по крупу своего коня, подумав, что бедолагу не мешало бы почистить.
— Хреновый я хозяин. И муж хреновый, — сообщил он коню, и тот презрительно фыркнул в ответ: мне бы, мол, твои заботы. Эд вскочил в седло и выехал во двор, по-прежнему не таясь, но уже и не очень шумя. Не приведи Гилас, и впрямь его заметит конунг из окна — потребует к себе и до утра уже не отпустит. А Эд хотел к Северине. Теперь и вправду хотел.
Он беспрепятственно проехал через Верхний город, встретив по дороге только одного путника, такого же, как он, праздношатающегося гуляку. К тому времени, когда Эд добрался до Криворукой улицы, уже почти рассвело и витиеватые переулки Нижнего города понемногу заполнялись людьми. Он не прятался и здесь: они знали его, хотя никогда с ним не говорили, и он принадлежал им больше, чем чистым мощёным мостовым Верхнего Сотелсхейма.
Вычищенная вывеска «Красная змея» выдавала в её хозяйке рабочее настроение. Это было хорошо. Хорошо, если она занята делами и не думает о нём — будет меньше упрёков…
И всё-таки, будь Эд хотя бы чуточку сентиментальнее, он непременно поверил бы, что она его ждала — так быстро она открыла дверь и таким спокойным, вовсе не удивленным было её лицо, когда их взгляды встретились.
Северина ничего не сказала Эду, только поцеловала его, и от неё пахло мятой и спиртом, а руки были скользкими и неестественно чистыми от уксуса.
— Так рано встала? Работаешь? — с усмешкой спросил Эд, прекрасно зная, что, скорее всего, она ещё не ложилась. В Нижнем городе надо было поискать женщину более порядочную, чем аптекарша Северина из «Красной змеи», но главных своих клиентов она принимала ночами, как и шлюхи из квартала Тафи. Это единственное, что их роднило. Если задуматься, между Лизабет Фосиган и теми же шлюхами общего было куда больше.
Но к Мологу Лизабет Фосиган. И даже шлюх из квартала Тафи тоже к Мологу… к Мологу всё.
Всё.
Северина не ответила на его вопрос, но Эд ведь и не ждал ответа. А то, чего он вправду ждал, она ему дала, как всегда. И через час он уснул в её узкой неудобной постели, на соломенном матраце, в мансарде над лавкой, пропитанной резкими запахами неизвестных трав. И пока он спал, Северина бережно расчесала и заплела его волосы.
Домой Эд вернулся после полудня. По меркам Верхнего Сотелсхейма это было раннее утро, когда благородные леди ходили друг другу в гости на завтрак, а их не менее благородные мужья только-только подтягивались из пивнушек. До вечера леди теперь будут заниматься своими обычными дамскими глупостями, а для мужчин наступит сонное время суток. Эд в который раз подумал, что если бы Одвеллы надумали брать Сотелсхейм штурмом, то наилучшим временем для этого был бы промежуток от двух до пяти часов дня. Глубокая ночь для благородных воинов клана Фосиган, стало быть.
Сам Эд, выросший далеко от Сотелсхейма, всё-таки придерживался менее извращённого режима дня, но всё равно чувствовал себя достаточно помятым за прошедшую ночь, хотя и совершенно довольным. Поэтому он вошёл в свой дом, напевая, и подмигнул топтавшемуся у статуи лакею.
— Доброе утро, милорд, — с подчёркнутой вежливостью, отличающей всех лакеев, произнёс тот.
— И тебе доброй ночи, — зевая, отозвался Эд. — Что нового?
— Осмелюсь сообщить, что вас ожидают…
— Ох, нет. Не надо. Молчи, — скривился Эд. — И зачем я только спросил? Утром расскажешь.
— Утром? Милорд…
— Ну, завтра. Завтра утром. Какая, к дьяволу, разница? — пробормотал Эд, поднимаясь по лестнице. Кто бы его там ни ожидал, подождут ещё немного.
В доме было непривычно тихо — Магдалена, видимо, уехала с утра гулять. «Счастье-то какое», — подумал Эд, входя в свою спальню — и замер на пороге, с изумлением озирая открывшуюся картину.
Платяной шкаф был распахнут настежь. Вся одежда Эда — сорочки, штаны, куртки, чулки и плащи — была живописно расшвыряна по полу, стульям и кровати. С балдахина свешивалась парадная перевязь, которую Эд давно считал безвозвратно потерянной. На постели поверх одеяла валялись две пары охотничьих сапог.
И посреди всего это бардака, задумчиво подперев голову рукой, сидела его жена. Сидела и глядела в окно.
Эд деликатно кашлянул. Магдалена выпрямилась и повернулась к нему. Лицо её было абсолютно спокойно.
— Решила устроить уборку? — с любопытством спросил Эд. — Или у тебя была истерика?
Магдалена положила руку на подоконник — спокойным, врождённо изящным жестом.
— Я выбирала, что мне надеть.
Хмыкнув, Эд наконец вошёл в спальню, стараясь не особо топтать свой гардероб.
— И как? Что-нибудь подошло?
— Да. Но искать пришлось долго.
— Рад, что ты осталась довольна. Так тут можно прибрать? Хотя, наверное, не сейчас. Я хотел бы вздремнуть часика два…
— Эдвард! — сказала Магдалена.
— Да? — ласково отозвался тот. Она почти никогда не называла его иначе, чем именем, которое он взял, присоединяясь к клану Фосиган. Видимо, так ей проще было убедить себя, что он ей ровня.
— Где ты был?
— В замке, — ответил он, сбрасывая с кровати свои сапоги.
— До того.
— Душа моя, ты решила устроить мне допрос?
Магдалена продолжала смотреть на него, не двигаясь с места. Её рука всё так же спокойно лежала на подоконнике. Воспользовавшись паузой, Эд закинул ногу на колено и взялся за сапог.
— Я была в «Серебряном роге». Этой ночью. Искала тебя.
Эд замер.
— Тебя там видели?
— Не бойся. Я была… инкогнито.
— В своём ли ты уме, душа моя? — тоскливо спросил Эд. — Будет теперь трёпа, что меня ночами по кабакам женщины ищут…
— Я переоделась мужчиной.
Эд опустил ногу и потрясённо уставился на неё. Потом расхохотался.
— Ещё лучше! Скажут, что посреди ночи меня по кабакам разыскивают мальчики!
— Тебе ведь всё равно, что они скажут, Эдвард.
— Совершенно всё равно, — согласился он.
— Где ты был?
Это уже начинало надоедать.
— В кабаке. Потом в замке.
— А потом?
— Я до самого утра там был, Магда.
— У конунга?
— Конечно.
Она молча смотрела на него. Боги, они женаты меньше года, но как же осточертел ему уже этот взгляд. У Магдалены Фосиган было ровно три выражения лица, но именно этим она пользовалась чаще прочих. Эффект был, как от пытки медленной водой.
— Если ты мне не веришь, спроси его сама, — сказал Эд, прекрасно зная, что она не спросит.
Магдалена встала, заслонив спиной оконный проём. Эд стащил наконец сапог и взялся за второй.
— Тебя ждут внизу.
— Выгони их.
— Это секундант Сальдо Бристансона.
Эд выругался и тяжко вздохнул. Потом снова надел только что снятый сапог.
— Эдвард, как ты мог допустить эту дуэль?
Эд прошёл мимо жены, не ответив. Голова слегка побаливала, и он на ходу рассеянно помассировал висок. Спать хотелось ужасно, но он заставил себя встряхнуться. Ладно, отоспится ночью. Надо бы лечь сегодня пораньше. Он, правда, обещался быть в «Кабаньем логове» этим вечером… дьявол, придётся идти. Заскочить хотя бы на часок, иначе не поймут.
Тедор Фокстер ждал его в малом гостином зале. На столе стояла непочатая бутылка вина: к угощению он не притронулся. Эду хватило одного взгляда, чтобы понять, что гость находится в состоянии, близком к нервному припадку.
— Доброго вам утра, Фокстер, — приветливо сказал Эд. — Прошу прощения, что заставил ждать. Чем обязан?
Фокстер развернулся на месте так круто, что, казалось, едва не потерял равновесие. Его плотно сжатые губы побелели от напряжения.
— Какого дьявола я должен обивать ваши пороги, сударь? — хрипловатым от еле сдерживаемого гнева голосом спросил он. — Кто ваш секундант?
— У меня его нет, — пожал плечами Эд. — Как-то, знаете ли, руки ещё до этого дела не дошли. Вы не могли бы зайти попозже? Скажем, вечерком?
Несколько мгновений Фокстер молчал. Эд почти видел, как напряжённо он пытается подобрать для него наиболее подходящий эпитет, при том не слишком обидный — оскорблять противника человека, чьим секундантом ты являешься, считалось невероятной низостью. Однако «милордом» Фокстер назвать Эда никак не мог, а нейтральное «сударь» не содержало необходимого экспрессивного заряда. Поэтому в конце концов он проглотил своё возмущение и сказал совершенно ровно:
— Будьте любезны немедленно написать человеку, которого вы желаете видеть своим секундантом. Я готов подождать.
— Это очень любезно с вашей стороны. Погодите тогда, мне надо подумать. Хм… А почему вы не пьёте? Это хорошее вино. У меня не бывает плохого.
Он подёргал за шнурок звонка. Лакей, видимо, подслушивал за дверью, потому что явился почти тотчас.
— Бумагу, перо и чернила, — распорядился Эд и, рухнув в кресло, растерянно посмотрел на стоящего Фокстера, неотрывно глядевшего на него в точности тем же взглядом, что и Магда несколько минут назад.
— А вас ведь не было вчера в «Роге», правда? — спросил Эд. — По-моему, не было.
— Я пришёл позже.
— А! Ну и? Вам рассказали, как глупо у нас с Бристансоном получилось? Молог знает что…
— Собираетесь извиниться? — немедленно спросил Фокстер.
Эд изумлённо посмотрел на него, потом расхохотался.
— Извиниться? Помилуйте! Он только что по роже мне не надавал, жаль, его остановили. И знаете, из-за чего весь сыр-бор?..
— Кто ваш секундант, сударь? — багровея, прошипел Фокстер.
Эд задумался.
— Даже не знаю… Может, вы мне скажете?
— Я?!
— Конечно, вы, — прямо глянув на него, кивнул Эд. — Вы ведь лучше меня знаете, кто в этом треклятом городе ненавидит меня меньше остальных, а кто больше. Мне-то, как правило, они об этом не говорят.
— О, вы преувеличиваете, — с презрением ответил Фокстер. — Поверьте, в этом треклятом городе нет ни одного человека, который бы вас ненавидел.
— Хотите сказать, что меня всего лишь презирают, не опускаясь до ненависти? — уточнил Эд. Фокстер уставился на него. Это всегда восхищало Эда в нём и таких, как он: они могли сколько угодно плеваться ядом в завуалированной форме, но совершенно терялись, если он переводил их намёки на нормальный язык. — Пожалуй, но это только в Верхнем Сотелсхейме. В Нижнем дела обстоят несколько иначе, однако тут вы, я так понимаю, не слишком компетентны.
Вошёл лакей, неся письменные принадлежности. Поза Фокстера, видимо, со стороны смотрелась весьма красноречиво, потому что лакей с интересом покосился на гостя и тут же удрал за дверь.
— Что? — раскладывая бумагу на столе, полюбопытствовал Эд. — Вы тоже хотите вызвать меня на поединок?
— Нет!
— Ну и хорошо. Дали б боги завтрашний пережить. Рико Кирдвига знаете?
Кажется, совершенно перестав улавливать нить беседы, Фокстер деревянно кивнул.
— Ну и как он?
— Прошу прощения?
— Как он вам? В том смысле, что он благороден, не правда ли? Хорошо воспитан и всё такое. Я, правда, не в курсе насчёт его заслуг перед конунгом и кланом, но это, по-моему, в данном случае не важно.
— Эфрин, что вы несёте?
Эд коротко улыбнулся.
— Рико Кирдвиг устроит вас как мой секундант?
Фокстер расправил плечи. Его облегчение от близкого конца разговора было почти осязаемым.
— Вполне.
— Ну и слава богам. Хорошо бы он согласился ещё. — Эд быстро нацарапал на бумаге несколько строк и, свернув свиток, обвязал лентой с цветами Фосиганов. Потом небрежно протянул Фокстеру. — Сами теперь решайте, проявлять ли мне к вам положенное, но совершенно неудобное в нашем случае уважение и посылать ли это со слугой. Или вы сэкономите себе и мне лишний час и отвезёте это Кирдвигу сами.
Фокстер вырвал свиток из руки Эда. Тот улыбнулся шире.
— Вы меня премного обязали. Я написал Рико, что согласен на любые условия, так что, надеюсь, вы сговоритесь быстро. Обсуждать примирение не пытайтесь, я дал ему указание не примиряться ни в коем случае.
— О примирении не может быть речи, — пламенно сказал Фокстер, и Эд кивнул. Конечно, не может. Когда ты, самоуверенный сотелсхеймский хлыщ, входил в эту комнату, а потом два часа мерил её шагами, ты только и думал, как бы спасти своего дружка от этой позорной дуэли. Но теперь ты сам потащишь его на поединок за шиворот, и не будь Бристансон первым на очереди, ты бы прямо тут вытащил меч и нашинковал из меня закуску к грядущей свадьбе дражайшего Сальдо. Но не выйдет, нет. Я дерусь с ним, а ты мне в этом поможешь.
— До завтра, — сказал Эд и, не вставая, небрежно протянул Фокстеру руку. Тот не принял её, ограничившись сухим кивком, и зашагал к выходу. Улыбнувшись, Эд опустил руку и сказал Фокстеру в спину:
— И ещё одно, Фокстер. Моё имя не Эфрин, а Фосиган. И если вы ещё хоть раз позволите себе подобную оговорку, я вызову вас. И вы не посмеете отказаться.
Несколько мгновений Тедор Фокстер стоял у порога, и тугие мышцы шеи так и перекатывались под кожей. Потом с грохотом распахнул дверь и размашисто вышел прочь.
Эд вытянулся в кресле и некоторое время блаженно потягивал вино, от которого так опрометчиво отказался его гость. Разговор с Фокстером приятно взбодрил его, и спать уже не хотелось. Меньше чем через час прибежал посыльный с запиской от Рико Кирдвига. Эд пробежал её глазами, удовлетворённо кивнул и отправился в фехтовальный зал.
3
Любят ли боги дуэлянтов — вопрос спорный и в некотором роде риторический. Жрецы Лутдаха, покровителя учёного люда, с давних пор ведут диспуты на эту тему, и не одна сотня гусиных перьев сломана в попытке написать сколько-нибудь авторитетное послание к мирянам на сей счёт. С одной стороны, поединок чести, призванный обелить или защитить имя клана, либо установить справедливость, либо подтвердить невиновность ложно обвинённого — такой поединок священен и угоден Гилас. С другой стороны, любое смертоубийство — прежде всего жертва Мологу, да будет проклято и забыто имя его. Имя Молога, однако, в народе и среди благородных господ поминалось уж слишком часто, чтобы быть забытым, и слишком часто благородные господа оскорбляли друг друга в пьяных сварах, чтобы Молог рисковал лишиться жертвоприношений. Кроме того, неясно было, как относятся к дуэлям остальные боги. И Лукавая Тафи, водившая рукой фехтовальщика, и Хитроумная Аравин, научавшая его обманным движениям, и даже Неистовая Янона, с восторгом принимавшая любое бессмысленное кровопролитие, имели в этом деле свой интерес. Что уж говорить о Дирхе-Меченосце, ратующем за справедливость и кару не иначе чем с помощью меча, и считалось даже, что мечи благородных дуэлянтов — не что иное, как тень от тени меча Молога, которую Черноголовый доверил носить своему сыну. Таким образом, честные поединки имели прочную и хорошо аргументированную теологическую базу, однако сильно отдававшую дьяволопоклонничеством, потому что получалось, что именно мечом Молога, в фигуральном смысле, размахивают драчуны, снося друг другу головы.
Посему жрецы Светлоликой Матери Гилас хотя и терпели это, как терпели храмы и алтари богов-детей Молога, были страшно недовольны положением вещей и не уставали увещевать конунга, что-де давно пора запретить эти возмутительные игры с божьей волей. Конунг внял лишь отчасти: формально дуэли были запрещены, и как противники, так и их секунданты подвергались выволочке, но наказывались только если смерть одного из них была нежелательна — к примеру, порождала лишнюю путаницу с наследованием в клане или иную политическую сумятицу.
Сегодняшний поединок вполне мог стать подобным прецедентом. А мог и не стать — всё зависело от того, убьёт ли Сальдо Бристансон Эда Фосигана, или будет убит им. В первом случае последствия были совершенно непредсказуемы: в качестве клановой фигуры Эд Фосиган был никто, меньше чем никто, и даже его вдова, скорее всего, утешилась бы довольно быстро. Однако в личном отношении к конунгу Эд Фосиган отнюдь не был никто, он был некто, и если хотя бы половина сплетен, бродивших вокруг конунговой опочивальни, была истиной, то не сносить Сальдо Бристансону головы. Эду Фосигану, буде ему случится убить Сальдо Бристансона, не сносить головы тоже, ибо Сальдо Бристансон был не просто женихом старшей дочери конунга — он был единственным прямым наследником клана Бристансон, одного из наиболее влиятельных и близких септ Фосиганов.
Поэтому, как ни крути, убивать никого не стоило. И если Эд изначально понял и принял это как данность, то Сальдо Бристансон дошёл до этого вывода далеко не сразу и не без помощи своего дружка Фокстера — и даже дойдя, никак не мог смириться, потому и буравил сейчас Эда ненавидящим взглядом, гневно сверкая чёрными глазами безупречно красивого, но сведённого судорогой ярости лица.
— Я так понимаю, мой лорд, вы меня уже убили, — заметил Эд, натягивая перчатки. — Сожгли заживо пламенным взглядом практически насмерть.
— Да уж, гляди, у тебя уже портки дымятся, — шепнул ему Рико Кирдвиг и громко загоготал, пользуясь тем, что ни Бристансон со своим секундантом, ни жрецы Дирха не могли услышать, потому что стояли слишком далеко.
Эд удовлетворённо кивнул. Кирдвиг — парень что надо. Несколько туповатый, и к тому же первый в Сотелсхейме сплетник, он одновременно отличался редкостным добродушием и отзывчивостью даже к малознакомым людям. Как Эд и предполагал, он легко и быстро сговорился с Фокстером обо всех подробностях, хотя и обсуждать-то было почти нечего: драться решили на одноручных мечах, каждый своим оружием, без кинжалов и щитов, в кожаных доспехах, но без шлемов. Единственным категорическим требованием Бристансона — а вернее, Фокстера — была полная закрытость поединка. Для этого местом назначили внутренний двор в сотелсхеймском святилище Дирха, где традиционно происходило большинство дуэлей — жрецы Меченосца, считавшие каждый подобный поединок ритуальным священнодейством во славу своего бога, строго следили за тем, чтобы ни любопытные, ни злопыхатели не могли вмешаться и прервать бой. Даже конунговой страже вход в храм был заказан, однако жрецы охотно выдавали им дуэлянтов, когда поединок завершался, и свидетельствовали вину убийцы, если дуэль была насмерть.
— Насмерть ли сходитесь? — буднично осведомился жрец, стоявший ровно в центре условной линии, прочерченной между противниками. Вообще свидетелей-жрецов было двое, но говорил всегда один, старший; роль сопровождавшего его послушника сводилась к тому, чтобы вовремя кликнуть лекаря или поднять ор, если драка выйдет за договоренные рамки, или если секунданты противников сцепятся друг с другом — бывало и такое.
— Насмерть ли сходимся, мой лорд? — осведомился Эд, принимая из рук Рико свой меч. — Вы как бы оскорблены, так что вам виднее…
Нижняя губа Бристансона дрогнула, будто он собирался сплюнуть. Рука стоявшего рядом Фокстера тут же легла ему на плечо. Фокстер что-то сказал, очень тихо и сдержанно. В его глазах тоже гулял гнев, но в сравнении с Бристансоном он выглядел образцом спокойствия и самообладания.
— Просто поразительно, как же его заела эта шлюха, — недоуменного проговорил Кирдвиг.
— Да уж, я сам диву даюсь, — беспечно отозвался Эд и, повернувшись к жрецу, отвесил лёгкий поклон. — Во имя Дирха-Меченосца, я желаю не смерти этого человека, но справедливости.
— Справедливости?! — всё-таки выплюнул Бристансон; было только девять утра, но солнце палило нещадно, и по его лицу обильно тёк пот. — И ты ещё смеешь говорить о справедливости?!
— Сальдо! — предупреждающе повысил голос Фокстер. — Вспомни, что я тебе говорил. Вспомни, что ты ответил.
Сальдо Бристансон, похоже, действительно был влюблён в леди Чаттону. Ещё похоже, что он дурно переносил жару и плохо спал последней ночью. И, возможно, замкнутый «колодец» серых стен святилища и пыльная площадка под ногами вкупе с равнодушным жрецом и нахально улыбавшимся соперником выводили его из себя. Но как бы там ни было, а Сальдо Бристансон был урождённый дворянин, лэрд великого клана, без пяти минут зять конунга и без десяти минут — сам конунг. Поэтому он глубоко вздохнул, движением головы откинул со лба липкую от пота прядь, взял из рук своего секунданта меч и медленно, величаво поклонился жрецу.
— Во имя Дирха-Меченосца, я желаю не смерти этого человека, но справедливости, — сказал он с большим трудом и с не меньшим достоинством.
— Браво, — негромко заметил Эд, обращаясь к Кирдвигу. — Поаплодировал бы, да руки заняты.
— С милостью Дирха и под оком его, сойдитесь же до первой крови, и тот, кто обагрится ею, повержен будет, — заученно пробубнил жрец и, жестом благословив соперников, отступил к галерее двора, дав тем самым сигнал к началу поединка.
Эд лёгким движением обнажил клинок и встал в позицию. Бристансон последовал его примеру, хотя и несколько позднее — он всё ещё старался унять и загнать поглубже клокотавшую в нём ярость.
Несмотря на свою молодость, вспыльчивость и любовь к леди Чаттоне, это ему превосходно удалось.
Эд шагнул вперёд и сделал лёгкий дразнящий выпад. Бристансон парировал его и перешёл в контратаку, но так же легко и дразняще, пока что лишь исследуя силы противника. Его лицо совершенно разгладилось, и даже ненависть ушла из взгляда. Они снова скрестили клинки, и Эд мимолётно улыбнулся ему.
— У вас лёгкий шаг, мой лорд. Как-нибудь я позволю себе пригласить вас на спарринг, что скажете?
Бристансон не ответил, но следующий его выпад был жёстче и резче предыдущего. Эд не стал его парировать, просто ушёл от удара, сместившись на шаг в сторону.
— Так быстро распаляетесь, — сказал он огорчённо. — Разве же я вас чем-то обидел? Сейчас, я имею в виду…
Бристансон, видимо, твёрдо решив не поддаваться на словесные провокации, снова сделал выпад, стараясь зацепить ноги. Эд отпрыгнул, выбив сапогами облачко пыли из иссушенной солнцем земли.
— Чёрт, это не очень умно, сударь, — заметил он, отражая новую атаку. — Ведь добить меня вы всё равно не сможете. Или вы решили, что рана должна быть обидной? Тогда вам стоит целить в другое место…
Будто последовав совету, Бристансон нанёс серию ударов на уровне груди, последний — в область живота, направив лезвие противнику прямо в пах. Эд парировал, слыша ободрительный возглас Кирдвига и пренебрежительное фырканье Фокстера.
— Так, значит, вот как вы избавляетесь от соперников по постельным делам, — заметил Эд, нанося удар и тут же парируя контратаку. — Не скажу, что это глупо, но ужасно низко, вы не находите? Или, — ещё удар, — вы полагаете, что коль уж опустились до дуэли со смердом, то и бить его надо как смерда? — Парирование, удар. — Что ж, это и впрямь не лишено логики… — Удар, контратака, удар, отступление, контратака, удар. — Только вот куда прикажете мне бить вас?
Сальдо Бристансон споткнулся, нелепо взмахнув руками, и едва не выронил меч, но сохранил и достоинство, и равновесие. Эд остановился, давая противнику время выпрямиться и выровнять дыхание. Они успели поменяться местами, и теперь Эд видел одобрительную ухмылку Кирдвига, маячившего у Бристансона за плечом, и чувствовал спиной сжигающий взгляд Фокстера. Ха, а ведь не будь тут жрецов-свидетелей, преспокойно наблюдавших за дракой из тени дворового портика, вы бы, лорд Тедор, не побрезговали помочь товарищу и всадить клинок мне в спину…
— Это в самом деле вопрос, — сказал Эд. — Я прошу у вас совета.
— Ты чересчур много болтаешь, — хрипло проговорил Бристансон. Он уже отдышался и снова поднял клинок, хотя пот по его лицу катился градом. Эд тоже взмок, но только слегка. По ярко-синему летнему небу в сторону солнца плыла маленькая лёгкая тучка.
— Коль уж благородный вызвал того, кого считает смердом, куда смерд смеет ранить его, не оскорбив ещё более? — задумчиво продолжал Эд, на последнем слове парировав удар, который обрушил на него Бристансон, рванувшись с места как змея. — Ниже пояса? — Эд сделал стремительный выпад, почти задев бедро Бристансона — и отведя меч прежде, чем тот успел парировать. — Нет, это гнусно, ибо ниже пояса — только порют, и, с вашего позволения, е…ут.
Бристансон снова споткнулся, а Рико Кирдвиг оглушительно захохотал. Этот парень всегда ценил незамысловатую народную шутку.
— В грудь? — продолжал Эд, очертив смертоносную линию перед грудью противника. — Нет. В груди бьётся благородное сердце урождённого лорда, и кровь от этого сердца не может быть пролита рукой того, кто родился в сточной канаве…
— Заткнись, — прошипел Бристансон; его атаки становились всё яростнее, и Эд отражал их, не пытаясь перейти в наступление, до тех пор, пока снова не заговорил.
— Быть может, в шею? — снова выпад; клинок почти царапнул кадык Бристансона, но тут же ушёл в сторону. — Тоже нет! Ибо горловая кровь самая алая, а значит, самая благородная из всей вашей наиблагороднейшей кровушки, мой лорд…
— Довольно, — чуть слышно сказал Бристансон, и в его глазах Эд ясно видел, что он напрочь забыл о клятве не доводить до смертоубийства, которую только что дал богу-Меченосцу, и собирается преступить её. А боги не любят, когда преступают клятвы, данные им десять минут назад.
— Что же остаётся? Только голова, — сказал Эд. — Она у всех одинакова, только вот вам, мой лорд, всё равно не нужна, ибо вы не шибко-то ею пользуетесь.
— Сдохни! — взревел Сальдо Бристансон, вспыльчивый, гневливый, неопытный и юный лэрд, помешавшийся от любви и обиды, и, вскинув клинок над головой, под протестующие крики жреца, Кирдвига и Фокстера опустил его на голову Эда.
Эд не стал парировать. Не стал он и уклоняться, хотя с равной лёгкостью сделал бы и то, и другое. Вместо этого он слегка присел и с коротким замахом снизу вверх нанёс удар.
Самый кончик клинка вошёл в нижнюю челюсть Сальдо Бристансона и рванулся ещё на несколько дюймов влево и вверх, рассекая кость и лицевые ткани. Эд оттолкнулся, ступая назад и позволяя клинку свободно выскользнуть из раны, встречая меч врага. Бристансон упал на колени и, выронив меч, схватился рукой за залитое кровью лицо. Он не кричал, лишь надсадно и хрипло выл, покачиваясь на месте и обильно хлеща кровью из разрубленного лица на пыльную землю.
— Бой окончен! Дирх удовлетворён! — провозгласил жрец. Мальчишка-послушник уже мчался по галерее за лекарем, гулко топоча деревянными сандалиями. Тедор Фокстер, склонившись над Бристансоном, тряс его за плечо и звал по имени, а Кирдвиг подскочил к Эду сзади и вцепился ему в локоть.
— Жив? Жив хоть? Гилас и дети её! Жив или помрёт?!
— Я надеюсь, что не оскорбил вас своим выбором, мой лорд, — сказал Эд. Сальдо Бристансон приподнял трясущуюся голову, и Эд встретил взгляд единственного, совершенно безумного глаза, полыхнувшего среди кровавой маски яркой голубизной.
Эд поклонился ему, выпрямился и стряхнул кровь с меча.
— Честь имею, мои лорды, — сказал он, не ответив на мучительно-яростный взгляд Фокстера, и пошёл к выходу. Дуэль была окончена, а день только начался.
Когда они прошли через внутреннее помещение святилищ и оказались на улице, среди снующих горожан, Эд повернулся к Кирдвигу и, проникновенно заглянув ему в глаза, сказал:
— А теперь, дражайший мой Рико, у меня часа два или три до ареста, и мне хотелось бы провести их в кругу друзей. Посему предлагаю нажраться в дым. Я угощаю.
И даже если Рико Кирдвиг не горел желанием сопровождать его, то на дармовую выпивку он никак не мог отреагировать иначе, чем с бурным и неподдельным восторгом.
Считалось, что Эд Эфрин появился в Сотелсхейме три года назад. Но на самом деле это произошло шестью месяцами раньше.
В один из первых весенних дней, когда Ясноокая Уриенн приподняла веки, просыпаясь от долгого зимнего сна, когда свет её глаз излился на усталую землю первыми солнечными лучами и когда, растопленный этим светом, с вод Силмаэна наконец-то сошёл лёд, аптекарша Северина из Нижнего города вышла к реке топиться. Стояло утро, столь раннее, что лишь немногие лодочники успели подтянуть свои снасти к воде, а переправы и Сотелсхеймский мост ещё были закрыты, и никто не мог ни заметить вдову аптекаря, ни помешать ей. Потому она выбрала именно этот день: ещё неделя отсрочки — и на реке стало бы слишком людно, к тому же Северина боялась, что её горе немного утихнет, а с ним она лишится и мужества. Две недели назад её муж Гольберт с сыном Дором отправились в одну из окрестных деревень, где можно было продать некоторые товары дороже, чем в городе, — близилась весна, неся с собой свои особые хвори, от которых не всегда можно было найти спасение в лесных травах. Они получили хорошую выручку и возвращались домой с тяжёлым кошельком, которым прельстились бандиты на большой дороге. Гольберта и Дора к Сотелсхейму принесла река. Теперь Северина вышла к реке, чтобы присоединиться к тем, кого любила.
И ей, и Эду Эфрину повезло, что она выбрала именно этот день. Днём позже она, может статься, перетряхнула бы вещи покойного мужа — и наконец нашла бы ключ от тайного погребка под половицей, в котором находился ящик, уставленный плотно закрученными баночками непрозрачного стекла. И кто знает — возможно, тогда ей даже не пришлось бы идти к реке. Но Северина пока ещё не нашла этот ключ. Вместо него она нашла молодого мужчину, лежащего без сознания у самой воды. Он лежал на боку, лицом к восходящему солнцу, одна его рука погрузилась в воду, и ледяной поток колебал посеревшие от холода пальцы. Северина посмотрела на эти пальцы и подумала, что вся её кожа, каждый клочок её станет такого же цвета — менее чем через час. И когда она представила себе это, в ней наконец родился страх. Она взяла руку раненого и вытащила её из воды.
Потом приложила ладонь к его сердцу и, почувствовав слабые, неровные удары, поняла, что река, отнявшая у неё всё, что она любила, сжалилась и дала ей что-то взамен.
На следующий день она нашла ключ от тайника аптекаря Гольберта.
Эд прожил у Северины до лета. Она мало знала о нём — только то, что он пришёл из города Эфрина. На вопросы о том, кто и как ранил его, он лишь качал головой и беспомощно улыбался, будто стыдясь признаться, что в памяти от этих событий осталась лишь вязкая мгла. Первые недели Северина перебивалась с хлеба на воду, едва сводя концы с концами, — она умела вести хозяйство, но мало знала о травах и лишь помогала своему мужу в его ремесле. Едва оправившись, Эд попросил у неё денег. Очень спокойно и просто — так, будто не сомневался, что получит просимое. Кое-как Северина наскребла сумму, которая ему требовалась: к тому времени она уже любила его. Эд ушёл с этими деньгами в базарный день и вернулся с небольшим арбалетом и пригоршней болтов.
— Что ты собираешься делать? — с удивлением спросила Северина: она всю жизнь прожила в мирном, безопасном и надёжном Сотелсхейме, Тысячебашенном городе, городе-мечте, и её муж никогда не держал дома оружия.
— Я собираюсь кормить тебя, — ответил Эд и ушёл прежде, чем она поняла, о чём он говорит.
И лишь когда вечером Эд вернулся, неся в небрежно заброшенной за спину сетке связку жирных фазанов, ударилась в слёзы.
— О, милостивая Гилас, что ты наделал, Эд?! Это же леса конунга! Тебя повесят, если поймают!
— Непременно, — ответил он. — А пока ешь.
Она воровато приготовила дичь там же, где её муж варил лечебные зелья — в погребе под лавкой, откуда наружу вела ветровая отдушина. И съела, полностью утолив голод впервые с того дня, когда осталась вдовой.
В следующий базарный день Эд закинул связку фазанов на плечо и пошёл на рыночную площадь. Весь день Северина простояла на коленях лицом к храму Гилас, молясь, чтобы она пощадила её мужчину. Гилас его пощадила. Он вернулся вечером и отсчитал все деньги, которые взял у Северины на покупку арбалета — до последнего гроша. А потом положил на стол штуку ярко-жёлтого полотна.
— Сшей себе платье, — сказал Эд. — И не носи больше чёрное.
Шесть месяцев, которые Эд Эфрин был и не был в Сотелсхейме, стали самыми счастливыми месяцами в жизни Северины, аптекарши из «Красной змеи».
Всё закончилось летом, когда конунг выехал на традиционную Большую охоту, затевавшуюся всякий раз накануне праздника Эоху. В честь бога солнца, урожая и благоденствия в течение трёх дней любому, независимо от рода и звания, позволялось охотиться в лесах Сотелсхейма — таков был дар великого конунга каждому, кто имел твёрдую руку и меткий глаз и, конечно, был любим богами. Сам конунг отказался от традиционной охоты на оленя и выбрал дичь, которой тем летом выдалось особенно много. Лучшие охотничьи угодья находились в лесном массиве к северо-западу от города — туда и направился великий конунг Грегор Фосиган, вместе со всей своей семьёй, многочисленной свитой и ближайшими септами. День был ясный и способствовал прекрасному настроению. Подзуживаемый льстивыми шутками придворных, конунг раньше срока распалился охотничьим азартом. Одинокий краснокрылый голубь, пролетавший над дорогой, привлёк внимание лорда Фосигана. Конунг потребовал арбалет и объявил, что намерен открыть охоту. Это вызвало всеобщее оживление, и десятки глаз заворожённо следили, как конунг пускает стрелу — это было важно ещё и потому, что служило добрым либо дурным знаком для всей сегодняшней охоты.
Под нервические ахи дам, подобострастные смешки господ и надрывный лай гончих великий конунг Георг Фосиган виртуозно промазал.
Ветер, конечно, и волнение, и неустанная болтовня под руку — вот пальцы и дрогнули, ничего особенного. Другой арбалет — да, о великий конунг! — ну-ка… И снова промазал, не менее искромётно. Конунг опустил арбалет и сказал в гробовой тишине, прерываемой лишь скулежом собак:
— Слишком высоко.
И будто в насмешку над великим конунгом, в воздухе просвистела стрела, и голубь рухнул с небес под копыта конунгова коня.
— Кто бы он ни был, он труп, — со знанием дела сказал Фабиан Бристансон своему племяннику Сальдо, и тот обескураженно покачал головой.
Конунг спешился, поднял голубя за крыло, осмотрел со всех сторон, потом выдернул из груди мёртвой птицы болт и повелел:
— Охотника найти, изловить, доставить ко мне.
— Не надо его ни искать, ни тем паче ловить, великий конунг, — смиренно сказал молодой, бедно одетый мужчина, выходя из придорожных кустов и опускаясь на колени. — Сам каюсь и сдаюсь на ваш справедливый суд.
— Простолюдин, — зашушукались дворяне; кое-кто был разочарован: сорвался очаровательный скандал, который мог стать поводом для клубных бесед минимум вечера на два.
Конунг опустил руку и с интересом посмотрел на золотисто-русое темя человека, склонившего перед ним голову.
— Ты стрелял?
— Я, великий конунг.
— Зачем?
— Есть очень хочется.
Конунг хмыкнул и бросил голубя к его ногам.
— Что ж, ешь. Заработал. Покажи своё оружие.
Охотник протянул арбалет. Конунг даже не стал брать его в руки — кинул беглый взгляд и снисходительно изогнул бровь.
— Ты хорошо стреляешь.
— Я знаю, великий конунг.
— Что ты сказал? — уже отвернувшийся было лорд Фосиган изумлённо оглянулся.
— Я действительно хорошо стреляю.
Несколько мгновений конунг продолжал изучать золотистые волосы молодого охотника, стянутые шнурком на затылке. Потом спросил:
— Кто ты и откуда?
— Я никто, великий конунг, — подняв голову, просто ответил охотник. — А пришёл я из города Эфрин.
Конунг рассмеялся.
— Никто, говоришь? Немного найдётся людей, которым хватит смелости так о себе сказать.
— Нет смелости в том, чтобы говорить правду конунгу, — всё так же смиренно сказал охотник, и это заявление породило в толпе с интересом слушавших придворных презрительный смешок. Конунг присоединился к всеобщему веселью, сверкнув зубастой улыбкой.
— Ты ничего не знаешь о дворе, парень, потому так думаешь. В этом есть и смелость, и некоторая невинность, хотя по большей части глупость… Ты глуп, Никто из города Эфрин?
— Нет, великий конунг.
Придворные зафыркали, засмеялись, зашептались. Конунг смотрел на охотника, улыбаясь.
— А может, ты глуп, но просто дерзок?
— Возможно, и так, великий конунг. А возможно, и нет, ведь ум и дерзость не обязательно исключают друг друга.
— Для человека по имени Никто у тебя слишком хорошо подвешен язык, — заметил лорд Фосиган.
— Имя и умение владеть своим языком, равно как и другими частями тела, тоже не обязательно связаны, — спокойно сказал охотник, и те, кто слышали его слова, попрятали ухмылки и стали отводить взгляды, ибо это была уже неприкрытая дерзость смерда в адрес людей благородного имени, и конунг не мог пропустить её мимо ушей.
Но — вот чудеса! — конунг и впрямь пропустил её мимо ушей. Улыбка спряталась в завитках курчавой каштановой бороды, но не исчезла совсем.
— Ты и впрямь метко стреляешь, Никто из города Эфрин, — сказал он, и каждому, кто знал лорда Грегора, в его словах послышалась двусмысленность.
— Не метче, чем большинство ваших подданных, великий конунг, — беспечно отозвался охотник.
— Много метче, поверь мне. Я знаю их лучше твоего.
— Не думаю. Поверьте, каждый третий среди них умеет хорошо стрелять. Просто ему никогда не хватит смелости выдать это в вашем присутствии.
— Тебе смелости хватило.
— Я не ваш придворный, великий конунг, — усмехнулся охотник. — Мне нечего терять.
— Свою голову ты, стало быть, не ценишь?
— Очень ценю, но, смею полагать, если бы вам было угодно снять её с моих плеч, вы бы сделали это сразу после того, как я убил вашу птицу.
— Отец! — воскликнула юная леди Лизабет, возмущённая сверх меры; даже её гнедая кобыла переняла настроение хозяйки и нервно стукнула копытом. — Это уже слишком, зачем ты слушаешь…
— Встань, — сказал конунг.
Охотник поднялся с колен. Стало видно, что он на голову выше конунга, который, впрочем, был приземистым и тучным мужчиной.
— Я казнил бы тебя, если бы ты убил мою птицу. Но эта птица — твоя, — сказал конунг и вскочил в седло.
Придворные облегчённо вздохнули, стремясь продолжить путь, — всё это совершенно не было похоже на лорда Грегора, а потому смущало их. Кавалькада уже тронулась дальше по дороге, когда охотник, несколько мгновений провожавший конунга напряжённым взглядом, вдруг резко крикнул:
— Там нет охоты, великий конунг!
И в мгновение ока конь лорда Фосигана взрыхлил землю прямо перед ним.
— Что ты сказал?
— В той стороне нет охоты. Ни оленя, ни кабана, ни дичи.
— В самом деле? — мягко переспросил конунг, и вот эта мягкость уже была хорошо знакома тем, кто жил с ним рядом, и каждого она вынудила опустить глаза и тихонько отъехать в сторонку, чтобы не попасть лорду Грегору под горячую руку. Будь у мальчишки и впрямь хоть капля ума, заткнулся бы и убрался подобру-поздорову с конунговым голубем. Но тот стоял посреди дороги, в клубах пыли, поднятой копытами коней, на сей раз со смело вскинутой головой, и смотрел конунгу прямо в лицо.
— Ты ставишь под сомнение работу моих егерей, Никто из города Эфрин?
— Что ж поделать, если они делают свою работу дурно.
— В таком случае мне придётся их казнить. Или тебя, если ты лжёшь.
— За что же меня, великий конунг? Я-то не давал присяги служить вам верой и правдой. Хотя, как видите, служу по мере сил.
— И где же, по-твоему, будет хорошая охота? — вполголоса спросил лорд Фосиган.
Эд указал по дороге на юг.
Грегор Фосиган хлопнул в ладоши.
— Слушайте все! Поворачиваем к югу!
— Но, великий конунг!.. — всполошились егеря, однако конунг был непреклонен. Его улыбка теперь напоминала оскал гончей, гнавшейся за зайцем и неожиданно учуявшей кабана.
— Ты! — указательный палец с конунгским перстнем ткнулся в молодого наглеца. — Мне не нравится имя Никто. У тебя есть другое?
— Эд, с вашего позволения.
— Отлично, Эд Эфрин, ты поедешь с нами, и если, со своей меткостью, не настреляешь мне на юге полную сетку дичи, я собственноручно снесу тебе голову.
— Как пожелает великий конунг, — ответил Эд Эфрин.
Они видели друг друга в первый раз, но уже тогда понимали без лишних слов.
На юге и впрямь было чем поживиться — целая стая диких уток вспорхнула с поверхности затоки, образовавшейся в петле реки.
— Раздери меня Молог, этот мальчишка приносит мне удачу! — смеялся конунг, перезаряжая арбалет. — Поедешь со мной, Эд Эфрин, пристрою тебя младшим учеником к моим егерям.
— Это очень милостиво, великий конунг, но чему, по-вашему, они могут меня научить? — возразил Эд, и конунг засмеялся снова, и придворные угодливо смеялись вместе с ним, а Эд не смеялся — улыбался, смело глядя конунгу в глаза.
К тому времени, когда Эд настрелял полную сетку, вернулись соглядатаи лорда Фосигана, которых конунг незаметно для остальных отправил с разведкой в то место, где изначально затевалась охота и откуда конунга отвадил Эд. И сообщили, что два десятка хорошо вооружённых людей в одежде без родовых цветов сидят там в засаде, ожидая явления разгорячённых и беспечных от запала охотников.
— Раздери меня Молог. Этот мальчишка приносит мне удачу, — уже без улыбки сказал конунг.
То, что случилось дальше, стало поводом для клубных разговоров на гораздо более долгий срок, чем два вечера. Вызвав подмогу из замка, лорд Фосиган стремительно атаковал заговорщиков и захватил тех, кто остался в живых. Егеря, проложившие путь конунга по тем местам, также были арестованы и допрошены со всем возможным тщанием. Эд Эфрин, по слухам, тоже не избежал ареста. По другим слухам, это больше походило на приближение ко двору, чем на арест: конунг якобы удостоил его личной беседы в своих покоях, и если Эду Эфрину и довелось погостить в темницах Сотелсхеймского замка, то совсем недолго, потому что уже через день его видели на улицах Верхнего города, куда имели доступ только дворяне, жрецы и самые влиятельные из торговцев.
— Так ты знал о заговоре? И нарочно попался мне на пути, чтобы предупредить? Ты заранее продумал всё это?
— Продумал что, великий конунг? Возможность спасти вашу жизнь и заодно заслужить вашу признательность? Да. Так и было. Казните меня, если в моём поступке есть что-то преступное, предосудительное или неестественное для человека моего положения.
И говорили, что в ответ на эти немыслимые слова конунг расхохотался и хлопнул Эда Эфрина по плечу. «До чего же ты наглый, Эдо, — сказал он, но этих слов в клубы не передали, потому что их никто не слышал. — До чего наглый, искренний и верный мальчишка».
Все егеря, составлявшие в основном цвет клана Макатри, и заговорщики, как и следовало ожидать, имевшие связи с Одвеллами, были казнены на той же неделе. Это обрадовало многих, так как при дворе немедленно освободился целый ряд завидных должностей. Но многих и огорчило, ибо Эда Эфрина в числе казнённых не оказалось. Более того — именно ему, этому Никто из города Эфрина, конунг предложил место главного егеря. На что Никто из города Эфрина в своей обычной очаровательно-нахальной манере ответил беспечным и совершенно невообразимым отказом.
— Всё же я стреляю лучше, чем ваши придворные, мой конунг, и уже назавтра взвою со скуки, — якобы ответил он, но это-то уж выходило за всякие рамки и наверняка было досужим вымыслом. Одним из многих, которыми фигура Эда Эфрина стала стремительно обрастать с этого дня.
Потому что даже не став егерем конунга (говоря по правде, само такое предположение вообще было сомнительно — пост этот был слишком почётен и мог быть занят только представителем клана Фосиган, так что слухи об этом вряд ли имели под собою реальную основу), Эд Эфрин тем не менее остался в Сотелсхейме. И не просто в городе — в самом замке. До случая с охотой конунг благоволил клану Макатри и частенько коротал вечера за бокалом вина с юным лэрдом Питером, который в числе прочих заговорщиков сидел на дереве с арбалетом между колен. Вырезав клан почти подчистую, конунг лишился привычных собеседников и заскучал. Слухи ходили разные, но всерьёз никто и помыслить не мог, что место собутыльника, компаньона и (это добавляли сперва пугливым, а потом возмущённым шепотом) фаворита лорда Грегора займёт безродный выскочка Эд Эфрин. Эд остался жить в замке, и хотя ночевал с челядью, его положение в Сотелсхейме и при конунге оставалось поводом для жарких споров в салонах Верхнего и клубах Нижнего города. Никто ничего не видел, не понимал и не знал наверняка — даже вездесущие слуги, какими бы щедротами их ни соблазняли, не могли сообщить ничего вразумительного. Оставались домыслы, сплетни, временами граничащие то с откровением, то с клеветой, и постепенно ошеломлённый город осознал, что тот самый безродный выскочка не только продолжает говорить с конунгом так, как не смели с ним говорить его собственные дети, но и прочно обосновался в Верхнем Сотелсхейме.
Зимой следующего года Эд Эфрин получил личные апартаменты в западной части замка Фосиган. На первом весеннем балу он появился в свите конунга, одетый в белое с золотом, с волосами, заплетёнными в короткую косу на морской манер, и ярким, беспредельно наглым блеском голубых глаз. Все женщины Сотелсхейма, включая леди Лизабет, в тот день не могли отвести от него взгляд. Некоторые мужчины уже понимали, что это значит. И тем не менее ещё целый год никто не смел задавать вопросов, а когда конунг отдал за Эда свою дочь Магдалену, задавать вопросы стало поздно. Эд Эфрин был официально и законно принят в клан.
К этому времени Северина из аптеки «Красная змея» в Нижнем городе уже досконально разобралась, что именно находилось в баночках непрозрачного стекла, которые оставил ей в наследство погибший муж.
Эд также успел разобраться во многом — гораздо в большем, чем могли предполагать остальные, которые, к слову сказать, до сих пор крайне мало в чём разбирались.
Но никто — ни септы клана Фосиган, ни дети лорда Грегора, ни сам Эд — не знал, в чём успел, а в чём не успел разобраться конунг.
И может статься, что теперь наконец пришёл день, когда Эду придётся за это незнание заплатить.
Арестовывать его пришли не через два часа и не через три, а уже под вечер, когда весь город прознал об утренней дуэли и, ошеломлённый, украдкой подтягивался к таверне «Три сестры» на площади Тафи, где Эдвард Фосиган ставил дармовую выпивку всем желающим. Он не праздновал, а просто проводил время, что охотно пояснял каждому, кто с нервным смешком поздравлял его, фамильярно хлопая по плечу. Таких смельчаков, впрочем, сыскалось немного: большинство сходилось на том, что на сей раз выскочка из Эфрина перешёл все допустимые границы. Сам Эд был спокоен и одинаково любезен со всеми, пил не больше и не меньше обычного, язвил тоже — словом, этот день ничем не отличался от всех прочих, за исключением того, что уже к трём часам пополудни обычно сдержанный в выпивке Рико Кирдвиг надрался как свинья и, взобравшись на стол, красноречиво рассказывал всем желающим об утренней дуэли, временами разыгрывая события в лицах и изрядно при этом привирая. Даже явившаяся конунгская стража не заставила его слезть со своей трибуны — впрочем, это потому, что Кирдвиг её просто не заметил, как и большинство его благодарных слушателей.
Зато стражу заметил Эд, скромно сидевший за угловым столом и давно переставший быть центром внимания. В зале галдело и хохотало не менее тридцати человек, шум стоял страшный, от винного пара и дыма табака вошедшему с улицы человеку было трудно дышать. Начальник стражи, шедший впереди двоих сопровождающих, остановился на пороге, и на его лице появилась гримаса мимолётного, но неудержимого отвращения. Не дожидаясь, пока стражники проложат себе путь, Эд залпом допил вино, сделал последнюю затяжку и, сунув трубку за пояс, направился прямо к ним.
— Доброго вечера, мой лорд, — поприветствовал он начальника стражи. — Я в полном вашем распоряжении.
— Хорошо, — коротко ответил начальник стражи, и они вышли.
Прошло немало времени, прежде чем в «Трёх сёстрах» заметили, что Эд исчез.
Впрочем, всё оказалось не так страшно. Его не связали и даже не велели отдать оружие — только уже в замке, перед входом в покои конунга, пришлось оставить меч, что Эд и сделал без колебаний.
— Лорд Фосиган ждёт вас, — сказал камергер конунга, которому начальник стражи препоручил арестанта.
Эд откинул полог на двери и вошёл.
Конунг принимал его там же, где обычно, — в небольшой уютной комнате, увешанной гобеленами и фамильными портретами Фосиганов, где из мебели был только небольшой стол и два кресла. Резная дверь вела в личную библиотеку конунга, ещё одна — в опочивальню. Маленькое окно, спрятавшееся в нише, было забрано такими же резными ставнями и даже днём почти не пропускало света. На столе стояло всего два тройных канделябра. Эд знал, что с возрастом лорд Фосиган стал плохо переносить яркий свет.
Во всём Сотелсхейме вряд ли нашлось бы больше дюжины человек, которые видели эту комнату изнутри.
— Заходи, Эдо, — сказал конунг.
Он сидел в кресле, находившемся ближе к двери — как обычно. Одет был по-домашнему, в простой чёрный костюм, скупо украшенный золотой нитью. Голова конунга была непокрыта, и глубокие залысины в побитой проседью шевелюре поблескивали на свету.
Эд вошёл и поклонился, остановившись от конунга в трёх шагах. Тот небрежным жестом пригласил его подойти ближе и указал на кувшин, стоявший на столе между канделябрами.
— Сделай одолжение, побудь сегодня моим виночерпием. Себе тоже налей.
— Благодарю, мой конунг, но я уже пьян, — вежливо отозвался Эд.
— Правда? — удивился тот. — С виду и не скажешь. Зачем ты напился?
— Со страху, наверное.
— Руки не дрожат?
Эд вытянул руки перед собой ладонями вверх. Конунг придирчиво осмотрел их.
— Хм. Ты точно пьян? Как бы там ни было, гляди не разлей вино. Это тартоллон семьсот шестидесятого года. Робрин — ну, знаешь, мой хранитель вин — выл и рыдал, когда я уносил бутылку из погреба.
Эд серьёзно кивнул, давая понять, что осознаёт ответственность поручения, и ловко и аккуратно разлил вино — сперва конунгу, потом себе.
— Садись, — сказал лорд Фосиган.
Эд сел. Они молча выпили. Вино оказалось достойным своей легендарной репутации.
— Я вот весь день думаю, — проговорил Грегор Фосиган, — кто же ты всё-таки: дурак или предатель. Как полагаешь, к какому выводу я в итоге пришёл?
Эд задумался на мгновение. Потом ответил:
— Ни то ни другое.
— М-да? Почему ты так думаешь?
— Если бы вы решили, что я дурак, то не стали бы звать меня для разговора. А если бы сочли предателем, то не доверили бы разливать вино.
Конунг широко ухмыльнулся.
— Ты дьявол, Эдо! И откуда ты всё всегда знаешь?
— Не всё и далеко не всегда, — честно признался Эд. — Вот, к примеру, я понятия не имею, зачем вы меня сейчас позвали.
— Но повод-то тебе известен.
— Повод никогда не имеет значения, мой лорд.
Конунг вздохнул, рассеянно поглаживая ножку кубка. Драгоценные камни на его пальцах ярко и болезненно вспыхивали в свете свечей.
— Он умер? — спросил Эд.
— Нет. И это, видимо, чудо и милость Гилас… или жестокосердие Молога, как посмотреть. Если бы твой клинок вошёл хоть на полдюйма глубже, то пронзил бы его мозг. Но ты всего лишь разрубил ему челюсть и скулу, отсёк большую часть языка и лишил правого глаза. Мой лекарь шесть часов зашивал ему рану. Она не опасна, хотя и сильно кровоточила.
— Что ж, слава богам, — сказал Эд и залпом осушил кубок.
Конунг посмотрел на него так, как будто он только что снял штаны и опорожнился прямо на ковёр.
— Ты что творишь, поганый смерд?! Кто же так пьёт тартоллон?! Одного кубка должно хватить не меньше чем на час!
— А-а. Я не знал, — сказал Эд и налил себе ещё вина — оно ему действительно понравилось.
— Посмотри на меня, Эдо.
Эд поставил кувшин на стол и взглянул в чёрные глаза конунга.
— Ты хотел убить Сальдо Бристансона?
— Нет, мой лорд.
— Ты знаешь, что я собираюсь отдать за него Лизабет. Ты понимаешь, что это означает?
— Да, мой лорд.
— Неужели? И что же?
— Это означает, что после Квентина — он второй ваш наследник.
— Да. Второй, — повторил конунг и смолк.
Эд виновато покосился на кубок.
— Можно, я выпью? — попросил он.
— Нет. Ты не умеешь пить хорошее вино. Просто удивительно, за три года так и не научился.
— Таким хорошим вы меня раньше никогда не поили.
— И правильно делал, как теперь вижу. Нет, не трогай. Я велю принести тебе какой-нибудь дряни вроде аутеранского.
— Не надо. Я бы, с вашего позволения, лучше закурил.
Конунг поморщился, но кивнул.
— Молог с тобой, кури.
Какое-то время Эд раскуривал трубку от свечи, а конунг рассеянно потягивал вино. Потом лорд Фосиган сказал:
— Лизабет была у меня сегодня. Требовала твоей казни.
Эд, только что сунувший мундштук трубки в зубы, застыл и посмотрел на него с изумлением.
— Я тоже удивился, — кивнул конунг. — Она всегда хорошо о тебе отзывалась. А теперь говорит, что ты убийца и изменник.
— Почему убийца? И почему изменник?! — возмутился Эд и, не дожидаясь ответа, тут же спросил: — А что со свадьбой-то теперь?
— Да ничего. Сперва думали отложить, но лекарь заверяет, что лорд Сальдо будет как огурчик уже через неделю, когда спадёт опухоль. Эд, я надеюсь, между тобой и моей дочерью ничего нет, — спокойно добавил конунг, словно это было естественным продолжением сказанного раньше.
Эд вытащил трубку изо рта.
— Есть, мой лорд. Я на ней женат. И, между прочим, это была ваша идея.
— Ох, Эдо, Эдо, — вздохнул конунг. Он сидел откинувшись на спинку кресла, и на свету была только нижняя часть его лица — кончик носа и губы, почти терявшиеся в бороде. — Эдо…
— Что, мой конунг?
— Ты не боишься выйти отсюда прямо на плаху?
Эд обдумал ответ, неспешно попыхивая трубкой. Сладковатый дым белёсой дымкой колыхался между двумя мужчинами, сидевшими по разные стороны стола.
— Нет, — сказал Эд наконец. — То есть, вполне вероятно, однажды именно это и случится. Но не сегодня. Просто рано или поздно я вам окончательно надоем, и тогда вас начнёт раздражать то, что раньше забавляло… словом, ваше терпение иссякнет, и вы казните меня. Но это будет, если ненароком я оскорблю вас, а не одного из ваших слуг.
Повисло недолгое молчание.
— Всё верно, — сказал конунг. — Всё верно, Эдо. Но ты кое-чего не учёл. Мои слуги — это члены моего клана. А в случае с Сальдо Бристансоном — это и члены моей семьи. Сперва мой клан, потом боги, потом конунг, потом я — это святой закон для каждого, кто родился дворянином или стал им. И тот, кто оскорбит мой клан, трижды оскорбит меня. Подумай об этом как-нибудь на досуге.
— Вы бы хотели, чтобы я отверг вызов лэрда Сальдо? — спросил Эд.
Конунг нахмурился.
— Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что, отвергнув вызов или поддавшись во время поединка, я бы оскорбил ваш клан. И трижды оскорбил бы вас. Мой лорд, скажите, что, по-вашему, я должен был сделать?
— Этого я не знаю, — спокойно сказал конунг. — И не это меня тревожит. Меня тревожит то, что я не знаю, что ты хотел сделать. И удалось ли тебе это.
Эд не ответил. Конунг продолжил, так же ровно и невозмутимо:
— Пойми меня верно, мальчик. Если ты поссорился с Сальдо Бристансоном, дрался с ним и едва не убил — я могу это понять, хоть и не одобрить. Но ты один знаешь, была ли это обычная ссора, был ли это обычный поединок и что двигало тобой — оскорблённая честь или расчёт. Сальдо, возможно, знает ответы на эти вопросы, но сейчас затруднительно получить их от него.
Он смолк, будто приглашая Эда объясниться. И любой на его месте принялся бы возмущённо и пылко заверять, что это была самая обычная ссора — тому два десятка свидетелей, бывших позавчера в «Серебряном роге», что это был самый обычный поединок — тому свидетели секунданты и жрецы Дирха, и что это была самая заурядная, хотя и трагическая случайность — тому свидетели боги. Закончив свою пламенную речь, любой на месте Эда умолк бы, тяжко дыша, а завтра утром был бы казнён.
Эд знал всё это, а потому сказал:
— Я их ненавижу, мой лорд. За то, что они меня презирают, и презирали бы, даже если бы вы отдали мне Лизабет, а не Магдалену. Даже если бы вы произвели меня в главнокомандующие — проклятье, тогда бы они презирали меня втрое сильнее!
— Нет. Тогда бы они тебя боялись. Ты и жив-то до сих пор только потому, что не проявляешь интереса к придворной карьере… ты ведь не проявляешь его, не правда ли, Эд?
— Это вы мне скажите, — фыркнул тот. — Я тут уже три года, и до сих пор не могу понять, зачем. Милорд, ответьте честно: вы сами меня разве не презираете? Только правду.
Конунг рассмеялся.
— И за что я только люблю тебя, не знаю.
— А я знаю, — откликнулся Эд. — Но вам не скажу, и не просите.
Лорд Фосиган засмеялся снова.
— Ладно, юный ты безбашенный поганец. Можешь идти. Магда знает, где ты?
— Нет. Я не был дома с утра.
— Извелась, должно быть, бедняжка. Ты не очень груб с ней?
— Совсем не груб. Она разве жаловалась?
— Нет, это меня и тревожит. Ладно, убирайся вон, пока я не одумался.
— Разве вы всё ещё меня подозреваете? — беспечно спросил Эд, зная, как опасен этот вопрос, и именно поэтому совершенно не в состоянии от него удержаться.
И ответ стоил риска.
— Нет, — помолчав, проговорил конунг. — Я ни в чём тебя не подозреваю. Ты действительно должен был убить Сальдо, и ему просто повезло выжить, хотя и остаться изуродованным… и, откровенно говоря, я боялся, что именно это и было твоей целью. Но, уж прости, ты недостаточно хорошо владеешь мечом для такого мастерского удара. Арбалетом — да, но не мечом.
— В других обстоятельствах, я бы смертельно обиделся, — заметил Эд.
— Если, обидев тебя, я спасу твою башку, то лучше уж быть обиженным, верно?
— Верно, — согласился Эд.
И конунг снова зашёлся смехом — коротким, искренним и бесконечно презрительным.
— Вот в такие-то минуты я действительно верю, что ты безродный смерд, — беззлобно сказал он и небрежно махнул рукой, показывая, что аудиенция окончена.
Эд как раз докурил трубку. Поднявшись с кресла, он поклонился конунгу и направился к двери, ступая легко и пружинисто.
— Эдо, — позвал лорд Фосиган, и Эд обернулся.
Они смотрели друг на друга. Эд понимал, что надо уходить. Просто уйти сейчас — поклониться и уйти, и, да, это было бы дерзостью, но которой же по счёту из тех, которые он себе позволял за эти три года? Счёт шёл на тысячи — и конунгу это нравилось, поэтому надо было уходить, просто уходить, сейчас…
Но он не ушёл. И конунг сказал, глядя на него из глубины своего кресла:
— Я действительно люблю тебя, мальчик. Люблю, как родного сына. Но ты не моя семья. Помни об этом… прошу тебя.
Эд поклонился. Сделал положенные этикетом три шага назад, потом медленно повернулся и вышел из комнаты, пропахшей вишнёвым табаком и смертью, прошедшей так близко, что кончики её прохладных пальцев задели его лицо.
В коридоре было пусто. Эд остановился и тяжело привалился плечом к стене — его не держали ноги. Отсчитал двадцать ударов бешено колотящегося сердца, потом заставил себя выпрямиться и, подобрав с подставки у двери свой меч, двинулся дальше. Камердинер мог появиться в любую минуту.
И так было всегда. Уже три года из раза в раз он входил в эту комнату и не знал, куда отправится из неё. Он не однажды видел, как конунг, улыбаясь, собственной рукой отрубал головы неугодным, которые не позволяли себе и десятой части того, что Эд. И ещё он знал, что у него есть фора. Но не имел ни малейшего представления, где её предел, и близок ли он. Поэтому Эд не любил эту комнату — но ни в одном месте на земле не испытывал такого восторга, как здесь, в такие дни, как этот, когда он в очередной раз играл с огнём и снова выходил из него необожженным. Это было лучше, чем соитие, чем трубка после соития, лучше, чем Лизабет… лучше, чем разрубить самодовольное лицо Сальдо Бристансона.
«Всё-таки он не знал», — думал Эд, чувствуя головокружение от этой мысли. Получается, Магда действительно не доносит отцу о том, как проводит время её беспутный муж. Потому что, хотя Эд был осторожен и спускался в фехтовальный зал в основном ночами (кроме дня накануне дуэли — но это как раз было понятно и не могло вызвать подозрений), однажды она застала его за отработкой удара — невероятно сложного из-за ювелирной точности, которой требовал размах. Клинок должен войти под нижней челюстью, на глубине не более чем полдюйма, и выйти из правого виска, не задев ни мозга, ни черепной кости. Приём, совершенно бессмысленный в обычном бою — личное изобретение Эда, который действительно никогда не был виртуозным фехтовальщиком. Его только и хватило, что придумать удар, который можно использовать лишь один раз, пока он ещё может сойти за случайность.
Эд спустился на два этажа. Был поздний вечер, большинство дворян отдыхало в Нижнем городе, и никто не встретился Эду по дороге. У последнего лестничного пролёта он снова остановился и привалился к стене, прислонив пылающий висок к голому камню. И в этот миг на него навалился страх — весь страх, который он должен был испытывать в последние часы. У Эда Эфрина был договор со страхом: страх ждал, пока всё останется позади, и только тогда являлся, в единый миг изливая на него всю свою звериную мощь. Эду показалось, что его сейчас вырвет, он с силой зажал рот ладонью и стоял так с минуту, пока спазм не прошёл. Потом расправил плечи и с усилием поднял голову. Ничего. Так уже было. Так было три года назад, в тот день, когда он встретил конунга, и так было множество раз до того дня — гораздо чаще, чем могли бы вообразить те, кто его знал… Эд принял этот страх, пережил его и отбросил прочь — до следующего раза.
Потом он выпрямился, глубоко вздохнул и продолжил свой путь.
4
На третьей неделе летнего праздника Эоху Лизабет из клана Фосиган обвенчалась с Сальдо Бристансоном. Это знаменательное событие, объединившее два великих клана, отмечалось радостно и широко — бесчисленные септы Фосиганов и Бристансонов, а заодно торговцы, актёры и зеваки со всего Бертана съехались в Сотелсхейм, чтобы поприветствовать молодожёнов и выпить дармового эля. Людей было больше, чем мог вместить город, — тысячи, и всю неделю, пока шли празднования, все ворота оставались открыты день и ночь, и нескончаемый человеческий поток втекал и вытекал из него, бурля энергией и жизнью. Сотелсхейм пестрел жёлто-зелёным — ленты, стяги, зелёные побеги и жёлтые цветы украшали каждый дом, каждое копьё и каждую телегу, кони встряхивали гривами, увитыми жёлто-зелёными шнурами, и каждая горожанка, от зажиточной торговки до поденщицы, старалась щегольнуть жёлтым цветком в волосах или вышивкой на корсаже. В эти дни никому не возбранялось носить цвета Фосиганов — в эти дни Фосиганами были все. И осознание этого переполняло и душило счастьем каждого, кто никогда не был и не будет за стеной, отделявшей Верхний Сотелсхейм от Нижнего.
Как и все церемонии, в которых участвуют члены верховного клана, бракосочетание проводилось в главном святилище Гилас, что раскинулось ниже по склону с восточной стороны замка. К церемонии допускались лишь Фосиганы и Бристансоны со своими септами, но среди них было немало высокопоставленных бардов и сплетников, потому уже к закату дня песня о трогательном величии венчания облетела весь Сотелсхейм. Разумеется, придворные поэты Фосиганов были выше того, чтобы зарабатывать своими песнями выпивку в Нижнем городе, и картина передавалась из уст в уста с некоторыми искажениями, но суть была уловлена верно. Все знали, что невеста была прекрасна и загадочна в зелёном бархате, благо шифоновая вуаль деликатно скрывала её изрытое оспинами лицо и выражение на нём, когда к ней подвели её жениха. Идти сам он не мог — воспаление от раны, полученной в недавней дуэли, перекинулось на уцелевший глаз, и юный Бристансон почти ослеп, потому передвигаться мог только с посторонней помощью. Леди Лизабет, если верить придворным бардам, с бесконечной нежностью глядела на лицо своего жениха, до сих пор обвязанное бинтами так, что были видны только ноздри, заплывшая щёлка единственного глаза и разрубленные губы. И мелодичный голос её, говорили, даже не дрогнул, когда она клялась ему в вечной любви, послушании и верности, и рука её в шёлковой перчатке спокойно лежала в его руке, когда молодой и красивый Глен Иллентри произносил за жениха слова брачной клятвы. Тот не мог сделать этого, так как вместе с языком лишился и дара членораздельной речи, поэтому только кивал после каждой фразы Иллентри, подтверждая, что будет любить и беречь свою жену вечно и вечно заботиться о ней, хотя сейчас, глядя на него, трудно было понять, как этот калека способен позаботиться хоть о ком-то, включая самого себя.
Потом были пир и бал, на котором жених и невеста не танцевали, зато гости напивались, устраивали пьяные драки и шумно провозглашали здравицы молодым. Эд побыл немного в этом балагане для приличия, а потом удрал в Нижний город, оставив Магдалену представлять их семейство на торжестве. Он вышел из зала, не чувствуя ни смущения, ни стыда — только радость от свободы и предвкушение настоящего праздника. В Нижнем городе гуляли так, что отголоски музыки и криков долетали до замковой стены. Туда он и отправился ещё до того, как село солнце, но слухи и песни о свадьбе опередили его.
Эд поспешил, чтобы догнать их. В конце концов, он был первым среди тех, кто создал этот день.
Конунгова Площадь была до отказа забита людьми, но настоящее столпотворение собралось в её южном углу. Ближайшие проулки перегородили телегами, чтобы народ не слишком напирал, но люди всё равно лезли на головы друг другу, силясь разглядеть небольшой пятачок свободного пространства, занятый повозкой скоморохов и помостом, на котором стоял высоченный, как каланча, и огненно-рыжий чтец в клетчатом трико, громко и пафосно выкрикивавший текст. Само представление разворачивалось на площади перед помостом, в плотном кольце восторженно голосящих людей, и, судя по обилию зрителей, являло собой нечто выдающееся.
— Куда ж, говорит, ударить тебя мне гоже, не знаю и маюсь. По харе, по рылу, по роже? Выбор разнообразен!
Вовсю орудуя локтями, Эд кое-как пробрался в середину толпы. Со всех сторон торчали лохматые головы, остроконечные колпаки мужиков и квадратные шляпки женщин, и за всем этим пёстрым дурновкусием разглядеть что-либо было проблематично. Эд с силой опёрся руками на плечи двух стоящих перед ним мужчин и вытянулся, пытаясь заглянуть поверх чужих голов. И когда ему это наконец удалось, он замер, а потом расхохотался.
Перед помостом, резвые и прыткие, словно бойцовские петухи, скакали два карлика, рьяно изображая поединок. Один карлик был черноволос и одет в серое, другой — в слепяще-белом трико и с невероятного вида соломенным париком на голове. Жёлтые пряди торчали надо лбом во все стороны, а сзади были завязаны в лохматую косу. Уже за одно это комедианты могли оказаться в тюрьме — намёк на героя представления становился уж совсем прозрачным. Второй персонаж был не столь узнаваем, но, признав героя белого карлика, все сразу признали и героя чёрного. Уродцы воинственно наскакивали друг на друга, особенно старался чёрный; гулкий стук палок, изображавших мечи, будто отбивал такт дрянным стишкам чтеца.
— Лучше всего, конечно, по заду тебе наподдать, только ведь зад не для того потребен, а чтобы его е…ть! — рассудительно изрёк чтец, и толпа громыхнула хохотом. Смех Эда слился с ним.
Уличные комедианты разыгрывали его вчерашнюю дуэль с Сальдо Бристансоном. Причём довольно близко к тексту. Ох уж этот Рико Кирдвиг и его длинный язык…
Белый карлик подскочил на месте, крутанулся волчком — казалось, сейчас он не устоит на ногах и рухнет наземь. Оба карлика остановились, удивлённо глядя друг на друга. А потом белый перехватил палку обеими руками и со всей дури врезал чёрному по голове. Тот рухнул, точно подкошенный, и толпа взвыла от восторга, разразившись овациями. Могучий и по-прежнему исполненный торжественного трагизма голос чтеца перекрыл шум:
— Пал рыцарь несчастный, демоном белым жестоко повержен! О милая дама моя, невеста, раны мои обвяжи, где же ты, где же?
Из-за помоста выскочило третье действующее лицо фарса — рыжая карлица с громадной дубинкой в руках. Переваливаясь с боку на бок, как утка, и пронзительно вереща, она заковыляла к месту сражения под приветственные выкрики зрителей. Оказавшись рядом с белым карликом, карлица замахнулась и опустила дубинку ему поперёк спины. Толпа охнула, и стон белого карлика потонул в этом звуке. Покачнувшись, карлик низко склонил голову и шатко побежал за помост. Толпа провожала его улюлюканьем. Карлица бросила дубинку и, уперев руки в бока, остановилась над неподвижным телом чёрного карлика. Покачивая головой, посмотрела ему в лицо, потом воздела коротенькие ручки к небу.
— Демон бесстыжий, не устану тебя проклинать! — пискляво выкрикнул чтец. — Как мне теперь с раскрасавцем таким ложиться в кровать?
— А ты свечку-то погаси, и ничего, сойдёт! — выкрикнули из толпы, и народ захохотал снова. Горе Лизабет Фосиган явно не вызывало в людях особенного сочувствия.
Подняв чёрного карлика с земли пинками и невнятно причитая, карлица вместе со своим злосчастным «женихом» покинула сцену. Чтец между тем продолжал вещать:
— Дева, утешься: возмездие быстро грядёт! Гнев божий этой же ночью демону белому на голову падёт!
Под эти речи на сцену выбежали два дюжих мужика, несущих широкую, аляповато раскрашенную ширму, загородившую весь помост. За ширмой сразу раздались топот и возня. Чтец понизил голос и совсем другим тоном, глумливым и заговорщицким, в котором не осталось и следа прежнего пафоса, добавил:
— Ну, предположим, гнев этот будет не совсем божий. И не на голову падёт, а в другое место дорожку привычно найдёт…
Две половинки ширма резко разъехалась в разные стороны. За ней, согнувшись пополам, стоял белый карлик, изображавший Эда. Через мгновение показался чёрный карлик, только что игравший Бристансона, только на сей раз он нацепил фальшивую бороду из мочала, и на голове у него криво сидел медный обруч, в котором без труда узнавался конунгский венец. Под восторженные вопли толпы он подошёл к белому карлику сзади и, обхватив его за пояс, принялся совершать характерные телодвижения, и без всяких виршей понятные любому.
— Слава конунгу великому! Дирх ему силы дал, чтобы он белого демона ревностно покарал!
Трудно описать словами неистовство, в которое впала толпа при этом зрелище. Люди хохотали, хватаясь за бока, и Эдвард Фосиган смеялся вместе с ними, свободно и безудержно, так, как не смеялся уже давно. В этот миг он всем сердцем любил этих тупоголовых скотов — за то, что они не перешёптывались у него за спиной, не отводили взгляд, когда он на них смотрел, и не тыкали в него пальцами, когда думали, что он не видит. Они прямо и открыто смеялись над ним и над тем, что считали правдой. Они были честны, и с ними было так легко. «Любопытно, — подумал Эд, утирая выступившие от смеха слёзы, — где встретит завтрашний рассвет эта чудесная труппа, если карликам и чтецу суждено дожить до рассвета. Конечно, конунг справедлив и милосерден, к тому же ни на одном из участников фарса не было цветов Фосиганов или Бристансонов, но всему есть свой предел. Всему есть предел, — думал Эд и смеялся, пока артисты раскланивались, принимая шквал аплодисментов и восторженных криков. — Да, предел есть, они это знают, и я знаю, но они, как и я, никогда не согласятся отступить, подойдя к пределу вплотную. Они согласны узнать, где этот предел, лишь на собственной шкуре, которую с них сдерут заживо в подземельях Сотелсхейма, но пока они не достигли этого предела или он не настиг их, они не захотят и не смогут остановиться. Они как я. Они в точности, как я, и это здорово, это так здорово».
— Что ж, развесёлый люд Сотелсхейма, ты внимал моей глотке лужёной — будь же теперь щедр и милостив к нашим молодожёнам! — провозгласил чтец. Карлица, изображавшая Лизабет, ухватила за рукав карлика-«Сальдо» и потащила его за собой. Вдвоём они обежали толпу по кругу; карлик спотыкался и мычал, хватаясь обеими руками за плечо своей «невесты», а та фыркала на него и трясла широким бубном перед лицами людей, с довольным хохотом бросавших им медь и иногда даже серебро. Когда парочка поравнялась с Эдом, он положил на бубен золотой. Карлица взвизгнула от восторга и склонилась перед Эдом в шутовском реверансе, на удивление изящном. Когда она присела, её рукав выскользнул из руки карлика, тот взвыл, нелепо взмахнул руками и повалился носом в пыль. Толпа стонала от восторга. Эд улыбнулся и, отвернувшись, стал выбираться из толпы.
Это оказалось не так-то просто — толпа у балагана карликов переходила в толчею у помоста с акробатами, а та — в давку возле ринга кулачных бойцов, где разгорячённые ставками и запахом крови люди топтали ноги соседей особенно настойчиво, добывая местечко поудобней. Справа кто-то протяжно взвыл, слева образовалась потасовка. Спереди кричали: «Держи вора!» Сзади: «Так его, так, наседай!» И жёлто-зелёные знамёна Фосиганов победно реяли над радостно буйствующей толпой.
В конце концов Эд сдался и позволил людскому течению нести его куда придётся. В итоге его отбросило к самому краю площади, почти даже и не помяв. Ощутив внезапную свободу от переставших сминать его со всех сторон тел и получив прощальный тычок под ребро, Эд облегчённо вздохнул и сделал самостоятельный шаг по мостовой. Ощущение было восхитительным. Эд оглядел себя, одёрнул помятый плащ и обнаружил, что кошелёк с пояса пропал — только болтались обрезанные завязки. Что ж, можно сказать, легко отделался, хотя идея с уличным трактиром отпала. Это в квартале Тафи его знали и всегда были готовы обслужить в долг — а здесь, в стремительно пьянеющем и теряющем самоконтроль Нижнем городе на слово никто никому не поверит, и будет совершенно прав.
Эд огляделся, пытаясь понять, где очутился и как отсюда лучше пройти к храму Тафи. Он был на самом краю площади, возле дома с наглухо закрытыми дверьми, но настежь распахнутыми окнами во втором этаже; со ставни свисал плющ почти до самой земли, и из-за окна нёсся заливистый женский смех. Народу и палаток тут было совсем немного — только одинокий торговец сластями, уже сворачивавший свой лоток, и переносной навес, под которым на тюках вокруг маленькой жаровни сидели трое женщин. Тёмная кожа и иссиня-чёрные волосы выдавали в них бродяжек-роолло, бездомное племя, которое в обычные дни гнали от городов палками, но в праздники даже для них нашлось местечко на Конунговой площади.
Эд ещё раз окинул взглядом участок, на котором стоял. Ага, вон там виднеется северная башня, значит, этот проулок выведет к рыночной площади, а там…
Ты стал рабом своей мечты, святой поправ обет. И перед кланом должен ты теперь держать ответ.Эд обернулся.
Одна из женщин роолло пела. Она пела и в тот миг, когда он мельком посмотрел на них и тут же забыл; в руках у неё была лютня, и она играла, кажется, сама для себя и для двух женщин, которые сидели рядом с ней. Людей возле их палатки не было, разве что случайные зеваки проходили мимо, не останавливаясь возле бродяжек, которых продолжали чураться даже в те дни, когда сам бог солнца спускался к людям и пил и веселился со всеми и с каждым их них, как с равным. Но людям и без того сегодня хватало развлечений, а может, песни роолло им уже успели надоесть. И теперь она пела просто для себя.
Эд подошёл к навесу. Его тень упала на поющую женщину.
— Спой сначала, — сказал Эд.
Женщина смолкла и подняла голову. Две другие роолло тоже смотрели на Эда, но он не повернул к ним головы. Та, что пела, была моложе остальных, у неё были продолговатые глаза, приподнятые к вискам, странно большие на сухоньком треугольном личике с серовато-коричневой кожей. Туго заплетённые волосы блестели в закатных лучах, и блестели глаза, и губы блестели, и неожиданно тусклыми на их фоне казались медные браслеты на её узких кослявых запястьях.
— Сначала? — переспросила женщина; у неё был низкий бархатистый голос с едва заметным акцентом, куда менее сильным, чем у большинства людей её племени. — Эту песню?
— Да, эту.
— Хочешь услышать песню — плати, — сварливо сказала её товарка. Другая, помоложе, улыбалась Эду, искоса глядя на него из-под загнутых ресниц. Эд посмотрел на неё, и она призывно качнула полной грудью. Все эти женщины были бедно одеты, и от них несло застарелым потом.
Эд оторвал взгляд от глубокого круглого выреза в рубашке женщины и снова посмотрел на певицу.
— Мне нечем заплатить, — сказал он. — Только что в толпе срезали кошелёк. А иначе бы всё выгреб до последнего гроша, слово чести.
— Нечем платить — так поди прочь, — махнула на него пожилая роолло, явно недовольная взглядами, которыми он обменялся со второй женщиной.
— Нет, тётя Лоло, я ему спою, — отозвалась певица. И улыбнулась, без призыва, без гордыни, без вызова. Так, как будто они знали друг друга давно, и у них была общая тайна.
Эд сел на землю, прямо на мостовую. Женщина пробежала пальцами по струнам и запела снова, негромко, очень чисто и очень спокойно.
«Мой сын, из дальних сизых гор к тебе взывает мать. Мольбу, объятья и укор стремлюсь тебе послать. В родимом доме на холме ты не был много лет, И перед матерью своей тебе держать ответ». «В глухих горах мой старый дом, и ты уже стара. На что теперь твоё нытьё? Скорей бы померла!» «К тебе взываю я, мой сын, сквозь мглу прожитых лет. Молю: гордыню усмирив, послушай мой совет. В разврате, сын беспутный мой, великой славы нет. И перед любящей женой тебе держать ответ». «Что знаешь ты? В постелях дам, моя старуха-мать, Я славу, равную богам, могу себе снискать!» «Ты стал рабом своей мечты, святой поправ обет. И перед кланом должен ты теперь держать ответ». «Мой клан — собранье слабаков, где каждый трус и лжец. И мне отныне всё равно, что с ними быть, что без». «Твой друг, поверженный тобой, лежит в сухой траве. Перед богами, бедный мой, тебе держать ответ». «А что мне боги? За глаза накажут и простят. Не бойся, мать: мне Молог сам — и лучший друг, и брат». «Отвергнув бога и людей, презрев жену и мать, Перед самим собой тебе теперь ответ держать». И тут умолк беспутный сын, потупив дерзкий взор, И для ответа слов найти не может до сих пор.— Это не ваша песня, — сказал Эд, когда она смолкла.
— Не наша, — согласилась женщина. — Я услышала её далеко отсюда, в северных землях…
— Где именно?
— Не помню. Кажется, в Эвентри.
— Кто тебя ей научил?
Она негромко засмеялась.
— Ты совсем не знаешь нашего племени, сиятельный лорд. Никто не может научить роолло песне. Роолло слышит песню и забирает её себе. Мы всегда воруем то, что хотим получить, другого пути для нас нет. — Улыбка внезапно сошла с её лица. Она протянула руку и положила прохладную сухую ладонь Эду на запястье. — Но эту песню я не крала. Мне подарили её, и это не тот подарок, от которого можно отказаться.
— Оставь его, Сигита, — отчего-то заволновалась старшая женщина.
— Нет, тётя Лоло, не оставлю.
Эд посмотрел на неё с лёгкой улыбкой. Любопытно, который раз за день они разыгрывают этот спектакль? Тёмная рука Сигиты сжалась на его запястье.
— Идём со мной. Я должна тебе кое-что сказать, но не здесь.
— Я не верю в предсказания судьбы, — предупредил Эд. — И у меня правда нет денег.
Роолло встала, потянув его за собой. Под ворчанье старшей женщины и жаркий взгляд той, что помоложе, Эд поднялся и покорно последовал за Сигитой. Они обошли навес и остановились с обратной его стороны, оставаясь среди людской толпы, но скрытые от взгляда двух других женщин.
— Спроси, что хочешь спросить, — сказала Сигита.
— Ничего не хочу, — покачал головой Эд. — Просто я удивился, услышав эту песню… от тебя.
— Спроси, — настойчиво повторила она. Её взгляд был странно напряжённым, не таинственным и не масленым, она глядела не как воровка и не как соблазнительница, и Эд на мгновение утратил уверенность. Он неожиданно понял, что действительно хочет кое-что у неё спросить.
— Когда ты слышала эту песню, — помедлив, наконец сказал он, — кто её пел?
Роолло вздохнула, и прозвучало это так, будто вздох у неё вырвался против воли, но в нём явственно слышалось облегчение.
— Да. Именно так, — сказала она и, кивнув, добавила: — Женщина. Это была женщина. И волосы у неё были как день и ночь.
Она не могла не заметить потрясения, которое отразилось на его лице. И смотрела жадно, как будто для неё было жизненно важно понять, что он почувствовал, услышав ответ.
— Женщина? — переспросил Эд, будто не веря.
— Да. Она сказала, что ты удивишься. Ах, как хорошо, что ты наконец пришел. Теперь мы можем уезжать. Лионе и Лоло нравится этот город, а мне нет, я не могу здесь, мне душно, тут что-то… — она наконец отпустила запястье Эда и, подняв руку, слабо пошевелила пальцами в воздухе. — Что-то странное, тёмное, чувствуешь? Здесь зреет что-то, о чём мне не хочется даже знать.
— Погоди, — Эд схватил роолло за плечи, и её рука безвольно упала. — Что это была за женщина? Что она тебе сказала? Как… какая она?
Сигита слабо качнула головой, глядя на него с лёгкой виноватой улыбкой, будто заранее прося прощения за что-то, чего пока не успела сделать.
— Волосы как день и ночь — вот и всё, что я могу тебе сказать о ней. Она дала мне эту песню и сказала, что, когда я буду петь её в Сотелсхейме, ко мне подойдёт человек и попросит, чтобы я спела сначала. И что он спросит меня, кто научил меня этой песне, и что я должна ответить правду. За это она дала мне столько денег, что мы трое смогли доехать до Сотелсхейма и осталось ещё много больше.
— У неё были волосы двух цветов? Рыжие и чёрные? Да?
— Она велела мне передать тебе две вещи. Ты слушаешь меня?
— Да… да, — медленно выговорил Эд. Его руки судорожно стискивали плечи роолло, но ни он, ни она этого не замечали.
— Она сказала: то, что ты делаешь, делай быстрее, потому что снова родился Тот, Кто в Ответе за всё.
Эд отпустил её.
— Что?..
— Она велела напомнить: в каждое поколение. Они приходят в каждое поколение. Пришёл новый, это значит, что твоё время подходит к концу, — добавила роолло, и Эд кивнул, чувствуя, как её слова проникают в его мозг и кровь, как разъедают его, подобно медленному яду, — так, как разъедали всегда.
— А второе? — спросил он. — Ты сказала, есть ещё второе…
— Да. Ещё она велела сказать: теперь можно. И сделать вот это.
Она поднялась на цыпочки, и Эд только теперь заметил, насколько она ниже его — едва достаёт макушкой ему до плеча. И она так долго, так бесконечно долго тянулась к его губам, что он мог дюжину раз оттолкнуть её и дюжину раз схватить и прижать к себе, но он просто ждал, стоял неподвижно и ждал, что ему отдадут то, чего он когда-то так хотел.
«Теперь можно», — сказала Алекзайн голосом девушки-роолло и поцеловала его губами девушки-роолло, её полными тёмными губами, потрескавшимися от ветра и вечных дорог.
Эд не остался в городе на эту ночь. Он вышел из Сотелсхейма через западные ворота и пошёл вниз по холму, туда, где по всей долине среди полей раскинулись деревеньки и хутора, кормившие жителей города. Сейчас почти все крестьяне веселились в Сотелсхейме, и долина лежала под вечерним небом молчаливым тёмным полотном, изредка поблескивая огоньками пастушьих костров.
А город пылал. Солнце уже село, но Сотелсхейм сам стал на эту ночь солнцем, сияя тысячью разноцветных огней. Эд шёл по дороге вниз, не оборачиваясь, до тех пор, пока шум и пьяное веселье города не перестали гнаться за ним по пятам. Когда он достиг подножия холма, стало совсем тихо, только шуршала трава да скрипела где-то дворовая калитка на ветру. Немного в стороне от городской стены возвышался пригорок, отведённый под пастбище. Там сейчас было пусто; Эд взобрался туда, ступая по упругому ковру короткой травы, и только тогда посмотрел на город.
Очертания башен в фиолетовом небе — будто бесчисленные клыки древнего чудовища, в пасти которого нашли приют многие тысячи людей. Чудовище давно умерло или впало в вечный сон, и эти клыки не грозили тем, кто находился внутри, но служили грозным предупреждением каждому, кто решался помыслить о том, чтобы причинить им вред. Сотелсхейм, Город-На-Холме, называли также Градом Тысячи Башен, хотя на деле их было, конечно, гораздо меньше — порядка полусотни на внешней стене и вдвое меньше на внутренних. Но эти башни, длинные и острые, были неприступны — триста лет стояли они, и триста лет никто не мог взять их штурмом. Сотелсхейм был самым безопасным местом на земле. Сотелсхейм был вечен.
Эд нашёл взглядом шпили замка с тенями реющих знамён, различимых даже в сумерках. Замка, где сейчас веселится знать, громогласно смеётся конунг, скрипит зубами Лизабет Фосиган и сидит, еле сдерживая стоны, её новообретённый муж. Стена, за которую так трудно пробраться тому, кто не родился за ней, и из-за которой потом невозможно выбраться.
Эд сел на землю, ещё хранившую дневное тепло, и провёл ладонью по колючему травяному ковру.
«Эвентри. Она сказала — в Эвентри. Неужели снова…»
Пальцы медленно сжались, сгребая горсть сухой земли.
«Так вы всё-таки живи, моя леди. Живы до сих пор».
Эд Эфрин шумно и глубоко вздохнул. Откинул голову и, закрыв глаза, подставил лицо набиравшему силу вечернему ветру. Здесь, на свободе, ветер ощущался крепче, злее трепал волосы и не боялся обжечь лицо. Эд вспомнил обветренную кожу роолло и провёл языком по губам.
Делай быстрее, так она сказала. То, что делаешь, делай быстрее, Эд из города Эфрина. Но, проклятье, он не мог. Три года здесь и девять — в других местах, а он только начал. Он не мог торопиться, не мог быть ни настойчивым, ни безрассудным, не мог рисковать — тогда всё потеряло бы смысл.
— Ты же этого хотела от меня, — сказал Эд вслух. — Именно этого. Что ж теперь, смотри… как я это сделаю.
Он вскинул руку, швырнул зажатую в ней горсть земли, швырнул вперёд, и она с чуть слышным шорохом посыпалась вниз.
— Смотри и не мешай, — прошептал Эд и снова закрыл глаза.
Но он знал, что лжёт самому себе. Алекзайн не пыталась помешать ему. Она просто хотела его предупредить. Новый Тот, Кто Отвечает… в Эвентри. «Ты хочешь, чтобы я поехал туда и убил его, да, дорогая? Будь ты проклята… ты же знаешь, я не могу, не могу! У меня слишком многое не окончено здесь. Хотя и сделано тоже немало. То, венцом чего стал сегодняшний праздник, — это мой шедевр, Алекзайн, ты гордилась бы мной… Даже не убийством — одной лишь несмертельной раной вывести из игры целый клан. Лизабет Фосиган — послушная дочь, но она никогда не простит своему отцу этого брака, а Сальдо Бристансону — его уродства. Даже не убийством — одной лишь несмертельной раной я разом разорвал связь между конунгом и той, которая влияла на него больше всех, и пресёк обходную дорогу к конунговым милостям для десятков и сотен лизоблюдов. И первые среди них — Бристансоны, вырождающийся, но до сих пор опасный клан, единственной надеждой которого на будущее величие был этот брак. Теперь величие им не светит: бертанцы — гордый народ, и у них никогда не будет косого безъязыкого конунга со шрамом через всё лицо. Даже не убийством — одной лишь несмертельной раной я снял Бристансонов с доски, так же, как два года назад снял с доски Макатри, а потом Деббентри, а потом Лейков… Одного за другим, шаг за шагом — но мне нельзя торопиться, понимаешь, Алекзайн? Мне нельзя. И ты вообразить не можешь, как это трудно, ведь я и сам не знаю, сколько времени ещё у меня осталось… даже без этого твоего нового мальчика из Эвентри.
Мальчик из Эвентри?.. Почему я решил, что это мальчик?»
«Это всегда мальчики», — услышал он голос Алекзайн — бархатистый, насмешливый и бесконечно понимающий голос, такой, каким он был двенадцать лет назад.
Да, это всегда мальчики. И никогда — мужчины.
«Ты так давно меня не видела», — подумал Эд и открыл глаза.
Перед его взглядом не было Сотелсхейма — только тьма ночи, уползавшая в непроглядную даль. И эта тьма, вместе с этой далью, принадлежали ему, хотя ещё сами не знали об этом.
Часть 3 Дом над обрывом
1
Из его спальни было видно море. Оно разливалось немыслимой серо-стальной гладью где-то ужасно далеко — и в то же время прямо под ногами. Дом стоял на краю утёса, дугой нависавшего над Скортиарским заливом, и если высунуться в окно по пояс, то казалось, что он парит прямо над водой, покачиваясь на волнах. Но волны были очень далеко внизу, так далеко, что сюда, наверх, почти не доносилось их шума. Только если затаить дыхание и сидеть в полной тишине, можно было услышать их далёкий приглушённый рёв, будто с другой стороны света.
Адриан никогда прежде не видел моря. Откуда, если самым дальним его путешествием была семейная поездка в соседний фьев, в гости к клану Дерри, к которому по рождению принадлежала мать? Там всё было в точности таким же, как в Эвентри, только река была не так широка. По правде, Адриан никогда особо не задумывался о дальних краях и дивных местах, они не манили его так, как большинство мальчишек в его годы. Анастас иногда, взобравшись на вершину самого высокого в округе дуба, надолго оставался там и смотрел вдаль напряжённым, отстранённым взглядом, и Адриан не трогал его в такие минуты, инстинктивно понимая, что брат сейчас где-то далеко. Так далеко, как сам Анастас, видимо, никогда не окажется. Адриан был теперь там, куда тянуло Анастаса, вместо него.
Позади что-то тяжело грохнуло. Адриан подскочил и порывисто обернулся, едва не свалившись с подоконника. За последние месяцы он приучился чутко реагировать на любой подозрительный звук. Но это была всего лишь служанка, остановившаяся у самого порога с бадьёй воды. Она тащила бадью по лестнице и совсем немного не донесла — едва шагнув за порог, выпустила, расплескав по полу большую часть воды.
Адриан бросил прощальный взгляд на чарующий пейзаж за окном и неохотно повернулся к девушке. Та посмотрела на него с глухой злобой, и Адриан почувствовал себя более чем неуютно. На мгновение он заколебался и даже спустил одну ногу с подоконника, не зная, как поступить. Девушка выглядела его сверстницей, ей наверняка было нелегко таскать по дому тяжести. В замке Эвентри такую работу выполняли мужчины или самые большие и крепкие из батрачек, но… С другой стороны, она ведь только служанка.
— Тебе помочь?
Девчонка выпрямилась, быстрым движением смахнула со лба пот и упёрла руки в бока.
— Если собираешься, зачем спрашивать? — бросила она с вызовом, и Адриан почувствовал, что заливается краской.
— Если тебе нужна помощь, могла бы и попросить, — огрызнулся он, спуская на пол вторую ногу.
— Ты совсем дурак? Твои батрачки часто просили тебя помочь им по хозяйству?
— Ты не моя батрачка, — возразил Адриан, всё больше злясь и уже жалея, что вообще завёл с ней разговор.
— То-то и оно, — многозначительно заметила девчонка и сложила руки на груди, явно дожидаясь от него более активных действий. Подавив вздох, Адриан спрыгнул наконец с подоконника и подошёл к ней. Ещё месяц назад он, вероятно, не сделал бы ничего подобного и, ещё более вероятно, со стоном бы надорвался от такой тяжести. Но сейчас многое было не так, как месяц назад, и дни заточения в горах не прошли для Адриана даром. Подхватив бадью — она оказалась вовсе не так уж и тяжела, — Адриан оттащил её в дальний от окна угол, где находился водосток и стояла небольшая мраморная ванна. Дом был удобен и красив, но не очень-то велик, поэтому купальню и спальню приходилось совмещать. Впрочем, это были первые личные покои в жизни Адриана, и ему не приходилось жаловаться.
Опрокинув бадью над ванной, а затем с грохотом опустив её на пол, Адриан перевёл дух и обернулся к девушке, мимолётно удивившись, как это она, такая маленькая и хрупкая, волокла этакую тяжесть по лестнице вверх. Девчонка неверно истолковала его взгляд и задрала нос ещё выше. Она совсем не походила на прислугу из богатого дома.
— Ты половину разлила, — неприязненно сказал Адриан. — Принеси ещё.
Она фыркнула.
— Чего ты фыркаешь?
— А? — лениво отозвалась та, будто недослышав.
— Чего фыркаешь, спрашиваю? — непроизвольно сжав кулаки, повысил голос Адриан. Он не привык, чтобы слуги так себя вели, и запоздало понял, что изначально пресёк любой трепет и уважение, который могла питать эта смердка к его персоне. Что ж, его глупость, ему теперь и отвечать…
— Так, — невнятно отозвалась служанка и добавила: — Воды сейчас нет. Надо к ручью идти. А у меня на кухне дел полно.
Адриан перевёл дух. Нет, так дело не пойдёт. Он попытался вспомнить, как вёл разговоры со слугами его отец.
— Как тебя зовут?
Её взгляд стал настороженным. Руки соскользнули с боков и нырнули в складки юбки, будто она испугалась или прятала что-то.
— Вилма.
— Милорд, — жёстко добавил Адриан.
— Чего?..
— Вилма, милорд — так ты должна была ответить.
— Это ещё почему?
Адриан сглотнул. Девчонка смотрела на него хитро и подозрительно. Он внезапно понял, что так беспокоит его в её взгляде.
У этой девушки глаза были разного цвета — один карий, другой ярко-зелёный. Знак, по которому в народе безошибочно узнают людей, отмеченных Мологом.
Адриан с трудом удержал охранный жест. Вилма словно почувствовала это и скривилась.
— Ты кто такая вообще? — резко выпалил он. Служанка моргнула, кажется, слегка растерявшись. Адриан почувствовал мимолётное удовольствие от этой маленькой победы.
— Я?.. Вилма, я же сказала.
— Ты служанка в этом доме, так?
— Ну.
— Не «ну», а «да, милорд». Ты служанка в этом доме, а я гость, к тому же я дворянин, а ты…
— Тебе кто-нибудь говорил, до чего ты гадкий? — с отвращением бросила Вилма, и пока Адриан, раскрыв рот, хлопал глазами, не в силах поверить в такую дерзость, взмахнула мокрыми юбками и ушла, громко хлопнув дверью.
В замке Эвентри эта нахалка огребла бы десяток розог за такое поведение. Но Адриан сейчас был далеко от замка Эвентри. У него дух захватывало, когда он думал, как далеко.
И, кроме того, он действительно был в этом доме всего лишь гостем, а не хозяином.
Глупая перепалка с нерадивой служанкой до того расстроила его, что ему расхотелось любоваться видом из окна. Адриан попробовал воду — тёплая, хотя и маловато её. Он разделся и залез в ванну. Он мылся вчера перед сном, когда они только приехали в это место, но до сих пор не чувствовал себя чистым. Грязь и усталость последних недель въелись в него слишком сильно, чтобы от них можно было избавиться так легко.
Воды всё-таки было мало, она быстро остыла. Адриан замёрз и выбрался из ванны, клацая зубами, — и только тогда заметил, что чёртова девчонка не принесла ему полотенца. Чертыхнувшись, Адриан кое-как обтёрся простынёй (она была из чистого льна и чудесно пахла) и потянулся к брошенной на кровать одежде.
Дверь снова хлопнула, и Адриан застыл, медленно заливаясь пунцовой краской. Вилма стояла на пороге, прижимая к груди ворох полотенец. Её взгляд быстро и безошибочно нашёл место, которое Адриану меньше всего хотелось ей показывать.
Целую секунду он не мог пошевелиться, а потом поспешно схватил штаны и прикрылся ими.
— Стучать тебя не учили?! — рявкнул он, пытаясь скрыть за показной яростью жгучий стыд.
Вопреки его страхам и ожиданиям, Вилма не захихикала, как на её месте непременно поступила бы Бетани. Только отвела глаза и, шагнув в сторону, положила полотенца на кровать.
— Я тут вчера перетряхивала твоё тряпьё…
— Какое тряпьё?
— Рвань, в которой ты сюда приехал, — безжалостно пояснила она, и тогда Адриан наконец понял — или ему, по крайней мере, так показалось — причину её пренебрежения. Конечно… он явился вчера в одной карете с её хозяйкой, грязный и измученный, взлохмаченный, одетый чёрт знает как, а теперь заливает ей про своё благородное происхождение… Немудрено, что она ему попросту не поверила. Эта мысль его немного успокоила. Он выдавил виноватую улыбку.
— А, да, это…
— Миледи велела сжечь, — холодно продолжала Вилма. — Но я решила сперва перетряхнуть для верности. Вдруг там было что-то нужное. И вот, — она подала ему свиток, — нашла это.
Адриан машинально потянулся рукой — и только через миг сообразил, что именно в ней держал штаны. Взгляд Вилмы, к счастью, по-прежнему был направлен ему в лицо, и Адриан, поспешно перехватив штаны другой рукой, выхватил свиток из девичьей ладони.
Проклятье, как же он мог забыть?!
— Ты читала?
— Нет, конечно, я же не умею читать, — презрительно ответила Вилма. — Ты помылся? Бадью забирать?
— Потом! — огрызнулся Адриан. Она пожала плечами и ушла. Адриан бросил свиток на подоконник, поспешно натянул штаны и запер дверь. Надо было сразу это сделать…
Его взгляд упал на письмо, перевязанное лентой его родовых цветов. На постоялом дворе за много лиг отсюда он рисковал жизнью ради этого письма, а теперь так глупо о нём забыл. И гореть бы свитку в печи вместе со всяким хламом, если бы не предусмотрительность Вилмы. Надо было ей хоть монетку дать, что ли… хотя, впрочем, у Адриана всё равно не было ни гроша. Уж скорее это ему предстояло клянчить милостыню на паперти — в отличие от Вилмы, он ничем не зарабатывал себе на хлеб. Пока он здесь гость, а дальше что? Он постарался выкинуть эти мысли из головы.
Сейчас его должно было занимать письмо, написанное кем-то из уцелевших членов его семьи.
Адриан взял свиток с подоконника, сел на постель и сломал печать.
…
«Лорду Эдгару Ролентри, лично в руки.
Милостивый государь мой, лорд Эдгар, здравия вам на долгие годы и многие века процветания Вашему клану!
Обращаюсь к Вам я, лорд Анастас из клана Эвентри, в минуту горя и жестокой нужды, кои единые могли позволить мне нарушить ваш покой. Пишу к вам на правах главы клана Эвентри, ибо отец мой, лорд Ричард, и брат мой, Ричард-младший, его наследник и лэрд клана, подло убиты кланом Индабиран десять ночей назад. Моя мать, леди Мелинда, мои сёстры и младший из братьев предательски захвачены и силой удерживаются Индабиранами с целями, кои пока что мне неизвестны. Брат мой Адриан бесследно исчез, хотя я отказываюсь верить, что он также погиб. Сам я спасся благодаря случайности, которую проклинаю за то, что она не позволила мне разделить участь моей семьи, но и благословляю за то, что благодаря ей я сейчас могу обратиться к вашей помощи. Земли моего клана захвачены Индабираном, и вчера ночью сто воинов клана Вайленте перешли границу между Сафларе и Эвентри, чтобы присоединиться к их гарнизону; по некоторым сведениям, воины клана Тортозо также в пути. Я нахожусь в безопасном месте с несколькими десятками верных людей, и мне нужно по меньше мере три сотни воинов, чтобы изгнать захватчиков из своей земли. Север, юг и запад фьева Эвентри блокированы заставами, поэтому я надеюсь воспользоваться единственным доступным пока восточным направлением и послать к вам гонца. Вы нужны клану Эвентри, лорд Эдгар, и нужны сейчас. Зная о вашем нейтралитете в противостоянии Фосиганов и Одвеллов, тем не менее уповаю на вашу давнюю дружбу с моим почившим ныне в обители Гилас отцом и на добрую вашу волю, которая, я верю, не позволит вам остаться безучастным, наблюдая подобные бесчинства и разбой. Я буду просить также помощи конунга, но, боюсь, он не поспеет вовремя, а я не могу мешкать во имя своих родных. Что бы вы ни решили, передайте ответ через гонца, который прибудет к вам с этим письмом — ему можно доверять. Прошу вас не медлить с ответом ни часа, ибо я должен знать, уповать ли мне ещё на людскую помощь или довериться лишь богам и самому себе.
С почтением к вам и клану Ролентри, лорд Анастас Эвентри».
Адриан перечитал письмо дважды, потом медленно свернул свиток. Вспышка радости — так Анастас действительно жив, жив и на свободе! — мгновенно угасла. Мысли снова спутались. Адриан не всё понял (почему, например, была свободна восточная застава и почему Анастас прячется, не выступая против захватчиков открыто?), но очевидно было одно: Анастас нуждался в помощи, и судя по тону письма, в котором сквозь сдержанную гордость сквозило отчаяние, Ролентри были единственной его надеждой…
И если так, то надеждой тщетной. Потому что гонец не доставит это письмо, ни сейчас, ни через год. Из-за Адриана.
Всё из-за него.
Адриан обнаружил, что судорожно стискивает свиток в кулаке. С трудом разжал пальцы, расправил и снова стал перечитывать. Гонец, которому можно доверять… ха! Знал бы Анастас, что это за… что это… Адриан почувствовал дрожь в коленях от одного только воспоминания о руке, упёршейся в стену над его плечом, о масленом взгляде, поблескивавшем в полутьме, — и тут же отогнал это воспоминание.
Но что-то ещё тревожило его в этом письме. Что-то важное и очевидное, но почему-то ускользавшее. Лишь перечитывая письмо в четвёртый раз, Адриан наконец понял, что именно.
Это письмо было написано не рукой Анастаса.
Адриан его почерк хорошо знал. Писал Анастас скверно, еле справляясь с начертанием собственного родового имени. И ошибок в таком длинном послании понаделал бы уйму. Хотя слог был его, да, в этом письме действительно был характер Анастаса, сам Анастас…
Или кто-то, ловко подделывавшийся под Анастаса?
Адриан сглотнул. Он покрутил бумагу в руках, пытаясь обнаружить какие-нибудь следы подделки, но, что уж и говорить, сам он был немногим грамотнее своего старшего брата и ничего не смыслил как в эпистолярном жанре, так и в способах подделки посланий. Цвета верные… Это печать Эвентри, но печать можно украсть, а подделать цвета и того проще. А что, если это письмо — ловушка… для кого, для лорда Ролентри? Для Анастаса? Или — вдруг что-то кольнуло в груди — для Адриана?..
Гилас, если бы только знать! Если б знать, что он наделал, украв это письмо, — спас своего брата или окончательно погубил его…
Дверь дёрнулась, стукнув запертой щеколдой. Адриан обернулся.
— Адриан? Ты там?
Он подумал, что не называл Вилме своего имени. Хотя чего уж там — наверняка узнала от своей госпожи…
— Я же велел тебе стучать! — зло крикнул он. И тут же подумал: нет, не надо срывать на ней злость. Всё-таки она сберегла для меня это письмо… хотя лучше б уж не сберегла! Лучше было бы мне ничего не знать!
Он распахнул дверь, чувствуя, что вот-вот разразится бесполезным злобным криком, кляня себя за это и всё равно не в силах сдержаться. Вилма стояла на пороге, глядя на него снизу вверх. Он только теперь заметил, что она ниже его на две головы. И снова ощутил стыд.
— Чего тебе? — проворчал Адриан.
— Леди зовёт тебя. Если ты готов.
В её голосе прозвучал неприкрытый сарказм. Адриан буркнул что-то вроде благодарности и захлопнул дверь.
Его взгляд упал на свиток, сиротливо валявшийся на кровати. Помедлив, Адриан взял его и сунул за пазуху. Потом открыл дверь. Вилма всё ещё стояла на пороге.
Адриан медленно перевёл дыхание и сказал:
— Идём.
И она повела его к своей госпоже.
В доме над обрывом было всего два этажа, по три небольшие комнаты на каждом. Внизу располагалась ещё кухня и каморка для прислуги, а покои, служившие гостиным залом, оказались совсем невелики и непритязательны. Там было совсем мало мебели, далеко не самой лучшей работы, и выцветшие гобелены на стенах, и светильники на топлёном сале, чадящие в медных подсвечниках. Единственным ярким пятном в комнате выделялись цветы на столе — белые лилии в низкой вазе, с огромными тяжёлыми чашечками, свисавшими к самой столешнице. Их сильный, приторный запах заполнял всю комнату и смешивался со слабым солёным запахом моря, доносившимся сюда с берега.
Самое обычное, не очень-то привлекательное место, немногим лучше среднего постоялого двора. Но и лучшее место на земле.
Потому что именно здесь, именно в этом месте она сидела у окна, выходящего на долину, примостив локоть на подоконник рядом с раскрытой книгой, и лёгкий бриз, проникавший сквозь распахнутые ставни, шевелил волосы над её лбом, смешивая чёрные пряди с рыжими.
— Миледи… я… — начал Адриан и, поняв, что охрип, смолк.
Она слегка повернулась к нему, поглядела искоса, улыбнувшись. Он никак не мог понять, что видит в её улыбке — ласку или насмешку, одобрение или упрёк.
— Иди, Вилма, — негромко проговорила леди Алекзайн, и дверь за спиной Адриана коротко и сухо хлопнула, так, что он едва не вздрогнул. Нет, ну что всё-таки позволяет себе эта девчонка!..
Алекзайн, как обычно, с лёгкостью прочла мысли по выражению его лица и серебристо рассмеялась.
— Не сердись на неё. Я знаю, она не похожа на твоих слуг… и ты прав, считая её плохой служанкой.
— Почему вы тогда её не прогоните? — с трудом сдерживая возмущение, спросил Адриан. Он всё ещё стоял на пороге, а леди Алекзайн сидела у окна, положив руку на книгу и придерживая шевелимые ветерком страницы.
— А что, в твоём доме всегда прогоняли нерадивых слуг? — странно улыбнувшись, спросила она.
— Ну… — он растерялся, как это часто с ним в последнее время случалось. — Я не знаю толком… Матушка говорила, что нет большей беды, чем пьющий муж и ленивый лакей.
— Могу спорить, теперь твоя матушка считает иначе, — сказала леди Алекзайн всё тем же странным тоном, как будто про себя, и встала прежде, чем Адриан успел придумать ответ.
Он смог впервые рассмотреть её только утром, уже после того, как позорно разрыдался перед ней, а потом так же позорно уснул у неё на коленях и лишь при свете дня поднял опухшее помятое лицо и сонными ещё глазами взглянул на неё. И если б ему дали волю, он бы до сих пор продолжал на неё смотреть, каждую минуту, каждый миг. Он не знал, сколько ей лет, но думал, что она не старше Анастаса, и в то же время было во взгляде её необычайно тёмных фиолетовых глаз что-то, чего не было в глазах его старшего брата: мудрость, терпение, понимание, которые Анастас не всегда мог проявить, даже если и хотел. Она была не очень высокой, примерно одного роста с Адрианом, и необычайно хрупкой: казалось, её талию — и вчера, в дорожном платье, и теперь, в домашнем, выгодно подчёркнутую фасоном, — можно с лёгкостью обхватить, сведя пальцы рук. Но самым странным были её волосы — не очень длинные, то небрежно уложенные на затылке, то просто присобранные у висков и распущенные по плечам. Они были двухцветными — так же, как глаза Вилмы. Одна половина чёрная как смоль, другая кирпично-рыжая — ровно по пробору, будто так они и росли. Ресницы и брови при этом были совершенно чёрными, и от этого глаза казались ещё темнее и глубже. Мелкие черты лица — небольшой нос, маленький бескровный рот — почти терялись на их фоне. И ещё у неё были тёмные круги под нижними веками, будто она всё время недосыпала.
Эта женщина была самым странным и самым прекрасным существом из тех, кого когда-либо видел Адриан. И никому в своей жизни, даже Анастасу, он не доверялся так легко и охотно, как ей.
В конце концов, однажды она уже спасла ему жизнь.
Леди Алекзайн подошла к камину и села в небольшое кресло подле него. Стояло начало осени, непривычно сухое и тёплое в этом году, и камин пока не топили, поэтому казалось, что она скорее прячется от дневного солнца, чем ищет тепла. Кресло было маленьким, с короткой спинкой, едва доходившей сидящему до лопаток, но она смотрелась в нём величественно и грациозно, будто супруга конунга на троне в Сотелсхейме. Снова полуобернувшись через плечо — у неё была такая привычка, Адриан уже успел это заметить, — она лёгким жестом поманила его к себе. Второго кресла у камина не было, и Адриан, помедлив, просто встал с ней рядом. Поколебавшись ещё мгновение, опёрся плечом о каминную полку, но тут же почувствовал себя неуютно и выпрямился, не зная, куда девать руки. Солнце ушло за угол дома, и в этой части комнаты стоял мягкий полумрак, в котором глаза Алекзайн казались совершенно чёрными и нереально большими из-за тёмных кругов под ними. Но смотреть в них было не страшно — напротив, хотелось, чтобы ничего не осталось в мире, кроме этих глаз.
— Ты видел её глаза? — спросила леди Алекзайн, и Адриан сглотнул. Да неужто она и впрямь может…
Но тут он понял, что она говорит о Вилме, и немного успокоился. Его бил лёгкий озноб — это не было неприятно, и почти не тревожно, но только он чувствовал, что сейчас случится что-то важное, и всё равно старался не думать об этом — ему было довольно того, что он находился здесь, рядом с ней.
— Видел, — запоздало дал он ответ, которого она терпеливо ждала.
— И что ты думаешь?
Её как будто в самом деле это интересовало. Адриан задумался на миг, пытаясь угадать ответ, который ей понравится. В конце концов, если бы она сама признавала суеверия, то не стала бы держать девчонку у себя…
— Люди говорят, что это дурной знак, — осторожно сказал Адриан наконец.
— Я знаю, что говорят люди, Адриан. Я спросила, что думаешь ты сам.
Когда она назвала его имя, голова у него пошла кругом. Он вспомнил, как она звала его во тьме, когда он мчался, спотыкаясь и скользя в грязи, почти не надеясь спастись от погони, и услышал этот голос, и своё имя, потянувшееся к нему бледно сиявшей во мраке ладонью…
— Адриан?
Он тряхнул головой и виновато пробормотал:
— Ну, я не знаю, миледи… Я таких никогда не видел прежде. Это как-то… странно, что ли. Жутковато, кто ж спорит. Но я не думаю…
— Что она опасна? — закончила Алекзайн, и он с благодарностью кивнул, радуясь, что она ответила за него. — Нет, она не опасна. Это глупые выдумки глупых людей. Из-за этих выдумок Вилма с рождения была изгоем, и всегда им останется. Она из деревни в долине, помнишь, мы проезжали её вчера утром?
Адриан кивнул, хотя припоминал крайне смутно — окончательно он проснулся уже когда карета въехала во двор дома и хмурый кучер, исполнявший, как потом выяснилось, также обязанности конюха, повара и сторожа, угрюмо предложил господам выходить.
— В той деревне у неё никого нет, — продолжала Алекзайн. — Только дряхлая бабка, которая знать её желает лишь постольку, поскольку Вилма своим трудом кормит и её, и себя. До того, как я взяла её к себе, она была помощницей золотаря. Другой работы для девочки с разными глазами здесь не нашлось. Хотя и в любом другом месте её ждала бы та же участь… Что поделать, людям нравится видеть знаки там, где их нет. Ибо истинные знаки и их значения слишком страшны.
Адриан слушал её как заворожённый. Было что-то очень странное в том, как она говорила, ещё более странное, чем её волосы, глаза и имя. Она как будто читала по памяти книгу, которую когда-то сама же написала и выучила наизусть, и теперь лишь оттачивала интонации, доводя речь до абсолютного совершенства. Адриан с трудом понимал смысл её слов, знал только, что она права. Она говорила так, как будто верила, что права, — значит, так и есть.
Внезапно леди Алекзайн взяла его за руку. Кожа у неё была мягкая, как бархат, но прохладная, словно она только что вымыла руки в ледяной воде. Адриан неуклюже дёрнул пальцами, не понимая, что это — рукопожатие или что-то другое, и не зная, как себя вести. Она слабо потянула его к себе, и он шагнул ближе.
— Адриан, — сказал Алекзайн, пристально глядя ему в лицо, — ты знаешь, что ты особенный?
У него пересохло во рту. Перед глазами всплыло лицо Тома — бесстрастное, блестящее от пота, с ярко и болезненно сверкающими глазами. Он отогнал это воспоминание с таким же страхом, с каким отгонял воспоминания об Элжероне.
— Я… — Адриан сглотнул. Она ждала ответа. Он попытался ответить: — Он говорил мне что-то… о том, что я могу менять… что от меня зависит…
— Он? — переспросила Алекзайн. — Том?
— Вы его знаете?!
Она, кажется, хотела рассмеяться, но как будто в последний миг передумала.
— Конечно, знаю. Как бы иначе я тебя нашла?
— Нашли меня? — растерянно переспросил он.
В её лице мелькнула жалость, больно его ранившая. Он так не хотел выглядеть глупым и нелепым перед ней!
— Конечно, Адриан. Или ты подумал, я случайно ехала мимо того постоялого двора? Я искала тебя последние несколько недель. Вернее, искала Тома — я чувствую его, хотя и всё хуже со временем… и, к счастью, я знала, что ты с ним. Благодарение Гилас, что ты оставался с ним.
— С ним… постойте. Я ничего не понимаю, — почти жалобно сказал Адриан.
Алекзайн сжала его руку чуть крепче, потянула было, будто хотела привлечь к себе и обнять, но не стала этого делать, и он сам не знал, рад этому или нет.
— Конечно. Он ведь ничего не стал тебе объяснять, верно? Просто увёз из дому силой и сказал, что теперь ты будешь подчиняться ему и делать всё, как он велит. Так было?
— Так… почти, — пробормотал Адриан. — Он говорил, что хочет чему-то научить меня… ну, что мне делать… с собой.
— Как ты думаешь, имеет ли он на это право? — очень спокойно спросила она, и Адриан воззрился на неё с недоумением. Именно эти слова он выкрикнул Тому в лицо во время их последнего разговора, но сейчас, сказанные Алекзайн, они прозвучали совсем иначе.
— Вообще-то нет, — неуверенно проговорил Адриан, — но…
— Что ты знаешь о чёрной оспе?
Этот вопрос был, пожалуй, самым неожиданными из всех, которые он слышал сегодня.
— Она убивает, — только и смог сказать Адриан.
Алекзайн кивнула.
— Да. Именно так, она убивает. Тридцать лет назад она убила каждого четвёртого. И каждого третьего из уцелевших ещё через пятнадцать лет. В следующий раз она убьёт каждого второго… а потом, должно быть, всех.
— Но ведь те, кто уже болел ею, не заболевают снова, — припомнив занятия со жрецом Гвидре, блеснул знаниями Адриан.
— Да. Те, кто пережили первый мор, пережили второй, переживут они и третий. И мир тогда будет состоять лишь из рябых стариков, похоронивших своих детей и внуков, и править ими будут рябые старики.
И снова было в её словах и голосе что-то столь спокойное, уверенное и столь ужасное, что Адриан безоговорочно поверил ей. Он мало что знал про чёрную оспу — в основном из уроков всё с тем же жрецом. Ему было всего четыре года, когда эпидемия пронеслась над Бертаном во второй раз — старшая сестра Ариана, Мелисса, которую он совсем не помнил, и новонарожденный братишка умерли той весной. Никто из остальных даже не заболел, но зараза унесла многих слуг и почти половину отцовских воинов. Той весной умерли многие, воистину каждый третий, и это стало решающим фактором в войне, которую Фосиганы и Одвеллы всё ещё вели тогда за трон. До мора их силы были почти равны, но время и оспа сказали своё слово — в пользу Фосиганов, которые переболели заразой все, но ни один не умер. Народ счёл это добрым знаком — впервые в Бертане появился конунг, перед которым склоняла выю даже смерть.
Адриан подумал, не конунга ли с его кланом имела в виду Алекзайн, говоря о рябых стариках. Отчего-то он остерегся спросить, боясь, что этот вопрос покажется неучтивым или просто глупым. Алекзайн всё ещё держала его за руку, и так не хотелось, чтобы она её выпускала.
Потом он понял, что настораживало в её словах. Она говорила о будущей эпидемии так, будто это было решённым делом. А ведь никто — жрец Гвидре не раз повторял это Адриану — никто, кроме богов, не знает, когда и откуда приходит мор.
— Адриан, я должна задать тебе один вопрос. Скажу правду — я искала тебя и нашла только для того, чтобы его задать.
Он напряжённо молчал, внезапно испугавшись того, что она ещё не успела сказать. Перед мысленным взглядом снова мелькнуло лицо Тома, но теперь это воспоминание не вызвало страха, только…
Он не успел довести мысль до конца. Сжимая его руку в своей холодной ладони и пристально глядя ему в лицо громадными бездонными глазами, женщина по имени Алекзайн спросила:
— Если бы ты знал, что можешь остановить грядущую чёрную оспу, ты бы сделал это, не постояв за ценой?
Адриан моргнул. Потом облизнул губы. Потом сказал:
— Ну… да… конечно, только…
— О, Адриан! — вскрикнула Алекзайн и, вскочив, заключила его в объятия.
Адриан застыл, задыхаясь от запаха её волос — или от запаха лилий, внезапно сделавшегося почти непереносимым, — и молясь милостивому Гвидре, только бы тот дал ему силы удержаться на ногах. Она была здесь, её тело, такое маленькое, хрупкое и такое волнующее, прижималось к его телу, её ладонь лежала на его шее. Адриан почувствовал, как наливается кровью его естество — и смертельно испугался. От мысли, что она каким-то образом это заметит, его охватила паника. Но тут, к счастью, Алекзайн отстранилась и, схватив Адриана за плечи, пристально всмотрелась в его лицо, а потом поцеловала в лоб.
— Я знала, — прошептала она. — Знала, что ошиблась в тебе. Мне случалось ошибаться, но не на этот раз. Слава Матери-Гилас, что я нашла тебя, Адриан Эвентри. Теперь ты сделаешь это. Ты должен пообещать мне, что сделаешь.
— Да, но… как? — тупо спросил Адриан, всё ещё весьма смутно понимая, что происходит. Эта невообразимая женщина каким-то образом нашла его… почуяла его через Тома, подобрала на дороге, привезла в свой дом на краю света и теперь просит, чтобы он спас мир от чёрной оспы?
«А что в этом такого, — неожиданно сказал в нём какой-то незнакомый голос, спокойный, уверенный и, кажется, очень взрослый, — Адриан никогда прежде его не слышал и замер, прислушиваясь. Что такого, в самом деле? Ведь Том, судя по всему, не соврал. Он, Адриан, — тот, кто может изменить мир. И разве Том говорил, что есть какие-то пределы этому? Может, он сумеет исцелять людей одним своим прикосновением, нет, даже одной только мыслью — почему нет? Он ведь никогда не пробовал. Ему достаточно захотеть, и решить, и… что там Том ещё говорил?
— Как мне сделать это? — спросил Адриан, с непередаваемым удовольствием ощутив, что это говорит его новый, взрослый голос, звучащий вслух так же спокойно и уверенно, как и в мыслях.
Алекзайн тихонько вздохнула, и он услыхал в этом вздохе такую пропасть облегчения и радости, что ему захотелось немедленно броситься перед ней на колени, поцеловать подол её платья и поклясться вечно служить ей. И не имело никакого значения, что он понятия не имел, о чём же она его попросит…
— Так как? — настойчиво повторил он в третий раз, готовый ринуться в битву с чёрной оспой прямо сейчас.
Алекзайн села обратно в кресло. Даже в полутьме было видно, что она слегка разрумянилась, её бледные щёки лихорадочно вспыхивали. Она снова схватила руку Адриана и сжала её, теперь гораздо крепче.
— Послушай, — заговорила она. — Слушай внимательно. И в первый, и во второй раз оспу завезли андразийские варвары из-за Косматого моря. Они тогда совершали набеги на Сварливый остров, островные кланы противостояли им, но не слишком успешно. У нас тогда не было конунга, лорды Фосиган и Одвелл яростно сражались между собой, забыв о внешней угрозе. Варвары, может быть, даже захватили бы нас, если бы оспа не посекла их первыми. Но они успели сделать своё дело. Среди жителей Бертана нашлось место предателю… нет, просто слабому глупцу, который думал, что сможет использовать кару богов в интересах своего клана. Корабль андразийцев, команда которого была уже сплошь больна, причалил на севере, недалеко от мыса Уренштой. Они не хотели войны, только помощи — перед лицом смерти даже варвары забывают о наживе. Конечно, их вырезали подчистую, но там оказался тот человек… он дождался погребения и украл останки одного из моряков. А потом проник в лагерь Фосигана, стоявший сотней миль южнее, и подбросил эти останки в ручей…
— Чтоб его Молог сожрал! — негодующе вырвалось у Адриана.
Алекзайн грустно покачала головой.
— Не спеши судить его. Он был глуп и слаб… он отчаялся. У него были свои причины так поступить, что, впрочем, не извиняет его. Из того ручья пили не только Фосиганы, но и окрестные крестьяне, а через них зараза снова попадала в другие воды и так по реке дошла до самого Сотелсхейма… — она смолка, и, хотя это было невозможно, Адриану показалось, будто она видела всё это сама и теперь вспоминает, как бы тяжело это ей ни давалось. Потом она продолжила, медленно роняя слова из всё той же давно написанной и заученной книги: — Того безумца больше нет, но в мире много страшных людей. А ещё в мире есть оспа, которая снова идёт к нам с востока. А ещё, — она сжала его руку крепче, — в мире теперь есть ты. Останови их. Останови людей из-за восточных морей, прежде чем они принесут на нашу землю мор.
Этого Адриан не ожидал. От кружившей голову уверенности не осталось и следа. Он сперва даже не до конца понял, что она сказала.
— Остановить… их? — переспросил он.
— Да. Останови. Это единственный путь.
— Но… как? Как я их остановлю? Я же не полководец… Я даже не воин…
— Значит, придётся им стать, — жёстко сказал Алекзайн и отпустила его руку.
Адриан беспомощно смотрел, как она встаёт и идёт к окну. Ветер, трепавший страницы раскрытой книги на подоконнике, отбрасывал за спину её волосы.
— Ты должен будешь собрать войско, — сказала Алекзайн. — Большое войско, не меньше двух тысяч воинов. Построить корабли. Выйти на них в Косматое Море. Встретить там врага. Может быть, встретить смерть. Но не пустить её в Бертан. Довольно.
Она смотрела в сторону, говоря это, Адриан не мог видеть её глаз, но в голосе её ясно слышал глухую, жёсткую, непреклонную решимость. Адриан судорожно стиснул зубы. То, что она говорила, было немыслимо…
Но немыслимо ли для него?
Впрочем, в нынешнем своём положении он едва ли мог рассчитывать не то что на две тысячи — на два десятка воинов.
— Но мой клан… мой клан сейчас… — он никак не мог выговорить слово, жуткое слово, которое прежде опасался произносить даже в мыслях, и Алекзайн с неожиданной беспечной жестокостью сделала это за него:
— Уничтожен? Что ж, тогда забудь о своём клане. Придётся найти другой путь.
Она обернулась, и её лицо смягчилось, словно она только теперь осознала тяжесть груза, который взваливает на него.
— Разве я говорила, что это будет легко? — спросила она мягко, с таким сочувствием, с таким терпением, что Адриан не удержался и бросился-таки к её ногам. Он обхватил руками её колени, ткнулся в них лицом, чувствуя, что сердце вот-вот разорвёт горло и вырвется наружу… Но прохладные тонкие пальцы вплелись ему в волосы и заставили поднять голову.
— Ты сделаешь это для меня, — тихо сказала Алекзайн. — Сделаешь?
— Сделаю, — выдохнул он.
— Для меня, Адриан?
— Я сделаю это для тебя, — сказал он, и она улыбнулась, слабо и так спокойно, будто теперь ей не страшно было и умереть.
Потом, много времени спустя, Адриан встал и, пошатываясь, побрёл к выходу. Алекзайн не останавливала его, просто смотрела ему вслед взглядом, который с той минуты надолго поселился в её обведённых тёмными кругами глазах. Когда дверь за ним закрылась, улыбка не исчезла с её губ, но ноги ослабли, и она тяжело прислонилась к стене, глядя в окно и слушая шелест книжных страниц.
Я знала, что сделаю это, Том, сказала она, отдалённо ощущая его и втайне наслаждаясь его бессилием, его злостью, его отчаянием и больше всего — его невозможностью ни ответить, не перестать слышать её голос.
Не бойся, мой дорогой. Ты знал, что делаешь, но я знаю тоже. Всё будет хорошо. Теперь всё будет так, как должно быть, подумала Алекзайн и прижала пальцы к губам, то ли посылая ему поцелуй, то ли отказываясь говорить больше.
Адриан плохо помнил, как добрался до своей спальни. По дороге ему не встретилось ни души — в доме, кроме Алекзайн, жили лишь Вилма и угрюмый кучер Гильбер. Он брёл короткими и в то же время бесконечными коридорами, спотыкаясь и не помня ничего, кроме её обведённых тёмными кругами глаз, запаха лилий… и своего голоса, своего нового взрослого голоса, обещавшего сделать это для неё.
Сделать что угодно для неё.
В своей комнате он рухнул на кровать и какое-то время лежал, бессмысленно пялясь на балдахин. Потом лениво, не прибегая к помощи рук, стащил с себя ногами сапоги — новые сапоги, которые подарила ему его леди. Вся одежда, которая была на нём сейчас, была её подарком. Его жизнь была её подарком. Жизнь, и что-то большее, что-то, от чего захватывало дух, хоть он и не мог подыскать этому названия.
Его клонило в усталый сон, словно после долгой тяжёлой работы, и в то же время сердце стучало, не давая расслабиться. Адриан с тихим стоном перекатился на живот и уткнулся лицом в покрывало. Что-то царапнуло грудь, и, поёрзав, Адриан вспомнил, что сунул за пазуху письмо…
Письмо Анастаса.
Адриан сел и достал свиток. Подержал его в руках, медля, и уже хотел вновь развернуть, когда дверь распахнулась — и, как следовало ожидать, Вилма бесцеремонно вторглась в его покои.
Адриану это начинало уже надоедать.
— Чего тебе? — резко сев, грубо спросил он.
Она застыла на пороге. Адриан увидел в её руке подсвечник с толстой свечой, тускло отливавшей белизной в сумерках.
— Света тебе принесла, — ответила Вилма, и Адриану почудилась в её голосе сдерживаемая обида. Он не позволил себе раскаяться и, вскочив, почти вырвал подсвечник у девушки из рук.
— Ну, принесла? Благодарствую. Теперь пошла вон.
— А огня не надо? — язвительно поинтересовалась Вилма и, не дожидаясь ответа, бросила ему огниво. Адриан машинально поймал его, снова растерявшись, но теперь только на миг. Он теперь видел, какая она ещё маленькая и до чего ничтожная. Помощница золотаря… Гилас помилуй. Девочку стоило пожалеть. И уж совсем глупо обижаться и сердиться на неё. Тем более ему — человеку, способному одним своим поступком, одним словом изменить мир.
— Спасибо. Ты можешь идти, — почти ласково сказал Адриан и, отвернувшись от неё, зажёг свечу. Это не сразу ему удалось — огниво было плохое, а фитиль лохматый. Наконец над воском вспыхнул тонкий огонёк. Адриан удовлетворённо вздохнул — и тут обнаружил, что Вилма всё ещё стоит за его спиной, тихо, словно не дыша.
— Что тебе ещё? Я же сказал, ты можешь…
— Дурак. Глупый… гадкий, ещё и глупый! Поверил ей, да? Слушал её? А она ведьма! Богами проклятая ведьма! — закричала Вилма и, круто развернувшись, бросилась в темноту и пропала в ней. Только гулко хлопнула дверь, отдавшись кратким эхом под потолком.
Адриан стоял, приоткрыв рот, не замечая, что свеча быстро тает и воск уже течёт по подсвечнику, и смотрел Вилме вслед.
2
В последние недели он редко видел сны. Должно быть, слишком сильно уставал, и измученное за день сознание отказывалось от лишней работы, предпочитая благодатные часы небытия. Первая ночь, проведённая Адрианом в доме над утёсом, на краю Косматого моря, была первой ночью снов. Первой ночью кошмаров, и длилась она без конца.
Он не знал, что именно ему снится, даже в тот миг, когда видел сам сон. Там были краски, звуки, чьи-то золотистые волосы и шепот, переходящий в шипение, но и много чего ещё, и сон был совсем о другом. Адриан кричал, и в другое время непременно проснулся бы от собственного крика, но этот кошмар держал его слишком цепко. Потом в сон пришёл холод, чувство прикосновения — первое тактильное ощущение в этом кошмаре, кошмару не принадлежавшее, и именно поэтому оно смогло вернуть Адриана в явь.
Он сел в кровати, задыхаясь, моргая от заливавшего глаза пота и резкого света, бьющего в лицо. Был яркий, солнечный день, недавно взошедшее солнце висело в окне над морем. Леди Алекзайн сидела на краю постели и держала его руку в своих холодных ладонях.
— Всё хорошо, Адриан, — сказала она, вызвав у него мучительное воспоминание. — Теперь всё будет хорошо.
Она не сказала «это только сон», как сказал бы Анастас, как когда-то, очень давно, говорила матушка и как — что за странная мысль… — наверное, сказал бы Том. Но сделала нечто более важное — дала обещание. Адриан посмотрел на неё с невыразимой благодарностью, потом вздрогнул и отстранился, сообразив, как он выглядит после сна. Кровь прилила к его щекам.
— О, простите, миледи, — с искренним раскаянием пробормотал он. — Я вас потревожил…
Она засмеялась. Смех у неё был негромкий, как будто сдержанный — интересно, смеётся ли она когда-нибудь во весь голос, от души.
— Ты потревожил меня, родившись на свет, Адриан Эвентри. Поздно просить прощения.
Он не мог понять, шутит она или нет, поэтому промолчал. Он спал в штанах и сорочке, опасаясь очередных вторжений Вилмы, поэтому сейчас мог без особого стеснения выбраться из постели, даже не очень глупо себя при этом чувствуя.
«Странно, что она не спросила, что мне снилось», — отчего-то подумал он. Хотя ему нечего было бы на это ответить.
— Посмотри на меня.
Он послушно посмотрел. Алекзайн несколько мгновений рассматривала его, глядя снизу вверх, как изучают лицо больного, пытаясь решить, умирает он или идёт на поправку.
— Ты должен сходить вниз, — тоном лекаря, отдающего непререкаемое приказание непослушному пациенту, заявила она наконец.
— Вниз?
— В деревню. Это недалеко. Вилма проводит тебя.
— Но… — он снова ничего не понимал.
Алекзайн встала и взяла его за руку. Этот жест стал уже почти привычным, и что-то обрывалось в нём, когда она так делала, — это прикосновение стоило тысячи убедительных страстных слов.
— Ты не веришь, — сказала Алекзайн вполголоса; её лицо и глаза ярко сияли в солнечных лучах. — Ты до сих пор боишься, что всё это может не быть правдой. Но это правда, Адриан. Тебе пора свыкаться с этой мыслью. Иди вниз и сделай, что захочешь.
— Что захочу?
— Да. То, что тебе захочется сделать. Сделай. И смотри. — Она смолкла на миг, глядя на него с нежностью — так, как, он снова смутно припоминал, когда-то очень давно на него смотрела мать. — Запомни, Адриан: этот мир твой.
Он бесконечно долго стоял перед ней, босиком на каменном полу. Потом робко шагнул назад, и она без сопротивления выпустила его руку. О, милостивая Гилас, как прекрасна она была в солнечных лучах, отвести глаза от неё не было никакой возможности, но тут Адриан совсем некстати ощутил в желудке голодный спазм. Несколько ужасных мгновений ему казалось, что в животе у него сейчас громко забурчит, преступно разрушив чистоту и таинство момента. Но что поделать — он ничего не ел со вчерашнего утра, когда они прибыли сюда и угрюмый повар, он же кучер и сторож, принёс ему миску каши. Адриан проглотил её тогда, не чувствуя вкуса — он был слишком измотан и ошарашен, чтобы думать о еде. Но сейчас есть хотелось, а леди Алекзайн ни словом не обмолвилась о завтраке. Похоже, она считала, что спасители мира должны питаться солнечным светом и божественным вдохновением. Спросить об этом — значило бы опозориться, поэтому Адриан подавил вздох и, отвесив даме своего сердца как можно более куртуазный поклон, вышел из своей спальни с таким смущением, как будто спальня эта принадлежала ей. Алекзайн осталась стоять на месте, не шевелясь, пока дверь за ним не закрылась.
Адриан наконец позволил себе вздохнуть, и желудок немедленно откликнулся радостным урчанием. «Может, внизу найдётся что-нибудь», — подумал Адриан без особого энтузиазма и, пройдя коротким коридором, стал спускаться по лестнице.
Вилма как раз поднималась по ней, и они едва не столкнулись в полумраке неосвещённой площадки.
— Я за тобой, — выпалила она прежде, чем Адриан успел раскрыть рот, в очередной раз нарушив все писаные и неписаные правила поведения для прислуги.
— Я знаю, — холодно сказал Адриан. — Проведи меня в деревню, — и немедленно пожалел, что поспешил отдать приказ, потому что теперь о кухне приходилось забыть.
— Как прикажете, милорд, — пожав плечами, бросила Вилма и сбежала по лестнице вниз. Адриан медленно спустился за ней, кляня себя и недоумевая, за каким бесом ему вообще сдалась эта девчонка. Дорога-то до деревни прямая, он добежал бы и сам, если…
Если только маленькая разноглазая мерзавка не приставлена к нему в качестве сторожа.
Эта неприятная мысль до того поразила его, что Адриан на миг застыл, занеся ногу над последней ступенькой.
— Ну, что ты там застрял? — нетерпеливо донёсся голос Вилмы от дверей.
Он заставил себя идти дальше.
Ему очень сильно этого не хотелось.
Дорога с утёса шла круто вниз, петляя меж валунов и теряясь вдали, в пёстрых пятнышках домов. Растительности здесь было мало, лишь куцая редкая трава да кусты, притулившиеся к крупным камням. Чем ближе к низине, тем зеленее становились краски, но и запах моря там ощущался заметно слабее.
— А здесь можно спуститься к воде? — спросил Адриан, когда они прошли пятьдесят шагов.
— Здесь нельзя, — ответила Вилма, не оборачиваясь. — Утёс тянется на лигу к северу и почти на столько же к югу. Там идёт на убыль, но толку мало — всё равно берег скалистый, там повсюду рифы торчат. Когда волна идёт, расшибёшься на раз, косточек не соберут.
— Рифы?
— Ну, скалы. Подводные, — пояснила она и бросила на него презрительный взгляд. Она шагала быстро и твёрдо. Подол её платья волочился по пыльной дороге. Адриан закусил губу.
— Каково это?
— Что?
— Жить с такими глазами.
Она резко остановилась. Адриан тоже остановился, и какое-то время они не сводили друг с друга тяжёлых взглядов. Даром что у девчонки был глаз Молога, глядел он совершенно так же, как и другой, вполне человеческий. Или это человеческий глаз перенял бесовщинку от другого — шут разберёт. Как бы там ни было, в обоих этих глазах сейчас отражались самые недобрые чувства.
— А тебе каково жить таким идиотом? — наконец бросила Вилма с небрежностью, слишком наигранной после затянувшейся паузы, и быстро пошла дальше. Адриан сперва ошалело смотрел ей вслед, потом понял, что надо было изобразить снисходительность, но выглядело бы это теперь так же фальшиво, как и её беспечность. Она что, обиделась? Он же ничего такого не сказал. Будто она сама не знает, что у неё разные глаза!
Когда Адриан нагнал её, они проделали уже почти половину пути в долину. Какая-то белая птица со странным гортанным криком пронеслась над ними, и Адриан задрал голову — он никогда не видел таких.
— Это чайка, — всё тем же тоном непререкаемого превосходства пояснила Вилма. — Не глазей, а то сядет на башку да как клюнет в темечко.
— Слушай, чего ты так на меня злишься? — не выдержал он. — Я тебе ничего плохого не сделал.
— А то, — съязвила девчонка. — В деревню я, стало быть, ради собственной придури тащусь.
— Ты не хочешь в деревню? — эта мысль его не на шутку удивила — ему почему-то казалось, то Вилма сама вызвалась его провожать. Потом он сообразил, что у него нет никаких оснований так думать — она просто выполняла приказ своей хозяйки. — Но это ведь твоя деревня? Ты там родилась?
— Я там родилась. Но это не моя деревня.
Они замолчали после этих слов и молчали долго. Дорога стала шире и ровнее, а пятнышки домиков внизу превратились в чёткие силуэты. Деревня имела форму вытянутого к востоку треугольника, самые крайние, ближние к утёсу дома были маленькими и неказистыми, а хутора на противоположной оконечности селения казались вдесятеро больше каждого из этих домиков. Всего, как успел прикинуть Адриан, деревня вмещала полторы дюжины дворов — немало, особенно для поселения, удалённого от господского замка.
— А замок Скортиар отсюда далеко? — радуясь возможности сменить тему, спросил Адриан. Вилма что-то неразборчиво буркнула.
— А?
— Не знаю, говорю! Откуда мне знать-то? Я дальше долины никогда не бывала. Вроде далеко.
— Да уж, для тебя всё, что за сараем, — далеко, — съязвил Адриан, задетый её грубостью в ответ на совсем уж невинный вопрос.
К его удивлению, на сей раз она не стала огрызаться. Дома виднелись уже совсем близко. Воздух здесь был совсем другой — Адриан обернулся и поразился тому, как далеко и высоко остался утёс. Дом леди Алекзайн теперь выделялся на нём крохотным ярким камушком, будто ласточкино гнездо. Скалы совсем закрывали море, и, кажется, его запах тоже не мог пробиться сквозь них. Адриану показалось, что море ужасно далеко. И те, кто придут из-за него — люди с востока, о которых говорила Алекзайн, несущие смерть, — они тоже бесконечно далеко, и им никогда не преодолеть этих скал и этого утёса.
— Дальше я не пойду, — сказала Вилма.
Он удивлённо обернулся на неё. Они остановились в полусотне шагов от ближайшей хатки, корявой и кособокой, с глинобитными стенами и погнившей от сырости соломой на крыше. Окна хатки были наглухо заперты, забора не было, и вообще жилище казалось заброшенным. Дом с привидениями, что ли? Иначе чего Вилма так перепугалась?
Адриана взяла злость. В конце концов, ему вовсе не хотелось сюда идти. На подоконнике в своей комнате ему нравилось гораздо больше, да и край утёса, даром что уходивший в обрыв, представлял куда больший исследовательский интерес, чем это селение с дурацкими халупами. Но нет, его отправили сюда, непонятно зачем, ещё и приставили эту маленькую мерзавку, чтобы она за ним проследила, — так пусть не жалуется теперь.
Адриан решительно шагнул к Вилме и сжал её руку — так, как сжимал руку Бетани, когда она становилась особенно упрямой.
— Нет, — мстительно сказал он. — Ты пойдёшь дальше. И покажешь мне тут всё. Ты ведь это место знаешь как свои пять пальцев, верно?
Изумление в её глазах было непривычным само по себе, но ещё более странным оно казалось во взгляде, принадлежащем Мологу. «Молог смотрит на меня с изумлением, — удовлетворённо подумал Адриан. — Так ему. А ведь я ещё даже не разогрелся».
Он пошёл вперёд, увлекая Вилму за собой. Она слабо попыталась было освободиться из хватки, но тут же сдалась и уныло поплелась следом.
— Мологово отродье!
Адриан подскочил на месте, то ли от страха, то ли от неожиданности, и круто развернулся к убогой хатке на краю, которую разглядывал минуту назад. Перед дверью теперь стояла старуха самого мерзопакостного вида, какой Адриан мог представить. Нос крючком, глазки навыкате, беззубая пасть с отвисшей губой, три волосинки на голове и красная бородавка во лбу — всё при ней. Ну ровно ведьма из народной сказки — Бертран до сих пор вопил и забирался под стол, когда нянька рассказывала истории про таких старух. А тут она стояла перед Адрианом живая, и, будь неподалёку стол, Адриан испытал бы нестерпимое желание под него забраться.
— У-у, мологово отродье! — прошамкала старуха и погрозила Адриану клюкой, зажатой в костлявом кулаке.
Вернее, не Адриану. Вовсе не Адриану — а Вилме.
Он понял, что всё ещё крепко держит девчонку за руку, и инстинктивно разжал её — лишь через мгновение поняв, что не мог выбрать для этого менее удачного момента.
— Что вылупилась, мерзавка? Глазищи б твои поганые повыдирать в колыбели! Так я мамашке твоей, шалаве, завсегда сказывала! У-у, не видала б я тебя, не слыхивала б вовек! Чего пришла?
— Идём, — тихо сказал Вилма и пошла вперёд, мимо продолжавшей сыпать проклятиями ведьмы. Её голова была низко опущена, пальцы крепко сжимали складки юбки.
— А? Бежишь? Глазищи свои проклятущие прячешь, не смеешь в глаза глядеть честным людям? Гадина подколодная! Прочь пошла!
Они едва миновали двор сумасшедшей старухи, когда Вилма приостановилась и сказала всё так же тихо, не поднимая головы:
— Она не всегда так. Сейчас просто увидела, что я с пустыми руками пришла, вот и… я поэтому идти не хотела. Она всегда меня выглядывает, наверняка издалека увидела. А я с пустыми руками…
— Погоди, ты о чём? — прервал эту сбивчивую речь Адриан. — Ты ей что-то приносишь? Зачем?!
— Она моя бабка. Ты не слушай, что она… ну… — Вилма запнулась и умолкла, а Адриан только удивлённо таращился на неё, пытаясь уразуметь, как можно кричать такие ужасные вещи своей родной внучке, пусть бы внучка и разноглазая.
— Ох, ну вот… я говорила, — тихонько сказала Вилма, и Адриан, подняв голову, заметил ещё нескольких людей, которые вышли из соседних домов или оторвались от своих занятий и с любопытством смотрели на них. Здороваться никто не собирался, хотя в этой глуши, где все друг друга знали, появление нового человека, выглядевшего и державшегося как благородный, не могло остаться незамеченным. Проходя мимо них, Адриан мучительно раздумывал, что ему делать. Поздороваться первым со смердами он не мог — это уронило бы его в их глазах. Но и терпеть их молчаливое, однако всё равно оскорбительное любопытство он тоже не мог. Теперь он понял, почему Вилма не хотела сюда идти — и почему инстинктивно не хотел того же он сам. Но ведь леди Алекзайн, должно быть, знала, что делает…
— Вилмочка! Кого вижу, с чем пожаловала? — окликнул их весёлый голос, и Адриан радостно обернулся на него. Вилма обернулась тоже, с гораздо меньшей охотой. Они уже прошли с полдюжины дворов, и дома тут были намного опрятнее, чем на окраине деревни. Дородный мужчина средних лет стоял в воротах одного из домов, уперев руки в бока, и с прищуром разглядывал Адриана.
— Вот… хозяйкиного гостя… привела, — ответила Вилма так тихо, что сам Адриан её едва расслышал. Здоровяк радостно закивал.
— Хозяйкиного гостя, вижу! Ну, хозяйкины гости — наши гости! Заходите, попотчуем чем сможем, коли не побрезгуете!
— Спасибо, дядя Урмас, некогда нам, потом как-нибудь, — протараторила Вилма прежде, чем Адриан успел раскрыть рот, и, вцепившись ему в руку, с неожиданной силой потащила за собой.
— А, ну хорошо, хорошо, — ничуть не обидевшись, крикнул здоровяк им вслед. — Ну ты, как минутка выдастся, и сама ко мне забегай, Вилмочка, милая, не забудь старика!
— Чего ты? — удивился Адриан, когда они миновали гостеприимный двор. — Он же вроде хорошо к тебе…
Она зыркнула на него так, что он едва не прикусил язык.
— Пройдём до конца деревни, — после тяжёлой тишины проговорила она. — И сразу обратно. В обход. Миледи велела тебе деревню показать, я покажу. А ты гляди и помалкивай.
Как и в большинстве подобных селений, в этой деревне была только одна улица, так что прогулка не грозила затянуться надолго. На середине её располагался деревенский трактир, в это время суток тихий и умиротворённый. Большинство сельчан были в поле, немногие ремесленники занимались своими делами, отрываясь лишь затем, чтобы бросить вслед Адриану и Вилме тяжёлый взгляд. Но что-то было не так. Адриан понял, что именно, лишь когда они прошли половину деревни и поравнялись с трактиром.
На улицах не было детей.
— Вилма! Не ждал тебя сегодня. За каким товаром? — спросил, выходя из здания, кряжистый человек, державшийся как хозяин этого заведения, а то и всей деревни. Руки у него были по локоть в лоснящемся на солнце жире, и он неторопливо отирал их краем передника.
— Да я так, — ответила Вилма, несколько уверенней, чем прежде, — похоже, от этого человека подвоха она не ждала. — Вот, лордёныш к миледи приехал, велела выгулять.
Адриан потрясённо уставился на неё, отказываясь верить, что она вправду сказала такое. И прежде чем успел понять, что делает, отвесил девчонке крепкий подзатыльник.
— За языком следи, — яростно выпалил он, пылая от злости и стыда, а потом как сквозь дымку услышал негромкий смешок трактирщика и, к своему ужасу, ещё нескольких голосов. С полдюжины крестьян собрались на улочке, наблюдая за картиной.
— И впрямь лордёныш, — беззлобно сказал трактирщик и отвесил не слишком глубокий, но вроде бы не насмешливый поклон. — Счастлив услужить вашей милости. Извольте угоститься чем богаты.
Адриан надменно кивнул и твёрдым шагом проследовал в трактир. Последует ли за ним Вилма, его интересовало мало, так же как и её реакция на затрещину. Какого беса, девчонка совсем потеряла стыд! Поразительно, как это терпит леди Алекзайн.
В маленьком трактирном зале были два общих стола и небольшой угловой столик для особо важных гостей. Там сейчас сидел какой-то господин, с виду тоже нездешний. Это отчасти объясняло не слишком большой интерес селян к Адриану — у них тут уже был свой собственный пришлый, остановившийся в трактире. Адриан посмотрел на него с интересом, но человек сидел в тени, и толком ничего нельзя было разглядеть. Занятый этим делом, Адриан даже пропустил момент, когда его усадили за общий стол, и очнулся, когда возмущаться было уже поздно.
— Чего ваша милость изволит? Вина, эля, местной самогоночки?
— На ваш выбор, если вам будет угодно, — рассеянно отозвался Адриан и снова спохватился, что говорить так пристало в гостях у равного себе по происхождению, а не в захудалой сельской забегаловке. Трактирщик, однако, довольно ухмыльнулся и с поклоном отошёл. Адриан вспомнил, что у него нет денег. Потом вспомнил о Вилме и обернулся. Она мялась возле порога. Просто поразительно, как сочетались с ней эта пугливая робость с бездумной наглостью…
Адриана осенило, что, возможно, она свои слова и поступки дерзкими вовсе не считает. Она всю жизнь тут прожила и, судя по всему, никогда не служила господам, кроме леди Алекзайн… а Адриан ничего, совсем ничего не знал о леди Алекзайн.
— Иди сюда. Сядь, — позвал он. Она смутилась, бросила настороженный взгляд на человека в углу зала, но подошла и села.
— Эль у вас хороший? — неловко спросил Адриан. — А вино? Что вообще брать?
Она пожала плечами, не слишком расположенная к болтовне. Адриан ясно видел, как ей хочется отсюда поскорее уйти. И это тоже было странно — трактирщик вёл себя с ней вполне любезно, да и тот здоровяк тоже, и вообще, не считая косых взглядов да безумных бабкиных воплей, Вилме не на что было пожаловаться…
«Только она вообще не из тех, кто жалуется», — почему-то подумал Адриан. Смотрел на неё и думал об этом.
— Не пейте здешнего эля, юноша, — раздался голос из угла комнаты, заставив Адриана подскочить на месте. — И вина тоже не пейте. Вообще ничего не пейте, если вам дорога ваша печень.
— Я… — Адриан сглотнул. Речь незнакомца сильно отличалась от выговора крестьян и вообще от любого выговора, который слышал Адриан прежде. — Я умею пить.
— Не сомневаюсь. Все умеют пить. Все от этого умирают. Просто одни раньше, другие позже. От здешнего пойла вы умрёте очень скоро, я заявляю вам это со всей ответственностью.
Он говорил насмешливо, чуть растягивая слова, как будто с ленцой. Адриану ужасно хотелось попросить его выйти на свет, но он не знал, как сделать это учтиво, а выглядеть грубияном перед этим человеком не хотелось.
— Я… — он раскрыл было рот, собираясь представиться, и тут же застыл, сообразив, что не может этого сделать. Его клан сейчас — предмет раздора между сильными мира сего, и он уже без того наделал достаточно глупостей, чтобы сейчас так неосмотрительно выдать себя. Поэтому Адриан перевёл дух и закончил со всей возможной любезностью: — Я благодарю вас за ценный совет.
— Не только ценный, юноша, не только. Он ещё и в высшей степени компетентный. Хотя, впрочем, ваша гостеприимная хозяйка едва ли с вами согласится.
— Вы знакомы с леди Алекзайн? — оживился Адриан. Человек в углу зала сделал неопределённый жест, всё так же оставаясь в глубокой тени.
— Некоторым образом.
— Тогда почему вы не… — начал Адриан, но закончить ему не дали сразу два события.
Первое за событие, впрочем, сойти могло едва ли — объявился трактирщик, неся нечто, что загадочный человек в углу зала так настойчиво отсоветовал пить. Со вторым было хуже. Второе было тем, за чем Алекзайн послала Адриана в деревню. Хотя вряд ли она знала, что посылает именно за этим.
— Мологово отродье!
Крик был бабкин, и злобное отвращение было бабкино — только кричала бабка низким и сиплым мужским голосом. Вилма испуганно вскочила, Адриан обернулся. Оба они увидели тощего, как швабра, щуплого мужика с копной волос, похожих на разорённое птичье гнездо. Разило от мужика за пять шагов, однако, несмотря на нелепый вид, рожа у него была самая свирепая. И — Адриан увидел это ясно и не на шутку удивился — Вилма его испугалась. Кажется, сильнее даже, чем того добродушного здоровяка, что звал их угоститься.
— Грязная сучка! Ты как посмела сюда зая… я-за… виться! Ты, Курт, охренел вконец, этакую шваль на порог пускать!
Адриан с надеждой посмотрел на трактирщика. Наверняка он сейчас объяснит, что всякую шваль на порог пускать и впрямь не намерен, и выставит пьяницу вон… Но хозяин лишь равнодушно пожал плечами.
— Ничего поделать не могу, Родж. Она, вишь, с лордёнышем явилась. Лордёныш к леди приехал.
— Мологово отродье! — снова взревел Родж, потрясая хилыми и длинными, как ветки, руками и выглядя при том необычайно глупо. — А ну прочь пошла! Хоть с лордёнышем, хоть без! Глянь, на общей скамье расселась, сука!
Адриан завертел головой, не понимая, что происходит. Человек в углу зала безмолвствовал, равнодушный к этой сцене. Трактирщик стоял, скрестив руки на груди и насмешливо глядя на Адриана — урезонивать пьянчужку он явно не собирался. Адриан глянул в дверной проём. Там виднелись несколько переговаривающихся и посмеивающихся мужчин — только мужчины, ни женщин, ни детей.
Женщины и дети попрятались по домам, пока мужики травят мологово отродье.
Адриан наконец понял, почему Вилма так не хотела сюда идти.
Он поднялся, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Вилма уже юркнула за скамью. Она наверняка сбежала бы, если бы пошатывающийся Родж не стоял посреди прохода, раскинув ветвистые лапищи, будто силок. Он был неимоверно жалок, но маленькой девочке, которую все ненавидели за то, что она родилась с глазами разного цвета, он должен был казаться воплощением зла и несправедливости. Они терпят её, потому что она служанка леди — и потому что пришла с гостем леди, — но что взять с пьянчуги, которому здравый смысл не указ? Поколотит девку всем на радость, с него же потом и спрос. А остальные что — ну, не спохватились вовремя, чья ж тут вина — это же не бычара какой, всего лишь разиня Родж, вечно пьяный, вечно без царя в голове. Не углядели, простите, госпожа…
— Хозяин, — сказал Адриан, и наконец Родж прекратил голосить, будто впервые заметив его. — Вы не собираетесь урезонить этого… человека?
Трактирщик сверкнул глазами, но ничего не ответил. Адриан бросил последний отчаянный взгляд в сторону незнакомца с правильной речью, но тому было вполне уютно и удобно в своём углу и своей тени. Адриан почувствовал отвращение к нему — и к ним всем: к трактирщику, к идиоту Роджу, воплощавшему волю деревни, к Вилме, которая терпела всё это… а что ещё она могла?
Адриан сжал кулак. Но прежде чем нанести удар, колебался мгновение — шутка ли, сын лорда Эвентри… нет, брат лорда Эвентри, лэрд Эвентри бьёт кулаком по лицу смерда, ещё и ради кого — ради служанки! Но не смотреть же было, как эта жердь её поколотит, а остальные будут глумиться. Анастас бы не стал спокойно смотреть. Это Адриан точно знал.
Родж явно не ждал удара, и, взмахнув ручищами, нелепо повалился навзничь. Он походил на завалившегося на спину таракана, и Адриану стало ужасно смешно. «Надо же, я и не думал, что так легко быть героем», — подумал он, когда Родж неожиданно прытко вскочил на ноги и ринулся в бой. Адриан легко уклонился от его сумбурной атаки и, перехватив руку противника, вывернул кверху острый локоть. Родж взвыл и вдруг упал.
Он не должен был падать. Адриан не толкал его — пьянчуга просто потерял равновесие, но что сделано, то сделано. Он упал, а Адриан держал его руку вывернутой локтем вверх. Когда выпустил, было поздно — Родж уже орал благим матом так, что зрители со двора все сбежались в трактир и обступили его, шумно переговариваясь.
— А-а, поломал! Поломал! — вопил Родж, рыдая, как ребёнок. Адриан только теперь заметил, что он и есть почти ребёнок — лет шестнадцати, не больше. Ему едва не стало стыдно, но тут он вспомнил о Вилме — и о незнакомце, следившем за представлением с тем же безразличием, что и трактирщик. Теперь трактирщик не был безразличен, а незнакомец так и не вышел из тени. Адриан стиснул зубы.
— Вилма, — сказал он, и она немедленно вцепилась в его руку. Он сжал её горячие, дрожащие пальцы и стал решительно проталкиваться к выходу. Им никто не мешал — всеобщее внимание было приковано к вопящему Роджу.
— Ах, бедолага, погонит ведь его Пат теперь, — сказал кто-то, и это было последним, что услышал Адриан.
— Всё, — сказал он, когда они оказались снаружи. — Обзор окончен. Идём домой.
Она не ответила, только кивнула.
Дорога обратно казалась гораздо короче. Адриан уже не глазел по сторонам, только упрямо пёр по тропинке вверх. Вилма едва поспевала за ним и скоро начала задыхаться.
— Стой! — крикнула она наконец, вырывая руку. — Да стой же!
Он остановился. Смотрел, как она тяжко переводит дыхание. Потом спросил:
— Почему ты терпишь это? Как ты…
— А что, я могу выбирать? — резко ответила она. — Ты пойми, это же не я их терплю — они меня! И то лишь потому, что я ведьмова прислужница… мологово отродье и ведьмовская прислужница. Что, думаешь, это всё от почтения к твоей леди Алекзайн? Просто они боятся её. И меня бы боялись, если б не бабка. А то видят, что я бабке ничего не делаю, ну и думают, что я ни на что не способна. Другая б на моём месте её давно отравила, а я её кормлю. Вот они и думают, что я ничто, что я это сама со страху…
— А на деле как?
Она отвернулась. Потом сказала глухо:
— Мать меня в колыбели удавить хотела. Она не дала.
Повисла неуютная, нехорошая тишина. Адриан пытался представить, как эта старая карга могла оказаться единственным существом в деревне, имеющим представление о сострадании, и не мог. Потом вспомнил незнакомца из трактира, который даром что был не из деревни, а о сострадании тоже ничего не знал, и снова разозлился. На Вилму — раз больше никого не было рядом.
— Это всё глупо, — выпалил он. — И неправильно, и… просто смешно!
— Тебе, может, и смешно, — сказала Вилма и пошла вперёд. Потом остановилась и, не оглядываясь, тихо сказала: — Извини… я… не права. Я не привыкла просто… Спасибо тебе.
И пошла дальше. Адриан смотрел какое-то время на пыльный подол её платья, на чёрные волосы, разлетевшиеся по плечам. Потом зашагал следом.
Он проснулся наутро с головной болью, как будто и в самом деле пил деревенский самогон и как будто тот и впрямь оказался непомерно заборист. Было пасмурно, в окно задувал ветер. Адриан какое-то время сидел в постели, устало моргая. Он не мог понять, который час. Рано, должно быть, раз Вилма ещё не ворвалась к нему под очередным дурацким предлогом. У Адриана остался осадок после вчерашнего происшествия в деревне. В тот день он больше не видел Вилму — ни её, ни леди Алекзайн. Гильбер сказал, что миледи принимает гостя, и Адриан не стал мешаться — ушёл из дома и до вечера просидел над обрывом, позволяя ветру яростно дёргать волосы и усиленно раздумывая, что ему теперь делать. Ничего так и не придумав, он вернулся в дом, когда уже смеркалось, забрёл на кухню перекусить, а потом почти сразу заснул. Новый день не обещал хоть чем-то отличаться от предыдущего. Надо было делать что-то. Надо было уходить.
Вот только куда?
Адриан оделся и спустился вниз. Дом казался пустым. Свет внизу не горел. Адриан неуверенно направился к двери и почти сразу услышал на лестнице шаги.
Он обернулся, почти уверенный, что это миледи, и тут же застыл, узнав эту тень, этот силуэт — и голос, обратившийся к нему:
— Вы поднялись наконец, юноша? Не чаял высказать вам своё почтение. Позвольте заметить, однако, что спать до полудня в вашем возрасте чревато для здоровья самыми неприятными последствиями… лет через десять. Впрочем, вряд ли вы загадываете так далеко.
— Вы… — Адриан внезапно осознал смысл его слов и переполошился: — До полудня?! Я не знал, что уже так поздно!
— Я тоже — лёг с первыми петухами, знаете ли. Ваша хозяйка оказалась поразительно несговорчивой, и убеждать её пришлось куда как дольше, чем я рассчитывал.
Адриан почувствовал, что краснеет. Кто бы ни был этот человек и что бы ни было нужно ему от леди Алекзайн, это, бесспорно, его и её дело; Адриан не собирался в это вмешиваться, хотя чем он больше думал об этом, тем сильнее краснел. К счастью, в полумраке это вряд ли было заметно.
— Однако мне уже пора. С вашей миледи я попрощался. Вы, я так понимаю, меня проводите? — в голосе незнакомца слышалась насмешка. Адриан не ответил ему и не шевельнулся, когда он прошёл мимо и раскрыл дверь. И только когда дневной свет хлынул в коридор, Адриан наконец увидел этого человека.
Он был выше среднего роста, довольно хорош собой, хотя, пожалуй, полноват, что было несколько странно после его болтовни о здоровом образе жизни. Лицо у него оказалось гладко выбритое, с мягкими, даже вялыми чертами, и потому на нём особенно выделялись острые и живые глаза. У него был характерный нос уроженца юга, хотя выговор по-прежнему казался Адриану незнакомым. Оружия при нём Адриан не заметил.
— Почему вы вчера ничего не сделали?
— Прошу прощения?
— Вчера, — повторил Адриан, не сводя с него глаз. — В трактире. Когда местные стали цеплять… эту девушку. Вам было всё равно?
— Помилуйте, — засмеялся мужчина; улыбка открывала крепкие зубы и пускала лучики от глаз, но создавала неожиданно жёсткие складки в уголках рта. — С чего бы мне вступать на защиту служанки в кабаке? К тому же она, если не ошибаюсь, была с вами.
Адриан закусил губу, но взгляд не отвёл. Мужчина мягко улыбнулся и, подняв пухлую руку, сжал и разжал пальцы.
— Я не воин, мальчик, и не кулачный боец. Я лекарь. Мне надо беречь руки. К тому же ты прекрасно справился сам. Как рука, кстати, не болит?
Адриан машинально перевёл взгляд на свой кулак — и с изумлением увидел ссадины на костяшках пальцев. Будто не веря своим глазам, он недоуменно потёр их — и поморщился от боли.
— Промой, — посоветовал человек, назвавшийся лекарем. — И береги руки.
— Как вы бережёте? — презрительно бросил Адриан.
Улыбка мужчина стала странной.
— Не совсем так. Но все мы должны беречь то, что приносит наибольшую пользу нам и тем, кто нас окружает. У меня это руки. Промой ссадины, не шути с этим. Мне случалось видеть людей, умиравших и от меньшего.
Он нахлобучил на голову шляпу, которую до того держал в руке, и вышел за порог. Адриан, помедлив, ступил следом и смотрел, как кучер выводит для господина коня — рыжего мерина, такого же упитанного и холёного, как и его хозяин. Интересно, что могло понадобиться этому хлыщу от леди Алекзайн? Неужели… неужели она чем-то больна? От этой мысли Адриан застыл. Она была такой бледной, и эти круги под её глазами…
— Загляни к Роджу, — крикнул Адриан, когда лекарь уже повернул коня к воротам.
— Что ты говоришь, мальчик?
— К Роджу загляни. К тому человеку, который… которого я вчера… — Адриан запнулся и решительно закончил: — Которого я поколотил.
— А, — лекарь криво усмехнулся. — Как благородно с вашей стороны, мой лорд. Но в этом нет нужды. Я ещё вчера осмотрел его, когда вы ушли. Это всего лишь вывих.
— Правда?
— Да. Оклемается через неделю.
И не успел Адриан высказать свою самую горячую радость и искреннее облегчение по этому поводу, когда пространство над обрывом рассёк крик:
— Помер! Помер!
Вилма бежала вверх по склону, путаясь в юбках и спотыкаясь. Адриан подумал, до чего же это неудобно для девчонок-прислужниц — носить такие юбки. Помер. Кто помер? Кто мог помереть, если лекарь сказал, что всё будет в порядке?
Вилма оказалась перед ним и вцепилась в его предплечье обеими руками. Её разные глаза были широко распахнуты, в них был страх, отчаяние, гнев и едва сдерживаемое злобное торжество.
— К-кто? — с трудом выговорил Адриан, не пытаясь её оттолкнуть; кучер и остановившийся в воротах лекарь внимательно наблюдали за ними. — Кто помер?
— Родж, — выдохнула Вилма. — Родж помер! Скотина эта! Помер совсем…
— От чего? — довольно резко спросил лекарь, избавив Адриана от необходимости выдавливать этот вопрос из себя.
— К колодцу с ночи пошёл, сушняк его замучил или что — а всё пить меньше надо было! Да рука-то одна, другую на перевязи носил — ну, и не удержал ворот одной-то рукой. Его, видать, рукояткой по роже долбануло, вот он и кувыркнулся в колодец. А дело ночью было, никто ничего не слышал — только утром увидели, а он уже и утонул…
— Да, — покачал головой лекарь. — Потрясающее невезение. Жаль парня.
— Не жаль, — прошипела Вилма и вскинула на лекаря взгляд, который не мог выдержать ни один человек на свете. Лекарь не отличался от других и отвернулся. Нахлобучил шляпу ниже.
— Незадача, — пробормотал он и выехал со двора, не удостоив Адриана словами прощания. Но тот этого не заметил. Он даже хватку Вилмы едва замечал. Он только думал о том, что она сказала.
Утонул. В колодце утонул. Рукояткой по роже долбануло. Одной рукой не удержать. А рука-то одна.
Из-за Адриана — рука одна. А другая на перевязи. Зажила бы через неделю.
— Он… ты не жалей его, — будто издалека, услышал он голос Вилмы. — Он подонок был. Он меня, когда я меньше была… а! к Мологу его… Не жалей. Слышишь? И меня не жалей. Мне-то что — я всегда в деревне всем несчастье приношу, это давно известно.
— Не ты.
— А? — она как будто удивилась, что он заговорил.
— Не ты, — с неимоверным трудом выговорил Адриан, высвобождая свою руку. — Это не ты… в ответе. Это я.
«Я всегда в ответе. За всё».
Не видя ничего перед глазами, Адриан развернулся и побрёл обратно в дом. У него болели костяшки пальцев.
— Миледи…
Она сидела у окна, в точности как позавчера, и читала книгу — ту же самую, может статься, что ту же страницу. Тысячу лет она уже так сидела и просидит ещё тысячу лет, неизменная, вечная, невозмутимая и прекрасная, как Гилас в своём чертоге.
— Миледи, — сказал Адриан, — я убил человека.
Она подняла на него глаза, и в них мелькнуло слабое, мимолётное любопытство.
Только любопытство и ничего больше.
— В самом деле? — спросила леди Алекзайн. — Как же это произошло?
Он рассказал. Она слушала, не перебивая и не кивая, глядя на него с прежней внимательной нежностью. Так мать слушала бы бессвязный лепет ребёнка о том, как здорово он провёл это утро. Адриан сам не знал, чего ждал от неё — страха, гнева, может быть, смятения, или пощёчины, или исполненного отвращения взгляда с приказом убраться вон… или, может быть, он ждал, что она обнимет его, прижав его лоб к своим коленям, и скажет, что он не виноват. Что он не в ответе, он ни при чём. Что это просто несчастная случайность.
— Вот видишь, — сказала леди Алекзайн, когда он умолк и поднял на неё взгляд. — Я же говорила.
— Говорили что, миледи? — с трудом выговорил он.
— Что ты можешь сделать всё, что угодно. Скажи, это ведь было легко? О чём ты думал, когда бил этого человека?
— Я его не бил! Я просто… просто угомонить его хотел, а он упал неудачно и… ну я ведь уже рассказывал вам!
— О, Адриан, — вздохнула Алекзайн. — Я знаю, что ты рассказывал мне. Но ты, увы, сам не понимаешь, что в твоём рассказе правда, а что вымысел. Поначалу всегда так.
— Но я не собирался его убивать!
— Конечно. Конечно, милый. Ты и не убил его. Что ты так смотришь? Разве ты воткнул этому человеку нож под ребро, или отравил его, или сломал ему шею?
Она действительно ждала ответа.
— Н-нет, — неуверенно проговорил Адриан, по непостижимой причине чувствуя себя загнанной в угол дичью. — Я только…
Он смолк, когда она встала и подошла к нему. И снова почувствовал, как впадает в оцепенение, стоит ей оказаться от него на расстоянии вытянутой руки — будто от неё веяло сковывающим холодом, но на самом деле это было так тепло.
— Ты обладаешь огромной силой. Тебе вовсе не обязательно убивать человека, чтобы убить его, Адриан. Довольно одной лишь несмертельной раны. И даже меньшего.
Внезапно он наконец понял, что ошарашило его в ней. Она говорила так спокойно, так деловито и уверенно, будто они были на уроке естествознания, и она лишь водила прутикам по внутренностям заживо вспоротого лягушачьего брюха. От этой мысли Адриана затошнило, и он сделал то, о чём ещё утром и помыслить не мог бы — он отступил от леди Алекзайн на шаг.
Кем всё-таки был этот человек, которого она приняла прошлой ночью?
— Но я же не хотел этого! — закричал Адриан. — Я не хотел его убивать! Я никого не хочу убивать! Всё равно как!
— Во-первых, вовсе не всё равно, — сурово сказала Алекзайн. — А во-вторых, это первое и главное, чему тебе придётся научиться в самом скором времени. Иначе ты не сможешь выполнить клятву, которую дал мне.
Упоминание о его обещании будто обухом огрело Адриана. Он не помнил уже, что и когда ей обещал, знал только, что это не те клятвы, которые можно нарушить. И он понял — только начинал понимать, — что, кажется, попал в беду.
— Чему мне придётся научиться? — хрипло спросил он.
Прикосновение её пальцев к его щеке было едва ощутимым, будто прикосновение паутины, слегка задевшей лицо.
— Хотеть, — мягко сказала Алекзайн.
И его так тянуло поверить ей. Сделать всё, как она просит, как она приказывает, сделать и… насладиться этим.
Захотеть насладиться этим.
Но она ведь даже не спросила имени человека, который этой ночью умер по его вине.
И когда он думал об этом, в его затуманенном сознании всплывало что-то ещё, что-то важное, такое важное, о чём он то и дело забывал…
Её глаза расширились за миг до того, как он вздрогнул. Адриан не заметил этого, а если бы и заметил, не сумел бы правильно истолковать. Он только непроизвольно сжал кулаки так, что ободранные костяшки заныли сильнее, и выпалил:
— Прежде всего прочего, миледи, я должен разыскать своего брата. Он старший теперь… а я второй по старшинству. Я должен узнать, что с моей семьёй и с моим…
— С чего ты взял, что твой брат ещё жив? — перебила его Алекзайн, и её голос прозвучал так равнодушно, что на долю мгновения Адриан словно очнулся и увидел её как в первый раз, не такой, совсем не такой, какой она была в закатных лучах, когда ветер шевелил пряди её волос, смешивая чёрное с рыжим, и страницы шелестели под её белыми пальцами…
Он сглотнул и ответил:
— Я… у меня есть его письмо. Написанное совсем недавно. Я знаю, что он жив и ему нужна помощь.
— Письмо? Какое письмо? Ты не говорил мне ни о каком письме. Покажи мне.
Она говорила отрывисто и недовольно, и Адриан едва не впал в отчаяние, поняв, что впервые опасно приблизился к её немилости. Странно — известие о забытом письме рассердило её много больше, чем то, что он убил человека. Однако у Адриана не было времени раздумывать над этим: он быстро поднялся в свою комнату и вернулся обратно, неся свиток, перевязанный лентами цветов клана Эвентри.
Он протянул свиток Алекзайн, и та взяла его, но не стала читать.
Вместо этого она быстро и решительно порвала свиток в клочки.
— Что вы делаете?! — воскликнул Адриан, бросаясь на пол и беспомощно сгребая обрывки. Они всё сыпались; один клочок застрял в его волосах. Алекзайн наклонилась и лёгким движением вытащила его. Адриан чувствовал её дыхание кожей лба, когда она тихо сказала:
— Забудь. Забудь свою семью. Свой клан. Забудь самого себя. У тебя есть более важная миссия, которой ты дал обет. И лишь это имеет значение. Это и то, как ты это сделаешь.
— Но как… как же я это сделаю?!
— Ты поедешь к конунгу. Ты найдёшь способ собрать войско и повести его за восточные моря. Ты сделаешь это, Адриан, и туда ты должен смотреть. В сторону Сотелсхейма, а оттуда за море. И не гляди больше на запад. Это твоя судьба, а не выбор, и не тебе решать.
Адриан вздохнул, растерянно, но уже едва ли осознанно продолжая сгребать обрывки письма. Голова у него шла кругом. Всё, что она говорит, да и само это место, этот воздух, даже он сам — всё казалось сном, и он никак не мог решить, хочет ли проснуться. Алекзайн порвала письмо Анастаса, Алекзайн была равнодушна к чужой смерти, Алекзайн говорила, что он должен спасти мир для неё, и пальцы Алекзайн были в его волосах, и её тёплое дыхание согревало его кожу…
И лишь одно мешало ему окончательно сдаться её воле и на её милость.
— Том… рассказывал мне… он говорил, что это не так просто, миледи. Он говорил… я плохо помню, но… что-то вроде того, что всё зависит от моего выбора и решать именно мне…
Её ладони схватили его лицо. Может быть, страстно, а может, жёстко и грубо — Адриан не мог понять, потому что в этот же миг её губы оказались возле его губ, так близко, что он мог коснуться их своими, если бы она не держала его голову так крепко.
— Забудь о Томе, Адриан. Слышишь? Забудь всё, что он говорил тебе. Он не тот, кто может давать советы в этом деле, поверь мне. Забудь о нём. И никогда не вспоминай. — Она разжала руки, и её пальцы пробежали по его лицу — по вискам, щекам, губам, словно она была слепой и хотела узнать его черты. — Ты совсем не такой, как он, — прошептала Алекзайн и поцеловала Адриана в лоб.
Она говорила что-то ещё, но это было излишне — он не слышал, не хотел слышать, ему было всё равно.
Он любил её больше, чем кого-либо когда-либо на этом свете.
3
На второй неделе пути ему наконец-то повезло. Он смотрел вокруг чуть расширенными глазами, чувствуя смесь удивления с недоверием. Человек, более двенадцати лет называвший себя просто Томом, был далёк от веры в собственную проницательность, поэтому недоумевал, как то, что было очевидно для него, оставалось незамечено другими. А именно — солдатами лорда Индабирана.
Лакмор был скорее большой деревней, чем маленьким городком, даром что в центре его высилось строение, гордо именовавшееся Лакморским замком. Строение это обладало одной башней, включавшей в себя все жилые помещения, и было обнесено стеной, через которую при некоторой сноровке перелез бы и ребёнок. Тем не менее эрл Лакмора, числившийся септой клана Эвентри, был очень горд своими владениями — именно по его приказу Лакмор именовался городом, а не деревней, чем, в сущности, и был. В гарнизоне городка состояли две дюжины грязных, немытых и вечно пьяных вояк, часть из которых праздно шаталась по улицам, почёсывая пузо и лениво озираясь в поисках правонарушителя, которого можно оштрафовать на кружку пива. Горожане правила игры давно приняли и опасались доблестных защитников города куда меньше, чем жители настоящих городов. Эрл Лакмора был человеком хотя и тщеславным, но благоразумным, и его амбиции ограничивались такими ни к чему не обязывающими мелочами, как количество трактиров, суровый контроль за тем, какие цвета носят простолюдины и наличием в городе собственной муниципальной бани. Остальное его заботило мало, и ничто не мешало людям работать и, при должном прилежании, процветать.
По крайней мере, так было, когда Том проезжал через Лакмор в последний раз — около двух месяцев назад, направляясь в замок Эвентри. До того, как замок Эвентри стал замком Индабиранов.
Тихий, сонливый и приветливый Лакмор ныне был как-то особенно тих, сонлив и приветлив. Узнав в Томе пришлого, от него прежде отводили взгляд — а теперь лучисто улыбались и кланялись в пояс, хотя он был далёк от мысли, будто выглядит знатным господином. Впрочем, для этого путешествия ему пришлось отказаться от ставшего привычным за последние годы образа нищего оборванца, приодеться и прицепить к бедру старый отцовский меч — всё, что осталось когда-то от прежней жизни. И это действовало — в Лакморе особенно. Дорогу указывали подробно и верно; уличные торговцы не прилипали так назойливо, как обычно, детвора не швырялась камнями, даже собаки стали облаивать реже. Патрульных на улицах прибавилось, и хотя ни один из них не попытался остановить Тома, все они провожали его цепкими, пристальными взглядами. Если в чём подозревали — запросто могли скрутить и бросить в каталажку, а там душевно беседовать до зари, но почему-то этого не делали.
Лишь через несколько часов пребывания в Лакморе Том понял, что они боялись.
И этот страх, вместе с нарочитой любезностью и в то же время настороженной отстранённостью, выдавал их с потрохами. Том поскрипывал зубами, не зная, смеяться или злиться. Они так боялись быть раскрытыми, что самим страхом привлекали к себе внимание. И эти хлипкие стеночки вместе с нелепым замком-башней стояли всё ещё лишь потому, что солдаты Индабирана не удосужились до них добраться. Иначе они тоже поняли бы всё.
Или они просто глупцы.
«Здесь, — подумал Том, окидывая взглядом извилистую улицу, гордо именуемую Главной и ведущую к высившемуся впереди замку. — О Гилас, наконец-то!» Люд копошился у неказистых деревянных домиков, занимался своими делами и старательно не глядел Тому вслед. Город казался погружённым в глубокую и неизлечимую паранойю. Похоже, каждой семье было что скрывать — или, более вероятно, было кого укрывать. Если Индабиран пронюхает об этом, все эти люди будут мертвы. Интересно, подумал Том, понимают ли они это.
Он попросил указать ему самый приличный трактир, рассчитывая, что в таких обстоятельствах с пришлого, вполне могущего оказаться шпиком, не потребуют большой платы. Так и произошло — ему удалось получить отдельную комнату со столом и видом на Лакморский замок за сущие гроши. Хозяин кланялся до земли и бормотал, как счастлив приютить путника в такую погоду, хотя слабо моросящий с утра дождичек трудно было назвать суровым ненастьем.
«Где же он может быть?» — глядя из окна на башню, размышлял Том. В замке? Очевидно, а потому — маловероятно. Это первое место, куда Индабираны кинуться его искать, если пройдёт слух, что недобитки Эвентри прячутся в Лакморе. Их так и называли — «недобитками Эвентри». Том сам не раз слышал это за те две недели, что шёл по землям некогда славного клана, останавливаясь в каждой деревне и всюду задавая один и тот же вопрос — вернее, делая один и тот же намёк. Безрезультатно. Впрочем, здесь даже вопросы были излишни — всё ясно и так.
Том тяжело вздохнул и спустился вниз. Обеденный зал был пуст, только служанка протирала столы. При звуке шагов Тома она испуганно вскинулась и застыла, глядя на него распахнутыми от ужаса глазами. Э-э, милая, да у твоего батюшки в погребе, почитай, целая дюжина недобитков Эвентри прячется, так ли, нет?
Такие верные, думал Том с жалостью, и такие глупые. Неудивительно, что по всём фьеве об Эвентри говорят как о прошлом деле — с такими-то союзниками врагов не надо.
Том уселся за стол и равнодушным голосом потребовал пива. Служанка охотно умчалась, обрадовавшись, что нет нужды больше выдерживать его взгляд. Том воспользовался минутным одиночеством и украдкой пересчитал оставшиеся деньги. Проклятье, мало, совсем мало. И хорошо бы Анастасу Эвентри действительно оказаться здесь, потому что дольше Том уже не мог его искать.
Рядом кто-то заворочался, и Том обернулся, удивившись, чего это девка подкрадывается к нему сбоку. Обернулся — да так и застыл, очутившись лицом к лицу с приплюснутой рожицей синюшного цвета, уставившейся на него маленькими круглыми глазами.
— Ты, — не совладав с собой, потрясённо выдохнул Том.
Деревенский дурачок Эвентри — как же там его?.. Олберт? Уилберт? — склонил голову набок и задумчиво уронил с оттопыренной губы вязкую нитку слюны. Маленькие глазки глядели рассеянно и отрешённо, будто их обладатель пытался вспомнить давно забытую мелодию.
Том осторожно потянулся к нему и коснулся его плеча.
— Я ищу Адриана, — тихо сказал он. — Ты помнишь? Помнишь Адриана?
— А-адриана… — протянул дурак и, часто заморгав, отшатнулся. Том поспешно убрал руку с его плеча. Дурачок отвернулся и часто засеменил к стойке, переваливаясь на ходу. Том смотрел ему вслед.
«Здесь. Всё-таки здесь», — со смесью торжества и тревоги подумал он. Казалось почти невероятным, что лорд Эвентри, подаваясь в бега, прихватил с собой деревенского дурака, но кто его знает, этого нового лорда? Он лишился всех своих близких, родителей, сестёр и братьев — в порыве сентиментальности и не такое может в голову взбрести. Совсем другой вопрос, что уродец делает в таверне. Вряд ли за лошадьми смотрит, хотя на что ещё он годен?
— Простите, милостивый сударь, заставили вас дожидаться…
Пива ему принесла не служанка, а трактирщик — судя по внешнему сходству, он приходился ей отцом. Видать, и впрямь струхнула девка, раз он её к гостю не пустил. «А и то верно, — подумал Том, — как я со стороны-то смотрюсь? Хожу тут, рассматриваю всё, выспрашиваю… В другое время точно бы шею свернули. А так — боятся. Боятся, что завтра на смену мне явится войско Индабирана и потребует ответить за гибель своего человека».
И это, если задуматься, было очень удобно.
— Слушай, хозяин, — сказал Том, жестом предлагая трактирщику присесть рядом. — Что-то городок ваш приуныл, я прямо не признаю его. Прошлой весной тут повеселился всласть, а сейчас, гляжу, все будто на поминках… Случилось чего?
— Так уж на поминках? — хмыкнул трактирщик, изо всех сил стараясь казаться беспечным. — А что взгрустнулось — это да, верно милостивым сударем подмечено. Совсем в этом году налогами удушили, всё из-за войны.
— Да? — удивился Том. — А кто же налог-то собирает, если вашего лорда больше нет?
— Как нет? — испугался трактирщик. — Есть он, как же, никуда не девался дорогой наш эрл, как и завсегда…
— Я не об эрле. Я о вашем лорде Эвентри. Как мог он поднять налоги, если помер?
Трактирщик насупился, заёрзал. Буркнул:
— Того не знаю. А что велит господин наш эрл Лакмор, то платим честно. Да ещё и храмовую десятину сверх того.
Он явно не отличался разговорчивостью большинства своих собратьев по ремеслу. И, Том был вынужден это признать, с этой стороны к нему не подкопаться. У каждого горожанина, буде его начнут расспрашивать о причине всеобщего уныния, наверняка найдётся столь же убедительное объяснение — что война измотала, мужиков в солдаты забрили, урожай толком не убран, а впереди зима… У кого праздный интерес — тот не будет дальше допытываться, а если будет — значит, шпик.
Том про себя восхитился простоте и действенности такой тактики. Но тот, кто придумал её, не учёл одного: война, налоги и неурожай тревожили теперь каждого в бывших владениях клана Эвентри. Однако только в Лакморе все эти невзгоды вынуждали людей к повышенной обходительности и страху обидеть случайного путника.
Прикинув всё это, Том решил действовать. Тем более что после столкновения с дурачком Уилбертом — или как там его? — сомнений у него почти не осталось, а на расшаркивания не было времени.
— Я слыхал, недобитков Эвентри всё ещё ищут, — спокойно сказал он уже поднявшемуся было трактирщику. Тот изменился в лице и ухватился за край стола, но обратно не сел. Голос его звучал равнодушно, идя вразрез с выражением лица:
— Да вроде того.
— Двоих ведь так и не нашли? Второго сына и, кажется, третьего? Ну, насчёт третьего-то то я уверен, а про второго слыхал только.
Он внимательно смотрел трактирщику в лицо. Ход был грубый, и, если уж начистоту, неоправданно опасный. Но у Тома не было выхода — приходилось рисковать. Хотя уж теперь-то он играл почти наверняка.
Трактирщик, впрочем, оказался то ли туповат, то ли слишком осторожен. Он наконец отцепился от стола и проворчал:
— Не слыхал, не ведаю. Сплетни всякие ходят, вам лучше вечерком порасспрашивать, когда люд соберётся.
Том беззвучно вздохнул и пошёл напролом.
— Мне указали твою гостиницу как лучшую в Лакморе.
— Так и есть, — со сдержанным достоинством, более свойственном замковому мажордому, кивнул трактирщик.
— Держатель лучшей гостиницы всегда в курсе всех слухов, что ходят по городу. Также он обычно принимает у себя самых дорогих и важных гостей либо знает, кто оказал им приют. И хозяин лучшей гостиницы никогда не позволит слюнявым дурачкам валандаться по обеденной зале, когда в ней есть гость.
Тут уж трактирщика проняло. Он выпрямился, с шумом втянул воздух. Его глаза забегали; Том понял, что дурачок оказался в зале случайно — может быть, удрал из-под замка. А ещё он понял, что трактирщик знал об их встрече. И, может быть, дурачок успел сказать ему пару-тройку более связных слов, чем вытянул из него Том.
Должен же быть от него какой-то толк, раз он здесь.
— Передай тому, кто может быть в этом заинтересован, что у меня есть сведения о третьем сыне лорда Ричарда Эвентри. И что я буду в городе до завтрашнего утра, а после уйду. Теперь налей мне ещё пива, и рачков варёных к нему не помешало бы. Думаю, что за твой счёт.
Вот так. Теперь можно было есть, пить — не напиваясь по возможности, как бы ни хотелось — и ждать, чем всё это кончится. А кончиться могло очень по-разному. При самом лучшем раскладе вскоре Том встретится с Анастасом Эвентри — и, может быть, с Адрианом. С Анастасом — в любом случае, вне зависимости от того, с ним ли Адриан, как надеялся Том, или нет. Если с ним — они захотят увидеть его, чтобы удостовериться, что он не продаст их Индабиранам. Если нет… что ж, он увидит Анастаса, этого пока довольно. Том просто не знал, куда Адриан мог ещё пойти. По крайней мере, искать его вдовом должно быть немного полегче. Сам он уже взвыть был готов, несмотря на то, что последние две недели боги были к нему более чем милостивы…
Потому что при не столь удачном раскладе заинтересованным лицом может оказаться не Анастас Эвентри, а Топпер Индабиран — и те, кто служат ему. Всякий раз, заводя этот разговор в очередной деревне или городке, Том рисковал нарваться на его шпиков. Но не нарвался ни разу — и потому был склонен считать, что дело больше чем в простом везении. Скорее, Адриан Эвентри уже не интересовал Индабиранов так, как раньше. Вероятно, они полагали его мёртвым — а может, полностью сосредоточились на грядущей войне Одвеллов с Фосиганами, посчитав Эвентри окончательно убранными с доски. И в самом деле — прошло уже несколько недель с той вероломной во всех отношениях ночи, когда Том увёз Адриана из его родового замка. Если Эвентри собирались возродиться и отстоять своё имя и свои права, то им следовало уже давно это сделать. Но, судя по всему, они не могли — им не хватало людей, а вернее — предводителя, за которым эти люди бы пошли. У Эвентри и их септ в общей сложности было несколько сотен воинов — но, чтобы выступить слаженно, они должны были услышать зов, на который им полагалось откликнуться. Зов не прозвучал — и Индабираны практически беспрепятственно, если не считать крестьянских волнений на западе, ввели свои войска в большинство значимых городов и форпостов провинции. Сейчас, по слухам, они ждали ещё подкрепления, чтобы оккупировать оставшиеся места — вроде города-деревни Лакмора. А с севера тем временем стягивались войска кланов, принявших сторону Одвелла — и полным молчанием отвечал на это Сотелсхейм, будто не замечая, что земли Эвентри превратились в беспокойное пограничье между смутьянами и землями конунга…
Не исключено, что при всём этом Топпер Индабиран, не будучи ни хитрым политиком, ни дальновидным полководцем, махнул рукой на клан, который так легко уничтожил. Может быть, он был прав. Может быть, нет. Всякий раз, задавая вопросы о втором сыне лорда Ричарда Эвентри и выражая готовность ответить на вопросы о его третьем сыне, Том подвергался опасности выяснить это на собственной шкуре.
Две недели с лишним подвергался, и наконец — выяснил.
Он допил пиво, похвалил раков, которые были, впрочем, недоварены, и, шумно зевнув, направился к себе. В зал уже собирались первые посетители, поглядывавшие на него косо, а всё, что хотел, Том уже сказал. Трактирщик в любом случае знал, где его искать, если будет нужда.
Он поднялся по тёмной лестнице на второй этаж и вошёл в свою комнату. Ржаво-кирпичная башня угрожающе темнела в оконном проёме. Том шагнул за порог, закрыл за собой дверь — и постарался не вздрогнуть, почувствовав холодное прикосновение стали к шее.
— Ни звука, — проговорил низкий мужской голос. — Дёрнешься — и умрёшь. Отвечай на мои вопросы быстро и внятно. Что тебе известно об Адриане Эвентри?
— Я отвечу, — отозвался Том, не шевелясь. — Но только лорду Анастасу. Теперь хорошенько подумай и либо перережь мне горло, либо убери нож.
Человек за его спиной не ответил. Том молчал тоже. Наконец мужчина коротко ругнулся и быстрым, профессиональным движением обыскал Тома. Отобрав меч, обыскал ещё раз, тщательнее. Том услужливо приподнял руки, содействуя осмотру. Неизвестный нащупал и отобрал нож, зачем-то отцепил с пояса Тома флягу с водой и лишь тогда наконец убрал оружие.
— Я не знаю, кто ты, — вполголоса сказал он. — Но если ты приведёшь за собой хвост, твоя смерть будет очень долгой.
По его голосу Том вполне был склонен поверить в это, поэтому только кивнул в ответ. Человек отошёл от двери.
— Иди за мной.
Том думал, что они спустятся вниз и пройдут через обеденный зал, но вместо этого незнакомец свернул по лестнице направо и прошёл в угловую мансарду. Окно было открыто.
«О, Гилас, — подумал Том. — Никак не меньше пятнадцати лет прошло с тех пор, как я лазил через окна».
Эта мысль его странным образом развеселила.
За окном, всего в трёх футах под ним, оказалась покатая черепичная крыша соседнего дома. Том спрыгнул на неё, приземлившись почти одновременно со своим неразговорчивым сопровождающим. Они степенно прошлись по парапету, словно по бульвару, перешагнули на следующую крышу, благо расстояние не превышало двух локтей, и там уже спустились по водостоку, оказавшись на параллельной улице. Том подумал, что все эти предосторожности просто смешны — учитывая крохотные размеры Лакмора, ничего не стоило расставить шпиков по всему городку, сделав выслеживание плёвым делом. А потом ему подумалось, что на такие предосторожности может пойти не только глупец, но и человек в крайней степени отчаяния.
— Туда, — коротко сказал неизвестный. Том проследил за направлением его кивка — и обомлел на миг, а потом едва не расхохотался, что, учитывая обстоятельства, было бы не очень уместно.
Они стояли перед дверью с широким полотняным навесом. Дверь была раскрашена розами и грубыми вензелями, с молотком в виде цветочного бутона. Уже стемнело, и над входом покачивался мутный масляный фонарь, забранный красным стеклом.
Беглый лорд, наследник униженного клана, Анастас Эвентри нашёл приют в борделе. В этом было что-то безжалостно-логичное, как в появлении дурачка Олпорта (Олпорт, вспомнил наконец Том, так его зовут) на пути Адриана в тот день, когда его увозили и от смерти, и от прежней жизни — одна Гилас ведает, в смерть или в жизнь.
— О, — сказал Том с уважением, кардинально меняя своё отношение к этому городу. — У вас есть бордель.
Том не был особым знатоком или ценителем домов терпимости, хотя ему, как и почти любому мужчине с достатком, приходилось их посещать. Больше всего ему запомнился, разумеется, бордель Сотелсхейма — один из десятков, разбросанных по Весёлому кварталу. Обслуживала его тогда темнокожая красавица, чьи горящие чёрные глаза выдавали примесь крови бродяг-роолло; от неё сильно пахло мускусом, и медные браслеты на её лодыжках мерно и мелодично позвякивали, когда, оседлав Тома, она скакала на нём с победным криком — истинная дочь своего дикого народа верхом на резвом скакуне.
Лакмор был всё-таки скорее деревней, нежели городом, и столь неистовых див здесь, разумеется, не водилось — уж больно ценились они в злачных местечках столицы, и знали об этом. Лакморский бордель встретил Тома и его спутника непритязательной тёмной прихожей, выводившей в небольшой зал, мало чем отличавшийся от обеденного зала таверны, за тем исключением, что вместо скамей тут были облезлые диваны, а на коленях у каждого посетителя сидела девица большей или меньшей степени миловидности. Антураж был беден — ни цветов, ни благовоний, лишь красные бумажные колпаки на светильниках. К новоприбывшим немедленно подошли две смазливые девицы, взяли под руки, повели через зал, щебеча и ластясь. У той, которая прилипла к Тому, были пухлые щёчки и крупная родинка над верхней губой. Она была миленькая, и её прикосновение не было ему неприятно. Как оценивает его спутник свою сопровождающую, приземистую блондинку с вываливающейся из корсажа грудью, Том сказать не мог, ибо шляпа спутника оставалась натянутой на нос, и видны были только поджатые губы.
Щебеча, девицы провели мужчин через зал, щебеча отвернули с двух сторон портьеры, занавешивающие дверной проём, завели гостей в тесный коридорчик, всё так же щебеча, и удалились, продолжая щебетать. Вовремя — от их бестолковой трескотни у Тома начинала болеть голова.
Его сопровождающий, не сбавляя шага, пошёл вперёд. Том двинулся за ним. Они поднялись на два лестничных пролёта и вошли в одну из комнат для свиданий — судя по тому, что из мебели в ней была только кровать. Бутылки поэтому приходилось ставить прямо на пол, где они и располагались в изобилии.
На кровати, спиной к двери, сидел Анастас Эвентри. Он обернулся и встал прежде, чем Том успел переступить порог, но Том тем не менее успел заметить, что в сидячем положении спина его была сгорблена.
— Милорд, — закрыв и заперев дверь на засов, сказал спутник Тома, — я привёл его.
Очень яркие — намного ярче, чем у Адриана — голубые глаза Эвентри остановились на Томе. Том не отвёл взгляд. Он не боялся, что его вспомнят, — слишком много лет прошло.
— Где мой брат? — спросил Анастас Эвентри.
Том разглядывал его, но не слишком открыто. Он и без этого вопроса знал, что Адриана здесь нет — понял это, когда увидел сгорбленную фигуру его старшего брата на кровати. Он изменился с тех пор, как Том видел его в последний раз — в замке Эвентри, накануне той роковой ночи. Побледнел, осунулся, вечная улыбка исчезла с губ и из глаз — но не оставила их пустыми. Его взгляд был таким же твёрдым и спокойным, как в родовом замке его отца, за день до того, как весь его мир покатился к Мологу, — только беспечность из них ушла, уступив место твёрдой решимости.
Том ощутил лёгкий укол в спину — его конвоир не расслаблялся и Тому расслабляться не советовал. Он проник сюда, пообещав ответить на вопросы. Но что ему было отвечать?
— Я не знаю, милорд, — сказал Том.
Человек за его спиной с коротким возгласом схватил его сзади за плечо. Кинжал уже не колол, он резал плоть, пробираясь сквозь кожу к мышцам.
— Милорд, я говорил вам!
— Стой, Энгус! — Анастас сделал несколько быстрых шагов и остановился, немного не дойдя до Тома. Тот только теперь заметил, что правая рука юного лорда тяжело и резко болтается вдоль тела. Он едва ею управлял.
Лезвие замерло, пропоров кожу. Том чувствовал струйку крови, щекочущую спину.
— Я знаю тебя, — сказал Анастас. — Ты был в Эвентри с пилигримами за день до… до того, как замок захватили, — решительно закончил он. «А ему ведь, должно быть, нелегко говорить это вслух, — подумал Том. — Но он знает, что надо. И повторяет это даже чаще, чем следует».
— Верно, милорд, — ответил Том, зная, что отпираться бессмысленно — и опасно. — Я был с ними. Мы шли к святилищу Милосердного Гвидре.
— Я помню, — коротко сказал Анастас и окинул его быстрым взглядом. — Насколько я понимаю, паломничество удалось и грехи твои отмолены? Ты теперь не очень-то похож на пилигрима.
«Как странно», — думал Том, лихорадочно подыскивая правильный ответ. Он вовсе не ожидал ничего подобного. Думал, что найдёт здесь растерянного и испуганного мальчишку — а при доле везения двух растерянных и испуганных мальчишек, чудом выживших в резне и беспомощно наблюдающих со стороны, как гибнет всё, во что они верили. Но вместо мальчишки перед ним сидел мужчина, усталый, измотанный и раненый, но сохраняющий выдержку и присутствие духа. Почему он не призвал своих септ? Они бы за ним пошли.
Том хотел видеть этого мужчину своим союзником, а не врагом, поэтому отвечал, тщательно подбирая слова.
— Именно так. Я не монах, тот пеший ход был для меня первым.
— Почему ты солгал, будто готов продать сведения о моём брате? — резко спросил Анастас.
Он устал. Он смертельно устал. Том теперь ясно видел это — и ему всё меньше хотелось смеяться над этим человеком, устроившим партизанскую базу в деревенском борделе. А как, хотелось бы знать, он провёл последние несколько недель? Вряд ли в объятиях болтливых девиц из зала внизу — ни одна из них не могла быть столь ретива, чтобы так повредить ему руку.
— Я видел его, — наконец сказал Том.
— Когда?
— Я помог ему спастись.
Анастас долго смотрел на него. Его глаза покраснели и припухли, веки отяжелели — он явно недосыпал, — и яркая голубизна радужек на фоне красноватых ободков казалась почти жуткой, но взгляд был твёрдым и внимательным, не упускающим ничего и ничего не прощающим.
Том вдруг подумал, что в самом деле не хочет, чтобы этот девятнадцатилетний паренёк, бездомный и всеми покинутый, был его врагом.
Наконец его лицо слегка расслабилось; Анастас перевёл взгляд на своего человека, всё так же тыкавшего ножом в спину Тома, и сказал:
— Отпусти его. Пусть он сядет. — Помолчав, он добавил: — Мне тоже надо сесть. А ты постой у двери, Энгус, хорошо?
Затылком чувствуя недовольство Энгуса, Том с готовностью шагнул вперёд и сел на постель, примяв шёлковое покрывало цвета дымчатой розы, розами же и вышитое. Анастас сел напротив, с беззвучным вздохом положив правую руку на колено. Казалось, она весила больше, чем всё остальное его тело.
— Милорд?.. — тревожно начал Энгус, но Анастас жестом велел ему молчать. «Отчего он не носит руку на перевязи? — подумал Том. — Неужели пытается ею пользоваться?»
— Рассказывай, — потребовал Анастас.
И Том рассказал. Он заранее заготовил эту историю на случай, если не найдёт Адриана, но будет вынужден объясняться с его братом. По его рассказу выходило, что, когда ворота оказались открыты и в замке поднялся переполох, Адриан успел улизнуть через них. Пилигримов, божьих людей, Индабираны отпустили, видимо, ввиду остатков богобоязненности, и когда они пошли через лес и Том слегка отстал от них, Адриан, прятавшийся всё это время в кустах, окликнул его и попросил помощи. Том сказал, что счёл помощь мальчику из клана Гвидре не менее значимой данью богу Милосердному, чем паломничество к святилищу, и сделал для парня всё, что мог, чтобы незаметно вывезти за пределы фьева… И как всё шло хорошо, пока однажды ночью Адриан не сбежал.
Разумеется, он ни словом не упомянул ни о верёвочной лестнице, которую заранее прикрепил к наружной стене замка, так и о том, что ни одно из действий Адриана после их встречи в ту ночь не было добровольным. Но чем больше Том смотрел на Анастаса Эвентри, тем меньше ему хотелось, чтобы тот об этом узнал.
— Так значит, не врали всё-таки про угольщиков, — вздохнул Анастас, когда он кончил. — Никто не верил. Но я знал, что он жив. Олпорт видел его. А я-то знаю, что стоит верить Олпорту.
— Это ваш деревенский дурак? — решился уточнить Том.
— Не деревенский. Замковый. Я не мог бросить его, — Анастас запнулся на миг, и по его лицу скользнула тень растерянности, которую он изо всех сил пытался в себе подавить — так, должно быть, он чувствовал себя, когда немногочисленные соратники уговаривали его оставить бесполезного идиота на милость богов и солдат Индабирана. — Он и тебя видел, — добавил Анастас уже другим тоном. — Видел и запомнил.
— Да, я понял.
Анастас вздохнул и непроизвольным жестом сжал пальцы больной руки.
— Так, говоришь, Адриан сбежал от тебя? Чёрт, это так на него похоже…
— Он не хотел оставаться со мной, — совершенно честно сказал Том. — Сказал, что хочет отыскать вас. Он был уверен, что вас не было ночью в замке.
— Правда? — юный лорд Эвентри выразил удивление впервые с начала разговора. — Почему?
— Не знаю. Я не спросил.
Не спросил, а жаль. Сейчас Том и сам не отказался бы узнать, откуда у Адриана была такая уверенность.
— Если он хотел найти вас, милорд, значит, остался в Эвентри, — подал голос Энгус. Том бросил на него взгляд — этот человек явно был для своего молодого хозяина кем-то большим, чем посыльным. Анастас медленно кивнул — эта мысль явно не доставила ему удовольствия.
— И триста раз мог попасться Индабиранам, — закончил он. — Но, скорее всего, не попался, иначе они уже растрезвонили бы об этом. Я не могу найти его, — добавил Анастас, и в его голосе, как прежде в выражении лица, снова отразился потерянный мальчишка, на которого свалилась ноша более тяжкая, чем он может вынести. — Я… мы всё обыскали. Взывали к долгу, запугивали, обещали награду… бесполезно. Ты за деньгами пришёл? — резко добавил он — снова лорд Эвентри, а не юноша по имени Анастас.
Том медлил какое-то время. Потом сказал:
— Вы ищите своего брата, милорд. А я искал вас. Я всюду говорил, что знаю, где он… чтобы отыскать вас.
— Зачем?
И Том ответил, давно забытой, изгнанной и презираемой частью своего сознания бесконечно потешаясь над собою за то, что говорит это Анастасу Эвентри:
— Я хочу отдать вам мой меч. Простите, но это всё, что у меня есть. И, если позволите, я помогу вам в поисках вашего брата.
— Он шпион! — заявил Энгус.
Анастас не взглянул на него, продолжая испытывать Тома взглядом. Парень, похоже, всерьёз рассчитывал на свой природный магнетизм… и не так уж безосновательно, потому что Тому стоило довольно большого труда не отвести глаз.
— Может быть, — сказал лорд Эвентри наконец. — И даже вполне вероятно. Но он только что сказал мне, что Адриан жив и в ту проклятую ночь остался на свободе. Это первая хорошая новость за полтора месяца, Энгус. И я не могу отплатить за неё этому человеку ничем, кроме своего доверия.
Слова звучали убедительно, и голос, которым они были произнесены, оставался ровен. И хотя Анастас не обменялся со своим человеком ни единым взглядом, Том знал, что оба они не спустят с него глаз. Если бы он и вправду был подослан Индабиранами, этим двоим пришлось бы туго, но, вполне возможно, он успел бы умереть за своё предательство. Причём умирал бы долго, как и обещал Энгус.
— Как тебя зовут? — спросил Анастас.
— Томом, с вашего позволения.
— Я его не дам, — спокойно сказал тот. — В трактирах и на заставах ты можешь называть себя как угодно, но, предлагая мне свой меч, изволь назваться настоящим именем. И не убеждай меня, будто ты безродный крестьянин, волей случая обучившийся держать оружие.
Настоящим именем? Том снова развеселился. А ведь забавно было бы и впрямь назвать этому мальчишке своё настоящее имя — он должен его крепко помнить, даром что ещё пешком под стол ходил, когда это имя денно и нощно проклинала вся его родня. И теперь человек, носивший это имя, был готов присягнуть Анастасу Эвентри, только бы оказаться ещё на полшага ближе к его младшему брату…
— Моё имя Томас Лурк, милорд. Вы правы, я не безродный крестьянин. Я принадлежу к младшим септам клана Нердан, но по ряду причин покинул дом.
— Нерданы — септы Эвентри, — сказал Анастас. — Ты можешь не присягать мне, Томас Лурк. Ты и так мне принадлежишь.
Было что-то поразительное в невозмутимости, с которой он это сказал, — в том, как спокойно и уверенно заявил свои права на человека, которого видел второй раз в жизни. Это черта всех потомственных лордов, конечно, — но Анастас Эвентри не был потомственным лордом. Он был вторым сыном, и его никогда не готовили к тому, что однажды он возглавит клан. Он должен был жениться на девице из дружественного рода и до конца своих дней давать старшему брату советы, которых тот всё равно не послушает, скакать в битве во вторых рядах и сидеть во время пира на правой половине стола, вместе с родичам своей жены. Он должен был пить вино, обнимать дам и фальшиво подпевать песням менестреля, поучать своих сыновей и вздыхать, глядя, как они играют с его племянниками, старший из которых получит то, чего никогда не получить ни его детям, ни ему самому… Он должен был любить свою жену и умереть в своей постели, прожив скучную, спокойную и долгую жизнь, если бы только не свернул себе шею, свалившись по пьяни с лошади.
Вместо этого он сидел теперь на шитом розами покрывале в паршивом борделе и смотрел на человека, который похитил единственного его родича, уцелевшего после набега, и говорил, что этот человек принадлежит ему. И в этом также было что-то безжалостно честное, в духе суровой справедливости Дирха-Меченосца, сына Молога. Том не верил в силу Дирха, но в Молога он верил.
— Это Энгус Линлойс, — сказал Анастас, протянув больную руку в сторону своего соратника; рука дрогнула от напряжения, но Анастас не опустил её. — Он начальник моей гвардии и один из немногих, кому я ещё доверяю. Энгус, это Томас Лурк. Я принял его меч. Так что верни его владельцу, будь любезен.
Энгус Линлойс вступил вперёд, угрюмо глянув на своего лорда, и с видимой неохотой протянул Тому его оружие. Потом стащил шляпу. Том встал и обменялся церемонным поклоном с человеком, который пять минут назад чуть не проткнул ему печень. Анастас пристально следил за ними. Выпрямляясь, Том понял, что официальное представление было сделано намеренно — Анастас хотел посмотреть, владеет ли он манерами, свойственными происхождению, которое себе приписывает.
Умный мальчик, бес его возьми. Растерянный, смертельно уставший, но умный и опасный мальчик.
И впервые Том подумал, до чего же он не похож на своего младшего брата Адриана.
— Рад знакомству, — процедил Линлойс.
— Энгус подозрителен, — сказал Анастас с былой беспечностью, в которой Том узнал мальчишку, тайком курившего трубку на заднем дворе. — Он говорит, что мы должны устраивать допрос с пристрастием каждой собаке, которой вздумается задрать лапу под нашими окнами.
— Милорд! — оскорблённо вспыхнул Линлойс, но тот продолжал прежним тоном:
— А я говорю, что таким манером мы вовек не соберём не то что три сотни — три десятка солдат. Можно, конечно, каждого волочь в Сотелсхейм и принуждать клясться в чистоте помыслов на Золотом алтаре Гилас, да только это выйдет ужасно долго, не находите?
— Милорд, — голос Линлойса звучал угрожающе. Этот человек был немногословен, но в богатстве интонаций ему отказать было нельзя.
Анастас посмотрел на него, и смысл этого обмена взглядами остался Тому неясен.
— Энгус говорит, что Индабиран спит и видит, как бы заполучить мою голову на блюде к обеду. С зелёным горошком, я полагаю, — спокойно сказал Анастас и перевёл взгляд на Тома. — А по мне, так похоже, что о нас все забыли. Что говорят нынче об Эвентри, Том? У меня некоторый недостаток собственных шпиков, так что, если и впрямь хочешь быть полезен, просвети меня, сделай милость.
Том подумал, не солгать ли, — и быстро решил продолжать придерживаться всё той же выгодной тактики полуправды.
— Мало говорят, милорд. Больше о войсках Одвеллов, что собираются с севера.
— Войска Одвеллов. Да, — Анастас задумчиво покивал, снова стискивая пальцы больной руки в кулак. — А больше ни о чём не говорят? О войсках Ролентри, к примеру? Не слыхал?
— Милорд! — почти закричал Линлойс, и по бледным губам лорда Эвентри впервые скользнуло нечто, напоминающее улыбку.
— Как он обо мне печётся, — заметил он, слегка кивнул Тому на своего взмокшего от волнения и гнева соратника. — Считает меня взбалмошным пустоголовым мальчишкой. Будь его воля, запер бы в подвале и к людям не пускал. Но не может. Я ведь теперь глава клана, это будет измена.
— Лорд Анастас, я… — начал было Линлойс, набирая воздуху в грудь для тирады, но Анастас коротко выставил в его сторону ладонь, и он умолк на полуслове.
— Том, ты давно в дороге? — посерьёзнев, спросил он.
— Около трёх недель.
— Откуда ехал?
— Из Гвэнтли.
— Не встречал по дороге войск лорда Ролентри? Может, слухи доходили, что они идут?
Том покачал головой. Анастас пристально посмотрел на него.
— Он может лгать, — выпалил Линлойс.
— Знаю, — сказал Анастас и вздохнул. — Паршивое положение, не находишь? Просто ужасное. Я не могу никому доверять, но если доверять не буду, так и умру среди этих шёлковых роз, — проговорил Анастас и задумчиво похлопал по покрывалу здоровой рукой. — Пожалуй, Индабиранам стоило повесить меня на крепостной стене моего родового замка. Это была бы менее гнусная смерть.
Том встретил его взгляд — и вновь поразился, увидев в его глазах смех. Беспечный и открытый смех дерзкого мальчишки, может быть, и впрямь пустоголового, но неудержимо располагающего к себе. Однако под личиной этого мальчишки скрывался мужчина, родившийся из преждевременной и очень сильной боли; этот мужчина знал, что такое риск, и знал, что на него придётся идти, — знал и шёл. И мальчишка в нём делал этот безрассудный поступок единственно правильным.
Анастас заметил взгляд Тома, но неверно истолковал. Ему все-таки было ещё очень мало лет.
— Что, ты несколько иначе всё это себе представлял, когда меня разыскивал? Ты знаешь, кому предлагаешь свой меч, Томас Лурк? — спросил он напрямик, и смех исчез из глаз, они снова стали воспалёнными и больными. — Мой отец умер в плену, мой старший брат, лэрд клана, убит. Сёстры насильно выданы замуж — одна за Тортозо, другая за Вайленте, оба — септы Одвеллов и мои враги. Моего младшего брата Бертрана сослали в монастырь Лутдаха, мать моя окончательно свихнулась и спряталась в монастыре Гвидре, будто там её никому не достать. — Его лицо скривилось, и Том понял, что это тоже было заготовленной речью, которую он повторяет очень часто, не давая себе забыть всю глубину своего позора. — Мои солдаты перерезаны, мои деревни сожжены, в моём замке сидит человек, род которого на восемь поколений младше моего. Я глава клана, о котором теперь даже в трактирах языками не чешут, потому как скучно. Я прячусь в городе самого трусливого, но по странному совпадению самого верного из моих септ, я живу в борделе и разговариваю с человеком, который может убить меня этой же ночью. Не в моём положении перебирать с харчами. Как тебе такой лорд, а, Том?
— Почему вы не попросите помощи? — спросил тот. Он и сам понимал незавидность положения юного лорда Эвентри, но в устах последнего всё это звучало особенно скверно.
— Я просил, — горько усмехнулся Анастас. — Думаешь, нет? Только и делал, что просил. Но Индабиран действовал быстро — всех моих септ запугал и подмял меньше чем за неделю. Мои люди — все, сколько их есть в этом городе, — это солдаты из гарнизонов, которым удалось бежать во время резни, когда Индабираны захватывали владения моих септ. Моё войско — дезертиры. Ещё одна славная деталь, верно? Хорошо вписывается в общую картину.
— Милорд… — тихо проговорил Линлойс.
— И даже эти дымчатые розочки тут вполне уместны… м-да… так о чём бишь я… О, Том, дружище. А армию Индабирана ты, часом, на дороге не встречал?
Том покачал головой.
— Странно. Слыхал, со дня на день подойдёт. Одвеллы выделили им ещё то ли семьсот, то ли восемьсот воинов, чтобы окончательно успокоить волнения. Мои крестьяне на западе подняли бунт, храни их Гилас. Немного потрепали Индабиранов… немного, да, — повторил он и, встав, принялся мерить шагами комнату. Больная правая рука судорожно и яростно стискивала здоровую. — Ещё, по слухам, на подступах мои новоявленные зятья Тортозо и Вайленте, и Логфорд, и Кадви. У страха, конечно, глаза велики, но если хотя бы десятая часть этой болтовни правда, мне уже теперь противостоит полуторатысячное войско, а я едва наскрёб по сусекам три десятка солдат, которые и теперь попрятались по щелям и дрожат, словно мыши!
— Лорд Анастас, я требую, чтобы вы… — решительно начал Линлойс, и Анастас круто развернулся к нему. Он сильно побледнел, его глаза горели, но голос был очень спокоен, так спокоен, что у Тома кровь застыла в жилах.
— Ты требовал, Энгус, чтобы я позволил тебе убить этого человека, едва узнал, что он болтает обо мне и моём брате в таверне. И если бы я удовлетворил ваше требование, мой лорд, то и теперь считал бы, что вы правы, и моя вера, что Адриан уцелел той ночью, — бред воспалённого воображения. Вы по-прежнему так считаете, сударь?
Том не знал, куда девать глаза. Даже не глядя на Линлойса, он чувствовал, что тот кипит от возмущения и стыда.
— Простите… милорд…
— Прощаю, — вздохнул тот. — Ты прости… мне что-то нехорошо, — он быстро провёл ладонью по лбу и тут же опустил руку. Кажется, опускать её ему было ещё больнее, чем поднимать.
— Вы ранены? — рискнул спросить Том.
Анастас рассеянно кивнул, повёл плечом.
— Попробовал сделать вылазку в один из первых дней… получил стрелу в плечо. После этого Линлойс и увёл меня… то есть я ушёл, — поправился он. Даже вину за отступление он не хотел делить ни с кем.
— Вам надо носить руку на перевязи.
— Носил. Две недели. Сколько можно? — раздраженно сказал Анастас. — Мне даже письмо лорду Ролентри пришлось диктовать, сам написать не мог. Что уж говорить, меч едва держу. Хотя теперь лучше уже… Лучше, — сурово повторил он, услышав хмурое бормотание Линлойса.
— А вы не пробовали обратиться к конунгу?
Анастас и Линлойс посмотрели на него одновременно, и Тому почудилось, будто он сболтнул какую-то несусветную глупость.
— Пробовал, — медленно ответил Анастас наконец. — А толку? Конунга куда больше беспокоят войска Одвеллов, скапливающиеся у северных границ моего фьева… моего, Молог подери, но это для Фосигана уже сугубо географические частности.
— Он что, даже не ответил вам?
— Отчего же. Ответил. Выразил соболезнования в связи с кончиной батюшки и всё такое прочее. Советовал крепиться и обещал отмщение. Очень туманно обещал. В обозримом будущем.
Он чеканил слова так, как чеканил бы их любой злой мальчишка, и так, как чеканил бы их мужчина, взбешённый и оскорблённый сверх всякой меры.
— Надежда у меня теперь только на лорда Ролентри. Но он пока не ответил. Индабираны перекрыли все подступы к Эвентри. Только на востоке сперва было относительно свободно из-за крестьянских волнений, и то я не знаю, сумел ли проскочить мой гонец. И даже если сумел, отзовётся ли лорд Ролентри…
— Отзовётся, милорд, не сомневайтесь в этом, — пылко заверил Линлойс. Том его энтузиазма не разделял. Вблизи дело Эвентри выглядело намного хуже, чем издали. Он впервые подумал, не совершил ли ошибку, придя сюда. Он думал, что Анастас поможет ему найти Адриана… но Анастасу было не до того.
И будто услышал его мысли, Анастас немедленно их опроверг.
— Мне не отбить сестёр, которые всё равно отданы замуж, Бертрана, отданного богам, и мой замок. Не вернуть разум матери и жизнь брату и отцу. Потому-то единственное, что я могу сделать сейчас, — это найти Адриана… Он теперь вся моя семья и… весь мой клан. Он — это я, — добавил Анастас Эвентри и замолчал.
А Том думал, отчаянно жалея, что не может сказать этого вслух: «Нет. Он — не ты. И как бы я хотел, чтобы было иначе».
Шумный топот в коридоре прервал сгустившуюся тяжкую тишину. Линлойс рванул из ножен меч, и Анастас положил ладонь на рукоять своего, но оба тут же отпустили оружие, когда услышали частый и замысловатый стук в дверь.
— Это Рон, — сказал Анастас. — Открой.
Линлойс отодвинул засов. В комнату, тяжело дыша, ввалился человек в грязном дорожном плаще. Том отстранённо подумал, как странно он должен был выглядеть, пробегая сюда через надушенный зал борделя.
— Милорд! — воскликнул человек, отбрасывая капюшон и падая на колени. — Я с дурными вестями, милорд, простите меня!
— Разве бывают другие вести? — с каменной улыбкой спросил Анастас. — Говори.
— Армия Индабирана сегодня днём подошла к замку Эвентри.
Да, Анастас Эвентри был уже куда больше мужчина, чем мальчик, но в нём всё же оставалось слишком много от мальчика, и все его чувства на несколько секунд отобразились на его лице. И за эти несколько секунд, увидев всё горе, всё отчаяние этого человека, до последнего тешившего себя надеждами на то, что помощь поспеет вовремя, и теперь оставшегося один на один со своей бедой, Том почувствовал глубокое сочувствие и симпатию к этому человеку. И они лишь укрепились, когда все эти чувства разом слетели с его лица, будто их стёрли начисто, и Анастас Эвентри спросил:
— Сколько их?
— Не менее шести сотен, милорд, как и говорили. Половина встала лагерем у замка, остальные двинутся по всем четырём дорогам. Они будут здесь самое большее через три дня.
Анастас шагнул вперёд. Положил руку — правую, больную, едва слушавшуюся — гонцу на плечо. Сказал:
— Поешь, вымойся и отдохни. Подробности расскажешь завтра.
И пошёл к двери.
— Милорд? Милорд, куда вы? — озадаченно позвал его Линлойс. И впрямь — будь его воля, запер бы своенравного мальчишку в подвале…
И был бы прав, мелькнуло у Тома, потому что он всё понял — настолько, насколько мог понимать этого человека, поговорив с ним четверть часа и посмотрев ему в глаза.
— Милорд! Проклятье… Стойте!
На лестнице снова гремели шаги — Анастас Эвентри бегом слетел по ступенькам, будто не слыша криков Линлойса, выскочившего вслед за ним. Том выбежал следом.
— Куда он?
— Да бес его знает! Щенок безумный, проклятье на мою голову! — вскричал Линлойс и кинулся вниз по лестнице следом за своим лордом.
Ноги сами понесли Тома за ними.
Они промчались через нижний зал и оказались на улице, тёмной и пустой. Молодые ноги лорда Анастаса давали ему фору, но лихорадка её отбирала, и Линлойс нагнал его прежде, чем парень успел завернуть за угол. В спешке Линлойс схватил своего лорда за больное плечо — и когда тот вскрикнул от боли, вздрогнул, так сильно, будто почувствовал эту боль сам. Руку, однако, не разжал, и по всему было похоже, что идея насчёт подвала в его мозгу крепнет час от часу.
— Я пойду туда, — сказал Анастас, глядя своему соратнику в лицо ярко и мучительно блестевшими глазами. — Сейчас.
— Вы совсем с ума сошли! Это самоубийство, вы ранены, у нас нет людей!
— Мне не нужны люди. Я всё сделаю сам.
— Что сделаете?!
— Всё. Всё, что смогу. Том, — он заметил наконец своего нового соратника и, лёгким движением положив ладонь на плечо Линлойсу, посмотрел на Тома со смесью нетерпения и мольбы. — Как хорошо, что ты здесь. Задержи его… пожалуйста.
Линлойс не ждал подвоха, поэтому когда здоровая рука Анастаса с силой толкнула его, покачнулся и отступил на шаг.
— Задержи его! — крикнул Анастас и, развернувшись, бросился во тьму. Рука Линлойса рванулась за ним и остановила бы, если бы между нею и плечом юного лорда Эвентри не взвилось со свистом лезвие меча.
Линлойс замер, потрясённо уставившись на человека, которого так упрямо хотел убить. Человек стоял между ним и его лордом, дразня его кончиком клинка. Все подозрения, терзавшие верного вояку, обрушились на него с новой силой, и он с отчаянным рёвом рванул из ножен собственное оружие.
— Предатель! — забывшись, на всю улицу заорал Линлойс. Звонко столкнулись мечи, и Том выпалил, тяжело дыша:
— Ты сам предатель! Прекрати! Отпусти его! Он знает, что делает.
Они стояли друг против друга ещё несколько мгновений, скрестив клинки и взгляды.
— Он знает, что делает, — повторил Том, едва слыша собственный голос, срывающийся и хриплый. — Верь ему. Просто верь ему.
Энгус Линлойс опустил меч.
Оба они развернулись и посмотрели туда, где исчез их лорд. Там было темно и тихо, только кряхтел где-то пьяница, вывалившийся из дверей трактира.
«Почему я сделал это?» — подумал человек, много лет называвший себя Томом, и растерянно покачал головой.
Просто верь ему, просто верь.
Впервые с тех пор, как он принял это имя, Том почувствовал себя способным просто верить тому, кто об этом просил.
Потом пришло утро, сырое и зябкое, и принесло оно с собой столько суеты и суматохи, сколько никогда ещё не видал городок Лакмор. Спозаранку к эрлу примчался гонец от лорда Индабирана, оповестивший о скором прибытии и расквартировании в городе отряда, которому настоятельно советовалось оказать всяческое радушие. Это известие немедленно проникло в город благодаря кухарке эрла, муж которой приходился братом трактирщику, и подняло страшный переполох. Кто-то в панике носился по улицам, кто-то шумно сетовал, кто-то настырно выпихивал из дверей своего дома малознакомых людей странного вида, а некоторые даже решили удрать из городка поскорее и, наскоро собрав пожитки, ринулись к околице…
Они-то и стали первыми, кто увидел бело-красное знамя Эвентри, реющее на вершине холма. И тот, кто дерзнул бы подняться на этот холм и встать под этим знаменем, увидел бы земли клана Эвентри — все земли, которые были у них отняты, но от того не перестали им принадлежать.
Дружный вопль раздался от подножия Лакморского холма и понёсся к городку. А там был подхвачен, сперва неуверенно, потом свирепо, и полился над равниной. И до тех пор, пока человек Индабирана не увидал из окон замка это знамя, не побелел и не затрясся, визгливо требуя у эрла немедленно убрать эту мерзость, каждый человек в округе стоял и смотрел на стяг Эвентри и думал о том, кто воздвиг его, призывая их под свою руку.
Анастас Эвентри был окончательно загнан в угол, потому он не собирался больше прятаться.
«Гилас, — думал Том, глядя на бело-красное знамя, трепетавшее на ветру, и думая о Том, Кто в Ответе за всё, — почему ты возложила это бремя не на него?»
И в тот же самый миг он услышал то, что могло бы быть ответом — если бы он не знал, что та, кто ему ответила, имела с Гилас общего не больше, чем он сам.
«Я знала, что сделаю это, Том».
Он содрогнулся от её голоса, который, как всегда, услышал не во сне и не наяву. Было утро, первое утро нового дня клана Эвентри, и в это утро Том стоял среди взволнованной толпы, согнувшись пополам и обхватив голову руками, и слушал мягкий, насмешливый и бесконечно нежный голос Алекзайн.
«Не бойся, мой дорогой. Ты знал, что делаешь, но я знаю тоже. Всё будет хорошо. Теперь всё будет так, как должно быть».
Том разжал руки и понял, что стоит на коленях в грязи. Никто на него не смотрел. У них было на что поглазеть и без него.
Том стоял на коленях и чувствовал, что задыхается — от боли, от ужаса, от облегчения, от разочарования, от всего сразу.
«Какая же ты дура, Алекзайн, — подумал он с сумасшедшей улыбкой — и добавил, зная, что она не услышит, потому что он, в отличие от неё, не умел влезать в её мозг и разрывать его изнутри: — Спасибо тебе, дорогая».
Теперь он знал, где искать Адриана.
Гилас, до чего же он глуп — он, а вовсе не она, — что не догадался раньше.
Том вновь посмотрел на знамя Эвентри. И мысленно попрощался с тем, кто воздвиг его на этом холме.
«Я уйду сейчас, милорд. Но я приведу его к вам. Приведу… обратно. О, простите. Прости меня, мальчик, во имя всех богов, за то, что я его от тебя забрал. Но я исправлю это. А потом исправишь ты… что сможешь», — подумал он и поднялся с колен.
4
«Miale kelu nostro ortedzhi karune, al’tazaro otro. Mielane kirpin, suleno ordan biene, letorgo, leturae it nardo. Kropastia mino ed spedra kal’nioza brusta…»
Хлопнуло окно. Адриан вскочил. Рамой прищемило занавесь, и она криво свисала с подоконника. В стекло барабанил дождь. Адриан подошёл к окну и дёрнул раму на себя. Занавесь скользнула вниз, задев его руку. Она уже успела намокнуть.
Он стоял какое-то время, позволяя дождю хлестать его по лицу. Потом закрыл окно.
И вернулся.
«Kropastia mino ed spedra kal’nioza brusta, riverrado al’dano, it orpio, it narue. Dra fiosa lienne rista, ed miale kkelu ariona dar Battiia Rosa…»
— Баттия Роса, — сказал Адриан вслух. Он не знал, как правильно ставить ударения, но звучало как будто знакомо. Даром что он не понимал ни слова — ни из того, что читал, ни из того, что говорил.
Что ничуть не меняло дела.
Он никогда не любил читать, но ему всегда нравились книги. Нравилось трогать их, разглядывать корешки — не картинки, выглядевшие порой так, будто их рисовал одержимый бесом, а именно корешки, грубые, пахнущие кожей, смолой и краской. Нравилось трогать бумагу, водить пальцами по буквам — иногда они казались тёплыми на ощупь. Читать он тоже пытался, конечно, но редко понимал написанное, даже если оно было на его родном языке. Местр Адук — жрец Гвидре, занимавшийся воспитанием детей лорда Эвентри, — уделял грамоте не слишком много внимания. Его больше заботило верное разумение сущности вещей телесных и духовных, и родители Адриана были вполне согласны с таким подходом. В самом деле, не книгочеев же и не монахов они готовили из своих сыновей. Ричард и Анастас ничего не знали и знать не хотели, Адриан хотел знать, но всё равно не знал, а Бертран… Бертрана не успели обучить грамоте, но в монастыре Лутдаха, где он заперт до конца своих дней, верные Одвеллам жрецы наверняка наверстают упущенное.
Адриан стиснул зубы и вновь перечёл весь абзац, с самого начала.
«Miale kelu nostro ortedzhi karune, al’tazaro otro. Mielane kirpin, suleno ordan biene, letorgo, leturae it nardo. Kropastia mino ed spedra kal’nioza brusta. Kropastia mino ed spedra kal’nioza brusta, riverrado al’dano, it orpio, it narue. Dra fiosa lienne rista, ed miale kkelu ariona dar Battiia Rosa».
— Что это за Баттия Роса, а? — пробормотал он, барабаня пальцами по странице, будто это могло вынудить строчки стать посговорчивее и пояснить излагаемую тарабарщину. — Что это? Где это?
Книга молчала. То есть нет, она говорила — но лишь так, как положено книге на незнакомом языке, и ничуть не более откровенно. Адриан не имел ни малейшего представления, что это за язык и существует ли ещё под небом народ, говорящий на нём. И женщина по имени Баттия Роса… или город с таким названием, где жил тот, кто это написал.
Адриан знал лишь одно: эта книга была о чёрной оспе.
— Миледи… кто был этот человек? Тот, кто пришёл к вам утром, когда я…
Шли дни, превращаясь в недели — и лишь тогда он осмелился наконец задать этот вопрос. Леди Алекзайн подняла на него свои безмятежные, ничего не выражающие глаза и ответила:
— Шарлатан откуда-то из города. Именовал себя лекарем. Почему ты спрашиваешь?
— Что ему было нужно от вас? — Адриан наглел на глазах, но Алекзайн всё ещё не гневалась, и это придавало ему уверенности.
— Он хотел купить у меня одну книгу. Я, разумеется, не согласилась.
— Но он был там… в доме… всю ночь, — сказал Адриан и густо покраснел.
Леди ответила ему мимолётной улыбкой.
— Я позволила ему почитать её. Дала одну ночь на это. Всё же знание существует для того, чтобы делиться им. Почему тебя это так интересует, Адриан?
На самом деле книга его вовсе не интересовала. Бегающий взгляд человека, бывшего рядом, когда Вилма прибежала с криками «Помер! Помер!», его усмешка, его холёные руки, которые он так берёг. Адриан думал об этом. Всё это иногда даже снилось ему. В снах этот человек входил в спальню леди Алекзайн и закрывал за собой дверь. И серебристый смех летел из-за неё, а дверь на глазах становилась фиолетовой, будто наливаясь дурной кровью, и из-под неё к ногам Адриана начинала течь тухлая, плохо пахнущая вода…
А на деле он всего-то просил, чтобы она продала ему книгу. Всего-навсего. Когда Адриан об этом узнал, ему перестали сниться дурные сны. Эти перестали, и начали другие.
Когда было солнечно, он ходил не в деревню, как велела Алекзайн, а по склону утёса вниз, к морю. Бежал так долго, как мог. Однажды прошагал весь день и уже затемно понял, что конца-края скалам не видно, и вода далеко внизу стала шуметь лишь чуть громче, чем прежде. И вернулся. Алекзайн ничего ему не сказала.
А когда был дождь, Адриан читал эту книгу.
Картинка в ней была всего одна, и это ему сразу понравилось. На обороте титульного листа, где ровно, без виньеток и украшательств было выведено: «Miale Allerum», изображалась больница или приют под открытым небом, где длинными рядами, корчась кто голышом, кто в драных тряпках, умирали люди. Было видно, что они умирают, — такие дикие, изогнутые позы может принять только человек в агонии. Фигуры в чёрном склонялись над ними, то ли тщетно пытаясь помочь, то ли намереваясь добить несчастных. А на переднем плане, будто в стороне от всего этого бледного ужаса, стоял, сгорбившись, человек, лицом и статью очень похожий на того, кто сам себя называл лекарем, хотя леди Алекзайн звала его шарлатаном. Стоял и глядел в сторону, в нижний левый угол картинки, видя там нечто, скрытое от глаз Адриана. Уголки его рта были опущены, брови были сведены, а глаза горели решимостью.
Как будто он знал, как всё это остановить.
Адриан захлопнул книгу — одновременно с новым раскатом грома. Похоже, дождь и впрямь зарядил надолго — лило с самого утра и ничуть не собиралось светлеть. Адриан оттолкнул от себя закрытую книгу, откинулся на спинку кресла и, сосредоточенно глядя на огонёк свечи, медленно и чётко сказал:
— Miale kelu nostro ortedzhi karune, al’tazaro otro. Mielane kirpin, suleno ordan biene, letorgo, leturae it nardo. Kropastia mino ed spedra kal’nioza brusta. Kropastia mino ed spedra kal’nioza brusta, riverrado al’dano, it orpio, it narue. Dra fiosa lienne rista, ed miale kkelu ariona dar Battiia Rosa.
И удовлетворённо вздохнул.
Первую страницу он уже знал наизусть.
Снова хлопнуло — но не окно на этот раз, которое Адриан прикрыл плотно, а дверь. И ему даже не надо было оборачиваться, чтобы знать, кто это.
— И когда ты уже выучишься стучать? — спросил Адриан, не поднимая головы и снова раскрывая «Miale Allerum».
— Госпожа зовёт тебя, — сказал Вилма очень тихо. Так тихо, что Адриан обернулся на неё в изумлении, почти уверенный, что ему почудилось…
И впрямь почудилось — откуда бы в голосе маленькой служанки взяться столько ледяной, едва сдерживаемой ярости?
Вилма стояла, низко опустив голову, и эта покорная поза была для неё чем-то новым. Вообще, они недурно ладили после памятного визита в деревню — Вилма больше не подзуживала его, а Адриан ей почти не огрызался, и помыкать старался поменьше, одёргивая себя, когда хотелось, по старой памяти. И тут — такое. С чего бы?
— Я тебя чем-то обидел? — бесхитростно спросил он.
Вилма вздрогнула, но головы не подняла. Только повторила:
— Госпожа зовёт тебя. Она у себя, — и, к вящему изумлению Адриана, стрелой вылетела из комнаты.
Помедлив, Адриан вышел. Пламя свечи потянулось за ним вслед.
Идя по коридору к опочивальне Алекзайн, он в который раз подумал о том, до чего тёмен и пуст этот дом. И в который раз озадачился, почему у леди так мало слуг. И в который раз решил, что это не его дело. И в который раз задал себе вопрос, как долго он ещё собирается здесь оставаться…
И в который раз не смог ответить.
Она не гнала его. Но и не предлагала остаться. Разговоров про мор и его предназначение больше не заводила, чему Адриан был несказанно рад. Он вообще редко её видел. Она почти не выходила из дома и из своей спальни, лишь изредка Адриан видел её в гостином зале внизу, у камина, с книгой или шитьём. Шила она сорочку из синего шёлка, одну и ту же, и книгу читала одну и ту же, всегда на одной и той же странице. Адриан теперь знал, что это «Вечное Слово Гилас», Песнь об изгнании Яноны. Адриан когда-то знал эту песнь наизусть, хотя любимая дочь Молога пугала его, пожалуй, больше остальных тёмных богов.
Осмелев, он как-то спросил Алекзайн, неужели ей так нравится эта Песнь, что она читает её снова и снова. Та лишь улыбнулась в ответ, как делала очень часто, и он не стал повторять вопрос. Он вообще чувствовал нутром, что задавать ей слишком много вопросов опасно — хотя это и был нелепый страх, ведь она вовсе не желала ему зла. Иногда Адриану казалось, что, если бы он остался с ней навсегда, она так и улыбалась бы ему уголками губ, положив пальцы на страницу с Песнью об изгнании Яноны, и что, когда бы он умер рядом с ней от старости, она, ничуть не изменившаяся, сидела бы всё так же и через сто, и через тысячу лет.
Он подумал об этом снова, занеся руку над ручкой двери в её спальню. Рука повисла в воздухе, медленно сжалась в кулак. Сглотнув от неясного, но мучительно тревожного предчувствия, Адриан негромко постучал.
С другой стороны двери не раздалось ни звука.
— Миледи? — он постучал снова. — Миледи, вы здесь?
Она не отвечала. Он собрался с духом и толкнул дверь.
И вспомнил отчего-то Вилму — низко опустившую голову Вилму, Вилму, не смотревшую ему в глаза, — когда дверь открылась.
Спальня была пуста. Кровать застелена. Свет не горел. Дождь хлестал в раскрытое окно.
— Миледи?..
Он услышал то, что сперва принял за шум дождя — и через мгновение понял, что это плеск воды в купальне, находившейся за небольшой дверью в южной стене. Дверь была приоткрыта.
С побелевшими, пересохшими губами и застывшим лицом Адриан переступил порог.
Она сидела в воде и смотрела на него снизу вверх. Распущенные волосы плавали по поверхности воды, поблескивавшей в пламени свечей. За окном вновь громыхнуло, вспышка молнии осветила купальню — и лицо Алекзайн, обращённое к Адриану.
— Подойди.
Он подошёл на негнущихся ногах, ничего не видя, кроме её покатых белых плеч, блестевших на свету, и холмиков грудей, вздымавшихся над водой. Адриан почувствовал, что ногам стало мокро, и только тогда понял, что стоит на самом краю круглого бассейна. Алекзайн шевельнулась, выпрямляя ноги в воде. К мраморным краям бассейна пошла рябь.
— Я хочу поговорить с тобой.
Волосы вились в мутной воде, словно чёрные и красные змеи. Тонкая, как ветка, рука скользнула под водой, пряди зашевелились, обвивая пальцы.
— Когда ты собираешься отправиться, Адриан?
— Отправиться? — еле выговорил он.
— Да. Время идёт. И мор не станет ждать. Когда ты отправишься?
— Куда? — совершенно не соображая, о чём она говорит, хрипло спросил Адриан.
— В Сотелсхейм, — ответила леди Алекзайн и стремительно перевернулась в воде, хлестнув руками и волосами по её дрожащей глади. Тёплая волна обдала ноги Адриана до колен. Алекзайн медленно приняла прежнюю позу и легла на спину. Несколько мгновений Адриан видел маленькие пальчики на её ногах и тёмные соски, прежде чем они ушли под воду.
— В Сотелсхейм, — повторила Алекзайн, и он заставил себя перевести взгляд на её лицо, такое же серьёзное и спокойное, как и тогда, когда она сидела у окна, придерживая рукой раскрытую книгу. — Я понимаю, как тебе страшно. Я понимаю, ты не знаешь, с чего начать. Ты боишься. И это верно. Ты будешь бояться, пока не сделаешь, и пока не увидишь последствий того, что сделал. А потом страх уйдёт.
«Когда я вижу последствия, я боюсь ещё больше!» — крикнул бы он, если бы её кожа не золотилась в свете свечей, если бы отблески молнии не отражались в её зрачках, если бы вода не пахла так, словно в ней совершила омовение сама Гилас.
Не понимая и не помня, что она спросила и что нужно ответить, Адриан сказал:
— Да, миледи.
— Когда ты отправишься в Сотелсхейм, Адриан?
— Завтра… Сейчас. Когда вы прикажете.
Лёгкий смех, смешанный с плеском воды. Она перевернулась на живот и поплыла к нему, раздвигая воду сильными широкими гребками. Вода дрожала, свет преломлялся сквозь рябь и посылал цветные переливы по её обнажённой коже. Белая рука ухватилась за мраморный бортик бассейна. Сильным всплеском залило ближайшие свечи.
— Я рада, что ты решился, — мягко сказала Алекзайн. Её подбородок и правая рука лежали на скользком от воды мраморе у ног Адриана. Ему вдруг отчаянно захотелось сбросить обувь — до такой степени, что он ощутил нестерпимый зуд в ступнях, будто не мыл их целый год или страдал от лишая. Он нервно перебрал ногами, словно взволнованный жеребец. Алекзайн смотрела на него без улыбки.
— Не бойся. Я не оставлю тебя, — сказала его леди и одним медленным, бесконечно долгим движением выпрямилась, открыв ему своё тело, с которого потоком низвергалась золотая вода. Потом протянула руку ладонью вверх, и Адриан смотрел, и смотрел, и смотрел на её пальцы, ладонь, предплечье, сгиб локтя, ключицу, впадинку между ключицами, впадинку между грудями, груди, живот, впадинку на животе, треугольник тёмных зарослей ниже впадинки…
Он думал, что умрёт, он думал, что уже умер. И умер. И понял это, только когда жаркая волна опрокинула и спалила его лицо, а в штанах стало мокро.
— Дай мне полотенце, — сказала его леди.
Адриан шагнул назад, поскользнулся и едва не упал. Не глядя нащупал мягкую ткань, ткнул её в протянутую ладонь и ринулся прочь из купальни, на пороге снова поскользнувшись и больно приложившись плечом о каменную стену. Он не оглядывался. Он был мёртв. Мёртвые не смотрят по сторонам.
С грохотом захлопнув за собой дверь, он оказался в спальне и секунду стоял, шатаясь и вцепившись зубами в кулак. Блаженная нега разливалась по животу с той же силой, что и краска по лицу, и влага — по бёдрам. Ему хотелось плакать от стыда, отчаяния и вожделения, такого сильного, такого бурного, какого он не испытывал ни разу в жизни, даже когда подглядывал за дворовыми девушками в бане… От этого сравнения, так гнусно осквернявшего её чистую красоту, ему немедленно захотелось убить себя. Он глухо застонал, сжимая зубы крепче, и, глотнув, ощутил на языке привкус крови. С хриплым вздохом Адриан выпустил кулак изо рта и кинулся к дверям. Она сейчас оденется и выйдет. Он не мог видеть её. Он не имел права видеть её.
Он толкнул дверь, задыхаясь, шагнул на порог, сделал несколько заплетающихся шагов, потом опрометью кинулся по коридору. У самой лестницы остановился, тяжело дыша, — и увидел худую фигурку на верхних ступеньках, прямо перед собой. И почувствовал руки. Маленькие, но грубые, торопливые, но решительные, неловкие, но такие нежные — эти руки схватили его плечи, потом лицо, потом вплелись в волосы и уже не захотели отпускать. И от хриплого, срывающегося дыхания на своей коже Адриан чувствовал, как огонь и отчаяние нахлынули на него снова — однако теперь он, кажется, знал, что с ними делать. С ней — он знал.
Он сразу и без труда нашёл губами её крупный, некрасивый рот с мелкими зубками и жадным языком. Он впервые в жизни целовал женщину, впервые в жизни держал в ладонях упругое горячее тело. Впервые в жизни брал не то, чего жаждал, а то, что ему предложили взамен.
Впервые — но далеко не в последний раз.
Когда она обхватила его за пояс и потащила по коридору, он не стал спорить. Он даже не перестал её целовать. Только на пороге своей спальни подхватил на руки и, ногой распахнув дверь, внёс свою добычу и бросил на постель. Она разорвала на себе лиф прежде, чем он успел сделать это сам. Гром гремел над утёсом, выл ветер, швыряя на скалы чёрную воду, молния озаряла почерневшее небо синими сполохами, и в этих сполохах разные глаза Вилмы вспыхивали и гасли, прежде чем Адриан успевал в них заглянуть.
Он просыпался за ночь дважды. В первый раз она ещё лежала рядом с ним, забросив руку ему на грудь. Адриан сонно поцеловал её во взъерошенную макушку и инстинктивно прижался крепче. Даже в дрёме он чувствовал крепкий, сочный запах пота Вилмы и исходящее от неё тепло.
Когда он открыл глаза в следующий раз, его рука лежала поверх простыни, обнимая пустоту. Давно рассвело, после вчерашнего ненастья наступило ясное и солнечное утро. Окно было раскрыто, и большая белая птица сидела на подоконнике, внимательно глядя на Адриана круглым глупым глазом. Встретив его взгляд, птица издала гортанный крик и сорвалась в небо.
Адриан моргнул. Потом снова. Потом медленно подтянул к себе руку, сгребая покрывало, ещё казавшееся тёплым. И почти непроизвольно ткнулся носом в пахучие складки.
Именно в этот миг он проснулся окончательно.
Подскочив, будто на иглах, Адриан резко сел и оглядел своё обнажённое тело и постель. И то и другое носило явственные следы того, что прошлая ночь ему не приснилась и не привиделась. Перед мысленным взглядом Адриана мелькнули губы Вилмы, приоткрытые в беззвучном стоне, её полные, по-взрослому налитые груди — и, немедленно за этим, груди Алекзайн с тёмными вишнями сосков, блестящие от воды…
Адриан сгорбился и закрыл лицо руками. Его била дрожь.
«О Милосердный Гвидре, — думал он. — Вот так вот. Моя первая женщина».
Вспомнив то, что любой порядочный и благородный человек забывать не имеет права, Адриан снова вскинулся и стал торопливо перетряхивать простыни и покрывала. Однако как ни тщился, нигде не нашёл ничего, напоминающего пятна крови.
«А вот я у неё, судя по всему, не первый», — мрачно подумал он. Потом встал и без особой надежды заглянул в бадью для умывания. К его немалому удивлению, она оказалась полна. Вода была ещё тёплой.
«Она принесла воду, пока я спал», — подумал Адриан и ощутил что-то, совершенно ему незнакомое. Это не было благодарностью, не было страстью, — но в то же время было всем сразу и ещё чем-то бульшим.
— Не надо было, — пробормотал он, забираясь в бадью.
Наскоро вымывшись, Адриан оделся, придирчиво осмотрел своё отражение в медном зеркале, висевшем на стене, несколько раз провёл рукой по волосам, пытаясь придать им вид поприличнее, и пружинистой походкой вышел из комнаты. Где-то на середине коридора принялся насвистывать — настроение у него улучшалось с каждым шагом.
«Интересно, где она сейчас может быть? — размышлял он, спускаясь — вернее, вполне по-мальчишески сбегая — по лестнице. — На кухне, небось… только бы в деревню с поручениями не услали». Мысль, что он может не увидеть её несколько часов, неожиданно сделалась дьявольски неприятной.
На кухне не было ни Вилмы, ни Гилберта — но над огнём покачивался котёл, в котором весьма аппетитно пыхтело и булькало. Сглотнув слюну, Адриан прошёл через кухню на задний двор, намереваясь либо разыскать Вилму там, либо найти того, кто скажет ему, где она. Даже если и в деревне — что ж, он вполне может сбегать в деревню и встретить её на обратном пути…
Ещё не выйдя из кухни, Адриан услышал мерный протяжный свист — Гилберт всё-таки возился с чем-то во дворе. Дверь кухни была приоткрыта. Адриан толкнул её и шагнул во двор.
— Гилберт, а где…
Слова замерли вместе с ногой, занесённой над порогом.
Вилма стояла у конюшни, низко опустив голову между руками, заведёнными над головой и привязанными вожжами к столбу ближайшего загона. Сорочка на ней была разорвана до пояса, и плеть в руке Гилберта хладнокровно и размеренно охаживала её по обнажённой спине. Адриан тупо смотрел на эту спину, вспоминая, как покрывал её поцелуями, мелкими и быстрыми, словно прикосновения бабочки. Теперь там, где совсем недавно прикасались его губы, алели глубокие царапины, из которых обильно сочилась кровь. Гилберт стоял, уперев ноги в землю, неподвижный, как стена, и лишь его правая рука ловко и стремительно двигалась туда-сюда, с каждым ударом всё больше расцвечивая чудовищный узор на спине первой женщины Адриана.
А он стоял и смотрел на это. Стоял и смотрел.
— Не сметь!!!
Он понял, что это его голос, только когда сорвался на петушиный крик. Гилберт чуть повернул голову, приостановился на миг. Не тратя больше бесполезных слов, Адриан кинулся вперёд и повис на его предплечье, силясь вырвать плеть из сжатого кулака. Гилберт был здоровым и крепко сбитым мужиком, одного его тычка было бы довольно, чтобы Адриан пролетел через весь двор и шмякнулся об ограду. Но он ничего не сделал, лишь стоял, глядя сверху вниз на мальчишку, в бессильной злобе пинавшего его по ляжкам.
— Пусти её! Мразь! Пошёл вон! Сейчас же!
— Приказ миледи, — коротко изрёк гигант наконец. Адриан, ничего не слыша и не видя от ярости, ещё несколько раз отчаянно, хотя и бессмысленно пнул его… и замер.
В наступившей тишине сдавленно всхлипнула Вилма.
— Что… что ты сказал?
— Он сказал, что выполняет мой приказ. И это действительно так.
Она была здесь.
Прекрасная, как рассвет, далёкая и недостижимая, как море под обрывом, непоколебимая, как скала над этим морем, в платье цвета морской волны, с рукавами белыми, как крылья птицы, чей взгляд Адриан встретил этим утром, Алекзайн стояла у ворот, теребя серебряный поясок, и смотрела на него. Он едва ли не впервые видел её при таком ярком свете, и видел теперь, что солнце придаёт чёрной половине её волос синеватый, а рыжей — красноватый отлив. А меж синим и красным ярко и ясно сияли фиолетовые очи, чистые, бездонные…
Одержимые.
Адриан подумал про её грудь. Про тёмные пятнышки сосков. И треугольник тёмных волос там… там, где у Вилмы было так…
Он с силой оттолкнул Гилберта — даже не заметив, что кучер покорно отступил в сторону, — и шагнул вперёд, не сознавая, что сжимает кулаки.
— За что? — хрипло спросил он. — За что?
— Она провинилась, — сказала леди Алекзайн голосом звонким и чистым, как капель. — В чём дело, Адриан Эвентри? Неужто в доме твоего отца никогда не наказывали провинившихся слуг?
Он промолчал, продолжая сверлить её взглядом. Она чуть-чуть улыбнулась и шевельнула пальцами, пропуская сквозь них поясок. Серебряные звенья тонко и мелодично зазвенели.
— К тому же отчего ты здесь? Ты должен собираться в дорогу.
— В дорогу, — эхом повторил Адриан.
Она кивнула, не отпуская его взгляда.
— Конечно. Завтра ты отправляешься в Сотелсхейм. Неужто ты уже забыл, что обещал мне вчера?
Вчера… о, нет. Он не забыл. Он никогда не забудет это вчера.
Золотистая рябь на белоснежной плоти, чёрные и красные змеи, сплетающиеся в воде…
…его пальцы и пальцы Вилмы, сплетающиеся во мраке.
— Отпустите её.
— Что ж, пусть, раз ты просишь, — сказала леди Алекзайн равнодушно. — Она уже довольно наказана. Гилберт, можешь отвязать её.
Гилберт шагнул вперёд, но Адриан остановил его уничтожающим взглядом и кинулся к обвисшей на путах девушке. Вожжи были затянуты туго, и Адриану пришлось приложить немалые усилия, чтобы растянуть узел, но он справился. Тело Вилмы осело ему на руки. Он подхватил её, размазывая кровь по своей сорочке, и Вилма вздрогнула и застонала, мотая головой. Адриан перехватил её пониже, стараясь не касаться ран, поднял на руки. Её кожа горела, как прошлой ночью, но сама Вилма отчего-то казалась намного более тяжёлой, чем когда он вносил её в свою спальню…
Он снова внёс её в свою спальню, но на сей раз бережно уложил на кровати животом вниз. Откинул с её спины длинные спутанные волосы и с болью посмотрел на иссечённую спину. Вилма застонала снова и ткнулась лицом в подушку. Адриан заозирался в поисках чистой ткани, потом отодрал длинный лоскут от простыни, на которой четверть часа назад тщетно выискивал кровь Вилмы. Теперь на нём было довольно её крови. Смочив ткань в воде, Адриан неумело, но как мог аккуратно и старательно промыл раны на её спине. Она ворочалась, стонала и вздрагивала, а он закусывал губу, изо всех сил сдерживая глупые и злые слёзы, так и норовившие навернуться на глаза. Он не понимал. Совсем ничего уже не понимал. Он был зол, и ему было страшно.
Вилма что-то сказала, и Адриан вскинулся:
— Что?
— Там у меня… — искусанные губы слушались плохо, но она закончила фразу: — Там в моей каморке сундучок деревянный… на полке… увидишь… там мазь есть. Возьми…
— Да! Да, конечно, только ты лежи! — выпалил Адриан и бегом ринулся вниз.
Он не знал, где находится каморка служанки, и принялся просто распахивать все двери подряд. В конце концов нашёл — в том, что по размеру могло быть скорее кладовкой, стояла узкая лежанка, над которой была прибита полка, где и находился означенный сундучок. Чтоб добраться до него, Адриан встал на лежанку с ногами, и она жалобно заскрипела под его весом — так же, как прошлой ночью скрипела кровать, когда он рвался вперёд, дальше и выше, и её колени стискивали его бёдра, толкая вперёд, торопя, снова и снова…
«Кого она толкала на этой лежанке до меня? — подумал Адриан. — Кого? Гилберта? Того приветливого мужика из деревни? Или, может, всех приветливых мужиков из деревни?»
…Белое тело в золотистой воде, неприступное и прекрасное, как скала, манящее и опасное, как обрыв, недоступное никому… тот лекарь, шарлатан, всего лишь читал книгу…
Такая чистая, бесконечно чистая, бесхитростная до того, что кажется бесстыжей, а на деле — слишком невинная, чтобы стыдиться своей наготы и скрывать свою красоту. Жестокая и равнодушная в том, что касается мелочей, созданная для большего, созданная для высшего… «Для меня, — подумал Адриан и зажмурился до боли в глазах. — Для меня. Если я остановлю чёрную оспу».
Его пальцы вслепую нащупали банку с мазью.
Он вернулся в спальню. Вилма лежала в той же позе, в которой он её оставил. Кровь снова проступила из раны. Адриан опять промыл их, а потом осторожно нанёс мазь — почти точно теми же движениями, что гладил вчера её кожу. И Вилма вздрагивала под его руками, как и вчера.
— Тебе очень больно? — спросил Адриан после долго молчания.
Она повернула голову так, что он мог видеть краешек её лица под спутанными волосами, и слабо улыбнулась — как ему показалось, с горечью и злостью.
— Не очень.
— Что ты сделала? — запальчиво спросил Адриан, вспоминая, что она служанка, что она пришла вчера за ним, пока её госпожа в купальне, что она поджидала его потом на лестнице, что пружины на её лежанке скрипят и стонут… — Ну, что натворила? Украла что-нибудь? Потеряла овцу? Нагрубила миледи? Ну, что?
Вилма прерывисто вздохнула и повернулась к нему.
— Адриан, — тихо проговорила она, впервые назвав его по имени. — Ты же знаешь. Ты же знаешь, что.
И снова перевернулась на живот, спрятав от него лицо.
Адриан сидел рядом с Вилмой на постели, пока её дыхание не стало тихим и ровным. Потом осторожно, стараясь не разбудить, прикрыл её ноги покрывалом, и только тогда стянул с себя сорочку, вымазанную в её крови. Долго смотрел на полотно, теребя его в руках. Потом бросил на пол.
Леди Алекзайн велела ему собираться в дорогу, и было сложно понять, то ли она смеётся над ним, то ли имеет в виду нечто, его скудному уму недоступное. Что собирать-то? У него не было даже рубашки на смену. От окна тянуло морским бризом, и Адриан поёжился, обхватив голые плечи руками. Шла осень, не лучшее время, чтобы бродить полуголым.
«Ничего у меня нет, — подумал он. — Совсем ничего».
Поколебавшись, он поднял с пола грязную рубашку и понёс её к бадье. Кровь с ткани сходила неохотно, оставляя потёки и пятна. К счастью, месяц под присмотром Тома научил Адриана азам бытового самообслуживания. Оттерев пятна, он выжал сорочку и, закинув её на плечо, вышел из комнаты — надо было найти чистую воду, чтобы прополоскать.
Он боялся, что Гилберт или сама леди встретятся ему по дороге, поэтому прошмыгнул коридором как можно быстрее и тише. На заднем дворе уже было пусто, только лошадь леди Алекзайн всхрапывала в конюшне. Адриан с сомнением глянул в большой чан у стены, где держали воду на ежедневные нужды — сейчас чан был почти пуст, только на самом дне поблескивали остатки воды. Наполнять его входило в обязанности Вилмы, но сегодня утром она не успела выполнить эту обязанность.
«Что ж, — подумал Адриан, — я в ответе за то, что с ней случилось. Стало быть, это моя работа».
Он подцепил стоящие у бадьи деревянные вёдра и вышел за ворота. Ясное утро понемногу переходило в далеко не столь ясный день — ветер с моря крепчал, пригоняя с востока пока ещё размытые, но многочисленные серые облака, понемногу затягивавшие небо.
Ручей был ниже по склону, он вился вдоль дороги в деревню, беря начало в скалах, и убегал вниз, в долину. Адриан отошёл от дома на утёсе дальше, чем требовалось — так, что здание из красного кирпича стало совсем маленьким, а гул волн, разбивающихся о скалы внизу, совсем стих. Присев на корточки меж прибрежных камней, Адриан снял с плеча рубаху и опустил её в прозрачную воду. Течение дёрнуло ткань и потащило её за собой, вспенившись розовыми пузырями. Адриан прополоскал рубаху, выкрутил и снова закинул на плечо. Всё его тело горело, и мокрая чистая ткань приятно холодила кожу. Зачерпнув воду обоими вёдрами, Адриан выпрямился и развернулся к дому над обрывом.
На тропинке, между домом Алекзайн и Адрианом, стоял человек.
— Здравствуй, — сказал он.
На долю секунды Адриан испытал почти непреодолимое желание швырнуть вёдра наземь и стремглав удрать — в деревню, в горы, всё равно куда. Но он пересилил себя и ответил, к его чести, почти спокойно:
— Что тебе надо?
— Поговорить.
— И только? — не удержавшись, съязвил Адриан.
— Да, — с не свойственной ему мягкостью ответил Том. — Просто поговорить.
Он изменился, и довольно сильно. Адриан не сразу сообразил, в чём именно, — а когда понял, удивился, до чего людей преображает одежда. Том отказался от крестьянского рубища, в котором щеголял у себя дома, и вырядился как вполне пристойный и даже обеспеченный путешественник: в стёганую куртку с высоким воротом, облегающие кожаные брюки и сапоги с широкими отворотами. Одежда была не броской, но добротной и хорошо сшитой. «Любопытно, кого это он раздел на большой дороге», — подумал Адриан с неприязнью. Но факт оставался фактом — приодевшись, Том вполне походил на купца или даже знатного лорда, путешествующего инкогнито и без привлекающей внимание помпы. За собой он, впрочем, по-прежнему не очень следил — сапоги были заляпаны грязью, а зачёсанные назад волосы лежали кое-как, спадая на лицо от малейшего порыва ветра.
И всё же Адриану казалось, что теперь этот человек выглядит так, как должен выглядеть. Всё, что Адриан видел прежде, было маскарадом — и маскарадом были бы любые яркие и торжественные одежды, вздумай Том их на себя нацепить, даже если они полагались ему по рангу. И кто знает — может, именно оттого, что сейчас этот странный человек выглядел, казалось, самим собой, Адриан не почувствовал при виде его того страха и гнева, которые должен был ощутить.
Радости, впрочем, не почувствовал тоже.
— Ты, я вижу, окреп, — сказал Том насмешливо. — Рад, что хоть часть моей науки не прошла даром.
Адриан осознал, что по-прежнему стоит, держа на весу полные воды вёдра. Невольно смутился, поняв, что выглядит довольно глупо, и поставил их на землю. Улыбка Тома стала шире, и Адриан только теперь понял, что этим жестом выразил согласие поддержать разговор, за которым явился Том. И от этой мысли разозлился по-настоящему.
— Мне не о чем с тобой говорить, — выпалил он, понимая, что это заявление опоздало, что от этого он выглядит ещё глупее, злясь на себя и всё равно не в силах говорить иначе.
Улыбка Тома не исчезла — напротив, казалось, он вот-вот расхохочется Адриану в лицо. Адриан стиснул кулак. Какого беса! Обстоятельства переменились, он больше не пленник этого сумасшедшего. И он действительно окреп — как знать, может, теперь и сумеет постоять за себя.
— Охотно верю, — сказал Том наконец, когда Адриан уже готов был разразиться проклятиями в его адрес. — Но мне есть о чём поговорить с тобой. И я советую тебе выслушать…
— Или что? — бросил Адриан. — Снова по морде мне надаёшь? Ну, давай! Попробуй!
Лицо Тома наконец померкло. Впрочем, не от растерянности или недовольства. Просто он, казалось, посерьёзнел, и странные весёлые огоньки исчезли из его глаз.
— Я пришёл к тебе от твоего брата.
Кулак Адриана, дрогнув, разжался.
— От… Анастаса?!
— Да.
— Так он жив! Я знал, что он жив!
— Он сказал то же самое, услышав о тебе. Ну так что, тебе всё ещё не о чем со мной говорить?
Адриан медленно покачал головой.
— Я слушаю тебя.
— Большое спасибо за одолжение, — насмешливо отозвался Том. — Как ты понимаешь, я видел его и говорил с ним. Он в достаточно хреновом положении. Хуже не бывает, я бы сказал.
— Он цел? Не ранен?
— Был ранен, но не опасно. И это не самая большая из нынешних его тревог. Твой клан в беде, мальчик. В очень большой беде. Вы двое — все, кто остались.
Том смолк, будто предлагая Адриану закончить его мысль. Но Адриан молчал. Они по-прежнему стояли на расстоянии друг от друга, разделённые дюжиной шагов. Том стоял, скрестив руки на груди, и не пытался двинуться с места. Просто глядел на Адриана, без упрёка, без вызова… почти так же, как Алекзайн.
И совсем не так, как она.
— Чего ты от меня хочешь… Том? — проговорил Адриан наконец, понимая, что от него ждут хоть какой-то реакции.
— Разве не понятно? Я хочу проводить тебя к твоему брату. Если ты согласишься.
Последнее замечание вырвало у Адриана нервный смешок.
— Вот как! Если я соглашусь? Что, ты решился сменить тактику?
— Похоже на то, — кивнул Том спокойно. — Большой искус, конечно, просто натянуть тебе мешок на голову, но, боюсь, это не принесёт должного результата. Ты упрям, как бес, и всё равно сбежишь.
— Конечно, сбегу, — с вызовом сказал Адриан.
Том слегка улыбнулся.
— Но дело даже не в этом. Я… был не прав.
— Да неужто?! И пришёл за моим прощением? Сколь благородно с твоей стороны!
— О прощении я ничего не говорил. Я был не прав в том, что разлучил тебя с Анастасом. Ты нужен ему… и он ещё больше нужен тебе.
— Снова ты будешь решать, что мне нужно? — ощерился Адриан.
— А что, в данном случае ты со мной не согласен?
Адриан открыл рот и закрыл. Лишний раз он убеждался, что спорить с этим человеком невозможно. От него можно только удирать сломя голову…
Или делать так, как он говорит.
— Адриан, — сказал Том тихо, — я же не ставлю тебе ультиматум. Я просто предлагаю тебе пойти со мной. Решить. Сделать выбор. И держать ответ за него.
Он никогда прежде с ним так не говорил. Адриан заколебался на мгновение — а потом вспомнил, кто он, где он, кому он уже отдал своё слово. И когда он ответил, в его голосе больше не было злости и вызова — лишь неуверенность и смятение.
— Я… не могу. Я… уже обещал… сделать кое-что.
Том смотрел на него.
— Я не могу сейчас уйти, — после долгого молчания сказал Адриан.
И поднял голову, глядя на человека, который — если, конечно, верить ему — пришёл с тем, о чём до недавнего времени Адриан мечтал больше всего на свете. Вернуться домой… снова увидеть Анастаса, кинуться к нему, попросить прощения за то, что запер тогда калитку. И быть рядом с ним. И не бояться, не терзаться мучительными раздумьям о том, что делать дальше — просто поступать, как велит тот, кого любишь и кому веришь…
А что же Алекзайн? Разве он не любил её, не верил ей?
…стон Вилмы, кровь — не та, неправильная кровь на простыне, — блеск воды на белой коже, чёрные и красные пряди, сплетающиеся на ветру…
Он любил её и верил ей, но что-то тут было не так.
Молог подери, что? Что тут могло быть не так, если самое дивное существо в мире, богиня, ангелица просила его спасти мир ради неё? Что тут, к мологовым пащенкам, могло быть не так?!
— Вижу, она уже как следует тебя обработала.
Адриан вскинулся, с изумлением поняв, что забыл, где и с кем находится. Том глядел на него в упор, сведя брови к переносице, и даже тень насмешки исчезла из его глаз.
— Что? Обработала?.. Кто? О чём ты говоришь?
— Думается мне, ты прекрасно знаешь, о чём я говорю, — мрачно сказал Том и коротко кивнул на красный дом, видневшийся выше по тропе за его спиной. Адриан снова сжал кулаки. Да как он смеет так о ней…
…кровь Вилмы. Его первой женщины. У которой он был далеко не первым, но всё равно ему пришлось сегодня смывать со своей одежды её кровь. Потому что она…
— Адриан, я сказал, что тебе надо выбрать. И я не шутил. Не давил на тебя. Я сказал то, что ты сам знаешь. Потому что, — на долю мгновения Том почти улыбнулся, — ты вроде бы действительно не дурак… не полный дурак, хочется верить. Ты просто сам не знаешь, чего хочешь. И я больше не могу тебя силовать. И помочь тоже не могу, пусть бы и хотел. Просто знай, что твой клан, твоя семья, твой брат нуждаются в тебе. И, хотя тебя наверняка не особо интересует моё мнение, ты должен сам понимать, что вряд ли человек, способный забыть и предать своих близких, может спасти мир.
Адриан выпрямился, собираясь обрушить на этого наглого типа отповедь, достойную высказанной им тирады… и понял, что не хочет этого делать. Может быть, должен — точно должен, ради леди Алекзайн, ради всего, в чём поклялся ей, — разве не велела она ему забыть Тома и все его лживые речи?!
Но только речи Тома совсем не казались лживыми. Нет… не ври себе, Адриан… Не просто не казались. Не были. Он говорил правду. То, что сказал бы Адриану на его месте Анастас. А может, и сказал — ведь разве не был Том его гонцом?..
Адриан подумал о Вилме и крепко зажмурился. Сердце гулко и тяжело билось в его горле. Мокрая рубаха на плече была леденяще холодной.
— Я… должен… — он сглотнул и продолжил, не открывая глаз: — Я должен хотя бы предупредить её… миледи… что не могу сейчас…
— Нет! — голос Тома был, словно удар бича. — Нет. Если ты увидишь её сейчас, то не сможешь уйти. Если ты решился, Адриан, уходить надо немедленно. Тебе надо сделать выбор. И… скажу тебе откровенно, я не знаю, что от него зависит.
Адриан помотал головой, по-прежнему не открывая глаз. Уйти сейчас… не попрощавшись с ней, не обняв в последний раз её колени, не попытавшись объяснить…
Не увидеть Вилму. Может быть, никогда больше не увидеть.
Он понял, что сейчас закричит. Во весь голос, до хрипоты, так, что содрогнутся скалы.
Адриан распахнул глаза и, покачнувшись, шагнул в сторону. Носок его сапога зацепил одно из вёдер, оно опрокинулось, холодная вода хлестнула на него, залив обе штанины до колен.
Том и Адриан смотрели на ведро, медленно катившееся к ручью.
— Мокрый, — сказал Адриан. — Мокрый пойду с ног до головы. Будто шут гороховый.
Он не глядел на Тома, но вновь почувствовал непривычную мягкость в его голосе, когда тот ответил:
— Ты к себе слишком несправедлив.
Часть 4 Любовь Магдалены
1
Ничего не случилось бы, если бы он не запер дверь. Если бы просто оставил её открытой. Ничего бы не было.
Ничего, ровным счётом ничего хорошего.
Впрочем, дверь тут ни при чём. Всё дело было в Оливии. В желтогривой шлюхе из борделя «Алая подвязка», которую Эдвард Фосиган имел, перегнув через подоконник. Впрочем, если рассуждать и далее тем же образом, вину за случившееся можно приписать тому, кто побывал сегодня в гнёздышке Оливии до Эда, невыносимо навоняв нездоровыми ветрами, или трактирщику, который накормил бедолагу несвежим гороховым пирогом и стал причиной проблем с кишечником, или жене трактирщика, которая в забывчивости не уследила и не выбросила вовремя этот проклятый пирог…
Словом, обвинять можно было кого угодно, результат от этого не менялся: Эдвард Фосиган стоял у распахнутого окна, спустив штаны, и сосредоточенно любил желтогривую Оливию, перегнувшись через подоконник вместе с ней, ибо в помещении дышать было просто нечем, что никак не способствовало разжиганию любовного пыла. Оливия ничего не имела против. Навалившись животом на доски и ткнувшись лицом в болтавшиеся под окном заросли петунии в глиняных горшках, она шумно и значимо сопела на всю улицу, на зависть как случайным прохожим, привыкшим, впрочем, к подобным зрелищам (Весёлый квартал всё-таки), так и своей товарке, работавшей за соседней стеной и никаких сладострастных стенаний в данный момент не издававшей. Оливия, впрочем, могла и притворяться, но Эд в этом сильно сомневался: «Алая подвязка» была достаточно низкопробным заведением, в которое Эд отправлялся обычно лишь в скверном и самоуничижительном настроении. В подобных борделях было, помимо их сравнительной дешевизны, одно важное достоинство: шлюхи там зарабатывали слишком мало, чтобы изображать наслаждение, когда не испытывали его. Желтогривая Оливия вряд ли была столь хорошей актрисой, чтобы можно было заподозрить её в притворстве, — иначе она давно бросила бы свой грязный промысел и записалась в актёрки мистерии, где её способность ахать и стонать была бы куда более востребована. Поэтому Эд логично заключил, что ахи и стоны были искренни и даже непроизвольны. Это, впрочем, не особенно поднимало ему дух, в отличие от некоторых частей тела, потому что о наслаждении проститутки Эд не думал. Он вообще мало о чём думал, помимо того, какого хрена этот кретин попёрся в бордель, обожравшись перед тем гороха, но вскоре его мысли обернулись в совершенно иное русло. И чья в этом была вина, гадать бессмысленно.
Что случилось, то случилось.
А случилось примерно следующее. В то самое время, когда Эдвард Фосиган сморщился, покачал головой и сказал: «Так дело не пойдёт. Двигай-ка к окну, милая», в «Алую подвязку», грохоча шпорами и портя романтическую атмосферу бессвязной бранью, вошли двое господ. Перегнувшаяся через подоконник Оливия успела заметить шляпу одного из них, потёртую, с развесистыми полями и куцым пучком белых перьев, прежде чем обладатель шляпы внедрил своё грузное тело в прихожую «Алой подвязки». Господа выглядели типичными головорезами — бандитами или наёмниками, мающимися от безделья и желания спустить честно награбленные деньги. Для посетителей такого рода бордели Весёлого квартала всегда были гостеприимно открыты. Однако именно сегодня вечером у хозяйки, матушки Астры, было несколько гостей, не вписывавшихся в типичный портрет завсегдатая «Подвязки», и она тешила себя надеждой, что посещение это у нетипичных гостей войдёт в привычку, ибо были они щедры и с виду очень даже благородны. Двое головорезов, один из которых в шляпе с перьями, ни щедрыми, ни благородными не выглядели, однако матушка Астра знала их более чем хорошо, ибо обслуживала обоих в этих самых стенах в те ещё дремучие времена, когда сама начинала карьеру заурядной шлюхой. Давние клиенты и знакомцы, таким образом, чувствовали себя вправе требовать чего угодно. Что и сделали, к вящему неудовольствию матушки Астры, тщетно пытавшейся утихомирить клиентов, вразумляя их на том нелепом основании, что они якобы пьяны — так, как будто хоть раз видела кого-то из них трезвым. Головорезы в ответ на это дружно расхохотались и потребовали свою любимую девочку, милашку Нэнни. Заявление, что именно в этот момент милашка Нэнни занята с клиентами, подоспевшими ранее, было пропущено мимо ушей. А поскольку были эти двое тут далеко не впервые и расположение покоев милашки Нэнни знали лучше, чем путь в сортир, то без лишних разговоров оба устремились по лестнице вверх, похохатывая и обмениваясь, в предвкушении, дружескими подначками и стонами вожделения.
Будто назло, один из стражей, охранявших покой и доброе имя посетителей борделя, как раз в это время вышел на задний двор облегчиться (поэтому, кстати, вину за все последующие события можно переложить и на него, и на кухарку трактира, угостившую его несвежей рыбой). Его напарник же, увы, не мог справиться в одиночку с двумя хотя и немолодыми, но тёртыми и всякое повидавшими мордоворотами. Посему их продвижение в покои милашки Нэнни было стремительным и непреодолимым. У самой двери, неожиданно запертой, последовала непродолжительная потасовка: головорезы ломали дверь, матушка Астра махала полными рукам, пытаясь урезонить бандюг, и орала благим матом, призывая на помощь охранника, валандавшегося неизвестно где именно тогда, когда он был так нужен.
Следует отметить тот немаловажный факт, что вся эта возня происходила непосредственно рядом с дверью, за которой Эд Фосиган любил желтогривую Оливию на подоконнике. За закрытой дверью, что тоже имеет значение. Покои милашки Нэнни были как раз за стенкой; женский визг и мужские проклятия раздались из-за неё ещё до того, как дверь поддалась, и усилились, слившись с басовитой бранью, когда чувствующие себя полновластными хозяевами ситуации головорезы ввалились к Нэнни, стремясь засвидетельствовать ей своё нижайшее почтение.
— Что… там… тако… е… — ритмично, в такт движениям бёдер, выдохнула желтогривая Оливия, в ответ на что Эд лишь теснее прижал её к подоконнику. Он был, как уже упоминалось, в скверном настроении, и никакие милашки Нэнни в мире не могли вынудить его оторваться от расслабляющего времяпрепровождения.
Однако некоторые лица мужского пола, в отличие от милашки Нэнни, на это оказались способны.
Шум за стеной усиливался: женский визг поутих, но на смену ему явился грохот и лязг оружия — похоже, клиенты Нэнни, пришедшие первыми, отказывались уступать очередь, что было вполне понятно и простительно. И тут произошло, почти одновременно, две вещи. Сперва заколотили в дверь — на сей раз в ту самую, которую Эд запер, определив тем самым участь государства и ход истории. Ломились, судя по крикам, охранники, сообразившие, что проникнуть в комнату, где творились гвалт и непотребство, сподручнее всего через соседнее окно. Но Эд не просто запер дверь — он запер её на засов, стремясь к максимальному уединению, потому какое-то время дверь обещала продержаться. Однако расслабляться в ситуации, когда за твоей спиной высаживают дверь, было довольно затруднительно. Эд выругался, отстранился от желтогривой Оливии — и тут случилась вторая вещь, определившая ход истории окончательно.
Среди воплей и лязга Эд услышал крик. Громкий, испуганный крик, слишком тонкий и высокий для мужчины — скорее, так мог кричать мальчишка, находящийся в возрасте ломки голоса:
— Ланс!
Ни в одной из своих многочисленных жизней Эд не носил такого имени, однако это не имело значения. Он узнал этот голос.
И ход истории был повёрнут безвозвратно.
— Твою мать! Молог в самую задницу! Посторонись-ка, милая, — обратился Эд к желтогривой Оливии. Та поглядела на него удивлённым взором юной лани, застигнутой на лужайке за щипанием травки, и Эд восхитился её выдержкой. Оливия посторонилась, равнодушно глянув на дрожащую под ударами дверь. Эд натянул штаны, схватил с комода свой кинжал и сунул его в зубы.
— Дверь не отпирай, — сказал он невнятно, но желтогривая Оливия поняла и покорно кивнула. Эд одобрительно глянул на неё и полез на подоконник.
Дом, в котором нашла приют матушка Астра со своим семейством, был, как все дома в Нижнем городе, деревянным и приземистым строением. Окна узкие, расстояние между ними — небольшое. Подоконники шириной и устойчивостью не отличались, ибо редкие из них создавались с таким расчетом, чтобы на них вскакивали, равно как и предавались плотским утехам. Выдержав второе, первое подоконник в опочивальне Оливии выдержал с не меньшей честью. Он лишь протяжно заскрипел под ногой Эда, но не дрогнул. Соседнее окно было распахнуто, из него лился свет и невнятные проклятия. Эд широким шагом переступил на соседний карниз, ухватился за гардину и спрыгнул через окно на пол.
Взору его явилась картина, при виде которой он едва удержался от крепкого народного словца, которое негоже было употреблять в присутствии кое-кого из участников сцены. В комнате, выглядевшей так, словно двое головорезов пробыли в ней уже целую неделю, находились, помимо собственно головорезов, ещё трое людей: двое мужчин и женщина. Женщиной была милашка Нэнни: она сидела на полу в нижней юбке и расстёгнутом лифе, прикрываясь подушкой, и глядела на Эда вытаращенными глазами в потёках туши. Двое мужчин, а вернее, мальчишек, претендовавших на её оголённые прелести, находились в положении немногим более презентабельном. Один из них стоял рядом с Нэнни, неловко выставив перед собой обнажённый клинок (Эд сразу узнал этот клинок, и желание применить к ситуации народное словцо стало почти неодолимым). Другой лежал посреди комнаты, являя собой символическую границу между своим товарищем и двумя головорезами, явно собиравшимся разделаться с оставшимся конкурентом так же решительно, как и с первым. Эд бросил взгляд на парня, лежавшего на полу: он прижимал руки к животу, пальцы его были окровавлены, и лицо окровавлено, и пот крупными каплями застыл на его висках. Он не двигался. Он был мёртв.
Эд взглянул на выжившего мальчишку. Выживший мальчишка взглянул на Эда. Но прежде чем любой из них успел раскрыть рот, головорезы оправились от шока, вызванного лихим полётом Эда через окно.
— Эт-то ещё что такое у нас тут, а-а?! — крякнул головорез в шляпе. Его подельник, без шляпы, но с внушительной кучерявой шевелюрой неопределённого цвета, зарычал в ответ и шевельнул клинком, с которого стекала кровь мальчишки, лежащего на полу.
— Ещ-щё один? А? Вона каких шустрых развелось! Пригрела Астрочка вас, стервецов, только и делов — гоняй теперь! — продолжал головорез в шляпе, донельзя возмущённый непрестанно осложнявшейся ситуацией. Милашка Нэнни, совсем ополоумевшая от всего происходящего, обхватила руками голову и пронзительно запищала — видимо, она решила, что её собираются поделить на четверых, и таким образом выражала свой протест. Тем временем дверь, предусмотрительно запертая головорезами изнутри, снова начала дёргаться и стонать — охранники опять переключились на неё, следовательно, Оливия стойко держала позиции.
Пожалуй, даже слишком стойко.
— В окно. Живо, — коротко бросил он парню, который стоял в углу, окаменев и неотрывно глядя на скорчившееся тело своего товарища. Тот, словно не услышав, нерешительно шагнул вперёд, наклонился к другу — но тут же был отдёрнут обратно рукой Эда, крепко ухватившей его за шиворот.
— Пошёл! — рявкнул он и швырнул парнишку к окну. Тот налетел на подоконник и вцепился в него, но Эд этого уже не видел — шагнув вперёд, он ударом ноги перевернул стол, отделив им головорезов от себя и истошно завизжавшей шлюхи. Головорезы обиженно взревели. У них были мечи, у Эда — только кинжал, и драться с ними он не собирался, но иная альтернатива стремительно ускользала. Бросив взгляд через плечо, Эд увидел мальчишку, сидящего на подоконнике верхом и глядящего во все глаза на происходящее.
— Пошёл!!! — что было мочи заорал Эд, и парень то ли послушался наконец, то ли попросту свалился вниз от страха. Эд не слишком беспокоился за него — как и все строения в Нижнем городе, здание «Алой подвязки» не отличалось высотой, и до земли было не более десяти футов.
За наблюдением Эд, впрочем, потерял драгоценные секунды. Головорезы без труда отшвырнули стол в сторону, громыхнув им о стену и сметя ножками канделябры с комода, и с рёвом ринулись на Эда. Тот наклонился, пропуская над головой просвистевший клинок, и полоснул кинжалом по животу, открывшемуся в этот момент для удара. На лицо ему брызнула кровь, головорез пошатнулся, но его друг уже зашёл с другой стороны. Эд двинул ему локтем под дых и для верности наподдал коленом в пах. Бандюги, как по команде, отступили, лишь теперь заметив, что оба претендента на полуоголённые прелести милашки Нэнни устранены, и дальнейшая драка не имеет смысла.
— Честь имею, мои лорды, наслаждайтесь, простите за беспокойство, — сказал Эд и, ухватившись за подоконник обеими руками, сделал через него обратное сальто, эффектно вылетев в окно. Головорезы провожали его крайне мутными взглядами, обратившимися затем, наконец, на предмет и первопричину битвы. Малышка Нэнни, встретив этот взгляд, снова завизжала.
Эд слышал её визг, приземляясь на полусогнутые ноги перед самым входом в «Алую подвязку». От удара об землю из лёгких у него выбило весь воздух, но он умудрился не покалечиться — и немедленно обернулся, проверяя, так ли удачлив его юный безмозглый друг.
Юный безмозглый друг Эда стоял рядом, глядя на него с ужасом, благоговением и растерянностью. Он, кажется, не понимал, что произошло, и тем паче — что могло произойти. Всё ещё могло, говоря по правде.
Рука Эда железной хваткой вцепилась в плечо юноши.
— Хотелось бы знать, какого хрена… — начал Эд, и тут на него напали.
На сей раз в самом деле напали, всерьёз. Эд всё ещё ждал дальнейших неадекватных действий со стороны поклонников Нэнни, поэтому держал ухо востро — и успел заметить справа от себя тень, прежде чем её обладатель метнулся к нему с ножом. Эд рванулся в сторону, увлекая юношу за собой, а потом, оттолкнув его, развернулся к нападающему, выбросив перед собой кинжал.
Несколько мгновений они стояли друг против друга среди глухих звуков ночной улицы. Эд видел глаза напавшего, узкие и блестящие, похожие на птичьи. Потом убийца ударил. Эд уклонился, слыша треск рвущейся ткани и готовясь ощутить вспышку дикой боли в боку. Но нет — и на сей раз повезло. Не дав Эду передышки, противник бросился на него в третий раз; Эд не стал бить в ответ, вместо этого бросил кинжал наземь и перехватил несущуюся на него руку. Лезвие царапнуло его запястье. Эд вывернул вражескую кисть со всей жестокостью, на какую был способен, но вместо болезненного воя и звона выпущенного клинка услышал глухой свист — и ощутил тяжеленный удар кулаком под дых. «Профессионал, чтоб его бесы взяли», — успел подумать Эд, прежде чем получил второй удар. Он стал ослаблять хватку, увидел блеск лезвия над головой, услышал предупреждающий крик со стороны — он так и не понял, чей…
А потом тело нападающего грузно повалилось наземь. И что-то захрустело под его откинувшейся головой. К сожалению Эда, это был не вражеский череп, а всего лишь глиняные осколки цветочного горшка. И на лбу убийцы была не кровь, а лишь красные лепестки петунии, бессильно распластавшиеся у него меж глаз.
Эд услышал над собой победный клич и, вскинув голову, увидел желтогривую Оливию в расстёгнутом лифе, торжествующе потрясавшую кулаком над головой. Поймав взгляд Эда, она послала ему воздушный поцелуй. «Неужели и впрямь не притворялась?» — подумал Эд удивлённо — и, тут же опомнившись, крутанулся, ища взглядом мальчишку, из-за которого разразился весь сыр-бор.
Тот прижимался к стене ни жив ни мёртв. А в нескольких шагах от него, в ничуть не лучшем состоянии, стоял всадник — человек в плаще с капюшоном, судя по фигуре, такой же сопляк, которого бесы, глупость и жажда приключений занесли ночью в трущобы Нижнего Сотелсхейма.
Ни звука не издав, Эд ринулся к всаднику и стащил его с коня. Всадник тоненько вскрикнул и повис у него на руке. Эд отстранил его, не грубо, но твердо.
— Просите, мой лорд. Вам воздастся, — туманно пообещал он, а затем, схватив стоящего у стены и потрясённо глядящего на всё это мальчишку, подволок его к коню и усадил в седло. Прежде чем хоть кто-то из участников сцены смог понять, что происходит, Эд со всей силы ударил коня по крупу и завопил:
— А ну, пшла-а-а!
Конь испуганно заржал и сорвался в галоп; мальчишку дёрнуло в седле, но он сумел сохранить равновесие — ездить верхом у него получалось много лучше, чем геройствовать в паршивых борделях. Эд глянул было в сторону всадника, которого так беспардонно спешил, но того уже и след простыл — сбежал, должно быть, одурев от страха, что отберут, не сходя с места, что-то поважнее коня.
И только тогда Эд Эфрин, он же Эдвард Фосиган, он же и прочие достойные, но не всегда дальновидные люди, удосужился посмотреть туда, где в россыпях петунии лежал убийца, поверженный желтогривой Оливией.
Петунии были на месте, в месиве черепков и земли. Убийцы не было.
И тогда Эд Эфрин, он же Эдвард Фосиган, выругался так, как ему хотелось с того самого мгновения, когда он запрыгнул в окно милашки Нэнни. По-народному, по-простецки.
Но, как и следовало ожидать, это мало помогло.
Уже выводя из стойла своего коня и вяло отмахиваясь от многословных извинений, которыми его осыпала перепуганная и донельзя раздосадованная матушка Астра, Эд подумал, до чего странно всё сложилось. Но развивать эту мысль далее не стал — для этого ему требовалась ясная голова, уединённое место и мундштук трубки в зубах. Пока же он выехал со двора «Алой подвязки», провожаемый заламывающей руки матушкой, прикидывая дальнейший план действий. Головорезов угомонили быстро: притомившись баталией, они сейчас храпели в покое милашки Нэнни, которую в это время отпаивала успокоительным настоем желтогривая Оливия — впрочем, судьба что одной, что другой Эда волновала мало. Человека, напавшего на него у входа в бордель, никто не видел — или не выдавал, что было менее вероятно. Сходилось на том, что его вообще не видел никто, кроме самого Эда — и, конечно, Оливии, проявившей чудеса меткости и преданности постоянному клиенту. Всё это вовсе не утешало.
Эд двинулся извилистыми трущобными улочками вверх, к кварталу Тафи. Он не сомневался, что конь, на которого он усадил своего подопечного, понёс в сторону Верхнего города, к родной конюшне. Малец, которого Эд ссадил наземь столь бесцеремонно, мог, впрочем, быть и приезжим, и тогда конь со своим новым седоком запросто мог заплутать. Тревога за их судьбу и вынудила Эда покинуть «Подвязку» так скоро. Впрочем, расследование не заставит себя ждать — причём на столь высоком уровне, что матушка Астра триста раз проклянёт тот день, когда её девочки раздвинули ножки перед Эдом Эфрином…
И перед Квентином Фосиганом.
Положившись на удачу, Эд двигался мимо ратуши к воротам (на часах была четверть второго пополуночи), оттуда через Верхний город к замку — и не прогадал. Ворота, разумеется, были заперты — к большому неудовольствию его юного друга, нерешительно топтавшегося неподалёку от них и вздрагивавшего от каждого звука. Звуков, впрочем, было немного — Верхний город, в отличие от Нижнего, ночами был тих и по большей части безмятежен, и ночную тишину нарушала лишь нестройная песня, доносившаяся с соседней улицы, ленивый лай собаки и храп какого-то благородного лорда, валявшего в сточной канаве.
«Тихий, мирный, вечный город Сотелсхейм, самое безопасное место в мире», — подумал Эд, подъезжая шагом к топтавшемуся у крепостной стены парнишке.
— Что, мой лорд, какие-то сложности? — поинтересовался он. — Не можем попасть в родную обитель?
Мальчишка, казалось, даже не заметил его приближения — так он вздрогнул, услышав чужой голос. Конь тоже вздрогнул, ошарашенный сменой седока и бесцельной скачкой; он всхрапывал, кося на мальчишку глазом, и дёргал из рук уздечку.
— Ворота запираются на ночь, мой лорд, вы разве не знали? Ну конечно, откуда вам знать.
— Эд! — выдохнул, признав его наконец, Квентин Фосиган, и облегчённая улыбка расплылась по его бледному лицу. Опытный родитель либо воспитатель при одном взгляде на это лицо понял бы, что увещевания и выволочки не нужны — парень уже сам прекрасно осознал всю бездну совершённой им глупости и корит себя так, как не может корить даже самый суровый наставник. Эд не был опытным воспитателем, впрочем, родителем он тоже не был. Спешившись, он подвёл своего коня к кобыле, на которой приехал Квентин, загородив лошадиными крупами его и себя от посторонних взглядов.
— Эд… — повторил, будто всё ещё не веря, единственный сын Грегора Фосигана, и тот коротко усмехнулся в ответ.
— Я, мой лорд. Но что бы вы делали, будь это кто-то другой?
Не дожидаясь ответа, он забрал поводья краденого коня у Квентина из нетвёрдой руки — и, выпустив их, хлопнул лошадь по крупу.
— Пошёл. Ну, пошёл, давай, давай, — негромко, но твёрдо проговорил он, похлопывая коня по лоснящейся в лунном свете шерсти. Лошадь тихо фыркнула и пошла вперёд, цокая копытами.
— Что ты делаешь?! — изумлённо спросил Квентин.
Эд отвернулся от лошади, шагнул вперёд, прямо на Квентина, заставив его попятиться, и наступал, пока мальчишка не упёрся спиной в стену.
— Что ты…
— Ничего особенного, — сказал Эд, упираясь свободной от поводьев ладонью в камень над его плечом. — Всего лишь пытаюсь снять себе мальчика на ночь. Мальчик поломается для вида, но шуметь не будет. Ясно?
— Ч-что? — пролепетал Квентин, с ужасом глядя на Эда и опасливо косясь на морду коня, маячившую над его правым плечом.
— Что слышали, милорд, — ответил Эд. — Именно так это должно выглядеть со стороны.
Только тут до Квентина донеслись шаги и голоса, которые Эд, не столь смятенный, услыхал минутой ранее. К замковым воротам ехали люди — трое или четверо всадников, все подвыпившие, судя по тому, как громко они говорили и как неровно цокали копыта их коней. В тот миг, когда Квентин наконец понял, что от него требуется, и замер, вжавшись в стену, всадники как раз поравнялись с ними.
— Клянусь задницей Молога! Это же лошадь Эфрина! — воскликнул один из всадников, придержав коня. — Эфрин! Это ты?
— Нет, не я, — отозвался тот, теснее прижимаясь к затаившему дыхание мальчику. Они стояли у обочины, свет факела падал на коня Эда и частично на него самого. Мальчика же рассмотреть было почти невозможно — мужчина и лошадь скрывали его от наблюдателей полностью, во всяком случае, Эд очень на эта надеялся. — Отвали, Лордан.
— Ты что же, в «Рог» сегодня не собираешься?
— Нет, — внятно проговорил Эд, и тут кто-то из спутников Лордана, чуть менее пьяный, одёрнул его:
— Да отцепись ты. Видишь, он себе уже подыскал дельце на ночь. Бедная леди Магдалена!
— Бедный лорд Грегор! — поддакнул третий всадник, и вся компания зашлась хохотом. Эд криво улыбнулся им через плечо и отвернулся, демонстрируя полную потерю интереса к бестактным знакомцам. Те проехали мимо, продолжая похохатывать и кидая в адрес Эда сальные шуточки. Тот терпеливо выждал, пока они доберутся до ворот, взорвутся бранью по поводу того, что они заперты, повернут обратно и скроются из виду. И лишь тогда отстранился от помертвевшего Квентина, не убрав, впрочем, руку со стены над его плечом.
— Прошу прощения, ваше высочество, — сказал Эд насмешливо. — Надеюсь, я не слишком вас смутил.
— Я дурак, — сказал Квентин Фосиган очень тихо. — Я безголовая и трусливая тварь. Как я тебя…
— Пустое, — отмахнулся Эд. — Сейчас надо подумать о том, как вернуть вас в замок.
— Чтобы отец не узнал? — с надеждой спросил Квентин.
Эд посмотрел ему в глаза.
— Он узнает. Вам это известно не хуже, чем мне.
Квентин потупился. Потом вскинулся, и Эд удивился тому, как ярко и решительно сверкнули его глаза.
— Я должен вернуться за Лансом!
— Тем дуралеем, который потащил вас в этот вшивый притон? Я потрясён, ваше высочество, клянусь честью. Если вам взбрело познать продажную любовь, неужто не могли выбрать местечко поприятнее и компаньона понадёжнее? Ей-богу, хоть бы меня попросили, что ли…
Квентин неожиданно с силой сжал его плечо. Бывали минуты, когда он становился очень похож на своего отца.
— Эд. Я вернусь за ним.
— Не трудитесь, мой лорд. Ваш безмозглый друг мёртв. Вы ему не поможете, только скомпрометируете себя окончательно, а я, видит Гилас, не для того прервал ночь любви и стал грабителем и конокрадом, чтобы это всё же произошло.
— Ланс… мёртв? — выдавил Квентин. Это явно было для него неочевидно — что ж, Эд вполне мог допустить, что полуоголённые прелести милашки Нэнни затмили для юноши разрубленную голову его друга.
— Мертвей не бывает. Ну, вы всё ещё хотите вернуться в обитель страсти и наслаждения, где чуть было не отдали богам душу?
— Он… не виноват, — медленно проговорил Квентин. — Это я попросил его. Я никогда не бывал в… и он предложил… Ортойя всегда верно служили нам, — угрюмо закончил он и тяжело вздохнул. Эд постарался не выдать интереса, обуявшего его при этих словах. Так это был юный Ортойя? То-то лицо знакомым показалось… занятно… может статься, эта ночь испорчена вовсе не так безнадёжно, как он было подумал.
— Сейчас не время и не место это обсуждать, — сухо сказал он, не дав сыну конунга погрязнуть в угрызениях совести. — Поглядите-ка мне через плечо, видите кого-нибудь?
— Нет… нет, никого.
— Хорошо. Сейчас я посажу вас на своего коня и сяду сзади. Не удивляйтесь некоторым фамильярным жестам, которыми это будет сопровождаться.
— Почему ты отпустил мою лошадь?
— Вашей она будет лишь после смерти вашего батюшки, как и все лошади в округе, о будущий великий конунг, — съязвил Эд, вогнав мальчика в густую краску. — А сейчас это лошадь некоего юного лорда, которого я весьма некуртуазно стащил наземь, и, готов спорить, он теперь в отчаянии бродит по окрестностям, пытаясь её отыскать. То-то будет радости, когда они встретятся. Итак, вы готовы? Наденьте капюшон. Вот так. Сейчас.
Он подхватил сына конунга подмышки и усадил на коня, а сам вскочил в седло позади него. Мальчишка сидел напряжённый и неподвижный, как скала. Эд усмехнулся про себя и тронул коня шагом.
— Куда мы едем? — тихо спросил Квентин.
— Ко мне домой. Ночь скоротаете, а завтра, когда ворота откроются, попытаетесь незаметно пройти в замок. Нехорошо, если отец прознает о вашем бегстве до того, как вы вернётесь.
— Я не сбежал.
— А, ну да, прошу прощения, вы совершили военную вылазку, восхитительную в своей рискованной смелости.
Квентин смолк, не насупленно, как сделало бы большинство мальчишек его лет, а скорее понуро.
— Эд, я очень глуп? — вполголоса спросил он.
— Правду сказать? Не очень. Я в ваши годы был не в пример глупее. Впрочем, у меня не было таких верных друзей… и слуг. Глядя на вас, я склонен этому лишь радоваться.
— Это была моя идея, — упрямо сказал Квентин. — Я сам попросил его, почти заставил. Он не хотел брать меня, отказывался. Но Ланс и Фридриг столько рассказывали мне о…
— О борделях? — подсказал Эд. — Учитесь произносить столь непотребные слова вслух, мой лорд, коль уж повадились в них хаживать.
Судя по установившемуся после этих слов продолжительному молчанию, Квентин Фосиган крепко обдумывал услышанное. Эд, в свою очередь, получил возможность крепко обдумать сложившуюся ситуацию. Во всём случившемся было множество сторон, как отрадных, так и не очень. Без сомнения отрадным фактом было то, что он спас от позора, увечий и возможной гибели конунгова сына, что было весьма кстати по многим причинам. После памятной дуэли с Сальдо Бристансоном Эд хотя и не был предан опале, но всё же постоянно ощущал смутное неудовольствие лорда Грегора, вызванное, без сомнения, постоянным нытьём Лизабет. Одно дело, как всё это стараниями Эда выглядело — и совсем иное, чем оно на самом деле было и что некоторые не могли не понимать, даже если отчаялись доказать. Кроме того, гибель Квентина Фосигана, единственного прямого наследника лорда Грегора, именно сейчас была бы для Эда крайне, ну просто крайне нежелательна. Помимо всего прочего, тот факт, что Квентин оказался в столь опасном месте в столь неподходящее время именно стараниями отпрыска клана Ортойя, имевшего на конунга немалое влияние, тоже был весьма кстати. Так что стоило, пожалуй, не проклинать, а благословлять милашку Нэнни, пьяных головорезов и гороховый суп давешнего клиента желтогривой Оливии.
С другой стороны, Эд не мог снять со счетов в высшей степени странное нападение, которому подвергся у входа в бордель. Кто был его мишенью — сын конунга или всё-таки сам Эд? Связано ли оно с дракой в покое милашки Нэнни, или неизвестный убийца и парочка дебоширов не подозревали друг о друге? Сходилось к тому — уж слишком по-разному они действовали, но что, если на такое впечатление и было рассчитано? Всё произошло слишком быстро, чтобы можно было сказать теперь наверняка. Эд мучительно пожалел, что не остался в «Алой подвязке» и не расследовал дело по горячим следам — но он слишком боялся за Квентина. И оказался прав — до прихода Эда он торчал на самом виду, Лордан со своими дружками наверняка заметили бы его, и наутро весь Сотелсхейм знал бы, что сын конунга шлялся ночью за крепостной стеной. Существовало слишком много людей, которые нашли бы, как этим воспользоваться.
Пока же Эд был единственным, перед кем открывалась такая перспектива. Юный Ортойя, племянник главы клана, мёртв — и это большая удача. Эд оказался единственным заслуживающим доверия свидетелем ночных событий — вряд ли кто придаст значение версии матушки Астры, шлюх и наемников, даже если признания будут вырваны у них на дыбе. Что же касается самого Квентина, то на этот счёт Эд не беспокоился.
Квентин Фосиган был единственным человеком в Сотелсхеймском замке и единственной фигурой в игре Эда, за которую он не беспокоился никогда.
Они доехали до особняка Эда, никем более не остановленные и не узнанные. Неподалёку от ворот Эд спешился и, дав знак Квентину спешиться тоже, указал ему на калитку в задней стене. Они тихо прошли туда; Эд вёл коня в поводу, Квентин шагал рядом. Эд отпер калитку, ключ от которой был лишь у него и у Магдалены, и провёл сына конунга на задний двор своего дома, погруженного в сон и мрак. Здесь не горело ни единого огня, луна спряталась за изгибом крыши, окна тоже были темны.
— Придётся вам устроиться на сеновале, мой лорд, — сказал Эд. — Сколько приключений всего за одну ночь, а?
— Хватит стыдить меня. Довольно, — сказал Квентин Фосиган очень тихо, и Эд смолк. В темноте он нашёл руку мальчика и сжал её. Тот ответил слабым ответным пожатием. Стараясь ни на что не наткнуться, Эд провёл Квентина к сараю и распахнул дверь. На обоих пахнуло пряным духом свежего сена. Всхрапнула лошадь.
— Изголодался, бедняга, — заметил Эд, потрепав коня по морде. — Идите вперёд, милорд, смелее. Закопайтесь в сено, не замёрзнете. Глядишь, даже понравится. А завтра поглядим…
— Как мне благодарить тебя, Эд?
— Не стоит, право же, мой лорд. Благодарить будете после, когда получите выволочку. Или не получите. Ну всё, тихо, а то слуг разбудим, — сказал Эд и потянул коня за поводья. Он сделал три шага от сарая, когда Квентин сказал:
— Эд, ты… ты действительно любовник моего отца?
Эд остановился. Повернулся к нему. В почти непроглядной тьме они встретились взглядами — и оба знали это, ощущали, так, как будто смотрели друг на друга при ярком свете дня.
— Квентин, — сказал Эд, широко улыбаясь, — не поверишь, но ты первый, кто прямо спросил меня об этом.
— И всё-таки? — настойчиво повторил тот.
— Ты изменишь своё отношение к нему или ко мне, если услышишь ответ?
Квентин Фосиган долго молчал. Потом ответил:
— Нет.
— Ну так и ни к чему болтать зря. Спокойной ночи вам, мой лорд, — сказал Эд Эфрин и повёл коня к конюшне.
2
— Входи, Эд. Мы ждали тебя, — приветливо сказал лорд Фосиган, милостивым кивком отвечая на его поклон, запоздавший на несколько мгновений, но всё же достаточно глубокий, чтобы не вызвать неудовольствия.
Конунг был в добром духе. Это — и тот факт, что он велел Эду явиться в малый зал для совещаний, где обычно читал после обеда, если не находилось более важных дел, дало Эду основания для преждевременного оптимизма. Приказ принёс паж, и, шагая галереями Сотелсхеймского замка без малейшего конвоя, не ловя на себе взглядов, сколько-нибудь отличавшихся от тех, что на него кидали обычно, и с порога заслышав ленивую беспечность в голосе лорда Фосигана, Эд расслабился.
Как уже было сказано, преждевременно.
— Подойди, — повторил лорд Фосиган, и Эд подошёл.
В зале, помимо них двоих, находились также конунгский референдий с одним из писарей, сенешал и слуга-виночерпий, смиренно стоявший недалеко от трона. Трон пустовал — конунг стоял у окна, заложив руки за спину; на его плечах была соболиная мантия, лысеющую голову обхватывал обруч. Референдий с писарем и сенешал, разумеется, стояли тоже — возле стульев, ожидая позволения сесть. Походило на то, что конунг созвал совет, а Эда вызвал между делом, напомнить, что на сегодня они запланировали пьянку, и шутливо пригрозить четвертованием, если Эд начнёт отнекиваться.
На несколько секунд он почти поверил, что именно так дело и обстоит. Но затем дверь за его спиной вновь распахнулась, и в неё ступил человек, которому, в точности как Эду, ровным счётом нечего было делать на конунгском совете… если только совет не был созван из-за него.
— Здравствуй, Квентин, — сказал конунг так, словно они не виделись очень давно.
Эд позволил себе обернуться — и увидел, как наследник клана Фосиган склоняется в поклоне, куда более глубоком и церемонном, чем поклон Эда. Когда Квентин выпрямился, Эд заметил, до чего бледно и неподвижно его лицо — и понял, что неизбежный разговор с отцом ещё не состоялся, точнее, вот-вот должен был состояться. Лорд Фосиган пристально смотрел на сына, придворные прятали взгляды, в полном молчании ожидая распоряжений великого конунга.
Великий конунг долго смотрел на своего сына, и Эд знал, чего тому стоило не отводить взгляда — равно как и знал, как важно было его не отводить. Затем, видимо, удовлетворившись результатами испытания, лорд Фосиган лучезарно улыбнулся и сказал своим не по годам звучным голосом:
— Что ж, все в сборе. Можно начинать.
«Начинать что?» — подумал Эд отрешённо. Он ничего не понимал. Присутствие в этой зале его и Квентина недвусмысленно намекало на предмет разговора; однако Эд не мог предположить, что конунг вздумает делать из проделки своего сына достояние всего двора. Частные дела если и обсуждались в присутствии советников лорда Фосигана, то лишь в том случае, если дело имело государственное значение — то есть если выдвигалось обвинение в измене… коего Эд, с какой стороны ни посмотри, ни в малой степени не заслужил.
Конунг прошествовал к трону во главе стола и сел. Выдержав положенную церемониалом паузу, принялись рассаживаться и остальные. Эд и Квентин остались на месте.
Конунг сделал знак мальчику-виночерпию и поднял глаза. Встретившись взглядом с Эдом, тут же перевёл взгляд на Квентина.
— Приблизьтесь, сын мой.
— Мой лорд, — сказал Эд громко и твёрдо, — осмелюсь спросить, уверены ли вы в необходимости свершаемого?
Что-то загремело, и всеобщие взгляды обратились к источнику шума — это референдий от возмущения уронил чернильницу, и теперь она катилась по каменному полу к ногам Эда, смотревшего лорду Фосигану в лицо и будто не замечавшему потрясённые взгляды присутствующих. Лорд Фосиган, впрочем, также игнорировал эти взгляды. Он без улыбки смотрел на Эда.
Затем, когда молчание уже понемногу становилось зловещим, конунг указал Эду на стул в дальнем от себя конце стола. Эд поклонился и занял предписанное место. Референдий покосился на него со смесью изумления и отвращения, подавшись в сторону, хотя их разделяло четыре стула. Впрочем, об отношении этого тугодумного прощелыги к себе Эд давно знал.
Какое-то время писарь ползал под столом, разыскивая чернильницу. Затем все наконец расселись и принялись ждать развития событий.
— Сын мой, — в наступившей тишине негромкий голос конунга звучал мерно и чётко, — мне стало известно, что сегодняшнюю ночь вы провели вне стен замка. Это правда?
— Правда, отец.
Писарь попробовал кончик пера и вопросительно взглянул на референдия. Тот, в свою очередь, воззрился на сенешала, который напряжённо глядел на конунга, пытаясь уловить хоть какой-нибудь знак к началу документации допроса. Ибо что это будет именно допрос, сомнения уже пропали даже у Эда.
В этот миг он осознал, как удачно всё складывается. И попытался сдержать улыбку — почти успешно; впрочем, смотрел на него в этот момент лишь мальчик-виночерпий.
— Почему же, Квентин Фосиган, вы покинули стены замка, когда я, ваш отец и конунг, глава вашего клана, запретил вам делать это?
Сенешал кашлянул, так неуверенно и естественно, что на него никто не обратил внимания.
— Я жду ответа, сын мой.
— Отец… милорд… я ослушался вашего приказа из-за своей глупости и тщеславия и готов понести соответствующее наказание, сообразно с вашей волей, — со спокойствием и достоинством, делающим немало чести пятнадцатилетнему мальчику, ответил Квентин.
— Вы понесёте его, вне всяких сомнений, — так же спокойно отозвался конунг. — Что ж, в таком случае попрошу вас ответить, где вы провели эту ночь, чем занимались, кто сопровождал вас и так далее. Прошу вас при этом помнить о присутствии здесь свидетелей, на суд которых затем будет вынесена целесообразность вашего поведения. Итак, я слушаю.
Квентин сглотнул. Эд глядел на него, подперев голову рукой. Нельзя было даже допустить мысли, что события вчерашней ночи не известны ещё лорду Фосигану во всех подробностях, даром что ни с Квентином, ни с Эдом он не говорил. И с его стороны вынуждать сына каяться в не самых благовидных грехах перед посторонними, более того — официальными лицами было само по себе суровой взыскательной мерой. Не просто суровой, но и, воистину, достойной самообладания, необходимого будущему великому конунгу.
«Браво, мой лорд, — подумал Эд. — Вы, как всегда, великолепны».
— Я слушаю, сын мой. Где вы были?
— Я был в борделе, великий конунг.
Взгляд сенешала сделался умоляющим. Референдий, писарь и виночерпий, для которых новость была явным сюрпризом, разинули рты.
— Гастинг, задокументируйте, — обратился конунг к референдию, — что мой сын, Квентин Фосиган, в ночь на двадцать восьмое серпения был в борделе… в каком именно борделе вы были?
— «Алая подвязка», — краснея до ушей, ответил тот.
Писарь изменился в лице и низко склонился над столом, с преувеличенным тщанием разглаживая пергамент. Эд бросил на него заинтересованный взгляд — похоже, писарю это название кое о чём говорило.
— Итак, задокументируйте, что в ночь на двадцать восьмое серпения Квентин Фосиган был в борделе «Алая подвязка», — невозмутимо сказал конунг и взглянул на Эда. — Эд, ты знаешь этот бордель?
— Имею несчастье, мой лорд, — весело отозвался тот, неуместным тоном всполошив присутствующих и вызвав новые возмущённые взгляды.
— И как ты его оценишь?
— Это зависит от критериев оценки.
— Достойно ли это место для времяпрепровождения наследника конунгского клана?
— Ни в коей мере, мой лорд.
— Гастинг, — взгляд конунга пришпилил взмокшего референдия к спинке стула. — Почему вы не документируете? Вы оглохли?
— Но… милорд… — беспрестанно облизывая губы, начал тот. — Могу ли я… вы уверены… то есть в данных обстоятельствах…
Конунг продолжал смотреть на него. Тяжело сглотнув, референдий кивнул писарю. Тот усердно заскрипел пером. Сенешал откинулся на спинку кресла и промокнул лоб платком.
Квентин стоял прямой, как клинок, заложив руки за спину, в точности как его отец в тот миг, когда Эд вошёл в зал. Всё же они были очень похожи. Кажется, ни один из них даже не понимал, насколько сильно.
— Продолжайте, сын мой, — сказал лорд Фосиган.
И Квентин продолжил. Медленно, но достаточно твёрдо, не пряча глаз и почти не запинаясь, он изложил события вчерашней ночи, начиная с того момента, когда он и Ланс Ортойя покинули замок незадолго до закрытия ворот, и заканчивая утренним возвращением через те же ворота — без Ортойи, зато с Эдом, который за ночь успел вернуться в «Подвязку» и забрать коня юного принца. Сенешал сидел отвернувшись и всем видом являя суровое осуждение, референдий то краснел, то зеленел, писарь прилежно скрипел пером, а мальчик-виночерпий слушал, разинув рот. Последнего Эд жалел всерьёз — учитывая, что всё происходящее являлось всего лишь показательной поркой, устроенной конунгом своему сыну, было маловероятно, что нечаянный её свидетель доживёт до утра. Как и писарь — хотя этот ещё и может отделаться ссылкой и заточением в далёком монастыре.
Конунг слушал исповедь своего сына, облокотившись о подлокотник трона, изредка потягивая вино и не перебивая. Ни лицо его, ни взгляд ровным счётом ничего не выражали. Когда Квентин умолк, лорд Фосиган сказал:
— Хорошо. Пока это всё. Вы можете идти.
Этого Квентин явно не ожидал. Вся его показная сдержанность мигом улетучилась, он судорожно выдохнул и сгорбился, но тут же расправил плечи и начал, забывшись:
— Как? Но…
— Вы сказали всё, что я хотел услышать от вас, сын мой. Не думаю, что в этом деле остались подробности, на счёт которых вы можете нас просветить. Если же и так, вы будете призваны повторно, будьте покойны.
Квентину ничего не оставалось, как отвесить поклон и удалиться в расстройстве и растерянности. Наверняка его ждала ещё дополнительная взбучка наедине, но… стоило ли устраивать весь этот спектакль, чтобы окончить его так скоро? Эд был разочарован.
Однако его разочарованию также не суждено было задержаться надолго, потому что как только створки двери закрылись за юным Фосиганом, старший Фосиган улыбнулся и сказал:
— Что ж, лорд Эдвард, попрошу теперь вас на лобное место.
Эд встал. Поклонился, обошёл стол и занял место между троном и углом стола. Ближе всех к нему сидел сенешал, он слегка откинулся на стуле и смотрел на Эда внимательно и пристально, без неприязни, но и без особенно тёплых чувств.
— Я к вашим услугам, мой лорд.
— Не сомневаюсь. И ты оказал мне услугу — пожалуй, что даже несколько — этой ночью, не так ли?
— Именно так, — не стал отпираться Эд.
— Это был ваш долг, сударь, — резко сказал сенешал. Эд взглянул на него через плечо. Его слегка раздражало, что теперь он единственный в этой комнате — не считая виночерпия — стоял, тогда как остальные сидели и как будто всерьёз верили, что собрались здесь судить и порицать его. Впрочем, во взгляде конунга этих намерений не читалось.
— Разумеется, — сказал Эд, — это был мой долг. И я могу лишь благодарить богов, что оказался в нужном месте и в нужное время для того, чтобы иметь возможность исполнить его со всем возможным рвением.
— Что, бордель и впрямь дрянной? — полюбопытствовал конунг.
— Хуже не бывает, — признался Эд.
Сенешал фыркнул, писарь заскрипел пером ещё усерднее.
— Что же ты таскаешься по таким дрянным борделям, а? — грозно спросил лорд Фосиган. Эд сокрушённо развёл руками. Референдий смотрел на них, не скрывая изумления. Если бы в таком тоне вёлся разговор между лордом Грегором и Квентином, это не удивило бы никого… но с Квентином говорили как с преступником, а с Эдом — так, словно он был конунговым сыном. Они никак не могли к этому привыкнуть, хотя должны были, ведь так было всегда…
Почти так было всегда.
— Ты можешь добавить что-то к сказанному Квентином?
— Могу, мой лорд.
— Отлично. Рассказывай.
И он рассказал.
Лорд Фосиган слушал его с тем же видом, с которым словесно порол своего сына. Однако остальные слушатели заметно оживились — даже сенешал. И немудрено — услышать то, что говорил Эд, ранее они никак не могли. Лишь слуга утратил интерес к разговору — беспутные выходки конунгова сына явно интересовали его куда больше, чем государственная измена.
— Ортойя? Ты совершенно уверен, что он назвал именно это имя? — спросил конунг, пристально глядя на Эда. Тот кивнул:
— Совершенно. И, да простит мне великий конунг, я не удивился — ведь в бордель Квентина привёл именно Ланс Ортойя. Я узнал его, ещё когда увидел мёртвого на полу, но тогда, разумеется, ни о чём не подумал. Признаться, я и вовсе был уверен, что этот человек напал на меня, а не на Квентина.
— Что тебя переубедило?
— Он не пытался убить или ранить меня. Только оттолкнуть.
— Больше ты ничего не успел у него спросить? Только имя того, кто его послал?
— Простите, мой лорд, но я всегда спрашиваю именно это, когда мне пытаются перерезать горло в подворотне, — жёстко улыбнулся Эд. — Личный интерес, знаете ли.
— Однако ты не можешь быть уверен, что его мишенью был именно Квентин, а не ты.
— Не могу, мой лорд. Но посудите сами. Ланс Ортойя приводит Квентина Фосигана в бордель. В один из самых дрянных и дурно охраняемых борделей, прошу ещё раз заметить… и, если необходимо, задокументировать, — добавил Эд, слегка поклонившись в сторону сцепившего челюсти референдия. — Ланс Ортойя, младший, если не ошибаюсь, племянник лорда Микаэля Ортойя — далеко не первое лицо в клане, жизнью которого не столь страшно рискнуть. Именно в эту ночь они идут именно в этот бордель и выбирают именно эту шлюху… прошу прощения, мой конунг… эту даму, и именно с ними затевают ссору завсегдатаи борделя.
— Ты уверен, что они завсегдатаи?
— О да, мой лорд, — беспечно отозвался Эд. — Я там часто бываю, так что могу быть уверен.
— А кого-нибудь из Ортойя ты там прежде видел?
— Нет, мой лорд. Никогда.
Сенешал уже не менее пяти минут гримасничал, пытаясь подать конунгу сигнал, но тот упорно игнорировал его, неотрывно глядя на Эда.
— Я слежу за твоей мыслью. Продолжай.
— Итак, даже если предположить, что ссора в борделе была случайностью, то предположить такое о нападении на улице уже намного сложнее. Стрела не попадает дважды в одно яблоко, мой лорд. Квентина ждали при выходе — на случай, если ему удастся уцелеть в драке. Убийца у двери должен был лишь подстраховать на случай, если инсценировать пьяную драку не удастся — что и произошло по вине вашего покорного слуги.
— Домыслы, — отрезал референдий. Эд помнил, что он состоял в отдалённом родстве с Ортойя, хотя и не принадлежал к их клану, и его волнение можно было понять.
— Я бы согласился с благородным лордом, мой конунг, если бы не выбил из убийцы признание. Имя Ортойя он, повторюсь, назвал вполне внятно.
— А затем умер, — задумчиво проговорил конунг.
Эд развёл руками.
— Прошу прощения. В последнее время мне часто не счастливится на слишком сильные удары.
Сенешал, водивший дружбу с Бристансонами, вспыхнул и выпрямился. Конунг медленно перебирал пальцами, как всегда делал в большой задумчивости. Эд молча ждал вердикта.
— Эдвард Фосиган, — сказал он, — в присутствии этих свидетелей вы обвиняете клан Ортойя в покушении на убийство моего сына и наследника, лэрда клана Фосиган, а следовательно, в измене?
Эд ждал этого вопроса. Не в первый раз — и, он надеялся, не в последний. «Ты говорила, чтобы я поторопился, Алекзайн… что ж, делаю, что могу. И пока выходит недурно».
Он сделал вид, будто медлит, а затем сказал то, чего от него ждали:
— Я не могу выдвинуть такого обвинения, мой конунг. Но я могу свидетельствовать, что человек, напавший на меня и вашего сына, назвал своим заказчиком Ортойя. Более я ничего не могу сказать.
Конунг вздохнул. Он казался разочарованным. Эд мог понять его — уж от кого, а от Ортойя он не ждал удара. И был, в целом, прав, но это уже не имело значения. Эд знал нрав лорда Фосигана, знал его и сенешал, и побледневший референдий, и послушно скрипевший пером писец. И все они знали, что немало благородных лордов в правление Фосигана сложили головы по куда менее тяжкому обвинению.
Конунг встал и, хрустя пальцами, прошёлся по зале. Подол его соболиной мантии волочился по полу.
— Жаль, — тяжело вздохнул он, ни к кому не обращаясь. — Как жаль, что этот убийца мёртв. Не мешало бы подвергнуть его пытке. У тебя и впрямь несчастливая рука, Эд.
— Но, великий конунг, ведь… — начал было сенешал, однако референдий перебил его:
— Да позволено мне будет напомнить, что, буде и впрямь присутствовал преступный заговор, не помешало бы подвергнуть допросу держательницу этого… этого прискорбного заведения, а также мужчин и женщин, бывших свидетелями происшествия…
— Уже сделано, — равнодушно отозвался конунг. — Увы, они не смогли сообщить ничего вразумительного. Всё отрицают начисто. Верно, Олрид?
— Святая правда, мой конунг, — отозвался сенешал. — Палачи, впрочем, ещё работают с ними. Есть вероятность, что они хранят верность…
— Вы оптимист, друг мой, — вздохнул конунг. — В наше время ничтожно мало осталось людей, способных быть настолько верными, чтобы хранить молчание в руках опытного мастера в течение двенадцати часов.
Писарь громко икнул. Все взгляды обратились к нему, лишь конунг смотрел в окно, будто и не слыша торопливых сбивчивых извинений.
— К большому сожалению, — пояснил лорд Грегор, повернувшись к Эду, — нет ни одного свидетеля, который видел бы тебя вместе с убийцей внизу, кроме женщины, которая помогла тебе его добить. Она, однако, отвлеклась потом на охранников, выбивших дверь её комнаты, и не видела, как ты допрашивал его. По существу, спросить больше не с кого, кроме как с тебя. А тебя мне не хочется пытать. Ты всё-таки спас моего сына, — сказал конунг и улыбнулся. Эд улыбнулся в ответ, хотя губы у него онемели. Он наконец-то понял, слишком поздно, но ещё не столь ясно, чтобы это могло спасти его, — что весь этот спектакль был устроен вовсе не для Квентина.
«О Гилас», — осознав всю бездну своей глупости, подумал Эд, и ловушка захлопнулась.
— Милорд, — проговорил сенешал вполголоса, — следует ли мне расценивать это как приказ продолжить пытку Габбена? С учётом новых сведений…
— Даже не знаю, — сказал конунг задумчиво. — Я бы, пожалуй, даже поприсутствовал при допросе сам — любо взглянуть на человека, столь преданно защищающего своих хозяев. Впрочем, это странно — отчего он так и не назвал палачу имя, которое столь охотно открыл тебе, Эдвард. Я и не подозревал, что в тебе дремлет талант заплечных дел мастера.
— О чём вы говорите, милорд?
— А! Прости. Я забыл. Ты же не знаешь, кто такой Габбен. Джок Габбен — так, Олрид? — это имя человека, напавшего на тебя возле борделя. Ты хорошо допросил его, но недостаточно потрудился, добивая. Мы нашли его довольно быстро… и, поверишь ли, он до сих пор отрицает как связи с борделем, так и с Ортойя. Он называл совсем другие причины и совсем другие имена… и теперь я теряюсь, кому мне верить: слову члена моего клана или сведениям, добытым под пыткой у наёмника? Что скажешь, Эдо? Та ещё задачка, верно?
Мальчишка-виночерпий откровенно скучал, вертя головой и ловя мух. Сенешал и референдий глядели на Эда во все глаза, затаив дыхание, не смея вмешиваться. Эд мог представить, с каким упоением они понесут в Верхний город весть о том, что выскочка Эфрин наконец разоблачён, предан опале и брошен в застенок, где палач выведает у него ответы на бесчисленные вопросы, над которыми весь благородный Сотелсхейм уже два года ломает голову…
Писец усердно документировал.
— Мой лорд, — сказал Эд, — я взял на себя смелость трактовать то, что услышал, и мог ошибиться. Но тугим на ухо я себя, с вашего позволения, не считаю, ибо не имею на то оснований. Я услышал имя Ортойя. Я назвал его вам. Пусть более светлая голова, чем моя, делает из этого дальнейшие выводы, раз я ошибся.
— Ты не ошибся, Эдо, — очень мягко сказал конунг. — Ты не ошибся.
«Ты солгал», — закончил его взгляд.
«Нет, — ответил глазами Эд. — Нет».
— Все вон, — сказал конунг.
Референдий шумно вскочил с места и стал сгребать бумаги. Сенешал поднялся с гораздо меньшей охотой, пристально глядя на Эда. Писец опомнился последним — он всё ещё скрипел пером, не на шутку увлёкшись документированием. Виночерпий очнулся и вопросительно взглянул на конунга. Тот жестом велел ему остаться.
Когда члены совета покинули зал, конунг сказал:
— Эд, скажи теперь, что я должен с тобой сделать?
— Мой конунг…
— Я был о тебе лучшего мнения.
— Мой лорд, я…
— Молчать.
Эд умолк.
Грегор Фосиган повернулся к нему. Шагнул вперёд — серебряная цепь на его груди тяжело качнулась, — схватил крепкой волосатой рукой запястье Эда и дёрнул его вверх, заставив раскрыть ладонь.
Мокрую, чуть заметно подрагивающую ладонь.
— Ты совсем не умеешь врать, — сказал конунг и отпустил его. — Именно это мне всегда в тебе нравилось. Я полагал, что рядом со мной наконец оказался хоть один человек, который не станет хитрить и не попытается меня одурачить. Хотя бы потому, что не сможет сделать это так, что я не замечу.
— Мой лорд… выслушайте…
— Ещё одно слово, и выслушивать тебя станет палач.
Эд перевёл дыхание. Сердце будто безумное колотилось в его груди, но он больше не пытался заговорить. Он сдался.
Идиот… безмозглый идиот. Попался, как дурак, как мальчишка. Не надо было торопиться, нельзя, нельзя торопиться в таких делах, давно ведь это понял! Нельзя, даже когда возможность кажется такой походящей… Особенно когда она кажется такой подходящей…
«Будь ты проклята, Алекзайн», — подумал Эд с ненавистью.
— Ты правда не знал, что он выжил?
— Нет, — ответил Эд. Теперь он понимал, как глупо было рассчитывать, что, исчезнув во тьме трущобных переулков, убийца сгинет бесследно.
— И что Ланс Ортойя выжил, ты тоже не знал?
Теперь Эд уже не смог скрыть потрясения. Конунг усмехнулся.
— Одна новость за другой, верно? Тут, впрочем, верю, что ты и впрямь обманулся. Ему здорово досталось — его ударили мечом по голове плашмя, сорвав половину скальпа, и я охотно верю, что он походил на мертвяка. По правде говоря, у меня было подозрение, что этим ударом ему слегка отшибло память, и он мог подзабыть кое-что из наущений своего батюшки и дядьёв… Однако стараниями господина Габбена сомнения оказались развеяны. Если бы было лишь слово убийцы против твоего, я бы, пожалуй, с радостью обманулся и поверил тебе. Но два слова, вырванных палачом, против одного твоего, сказанного в этом светлом и радостном зале… я не могу обманываться дальше, Эдо, даже если бы и хотел.
Эд молчал. Конунг снова хрустнул пальцами, потом досадливо крякнул — такое проявление чувств он себе никогда не позволял при посторонних.
— Ну, говори уже. Чем тебе так насолили эти несчастные Ортойя, что ты решил, будто смерть племянника будет им недостаточной карой? Или ты сам верил в собственное враньё? А?
Эд медленно опустился на колени. Посмотрел на конунга снизу вверх — не прятать, не прятать, только не прятать взгляд…
Мальчишка-виночерпий за конунговой спиной глядел на них во все глаза.
— Так, — сказал лорд Фосиган. — Всё понятно. Избавь меня от подробностей. И перестань трахать Ортойя — ну, кого ты там трахаешь? Леди Розалину? Или леди Гизеллу? Как бы там ни было, брось. И собачиться с ними тоже брось. О боги! А я-то думал, хоть один человек при дворе соизволяет не впутывать меня в свои мелочные дрязги. Сейчас мне только этого и не хватало… Встань с колен. Встань, не то я разозлюсь всерьёз. Бесы б тебя взяли… слов нет, мальчик, как ты меня огорчил. Намного больше, чем Квентин. Встань, кому сказано.
Эд поднялся. Склонился было к конунговой руке — и заработал короткую звонкую оплеуху.
— Прекрати пресмыкаться, — холодно сказал конунг. — Не заставляй меня пожалеть о моей снисходительности.
Эд вскинул голову и встретил его взгляд. Ясный, твёрдый, лишь слегка раздосадованный. «О боги, — подумал Эд, — если вы простите меня, клянусь, впредь я буду осторожен, я буду очень, очень осторожен».
— Будь осторожен, — сказал конунг вполголоса, заставив его вздрогнуть. — Не знаю, как насчёт Ортойя, но есть немало прочих, жаждущих увидеть твой труп в сточной канаве. Это за тобой они послали господина Габбена. Не за Квентином.
Эд подумал, что с самого начала знал это. Но искус был так велик…
— Не наказывайте Квентина, — сказал он. — Он молод. Вы будто сами не бегали по борделям в его годы.
Конунг скривился.
— Только избавь меня от нотаций, будь любезен. Мне виднее, как воспитывать моего сына. Ему, впрочем, сегодня уже досталось — между прочим, из-за тебя.
— Простите.
— У него просить прощения будешь. Всё, пошёл вон. И не показывайся мне на глаза.
Эд согнулся в поклоне. Прежде, чем он выпрямился, конунг сказал:
— Эдо, помни, что я сказал тебе после истории с Сальдо Бристансоном. Есть вещи, которые прощаются только один раз. И ты исчерпал свои квоты уже по всем пунктам.
— Вы со мной слишком терпеливы, мой лорд.
— О да. Слишком. Мне казалось, я велел тебе убираться вон. Ты тоже иди, — бросил конунг слуге. Оба они — мальчик и Эд — направились к выходу. Слуга, пятясь, вышел первым. Эд развернулся к двери, и конунг окликнул его в последний раз:
— Эд!
— Да, мой лорд?
— Сделай одолжение, скажи Магдалене, чтобы она подыскала мне нового виночерпия.
«Надо ехать», — подумал Эд, глядя на зависшее над сотелсхеймскими крышами солнце и щуря глаза. Он думал об этом и раньше — вчера, позавчера, неделю назад, всё время с того дня, как темнокожая и темноглазая роолло сказала ему: «Теперь можно». И: «Что делаешь, делай быстрее».
Ну что ж, он делал быстрее. И чуть богам душу не отдал, вместе с телом.
И кто-то другой был в ответе за это — не Эд.
Он шёл по двору замка и думал, как хорошо было бы сейчас остаться одному. И едва ему пришла эта мысль — он увидел Лизабет Фосиган, въезжавшую в ворота в окружении своих дам и поклонников.
Они не виделись и не говорили со дня её свадьбы. Даже взглядами не встречались. Сейчас Эд подумал, не было ли это роковой ошибкой с его стороны.
— Леди Лизабет, моё нижайшее почтение.
Она взглянула на него сверху вниз из-под широких полей фетровой шляпы с вуалью, которую нещадно трепал ветер. Ненастье — не лучшая погода для прогулки верхом, но дочь конунга всегда выезжала в Верхний город за два часа до закрытия ворот и не собиралась менять привычек. Считалось, что верховая прогулка перед сном благотворно действует на организм. Эд лучше прочих знал, что ко сну благородная леди отойдёт ещё очень нескоро, но отдавал должное старанию и мастерству, с которым она играла роль, которую приняла. Сейчас, после двухнедельной разлуки, Эд понял, что соскучился по ней.
— Моё почтение, сударь, — отозвалась Лизабет равнодушно. Она смотрела на него спокойно и бесстрастно, словно он был заурядной сошкой, жаждущей её благоволения. Она никогда так на него прежде не смотрела. Ни до, ни после того, как он изуродовал её мужа.
«Да уж не ты ли заплатила Джоку Габбену, чтобы он пырнул меня в печень?» — подумал Эд, и эта мысль вовсе не показалась ему невероятной.
— Вы только что из города, не так ли? — любезнейшим тоном задал он совершенно бессмысленный вопрос, не давая Лизабет кивнуть ему и проехать дальше, что она, без сомнения, собиралась сделать. То, что она и все её спутники, уже начавшие шушукаться, были верхом, а Эд стоял на земле пеший, создавало у них вполне понятное ощущение превосходства. Каждый из них знал, что Лизабет Фосиган, ранее дарившая отцовского фаворита своим участием, после злосчастной дуэли прониклась к нему лютой ненавистью. Теперь же эти двое столкнулись лицом к лицу, и придворные замерли в сладостном предвкушении скандала. Лизабет, без сомнения, поняла и почувствовала это, и сжала губы, намереваясь не доставить им такого удовольствия. Эд смотрел на её подбородок, видневшийся из-под трепетавшей вуали, вспоминал, как дрожали эти пухлые губки, когда она закусывала их, запрокидывая голову и выгибаясь под его ласками, — и потом, когда в святилище Гилас к ней подвели беспомощного урода, с которым она была связана до конца жизни. Она будто почувствовала, что он думает именно об этом, и закусила губу — в точности как делала в постели и как сделала тогда в святилище…
И Эду впервые в жизни стало её искренне, по-человечески жаль.
— О да, — сказала Лизабет, и по толпе придворных, уже уставших ждать её ответа на его ничего не значивший вопрос, прополз заинтересованный шепоток. — Из города. А вы… только что от моего отца?
«Откуда она знает?» — подумал Эд — и мысленно послал ей этот вопрос. Она слабо вспыхнула, он заметил это даже под её вуалью. Чем дольше он смотрел на неё, тем сильнее удивлялся. Он вовсе не так представлял себе эту встречу — первую их встречу после её свадьбы. Она как будто была почти рада видеть его… как будто испытывала нежеланное, но неудержимое облегчение.
«Ты наняла убийцу, — думал Эд, не видя её глаз, но зная, что она неотрывно смотрит на него, — заплатила ему и расписала в деталях, как он должен надругаться над моим трупом — в точности так, как я надругался над твоим Сальдо. Но потом ты испугалась. Ты вспомнила, как я целовал твою шею. Ты вспомнила наш последний разговор, моё лицо… и ты испугалась. Ты передумала, пожалела. Хотя сама не знала, что жалеешь. Ты ждала сегодня вестей о моей смерти. А я жив. И, да, я только что от твоего отца… и это, моя милая Лиз, было куда опаснее, чем драка с твоим наёмником».
Он понял, что его о чём-то спрашивают, и заставил себя повернуть голову.
— Прошу прощения?
— Я спрашиваю, — крикливо сказал долговязый брюнет с жиденькими усами, гарцевавший на пегом в яблоках коне справа от Лизабет, — что лорд Фосиган сказал вам о войне? Поделитесь, будьте любезны!
— Да-да, мы сгораем от любопытства, — подхватила маленькая юркая леди рядом с ним — Эд видел её впервые, но судя по наглости, с которой она держалась, эта девица за очень короткий срок успела освоиться в Сотелсхейме. — Леди Лизабет, я слышала, что в столице всегда входят в моду цвета кланов, затеявших войну. Это правда? Хорошо, если так! Воображаю, как вам к лицу красное с белым.
— Ах, но отчего же не белое и лиловое! — воскликнула другая дама, миловидная брюнетка, которой это сочетание, без сомнения, очень бы пошло.
— Вы можете рискнуть, прелестная леди, — вставил жидкоусый хлыщ на пегом коне, — но только осмелюсь предупредить, что, как бы ни капризничала мода, в этих стенах нет человека, которому белое и лиловое пошло бы к лицу.
Придворные зашлись смехом. Брюнетка, изъявившая пиетет к цветам Одвеллов, хлопала накладными ресницами и хихикала громче всех. Лизабет не смеялась этим рискованным шуткам, которые она одна и поощряла в этом городе. Она продолжала смотреть на Эда.
Эд не смеялся тоже.
— Красное с белым? — спросил он. — О чём вы говорите?
Смех понемногу утих. Лизабет медленно поднесла руку к краю шляпы, как будто хотела отдёрнуть вуаль, но хлыщ рядом с ней снова опередил её:
— Как, лорд Эдвард, вы не слыхали? Только и разговоров сегодня в городе, что о юном Эвентри, который выскочил будто бес из табакерки и теперь затевает войну… кстати, о табакерке, ни у кого не найдётся табаку?
— Вот, Керк, держи…
— Уберите это, — чеканным звоном разнёсся над придворным щебетом голос Лизабет. — Я ненавижу табак. И вам это известно. Подите от меня прочь, — последнее было брошено жидкоусому хлыщу, обалдевшему от нежданной опалы. Лизабет хлестнула свою кобылу и рванула с места, оставив придворных позади. Те примолкли, смешавшись, неуклюже перестроили ряды и потянулись за своей вздорной госпожой.
— Хар-рактер, — силясь изобразить знание дела, хмыкнул хлыщ, дождавшись, однако, когда Лизабет отъедет на безопасное расстояние. Эд смотрел на него, пытаясь понять, только ли пытается он пробраться в её постель или Лизабет настолько отчаялась, что это ему уже удалось. Хлыщ перехватил взгляд Эда и, истолковав его со всей возможной превратностью, пожал плечами.
— Дьявольский характер. Вся в отца, — важно проговорил он.
— Вы ошибаетесь, — сказал Эд.
— Неужели?
— Да. Вы не знаете характер её отца.
Хлыщ взглянул на него с удивлением, но Эд уже забыл о нём. Он думал о том, что только что услышал. Бесспорно, новость и впрямь свежохонькая, раз вчера её не обсуждали в «Серебряном роге». Юный Эвентри… они сказали — юный Эвентри? Или он ослышался? Но нет, цвета Эвентри — белый и красный… белое и красное скоро войдёт в моду, потому что юный Эвентри затеял войну…
«О боже, — подумал Эд. — Гилас… и Милосердный Гвидре… Не может быть. Этого не может быть».
Процессия проехала, и он остался один. Через двор ещё проезжали и проходили люди, некоторые кивали ему, но он не находил в себе сил ответить тем же.
Невозможно. Немыслимо просто. Юный Эвентри. Сейчас. Через двенадцать лет.
Он понял, что разворачивается, что идёт, с каждым шагом всё убыстряя ход, туда, откуда только что вышел, откуда ему велели убираться. Он не должен был возвращаться, должен был быть осторожен, он обещал себе, что будет осторожен, и наверняка, стоит потерпеть немного, все сведения просочатся сквозь замковые стены и найдут его сами…
Но он не мог ждать. Он должен был торопиться.
Конунг всё ещё был в малом зале для советов. Камергер, дежуривший у двери, не знал о том, что случилось здесь сегодня, и потому не воспрепятствовал Эду, воспользовавшемуся своим исключительным правом входить к конунгу без доклада. И Эд вошёл без доклада — в тот самый зал, где всего четверть часа назад едва не совершил свою последнюю ошибку.
Может статься, что он совершал её именно сейчас. Но он не мог ждать.
Золотой конунгский обруч лежал на столе. Конунг сидел у камина, сгорбившись, и бросал в огонь пергамент, мелко исписанный старательной рукой писаря, уже, вероятно, паковавшего пожитки для удаления в ссылку. Эд подошёл к конунгу на расстояние трёх шагов и остановился, дожидаясь, пока его изволят заметить.
Бросив в пламя последний листок, конунг обернулся. Его лицо было усталым, во взгляде сквозило раздражение, смешанное с холодным удивлением.
— Ты ошибаешься, Эдвард, если думаешь, что мой гнев столь скоротечен.
— Я так не думаю, мой лорд.
— В самом деле? Отчего же ты припёрся, когда я велел тебе не показываться мне на глаза? И отчего вынуждаешь меня высечь камергера, который о тебе не доложил?
— Простите, мой лорд.
Грегор Фосиган выпрямился и изучающе посмотрел на него.
— Ты, без сомнения, трезв. Ты вышел отсюда четверть часа назад и физически не успел бы напиться. Из этого я заключаю, что ты полностью отдаёшь себе отчёт в том, что делаешь. Ты знаешь, что делаешь?
— Вполне.
— Как любопытно. Ну и что же?
— Я мозолю вам глаза, вызывая досаду и раздражение.
— Точно подмечено. — Лорд Фосиган помолчал, вороша кочергой пепел в камине. — Ты порой удивляешь меня… Эд. Неужели ты не боишься?
— До одури боюсь, милорд.
— Вот за это, — сказал конунг после короткой паузы, — я и люблю тебя.
— За то, что всё равно пришёл?
— Нет. За то, что чувствуешь страх.
Какое-то время ни один из них не произносил ни слова. Вечер был хоть и ветреный, но тёплый, жар камина был не уместен, и спина Эда очень быстро взмокла. Лорд Фосиган же, хотя и стоял ещё ближе к огню, чем Эд, вовсе не страдал от жара — напротив, Эд заметил, что он кутается в свою мантию, словно его знобит.
— Говори.
— Я хотел спросить вас об Эвентри… правда ли это.
— Слухи расходятся быстро, — сказал конунг без улыбки. — Что ты хочешь услышать? Да. Правда. Я удивлён не меньше твоего. Все мы считали этот вопрос давно себя исчерпавшим и закрытым. Клан Эвентри распался, принадлежавшие им земли отошли к клану Индабиран… и тут появляется этот мальчишка… Анастас Эвентри. Ха! Анастас Эвентри!
— Что?.. — Эду показалось, что земля уходит у него из-под ног. — Это невозможно…
— Я знаю. И тем не менее — это так… вообрази себе. Он может возродить клан, если захочет, — добавил конунг вполголоса. — Если бонды будут на его стороне. И если я буду на его стороне.
— А вы… будете?..
Конунг ткнул кочергой в ворох пепла. Высокий язык пламени вырвался из-под золы и лизнул каминную решётку.
— Так всегда кажется, — проговорил лорд Фосиган, глядя на огонь. — Кажется, что осталась лишь горстка пепла… а потом какая-то шальная искра выбирается из-под золы, и на тебе, сгорает целый дом. Юный Эвентри… Надо же. Сколько ему может быть лет — восемнадцать, девятнадцать? Это должно было случиться. Я знал, что так будет.
Эд молчал. Всё, что он мог делать сейчас, это молчать. Конунг вскинул голову, послал ему усмешку, от которой мороз шёл по коже.
— Вспоминаешь наш давний разговор, верно? Ты и тогда сильно интересовался кланом Эвентри, помнится… а я разболтал тебе лишнего… что взять с пьяного старика. И теперь ты захочешь знать, что означает эта война? И намереваюсь ли я использовать её в своих интересах, как уже сделал однажды? Разумеется, намереваюсь. Ведь этот юноша жаждет гибели Одвеллов со всеми их приспешниками. Так отчего же не поддержать юного отпрыска некогда столь славного клана в этом, без сомнения, благородном и честном начинании? Он, мне доносят, в полном соответствии с заветами Дирха алчет не мести, но справедливости. Что ж, я дам ему месть, которая вполне сойдёт за справедливость. За неимением лучшего, во всяком случае. — Лорд Фосиган несколько раз ударил кочергой о решётку, стряхивая остатки золы, потом поставил её у стены и отряхнул руки. — Теперь спрашивай, что хотел.
— Вы отпустите меня?
Он никогда не знал, выиграл или проиграл свою жизнь на этот раз, до тех пор, пока ставка не была сделана. До тех пор, пока не задавал вопрос. До тех пор, пока не ловил в блестящих глазах конунга тень удивления. Эд знал — он жив и в безопасности лишь до тех пор, пока способен его удивлять.
Конунг был удивлён.
— Отпустить тебя? Куда? Зачем?
— В Эвентри. Туда, где будет идти эта война. Вы ведь сейчас будете набирать ополчение, не так ли? Если вы собираетесь послать подмогу… юному Эвентри… тогда дайте мне людей. Дайте мне отряд воинов под командование или… не давайте. Просто поручите что-нибудь. Я…
— Постой, Эд. Погоди. Ты слишком торопишься. И ты побледнел. Ты не побледнел так, когда я поймал тебя на лжи про Ортойя. Что с тобой происходит?
— Я… простите. Я должен туда поехать, милорд. Я должен поехать и…
— И узнать, что это за Анастас Эвентри такой, верно? — пристально глядя на него, спросил конунг.
Эд с трудом кивнул.
— Что ж. По правде говоря, меня и самого донимает этот вопрос. Разумеется, это может быть и самозванец, выдающий себя за последнего отпрыска клана… но может быть, и нет. Есть основания думать, что нет. И если это действительно Эвентри, я предпочёл бы знать наверняка…
«Он убьёт меня сейчас или освободит. Убьёт, — думал Эд, — или освободит».
— Отпустите меня, милорд, — сказал он чуть слышно.
Конунг смотрел на него очень долго. Очень пристально. Потом сказал:
— Я так мало знаю о тебе, Никто из города Эфрин.
Он умолк снова и наконец проговорил, тяжело и значимо:
— Нет, — и тут же, когда Эд вскинул голову, повторил, не повышая голоса: — Нет. Я не отпущу тебя. Это нужная работа, но её выполнит кто-то другой. Кто-то, кто не менее тебя… компетентен в таком деле. Но ты, Эд, — ты останешься. Ты нужен мне здесь.
— Ложь, — сказал Эд. — Я вам не нужен.
Ладонь конунга легла на его плечо. Сжала на мгновение, совсем не сильно, словно укоряя.
— Тебе не хватает хладнокровия. И всегда не хватало. Кто-нибудь другой на моём месте решил бы, что ты дурно воспитан.
— Милорд… великий конунг… я…
— Ты останешься, — сказал Грегор Фосиган так мягко, как не говорил никогда и ни с кем.
Эд склонил голову. Тяжёлая ладонь конунга легла на его темя.
— Иди, сынок. Иди к Магдалене. И будь сегодня ночью с ней. Она слишком долго тебя ждала.
3
— Ну поглядите на них, поглядите-ка, а? Каковы! Гляньте, как разодеты. Будто на ярмарку вырядились. А Лизка-то, Лизка — лучше всех! Что это у неё за шляпа такая? Волосы сзади торчат непокрыты, как у девки! А ведь уже замужняя женщина, могла бы и стыд знать!
— Это новый фасон, тётушка, — примирительно сказала Тереза Престон, втыкая иголку в холст. Глядеть за окно, чтобы увидеть предмет возмущений престарелой леди, ей не требовалось — новая шляпка Лизабет уже второй день была в Верхнем городе притчей во языцех и одним из главных предметов для обсуждения в дамском кругу. На втором месте была грядущая война — и перемены в моде на цвета, которую она неизбежно принесёт.
— Возмутительно! — заявила леди Эмма Фосиган и обвиняюще ткнула костлявым пальцем в оконный проём, будто надеялась издали поразить карающим перстом бесстыжую девку. — А подол, на подол поглядите! Чуть только щиколотки не видно! И как задрала! Вот дрянь, вот мерзавка… И кто это рядом с ней?
— Это Керк Престон, тётушка. Мой кузен, он недавно приехал вместе с сестрой, она рядом, видите?.. Я вам говорила…
— Это которая? Блондинка?
— Нет, брюнетка в красном.
— А! Та, у которой сиськи из корсета вот-вот вывалятся? Хороши у тебя родственнички, Тереза.
— Иных боги не дали, — скромно сказала леди Престон, продёргивая нить, и сидевшие за шитьём женщины переглянулись, пряча улыбки. Нрав и манеры леди Эммы, тётки Грегора Фосигана, были всем превосходно известны, равно как и то печальное обстоятельство, что семь десятков прожитых лет ничуть не укротили её и не смягчили. После смерти леди Кристены, второй и последней супруги лорда Грегора, леди Эмма стала хозяйкой Сотелсхеймского замка — а точнее, делила эту обязанность с внучатой племянницей, которую люто ненавидела и поносила при любом удобном случае. От кухонных войн Сотелсхеймский замок спасало лишь то, что Лизабет в силу возраста и темперамента большую часть времени проводила в балах, верховых прогулках, выездах на охоту и постельных приключениях, а леди Эмма, в силу тех же причин, предпочитала сады, парки и покои для рукоделия, где собирала вокруг себя то, что считала цветом клана Фосиган. Стоит ли говорить, что Лизабет никогда не удостаивалась чести быть приглашённой на эти чинные мероприятия, за что платила двоюродной бабке неустанным и подчас довольно остроумным злословием. Молодёжь, понятное дело, собиралась вокруг Лизабет, клановые же матроны проводили с леди Эммой долгие часы за шитьём; то и другое, впрочем, в равной степени способствовало мирной жизни в Сотелсхейме.
— Дрянь, паршивка, змея подколодная… — привычно пробормотала леди Эмма и вдруг, прищурив вовсе не столь подслеповатые, как принято было считать, и некогда очень красивые глаза, подалась вперёд, едва не высовывая обвязанную покрывалом голову в окно. — Гилас, помилуй! Магда, деточка, там твой муж!
Магдалена подняла голову от вышивания — впервые за последний час, с той самой минуты, как вошла в комнату, приложилась к сухощавой ручке леди Эммы и заняла свой привычный угол в стороне от остальных женщин. Сегодня компания у хозяйки Сотелсхейма подобралась малочисленная — в хорошую погоду каждая старалась изыскать предлог и отговориться от скучных и старомодных посиделок под бдительным надзором деспотичной старухи. Перечить ей открыто не смели: живущий в Сотелсхейме был волен выбирать, к какой из фосиганских мегер — старой или молодой — идти на поклон, но пренебрегать обеими он не мог.
Впрочем, и этого выбора у Магдалены тоже не было. Сестра ненавидела её — всё сильнее с каждым годом, и особенно с тех пор, как Магда вышла замуж. Они редко встречались и ещё реже разговаривали, и не то чтобы Магда по этому поводу особо печалилась. Никто не напоминал ей о её незаконном происхождении так часто и охотно, как Лизабет со своими подпевалами; никто так настойчиво не делал вид, будто её происхождение не имеет значения, как леди Эмма и её женщины. Более того — нежная любовь к ней леди Эммы распространялась и на её мужа. Магда не переставала дивиться этому, но лишних вопросов не задавала. Они принимали её — большего она не вправе была требовать ни от них, ни от кого бы то ни было.
Потому она посещала эти скучные вечера у леди Эммы — в последнее время всё охотнее посещала, — зная, что проведёт три или четыре часа, тупо тыкая иглой в полотно и слушая ленивое сплетничанье женщин, изредка перемежаемое бранью дражайшей тётушки. Справедливо говоря, ни одной из своих приближённых леди Эмма тёткой не приходилась, но велела звать себя именно так — ей это нравилось.
Поэтому Магда, услышав своё имя, подняла голову от шитья и сказала:
— В самом деле, тётушка?
— Иди и глянь сама! — потребовала та, и Магда подчинилась.
Леди Эмма не любила излишеств, и комната для рукоделия была узким и тесным помещением; проходя к окну из своего угла, Магда то и дело задевала подолом юбки сидящих дам. Здесь были леди Диана Милтон, леди Ада Коулл, леди Сабрина Дрейк, две юные дочери лорда Пителри — и, конечно, Тереза Престон, тётушкина любимица, единственная, никогда не смущавшаяся от потоков брани старой леди. Тереза глянула на Магду украдкой, когда та поравнялась с леди Эммой, и бросила взгляд за окно — туда, куда указывал негодующий перст леди Эммы.
— Гляди! Стоит и болтает с ней как ни в чём не бывало!
— Да, — сказала Магда. — В самом деле.
— Ты бы сказала ему, чтоб держался от неё подальше. Я уж вовсе молчу о том, что само его общение с этой шлюхой оскорбляет твоё достоинство. Но знает ли он, что она давеча при всех обзывала его смердом и клялась покоя не знать, пока не увидит его вздёрнутым на крепостной стене?!
— Это она злится из-за своего Бристансона, — вставила леди Коулл, выдавая подозрительную осведомлённость.
— Ха! Ещё бы ей не злиться! Но коль уж позволила отцу выдать себя за непроходимого дурака — что ж теперь, кому жаловаться? Я с самого начала говорила Грегору, что этот Сальдо Бристансон олух, каких поискать. Неуклюжий невежда, увалень и хам, не способный не только вести себя достойно, но и постоять за себя, когда доходит до драки. Если хочешь знать моё мнение, Магда, милочка, так твой Эдвард совершенно заслуженно его отделал. У меня ни малейших сомнений нет, что дуэль была честной — да и ни у кого их нет, кроме этой кичливой дуры!
Женщины кивали, втыкали иголки в полотно, снова кивали, вертели пяльцы, обрывали нитку, снова кивали — все они слышали эту речь неоднократно с того памятного дня, когда Сальдо Бристансона принесли домой с разрубленным лицом, а Лизабет Фосиган объявила войну мужу Магдалены. Большинство, по правде, недоумевало, отчего это произошло только теперь? Ни для кого не была секретом нежная привязанность дочерей лорда Грегора друг к другу — так отчего бы Лизабет не возненавидеть Магдалениного Эдварда заодно с нею? Могло, впрочем, быть и иное — некоторые поговаривали, что Лизабет оказалась хитрее и придумала лучший способ напакостить нелюбимой сестре…
Магдалена не слушала этих сплетен. И прежде, а теперь и подавно. Ей было довольно того, что видели её глаза.
Её глаза видели Лизабет в фетровой шляпе с вуалью, верхом, и Эда у её стремени. Его голова была непокрыта, и волосы, выбивавшиеся из его короткой косы, трепал ветер. Ветрено было сегодня вечером.
— Мерзавка, какая мерзавка… Магда, деточка, довольно, не гляди на них больше — фу, срам! И сядь здесь, со мной — что ты вечно ютишься в углу, когда тут так хорошо у окошка? И свежо, и прохладно. А ты выглядишь неважно, милочка, я давно замечаю, что выглядишь неважно — бледная такая, глазки в синяках, ну, куда это годится? Спишь плохо? Так хочешь, я пришлю тебе своего нового лекаря, Тодда, — он такой затейник! Принесёт тебе трав, будешь крепко спать, как дитя.
— Тётушка, ну что вы такое говорите? — мягко укорила её Тереза Престон. — Может быть, Магдалене муж не даёт спать по ночам, а ваш Тодд ей снотворных трав отсыплет — что ж она, в мужних объятиях будет на ходу засыпать? Что ж он подумает?
— Чушь болтаешь, дорогая, — отрезала леди Эмма, смерив свою фаворитку снисходительным взглядом. — У хорошего мужа в руках сколько снотворных трав ни съешь, а всё одно глаз не сомкнёшь!
Дамы залились смехом — у кого-то это получилось мелодично и доброжелательно, у кого-то не очень. Девицы Пителри мерзко и визгливо хихикали. Магда их ненавидела. Она вернулась в свой угол за шитьём и снова пошла к окну, сев, по указанию леди Эммы, между нею и леди Терезой. Последняя послала Магде хитрый взгляд из-под длинных ресниц.
— А что, правда ли это, леди Магдалена? — спросила она негромко. — Вы никогда не говорили, даёт ли вам лорд Эдвард ночами высыпаться…
— Глупый вопрос! — со свойственной ей бестактностью обрезала Диана Милтон. — Вы гляньте на него только — и всё ясно без слов.
— Ах, да, — вздохнула одна из девиц Пителри. — Он так хорош собой! Так хорош, леди Магдалена, я так вам завидую!
— Дуры вы обе, — беззлобно сообщила леди Эмма. — Пожили бы с моё, знали бы, что как бы мужик ни вышел мордой да статью, а покуда штанов не снимет, ничего наверняка сказать нельзя. Вот того ж сопляка Бристансона взять — думаете, Лизка так бесилась бы, коли бы у него с причинностью всё в порядке было? Нетушки, милые, помянете моё слово — был бы он там ладен, она б и не глянула, что у него рожа пополам разрублена. Но ты, Магда, — сурово глянув на притихших девушек, добавила леди Эмма, — слушай да умом понимай, что таких дур, как эти две девчонки, кругом пруд пруди — им бы только ладен собой был, большего и не надо, чтобы чужого мужа увести. Так что приглядывай за красавцем своим, приглядывай.
— Да, тётушка, — сказал Магда и опустила глаза.
Тереза Престон тихо улыбалась, ловко и споро водя иглой.
Женщины примолкли ненадолго, и лишь покашливания да стук пялец нарушали тишину. «Да, тётушка, — думала Магда Фосиган. — Да. Да. Вы правы. Как вы правы. Как вы правы. О да, да, да».
Пяльцы стучали, тихонько напевала себе под нос девица Пителри, а Магдалена пронзала иглой полотно — и тыкала иглой себе в подушечки пальцев.
Компания Лизабет внизу тем временем рассосалась — это стало ясно по тому, что леди Эмма перестала вытягивать шею к окну и отвернулась наконец с ворчливым вздохом.
— Разъезжает, прогуливается, дрянь такая, а должна быть с мужем рядом. Коль уж не с женщинами, как положено благородной леди, так с мужем, слюни ему, юродивому, подтирать.
— О да, тётушка, — сказала леди Коулл с нарочитой беспечностью. — Вы вновь правы, как же иначе? Именно там леди Лизабет и положено быть, тем более что неведомо, как долго она ещё пребудет в возможности быть одарена этим счастьем — подтирать слюни своему мужу.
— А что так? — рассеянно спросила леди Эмма. — А-а, ты о войне? Чушь. То есть, война будет, конечно, но дурак Сальдо останется дома, как положено дуракам. Не избавиться от него Лизке, нет!
— Тётушка, я вовсе не о войне говорю. Подозреваю, что война тут ни при чём. Леди Лизабет не понадобится война.
Болтовня и стук пялец стихли. Лишь Магда не подняла головы от шитья — и не видела, как расширились и сверкнули глаза леди Эммы — нет, отнюдь не подслеповатые, как бы ни хотелось в это верить некоторым.
— Что это ты болтаешь? — сухо спросила старуха, и женщина более зрелая и опытная, чем молодая жена Йена Коулла, прикусила бы язык. Но леди Ада лишь вспыхнула от удовольствия, что расскажет сейчас свежую сплетню, и заявила:
— Говорят, намедни видели леди Лизабет в Нижнем городе… и не где-нибудь, а возле «Красной змеи»!
Магдалена Фосиган выронила пяльцы. Деревянный обруч со стуком покатился по полу и, завертевшись, упал у подола леди Эммы.
Леди Эмма встала и, наступив на пяльцы Магдалены, шагнула вперёд. Росту в престарелой леди было без малого шесть футов, и сухая рука её если била, то без дрожи и жалости. Звук пощёчины оглушил оторопевших женщин, а юная леди Коулл, взвизгнув, схватилась за пылающую щёку и в ужасе воззрилась на леди Эмму, глядя в её ясные, умные, когда-то воспетые бардами глаза.
— Молчать, — сказала леди Эмма.
В полной тишине она вернулась к окну. В гробовой тишине прозвучал ровный и бесстрастный голос Эммы Фосиган — голос, нотки которого столь часто слышались в голосе её венценосного племянника.
— Лизабет — женщина низкая и подлая, но она Фосиган. Существует предел того, на что способен Фосиган. И тому, кто не понимает этого, стоит держать за зубами свой вздорный язык.
Женщины молчали. Леди Ада шумно всхлипывала.
— Пошла вон отсюда, дура, — бросила ей леди Эмма. — Умойся.
Спотыкаясь, леди Коулл побрела к двери.
— А вы, женщины, шейте. Что такое?
— Темнеет уже, тётушка, — безмятежно отозвалась Тереза Престон, и голос её был подобен нежному бризу после жестокой бури. — Неплохо бы света приказать.
— Так в чём же дело? Прикажи. Или вы, Диана, дорогуша, — прикажите там!
Леди Диана встала, чтобы дёрнуть за шнурок; женщины зашевелились, оживились. Леди Эмма снова взяла своё шитьё.
— Ах! Магда, деточка, я истоптала твоё рукоделие. И не заметила даже, совсем слепа стала. Прости старуху…
Магдалена наклонилась и подняла пяльцы с пола. Она не сделала бы этого, если бы ей не приказали. Она не шевельнулась бы, не вздохнула бы, если бы ей не приказали. Она сама не знала, жива всё ещё или уже умерла.
Убита, задушена красной змеёй, исступлённо проталкивающей раздвоенное жало между губами Эда…
— Что такое «Красная змея»? — тихо спросила Магдалена Терезу Престон.
Тереза Престон обратила на неё взор агатовых глаз.
— Зачем спрашивать, милая? Вы разве никогда о ней не слышали?
— Нет. — «Не слышала. Видела. Знаю. Что она? Что она такое?»
— О, Магда, — сказала леди Тереза. — «Красная змея» — это самое известное в Нижнем городе место, где можно раздобыть любовный напиток для обожаемого супруга… либо смертельный, если это интересует вас больше.
— Молчите, во имя Гилас, — прошептала леди Сабрина, расслышавшая их разговор. — Леди Эмма не выносит упоминания о ядах. Особенно когда в их применении подозревают Фосиганов.
— Знать, отчего бы, — слабо улыбнулась леди Тереза.
— О, вы в самом деле хотите это знать? Не думаю, что стоит… Ш-ш, она глядит на нас!
Леди Эмма глядела на них.
Магдалена глядела на свои пяльцы.
Стук, болтовня, мерцание свечей, шелест юбок, Магдалена втыкает иглу в ткань, потом в свои пальцы, и кровь брызжет на полотно.
Они были правы — она не спала прошлой ночью. И позапрошлой. И той, что была перед ней.
Магдалена не помнила, когда спала в последний раз.
Леди Эмма льстила ей, даря своим расположением, — незаконная дочь Грегора Фосигана была ничем не лучше и не добропорядочнее законной. Она тоже вела двойную жизнь. И никто не знал, где она проводит свои ночи — беспутно и преступно, не страшась ни огласки, ни позора. Каждый вечер, дождавшись, когда муж её покинет дом, она шла в его спальню и одевалась в его платье, заплетала волосы, как он, брала его плащ, выводила из конюшни лошадь и ехала за ним следом. Она делала это изо дня в день с того памятного кануна дуэли — дуэли из-за другой женщины, дуэли, за которую Эд заплатил ненавистью Лизабет. И Магде, должно быть, следовало благословлять эту дуэль. Она не хотела, чтобы Лизабет любила её мужа. Она не хотела, чтобы кто-нибудь любил её мужа. Она хотела любить его сама. У неё одной было на это право.
И каждую ночь она убеждалась, до чего нелепа в своих требованиях, до чего глупа в своих надеждах.
Сперва он ехал в трактир или клуб. Потом — либо в замок, к её отцу, либо в бордель. Бордели были самые разные, их было великое множество. В «Вечный сад», к леди Чаттоне, ради которой он изуродовал Сальдо Бристансона, Эд заглянул всего один раз — похоже, он утратил к ней интерес. Но не утратил его к женщине из «Утреннего неба», у которой за одну только неделю был трижды — Магда знала, что это одна и та же женщина, потому что вскоре после того, как дверь борделя закрывалась за Эдом, на втором этаже вспыхивало одно и то же окно. Не утратил он интерес также к продажным женщинам из Нижнего города, равно как к куртизанкам Верхнего. И, разумеется, он не утратил интерес к торговке ядами из аптеки «Красная змея». К женщине, которая столь охотно способствовала отравлению чужих мужей — и не важно, тела она их травила или поедом выедала души. Магда уже хорошо знала её в лицо, эту женщину — невысокую, полную, с миловидным, но совершенно обычным лицом и грузным телом. Без сомнения, она опаивала Эда любовными настоями, на которые, как выяснилось, была мастерица — иначе Магдалена не могла понять, как он мог предпочесть эту женщину ей, юной, гибкой, красивой, так сильно его любившей. Он ходил к своей аптекарше каждый день — не важно, из борделя возвращался или из замка, ночи его всегда оканчивались у неё. Сперва Магда подолгу стояла за поворотом дороги, дожидаясь, пока он выйдет. Потом, выучив его привычки, стала разворачивать коня, лишь только он скрывался под вывеской с красной змеёй, кусающей собственный хвост. Магдалена ехала домой, стаскивала с себя его одежду и кидалась в холодную пустую постель. И лежала так, не шевелясь, много часов, до тех пор, пока не слышала в коридоре его лёгкие шаги. Он спал потом почти целый день, а она ехала к женщинам, хотя уставала не меньше, а то и больше, чем он — ведь он был счастлив этими ночами, а она — нет. Поэтому она не могла спать.
Лишь недавно она задала себе вопрос, а чего, собственно, хочет добиться этой бессмысленной, унизительной для них обоих слежкой. Ведь он даже не знал, что она следила за ним. Порой не просто не знал — не хотел знать. Потому что не замечал её даже тогда, когда не мог не заметить. Не мог, если бы только захотел.
Вчерашней ночью она в этом окончательно убедилась.
Вчерашней ночью… она колола пальцы иголкой, когда думала про вчерашнюю ночь. И не чувствовала боли в кровоточащих пальцах — слишком болело в груди.
Вчера ночью Эд не поехал в «Утреннее небо». Не поехал он и в «Розовый бутон», и в «Попрыгунью», и в салон леди Аурелии не поехал. Он отправился туда, где не был ни разу с тех пор, как Магда следовала за ним, — в трущобы. В самую грязную, вонючую и тёмную часть Сотелсхейма, забитую нищими, бандитами и прочим сбродом, смердящую навозом, мочой и блевотиной. Эд приехал на Мясную улицу — место, где сосредоточились городские живодёрни, где было не продохнуть от стоявшего в воздухе запаха крови. В переулке, ведущем от этой улицы, приютился бордель с вульгарным названием «Алая подвязка», и Эд вошёл туда той же пружинистой походкой, которой входил в замок её отца, в храм Гилас, в их общую спальню. Этой походкой он шёл к ней, когда она ждала его у алтаря, в тот единственный день, когда ей почудилось, что она им любима. Магдалена стояла у стены, конная, и тупо смотрела на эту дверь, ничего не видя, ничего не чувствуя. Потом из верхних окон раздались крики и суматоха, но она не сразу обратила на них внимание, потому что смотрела, как её муж движется позади женщины, свесившей голову в окно и стонущей так, что у Магдалены темнело в глазах. То, что было потом, Магда помнила очень смутно. Она видела, как Эд по подоконнику перешёл в соседнее окно, потом — как он оказался внизу. Помнила, как он посмотрел ей в лицо, прямо в лицо, широко распахнутыми глазами, и она подумала — Светлоликая Гилас, сейчас он узнает меня… И, пока она думала это, он схватил её и стащил наземь, едва не вывихнув ей плечо. Бросил слова извинения — и, оттолкнув её прочь, усадил на коня какого-то мальчика, которого Магда в темноте и суматохе не успела рассмотреть. Она отступила во тьму, наткнулась на что-то мягкое, живое, и только по яростному визгу из-под ноги поняла, что это крыса. Тут кто-то пьяно завопил над самым её ухом, и она, не помня себя, повернулась и кинулась прочь… Очнулась только к Верхнем городе — ноги принесли её к стенам отцовского замка, к самому безопасному месту на земле. Какое-то время она неистово благодарила Гилас за то, что осталась жива, а потом так же неистово — за Эда, чтобы и он остался жив, совсем позабыв о том, что ненавидит Эда и ненавидит богов.
И будто в насмешку — именно тогда увидела его снова.
Он подъехал к воротам. Спешился рядом с каким-то юношей — Магда не видела его лица, но узнала своего коня — это был новый конь, она купила его на минувшей неделе и нарочно прятала от Эда, чтобы он не узнал лошадь в городе, когда Магдалена будет ехать за ним. А потом… она старалась не думать о том, что было потом. Но думала — и колола пальцы иглой. Вспоминала, как Эд наклонился к этому мальчику, как говорил что-то неслышно, дыша ему в лицо — и колола. Вспоминала, как потом к ним подъехали люди, что они сказали Эду и что он ответил, — и колола. Вспоминала, как потом он, подхватив этого мальчика легко и бережно, будто новобрачную, усадил на лошадь — и колола, колола, колола…
Эд отвёз этого мальчика к ним в дом. Провёл через заднюю калитку. Она слышала, как они тихо переговариваются во дворе. Слышала смех Эда.
Если бы Магдалена могла, она бы села на мостовую и плакала, плакала и плакала до самого утра, до тех пор, пока он не заметил бы её. Но она не могла плакать.
Поэтому она колола пальцы.
Леди Эмма наконец обратила на это внимание и, обругав её за невнимательность, велела отправляться домой и хорошенько выспаться. Магда послушалась, как в тумане — отвесила поклон, вышла, прошла галереей, потом двором. Встретила во дворе начальника стражи, получила предложение проводить её и не стала отказываться. У ворот её дома он помог ей спешиться, поправил плащ на её плечах и осведомился, хорошо ли она себя чувствует. Магда ответила, что хорошо.
А потом вдруг поняла, что уже слишком поздно — совсем стемнело, и Эд уже уехал в город. Сегодня она его не отыщет.
И от этой мысли она наконец смогла заплакать.
В нижней части дома горел свет, слуги ещё были на ногах, но Магда отвергла их дежурную услужливость и поднялась на тёмный и пустой второй этаж. У двери своей спальни остановилась, внезапно осознав, что не может войти туда и лечь в пустую постель. Не сегодня. Не сейчас. У неё слишком болели исколотые пальцы.
Она прошла по коридору ещё немного, по дороге уронив плащ с плеч, вошла в спальню Эда. И увидела его на кровати. Он спал на животе, отвернув лицо к окну.
Магдалена обошла кровать и села рядом с мужем. Его лицо было бледным, осунувшимся и напряжённым, он беспокойно хмурился во сне и тяжело, неглубоко дышал.
Протянув руку, Магдалена провела рукой по его лбу и задержала ладонь.
«Интересно, — подумала она, — в эту ли постель ты привёл вчера мальчика? Или в нашу общую? Или, может быть, в мою?»
Но на самом деле она не хотела этого знать. Сейчас Эд был здесь, и он спал. Спал дома, один. Впервые за… она не помнила, за сколько времени.
Магда тихо разделась и легла с ним рядом. Помедлив, прильнула к нему сзади, обняла. Он повернулся на бок, сонно нащупал её руку и прижал к своему животу. Поёрзал, и она, прижавшись теснее, почувствовала, какие у него холодные ноги. Он вздрогнул, ощутив прикосновение её ступней к своим.
Она поцеловала его в затылок и уснула, обвив руками его плечи.
Солнце било по закрытым глазам, беспощадно и возмущённо. Солнце не привыкло, чтобы она спала так долго. Солнце вообще не привыкло, чтобы она спала.
Магдалена просыпалась с улыбкой и всё ещё улыбалась, когда открыла глаза и увидела мятую простыню под своей рукой. На подушке были мелкие красные пятнышки. Магда провела подушечкой большого пальца по остальным, исколотым, и поморщилась от боли.
Череда бессонных ночей не прошла даром — теперь она никак не могла заставить себя встать. Отсутствие Эда в её постели огорчило её меньше, чем она ожидала. Скорее всего, он был дома, просто проснулся ночью и, обнаружив её рядом, ушёл в другую комнату. Магдалена впервые задалась вопросом, почему он это делает. Почему не спит с нею почти с самого дня их свадьбы. И что, по его мнению, она должна отвечать, когда у неё участливо осведомляются о причинах, по которым она не беременеет?
Поплескав водой на лицо, Магда немного пришла в себя и вышла из спальни. По коридору как раз пробегал Рикки.
— Доброго вам утра, миледи!
— Рикки, милорд уже встал, ты не знаешь?
— Встал и уехал, миледи. Они с лордом Пиллано поехали смотреть соколиц. Он кошель забыл, меня вот прислал…
Магда отпустила его жестом, не тратя слов. Соколицы… Что ж, пожалуй, это лучше, чем шлюхи. И уж всяко лучше, чем мальчики. Она услышала странный лающий звук и не сразу поняла, что это её собственный смех.
— Миледи, вас там ждут внизу!
Сытая рожица Рикки сменилась худым личиком горничной Мари, а Магда даже не заметила, как и когда это произошло.
— Ждут? — тупо переспросила она. — Меня?
— Да, какой-то лорд. Он не представился. Я сказала, что вы ещё не встали, но он настаивал… Я бежала за Гаретом, чтоб его выставил, но он…
— Оставь, — отрешённо сказала Магдалена. — Идём. Поможешь мне одеться.
Какой-то лорд. Дожидается. Настаивал. К ней? «Что за вздор, — думала Магда, пока ловкие пальцы Мари управлялись с завязками на её корсете. — А впрочем, почему же вздор? Почему ко мне в отсутствие мужа не может явиться посторонний мужчина? Кто меня осудит? Кто посмеет осудить меня?
Не ты, Эд. Ты не посмеешь».
Входя в гостиную, Магдалена уже успела нацепить маску равнодушной любезности. У неё болела голова и подушечки пальцев, поэтому она с порога, ещё не разглядев посетителя, сказала:
— Прошу прощения, сударь, но моего мужа нет дома. Я с радостью передам ему ваши…
И осеклась, когда сидевший в кресле человек поднялся ей навстречу.
Она не знала его, хотя и встречала прежде. И если бы встреча произошла в иных обстоятельствах, наверняка забыла бы это хмурое, ничем особым не примечательное лицо. Но она видела его в ночь, которая перевернула её жизнь, в ночь, каждую подробность которой помнила лучше, чем хотела. Каждую — включая это лицо.
— Миледи, — сказал мужчина и церемонно раскланялся перед ней — так, как кланялся бы на официальном приёме, если бы она была представлена ему как член семьи конунга.
Но она настолько изумилась и оробела, что забыла ответить на поклон. Ей захотелось крикнуть мажордома и немедленно выставить незваного гостя вон. Но она не сделала этого.
— Кто вы такой… сударь? — сдавленно спросила Магдалена. — Что вам нужно?
— Для всех будет лучше, если вы станете звать меня Маркусом, миледи. А нужно мне, я полагаю, то же, что и вам. И я жду, что вы дадите мне это.
Он говорит очень уверенно — так, словно когда-то они заключили договор на крови, и теперь он явился стребовать долг. Сердце Магды часто забилось, пальцы заболели нестерпимо, так, что захотелось кричать.
— Я вас помню, — отрывисто сказала она.
— А я вас, — спокойно отозвался тот, кто велел звать себя Маркусом. — Должен отметить, что мужской костюм вам очень к лицу, так же, как смелость, благодаря которой вы надели его и явились… туда, куда явились. Многие не одобрили бы этого.
— Многие не одобряют многого, — отрезала Магдалена. — Я тоже помню вас. Вы тогда сидели в углу и… и слушали этот ужасный, вульгарный разговор!
Она понимала, что говорит глупости, именно те, которые и ждёт мужчина от женщины — и всё равно не могла сдержаться. Она ждала, что он рассмеется и скажет, что эти ужасные вульгарные разговоры не предназначены для нежных дамских ушек, и лишь её собственная вина в том, что они оскорбили её слух, — но он не сказал этого. Он не собирался шутить. У него было к ней дело, и он говорил о деле. Как будто знал, что она не откажет.
— Если вы помните тот вечер, миледи, а я знаю, что вы его помните, то должны помнить и то, что я слушал этот разговор без одобрения. То был поистине значимый день, — медленно проговорил Маркус. Он стоял, заложив руки за спину, и ничто в его облике не выдавало намерений, но Магдалена каким-то немыслимым, необъяснимым образом поняла, зачем он пришёл. И покачнулась, ухватившись за портьеру.
— Вам дурно? — холодно спросил мужчина.
— Н-нет… нет.
— Это хорошо. Вам придётся быть сильной, леди Магдалена.
— Чего вы хотите?
Он продолжал смотреть на неё в упор. Потом сказал:
— Как вы знаете, прошлой ночью вашего мужа пытались убить.
Она не знала. Или знала? Он не дал ей ни отдышаться, ни обмануть саму себя.
— Вы знаете также — или, по крайней мере, подозреваете, — что это не было случайностью. У него много врагов. И это также не случайность. Как вы оцениваете то, что он сделал с Сальдо Бристансоном?
— Он… это была честная дуэль.
— Может быть. Но как вы оцениваете то, что он сделал?
Она не ответила.
— Как вы оцениваете жизнь, которую он ведёт? Нравится ли вам, что он калечит и убивает по малейшей прихоти? Нравится ли вам, что он спит с каждой девкой, которая задерёт перед ним подол? Нравится ли вам, что он творит всё, что хочет, чувствуя себя безнаказанным, потому что за его спиной стоит конунг? Нравится ли вам, к слову, что за его спиной стоит конунг, когда с него спущены штаны?
— Прекратите! — зажав уши руками, закричала Магда. — Замолчите сейчас же!
К её изумлению, он умолк. И в его взгляде было сострадание.
— Вы ведь не знаете этого человека, леди Магдалена. Верно?
— Замолчите…
— Никто не знает его. Кто он такой и откуда взялся на беду всем нам. Вы не представляете, сколько горя он уже принёс… не только Бристансонам. И не только вам. Он сделал много зла и сделает ещё столько же, если не остановится. А он не остановится. И будет только хуже.
«Куда хуже? — хотела спросить его Магда. — Куда, скажите мне, может быть хуже?..»
— Лорд Маркус…
— Не «лорд», миледи. Просто Маркус.
— Маркус… сударь… кто вы такой?
— Я человек, клану которого действия Эда Эфрина принесли зло. Смиренно прошу вас удовлетвориться этим объяснением.
— Это вы пытались убить его прошлой ночью?
— Нет.
— Тогда кто?
— Это не важно, миледи. Важно, что покушение не удалось. И новых не будет, потому что то, что случилось вчера, привлекло слишком пристальное внимание конунга. А ваш муж после этого станет гораздо более осторожен. К тому же лично я вообще не верю, что его можно убить так. Ваш муж, он… он в сговоре с Мологом, — вполголоса закончил Маркус.
Магда снова услышала этот ужасный лающий смех и вынуждена была переждать его, прежде чем ей хватило дыхания заговорить.
— Что же, — давя из себя безумную улыбку, выговорила она, — вы хотите, чтобы я убила его?
Маркус молча смотрел на неё.
Какое-то время Магдалена ещё улыбалась. Потом усмехнулась. Потом расхохоталась. Маркус всё так же глядел на неё в упор, не предлагая ей сесть. Резко оборвав смех, Магдалена сказала:
— Вы безумец. С чего вы взяли, что я пойду на это?!
— Больше некому, миледи. Вы живёте с ним в одном доме. Вы его жена. Вы та, от кого он не ждёт удара. Вы единственная, кого конунг пощадит, когда узнает.
— Вот как? — жёстко сказала Магда. — Не нашлось никого, способного пожертвовать своей жизнью ради столь благой цели?
— Нашлось бы, миледи. Но на совести вашего мужа и так слишком много сгинувших душ, чтобы добавлять к ним ещё одну.
Она молчала. Он тоже молчал. Магдалена нашарила исколотыми пальцами край портьеры, сжала, дёрнула. Выпустила.
— Я люблю его, — сказала она.
— Я знаю. Но иногда этого недостаточно. Или… напротив. Иногда достаточно только этого.
— Довольно, — сказала Магдалена и закрыла глаза. — Уходите.
— Вы знаете, что я не лгу. Про Молога… про их связь. И про то, что Эд Эфрин приносит горе тем, кто окружает его. Вы знаете это лучше прочих, не правда ли?
— Довольно, я сказала. Оставьте меня… сударь.
Он пошёл к выходу, не поклонившись. Проходя мимо Магдалены, остановился — она чувствовала это, хотя и не открывала глаз.
— Я пришлю вам всё необходимое, — сказал Маркус Ортойя, брат лорда Микаэля и отец Ланса Ортойи.
— Не надо, — ответила Магда. — Я знаю, где достать.
На удивление, найти место, к которому она подъезжала еженощно на протяжении нескольких недель, при свете дня оказалось не так-то просто. Слишком много красок, много людей, детей, лошадей, собак, всё шумело, смешавшись, то и дело перевернувшаяся телега или рассыпавшаяся бочка преграждали дорогу, будто намеренно стремясь задержать её. А может, дело было в том, что, выслеживая Эда, Магда не думала о дороге и не видела её — просто шла за ним, словно слепец за поводырём или жрица за своим богом.
Только Эд Эфрин не был богом. Он был смертен.
Помедлив, Магдалена Фосиган толкнула дверь, еженощно раскрывавшуюся, чтобы заглотить в своё ненасытное чрево её мужчину. Низко и мелодично звякнул колокольчик.
Она поправила вуаль и вошла.
Магда сама не знала, каким ожидала увидеть внутреннее убранство «Красной змеи». Быть может — теперь это ей пришло в голову и едва не вызвало нового приступа нервного смеха, — она всерьёз полагала, что прямо за дверью громоздится перина, на которую толстозадая шлюха валит Эда, стоит ему лишь оказаться в её лапах. Магда вспомнила ту желтоволосую женщину, которую видела прошлой ночью на подоконнике, вспомнила её протяжные, исполненные бесстыжего наслаждения стоны — и подумала, так ли стонет эта женщина, эта аптекарша в чистом, но убогом платье тёмно-синего сукна, глухо застёгнутом до самого ворота, во вдовьем чепце на подобранных волосах — ни дать ни взять, приличная женщина, степенная торговка! Сидит себе за прилавком, считает выручку, полные губы чуть заметно шевелятся, называя цифры — но так ли они шевелятся, когда шепчут: «Эд»?.. Или раскрываются в истошном крике, как рот той, что свешивалась из окна?..
Магдалена обнаружила, что сидит, и ветер дует ей в лицо. Ветер? Откуда ветер в этой тесной, тёмной комнатушке, закрытой наглухо, наполненной столь сильной и крепкой смесью бесчисленных запахов, словно здесь никогда не отпирают окон?
— …дурно? Сударыня, вам дурно? — повторяла женщина, которую любил Эд, и ненаигранная забота читалась на её широком, по-своему красивом лице. Магдалена всю жизнь провела в Верхнем Сотелсхейме и умела отличить ненаигранную заботу от притворной.
— Понюхайте это. Вам станет легче.
— Не стоит, — сказала Магда и отвела от себя протянутую руку с зажатым в ней флаконом. Пухлая рука, короткие пальцы, толстое запястье охвачено короткой кружевной оборкой, венчающей глухой рукав. Рука грубой торговки. Не рука искусной любовницы. Не рука искусной убийцы.
Искусной убийцей здесь была не она.
— Мне сказали, — проговорила Магдалена, — что вы сможете помочь мне… что у вас найдётся то, что необходимо моему мужу.
Быстрый пристальный взгляд из-под широкой оборки чепца.
— О да, — сказала аптекарша вполголоса, — без сомнения. У меня есть самые разнообразные снадобья, одно из которых, несомненно, подойдёт и вашему мужу.
«Как странно она говорит, — подумала Магда. — Вовсе не как торговка. Нахваталась, должно быть, от Эда… или от своих клиентов… конечно… как я глупа».
— Моя подруга не далее чем на прошлой неделе приобрела у вас такое снадобье. И очень вас мне рекомендовала. Клялась, что вы как никто умеете избавлять людей от страданий.
— Я — нет. Я не лекарь, сударыня. Всего лишь аптекарша. Нет ли у вас рецепта от знающего мастера?
Магда растерялась. На неё смотрели всё так же пристально, а она смотрела на пухлые пальцы, на мягкий подбородок, серые глаза под пушистыми ресницами — смотрела так, как смотрел он, так, будто была мужчиной, будто хотела эту женщину сама.
Потом она сказала:
— У моего мужа всего лишь бессонница. Жестокая бессонница. И я хочу, чтобы он обрёл покой. Цена меня не волнует. Не думаю, что на это нужен рецепт.
Аптекарша из «Красной змеи» спокойно кивнула, будто ждала именно этих слов. Подошла к двери — и заперла её, сперва на ключ, потом на засов. После чего повернулась к Магдалене.
— Каким угоден вам сон вашего мужа, миледи? Должен ли он наступить быстро или не сразу? Должен ли быть глубок, крепок и сладок, либо короток и беспокоен?
Она спрашивала что-то ещё, но Магда будто не слышала её, только смотрела на её губы, слабо шевелящиеся — цифры, счета, Эд, — и вспоминала, как он целовал эту женщину, не заботясь о том, видят ли их.
— Пусть он уснёт спокойно и быстро, — услышала она свой голос.
Аптекарша кивнула ей без улыбки, попросила обождать и поднялась по лестнице на второй этаж. Магда слышала, как скрипят половицы под её ногами, и судорожно сжимала ткань своего плаща.
Торговки не было довольно долго. Вернувшись, она поставила перед Магдаленой маленький флакон дутого синего стекла — почти такого же цвета, как её собственное платье.
— Достаточно пяти капель, госпожа моя, и крепкий спокойный сон наступит в течение часа. Но будьте осторожны — у этого снадобья довольно резкий вкус, и его лучше добавлять в сухое вино. Любой сладкий напиток либо вода будут им безнадёжно испорчены.
Магдалена Фосиган взяла флакон с ядом. Какое-то время вертела его в пальцах, разглядывая, словно дорогую безделушку. Потом вскинула голову и посмотрела аптекарше Северине в глаза.
Сказала:
— Так странно порой выходит. Мы убиваем тех, кого любим, сами не зная, как это вышло.
Аптекарша Северина кивнула. Она знала, что так бывает. Или думала, будто знает.
Магдалена Фосиган подняла вуаль и улыбнулась слабой, мёртвой улыбкой.
— Надо было любить, пока могла, — прошептала она и бросила на прилавок кошель, тяжело зазвеневший золотом.
Она вернулась домой засветло, хотя шла очень медленно; всё медленнее и медленнее, оттягивая миг, когда уже не сможет повернуть назад, — так, как будто всё ещё могла. Она не думала — запрещала себе думать, — но перед мысленным взглядом яркими сполохами носились бессмысленные картинки: волосы Эда, фетровая шляпка Лизабет, забрызганные кровью пяльцы, силуэт юноши верхом на её коне, запястье Северины, отороченное кружевной оборкой.
«Что я делаю? — подумала Магдалена. — О, Светлоликая Гилас, что же я делаю?!»
В ворота её дома въезжал всадник. На долю мгновения ей показалось, что это Эд, и сердце подскочило в груди, но потом она поняла, что ошиблась, но не испытала облегчения.
— Квентин! — она бежала к воротам и кричала, будто безумная или пьяная. — Квентин!
Он услышал её крик ещё до того, как спешился, и в изумлении обернулся. Магда подбежала к нему, как раз когда он спрыгнул на землю, и вцепилась в его плечи подрагивавшими пальцами, а он перехватил её руки и с тревогой заглянул ей в лицо.
— Магда, что случилось?
— Что ты… Н-ничего… Что ты здесь делаешь?
Квентин Фосиган, её младший брат, будущий конунг, вместо ответа поднял вуаль, зацепив за верхнее поле шляпы. Он всё так же глядел на Магду, и она знала: ему не нравится то, что он видит.
— Ничего особенного. Просто приехал повидать Эда. Он дома?
«Что же ты делаешь, Квентин? И что делаю я?»
— Нет, — сказала Магдалена. — Нет… его нет. Во имя Гилас, Квентин, что тебе от него надо?
Он внезапно смутился и покраснел — бедный мальчик, он всегда так легко краснел…
— Я просто хотел… не важно. Я не думал, что он уезжает из дома так рано.
— Он всегда уезжает так рано. Квентин, послушай… не надо сюда приезжать.
— Это почему? — на его простодушном лице ясно читалась обида. — Ты не хочешь видеть меня в своём доме, сестра?
— Ох, нет. Нет.
Не заплакать, Магда. Только не заплачь сейчас, иначе всё пойдёт прахом… заплачь, Магда, заплачь!
— Просто он… он не тот человек, с которым стоит водить знакомство юноше твоих лет, — через силу выдавила улыбку она, но Квентин не улыбнулся в ответ.
— Я знаю, о чём ты говоришь, сестрёнка. И ты не права. Поверь мне.
— Да! Я не права! Я знаю, что не права! — воскликнула она, потом расхохоталась, потом порывисто обняла его и крепко прижалась мокрым от слёз лицом к его щеке. — Ох, Квенто, — прошептала Магдалена Фосиган. — Ты ещё так юн.
Потом оттолкнула, не обращая внимания на изумление в его взгляде, и сказала:
— Прости, у меня была бессонная ночь и трудный день. А ещё столько надо успеть. Приезжай завтра, хорошо? Я скажу Эдварду, что ты приходи, он… он дождётся тебя.
— Передай ему… что я заходил поблагодарить, — поколебавшись, сказал Квентин. Вчера утром — нет, ещё сегодня утром! — она бы вздрогнула от этих слов, но теперь было всё равно. Завтра, всё завтра… пусть всё это будет завтра.
— Передам. Прощай, братик, — она крепко поцеловала его и быстро зашагала к дому. Квентин долго глядел ей вслед, пока она не скрылась.
— Миледи нездоровится? — вполголоса спросил он привратника, наблюдавшего эту сцену.
Привратник пожал плечами. Ему нечего было ответить.
Эд вернулся домой около семи вечера, как делал всегда, если отлучался днём — переодеться и, при необходимости, взять с собой слугу. В этот раз он опаздывал, торопился, а потому был особенно резок и раздражителен. В обычные дни Магда, видя его в таком настроении, предпочитала беззвучно стоять в стороне, опустив голову.
Впрочем, разве не то же самое она делала и во все остальные дни?
— Эдвард, ты не мог бы остаться сегодня и поужинать со мной?
Она стояла в дверях его спальни, говоря это, и смотрела в пол. Он выбирал сорочку и страшно ругался, швыряя одежду на пол, а побледневший от досады и напряжения камердинер по мере сил помогал ему, но тщетно — все, как на подбор, оказывались широки. Он сильно похудел за последнее время, поняла Магда, но ничего не сказала вслух.
Услышав её вопрос, Эд прекратил тиранить слугу и обернулся. Посмотрел на жену — голый по пояс, с небрежно обрамлявшими лицо распущенными волосами, с болезненно намечавшимися под золотистой кожей рёбрами. У неё перехватило горло.
— Я обещал быть в «Роге» сегодня, — сказал он наконец, и в другой день она поклонилась бы ему и ушла, но сейчас сказала:
— Пожалуйста, Эдвард. Я прошу всего лишь один час твоего времени. — Он не отвечал, и она осмелилась добавить, хотя и рисковала прогневить его непрошеным советом: — Они могли бы обождать немного, ты присоединишься к ним попозже.
И только когда он кивнул, Магда поняла — с содроганием, с ужасом, которого никогда не знала прежде, — что до самого этого мгновения была уверена: он откажется. Он никогда не ужинал с ней. Быть может — оттого, что она никогда не просила.
Она склонила голову и вышла из комнаты, прикрыв дверь.
Стол им накрыли внизу, в гостином зале, где более радушный хозяин и более общительная хозяйка принимали бы многочисленные компании друзей. Но Эд предпочитал валандаться по тавернам, а Магдалена — заниматься шитьём в обществе леди Эммы, и никто из них не задумывался о том, что могло быть иначе.
И могло ли?
Стол был рассчитан на десятерых, он был длинным и узким, и для хозяев его сервировали, по традиции, в разных концах стола. Они сидели на расстоянии дюжины шагов друг от друга, бесконечно далёкие. Магда не знала, что приготовили сегодня на ужин — только и успела передать кухарке, что хозяин ужинает дома. Это вызвало небольшой переполох, но у них была хорошая прислуга. На столе, помимо привычных для Магдалены кроличьей грудинки, сыра и хлебцев, появилось фазанье жаркое и голубиный паштет. «Он так похудел, — думала Магдалена, глядя, как Эд разрезает мясо. — Ему надо есть побольше. Да и что он ест вообще в этих кабаках? Небось только закусывает выпивку. Как же он похудел… я даже не замечала. Нужно следить, чтобы он ел получше. Нужно чаще оставлять его дома. Нужно…»
Эд взял кувшин с вином и налил себе полную чашу. Он всегда разливал вино сам.
Они не разговаривали. Магдалена сидела, сложив руки на талии, и смотрела, как он, странно бледный в мерцании свечей, наклоняется вперёд, пальцы берут нож, откладывают, берут снова, снова откладывают, тянутся к кубку, оплетая резную ножку.
— Твоё здоровье, — коротко сказал Эд, приподнимая кубок.
Она слабо кивнула.
Он выпил.
Скривился — и не стал хвалить даже из вежливости. Магда запоздало вспомнила, что он не любит сухие вина. Совсем не любит, предпочитает сладкие, а она забыла. Как она могла забыть? Без сомнения, он тоже сейчас об этом думал. Еле упросила мужа в кои-то веки остаться дома — и не угодила с вином.
Сама она не пила, и он не спрашивал, почему.
«Почему, — думала Магдалена, глядя, как он снова подносит кубок к губам, — почему ты никогда ни о чём меня не спрашиваешь? Почему никогда ни о чём не расскажешь? Не возьмёшь мою руку и не вздохнёшь, чтобы я могла спросить — как ты?.. Ты ведь не счастлив. Маркус сказал правду, о, он чистую правду сказал — ты жесток, ты беспутен, ты приносишь горе, но ты ведь сам несчастлив от этого, разве нет? И почему ты никогда не признавался мне в этом? Почему не позволил мне показать, что я это вижу? Почему просто не позволил мне быть твоей женой… быть тебе хорошей женой? Видят боги, я этого так хотела».
— Кстати, — обронил Эд, поднося кубок к губам снова — Магда перестала уже считать, в который раз. — Лорд Грегор просил, чтобы ты подыскала ему нового виночерпия.
— Да? — как во сне, отозвалась она.
— Да. Просил, чтобы ты этим занялась.
— А что… что сталось с прежним?
— Полагаю, что он мёртв. С виночерпиями это часто случается, — он улыбнулся своей очаровательной, обезоруживающей улыбкой. Его верхняя губа потемнела от вина.
— Десерта дожидаться не буду, прости. Меня и так заждались, — сказал Эд, поднимаясь и отодвигая стул.
И тогда Магдалена встала тоже и пошла к нему. Дюжина шагов, и только, — но она так долго шла, так невыразимо долго, что он обернулся и глядел на неё целую вечность, прежде чем она подошла вплотную и обвила его шею руками, и поцеловала так же долго, бесконечно долго в тёмные от вина губы.
— Люблю тебя, — прошептала Магдалена. — Люблю всем сердцем.
Он стоял, держась рукой за спинку стула, и смотрел ей вслед.
Магдалена поднялась по лестнице и вошла в свою пустую и холодную спальню. Подошла к окну и стала смотреть, как Эд во дворе седлает коня, как вскакивает в седло и выезжает за ворота, как тает в дымке, застилавшей её взгляд.
— Всем сердцем люблю тебя, — прошептала она.
Потом подошла к комоду, достала из ящика флакон дутого синего стекла и выпила до капли всё, что в нём было.
4
Эд выехал из дому гораздо позже, чем собирался, однако, оказавшись за воротами, не стал пускать коня рысью. У него было странное настроение: к тревоге и растерянности вчерашнего дня прибавилось возбуждение, вызванное разговором с Бертом Пиллано. Как выяснилось, тот знал больше прочих о грядущей кампании. По его словам, во фьеве Ролентри в самом деле объявился некто, выдававший себя за Анастаса Эвентри и активно собирающий под свою руку войска. Его уже поддержали Ролентри и Блейданс, пока, впрочем, только на словах. Цель юного полководца была очевидна: он стремился отбить земли своего клана, которых его семья лишилась вследствие весьма циничного предательства со стороны Одвеллов. Фосиганы не оказали Эвентри должной поддержки; сейчас это могло выйти им боком. У конунга всегда оставался выбор: подавить ли междоусобицу в среде своих септ, ратуя за всеобщий мир и благоденствие, — или использовать её в собственных целях. Что произойдёт на сей раз, сказать покамест было сложно. Пиллано должен был отправиться в Блейданс со дня на день, но внятного приказа о поддержке Эвентри у него не было — пока что ему велели просто осмотреться и доложить обстановку.
Всё это ввергало Эда в возбуждение, которое он тщательно скрывал, изображая всего лишь досужую заинтересованность — что было крайне нелегко и отнимало много сил. Он кивал, изредка вставляя многозначительные междометия и старательно являя заинтересованность соколицами Пиллано, смотр которых стал предлогом для разговора, и думал — заметно ли стороны, что его трясёт. Надо было ехать, теперь он утратил в этом всякие сомнения. И уже не только из-за Того, Кто в Ответе, объявившегося в землях Эвентри… а может быть, именно из-за него. Если он был и действовал там, это могло объяснить очень многое.
Как жаль, что всё это никоим образом нельзя было использовать как аргумент в беседе с конунгом.
Эд ехал по тонущей в сумерках улице, опустив голову и глядя на холку коня; лошадь всхрапывала, порываясь пойти рысью, копыта размеренно цокали по мостовой. «Всё это странно, — думал Эд. — И Магда…» Магда сегодня тоже была странной. Она, впрочем, всегда такой была. Она не нравилась ему — никогда не нравилась, хотя внешностью и превосходила свою нелюбимую сестру. Но в ней не было живости, открытости, бесхитростного бесстыдства Лизабет, и никакие достоинства в глазах Эда не могли перевесить этих недостатков. Он любил искренних женщин, не боявшихся своих желаний. И даже если они скрывали свои истинные чувства, Эд охотно принимал игру, в которой ему предстояло получить желаемое, не вызывая на открытый бой. Он всегда так делал. А Магдалена так не умела или не хотела. Все её страсти сводились к долгому немигающему взгляду, которым она буравила его вне зависимости от того, являлся ли он к ней с подарком, с поручением от отца или пьяный вдрабадан. Все её желания сводились к тому, чтобы он не выставлял её в негодном свете — бедняжка сильно страдала из-за запятнанности своего происхождения и, без сомнения, была ещё более оскорблена, когда ей навязали в мужья безродного выскочку, сумевшего втереться в доверие к её отцу. По правде говоря, она должна была ненавидеть Эда — Лизабет, поменяйся они местами, наверняка бы его ненавидела, забавляя и распаляя этим его самого. Но Магдалена была другой. До того другой, что он даже немного побаивался её. Нет, не то чтобы побаивался… скорее, остерегался. Сложись иначе, он предпочёл бы не иметь с ней ничего общего. Но, увы, у Грегора Фосигана больше не было побочных дочерей.
А сегодня, когда она ни с того ни с сего осмелела настолько, чтобы заявить права на его свободное время, он слегка опешил от неожиданности — до такой степени, что остался. И потом, когда она внезапно обвила его шею своими холодными руками и призналась в любви, словно шестнадцатилетняя девочка, наслушавшаяся любовных баллад, и вовсе не знал, что сделать или сказать. Поэтому сразу сбежал — так быстро, как мог, — а вот теперь, обретя наконец свободу, двигался шагом по улице, не зная, куда и зачем ему теперь идти. В «Серебряный рог» совершенно расхотелось — он не услышал бы там ничего такого, что ему уже не поведал сегодня Пиллано, а перемывать кости отсутствующим знакомцам у него не было ни малейшего настроения. Лорд Грегор налюбовался на его физиономию на ближайшие сутки как минимум, в бордель после «Алой подвязки» как-то не тянуло, к Северине ещё рано… Эд внезапно понял, что непроизвольно натянул поводья и теперь стоит посреди улицы, среди снующих людей, торопящихся кто на рынок, до того как он закроется, кто в замок, до того как опустят ворота, и ему совершенно некуда идти. Он ощутил неприязнь, почти отвращение к этому городу, в котором не было места, куда просто хотелось бы пойти, когда не было в том никакой особой надобности. И снова подумал о Магдалене — о её болезненно горящих глазах, впивавшихся в его лицо, когда она смотрела на него с яростной, пугающей мольбой и шептала, что любит его всем сердцем.
«Я мог бы поехать к ней».
Он немедленно решил, что не будет этого делать. Потому что такое проявление внимания непременно закончится постелью — Эд слишком хорошо знал свои слабости, — а спать с ней он не хотел. Не столько потому, что она отпугивала его своей ледяной неподвижностью, сколько потому, что он не собирался делать ей ребёнка. Они спали вместе всего дважды, сразу после свадьбы. Она не была девственницей, и Эд рассудил, что, если он отойдёт в сторону, она не зачахнет без мужского внимания — в конце концов, своим собственным поведением в этом отношении он давал ей полный карт-бланш. Она, впрочем, была осторожна, за год так и не понесла — ни от него, ни от кого-либо из своих любовников. Это было хорошо. Родись девочка, ещё полбеды, но Эду вовсе не улыбалось появление ещё одного Фосигана, который может претендовать на престол конунга, даже если это будет его собственный сын.
«И всё же можно было бы просто поехать к ней, — подумал он снова. — Просто поехать и не трахать её. Бес подери, Эд, ты всё же должен учиться держать себя в руках. Сели бы у камина, поболтали… хотя, Гилас, о чём с ней можно болтать?»
Но всё же эта мысль, как он ей ни противился, чем-то отзывалась в нём — и не давала ему развернуть коня в сторону ремесленного квартала и немедленно отправиться к Северине. Смешно, но из-за этих мыслей о Магдалене он чувствовал вину перед ней. Хотя никогда не обещал ей не думать о других женщинах. Она об этом и не просила.
«Ладно, — решил он в конце концов, раздражаясь сам на себя за долгие колебания, — поеду в какой-нибудь кабак и нажрусь. По-простецки, без изысков. Сниму, чёрт подери, напряжение».
Эта мысль ему понравилась куда больше всех предыдущих. Он уже оглядывался в поисках ближайшего трактира и провёл рукой по поясу, чтобы проверить, сколько у него с собой денег — и выругался, мигом растеряв только-только приобретённую безмятежность. Кошеля на поясе не было. Могли срезать, конечно, пока он тут мечтал, но более вероятно, что Эд снова попросту забыл его — второй раз за день.
Он опять выругался и развернул коня в сторону дома. Проклятье, всё же придётся вернуться! Настроение портилось всё сильнее. Эд ощутил лёгкое головокружение, быстро отхлынувшее, сжал зубы и ударил лошадь пятками — сильнее, чем следовало. Застоявшийся конь радостно сорвался в галоп, и Эд едва не опрокинулся навзничь, едва успев ухватиться за гриву. Дьявол, да что такое?! Снова муть в голове, и колени ослабли, еле держат…
Он заставил коня перейти на рысь и почувствовал себя много лучше. Стоило бы, возможно, просто завалиться спать. Какого беса? Срочных дел на сегодня у него всё равно не было.
Дом был странно тёмен для этого времени суток, только в спальне Магдалены горел свет. Эд спешился у ворот, передал поводья конюху, вошёл в дом и поднялся по лестнице. На втором пролёте снова ощутил приступ дурноты и вынужден был ухватиться за перила, чтобы не упасть. Потом долго стоял, переводя дыхание.
«Что это со мной?» — растерянно подумал Эд, разжал руки и пошёл дальше.
Кошель, как и следовало ожидать, лежал на комоде, на самом видном месте. Эд не взял его, потому что спускался ужинать с Магдаленой, а потом слишком торопился уйти, чтобы вспомнить об этом. Эд растянул шнуровку и заглянул внутрь. Он неожиданно понял, что не помнит, сколько там денег, и, высыпав монеты на комод, стал пересчитывать, сбился, опять пересчитал, сбился снова. Голова кружилась всё сильнее.
В конце концов он просто сгрёб монеты обратно и, прицепив кошелёк на пояс, вышел из комнаты. Сделал несколько шагов по коридору.
И остановился у двери, из-под которой виднелась полоска жёлтого света.
«Может, не ходить всё-таки никуда? — снова подумалось ему. — Раз уж вернулся… и чувствую себя так странно…»
— Магда? — Он поколебался мгновение, потом постучал в дверь. Почему-то ему не хотелось по-хозяйски врываться к ней. — Ты не спишь? Магдалена!
Ни звука. Эд вздохнул. Спит, конечно… только почему при свете? Он ощутил смутную, необъяснимую тревогу — и одновременно с ней новый прилив головокружения и тошноты.
Внезапно по неведомой причине ему стало страшно.
— Магдалена! — позвал Эд снова, открывая дверь.
Она легко поддалась. Он ступил за порог.
Его жена лежала посреди комнаты на спине, широко раскинув руки. Юбка задралась и обнажила левую ногу до колена. Ноги были судорожно поджаты, словно её били конвульсии. Голова Магдалены запрокинулась на бок под неестественным углом, на выбившиеся из-под покрывала волосы хлопьями налипла розоватая пена, стекавшая изо рта. Глаза успели остекленеть.
Эд подошёл к ней на негнущихся ногах и опустился на колени. Позвал, сперва громко, потом тише, взял её лицо, вдавив пальцы в щёки, повернул её голову к себе, и пена со слабым бульканьем выплеснулась ему на руку. Его пальцы разжались сами. Голова Магдалена возвратилась в то положение, в котором была, отвернулась, будто она даже после смерти не хотела смотреть на него.
Он проследил взглядом за её правой рукой — и увидел то, что почти ждал увидеть.
Маленький флакон синего стекла.
«Милосердный Гвидре», — то ли подумал, то ли сказал Эд Эфрин. И тут на него накатила такая слабость и тошнота, что он, не удержавшись на коленях, завалился на бок, прямо на мёртвое тело своей жены. Он знал, уже знал и не верил, отказывался верить, и чтобы развеять последние сомнения, поднёс флакон к носу и втянул исходивший от него чуть заметный запах.
В точности тот же, какой издавало вино, поданное Магдаленой к ужину. Эд попробовал его и подумал, что оно давно прокисло, но ничего не сказал, чтобы её не расстраивать. Она ведь так просила, чтобы он остался.
— Магда… — простонал он. — Магда… что же ты наделала… что ты наделала, сука?!
От этого крика будто что-то лопнуло в его голове, перед глазами стояла красная пелена. Эд рухнул на пол, потом с трудом поднялся на четвереньки. Его трясло, он почти ничего не видел — всё перед взглядом слилось в пульсирующий поток, искажающий предметы и пространство. Отвернувшись от Магдалены, Эд приподнялся на коленях и сунул пальцы в рот, так глубоко, как мог. Его обильно вырвало — желчью и, как ему показалось, кровью. Он попытался вызывать рвоту снова и мучил свой желудок до тех пор, пока не кончилась даже желчь и он не свалился на пол, задыхаясь и хватая ртом воздух. На лестнице и в коридоре гремели шаги, но он не был уверен, не чудятся ли они ему.
Прибежавшие слуги — Эд не видел их лиц и плохо понимал, кто они такие, — подхватили его и перенесли на кровать. Женский голос визгливо вскрикивал, потом залился плачем, мужской голос сердито прикрикнул, потом что-то приказал, и Эд разобрал слово «лекарь».
Лекарь. Светлоликая Гилас! Лекарь! Да какой тут уже, к дьяволу, лекарь…
И тут Эд понял, что в Сотелсхейме есть лишь один человек, который не даст ему умереть в эту ночь.
Он попытался встать, но его тут же уложили обратно. Он зарычал от злости, и это подействовало — руки разжались, и Эд смог подняться, смутно слыша уговоры, причитания и истерические женские всхлипы. Он увидел серое пятно — сгорбившуюся служанку — рядом с желтым пятном — это была Магдалена, — и глядел на них какое-то время. Потом сказал, чувствуя, как влага выступает на губах от каждого слова:
— Уберите… её… — и, оттолкнув снова чьи-то руки, вывалился в коридор.
Его правая рука по-прежнему судорожно стискивала синий флакон.
На улице ему стало лучше: в глазах прояснилось, и он даже смог взобраться в седло — правда, с помощью конюшего, тоже лепетавшего что-то в ужасе и смятении. Эд лёг коню на холку и, прошептав ему на ухо: «Давай, родной», из последних сил ударил его пятками. Конь понёс, и очень скоро крики и голоса позади стихли. Эд мчался в сумерках, распугивая прохожих, болтаясь в седле и тратя остаток сил на то, чтобы не упасть. Он не мог править, не видел дороги, и вся надежда была лишь на то, что конь отнесёт его туда, куда отвозил чаще всего в последние несколько недель.
Топот конских копыт, сминавших всё на своём пути, был нечастым событием на Травяной улице, и жители выглядывали из окон, которые тут же захлопывали. Северина выглянула тоже. И побелела как смерть, как мёртвая Магдалена Фосиган, тело которой сейчас с плачем раздевали служанки.
Она оказалась внизу раньше, чем стайка любопытных успела собраться вокруг человека, замертво свалившегося с коня перед входом в аптеку «Красная змея». Эд уже не мог говорить, только хрип вырывался из его груди с каждым вздохом. Северина кое-как помогла ему встать на ноги и, закинув его руку себе на шею, втащила его в дом и захлопнула дверь. Там силы покинули его окончательно, и он осел на пол, как Северина ни пыталась удержать его на ногах.
— Что с тобой? Что случилось? Эд, что с тобой? — повторяла она, зная, что он не может говорить, но ей было невыносимо слышать, как он хрипит, и она говорила хотя бы для того, чтобы заглушить этот звук.
Но Эд всё же сумел ответить. Он протянул к ней руку, его пальцы разжались, синий флакон дутого стекла выпал из них, покатился по полу и замер, поблескивая в свете лампы.
Аптекарша Северина посмотрела на этот флакон и страшно, пронзительно закричала.
Эд уже не услышал её крика.
Потом он горел в бреду, его били судороги и всё время рвало — так, что Северина едва успевала менять ведро. Она вливала в Эда гнусно смердящий отвар и плакала, вжимаясь лицом в его мокрые от пота волосы. Он промучился всю ночь и только к утру забылся тяжёлым сном — а вовсе не коротким и спокойным, как обещала Северина его жене. Ближе к полудню она разбудила его и снова напоила противоядием, и на сей раз тело Эда приняло его, не пытаясь отвергнуть. Это был хороший знак. Эд уснул снова, и Северина сидела рядом, пока он не перестал стонать и метаться, и тогда задремала, сложив руки над его изголовьем.
Она проснулась через несколько часов оттого, что он слабо гладил её по голове.
— Спасибо, — всё ещё хриплым голосом сказал Эд. Она вскинулась, всмотрелась в его лицо, белое как мел, осунувшееся, с жуткими тенями под глазами, но больше не сведённое судорогой боли. И снова расплакалась, целуя его подрагивающие руки.
Она так и не сказала ему, почему так быстро поняла, какое из противоядий ему нужно. А он никогда её об этом не спрашивал.
Эд пробыл в «Красной змее» ещё четыре дня — слишком слабый и беспомощный, чтобы самостоятельно добраться до нужника, не то что уйти. Это походило на первые его дни в Сотелсхейме, когда рубленая рана в боку терзала его так же, как сейчас терзали выжженные внутренности, а Северина была рядом, и он верил ей, знал, что она всё делает правильно. На этот раз он, впрочем, поправлялся гораздо быстрее, и уже на третий день смог встать, хотя было очевидно, что ему теперь навсегда придётся отказаться от острой пищи. Они почти не разговаривали. Северина думала о жене Эда, об этой тонкой, красивой молодой женщине с застывшим от горя лицом, и не понимала, не могла понять, как можно носить в себе это горе, когда ты его жена. Ещё она думала, что эта женщина была дурой, законченной и богами проклятой дурой не только потому, что хотела убить его, но и потому, что даже не смогла сделать это как следует. Северина ясно сказала ей о пяти каплях, она же, судя по состоянию, в котором приехал Эд, вылила в его кубок по меньшей мере треть флакона. С другой стороны, если бы доза была соблюдена верно, никаких внешних симптомов не проявилось бы. Эд просто ощутил бы слабость, потом сонливость. Потом пришёл бы конец, тихий и мирный. Он даже не понял бы, что умер.
А Северина — Северина могла даже никогда не узнать об этом… И если то была месть обманутой жены, то никто не сумел бы измыслить большей жестокости.
Впрочем, её ненависть к Магдалене Фосиган немного утихла, когда она узнала от Эда, что его жена разделила с ним содержимое синего флакона. Он сказал это и посмотрел на Северину, будто хотел услышать, что она на это скажет. И она сказала:
— Что ж, ей по заслугам.
И тогда он отвернулся к стене и долго молчал. Потом попросил трубку, и она принесла, хотя знала, что ему нельзя сейчас курить.
На четвёртый день, убедившись, что держится на ногах, Эд покинул её. Северина не спорила, хотя он был ещё слаб и бледен, — опытным глазом она видела, что яд окончательно вышел из его крови. Теперь ему надо было отдыхать и набираться сил, но Северина знала, что на это не приходится рассчитывать. Он и так потерял много времени, слишком много времени, и всё время повторял это во сне и в бреду.
Уходя, он поцеловал её не в губы, а в лоб. Потом уехал, и, глядя ему вслед, Северина думала, что, вероятно, больше никогда его не увидит, и что сам он наверняка знает это. И ещё она думала, что была единственной женщиной, которую он любил. И что это он тоже знает.
Эд опоздал на один день: Магдалену похоронили накануне. Спешно и почти тайком — конунг не хотел, чтобы слишком многие видели её тело. Сейчас оно покоилось в фамильном склепе в святилище Гилас, там, где лежали все Фосиганы, отошедшие к богам за последние тридцать лет. Магдалена стала первой незаконнорожденной, упокоившейся в самом почётном склепе Бертана; кому-то это, разумеется, не нравилось, и погребение несчастной женщины вызвало не меньше толков и пересудов, чем её странная и ужасная смерть. Говорили, что Лизабет Фосиган широко распахнула глаза и крепко сжала губы, когда узнала об этом, и коротко сказала: «Несчастная», — по иным источникам, прибавив к этому слово «дура». Говорили, что леди Эмма Фосиган при этом известии почувствовала себя дурно и очнулась лишь благодаря нюхательным солям — по иным источникам, очнувшись, она изрыгала ругательства столь ужасные, что краснели даже стражники у дверей её спальни. Говорили, что леди Магдалена отравилась от несчастной любви, иные добавляли, что предметом этой любви был её собственный муж, третьи шептались в галереях, что именно эфринский выскочка свёл со свету жену. Все, однако, сходились на том, что это страшный удар для конунга, но не было ни одного, кто осмелился бы сказать это вслух, рискуя быть услышанным лордом Фосиганом.
Пока эти разговоры бродили за стеной Сотелсхеймского замка, Эд Эфрин стоял в фамильном склепе Фосиганов в храме Гилас, вдыхая запахи омелы, ладана, сырости и разложения, и смотрел на мраморную плиту, навсегда отделившую его от женщины, которая едва не свела его в могилу. За свою не очень долгую жизнь Эд неоднократно был на пороге смерти, но никто ещё не подводил его к этому порогу так близко.
Эд положил ладонь на мраморную плиту и стоял так, чувствуя, как камень постепенно нагревается под его рукой. В склепе было пусто и тихо, рассеянный свет проникал внутрь сквозь стрельчатые окна под потолком, золотистыми полосами ложась на серые стены.
Эд услышал шаги за своей спиной, но не обернулся.
— Я думал, что ты мёртв, — сказал Грегор Фосиган.
Эд кивнул, не отнимая руки от камня, на котором было высечено её имя. Гробница его жены была единственной в склепе, лишённой скульптурного надгробия. Его либо не успели высечь, либо не собирались ставить вовсе. Всё же она была лишь младшей дочерью, бастардом правящего конунга.
— Какое лицо у неё было, когда… её опускали?
Лорд Фосиган ответил:
— Мирное.
Они очень долго стояли в полной тишине, озаряемые блеклыми лучами света.
— Как вышло, что ты жив? — спросил конунг.
— Мне хотелось. Хотелось жить. Простите… мой лорд.
— Нет. Увы, мой мальчик. Этого я не могу тебе простить.
Эд повернул к нему голову. Лицо лорда Фосигана было таким же, как всегда, — чуть приподнятые брови, расслабленные мускулы, внимательный ясный взгляд. Только кожа стала дряблой, как будто из-под неё исчезла добрая половина плоти, и обвисала складками вокруг глаз и рта. Конунг постарел на десять лет.
— Ты тоже отвратительно выглядишь, — сказал он.
Эд склонил голову.
— Я не хотел этого, — с трудом подбирая слова, проговорил он. — Милорд… вы же знаете… я не мог этого хотеть. Если бы я знал…
— Замолчи.
Через стрельчатое окно неслись отдалённые песнопения: в святилище Гилас пришло время полуденной молитвы. Светлоликая Мать смотрела в окна склепа, принимая погибших, даруя утешение выжившим.
— Милорд, — Эд заговорил с нажимом, ускоряя речь, — я действительно не хотел её смерти. Как сделать, чтобы вы поверили?
— Зачем? — спросил конунг холодно, посмотрев на него в упор. — Зачем тебе, Эдвард, нужна моя вера?
— Я не хочу, чтобы меня винили в том, в чём моей вины нет.
— Не важно, есть ли твоя вина. Она мертва, и мертва из-за того, что я впустил тебя в её жизнь.
— В таком случае вы виноваты не меньше меня.
Тёмные, льдистые глаза конунга без выражения смотрели на него. Он сложил руки в замок за спиной, но не сдвинулся с места. Перевёл взгляд на мраморную плиту, к которой Эд всё ещё прижимал ладонь.
— Отпусти её, Эд. Отойди от неё.
Эд смотрел на него несколько мгновений. Потом, отвернувшись, подчинился.
— Её мать, как ты знаешь, была замковой прачкой, — проговорил конунг. — Узнав о своей беременности, она хотела избавиться от плода. Я велел запереть её и приставил к ней своего личного лекаря. Тогда я ещё не женился во второй раз — моя первая жена была, как тебе известно, бесплодна, — и отчаянно жаждал сына. Когда родилась Магдалена, я отослал её мать на острова, а девочку признал и оставил при дворе. Мне многие говорили тогда, что не стоило этого делать. Но она была первым моим ребёнком, о котором я точно знал, что он мой. Потому она осталась. — Он снова надолго замолчал. Затем сказал: — Ты знаешь, что сама она не додумалась бы до такого. Убить себя могла бы, возможно, но не тебя.
Эду нечего было ему ответить. За четыре дня, проведённые у Северины, он успел не раз подумать об этом.
— Итак, — добавил конунг, — тебя дважды пытались убить в течение двух дней. Боюсь, я ничем не могу тебе помочь.
Это прозвучало ровно и бесстрастно, как приговор. «Мой лорд, вы не могли бы убить меня надёжнее, даже если бы приказали казнить», — подумал Эд. Но вслух ничего не сказал.
Конунг снова повернулся к нему. Его плечи напряглись, словно он крепче сжал руки за спиной.
— Если у тебя есть враги, Эдо, тебе остаётся выступить против них или бежать. И я советовал бы тебе второе, потому что в случае первого ты теперь будешь один. Я предупреждал тебя, мальчик: ты не моя семья.
— Вы даёте мне отставку, великий конунг?
И сразу понял, что не стоило этого говорить.
— Я порой думаю, — сказал конунг после долгой паузы, — что, взяв тебя в Сотелсхейм, совершил самую большую ошибку в своей жизни.
— У вас должны были быть веские причины, чтобы её совершить.
— Да. Достаточно веские. — Он отвернулся от Эда и посмотрел на склеп своей дочери. — Во всяком случае, такими они мне казались. Но не кажутся больше… Эдвард.
Услышав,как он произнёс это имя, Эд закрыл глаза.
— Я могу уехать? — еле слышно спросил он.
— Мне всё равно, — сказал конунг. — Хочешь — езжай. Хочешь — оставайся, но если я увижу тебя в пределах Верхнего Сотелсхейма, то отдам палачу.
Эд отступил на положенные церемониалам три шага и, не проронив ни слова, глубоко поклонился. Конунг даже не взглянул на него. Копья света, проникавшие сквозь окна, пронзали его сжатые за спиной руки.
Эд шагнул из полумрака на свет, с серого могильного камня на изумрудную траву. Доносящиеся из храма песнопения стали громче, они наливались силой, как молодой побег, что тянется к солнцу, и мощью, как летящий к цели кулак. Эд стоял и слушал, как хор славит Гилас, обещая мир и благоденствие её слугам, гибель и забвение её врагам. Эд наклонился и сорвал стебелёк куриной слепоты, пропахший летним солнцем и могильной землёй. Сунул его в зубы и прокусил, втягивая кисловатый травяной сок.
Ему не было так холодно и одиноко уже много лет. С тех самых пор, как он перестал молиться. Он попытался сейчас, но не смог вспомнить слов, которые когда-то хорошо знал. Больше всего хотелось сесть на землю и ткнуться лбом в колени, но он не смел этого сделать — конунг мог выйти из склепа в любую минуту. Увидеть его и отдать палачу.
Эд знал, что на сей раз он действительно это сделает. Наутро, быть может, пожалеет, но сделает всё равно. Потому что нет ничего разрушительнее, чем безмолвная скорбь сильного.
«Но я ведь этого не заслужил, — подумал Эд. — Проклятье… именно сейчас, за то, чего я совершенно не заслужил! Я не хотел, чтобы она умерла».
Это была правда. Гилас, святая правда, ты же знаешь. Эд Эфрин не хотел, чтобы его жена умерла. И ещё меньше ему хотелось, чтобы, умирая, она едва не прихватила с собой его самого. Это рушило всё, почти всё, что он так аккуратно и старательно выстраивал два года. Всё, что он сделал, всё, за что был в ответе.
Но за её гибель в ответе был кто-то другой.
Эд знал совершенно точно, что это так. Ибо за последние три года ни одно сколько-нибудь значимое событие в Сотелсхейме не случалось помимо воли того, кто называл себя Эдом из города Эфрина. Однако в последние два дня сплошь происходили лишь те события, в которых вовсе не было его воли. И его вины.
Именно это ввергало его в уже забытый, казалось, страх. Непривычный страх. Не тот, который он провоцировал сам, ежедневно играя с огнём. Иной страх — страх, что он теряет свою способность вести мир по избранному им пути. Страх, что он слабнет. И силу набирает кто-то другой.
Какой-то мальчик из Эвентри — так, кажется, передала ему Алекзайн.
«Как? Как он может делать это со мной… со всеми… когда он так далеко? Неужели он настолько силён?»
— Я его найду, мой лорд, — проговорил Эд, глядя на солнце. — Того, кто убил её. Я найду. Можете в этом не сомневаться.
«У меня просто нет другого выбора», — закончил он мысленно и выплюнул травинку.
Часть 5 Тинг
1
Когда расстояние между ними достигло пятидесяти шагов, Адриан сдался. Солнце стояло в зените и припекало довольно сильно, несмотря на то, что в ветре, тянувшем с востока, чувствовалась близость осени. Адриан остановился, согнулся пополам, опершись о колени, и немного постоял так, тяжело и часто дыша. Потом выпрямился и, сняв с пояса флягу, сделал несколько глубоких жадных глотков. Прицепил флягу обратно и нерешительно помялся, переступая с ноги на ногу в тщетной попытке сместить натёртое место. Ужасно хотелось сесть на землю, стащить сапоги и посмотреть, во что превратились его ноги, но этого он сделать не мог.
Подняв голову, Адриан увидел, что Том остановился и смотрит на него. Пришлось подавить вздох и шагнуть вперёд.
Том отвернулся и пошёл дальше.
Он шёл очень быстро, и первое время Адриан с трудом поспевал за ним, а потом стал отставать. Том его не дожидался — один раз Адриан даже потерял его из виду за поворотом дороги. Он ждал выволочки, но Том не понукал его, лишь изредка оборачивался — когда подозревал, что Адриан замыслил внеплановый привал. Адриан совершенно выдохся ещё до того, как стёр ноги — он подозревал, что до крови, но проверить пока что не было возможности. Покинув дом на утёсе, они шли до вечера, наскоро перекусили запасами Тома, когда стемнело, и снова шли — всю ночь напролёт, поспав всего часа два до рассвета. Утром поели и опять шли. Глаза у Адриана слипались, он то и дело спотыкался, несколько раз падал и не всегда мог подняться сразу — так и лежал в пыли, борясь с отчаянием. Он лишь раз спросил Тома, зачем такая спешка, но ответа не получил, а переспрашивать не стал, ибо знал, что это бесполезно. Но только, Гвидре Милосердный, сколько же это может продолжаться? Они ведь не могут идти вот так вечно… «Я просто упаду однажды, — подумал Адриан, — и не смогу подняться. Вот просто не смогу и всё. И пусть дальше хоть на закорках меня тащит».
В последней мысли проскользнуло злорадство, смешанное с обидой. Адриан смотрел на мутный в полуденной дымке силуэт Тома, бодро вышагивающего по тракту, злился, вздыхал, спотыкался и брёл дальше, утирая заливавший глаза пот. Воды в его фляге оставалось на самом донышке, а кругом были поля и луга, никакого признака реки или людского жилья, и казалось, что им ещё идти и идти. Тёмная фигура впереди всё отдалялась, потом как будто стала приближаться. А потом возникла прямо перед ним, нет — над ним, заслонив огромной тенью беспощадное солнце.
— …с тобой?
Адриан почувствовал на плече тяжесть чужой ладони и заморгал. Взгляд прояснился, и он сумел рассмотреть склонившееся над ним лицо. Адриан понял, что сидит на земле, а Том стоит над ним и держит за плечо.
И тут, совершенно, казалось бы, без повода, Адриан вспомнил, как лежал в траве лицом вниз, а вот эта самая рука мерно охаживала ремнём его голый зад. В голове от этой мысли ударило багровым сполохом, зубы сами собой сцепились и заскрежетали.
«Нет уж. Ни за что на свете не стану ему жаловаться».
— Всё в порядке, — процедил он. — Камень в сапог попал.
В глазах прояснилось окончательно. Адриан резко повёл плечом, и, хотя от этого жеста у него потемнело в глазах, Том убрал руку, однако в сторону не отошёл, будто ожидая чего-то. Адриан вспомнил, что сказал ему, и, закинув правую ногу на колено левой, взялся обеими руками за сапог. Стащить его почему-то оказалось нелегко, как будто нога со вчерашнего дня стала больше. Справившись, Адриан мельком бросил взгляд на грязную, покрытую лохмотьями лопнувших волдырей ступню, пошевелил окровавленными пальцами и, перевернув сапог, потряс им над землёй. Безрезультатно — никакого постороннего предмета из сапога не вывалилось.
Том молча смотрел на него.
— Странно, — сказал Адриан. — Ну, наверное, показалось.
Не поднимая головы, он принялся натягивать сапог обратно — и замер, почувствовав знакомую тяжесть ладони, на сей раз на темени.
— Не торопись, — сказал Том. — Передохнем, пожалуй. Иди к тем кустам, посиди в тени, пока я подыщу место. Вода у тебя осталась?
— Немножко…
Том сунул ему в руку свою флягу, судя по тяжести, почти полную. Потом легонько хлопнул по плечу и пошёл к роще, видневшейся впереди. Адриан ошалело глядел ему вслед. Потом посмотрел на флягу, отвинтил крышку и присосался к горлышку. Он опомнился, лишь когда опорожнил фляжку до капли. И испугался — ведь Том не говорил, что он может выпить всё. Ну да теперь ничего не попишешь. Адриан посмотрел на свою голую пятку, поколебался секунду, потом встал и, держа сапог в руке, на одной ноге пропрыгал до куста дикой смородины, разросшегося у обочины. Он давал хоть не очень густую, но всё-таки тень, и там Адриан завалился в траву, блаженствуя. Полежав немного, он стащил и второй сапог тоже — левая нога выглядела получше, но обещала скоро догнать правую. Освобождённый от пыточных тисков, в которые превратились сапоги, Адриан наконец расслабился и, свернувшись в тени смородиновых листьев, задремал. Мимо него проехала, скрипя колёсами, повозка, потом процокали копыта лошади, но он даже не открыл глаза. Только знакомая тяжесть ладони на плече вынудила его неохотно разлепить веки.
— Я нашёл воду, — сказал Том.
— Ага, — сонно отозвался Адриан и стал натягивать сапоги.
Через рощу тёк ручей, и они разбили лагерь рядом с ним. Том сам набрал хвороста и воды, а Адриану велел развести огонь. Тот обрадовался, что ему досталась обязанность, не вынуждавшая утруждать ноги, но постарался это скрыть — а то ещё Том заметит и опомнится, что, видимо, от усталости и по недосмотру поручил Адриану более лёгкую работу. Пока вода закипала, Том неподвижно стоял в ручье, зайдя в холодную воду по колено, а Адриан, успевший промыть и перевязать ступни, подбрасывал ветки в огонь и удивлённо поглядывал в его сторону. Удивление перешло в изумление и восторг, когда Том резко наклонился — и выпрямился, крепко держа в поднятой руке яростно бившуюся рыбу.
— Вот это да! — восторженно выкрикнул Адриан, и Том коротко улыбнулся ему через плечо.
Потом они ели в тени берёз и осин, Адриан шевелил пальцами на перебинтованных ступнях и чувствовал себя почти счастливым.
— Я никогда не видел, чтобы ты рыбу руками ловил.
— Не всегда в ручье есть рыба. Да и не всякую рыбу так поймаешь.
— А меня можешь научить?
Том слабо улыбнулся.
— Как-нибудь потом. Ты бы поспал сейчас. Как стемнеет, пойдём дальше.
— Слушай, Том, почему мы так спешим? И почему нельзя ночью спать, как нормальным людям, а идти днём? И почему мы трактиры обходим? У тебя что, совсем нет денег?
— Нет, — ответил Том. — А у тебя есть?
Адриан потупился.
— Спи.
— Да не хочу я спать, — сказал Адриан и широко зевнул. Тут же покраснел, ожидая услышать смех, но Том даже не улыбнулся. Только сидел с другой стороны костра, тоже сняв сапоги и вытянув ноги к воде, и внимательно смотрел на Адриана. Это был странный, чересчур внимательный взгляд, и под его воздействием спать хотелось ещё сильнее. Адриан усиленно заморгал, понимая, что если они не поговорят сейчас, то Гилас знает, когда ещё представится такая возможность.
— Ну скажи хоть, куда мы идём.
— В Эвентри.
— Это я понял. Но только как пойдём-то, через Тэйрак?
— Нет. Через Логфорд. Потом через Сафларе.
— Через Логфорд?! — Адриан разом проснулся. — Но это же септы Одвеллов! А Сафларе…
— Знаю. Поэтому идти придётся быстро. Быстрее, чем сейчас. И осторожнее. Так что, говорю тебе, отсыпайся, пока можешь.
— Том, зачем нам идти через Логфорд? Ведь гораздо безопаснее через Тэйрак, и я лорда тамошнего знаю, может быть, он нам… что? — осёкшись под тяжёлым взглядом Тома, спросил Адриан.
— Адриан, для человека, принадлежащего к твоему клану, сейчас не существует безопасных путей. Ни ты ни я не знаем, в каких отношениях Тэйраки с Индабиранами. Судя по тому, что твой брат не упомянул их в числе возможных союзников, им в лучшем случае всё равно, а в худшем, и это вероятнее всего, — они согласились сохранить лояльность Индабиранам в обмен на неприкосновенность своих границ. Я не слышал, чтобы они искали тебя, но не знаю, что они сделают, если ты попадёшься им в руки.
— Они помогут нам! Они нам родня, у меня там троюродные кузены и… — он внезапно понял, что говорит глупости, и смолк. Том терпеливо ждал, пока до него наконец дойдёт, что в нынешнем положении невозможно подходить к вещам с прежними мерками. Адриану стало стыдно за свою наивность, и он отвёл взгляд. Какое-то время только потрескивал костёр, шумела река, щебетали птицы да шелестела листва на ветру.
— Проход через Тэйрак, может статься, столь же опасен, как и любой другой путь, — проговорил Том наконец. — А времени отнимет вдвое больше.
— Мы могли бы взять коней…
— То есть украсть? — насмешливо уточнил Том. Адриан потупился. — Не то чтобы я был слишком щепетилен, не подумай. Но двое всадников привлекут гораздо больше внимания, чем двое пеших, и затеряться нам будет труднее.
— Почему ты торопишься?
— Потому что не знаю, где теперь твой брат. И с каждым днём вероятность найти его в Эвентри уменьшается. Единственная надежда на то, что он уехал из Лакмора не слишком далеко, и, если будем идти быстро, нагоним его по горячим следам.
— И это всё? — с подозрением спросил Адриан.
Том ответил:
— Это всё, что я согласен с тобой обсуждать.
Адриан надулся и, отвернувшись от него, свернулся калачиком. От земли тянуло холодом, но потрескивающее пламя пригревало ему спину, и он заснул прежде, чем успел обидеться на Тома как следует. Уже во сне почувствовал, что его накрыли чем-то, и с наслаждением натянул это «что-то» до самого носа. Ноги ныли даже во сне, но было тепло, и ему ничего не снилось.
Том разбудил его в полночь. Костёр он успел потушить и затоптать, все вещи были собраны, фляги наполнены, одежда выстирана и высушена. Чёрное небо с яркими россыпями звёзд было чистым и высоким, луна светила так ярко, что освещала каждый камушек на дне ручья. Адриан чувствовал себя выспавшимся и отдохнувшим и поднялся без малейшего роптания. Поужинав — вернее, позавтракав, — двинулись дальше.
За рощей снова тянулись поля, а дальше деревня — ни одного огонька не горело в ней, потому они заметили её не сразу и обогнули уже на подходе. Ещё дальше виднелся замок с огнями сторожевых башен, а за ним — снова деревня. Сейчас они шли землями Скортиара, приближаясь к северной границе, и старались держаться дорог, но по возможности не выходить на них. Изредка ночным трактом проносился всадник или закрытая карета; солдат не было, и это позволяло заключить, что лорд Скортиар решил остаться в стороне от назревавшей распри. Никто ни разу не заметил их и не остановил.
Адриану всё ещё было тяжело идти со стёртыми ногами, но Том теперь шагал немного медленнее, и у Адриана получалось за ним поспевать. Он дивился, с чего бы это Тому сбавлять скорость именно теперь, когда они шли так хорошо, но помалкивал — какая разница, в конце концов, главное, что Адриан больше не тащился в хвосте, спотыкаясь и валясь с ног. Теперь они шли рядом и, при желании, даже могли бы поговорить, да только разговор не клеился — на любые вопросы Том отвечал односложно и советовал поберечь дыхание. Адриан пытался расспросить про Анастаса, но так толком ничего и не выпытал, поэтому в конце концов отстал от Тома и просто шагал, не тратя силы на болтовню и сберегая дыхание.
Уже светало, когда они подошли к очередному пролеску. Том объявил привал, они сели у обочины и некоторое время утоляли голод и жажду. Адриан обнаружил, что доел свою часть хлеба. Том разломил оставшуюся у него краюху и протянул Адриану половину. Тот принял её, благодарно кивнув, — и вспомнил, как Том поделился с ним хлебом вот так же, когда они сидели в сарае в деревеньке недалеко от замка Эвентри. И двух месяцев не прошло с тех пор.
— Том, почему ты решил отвести меня к Анастасу?
Том прожевал хлеб, запил водой из фляги, утёр рот тыльной стороной ладони и пожал плечами.
— Не знаю. Что ещё с тобой делать?
— Ну, я ведь серьёзно спрашиваю…
— А я серьёзно отвечаю.
Какое-то время они молча ели. Потом Том сказал:
— Возможно, я и совершаю ошибку. Но в одном я точно уверен: лучше уж тебе быть с ним, чем с ней.
Адриан замер. С ней?.. Не имело смысла переспрашивать, кого он имеет в виду. За всё время Адриан не задал Тому ни одного вопроса про Алекзайн. О чём угодно спрашивал, только не о ней.
Да он о ней и не думал, если уж на то пошло.
И вот подумал теперь — белая кожа покатых плеч, облепленных красными и чёрными прядями, — и спросил совсем не то, что собирался:
— Почему у неё такие странные волосы?
— Странные? Ты имеешь в виду седину? Это давнее дело…
— Нет, не седину! Разве у неё есть седина? Я имел в виду, что они двух цветов, будто пополам разделены…
— Двух цветов? — удивлённо переспросил Том.
— Ну… — у Адриана мелькнула нелепая мысль, что они говорят о разных женщинах. — Наполовину рыжие, наполовину чёрные. Вот так. — Он провёл ребром ладони по пробору у себя на голове, показывая, где проходит граница цветов в волосах Алекзайн. Том смотрел на него в изумлении, потом это выражение исчезло с его лица, и он кивнул.
— Чёрные?.. А-а. Да. Она, вероятно, выкрасила седую половину в чёрный цвет.
— Выкрасила?!
— Алекзайн рыжеволосая, Адриан. Но половина её волос поседела за одну ночь, когда ей было пятнадцать лет. Я не знал, что она стала это скрывать.
У Адриана отвисла челюсть. Красит волосы?! Как же так?! Как могло быть что-то искусственное, что-то ненастоящее в этом дивном существе?
И тогда он задал вопрос, который должен был задать первым, — самый просто и самый важный:
— Кто она такая?
Том откусил от краюхи и принялся жевать.
— Том!
— Сейчас не время для этих разговоров, Адриан.
— Да ты всё время так говоришь! Тому не время, этому не время! Всё равно ведь придётся рассказать, рано или поздно. И ты же не знаешь, сколько я ещё с тобой пробуду…
Том насмешливо посмотрел на него.
— Это угроза?
— Понимай как знаешь, — выпалил Адриан.
— Ну, ну, не злись. Пожалуй, ты прав. — Адриан разинул рот при этом невероятном заявлении, а Том как ни в чём ни бывало продолжал: — Только учти, это длинная история, на которую сейчас у нас нет времени, поэтому я расскажу только главное.
Он отряхнул с рук хлебные крошки, вытащил трубку и, скрестив ноги, принялся набивать её. Адриан сглотнул, едва не попросил поделиться, но вовремя прикусил язык. Том глубоко затянулся, пустил ноздрями дым.
— Я сам знаю о ней не так уж много. Она должна была стать жрицей в храме Яноны. Её отдали туда в раннем детстве и готовили для посвящения в день совершеннолетия. Она не очень-то хотела этого, как я понимаю. Ей не нравилось то, что она там видела.
— Жертвоприношения?
— И это тоже. Наверное, что-то ещё — нечто такое, в результате чего она поседела. Мы никогда не говорили об этом. Расспросишь её сам, если захочешь… Знаю только, что она нашла там что-то, в этом святилище. Какие-то старые свитки, в которых вычитала древнее пророчество о Том, Кто в Ответе. И поняла, что способна определять Того, Кто Отвечает.
— Определить? Что это значит?
— Если б я знал, парень, — вздохнул Том. — Факт тот, что она знает, где ты, знает, о чём ты думаешь, и воображает, что ты принадлежишь ей. Дескать, Янона возложила на неё обязанность следить за… за такими, как ты, и направлять их дар в нужное русло.
— Но она же отказалась служить Яноне!
— Дражайшая Алекзайн — достаточно противоречивая дама, — криво улыбнулся Том. — У неё с Яноной какие-то запутанные отношения, я, признаюсь, особо не вникал. Опять же, за дополнительными вопросами — к ней.
— И как я это сделаю, если ты меня от неё увёл? — тихо спросил Адриан.
Лицо Тома затвердело, улыбка сбежала с губ.
— Позволь напомнить, что я тебя от неё не уводил, — сухо сказал он. — Ты ушёл сам. И правильно поступил, как по мне. Но только не забывай, что это был твой собственный выбор. Никогда об этом теперь не забывай.
— Да я стараюсь, — буркнул Адриан, вертя в руках флягу. — Так она поэтому меня нашла, когда… когда я от тебя сбежал? Она меня… чувствовала?
— Думаю, да. Впрочем, она нашла бы тебя, даже если бы ты оставался со мной. Хотя тогда, может, и с меньшим успехом запудрила бы тебе мозги.
— Почему ты всё время так о ней говоришь?! Она… она… — Адриан хотел объяснить, какая она, потом выпалил то, что было наиболее безопасным и уж точно неоспоримым: — Она спасла мне жизнь!
— Не сомневаюсь, — кивнул Том. — Мне тоже. И не один раз. У неё это хорошо получается.
Адриан непонимающе посмотрел на него. Том глядел в сторону, выдыхая облачка дыма, и его глаза слабо поблескивали в темноте.
— Адриан, я не знаю, что именно она тебе наобещала, но из этого не вышло бы ничего хорошего. Поверь мне, пожалуйста. То, что говорит Алекзайн… я знаю, это сладкий мёд. Да только добыть этот мёд ты должен сам, сунув голову в улей и слизывая его с сот, пока разъярённые пчёлы будут жалить твой язык.
— А разве не так надо добывать мёд, чтобы заслужить право его есть? — с вызовом спросил Адриан.
Том вытащил трубку изо рта и посмотрел на него с изумлением. Потом откинул голову, и ночную тишину огласил его резкий звонкий смех.
— Что смешного? — зло спросил Адриан.
— Ничего, ничего. Ты, я вижу, принял мои наставления близко к сердцу. Извини. — Том покачал головой и снова сунул трубку в зубы. — Ищи золотую середину, Адриан. Мой тебе душевный совет. Не ошибёшься.
— Хочешь сказать, ты никогда не ошибаешься? — спросил Адриан, злясь всё сильнее.
Ему не нравилось, что Том так говорит о леди Алекзайн. Ему не нравилось, что он о ней говорит. Кое-что и вправду рассказал — но, боги, лучше б и вовсе ничего не рассказывал! Жрица Яноны? Адриан не мог в это поверить. Янона Неистовая, богиня мести, ревности и гнева, покровительница злоумышленников и предателей, одержимая жаждой убийства… Любимая дочь Молога, отвергнутое дитя Гилас. Совсем немного кланов поклонялись ей и вели от неё свой род — и всё это были кланы с дурной славой и несчастливой историей, ибо Янона не только жестока, но и вероломна, и безжалостна даже к собственным детям. Леди Алекзайн, это странное создание с холодными руками и горящей смолой во взгляде, вступила с безумной богиней в сговор. Но с какой целью? То, о чём она просила Адриана, вряд ли угодно Яноне — та была бы лишь рада мору, сулившему ей множество жертв. Адриан представил Алекзайн на коленях у пылающего алтаря, обнажённую, с воздетыми к небу руками, представил её волосы, реющие на ветру, рыжие и чёрные…
Нет. Рыжие и седые.
Он попытался отогнать эту картинку, потом — вспомнить её лицо. И ни того ни другого не смог.
Его встряхнули за плечо — кажется, не в первый раз.
— Ты не уснул? — спросил Том. — Рано, надо ещё немного пройти. Скоро граница.
— Том, — сказал Адриан, посмотрев на него, — как ты меня нашёл? Как ты узнал, что я в Ответе?
Том опустил голову и принялся выбивать трубку.
— Она со мной говорила.
— Как это?
— Сам не знаю. Я слышу её голос, во сне или наяву, иногда могу ответить, но чаще нет. Я для неё в эти минуты открыт… целиком открыт. Так она и узнала, что ты со мной. И, между прочим, сейчас она тоже это знает. — Том искоса взглянул на него и спросил: — С тобой она пока не выделывала ничего подобного?
Адриан покачал головой, чувствуя растерянность и лёгкую обиду. Как же так? Его леди, которой он дал клятву верности и служения, болтает с каким-то Томом, а с ним, Адрианом, своим рыцарем, ни словечком не соизволила перемолвиться с тех пор, как он её покинул… Ну да — он ведь её покинул. Не навсегда, но ведь она не знает об этом! И, конечно, гневается. Потому и молчит. Что ж, он вполне это заслужил.
Том что-то говорил, но он не слышал. Машинально переспросил: «А?» — и подскочил от неожиданности, ни с того ни с сего получив крепкий подзатыльник. Ну, здравствуйте, старые добрые времена!
— За что?! — завопил Адриан, схватившись за гудящий затылок.
— За то, что слушать надо, когда с тобой говорят! Я сказал, чтобы ты не отзывался, если она попытается до тебя дотянуться. И, желательно, не слушал. Это вряд ли получится, но попытайся. Не говори с ней и не слушай её. Хорошо бы тебе вовсе её забыть, но я понимаю, что это вряд ли возможно.
— То же самое она говорила о тебе, — огрызнулся Адриан, всё ещё потирая ушибленное место.
Том посмотрел на него странно.
— В самом деле?
— Только это вряд ли возможно, — съязвил Адриан и схлопотал новую затрещину.
— Так, а ну встать! — рявкнул Том, рывком поднимаясь на ноги. — Развели тут болтовню. Поднялся, вещи собрал и пошёл! Отстанешь — бока намну!
Теперь он до ужаса напоминал того Тома, который увёз Адриана из родного замка и месяц промучил, держа в рабстве в горной хижине. События того времени, успевшие поблекнуть в памяти Адриана, явились ему с небывалой живостью. Он крепко помнил, что этот Том ничего не повторяет трижды, не знает ни пощады, ни жалости. Адриан стиснул зубы и выполнил всё, что от него требовали, а потом быстро, почти бегом зашагал по озарённому лунным светом пролеску. Том был на шаг впереди, и Адриан не видел его лица. «Странный у нас вышел разговор», — подумал он, поспешно нагоняя Тома. И ещё подумал, что правильно поступил, не рассказав ему о чёрной оспе.
Утром следующего дня они пересекли границу области Скортиар и ступили во владения Лэнда Логфорда. И ещё до того, как нога Адриана ступила на вражескую землю, он смог убедиться, что Том был прав: в нынешнем положении они не могли позволить себе роскоши ни путешествовать с комфортом, ни обзавестись лошадьми. На первой же пограничной заставе сгрудилась группа подозрительных с виду мужчин, более всего напоминавшая банду наёмников. В другое время никто не пропустил бы их через заставу без боя, да и сами бы они не полезли на рожон, предпочтя пробираться оврагами и лесными чащобами, но на сей раз у их предводителя была путевая грамота от самого лорда Логфорда, призвавшего их под свою руку, — а уж на каких основаниях и условиях, начальника заставы заботило мало. Солдаты прошли мост, перекинутый в этом месте через Силиндайл, западный приток могучего Силмаэна, и таким образом оказались во владениях и распоряжении своего нового господина.
Том и Адриан прошли с ними вместе — благо компания, видимо, только что собралась и ещё не успела толком перезнакомиться. Пока они шли через мост, Адриан смотрел вниз, на доски, гудящие под поступью наёмников, и изо всех сил старался унять бешено колотящееся сердце. Он поймал на себе чересчур внимательный взгляд одного из стражей заставы, когда они только ступали на мост, чудом умудрился не сбиться с шага и не запаниковать — и никто его не окликнул. Перейдя реку, наёмники шли неровным строем до леса, подгоняемые рявканьем своего командира — единственного всадника в отряде, то и дело вытягивавшего шею и изрыгающего проклятья в адрес отстающего арьергарда. Том и Адриан шли с ними до леса, а там, едва у обочины вырисовалась ведущая в глубь чащи тропинка, отделились от группы своих проводников — так же тихо и безмолвно, как и присоединились к ней. За всё это время они не произносили ни слова, и лишь когда гул шагов удаляющегося отряда стих вдали, Том сказал:
— Я сглупил. Нам очень повезло, что никто из них не присмотрелся к тебе слишком пристально.
— Но я…
— Держи, — Том снял с пояса нож, которым ещё вчера потрошил свежепойманную рыбу. — Спрячь пока и не размахивай без дела. Но если снова попадём в такую ситуацию — держи на виду. А то что за боец без оружия…
Адриан принял дар, виновато подумав, что это уже второй раз Том даёт ему нож, — и он очень надеялся, что не лишится его так же глупо, как в первый. Том неверно истолковал его неуверенность и, усмехнувшись, сказал:
— Я понимаю, милостивый государь, что мясницкий тесак — не тот вид оружия, который можно счесть достойным вашего благородного происхождения. Однако покамест придётся довольствоваться тем, что есть.
— Да нет, — вспыхнул Адриан. — Просто я подумал, что ты ведь уже давал мне оружие раньше… только оно осталось у леди Алекзайн.
Том какое-то время внимательно смотрел на него. Потом кивнул, будто про себя в чём-то удостоверившись.
— Теперь-то уж не отдавай его ей, как бы ни просила, — сказал он, и Адриан так и не смог понять, звенит ли в его голосе насмешка или это ему только чудится.
— А ты как же теперь без оружия?
— За меня не волнуйся. И, кстати, на будущее: никогда не пускайся в путь, не имея при себе ножа, а лучше двух — вдруг один придётся оставить в чьём-нибудь боку, — беспечно сказал Том и подмигнул ему, но Адриану отчего-то казалось, что он не знает, о чём говорит. Он обдумал это ощущение и лишь больше в нём утвердился. Нет, он был уверен: Тому никогда не приходилось оставлять свой нож в чужом боку.
Но спрашивать об этом он не стал.
На следующей заставе им повезло меньше — никакой толпы, с которой можно было бы слиться, не наблюдалось, и пришлось заплатить проходную пошлину. По счастью, немного денег у Тома всё-таки было, но Адриан видел, что он хмурится, отсчитывая нужную сумму. Думает, небось, что они будут делать, если заставы станут встречаться слишком часто. Конечно, всегда можно пойти в обход, но на это у них не было времени. Адриан снова поймал на себе изучающий взгляд стражника и, вздрогнув, машинально одёрнул рубаху, гадая, не выпирает ли из-под неё рукоять ножа. Проклятье, и чего это они все на него так повылупливались? На Тома так никто не смотрел — ну, путник и путник, налог платит, выглядит сносно, ведёт себя смирно… уж слишком смирно, по мнению Адриана, но ведь его мнения никто не спрашивал.
— Чего дуешься? — спросил Том, когда они снова зашагали по дороге, взбивая подошвами пыль. Погода стояла сухая и жаркая; вот если б только не пылища эта да не мухи, да не расставленные повсюду сторожевые посты, да не вражеская земля — как было бы хорошо.
— Я не дуюсь, — хмуро отозвался Адриан.
— Да ну? Стало быть, впал в тяжкую задумчивость? Ну, прости, что отвлёкаю.
— Тебе бы всё ерничать. Был бы так на язык остёр с…
— С кем?
— С этими! — выпалил Адриан, мотнув головой на тонущую в клубах пыли заставу. — Они с тобой как со смердом, а ты — будто так и надо!
— Да. Так и надо. А что, по-твоему, мне следовало назваться, представить тебя и сообщить, что мы движемся в замок Логфорд на пир в честь лорда Одвелла?
— Ну не знаю, — буркнул Адриан. — Не знаю, как ты можешь… терпеть, чтоб с тобой так разговаривали!
— Это намного проще, чем кажется, — сказал Том спокойно. Адриан фыркнул, но поймал взгляд своего спутника и решил не спорить. Не похоже, чтобы Тома можно было поколебать в его решимости позволять вытирать об себя ноги кому ни попадя. Но какого беса! Адриан был уверен, что никогда, ни за что не позволит больше обращаться с собой несообразно его положению. Счастье, что до сих пор на него никто не обращал внимания, если не считать странных взглядов, которые кидали на него стражники. Все разговоры с ними вёл Том, и Адриана это вполне устраивало. Он отказался бы признаться в этом, но один он очень вряд ли сумел бы проделать такой путь, не попав в передрягу и ничем себя не выдав.
— Хочется верить, что ты обдумываешь мои слова, — коротко сказал Том, и Адриан, очнувшись, ответил:
— Ага.
И не почувствовал ни малейшей вины оттого, что солгал.
Они сделали привал, потом ещё один, заночевали — и наутро Адриан проснулся первым, снедаемый странным возбуждением. Он был уверен, что сегодня произойдёт что-то удивительное.
— Долго нам ещё идти?
— Не очень, если повезёт, — ответил Том, поглядев на небо. — К вечеру, если дождь не соберётся, доберёмся до границы. А там уже и Сафларе.
— А потом — Эвентри? — спросил Адриан так, будто не знал.
Том кивнул.
Адриан посмотрел на запад. И сказал:
— Ну, идём же, сколько можно рассиживаться?
У него щемило в груди и сосало под ложечкой, так хотелось домой.
Как ни старались они держаться в стороне от больших дорог, а после полудня всё-таки пришлось выйти на одну из них. Торговый тракт шёл через местность, испещрённую холмами и оврагами, большинство их которых поросло густым ельником. Обочина на этом тракте была хорошо если в локоть шириной — дальше начиналась хвойная стена, всего через несколько шагов превращавшаяся в непролазную чащу. Лес здесь когда-то специально вырубили, чтобы проложить дорогу, это был единственный прямой путь из северо-западной части Логфорда как к центру страны, так и в соседний фьев, и пользовались им много и часто. То и дело на дороге показывались отдельные путники и целые отряды, пешие и конные, торговые караваны под охраной пары-тройки дюжих всадников бандитской наружности, каретные кортежи в сопровождении десятка всадников не менее дюжих, однако несколько более благовидных. Том сказал Адриану: «Иди быстро и тихо, по сторонам не глазей, и, что бы ни случилось, молчи» — и он так и делал, хотя не глазеть было трудно, особенно когда мимо них проехала, покачиваясь, запряжённая четвёркой вороных карета и в приоткрывшемся окошке мелькнуло миловидное женское личико, проводившее шагающих в стороне путников исполненным любопытства взглядом. На миг Адриану почудилось, что вот оно — то удивительное, близость которого он ощутил утром, едва проснувшись. Он остановился и глядел карете вслед, пока привычный подзатыльник не вернул его к суровой действительности.
— Шагай, — напомнил Том, и Адриан, сердито вздохнув, подчинился.
Когда карета проехала, дорога совсем опустела. В тисках душистых зелёных стен было свежо и прохладно, пахло хвоей, и пыль почти не лезла в нос. Даже мухи немного угомонились.
Адриан хотел сказать Тому, что хорошо бы сделать привал, но не успел раскрыть рот, как позади послышался скрип колёс, топот и фырканье лошадей и сердитые окрики. Пыль немедленно поднялась снова и встала столбом — так, что Адриан чихнул и зажмурился. Он остановился, но на сей раз Том не поторопил его, а остановился тоже и крепко сжал его руку. Адриан снова чихнул и покорно ступил за Томом с дороги на обочину. Хрустнула ветка, нога попала в какую-то ямку, и Адриан едва не оступился. В носу всё ещё ужасно щекотало, а пыли меньше не становилось — и те, кто подняли её, приближались.
По дороге, с той стороны, откуда они шли, ехала маленькая чёрная карета с гербом Логфордов на дверце. Из окна её высовывался плешивый человек, оравший во всё горло. Позади кареты ехала крытая повозка, тяжело гружённая, судя по тому, как надрывались запряжённые в неё лошади. С обеих сторон повозки и кареты ехали по четыре всадника в полном боевом облачении, вооружённые с головы до ног. Тот, что скакал первым, глядел в сторону орущего человечка с плохо скрываемой неприязнью. Потом он махнул рукой, крикнул что-то, и кучер, натянув поводья, остановил карету. Повозка — тоже остановилась, чуть запоздав и едва не наехав на впереди стоящий экипаж. Плешивый человечек увидел это и истошно заверещал.
— Перевернёте! Перевернёте! Тише вы, дурни! О Лутдах Многомудрый, да за что же ты мне послал такое наказание?! Стоять!
Он выскочил из кареты и, подхватив подол длинной чёрной рясы, выдававшей в нём жреца, принялся бегать вокруг задних колёс и тыкать пальцем куда-то вниз. Он что-то кричал, но не особенно внятно, и только по действиям неохотно слезшего с козел кучера Адриан понял, что плешивый человечек требует заменить в карете ось, якобы расшатанную.
— Я же чувствую, трясёт как на качелях! Да при чём тут дороги?! У лорда Логфорда лучшие дороги к северу от Сотелсхейма! Говорю тебе, ось надо менять!
— Да как же её поменяешь, сударь, когда кузнеца нет? — пробубнил кучер.
— Так раньше надо было менять! Ну, что теперь? Что? А? Что там такое? — он повернулся к повозке и выслушал то, что вполголоса сказал ему возница. — Что значит — лошадей замучили? Кто их замучил? Ты и замучил, гнида, кто ж ими правит-то? Падут — из своего кармана заплатишь, до последнего гроша!
Он кричал что-то ещё, и окружавшие его воины слушали, не вмешиваясь ни единым словом. За последние несколько дней Адриану не раз доводилось наблюдать на трактах подобные сцены, но и сейчас ему было смешно глядеть, как беснуется этот самодур. Он бросил взгляд на Тома, рассчитывая и на его лице увидеть улыбку. Но Том не улыбался. Он по-прежнему крепко держал Адриана за руку, словно боялся, что тот убежит.
— Будете отвечать, — прошипел плешивый человечек и, круто развернувшись, пошёл было обратно к карете — и тут его взгляд упал на двоих людей, стоящих у обочины.
Выражение его маленького лисьего личика немедленно стало хищным.
— А ну, там! — крикнул он и властно поманил их к себе. — Ко мне!
— Ни слова, — тихо напомнил Том и беспрекословно пошёл вперёд. Адриан двинулся за ним, продолжая украдкой оглядывать всадников. Те казались немного уставшими и совершенно равнодушными. Плешивый человечек, однако, смотрел на приближающихся с деловым интересом.
— Кто такие? Куда идёте? — спросил он непререкаемым тоном человека, привыкшего получать немедленный ответ на любой вопрос.
«Да ты кто такой, чтоб вот так посреди дороги хватать и спрашивать?!» — возмутился про себя Адриан, а Том смиренно ответил:
— Мы из Скортиара, благородный господин, идём с сыном в Сафларе, к моей сестре.
— По какому делу?
«Да тебе что до того, плюгавая ты поганка?!»
— По семейному. У сестры муж умер, помощь нужна.
— Торопитесь, стало быть? Почему тогда пешие?
— Была лошадь, да по дороге пала.
Плешивый человечек довольно кивнул, удовлетворясь услышанным.
— Что ж, раз торопитесь, то решим дела быстро. Да будет известно вам, путники, что я представляю его милость лорда Логфорда в деле взимания единоразового налога на военные нужды, образовавшиеся в связи с насущными потребностями его милости. И посему…
— Что это ещё за насущные потребности? — резко спросил Адриан.
Том стиснул его руку с такой силой, что Адриан съёжился. Но, Молог его раздери, это было уже слишком! Ну понятно — застава, там хочешь не хочешь, а платить придётся — но этот, хвать посреди дороги и денег требовать?! Вот ещё!
И хотя всё это он прокричал лишь мысленно, чувства его наверняка отразились на лице, и плешивый сборщик податей смотрел на него не отрываясь, пока не прочёл их все до последнего.
— И посему, — проговорил он после паузы, — тебе, человек, и твоему дерзкому сыну надлежит уплатить сию подать в размере пятьдесят стерциев за голову.
Адриан задохнулся от возмущения. Пятьдесят стерциев! Даже если у Тома и наберётся столько — это же грабёж среди белого дня! Добавить ещё немного — и можно купить ездового коня.
— Почему это мы должны тебе платить? — повысив голос, спросил Адриан. Пальцы Тома впились в его запястье, но он резко освободил руку. — Нет, ты ответь! Почему? Мы не из Логфорда родом, что нам до здешнего лорда?!
— Вы пользуетесь его дорогой, мальчик, — елейно проговорил сборщик податей. — Его милостью и защитой, дарующей вам право безопасного прохода через земли досточтимого лорда в это смутное время. Знаешь ли ты, что к северу отсюда идёт война?
— Простите его, милостивый сударь, он… — начал было Том, но плешивый улыбнулся и покачал головой.
— О, ну что ты, он отчасти прав. Твой сын хоть и дерзок, но пытлив, а пытливый ум — не худшее из зол, если использовать его с разумением. Знай же, мальчик, что деньги эти пойдут на благое дело, на вооружение и пропитание храбрым воинам лорда Логфорда. Так что ты, можно сказать, будешь сопричастен великим сражениям, даже оставаясь дома, в безопасности.
Великим сражениям, вот как? Храбрым воинам? Воинам Одвеллов, которые пойдут в сражение против Анастаса, чтобы окончательно сровнять с землёй то, что осталось от клана Эвентри. Благое дело, воистину!
— Мы не будем платить.
Всадник, стоявший к ним ближе остальных, чуть шевельнулся в седле.
— Что-что? — ласково переспросил сборщик.
— Мы не будем платить! — скрипя зубами, внятно повторил Адриан.
Том шагнул вперёд и, сжав плечо Адриана с такой силой, что едва не вывихнул его, сказал:
— Милостивый государь, я припадаю к вашим стопам и тысячу раз прошу простить моего сына. Он юн, глуп и не понимает, что говорит. Мы в самом деле стеснены сейчас в средствах, но я уверен, что на благое дело у нас наверняка отыщется нужная…
— Нет! — крикнул Адриан и, оттолкнув Тома, отступил, глядя на него с ненавистью. «Как ты не понимаешь, — кричал Адриан ему взглядом. — Как не понимаешь, мы не можем, я не могу давать деньги людям, которые потратят их на то, чтобы убить моего брата! Как ты не понимаешь?!»
Но Том смотрел на него всего лишь одно мгновение, и будь Адриан чуточку меньше взбешён, он прикусил бы язык от этого взгляда. Ничего больше не говоря, Том снял с пояса кошель и протянул его сборщику податей.
Вне себя от гнева и унижения, Адриан ударил его по руке.
Кожаный мешочек упал наземь, жалобно звякнув монетами. Адриан машинально отметил, что вряд ли там наберётся вся требуемая сумма.
— Подними, — без выражения сказал логфордский чиновник.
Том наклонился и вынул мешочек из пыли. Отряхнул и протянул чиновнику. Его плечи были ссутулены. Адриан поднял помутневший взгляд и увидел, что все — и воины, сопровождавшие кортеж, и кучера — смотрят на него. Ближайший к ним всадник держал ладонь на рукояти меча.
Сборщик неторопливо пересчитал деньги, вытряхивая монеты на ладонь. Потом поднял голову и, поглядев на Тома, бесстрастно сказал:
— Здесь восемьдесят три стерция.
— Я прошу прощения, но это всё, что у нас есть. Если я могу…
— Это на сто семнадцать стерциев меньше, чем требуется.
— Возможно, некоторые из наших вещей… погодите, вы сказали — сто семнадцать?!
— Именно. С учётом дополнительных ста стерциев штрафа, который я налагаю на твоего сына за неуважительное отношение ко мне как исполнителю воли его милости. Насколько я понимаю, этих денег у тебя, человек, с собою нет.
— Послушайте… милорд, — выдохнул Том. — Позвольте мне…
— И я вижу лишь один выход из положения, — всё так же бесстрастно продолжал чиновник. — Поскольку ничего равного по стоимости данной сумме у тебя, очевидно, не найдётся, я призываю этого молодого человека на службу в ополчение лорда Логфорда, дабы он там проявил свойственную ему пылкость и пытливость ума. Не бойся, человек, этим качеством твоего сына найдётся достойное применение. Сержант, возьмите его пока что под стражу.
Адриан ошалело смотрел, как двое всадников спешиваются и направляются к нему. Оба они были выше его на полторы головы, ножны их мечей лоснились, а латы поблескивали на свету, пробивавшемся сквозь ельник.
— Не сопротивляться, — скучающим голосом сказал один из воинов. — Поедешь на моём коне. Пошёл.
Это было глупо, конечно, ничего глупее и придумать нельзя — но он упёрся. Куда умнее было бы дать дёру в чащобу — авось бы и не поймали. Но в драке с группой тяжеловооружённых воинов у Адриана не было ни единого шанса, однако понял он это, лишь когда его сгребли латные рукавицы.
Том что-то быстро и сбивчиво объяснял, просил, уговаривал. Адриан даже не успел кинуть на него взгляд, когда его проволокли мимо. Сборщик податей уже садился в карету.
— Отслужит год и вернётся, не волнуйся, человек, — снисходительно сказал он напоследок. — За год службы лорд Логфорд платит как раз сто стерциев.
Хлопнула дверца, карета тронулась, повозка — следом за ней. Перед лицом Адриана взбрыкнула копытами лошадь. Его схватили за шиворот и потянули вверх, затаскивая на коня; он барахтался, пытаясь вырваться, и получил такую затрещину, рядом с которой все оплеухи Тома казались ласковыми поглаживаниями. От удара латной рукавицей по уху из глаз у Адриана посыпались искры, он обмяк и не сразу понял, что наверх его уже не тащат. Он беспрепятственно сел на землю, слыша сквозь гудение в голове лишь ржание лошадей. Тут его снова схватили и поставили на ноги, и тогда он услышал новый голос, громкий и властный:
— Остановитесь немедленно!
И — голос плешивого, пискнувший:
— Стойте, стойте!
Кортеж снова остановился. Дорогу ему преграждало четверо всадников, выглядевших не менее внушительно, чем сопровождение сборщика податей. Один из них выделялся особо — крепкий рыжебородый мужчина в шлеме с опущенным забралом, за которым блестели суровые умные глаза. Чёрные и оранжевые цвета его одежды бросались в глаза; Адриан напрягся, но так и не смог вспомнить, какому клану они принадлежат. Один из его людей держал развёрнутым знамя тех же цветов. Они выглядели как официальные лица своего клана — кем, без сомнения, и были.
Адриан так и не узнал, остановились ли они потому, что кортеж логфордского чиновника загородил путь, или по иной причине. Но это и не имело значения. Главное, что теперь чиновник кланялся рыжебородому, выспрашивая о здравии его милости лорда Логфорда, и казался явно смущённым, хотя сила продолжала оставаться на его стороне. Рыжебородый слушал, окидывая взглядом представившуюся ему картину. На несколько мгновений он задержался на Адриане, потом посмотрел на Тома.
И продолжал смотреть, пока логфордский чиновник не смолк.
— Тобиас, — негромко проговорил рыжебородый. — Молог Всемогущий… Это и вправду ты?
Тобиас? Тот, кого Адриан знал под именем Том, молча стоял на дороге, лицом к лицу с рыжебородым. Он стоял спиной, и Адриан мог только гадать, какими взглядами они обменялись.
Рыжебородый перевёл взгляд на сборщика, потом снова на Адриана.
— Что происходит? Вы… эти двое — они вместе? — недоверчиво спросил он.
Сборщик принялся путано объяснять. Рыжебородый слушал, его спутники переглядывались, но помалкивали. Эскорт чиновника заметно волновался — латная рукавица, всё ещё державшая Адриана, чуть не раздавила ему плечо. Наконец рыжебородый воин коротко кивнул и что-то негромко сказал одному из своих людей. Тот швырнул на землю кошель. На сей раз логфордский сборщик податей подобрал его сам.
— Вели отпустить мальчишку.
— Сержант, вы что, оглохли?! — взвизгнул плешивый. — Пустите сейчас же мальчика! И, мой лорд, вы ведь не преминете выразить моё почтение лорду Логфорду? Уж видите, служу ему рьяно, по мере сил…
— Вижу, — кратко ответствовал рыжебородый. — Вас что-то ещё тут задерживает, сударь? Давайте разъезжаться.
Разъехались — кое-как, потому что дорога снова начала заполняться. Адриан понял, что сидит на земле, Том стоит впереди, кони топчут землю рядом с ним, и снова поднялся столб пыли, и солнце зашло за облака.
— Я думаю, вам стоит поехать с нами, — сказал рыжебородый, и Том кивнул. Один из всадников спешился и пересел к другому. Том подвёл освободившуюся лошадь к тому месту, где всё ещё сидел Адриан. Тот сглотнул и неловко поднялся.
— Что теперь будет? — шепотом спросил он.
Том не ответил, только подсадил его в седло.
2
Границу Логфорда они пересекли дотемна, и времени это заняло совсем немного — Виго Блейданс предъявил начальнику заставы подорожную грамоту с печатью Логфордов, и с них даже не взыскали пошлину. Логфордские солдаты лишь окинули группу Блейдансов беглым взглядом, и ни один их них не присмотрелся к мужчине и мальчику, сидящим на одном коне. Адриан сидел в седле у Тома за спиной, обхватив его руками за пояс, не шевелясь и почти не дыша. Том мог лишь гадать, с каким лицом сидит мальчишка, и молиться, чтобы его выражение никому не показалось подозрительным. И думал, что давным-давно следовало прирезать щенка и кинуть в сточную канаву, где ему, без сомнения, самое место.
Владения Сафларе встретили кавалькаду сосновым бором, темнеющим в сумерках. Конники рысью въехали в лес — и тогда скакавший в авангарде Виго Блейданс круто осадил коня, развернулся к соратникам и указал в направлении чащи. Не обменявшись ни одним словом, его спутники свернули на едва заметную тропу, уводившую от тракта. Том так же молча правил следом за ними. Виго пропустил его вперёд и замкнул кавалькаду. Адриан почуял неладное и беспокойно заворочался в седле, но спрашивать не осмеливался. Том был этому рад.
Углубившись в чащу, конники спешились. Каждый из них расстегнул седельные сумки и достал из них одежду нейтральных, серых и коричневых, цветов — такую, которую предписывалось носить простолюдинам, не принадлежащим ни к одному клану. Чёрно-оранжевые одежды они свернули и спрятали. Виго Блейданс собственноручно снял с древка знамя своего клана, бережно свернул его, поцеловал и спрятал в свою седельную сумку. Древко он забросил далеко в кусты.
— Что они делают? — чуть слышно прошептал Адриан, топтавшийся рядом, пока Том стоял в стороне и наблюдал за всем этим.
Тот не ответил. Виго Блейданс снова вскочил в седло, остальные последовали его примеру. Они вернулись на тракт и двинулись дальше — их боевые кони всхрапывали, оружие бряцало, и со стороны они походили теперь на отряд элитных наёмников, едущих по спешному вызову своего нового хозяина. Виго по-прежнему выделялся среди них осанкой и немного надменной манерой держаться, потому вполне мог сойти за командира — но лишь тот, кто знал его в лицо, признал бы в группе ничем особо не выделявшихся людей официальную делегацию клана Блейданс.
Том смотрел на них и думал, что совершенно не жаждет узнать, что всё это значит. Однако выбора ему не оставляли. Одно радовало — теперь они с Адрианом выделялись ещё меньше. До поры этого было достаточно.
Они скакали до полуночи; когда вдали забрезжили огни постоялого двора, один из всадников подъехал к Виго и что-то вполголоса спросил. Тот кивнул, потом обернулся и сказал — достаточно громко, чтобы услышали все:
— Ночуем.
Его люди никак не отреагировали на это — ни радостью, ни недовольством. Они были готовы к любым тяготам пути и роптать не собирались. Похоже, они знали, что делают и ради чего.
У Тома засосало под ложечкой, и он в сотый раз проклял длинный язык и безмозглую голову Адриана Эвентри, по вине которого они оказались вместе с этими людьми. О том, чтобы сбежать, и думать не стоило — после того, как Виго Блейданс его узнал. Нет, теперь Том сам не ушёл бы, не прояснив кое-что, что следовало сделать давным-давно.
Тракт, которым они теперь ехали, был одной из крупнейших проезжих дорог между Логфордом и Сафларе, и постоялый двор оказался забит до отказа. Взвесив на ладони кошель, хозяин с некоторой неохотой сказал, что у него найдётся пяток коек в общей спальне. Виго Блейданс не стал возражать — и спросил, можно ли купить здесь хороших коней. Воспользовавшись завязавшимся разговором, Том наклонился к Адриану и тихо сказал ему на ухо:
— Ни с кем не разговаривай. Ложись спать и притворись, будто дрыхнешь. И, во имя Гилас, ничего без меня не делай.
Тот быстро и испуганно кивнул. Том заметил, как блеснули его глаза — и немного успокоился, впервые с того мгновения, когда встретил прямой холодный взгляд серых глаз Виго Блейданса. Мальчишка неисправим и безнадёжен, это Том уже начал со всей обречённостью понимать, — но, по крайней мере, не прикидывается идиотом и вполне сознаёт свою вину. Другое дело, что от этого никому не легче…
Люди Блейданса прошли в общий зал. Адриан, подгоняемый взглядом Тома, вошёл с ними, хотя и озирался робко через плечо. Сам Том задержался — и не напрасно, потому что, закончив торг с хозяином, Блейданс повернулся к нему. Они встретились взглядами, впервые за прошедшие часы.
— Сядем-ка, покурим, — сказал Виго.
Они заказали вина и расположились в углу зала, на дальнем краю длинного стола, забросанного неубранными с вечера объедками. Трактир был достаточно паршивый, и член клана Блейданс предпочёл бы ночевать под открытым небом, чем в этом блошатнике. Но Виго Блейданс, судя по всему, сейчас не был Блейдансом. И это давало Тому надежду. Слабую, но это было лучше, чем ничего.
Они расположились друг против друга, набили трубки и закурили, добавляя дыма в прокуренный зал. Поодаль от них веселилась подвыпившая компания, хохотали девки, прислуга гремела посудой. Виго Блейданс получил место у стены и прислонился к ней спиной. Плотно сжатые губы терялись в завитках бороды. Он сильно изменился. Они не виделись очень давно.
— Виго, скажи мне прямо — я твой пленник?
— Нет, — ответил племянник лорда Блейданса и, выпустив кольцо дыма, повторил: — Нет. Не думаю. Вряд ли от тебя в таком качестве есть какой-то прок. Разве что ты помирился с отцом…
— Не помирился.
— Я почему-то так и думал.
Служанка принесла вино, и они выпили.
— Я думал, что ты мёртв, Тобо.
Том усмехнулся, стараясь, чтобы усмешка не выглядела уж слишком кривой.
— Я просил бы тебя не называть меня так… при посторонних. Теперь я Томас Лурк, а чаще просто Том.
— Лурк… — задумчиво протянул Блейданс. — Септа Эвентри? В самом деле?
— Лишь на словах.
— Лишь на словах? — переспросил Виго и ухмыльнулся. — Проклятье, это хорошая шутка! Отличная шутка, Тобиас… Томас. Ты — септа Эвентри! Что сказал бы на это твой отец?
— Сомневаюсь, что он стал бы со мной разговаривать, тем более на эту тему.
— Сомневаешься, да? Ну-ну… твои сомнения мне понятны. — Виго попыхтел трубкой. Он никуда не торопился. — Скверно тогда вышло… очень скверно.
— Ты даже не знаешь, насколько скверно, Виго.
— Ошибаешься. Знаю, — спокойно ответил тот, и Том вновь подумал, до чего же это неприятно — находиться в полной власти другого человека, совершенно не зная, как этот человек к тебе относится.
Они вновь молчали дольше, чем следовало, и Том разорвал это молчание, неожиданно для себя сказав правду:
— Я думал, ты захочешь убить меня. За то, что я сделал.
— Захочу? Нет, Тобиас, я никогда не хотел твоей смерти. Мы были друзьями, помнишь? — сказал Виго Блейданс и слабо улыбнулся. Эта улыбка, столь редкая, всегда преображала его лицо — как теперь, так и пятнадцать лет назад, когда они и впрямь были дружны. И им было что вспомнить… было бы, если бы захотелось вспоминать. И многое сейчас зависело от того, захочется ли — им обоим, но Виго — прежде всего.
— А прелестница Оринна до сих пор живёт в Шатоне, знаешь? — вдруг сказал Виго, и Том вздрогнул — от неожиданности, изумления, облегчения.
— Да ну?
— Ага. Вышла замуж, нарожала детей, но, по слухам, всё так же ненасытна. И если явишься без друга, а то и двух, — не пустит даже на порог.
— Что за баба была! — ностальгически вздохнул Том. — Молог раздери, да… а что же Дэниел Твиссен? Вы к ней вдвоём потом ещё хаживали?
— Хаживать-то хаживали, но она ворчала, дескать, двоих ей маловато будет. Брали потом с собой ещё Лэнда Орсона… но это уже не то было. М-да. — Он снова попыхтел трубкой. — Славное было времечко. Я уж и не помню, когда по бабам хаживал по-людски. Как-то всё недосуг, какая под руку подвернётся, той юбку и задираю. И, знаешь, хуже всего, что как-то и не хочется уже, как раньше, одну на троих, или трёх на меня одного… годы, что ли, не те, — сказал он и усмехнулся. Том улыбнулся ему в ответ — совершенно искренне. Веди этот разговор кто другой, он бы и бровью не повёл, не дал бы задурить себе голову досужей болтовнёй. Но это был Виго Блейданс. Виго, который никогда не говорил и не делал того, что шло вразрез с его честью. Потому-то они были дружны когда-то, и потому не могли быть дружны теперь.
Виго приложился к кубку, потом подлил себе ещё вина и небрежно проговорил:
— Когда зашла речь о том, кто из нас должен выследить и убить тебя, я был рад, что выбор пал не на меня. Ты же понимаешь, Тоб, если бы дядя решил так, я бы подчинился. Что бы нас ни связывало тогда.
— Я понимаю, Виго.
— Надеюсь. Но, на моё счастье, почётная обязанность перерезать тебе глотку выпала на долю моего кузена Питера — в конце концов, он ведь лэрд клана. Рад видеть, что он до тебя так и не добрался, — он приподнял кубок и чокнулся с Томом, и тот поддержал тост, сочтя это наилучшей здравицей, которую можно было представить в данных обстоятельствах. От сердца у него уже почти отлегло. Настолько, что он задал вопрос, который зарёкся задавать с самого начала:
— Как Сусанна?
— В порядке, — равнодушно отозвался Виго. — Вышла замуж за Чейзера на следующий же год. Она не слишком убивалась, если ты об этом. Была оскорблена, конечно, — как и все мы. Но не больше, чем была бы оскорблена на её месте любая брошенная баба.
Том кивнул. Он помнил, что Виго не слишком-то любил свою кузину, дочь лорда Блейданса — хотя был вовсе не против перспективы породниться с Томом благодаря его помолвке с леди Сусанной. Увы, случиться этому так и не было суждено.
Впрочем, слова Виго, хоть в них не слышалось и тени упрёка, всё же были не совсем справедливы.
— Я не бросал её, Виго. Она знала обо всём. Знала с самого начала. И первой была, кто узнал. Я ей рассказал…
— А она рассказала отцу, брату, сёстрам, мне и всей остальной родне. Ей, правда, тогда велели заткнуться и обо всём забыть — никто не верил, что ты пойдёшь против воли клана и разорвёшь брачный договор. Думали, глупая баба свихнулась от ревности да чего-то там себе навоображала…
— Виго, — сказал Том, — я так и не имел возможности сказать тебе это… Прости. Прости меня.
— Проси прощения у своего клана. Ему от этого вышло куда больше вреда. А для нас — так, в конечном счёте, и к лучшему… как показало время.
А, так вот оно что. Несостоявшееся породнение с годами сыграло Блейдансам на руку… хотя никто не знает, как повернулось бы дело, если бы они объединились двенадцать лет назад. Всё могло сложиться совсем иначе — и тогда, и теперь.
— Как я понимаю, вы теперь на стороне конунга?
Том сам не знал, зачем спросил о этом. Он не имел ни малейшего права спрашивать. Стоило, по большому счёту, вернуть разговор в русло ленивой необременяющей болтовни, вспомнить пару-тройку совместных юношеских похождений, напиться, завалиться спать, а утром, под шумок, удрать незаметно. Но он спросил — потому что знал, чувствовал, что это важно.
У него всегда был нюх на то, что важно. А что пользоваться им как следует не умел — так то дело совсем другое…
Виго Блейданс выбил трубку, вычистил её и раскурил заново. Его глаза были прикрыты, затылок прижимался к дощатой стене.
— До вчерашнего дня я был у Логфорда, — вполголоса проговорил он. — Обсуждал условия присоединения моего клана к Одвеллам. Они просят пятьсот воинов и мою кузину Беатрис. Дядя считает, и я с ним согласен, что трёхсот воинов и моей кузины Аэлис с них за глаза хватит. Беатрис первая красотка фьева, по ней весь север слюной исходит. Она была совсем малявкой, когда ты исчез, но теперь — поверь, увидь ты её, ты бы покой и сон потерял.
Том промолчал. Виго прикрыл глаза и глубоко вздохнул.
— Мне, по правде, всегда отвратительны были эти игры. Я просил дядю послать кого-нибудь из своих сынков, те врать и юлить горазды как никто, но он затаил на них обиду с тех самых пор, как они не сумели тебя выследить двенадцать лет назад… ничего серьёзного, говорит, доверить им нельзя.
— Так вы… — у Тома перехватило дыхание, и сердце забилось чаще — хотя не должно, не должно было, ведь всё это не имеет к нему никакого отношения, он умер слишком давно…
— Я еду, как ты видишь, в Сафларе. Не было иного пути пробраться туда, кроме как пройдя землями одвеллского септы — по ходу дела прикинувшись, что мы подумываем о союзе. Логфорду я ответа не дал — что там старик себе навоображает, ровно ревнивая девка, — то его забота. А мой путь иной…
— Сафларе, — повторил Том. — Виго, я не понимаю…
— Сафларе собирают тинг, — сказал Блейданс.
Сказал спокойно и равнодушно — даром что сообщил о событии, по грандиозности и важности несравнимое ни с чем из того, о чём Том слышал за последние годы. Тинг! Большой общий совет свободных кланов, не присягнувших ни конунгу Фосигану, ни его извечному врагу и сопернику, лорду Одвеллу. В прежние времена тинг был высшим органом власти в Бертане, и ни один значимый суд или принятие закона не могли обойтись без сбора клановых вождей. Ныне свободных лордов, по старинке именовавших себя бондами, оставалось всё меньше и меньше — тем меньше, чем чаще грозили с востока андразийские варвары, и чем реже лорды, особенно владевшие прибрежными землями, могли справиться с ними в одиночку. Их самостоятельность и свобода теперь куда больше зависела от готовности идти на уступки и откупаться от конунга, ибо даже объединившись между собой, бонды не смогли бы активно противостоять давлению гораздо более многочисленной армии Фосигана. Впрочем, объединившись, они столь лелеемую волю наверняка бы утратили. Но пока сохраняли не только волю, но и власть: именно тинг почти сорок лет назад посадил Фосигана на трон в Сотелсхейме, и в то время, когда разорённая варварами и междоусобицами страна пухла от голода и вымирала от чёрной оспы, волю совета никто не то что не посмел, а попросту остерёгся оспаривать — ведь тогда каждый свободный клан, члены которого способны держать в руках оружие, заявил бы свои права на конунгат, и новая война могла бы попросту уничтожить измученный Бертан. Но то было очень давно, и многое изменилось с тех пор. Ныне Бертану не грозили ни варвары, ни голод, ни оспа. Клан Фосиган, переживший мор, был силён как никогда и поглядывал на свободных бондов искоса, будто выжидая, когда можно будет ударить и подмять всю эту свору дерзких выскочек, противившихся объединению страны под его пятой. Однако оставался также и клан Одвелл, хищно поглядывавший на Сотелсхейм. Потому конунг не спешил рисковать. Одвеллы также предпочитали не провоцировать свару, а потихоньку перетягивать бондов на свою сторону по одному, накапливая массу военных сил, с тем чтоб когда-нибудь противопоставить её Сотелсхейму…
То есть — до недавнего времени предпочитали. До тех пор, пока не уничтожили клан Эвентри.
Тому не надо было даже спрашивать, чтобы подтвердить свою догадку. Он знал, что нападение на Эвентри — главная, хотя и вряд ли единственная причина, вынудившая свободные кланы собраться на тинг впервые за столько лет. И знал, что они будут обсуждать на этом собрании — была лишь одна тема, способная объяснить таинственность, о которой свидетельствовали конспиративные действия Блейданса и его свиты. Бонды возмущены поведением Одвеллов — но не готовы принять сторону Фосиганов в назревающей войне, ибо эта война наконец-то может закончиться чьей-либо окончательной победой. Тогда в Бертане воцарится наконец единый, непререкаемо властный над всеми великий конунг. А какими будут цвета его клана — вопрос уже второстепенный, ибо после этой войны не останется свободных бондов.
«Они бы не пошли на это, если бы не были так возмущены, — подумал Том. — Если бы не глупость Индабирана. И не моя глупость. О Молог Всемогущий… о Янона Неистовая, ты оказалась хитрее. Я сбежал, но ты всё равно оказалась хитрее меня, и сделанное мной исправить нельзя».
— Что ты собираешься делать, Виго? — тихо спросил он.
— Ты спрашиваешь о позиции моего клана? Что ж, всё равно это скоро перестанет быть тайной… если мы о чём-нибудь договоримся. Хотя, чует моё сердце, это будет не так-то просто.
Том кивнул. Он вполне разделял эти сомнения. Отдельные кланы время от времени присоединялись к той или иной противоборствующей стороне — но казалось немыслимым, чтобы то же присоединение могло осуществиться всем скопом. Нет, они слишком ценили свою свободу — или ту видимость, что осталась от неё в последние двадцать лет.
— Что касается меня, — вполголоса добавил Виго Блейданс, — и моего клана — то ты знаешь, Тобиас, сколь много для нас значит честь.
— И из этого следует…
Виго Блейданс резко вытащил трубку изо рта. Его взгляд окаменел.
— Разве у этого может быть более одного значения, Томас Лурк?
Том, не выдержав его прямого взгляда, отвёл глаза.
— Просто… я не такой, как ты. Прости.
— Боги простят.
Честь… если бы он, Тобиас, ныне звавшийся Томом, старший сын главы великого клана, ныне сделавшийся безродным предателем, понимал, что значит это слово, многое могло пойти иначе. Не то чтобы Том этого слова не знал — он знал, и очень хорошо. Но, в точности как и многие его родичи, сам решал, когда это слово предпочтительнее забыть.
— Виго, я любил её. Камилла… она была моей женой.
Брови Блейданса слегка приподнялись, и Том понял, что это так и осталось их тайной: его, Камиллы и Алекзайн. О да, Алекзайн знала всё.
— Однако, — проговорил Виго Блейданс — и расхохотался. — Прости! — отсмеявшись, сказал он. — Я просто представил, что было бы, если бы ваш брак сочли законным и он связал бы ваши кланы. Забавно. Забавно, Молог задери!
— Мне так не кажется.
— Да, возможно, ты и прав.
Он снова замолчал и долго пыхтел трубкой, прежде чем сказал:
— Ты задал мне вопрос, которого не имел права задавать. Могу ли я теперь сделать то же самое?
— Конечно.
— Хорошо… Скажи мне, Тобиас, этот мальчик, что едет с тобой, — Адриан Эвентри?
Том закусил губу. Потом ответил:
— Я не думал, что ты узнаешь его.
— Я видел его брата, Анастаса. Они очень похожи. Скажи теперь, он путешествует с тобой по своей воле?
— Пожалуй… да, — усмехнулся Том. — Теперь — да.
Виго внимательно взглянул ему в лицо.
— Он знает, кто ты?
— Молог Всемогущий, помилуй! Конечно нет.
— А! — сказал Виго Блейданс и расхохотался снова. — Это многое объясняет. Признаться, когда я увидел тебя на том паршивом тракте в Логфорде, подумал, что мне явился призрак. Но когда увидел этого щенка и понял, что вы вместе… то, поверишь ли, испугался, не тронулся ли я умом. Ты и Адриан Эвентри — в одной упряжке! Ну-ну, Томас Лурк!
— Не говори ему, — криво улыбнулся Том. — Он и так меня не больно-то любит.
— Не волнуйся. Судя по тому, что я видел, он слишком глуп, чтобы сообразить, что к чему, даже если бы узнал твоё настоящее имя.
— У меня нет другого имени, кроме того, что я назвал тебе. Теперь — нет.
Скулы Блейданса вновь затвердели, на них заходили желваки. Он вытащил трубку изо рта и посмотрел на Тома в упор.
— Так ты предал свой клан, Тобиас?
— Да. Я предал свой клан. Теперь ты убьёшь меня?
Виго Блейданс медленно покачал головой.
— Это долг не мой, а твоих родичей, если ты попадёшься им на пути. Я не смею отбирать кровь у их мечей.
Он говорил серьезно и очень спокойно. Том склонил голову, зная, что благодарность неуместна, и всё равно её испытывая — больше всего за то, что Виго ни о чём его не расспрашивал. Он всё равно не смог бы рассказать.
— Так значит, ты не ведёшь мальчишку Эвентри к Индабирану? — спросил Блейданс. — К твоему сведению, они обещают за него пять сотен золотом.
— Вот как? Маловато, если правда то, что ты сказал про тинг…
— Ты сомневаешься в моих словах? — спросил Виго без улыбки.
— Нет. Прости ещё раз. Я… я давно не говорил с такими людьми, как ты.
Взгляд Виго Блейданса стал задумчивым. Он посмотрел в другой конец стола — туда, где веселилась пьяная шваль. Потом сказал:
— Порой я думаю, что нас в самом деле становится всё меньше… если ты понимаешь, о чём я.
Том понимал. Но сомневался, что имеет право рассуждать о таких вещах.
— Куда же ты ведёшь его… Том?
— К его брату.
И на миг ему показалось, что во взгляде Виго Блейданса, племянника главы клана, мелькнуло что-то… удивление, недоверие, одобрение… прощение?
— Что ж. Достойно. Тем более что сам по себе парень пропадет на первой же заставе.
— Он не так глуп, как кажется, — сам не зная посему, заступился за Адриана Том.
— М-да? А с логфордским прощелыгой вёл себя будто полный кретин.
— А как бы ты себя повёл на его месте?
Виго Блейданс открыл было рот, потом захлопнул его. Потом ухмыльнулся.
— Молог раздери! В этом что-то есть. Всегда проще глядеть со стороны, верно?
— Верно.
— Но всё равно, ему не стоило так открыто лезть на рожон.
— Он не привык путешествовать по дорогам таким образом. Он растерян. И совсем не знает жизни. А ещё его явно недостаточно пороли.
Ухмылка Виго сделалась понимающей.
— Я вижу, ты близко к сердцу принял судьбу юного Эвентри. Что так? Совесть взыграла?
— Можно сказать, что и совесть.
— И давно?
— Давно.
Виго выбил трубку, спрятал её и потянулся.
— Что же, — сказал он. — Поедете со мной на тинг.
Этого Том совершенно не ожидал. Должно быть, изумление вполне отразилось на его лице, потому что Блейданс проговорил:
— Тайно, разумеется. Ты и мальчишка прикинетесь слугами. Старайтесь держаться в тени. Если я узнал его… и тебя… вас может узнать и кто-нибудь другой. По правде сказать, присутствие там довольно опасно для вас обоих. Но ему это будет полезно. И тебе тоже.
— Спасибо, Виго.
Тот жестом отмёл благодарность.
— Лошадей вам утром подберём. Я, в общем-то, только ради этого и завернул сюда на ночь. На месте сходки мы должны быть завтра. Я так понимаю, вы торопились, но если ты и впрямь хочешь разыскать Анастаса Эвентри, то на тинге тебе, быть может, помогут с этим больше, чем в любом другом месте. Ладно, а теперь спать. Я устал, говоря по правде, как собака, к тому же довольно-таки пьян. А ты?
— Я тоже, — солгал Том — и подумал, а не предложить ли, как в старые времена, присмотреть тут девочку и — одну на двоих… Но в этом было бы что-то слишком нарочитое, слишком натужное, и потому лживое. А он не хотел больше лгать. Не этому человеку.
Виго пошёл во двор отлить, а Том пробрался в общую спальню. Людям Блейданса достались худшие койки у входа, и Адриану, конечно, самая худшая — у двери. Лежанка рядом с ним была свободна. На полу горела одинокая лампа, в полумраке храпели, сопели, кряхтели и ворочались с два десятка тел. Том пробрался между кроватями и лёг на свободную поверх одеяла, не раздеваясь. Повернулся на бок — и едва не вздрогнул, уловив во мраке блеск раскрытых глаз, глядящих прямо на него.
— Том, — прошептал Адриан, — Том, прости меня… я хотел… прости, что я… я просто не мог…
«Знал бы ты, кто я, — подумал Том. — Знал бы ты… просил бы прощения? Или это мне надо просить прощения у тебя, хотя я никогда не смогу достаточно искупить свою вину перед тобой и твоим кланом? Что бы ни делал, как бы ни старался…»
— Спи, мальчик, — сказал он. — Спи. Завтра будет долгий день.
Пять десятков кружек гремели о стол — возмущённо, вразнобой, и грохот этот быстро заглушил писклявый голос краснорожего человека, чей необъятный живот врезался в край столешницы, даже когда он стоял. Том не знал его в лицо, но одежда на нём была зелёная и бежевая — цветов клана Хэдлод. Он всё ещё что-то кричал, размахивая руками и тыча растопыренными пальцами в лица соседям по столу, в ответ на что те недовольно кривились и отвечали непристойностями. Пятьдесят кружек грохотали о столешницу, выражая недовольство собрания и категорическое нежелание выслушивать трусливый лепет Хэдлода.
— Тихо! К порядку! — прогудел над столом могучий бас распорядителя — здоровенного детины из клана Сафларе, исполнявшего обязанности хозяина тинга, и шум понемногу улёгся, хотя недовольный гул продолжал висеть в тесном помещении заброшенного хлева. Виго Блейданс был одним из немногих молчавших; он сидел, навалившись на стол, и покусывал рыжие завитки своей бороды.
Они опоздали к началу собрания — на последней заставе попался особенно придирчивый и несговорчивый караул, — и вошли в старый хлев, затерянный на окраине обширного поля, когда слуги прибывших ранее кланов уже накидали на пол соломы, собрали стол и скамьи, растянув их от самого входа до дальней стены, расставили кружки и разлили вино. Предварительно они основательно перепотрошили и истыкали вилами завалы подгнившего сена, сваленного в хлеву, и убедились, что там не прячется пара навострённых ушей. Лишь после этого благородные лорды, представители девятнадцати свободных кланов Бертана, вошли внутрь и расселись за столом — кто где придётся, не считаясь с рангом. Сопровождавшие сгрудились позади, внимательно прислушиваясь к разговору господ и соответствующими по настроению выкриками поддерживая их одобрительные или, напротив, возмущённые возгласы. Те, кто оказались здесь, по умолчанию заслуживали доверия, и благородные лорды вели себя непринуждённо, не стесняясь ни обуревавших их чувств, ни приходивших им на ум высказываний. Первая кружка полетела в первую голову уже на десятой минуте тинга. До потасовки пока не дошло, но дело уверенно двигалось в этом направлении.
Том, которому выпало играть роль конюшего, отвёл коней Блейдансов к наскоро устроенному загону для лошадей, стреножил их и направился туда, где скрылся Виго со своими людьми — к хлеву, дрожавшему от воплей и выкриков. Счастье, что на многие лиги вокруг не было ни живой души — иначе тайное собрание свободных бондов стало бы вовсе не тайной.
— Чего они так орут? — спросил Адриан и поёжился. Том велел ему не отходить ни на шаг, и впервые мальчишка выполнял его приказ с большой охотой. Он не понимал, где они оказались, и почему должны быть здесь вместо того, чтобы ехать в Эвентри искать Анастаса. У Тома не было ни времени, ни возможности объяснять ему это.
— Да уж так, проникаются важностью возложенной на них миссии, не могут остаться равнодушными, — усмехнулся Том, проверяя, надёжно ли привязана седельная сумка.
— А что у них за миссия?
— Вот сейчас и разберёмся, — сказал Том и, хлопнув его по плечу, повёл к хлеву.
На страже у входа стояли двое воинов, но они видели, что Том приехал с Блейдансами, и пропустили без вопросов. Благодаря обилию масляных ламп в хлеву было светло, как днём, даром что уже стояла глухая полночь. В воздухе колыхался густой табачный дым и винные пары вперемешку с запахом прелого сена и застарелого навоза, от тепла ламп размякшего и вернувшего былое благоухание. Блейдансы, на правах опоздавших, получили наименее удобное место почти у самого выхода. Том ступил Виго Блейдансу за спину и знаком велел Адриану встать рядом.
— Держись в тени, — шепнул он, и мальчик кивнул, ошалело разглядывая толпу галдящих и толкающих друг друга мужчин. Церемониальные одежды на них, свидетельствующие о том, к какому клану каждый из них принадлежит, окончательно огорошили Адриана. Да уж, свободные бонды на то и свободные, чтоб, собравшись разом, не ограничивать себя ничем — в том числе правилами этикета. Правила выдумывают для рабов.
— …и никто из нас не в состоянии справиться с… — надрывно кричал краснолицый Хэдлод, и тут-то благородные лорды похватали кружки и грянули ими о столешницу. Благородные лорды начинали терять терпение. Том понял, что за тот час, который пропустили Блейдансы, тинг так толком и не начался.
— Так не пойдёт, благородные лорды! — громыхнул над столом бас Сафларе, и шум немного поутих — должность распорядителя на тинге была неизменно уважаемой, и пререкаться с его волей не смел никто. — Мы вовек не договоримся, если не станем слушать друг друга.
— А что слушать-то? — выкрикнул со своего места низкорослый и престарелый, но бойкий не по годам лорд Флейн. — Кого тут слушать прикажете? Пока только и было, что трусливого да дурноязыкого трёпа не по делу.
— Так может, вы выскажетесь, лорд Даррен? — предложил Сафларе, и Даррен Флейн, хмыкнув, поднялся. Гул поулёгся — старичок хоть и слыл буйнопомешанным, однако уважением пользовался немалым.
— Выскажусь. Да ничего нового не скажу вам, благородные лорды. Я изначально был против созыва этого тинга. Ибо, — продолжил Флейн, выждав, пока протестующий грохот кружек по столешнице стихнет, — если уж решились созывать его по такому поводу, то надо было делать это двенадцать лет назад, когда сучьи дети Одвеллы впервые пошли против воли богов и людей и опозорили Эвентри. Тогда надо было решать.
— То было частное дело! — крикнул с другой стороны стола молодой человек с козлиной бородкой; на нём были цвета Пейревана. — И Одвеллы, и Эвентри почли бы за оскорбление, вмешайся кто в их ссору.
— Да уж, вы, лэрд Пейреванов, без сомнения, осведомлены о том лучше любого из нас, даром что в те года на горшок ходили срать, — серьёзно кивнул лорд Флейн.
Лорды громыхнули снова — на сей раз хохотом. Юный Пейреван, побагровев, опустился на своё место.
— А я был в то время постарше вас нынешнего, молодой человек, и помню, как дело было. Эвентри были оскорблены и хотели мстить. И никто из нас не смог бы их в том тогда упрекнуть. Лорд Уильям знал, что делал, да будет Гилас милосердна к нему. Но после его смерти, после всех несчастий, что выпали на долю Эвентри… ясно было, что рано или поздно они склонятся перед сильной рукой. Как и многие из нас. Тихо! — повысил он голос, когда лорды протестующе взвыли. — Я не сказал: «мы». Я сказал: «многие из нас», свободных бондов, не подчинённых хитрожопым стервецом Фосиганом. Много ли нас осталось таких, не подчинённых? А? Я вас спрашиваю!
— Да есть ещё! — крикнул кто-то.
— Есть, есть!
— Сколько? Девятнадцать кланов! Девятнадцать — а сколько нас было сто лет назад? Никто не смог бы нас перечесть, ни одному из нас не хватило бы жизни, чтобы убить всех своих врагов. Я и теперь, меж словом, желаю видеть на колу бошки кой-кого из вас, здесь сидящих…
— Это взаимно, старый хрен! — рявкнули из дальнего угла. Лорд Флейн отсалютовал в том направлении.
— Но пока что одно объединяет нас всех, сколь мало бы нас ни осталось. Знаете, что это, благородные друзья и враги мои? А? — Над столом повисла тишина, и в ней голос старого лорда Флейна прозвучал по-молодецки ясно и звонко: — Мы свободны! Все мы, каждый из нас. И теперь вы, все вы, вольные сыны старого Бертана, притащили сюда меня, бедного старика, чтобы я поддержал ваше намерение продаться в рабство? Не бывать этому!
— Лорд Флейн, как всегда, излишне категоричен, — не очень громко, но внятно проговорил, поднимаясь со своего места, лорд Ролентри. Том когда-то хорошо знал его, а потому невольно отступил на шаг назад, погружая своё лицо глубже в тень. — И несколько путает понятия. Он называет рабством взаимопомощь и взаимовыручку равных. И забывает о том, что, отбрось мы это сейчас, можем угодить прямиком в рабство всамделишное — как случилось с бедными Эвентри.
— Эвентри затеяли свару с Одвеллами двенадцать лет назад, — резко ответил лорд Флейн. — А после продались Фосиганам за обещание отмщения. Фосиган, как обычно, наврал и обещает отмщение до сих пор.
— Да, да, обещает, ещё и письменно, говорят, для пущей убедительности! — поддакнул кто-то, и по рядам покатилось обсуждение этой детали. Лорд Флейн, продолжая дивить собрание своей крепостью и прытью, хрястнул кулаком по столу.
— Если бы Эвентри хотели нашей помощи как свободных бондов, если бы хотели остаться свободными бондами и мстить как свободные бонды — они бы заявили об этом тогда, — отрезал он. — Но лорд Ричард, да будет Гилас милосердна и к нему тоже, предпочёл лизать пятки конунга. Не пойму, отчего бы теперь его пащенку не вторить примеру почившего батюшки.
— Дело не в Эвентри, — покачал головой лорд Ролентри. — Неужто вы не понимаете? То, что случилось с Эвентри, рано или поздно коснётся всех нас. Пока ещё нас достаточно много. Объединившись все вместе, мы обезопасим каждого из нас от любых посягательств на нашу свободную волю. В противном случае завтра Индабиран подойдёт к вашему порогу, лорд Флейн.
— Пусть подходит, — старик осклабился, показав гнилые зубы. — Я ему покажу, что ещё в силах удержать в руке меч.
— Покажете, без сомнения. И умрёте с честью, как Ричард Эвентри и его старший сын. И сыновья, и внуки ваши тоже умрут. А потом Одвелл отдаст их жён своей солдатне.
Поднялся ропот, но кружками больше не стучали. Лорда Ролентри слушали внимательно, почти перестав выкрикивать с мест.
— Поймите, лорды, пришёл день, когда мы больше не можем держаться в стороне, каждый сам по себе. Иначе опасность грозит всем нам.
— Она всегда грозила, — отозвался один из лордов, чьих цветов Том не смог узнать. — Не Одвелл, так конунг со своими притязаниями, не конунг, так варвары. Что изменилось?
— Изменилось то, что они теперь сильнее, чем были прежде. Вы думали когда-нибудь, лорды, что будет, если Фосиган и Одвелл объединятся?
Поднялся ропот, кое-где зазвучали смешки.
— Уж скорее Гилас раздвинет ноги перед Мологом по доброй воле! — выкрикнул кто-то пьяным голосом. Одни зашикали на него, другие захохотали, третьи задумчиво качали головами.
— Нет, — веско сказал лорд Ролентри. — Нет, никому из нас не одолеть такой силы. И даже если мы объединимся — против них двоих не выстоим. Потому объединяться надо теперь, пока они во вражде.
— Да с чего ты взял, что они думают о союзе? Они как кошка с собакой, особо сейчас-то…
— Вправду? А где же тогда орды фосиганских воинов, сметающих с лица земли проклятых Индабиранов, что подняли руку на конунговых септ?
Лорды примолкли. И тут лорд Флейн, так и не севший, криво усмехнулся.
— Складно чешешь, Эдгар. Вот только неувязочка одна выходит. Фосигану-то, может статься, только и дела, чтоб позволить Одвеллам пошире развернуться. Потому что коли Одвелл развернётся — тогда-то мы возропщем и, поднявшись все разом, раздавим стервеца. Сам-то Фосиган с ним справиться не в состоянии. А ты предлагаешь, чтоб мы облегчили ему задачу. Только вот что потом будет? Потом, когда твои и мои воины сровняют замок Одвелл с землёй? Кто туда придёт за нами следом и посдирает портки с мертвяков? Как думаешь? А?
Снова поднялся галдёж. Все говорили разом, выступающих лордов никто уже не слушал. Том обводил взглядом кричащих мужчин, пытаясь понять по выражениям их лиц, кто из них на стороне Ролентри, кто — Флейна, а у кого своё мнение. Здесь были все — и вправду каждый свободный клан Бертана прислал своих представителей на эту сходку. Не только Сафларе и Блейдансы, но и Хэдлоды, Вилзинги, Тартайлы с Пейреванами из дальних южных фьевов, и многие другие — даже лорд Карстерс со Сварливого острова, прозванного так за то, что шесть кланов, делившие между собой островные земли, испокон веков грызлись за них с неувядающей злобой. Пять из этих кланов были сейчас септами Одвеллов и Фосиганов, и лишь Карстерс сохранял нейтралитет, что также усиливало свары. Сейчас он стучал кулаком по столу и орал, что говорить тут не о чем, Одвелл и Фосиган — оба подлецы и пройдохи, и пустить под огонь и меч надобно что одного, что другого. Многие, слушая его, согласно кивали, хоть это и было несусветной глупостью: девятнадцать разрозненных кланов никогда не смогли бы повести такую войну на оба фронта.
Флейн и Ролентри всё ещё стояли на ногах, хотя переругивались теперь не друг с другом, а с сидящими рядом. Распорядитель тщетно призывал к порядку и просил высказываться других лордов. Но те помалкивали — каждый разделял позицию либо одного, либо другого оратора, и теперь все ждали, когда же кто-нибудь выступит с альтернативной идеей.
Ждать долго не пришлось.
— Милорды! — сказал, вставая, Виго Блейданс. — Я прошу слова.
Эти неожиданно церемонные слова на фоне всеобщего гвалта вынудили тинг смолкнуть. Все взгляды устремились на рыжебородого человека в чёрном и оранжевом. Том смотрел ему в затылок и ждал его слов с неменьшим нетерпением и любопытством, чем все остальные, — хотя, в отличие от них, догадывался, что он скажет.
— Вы, лорд Флейн, и вы, лорд Ролентри, говорили много и верно. Но о чём вы говорили? О выгоде и расчёте. Я не услышал ни от одного из вас ни единого слова о чести. Отчего так, милорды?
Поднявшийся ропот сильно отличался от гула, прерывавшего ораторов раньше. Теперь слушатели были, кажется, смущены. Лорд Флейн вновь обнажил свои гнилые зубы.
— Ты молод, юноша. Ты и говори о чести. А нами, стариками, все эти речи давно уже сказаны.
— И оттого, возможно, все наши нынешние беды и тревоги, мой лорд, — спокойно сказал Виго.
Ухмылка Флейна поблекла.
— Не дерзи мне, щенок, — потребовал он. — Когда ты ещё срать на горшок ходил, я…
— Вы наблюдали, как ублюдок из клана Одвелл бесчестит имя Эвентри. Да. Это мы уже слышали.
Теперь над столом висела тишина. Лорд Ролентри, поколебавшись, сел. Теперь Виго остался один на один с престарелым безумцем, жёгшим его ненавидящим взглядом выцветших глазок.
— И что же тебе велит твоя честь, Блейданс? — язвительно спросил старик. — Сунуть свою шею под одвеллский нож? Или, может, под Фосиганов сапог?
— Я не задаю своей чести таких вопросов. Я спрашиваю её лишь об одном: что делать мне, свободному бонду, когда я вижу бесчестье равного мне? И она отвечает: мсти. Или помоги отомстить. Об остальном подумаешь, когда час возмездия останется позади.
— Демагогия, — поморщился лорд Ролентри, всегда любивший блеснуть мудрёным словцом. — Ну, отомстите вы за уничтоженный клан Эвентри, потреплете Одвелла чуток. Что дальше?
— Дальше я буду уверен, что мои дети станут жить в мире, где один свободный бонд поднимет оружие на защиту другого, если придёт нужда. И зная это, я сойду в могилу спокойным.
— Да, готовьтесь понемногу к могиле, молодой человек, — буркнул лорд Флейн. — Она уже вон, маячит поблизости.
— Да уж, лорд Даррен, вы-то его точно переживёте, как и всех нас, — вставил кто-то, и собрание громыхнуло хохотом. Это здорово разрядило обстановку — и основательно подпортило убедительный поначалу пафос речи Блейданса. Тому показалось, он услышал, как Виго скрипнул зубами.
— Вы сказали, лорд Флейн, что нас осталось мало, — сказал Виго, перекрывая смех. — Так скажите ещё, какая разница, сколько нас осталось, если мы сидим и смотрим, как нас позорят.
— Нас никто пока не позорил!
— Верно подмечено. Пока.
Лорд Ролентри удовлетворённо кивнул, уловив в словах Виго связь со своими изречениями. Однако тот даже не взглянул на него.
— Я, — сказал он внятно и чётко, — как представитель клана Блейданс на тинге, заявляю, что подниму меч на защиту чести клана Эвентри. Я вопрошаю, кто со мной.
В помещении стало тихо. Совсем тихо — ни разу так не было с того мгновения, когда сюда ступил первый слуга с вилами в руках, намереваясь прочесать сено. Если бы сидящий там шпион каким-то чудом сумел схорониться, теперь его наверняка выдал бы звук дыхания.
— Чушь, — отрывисто сказал Даррен Флейн. — Кто ты вообще такой, щенок? Отчего Майлз Блейданс не явился на тинг сам? Отчего не прислал кого-то из своих сыновей? Если клан Блейданс так заботят вопросы чести, почему он отправляет решать их кого-то из младших? Для остальных нашлись дела поважнее, эге?
— Мой дядя, лорд Майлз, не смог прибыть по той причине, что в прошлом месяце свалился с коня и сломал себе бедро, — медленно, с едва сдерживаемой яростью проговорил Виго. — И я надеюсь, что лишь я один из благородного собрания буду вынужден объяснять своё представительство на тинге, ибо если это начнёт делать каждый, мы не управимся до утра.
— И точно, какая разница, — заметил кто-то.
— Разница есть, — отрезал лорд Флейн. — Этот мальчишка призывает вас, лорды, к войне. Не междоусобной распре, которыми все вы тешитесь со скуки, а к большой войне, в которой победителем будет либо Грегор Фосиган, либо Дэйгон Одвелл. Но не вы. И не я. Ни один из свободных бондов, потому что когда один из этих двоих подомнёт другого, не останется свободных бондов.
И вновь поднялся крик. Виго кричал, лорд Флейн кричал, лорд Ролентри говорил громко, но совсем неслышно в общем гуле, надрывались и остальные, многие из которых вскочили тоже. Своды хлева тряслись от ора. Том прикрыл глаза. Он примерно так и представлял себе всё это — и, мельком обернувшись на Адриана, усмехнулся. Мальчишка растерянно глядел на бесновавшееся собрание. Вряд ли то, что он услышал сегодня о своём клане, пришлось ему по душе. Об Эвентри говорили теперь лишь как о поводе — поводе к войне, которой одни хотели, а другие нет. Но война будет всё равно, это Том видел ясно. Весь вопрос в том, вспомнит ли в ходе её кто-нибудь об Эвентри, или нет.
— И даже если предположить! — надрывался лорд Тартайл. — Даже если предположить, что мы объединимся и ударим по Одвеллу…
— По Фосигану! — крикнул Пейреван.
— По обоим! — рявкнул Карстерс.
— …то как вы это воображаете на практике, лорды? Под чьим началом мы пойдём? Под чьи знамёна встанем? Кто поведёт нас?
— Не я, это уж точно, — сказал лорд Флейн и, схватившись за поясницу, заохал. Он стоял на ногах уже с час и как будто вспомнил, что в его возрасте это неприлично. — Не те годы…
— Тебя никто и не просит, старый хрыч! — гаркнул его недруг с другого конца стола, и Флейн погрозил ему кулаком.
— Если благородные лорды позволят, я мог бы… — начал лорд Ролентри, но прежде чем нестройный хор голосов поддержал его, ещё более нестройный выразил яростное нежелание становиться под сине-чёрные знамёна. Том вздохнул про себя. Виго был прав. Присутствие здесь было полезно — для Адриана, чтобы не питал лишних иллюзий, и для Тома, чтобы перестал терзаться чувством собственной вины за давние провинности… Нет, не он один был во всём виноват. Благородное собрание свободных бондов как было сворой брехливых псов, так ею и осталось, и ныне здесь не было человека, способного их усмирить.
— Вам легко говорить, друг мой, — нарочито громко сказал своему соседу лорд Флейн. — Вам, молодёжи, только бы бучу заварить — а расхлёбывать потом кто станет? Кому потом за всё это держать ответ?
— Мне, — сказал молодой и звонкий голос, при звуке которого Том вздрогнул всем телом и обернулся. Обернулись и остальные: одни — с удивлением, потому что говоривший не сидел за столом, а стоял в тени хлева среди слуг, а другие — потрясённо, потому что тоже узнали его.
— Мне держать ответ.
Адриан вскрикнул, и его возглас потонул в едином вздохе лордов, поднявшихся с мест. Том сгрёб мальчишку за плечо, и, силой удержав на месте, выдохнул ему в ухо:
— Стой! Ни звука! Не мешай ему!
Это главное — только ему не мешай…
«Мне держать ответ» — так сказал Анастас Эвентри, шагнув на свет, выйдя к тингу из полумрака, где он стоял всё это время, слушая, как оскорбляют его клан и память его погибшей родни. И Том был единственным здесь, кто совершенно точно знал, что этот бедный, глупый, отважный юноша ошибается. Не лжёт, но, увы, не говорит правду. В ответе за всё быть не ему — другому.
«И, — вновь подумал Том, глядя на него, — как жаль, боги, как жаль, что это не ты».
Лорды повскакивали с мест, выкрикивая его имя: кто изумлённо, кто — враждебно. Он стоял меж них с непокрытой головой, с неподвижным, спокойным лицом, с твёрдым ясным взглядом. Он был в своих цветах — те, кто не мог узнать его в лицо, без сомнения, узнали его клан. Он не собирался больше прятаться. Он знал, что скажет им.
— Наглец! Мальчишка!
— Как только посмел?!
— Ты не имеешь права быть здесь! Ты не свободный бонд!
— Отчего вы так уверены в этом, мои лорды? — спросил Анастас Эвентри невозмутимо.
Эдгар Ролентри смотрел на него слегка расширившимися глазами. Виго Блейданс стоял, тяжело опершись на стол и, как все прочие, не сводя с Анастаса взгляда, но Том не мог видеть, каким был этот взгляд. Юный лорд Эвентри поднял голову и посмотрел поверх стола на распорядителя тинга.
— Лэрд Сафларе, рад приветствовать вас. Знаю, что я нарушил установленный порядок, но соблаговолите выслушать. Я, Анастас, лорд Эвентри, пришёл сюда как глава своего клана. Клан Фосиган, с которым связал себя клятвой мой отец, не выполнил условий, на которых была дана эта клятва, и на правах главы клана я объявляю, что беру её назад. Ныне я — свободный бонд, и прошу дозволения участвовать в тинге.
Сказав это, он, как требовала традиция, преклонил колено, снял с пояса ножны и поднял их на вытянутых руках, присягая, что не обнажит меча на тинге. Он стоял так долго, очень долго, пока возмущённый гул не улёгся. Лорд Сафларе поднял руку, требуя тишины.
— Все свободные бонды призваны на тинг, — медленно проговорил он. — С этой минуты клан Эвентри призван тоже.
— Что за нелепость! — возмутился кто-то из лордов, только что предлагавший встать на сторону Одвелла. — Мальчишка простоял целый час у стены, будто шпик, и теперь требует…
— Я моложе любого из вас, — сказал Анастас, не поднимая головы. — Я позже любого из вас принял обязанность главы клана. Я дал возможность высказаться старшим. Теперь я прошу слова.
Лорд Флейн громко фыркнул, и Тому почудилась в этом с трудом сдерживаемое одобрение.
— Я даю тебе слово, лорд Эвентри, — сказал распорядитель.
— Благодарю, — ответил Анастас и поднялся с колен.
Лорды понемногу опустились на свои места. Они шушукались, но не повышали голоса — никто не хотел пропустить то, что скажет юный наглец. Подумать только, а ведь всего четверть часа назад они говорили о его клане словно о кляксе на листке бумаги, мокром месте, которое надо стряхнуть или обтереть, а потом наказать того, что пролил чернила. Только теперь, судя по всему, проливать они будут вовсе не чернила.
— Я слышал, лорды, о чём вы говорили, — сказал Анастас, обведя тинг взглядом. Он был очень бледен, лицо его оставалось неподвижным, и только яркий блеск глаз выдавал его состояние — не волнение и не страх, скорее возбуждение, граничившее с горячкой. — Я знаком с вашими резонами. Я нахожу истину в ваших словах, лорд Флейн, ибо вы печётесь о мире. И в ваших словах, лорд Ролентри, ибо вы знаете, что миру без войны не бывать. И твои слова, друг мой Блейданс, я не могу не одобрить, ибо ты печёшься обо мне. И каждый из нас печётся о себе. И каждый прав, но не может согласиться с правдой другого. Милорды, я не предложу вам сейчас своей правды.
— И на том спасибо! — фыркнул кто-то, и Анастас вдруг улыбнулся — светло и открыто, и это была первая не злая улыбка на этом тинге.
— Не радуйтесь прежде времени, мои лорды! Я не дам вам своей правды, но потребую от вас вашей. Потребую, чтобы каждый из вас сделал то, что считает верным. Всё равно — что. Но сделал. А не чесал бы языком, как мудро подметил лорд Флейн.
Том увидел, как блеснули глаза старого лиса, услышавшего эти слова, увидел ответную улыбку, посланную им юному лорду Эвентри. И подумал, знает ли Анастас о том, что пришёл сюда наживать себе новых врагов.
И ещё подумал — да, наверное, знает. Он знает, что делает. И это отличает его от всех, кто собрался здесь.
— Всем вам известно, что произошло с моим кланом. Всем известно о вероломстве Индабиранов, наученных своими хозяевами, кланом Одвелл. Вы знаете, что клан Фосиган, которому присягнул мой отец, не ответил на мои просьбы о помощи. Знаете, что хоть я и глава клана, в данный момент весь мой клан — это я сам. Род Эвентри оборвётся на мне, если один из вас сочтёт себя оскорблённым и убьёт меня этой ночью. И тогда предмет, собравший вас сегодня, утратит свой смысл. Но ответьте мне, лорды: станете ли вы тогда жалеть о том, что собрались здесь?
Он умолк. Он ждал ответа. Требовал его. Кто-то тихо буркнул: «Нет», потому что было нелепостью и оскорблением признаться, что не желал являться на тинг. Другие подхватили, один за другим, и это «нет» прокатилось над столом, будто волна. Лишь лорд Флейн так и не разлепил тонких губ, пристально глядя на Анастаса.
Юный лорд Эвентри дождался слова «нет» от того, кто сидел ближе всех к нему с края стола, и кивнул.
— А тогда, мои лорды, — сказал он, — ответьте: для чего вы здесь собрались?
— К чему ты клонишь, щенок? — не выдержал кто-то.
— Что? Не знаете? Правда не знаете? — широко улыбнулся Анастас. — Я клоню к тому, что каждый из вас знал, приходя сюда: не важно, Эвентри ли поставлены на грань уничтожения или кто другой, и не важно, по чьей вине. Важно, что это случилось и может случиться снова. Если вы не сделаете то, что считаете верным.
Он не уговаривает их, внезапно понял Том. Не убеждает. Не пытается заговорить им зубы. Он просто загоняет их в угол. Ему не нужен их поверхностный и недолговременный энтузиазм, вызванный вином и чужим красноречием. Нет, он хочет, чтобы они поверили в то, что ему нужно. Поверили сейчас — и тогда уже не смогли бы поступить вопреки собственной вере. И это было легко, ведь они уже и так верили в это — каждый сам по себе, но не решались подкрепить веру делом.
Голос Анастаса звенел в тишине.
— Я ненавижу клан Одвелл, я хочу его гибели. Я равнодушен к клану Фосиган — Гилас ему судья. Всё, чего я хочу, — восстановить свой род. Я хочу найти своего брата Адриана и отомстить за погубленных родичей. Мне всё равно, чья сила упрочится в этой войне. Но как свободный бонд, я прошу в ней помощи у вас, свободных бондов. Взамен я предлагаю достойную долю от всей добычи, которую я вырву у своего врага. И если ваша правда не расходится с моей просьбой — примите её.
Он умолк. Его никто не перебил и не остановил — молчание тянулось и дальше, словно они ждали, что он скажет что-то ещё. Том смотрел на них и думал, что же произошло, почему они слушают его, когда не могли выслушать друг друга? И понял. Анастас говорил так, как говорили на тингах много веков назад — когда их, тех, кто звал себя свободными, было не девятнадцать, а девятьсот. Говорил, взывая к тому, к чему взывали испокон веков его прадеды. И требовал то, что имел право требовать. Он не трясся за свою шкуру, не интриговал и не строил далёких планов. Он лишь хотел защитить свой клан. Сперва — мой клан…
— Сперва — мой клан, — медленно проговорил старческий голос — и все обернулись к старому лорду Шарлэйку, впервые на этом тинге подавшему голос. — Потом — боги. Потом — мой конунг. Потом — я. Ты всё верно говоришь, мальчик. Всё говоришь верно. Так, как должно тому, кто носит имя свободного бонда.
Анастас благодарно улыбнулся ему — и глубоко поклонился, до самой земли. Словно сам он не мог этого сказать, словно забыл, и ему помогли, спасли в последний миг. Если так оно и было, это уже не имело значения.
Потому что свобода, право быть и называться свободными — это то, что было единой правдой для них всех.
С края стола громыхнула кружка, стукнув дном о столешницу. Медленно, ритмично: раз, другой, третий. Потом другая. Ещё одна, и ещё. Больше не вразнобой — сплочённым хором, барабанным боем. Минута — и пятьдесят кружек гремели о дерево как одна — все, и даже кружка лорда Флейна, не сводившего с Анастаса глаз. Чётко и коротко. В единый голос.
Это был их ответ.
Лорд Сафларе поднял руку, и грохот оборвался, оглушив Тома свалившейся тишиной.
— Ладно, лорд Эвентри, — сказал распорядитель тинга. — Ты требуешь — и мы дадим тебе. Но что ты можешь дать нам? Не потом, а сейчас?
— У меня нет ничего, кроме меня самого, — ответил Анастас. — Только это я и могу дать вам, лорды. Вы не хотите идти под началом друг друга, потому что не верите правде друг друга. Так пойдите под моим, потому что у меня нет ничего, кроме моей клятвы, и мне нечего с вами делить.
Он сильно рисковал, говоря это. Они были шокированы, растеряны — но не возмущены, нет. По их неуверенным лицам Том видел, что каждый из них предпочёл бы видеть над собой скорее юного Эвентри, чем соседа по столу.
Анастас вновь оказался прав: им нечего было с ним делить.
— Что ж, по сему и быть! — гаркнул лорд Карстерс и громыхнул ножнами о стол. — Ты получишь мой меч, парень. Начнём, пожалуй, всё же с Одвелла, кочергу ему в зад, а там видно будет!
Ему хотели ответить — все, каждый, по-разному, и, может, дело не решилось бы столь легко, — но тут всё закончилось, внезапно и вдруг, и началось то, чего боялись или хотели они все. Ибо именно в этот миг сами боги повернули события так, чтобы доказать правоту и своевременность слов Анастаса Эвентри.
Крик — далёкий, пронзительный, отчаянный крик — ворвался на тинг и пронёсся над ним, сметая всё, что имело значение миг назад.
— Измена-а-а-а-а!
Все и каждый круто обернулись ко входу в хлев — туда, откуда звучал этот крик. Том обернулся резче и прежде других — и лишь теперь, слишком поздно, заметил, что остался один. Адриана больше не было рядом.
И Адриан был тем, кто кричал от дверей.
3
Анастас! Это был Анастас!
В первый миг у Адриана перехватило дыхание — от изумления, от неожиданности, от восторга, — а когда он смог выдохнуть имя своего брата, оно потонуло в общих возгласах. Все лорды, равно как и их слуги, повернулись туда, где стоял старший брат Адриана. Его лицо похудело и осунулось за то время, что Адриан не видел его, и ещё в нём появилось что-то новое — что-то, чего Адриан прежде никогда не видел не только в нём, но даже в Ричарде, даже в отце… Впрочем, нечто похожее — очень отдалённо похожее — мелькнуло в день, когда они виделись в последний раз, когда Анастас курил, глядя в небо прищуренными глазами, и говорил… о чём же он тогда говорил? О долге, кажется… Адриан не помнил. Но его прищур, его рассеянную полуулыбку — помнил как самого себя. Помнил и любил.
Он рванулся вперёд — и был немедленно отдёрнут обратно крепкими безжалостными руками.
— Стой! — прошипел Том. — Ни звука! Не мешай ему!
Адриан возмущённо вскинулся на него, ничего не понимая: как же так, ведь Том сам говорил, что ведёт его к Анастасу — так вот же он теперь, здесь, перед ними! Но тут его брат заговорил, и Адриан понял. То, что происходило здесь, имело важность, которую он, не понимая до конца, чувствовал каждой частичкой своего тела. Ни убогая обстановка, ни мерзкие запахи, ни дикие манеры свободных бондов не сбили его с толку, во всяком случае, не до конца. Адриан понимал, как важно для Анастаса, чтобы эти люди выслушали его — и прислушались к нему. Он понимал всё это, и потому, послушавшись Тома, не стал мешать Анастасу.
Но и стоять на месте он тоже не мог и не собирался.
Заметив, что Том так же поглощён происходящим, как и остальные, Адриан осторожно отступил назад, в тень. Том не обернулся; его рука, только что сжимавшая плечо Адриана, не шелохнулась. Адриан беззвучно выдохнул и принялся тихонько, бочком, пробираться к двери. Анастас стоял почти напротив них — чтобы подобраться к нему поближе, Адриан должен был обогнуть собрание, и быстро решил, что сделать это незаметно будет проще со стороны входа, где толпилось меньше народу. Он подойдёт к брату совсем близко, а когда всё кончится, сможет наконец броситься к нему, уцепиться обеими руками за его пояс, ткнуться лицом ему в грудь, ощутить его тёплую ладонь на своём затылке… И никакой Том не помешает ему сделать это!
Анастас говорил — что именно, Адриан толком не вслушивался, но вслушивались другие, так, как не вслушивались сегодня ни в одну речь. Многие переговаривались между собой, махая руками и пытаясь придвинуться ближе; тинг шевелился, гудел, будто встревоженный улей, и никто не обращал внимания на мальчика, тихо, будто мышка, пробиравшегося за их спинами. Оказавшись у дверного проёма, Адриан остановился и перевёл дыхание. От распахнутых дверей тянуло ночной свежестью. Анастаса он теперь видел хуже, чем раньше, хотя и находился к нему ближе. Прямо перед Адрианом стояли несколько людей из свиты лорда Ролентри, плечом к плечу, будто живая стена. Адриан замешкался, прикидывая, как бы лучше мимо них проскользнуть. Подумал было, не опуститься ли на четвереньки и не пробраться ли у мужчин под ногами — но не успел ни сделать этого, ни даже обдумать эту мысль как следует.
Слабый шорох за спиной даже не обратил на себя его внимания. Адриан сделал шаг в сторону, оказавшись у самого выхода — и в этот миг чья-то крепкая рука зажала ему рот.
«Том! Сволочь! Пусти!» — взвыл Адриан, но чужая ладонь на губах приглушала все звуки. Другая рука, столь же крепкая, обхватила Адриана поперёк груди, прижав руки к туловищу, и его потащили прочь, наружу, в ночную темень. Адриан упирался, как мог, но толку от этого было чуть. Он мотал головой, пытаясь освободиться, больше возмущённый, чем испуганный — и тут его выпустили, круто развернули и швырнули об стену хлева с такой силой, что весь воздух разом вырвался из его лёгких. Адриан хотел закричать — и застыл, прижатый спиной к стене, не в силах шевельнуть онемевшим языком.
Лицо, находившееся прямо перед его лицом, принадлежало не Тому. Но Адриан знал это лицо. И эти глаза. И эти руки, уже однажды прижимавшие его к стене.
Лезвие кинжала надавило на его горло, царапая кадык.
— Вот и снова встретились, щенок, — тихо проговорил человек, которого Адриан знал под именем Элжерон. Человек, который вёз украденное им письмо… и чуть не изнасиловал его в далёком трактире фьева Гвэнтли.
Адриан хотел сглотнуть — и не мог. Казалось, прижатый к шее нож застрял поперёк гортани, не давая вдохнуть.
— Щенок, — со странным удовлетворением повторил Элжерон, с силой прижимая его к стене всем своим телом. — Я тебя сразу узнал. Из-за тебя я не выполнил поручение своего лорда и заслужил его гнев. А ты, гадёныш, заслужил мой. Жаль, нет времени тебя проучить как следует… — Грубая рука быстро и похотливо прошлась по его груди. Адриан содрогнулся, и клинок прижался к его горлу крепче, по шее побежала струйка крови. — Ты и так уже мертвяк. Но не могу отказать себе в удовольствии прирезать тебя собственноручно.
Одна его рука всё ещё прижимала нож к горлу Адриана, другая задрала на нём рубашку и шарила по груди. Не будь ублюдок извращенцем, может статься, нашёл бы своим лапам более полезное применение. Но волею мимолётной похоти он предпочёл поизмываться над жертвой напоследок, а не держать её руки.
Вжавшись спиной в стену хлева, откинув голову под нажимом лезвия, смутно слыша грохот кружек о столешницу из-за стены и ничего не видя помутившимся от ужаса взглядом, Адриан схватился обеими руками за свой пояс.
И почти сразу его пальцы наткнулись на клинок, который дал ему Том — второй раз дал, и велел больше не терять. Наткнулись, и сжали, и…
И на долю мгновения — будто вспышка молнии в помутившемся сознании: ясный день в горной глуши, полумрак хижины, обнажённый по пояс человек перед ним, его учитель, его враг, и скользкая от пота рукоятка ножа в ладони…
«Бей, — сказал ровный, убийственно ровный голос Тома в его голове. — Вот сюда, в печень. Бей».
Если вынул нож, то бей.
Адриан вынул нож и ударил.
Кровь хлынула ему на руки. Лезвие клинка, впившееся в его горло, поползло вниз, обдирая кожу. Адриан отдёрнул голову и со всей силы оттолкнул от себя тело, с хрипом оседавшее на землю. Элжерон всё ещё цеплялся за него одной рукой, но нож выронил. Адриан ударил его коленом в грудь, потом снова — всей стопой пнул завалившееся на землю тело, с яростью и ненавистью, которых никогда прежде не знал. Ублюдок был ещё жив и неловко пытался вытащить нож, оставленный Адрианом в ране. Адриан ударил его снова — подошвой в лицо. Элжерон засипел и опрокинулся навзничь, вцепившись в рукоятку оружия, торчащую из его левого бока. Потом рука на ноже обмякла, и он затих.
Адриан стоял над ним, весь в крови — на шее, на животе, на руках, — в своей крови и чужой, глядя вниз, и из его груди вырывалось шумное, сиплое дыхание, перемежавшееся всхлипами. Было темно, как в могиле, хоть глаз выколи, никакого света, и никого вокруг, ни души…
Хотя как такое могло быть?!
В следующий миг его зрение прояснилось, так резко, что стало больно глазам. Адриан увидел окружающий мир почти так же чётко, как при свете дня, так, как видит ночное зверьё — и сам на миг ощутил себя зверем, загнанным, убившим, чтобы выжить, но лишь отсрочившим свою гибель, потому что он уже обложен и враг близко…
Он увидел тело второго стражника у входа в хлев, мешком валявшееся на земле — второго, потому что первым был Элжерон, приехавший сюда со своим лордом — может быть, даже с самим Анастасом…
Анастас!
Мёртвые тела лежали повсюду, их трудно было заметить сразу, потому что огни были потушены, — но Адриан видел и их, и неподвижные фигуры вокруг хлева, поблескивавшие обнажёнными клинками в блеклом свете звёзд, ожидавшие сигнала.
И тогда он смог наконец закричать. Набрал полную грудь воздуха — и завопил, вложив в крик весь страх, пережитый за прошедшие минуты и навалившийся на него теперь непомерной тяжестью:
— Из-ме-на-а-а!
Вряд ли это было сигналом, которого ждали убийцы в ночи — но именно сигналом для них это и послужило. Мешкали они всего несколько мгновений, на время которых в хлеву и вокруг него повисла такая звенящая, такая жуткая тишина, что у Адриана от неё заложило уши.
— Вперёд! — рявкнул кто-то из тьмы. — Убить всех!
Болезненная острота зрения покинула Адриана; он увидел лишь, как размытая чёрная тень лавиной катится на него — и бросился наземь, прямо под ноги нападающим. Он кричал, но это уже не имело значения, теперь кричали все. Недолгая тишина разорвалась лязгом оружия, бранью и воплями. Адриан услышал свист меча у себя над головой, там, где мгновение назад была его грудь. Кто-то споткнулся об него, больно врезав носком сапога под ребро, и с проклятьем рухнул в темноту. Адриан снова схватился за пояс — и застонал от отчаяния, вспомнив, что оставил оружие в теле Элжерона. Над головой орали и ругались; звенели, сталкиваясь, мечи; кто-то отрывисто отдавал приказания. В несколько мгновений тинг обернулся бойней, ночь огласилась криками, разносящимися над полем. Адриана снова пнули, попав на сей раз в плечо, — и он понял, что надо немедленно выбираться отсюда, иначе его попросту затопчут. Он бросился ничком и перекатился на бок, и на том месте, где он только что лежал, немедленно возникла драка. Адриан снова перекатился, и ещё — пока не почувствовал, что над ним уже не машут и не скачут, и только тогда осмелился приподняться на четвереньки и поднять голову. Он оказался в десятке ярдов от хлева, справа от жёлтого прямоугольника входа — единственного фонаря в кромешной ночи, превратившейся в сущий ад. На фоне прямоугольной полосы света метались тени, кто-то попал в неё в тот самый миг, когда в горло ему, выйдя через затылок, впилась сталь — и завалился навзничь, и сгинул прочь, а на его месте уже были другие. Адриан вскочил и заметался, не думая о том, что любым шальным ударом ему могут снести голову.
— Анастас! — кричал он, отпихивая от себя хрипящие тела. — Анастас!
И внезапно увидел его — рубящегося в центре битвы с двумя противниками сразу. Лезвие его меча так и мелькало, со свистом рассекая воздух, лицо тонуло в свистопляске теней.
— Ана… — крикнул Адриан снова — и очутился на земле, так и не поняв, как и отчего. То, что сбило его с ног, унеслось дальше — а когда он вскочил, Анастаса на прежнем месте уже не было, теперь там лорд Карстерс поворачивал клинок в груди поверженного врага, и на его оскаленных от напряжения зубах была кровь.
— Адриан!
Его сгребли сзади — и он яростно забился, вцепился зубами в чужую руку, а потом взвыл, когда эта рука обхватила его подбородок и рванула ему голову так, что едва не свернула шею.
— Успокойся! Это я, Том! Тихо, всё хорошо, это я!
Он застыл, потом обмяк от облегчения, но его тут же встряхнули и поставили на ноги.
— Ты ранен? Молог раздери… Адриан, ты ранен? Где?..
Он яростно замотал головой — и тут наконец увидел лицо, белое от напряжения, и понял, что это и вправду Том. Шум битвы и смерть вокруг стали внезапно далёкими и неинтересными, будто происходили боги знают где и вовсе не с ним.
— Точно не ранен?.. Иди сюда. Ну, пошли, кому говорю!
В правой руке Том держал окровавленный меч. На его лице тоже была кровь. Вцепившись свободной рукой Адриану в запястье, Том бегом кинулся прочь от хлева, к темневшему за ним бору. И только там отпустил.
— Сиди здесь. Спрячься и не высовывайся. Слышишь?!
— Анастас…
— Ты слышишь меня или нет?! Адриан! — Том влепил ему пощёчину, но Адриан едва ощутил её — так, словно к его щеке лишь слегка прикоснулись. — Слышишь меня, мальчик? Забейся в кусты и — ни звука. Я скоро приду. И отведу тебя к твоему брату. Слышишь? Повтори!
— Ты скоро придёшь и отведёшь меня к моему брату. Том…
— Молодчина. А теперь в кусты, живо.
— Том! Я хочу… дай мне нож… я опять потерял… я хочу воевать…
— Навоевался уже, — бросил Том и толкнул его. Адриан сел на землю. Том круто развернулся и ринулся обратно — туда, где по-прежнему гремело оружие и слышались крики умирающих. Но то ли отсюда, с безопасного расстояния, сражение виделось по-другому, то ли и впрямь шум немного утих. Пик схватки миновал. Сидя за земле вдалеке от ног, стремившихся его затоптать, и мечей, стремившихся его проткнуть, Адриан наконец смог немного прийти в себя. Он вглядывался в темноту, пытаясь понять, что происходит. Те, кто напали на собравшихся лордов, рассчитывали на внезапность — и просчитались. Луна вышла из-за облака, осветив место битвы. Не очень-то легко было понять что-то в ночной темени и за завесой крови, но Адриан видел, что людей в двухцветных одеждах на пространстве перед хлевом куда больше, чем людей, одетых в чёрное. Люди в чёрном — они были убийцы. Адриан знал это твёрдо: никто не стал бы надевать цвета своего клана, чтобы совершить такую гнусность. Впрочем, на Элжероне были цвета — он не помнил, какие…
Элжерон.
Адриан посмотрел на свои руки. На край рубашки, почерневшей от чужой крови и всё ещё выпростанный из штанов. Дрожащими руками заправил её и сжался в комок, обхватив колени руками. Что-то в нём тревожно металось, торопливо стучало в висках, требуя, чтобы он не дожидался Тома, бежал обратно в гущу сражения и нашёл Анатаса, сейчас, немедленно. И он хотел это сделать — но не мог, не мог расцепить пальцы, сцепившиеся в замок на коленях. Ужасно саднило горло — он не мог понять, то ли внутри, то ли снаружи. Адриан вспомнил, как клинок Элжерона процарапал ему горло — и понял, что от того и болит. Хотел было поднять руку и ощупать царапину, но всё ещё не мог расцепить пальцы.
Битва тем временем кончилась.
После ора и грохота сражения стоны раненых, заполнившие пространство, казались тихими, едва слышными. Победители ходили меж ними, наклонялись, добивали одних, других бережно относили в хлев, третьих хватали за ноги и грубо волокли туда же. У загонов снова зажглись фонари, испуганно заржали лошади, кто-то говорил с ними, пытаясь успокоить. Адриан напряг зрение, силясь разглядеть среди слоняющихся людей Анастаса. Увидел снова лорда Карстерса, потом Виго Блейданса (он прихрамывал, тяжело опираясь на свой меч) и юного лорда с козлиной бородкой, Адриан не помнил его имени. Кто-то сварливо закричал из дверей хлева — Адриан не разобрал слов, но узнал голос лорда Флейна. Ещё кто-то витиевато и смачно выругался в ответ.
Сидеть на месте больше не было смысла. Адриан наконец сумел расцепить пальцы и подняться. И в тот же миг перед ним во мраке выросла фигура. Адриану стоило немалого усилия не шарахнуться от неё в темноту, когда чужая рука легла ему на плечо.
— Дождался-таки. Молодец. Ты как?
Он мотнул головой, заглядывая поверх плеча Тома. Шагнул вперёд.
— Стой. Не ходи туда.
— Где Анастас?
— Жив твой Анастас. Жив и невредим. Молог раздери, я и подумать не мог, что этот мальчишка способен так драться… Он сейчас внутри.
— Я пойду к нему.
— Стой, Адриан. — Рука на его плече перестала быть расслабленной, сжала. «Как же мне надоело, что меня всё время кто-то хватает», — раздражённо подумал Адриан. — Сейчас ему не до тебя. Они взяли пленных, их надо допросить. Но похоже, что это снова выходка Одвеллов. Молог их всех раздери, вовремя же они подоспели! Перерезали бы нас, как цыплят, если бы ты не закричал…
— Я пойду к нему, — повторил Адриан. Снова шагнул вперёд — и тогда другая рука Тома сжала его второе плечо.
Они застыли, глядя друг другу в лицо — бледные, заляпанные чужой кровью.
— Нет.
И снова стояли — долго, очень долго, так долго… Облако наползло на луну.
— Почему? Почему?! Почему нет?! — закричал Адриан, и руки Тома на его плечах сжались крепче.
— Всё переменилось. Или переменится очень скоро — из-за этой резни. Такого бонды Одвеллам уже не спустят. Это открытая война, большая война, парень, и ясно теперь, что твой брат будет среди вождей. Тебе нельзя находиться так близко к нему… влиять на то, что… будет происходить.
— Но я же могу помочь ему! Он ищет меня, он…
— Ты помнишь, что я тебе говорил, Адриан? — очень мягко спросил Том. — О твоём даре. О том, что ты в ответе. Помнишь? Ты ещё не умеешь управлять собой. Не умеешь себя контролировать. Сейчас вот, видишь, как опять вышло…
— Но ведь я же спас его! Я всех спас! Ты сам сказал — если бы я не предупредил вас, то…
Он задохнулся, не найдя слов, дрожа от волнения и обиды. Том молчал. Когда он заговорил снова, его голос звучал уже не так уверенно, но по-прежнему твёрдо:
— Да. Сейчас ты и впрямь если не спас, то очень помог. Но ты ведь сделал это ненамеренно. И в другой раз всё может случиться иначе… наоборот. И ты погубишь всех, вместо того чтобы спасти. И Анастаса тоже погубишь.
Адриан со всей силы ударил Тома кулаками в грудь, ткнулся в неё лицом и разрыдался.
— Я не могу! — отчаянно жмурясь, всхлипывал он. — Не могу так больше! Я ничего не понимаю, Том! Ничего не…
— Тише. — Ладонь легла ему на затылок. Тёплая… в точности, как мечталось… и совсем, совсем не так! — Тише, парень, не реви. Ты взрослый уже. Ты убил сегодня своего первого врага. Верно? И сам остался жив. Ты мужчина, так и веди себя, как подобает мужчине.
Так говорил Том, ровно и почти безразлично. А его ладонь по-прежнему лежала у Адриана на затылке, тёплая, мягкая.
Адриан отстранился, шмыгая носом, и ладонь разжалась, отпуская его. Он шумно вдохнул несколько раз, утёр нос рукавом, но только размазал сопли и кровь. Посмотрел на грязный рукав — и ощутил стыд. В самом деле, расхныкался тут, как девчонка… Из груди вырвался судорожный вздох. Адриан снова шмыгнул носом — и с удивлением понял, что почти спокоен. Почти совсем.
— Ну? И что ты станешь делать со мной теперь? Опять где-нибудь запрёшь? — спросил он равнодушно и с неожиданной легкостью — кажется, ему и впрямь теперь было всё равно, что станет с ним дальше. Он ужасно, ужасно устал, и ещё очень хотелось есть.
Том, казалось, поколебался, прежде чем ответить.
— Я… я, по правде, ещё не думал об этом. Как-то времени не было. — Он неловко усмехнулся — и взъерошил волосы Адриана грязной рукой. — Может, нам с тобой стоит поехать куда-нибудь… ну, например, в Сотелсхейм. А? Ты был когда-нибудь в Сотелсхейме?
— Нет, — без выражения ответил Адриан.
— Тебе там понравится, поверь мне. Там мощёные улицы, и почти все здания из камня, крыши из цветной черепицы. Каждую неделю представления на площадях… И храмы такой высоты, что тридцать человек встанут друг другу на плечи, а всё равно не достанут до потолка. И ещё там есть одна улица, узкая такая, и все дома с красной черепицей, а под крышей каждого дома — голубятня, и голуби летают прямо над головой, задевая крыльями прохожих…
Он говорил, а Адриан слушал — молча, прикрыв покрасневшие глаза. Вдалеке стонали раненые, а слева, над полем, розовело небо — там занималась заря.
— Том, — сказал Адриан очень устало, — ты же и сам не знаешь, куда меня теперь везти и что со мной делать… так ведь?
Том смотрел на него, и в его лице была такая растерянность, такая беспомощность и столько вины, что Адриан пожалел о своём вопросе. И положил ладонь на предплечье руки, всё ещё сжимавшей его плечо.
— Поедем в Сотелсхейм, — сказал он. — Если я… ну… если я не обуза тебе.
Том устало усмехнулся. Адриан хотел ответить ему улыбкой, но так и не смог.
Предрассветный ветер доносил со стороны тинга смрад навоза и запах крови. Адриан посмотрел туда, где потерял из виду своего брата, и подумал о чёрной оспе.
4
Ехать вновь пришлось быстро. Правда, теперь у них были лошади — прощальный подарок Виго Блейданса. Поля, леса и деревни проносились мимо стремительно, не успевая удержать взгляд, но на сей раз Адриан не мог этому радоваться. В предыдущие два дня от владений Логфорда до места тинга они ехали почти так же быстро, и Адриан знал, что каждая минута и каждая лига, оставленная позади, приближает его к брату. Теперь каждая минута и каждая лига их друг от друга отдаляли. Это он тоже знал.
Он так и не увидел больше Анастаса в ту ночь: Том не позволил ему войти в хлев, где снова сгрудились разгневанные и возбуждённые после схватки вожди. Том вошёл туда сам, коротко переговорил с Блейдансом, а потом они уехали. Адриан старался не оборачиваться; он знал, что так будет только хуже. Ещё он старался не плакать, и это у него получалось. Должно же было у него хоть что-нибудь получаться.
Том настаивал, что они должны покинуть владения Сафларе как можно скорее, и вскоре Адриан понял, почему. То, что случилось на окраине поля, недолго оставалось неизвестным. Уже на второй день пути в таверне, куда они завернули, чтобы запастись провизией и дать отдых лошадям, только и было разговоров, что о побоище, устроенном намедни неподалёку. Одни говорили, что то была кровавая расправа местного лорда над бандой заговорщиков, замысливших обманом захватить его клан, как недавно сделали Индабираны с кланом Эвентри, — и теперь все ждали, что подобный гнусный способ ведения войны с лёгкостью переймут все прочие. Другие возражали, что местный лорд совершенно ни при чём и сам был поражён и разгневан, узнав, что на его земле затеяли междоусобную свару. А третьи уверяли, что то были не кто-нибудь, а сами Фосиганы, приехавшие на тайные переговоры со своим извечным врагом Одвеллом, и кто-то из них, по случайности ли, по злому ли умыслу, первым обнажил меч. Словом, слухи бродили самые разные, однако в равной степени тревожные: никто толком не знал, что случилось, и тем паче — чем закончилось, знали только, что пролилась кровь, много крови, и дальше будет только хуже. С кровью всегда так: она любит волю — раз пролившись, льётся и льётся. Среди тех, кто был донельзя обеспокоен всем этим и в тревоге поглядывал на юг, высматривая несущие защиту войска конунга, преобладали купцы, которым любая смута грозила финансовым крахом, и крестьяне, как всегда в это время года, готовящиеся к очередной войне, которую лорды понесут по их земле, сжигая поля и деревни. Прочие же — наёмники, дезертиры, авантюристы, бродячие менестрели и сказители, актёры, воры и шарлатаны всех мастей — прислушивались к сплетням с любопытством, а порой и с удовольствием: ибо если была в слухах хоть доля правды, это означало, что каждому из них найдётся делишко этой осенью.
Адриан мог бы с полной откровенностью заверить их, что воистину так. Он все ещё помнил звук, с которым лезвие его ножа пропороло плоть человека по имени Элжерон, помнил хрип, с которым тот осел наземь, помнил, как что-то теплое и липкое хлынуло ему на руки. Он вспоминал это каждое утро, просыпаясь в поту, даром что тело его дрожало от промозглости зябкого осеннего рассвета. Может быть, ему удалось бы заснуть крепче и спокойнее, без снов, если бы они останавливались на ночь под крышей, но Том по-прежнему огибал человеческое жильё, в особенности — постоялые дворы, и Адриан знал, почему. Том старался держать его подальше от людей, но теперь не только из-за того, что Адриан мог натворить беды.
Просто его искали. Теперь уже открыто, не таясь. Не боясь ничего, да и вправду — чего было бояться Индабиранам на этой земле.
«До поры, — думал Адриан, — скрипя зубами. До поры».
Но злость пришла позже, а в первый миг, услышав своё имя, громким голосом провозглашённое в дымном гуле постоялого двора, Адриан ощутил страх. Это был тот самый постоялый двор, где они с Томом вдоволь наслушались бессвязной и противоречивой болтовни о недавнем тинге и уже собрались уезжать, когда в таверну, гремя шпорами, вошёл гонец в цветах лорда Индабирана, сопровождаемый двумя вооружёнными воинами. Разговоры смолкли, все взгляды немедля обратились к нему, и Адриан не заметил ни гнева, ни неприязни в этих взглядах — лишь удивление и интерес. Оно и верно — с чего бы людям Кирка Сафларе испытывать неприязнь к людям Топпера Индабирана? Ведь никто из них ещё не знал наверняка, что именно произошло на окраине заброшенного поля две ночи назад.
Гонец вышел на середину зала, на разом освободившееся пространство, вынул из-за пазухи бумагу, судя по её виду, читанную уже не единожды, тряхнул ею, распрямляя свиток, и громко провозгласил:
— Слушайте, добрые люди! Сим досточтимый лорд Топпер Индабиран доводит до вашего ведома, что по всем землям разыскивает Адриана из клана Эвентри, четырнадцати лет от роду, о коем известно, что он ростом невысок, сложением худ, волосом светел, а также голубоглаз, а иных особых примет на себе не имеет, однако путешествует, вероятно, под видом нищего оборванца, хотя и иное возможно. Сим лорд Индабиран заверяет также, что любой, кто доставит означенного Адриана в замок Эвентри живым и невредимым, получит две тысячи стерциев золотом на руки и немедля, либо тысячу стерциев за живого, но изувеченного, за мёртвого же — двести стерциев золотом. Сим лорд Индабиран шлёт поклон и привет каждому, кто друг ему, и обещание скорой кары каждому, кто ему враг. Да пребудет милость Гилас со всеми вами!
Во время провозглашения этой речи Адриан стоял в стороне от входа, за спиной глашатая, зычно зачитывавшего послание, и лицом к нескольким десяткам человек, слушавших его с жадно и недоверчиво распахнутыми глазами. Две тысячи стерциев за какого-то мальчишку?! Да на эти деньги можно купить целый дом с хорошим наделом, или ночь с самой дорогой куртизанкой столицы, или выкупить из батрачества целую крестьянскую семью! На лице каждого из присутствующих за долю мгновения отобразились все его мечты о том, что он сделает, получив такие деньги. Адриан обернулся туда, где стоял Том, чувствуя, как ноги холодеют и немеют от ужаса. Он очень старался не запаниковать, не кинуться опрометью к выходу, ничем не выдать себя. Том в это время заканчивал расплачиваться с хозяином за купленную провизию и, как и все, отвлёкся на время речи гонца и выслушал её с недоверчивой усмешкой. Когда гонец свернул свиток и, кивнув своему эскорту, вышел, и все заговорили разом, хозяин сказал что-то Тому, и Том ответил; Адриан расслышал только: «…и впрямь с ума посходили». Кто-то рядом громко подсчитывал, сколько скортиарского эля можно купить на две тысячи стерциев, и количество выходило просто какое-то невообразимое. Все эти люди были настолько ошеломлены размером награды за его голову, что даже не подумали посмотреть вокруг и проверить, а не стоит ли этот самый Адриан Эвентри где-нибудь поблизости. А Адриан Эвентри стоял, и представлял, что было бы, если бы кто-то из них сейчас уронил на него взгляд да сопоставил приметы… Он представил, как вся эта толпа бросается на него, совершенно забыв, что за мёртвого платят вдесятеро меньше, чем за живого, и понял, что больше так не выдержит.
К счастью, Том наконец появился рядом. Он ничего не сказал, только небрежно кивнул Адриану и вышел вон. Тот пошёл следом, внутренне негодуя на то, как медленно и лениво Том переставляет ноги. Затем, когда они оказались в конюшне, Том принялся так же медленно и лениво наполнять седельные сумки и седлать лошадей. Мальчишка-конюх со служанкой у входа в конюшни шумно и многословно мечтали о двух тысячах стерциев.
— Том… — не выдержал Адриан наконец.
— Помоги мне подтянуть подпругу, — перебил тот, и Адриан, умолкнув, сделал, как ему велели.
Когда взбудораженный новостью трактир остался далеко позади, Том сказал:
— В людные места больше ни ногой, пока не доберёмся до Тэйрака. Две тысячи! Чтоб я сдох. Этому поганому Индабирану явно некуда девать одвеллское золото. Или он не так глуп, как мне казалось…
— Зачем я ему? — в страхе спросил Адриан. Том посмотрел на него в задумчивости.
— Ещё недавно я сказал бы, что он стремится вырезать твой клан под корень, мальчик, но теперь… боюсь, благодарить за такую популярность ты должен своего брата.
— Анастаса?!
— Он во всеуслышанье объявил, что найти тебя — его первостепенная задача. Это слышало много людей. Слишком много, — сказал Том. Адриан не стал переспрашивать. То, что на тинг пробрался предатель, и так было очевидно. И то, что предатель стоял и слушал, прежде чем начал действовать — тоже…
И, выходит, этот человек, кем бы он ни был, сумел уйти с тинга живым — и донести своим хозяевам обо всём виденном и слышанном. Одвеллы знают, что у них мало времени. Они торопятся.
— И от меня — ни на шаг, — резко добавил Том, прервав эти невесёлые раздумья. — Сам слышал, Индабиран согласен и на твою голову отдельно от тела, а на этих дорогах, можешь мне поверить, достаточно отребья, для которого и двести стерциев — целое состояние.
Адриан кивнул, поёжившись. Сотелсхейм, далёкий, неизвестный, загадочный, непонятный, никогда его не манивший, будто существовавший в другом мире, вдруг сделался желанным и притягательным. Том говорил, там тройные стены и целая тысяча сторожевых башен. И тысячи людей, и тысячи таверн, и не может быть, чтобы этот гонец в цветах Индабирана добрался туда и зашёл в каждую. Да ведь они и не знают, что Адриан едет в Сотелсхейм… значит, там он будет в безопасности.
К тому же именно туда ему велела ехать Алекзайн, чтобы начать делать то, для чего он рождён.
— Опять ревёшь? — спросил Том.
— Нет! — выпалил Адриан и крепко стиснул зубы. Нет уж, не будет он реветь. И дрожать, будто загнанный заяц под кустом, тоже не будет. В конце концов, он не один. Он вспомнил, как несколько недель назад брёл под проливным дождём по неизвестной дороге куда глаза глядят, пока не встретил Элжерона, — и ему полегчало от этой очевидной мысли.
Теперь Элжерон мёртв, а Адриан не один. Остальное — ну, как-нибудь да будет остальное.
К вечеру зарядил дождь — не морось, от которой можно было укрыться под деревьями, и не ливень, на скорое окончание которого можно надеяться. Обычный осенний дождь — он то едва моросил, то щедро лил за шиворот, ослабевая и снова набирая силу, и вовсе не собирался заканчиваться. Такие дожди были отличительной чертой этого месяца, и, случалось, шли по много дней, размывая поля и превращая дороги в вязкую кашу. Крестьяне к тому времени старались закончить перепахивать на зиму поля, торговцы — совершить самые важные сделки, да и войны старались довести если не до завершения, то хотя бы до логической паузы. Эта осень, впрочем, обещала стать исключением. Дело решилось слишком внезапно и слишком дорого стоило многим, чтобы ждать теперь до весны. Правда, если конунг собирался принять в ней участие, то опоздал: его армиям, тревожившая одних и обнадеживавшая других своей многочисленностью, будет ох как непросто тащиться через сплошное болото, в которое превратилась земля Бертана.
Впрочем, трясясь в седле и втягивая голову в плечи под напором дождевых струй, Адриан думал вовсе не о стратегических планах конунга, а о том, как здорово было бы хоть ненадолго оказаться сейчас в тепле и сухости. За шиворот ему заливало, он вымок от кончиков волос до кончиков пальцев на ногах, казалось, заледеневших и постукивавших друг о друга. Всякий раз, когда сквозь серую завесу дождя мелькали блеклые огни постоялого двора, Адриан вытягивал шею и кидал на Тома умоляющий взгляд, на что тот либо не отвечал вовсе, либо напоминал:
— Две тысячи стерциев. За мокрого или сухого.
И Адриан, тяжело вздохнув, давал своему коню шенкелей, и конь тряс головой на бегу, разбрызгивая срывающиеся с гривы дождевые капли.
Дважды в день они съезжали с дороги и разводили костёр, чтобы высохнуть и обтереть коней, отдыхали и ехали дальше. Том был доволен и в конце первой недели пути сказал, что они покрыли почти половину дороги до Сотелсхейма. Адриан удивился — он не думал, что Тысячебашенный город так близко, что до него вообще можно добраться, не потратив на это половину жизни. И эта мысль отозвалась в нём чем-то странным, как будто значила больше, чем он мог осознать.
Тем же самым днём кобыла Тома захромала.
Адриан понял это, только когда Том внезапно остановился, спешился и, осмотрев копыта лошади, выругался. К тому времени они уже пересекли границу между Тэйраком и Дерри; далее двигались быстро и беспрепятственно, с несколько меньшей опаской, чем прежде, потому что почти наверняка гонец Индабиранов либо поехал другой, более удобной дорогой, либо от них отстал. С другой стороны, Том заявил, что слухи такого рода далеко опережают гонцов, и по-прежнему отказывался приближаться к поселениям чаще, чем это было необходимо. Что ж, сейчас необходимость стала самой насущной. Конечно, ничто не мешало им сесть вдвоём на одну лошадь, но жаль было оставлять такое прекрасное животное лишь потому, что оно потеряло подкову. Адриан видел это сожаление в глазах Тома, когда тот рассеянно гладил кобылу по влажной шее. Том дворянин, напомнил себе Адриан. Он знает толк в хороших лошадях. И, похоже, его клан был не настолько богат, чтобы Том привык разбрасываться такими ценностями, как хорошие кони, по столь ничтожной причине. Во всяком случае, Адриан на его месте, наверное, пошёл бы дальше пешком, но Том лишь тяжело вздохнул и сказал, что им придётся рискнуть. Дело понятное — ведь это не за него обещали награду. Впрочем, Адриан был далёк от того, чтобы дуться, — наоборот, благословлял злосчастную подкову за то, что наконец соизволила отвалиться, направив их прямиком к ближайшему постоялому двору.
— Головы не подымай, — напутствовал его Том. — Ни с кем не заговаривай. Если сами заговорят, отвечай коротко и будь вежлив. А не так, как ты обычно…
— Я понял, — огрызнулся Адриан — и смутился, когда Том усмехнулся в ответ. В самом деле, чего уж тут, несправедливым этот упрёк никак не назовёшь…
— И не отходи от меня. Я серьёзно, Адриан. Случись что, я помогу, но только если буду рядом.
— Я понял, Том, — повторил Адриан уже другим тоном, и тот кивнул, чуть заметно улыбнувшись.
Таверна оказалась большой и людной, самой крупной на здешнем тракте. Это было скверно, ибо именно в таких местах лучше всего приживаются свежие слухи. Том помрачнел, но не слишком, и к тому времени, когда они вошли в просторный, ярко освещённый зал, вернул на лицо выражение крайней приветливости и добродушия, как он это умел. Вот точно так же смотрел когда-то на трактирщика, в присутствии которого Адриан прокричал, что является жертвой похищения. Никто ему не помог тогда — Том и впрямь умел быть убедительным. Что ж, оставалось надеяться, он будет столь же убедителен и теперь.
Том заказал еды и эля на двоих, усадил Адриана в дальнем конце зала, подальше от камина, возле которого располагалось большинство посетителей, и отправился на конюшню. Адриан, памятуя полученные указания, забился в самый угол и уткнулся взглядом в кружку, грея озябшие ладони о её горячие стенки. Дров хозяева не жалели, камин горел жарко и весело, сквозь чугунную решётку то и дело брызгали искры, да только зал был слишком велик, и тепла всё равно не хватало, чтобы прогреть его как следует — потому-то большинство постояльцев, тех, кто не занял столы у дальней стены, топтались возле огня, рядом с молодым человеком, наигрывавшим на лютне. Адриан поглядывал на них с завистью, однако слегка утешился, когда служанка поднесла ему заказ — мясо с хлебом и сыром. Отходя, она послала Адриану долгий, томный взгляд, походя задев бедром его колено. Адриан вспомнил Вилму, её широкие крепкие бёдра, и покраснел, а девушка засмеялась и подмигнула ему.
Том всё не возвращался, и Адриан решил, что вполне может приступить к трапезе самостоятельно. Он проголодался почти так же сильно, как устал и замёрз, и, утолив первый, самый острый голод, с удовлетворённым вздохом откинулся назад, скользнул ленивым взглядом по компании у камина…
И понял, что компания эта поредела.
— Тихо, пацан. Сиди тихо, и все останутся здоровы.
Он уже был не один. Двое мужиков, обвешанных бряцающим разнонаборным вооружением, стояли по обе стороны от него. Один из них сел рядом и показал Адриану два ряда кривых зубов. От этих людей разило вином и потом. Адриан попытался отодвинуться, но грубая рука тотчас же сгребла его за шиворот.
— Цыц, сказано, — беззлобно проговорил тот мужик, который сидел рядом, и наклонился к Адриану, дыхнув ему в лицо перегаром. — Будешь послушным — останешься цел. Заорёшь — ноги переломаем. Понял?
Адриан только раскрыл рот и, поймав взгляд налитых кровью глаз, тут же прикусил язык. Проклятье, где же Том?!
Том был здесь.
— Чем могу служить, милостивые господа?
Мужики обернулись, хотя один из них всё ещё продолжал держать Адриана за шиворот. Тот обернулся тоже — и только сейчас понял, что их не двое, а трое — ещё один стоял чуть поодаль. Том шагнул вперёд, и третий наёмник сделал шаг влево, встав плечом к плечу с тем, что держал Адриана, замкнув таким образом его и Тома в кольцо.
Не похоже, впрочем, чтобы Тома это смутило.
— Шёл бы ты своей дорогой, — с недвусмысленной угрозой в голосе посоветовал тот, что обещал переломать Адриану ноги.
— Именно это и сделаю, как только вы уберёте лапы от моего сына.
— Сына? — недоверчиво перепросил державший Адриана мужик, а третий недоверчиво крякнул. — Неужто? Да ты, никак, сам лорд Эвентри, изо гроба восставший?
— Не понимаю, о чём это ты, — сухо ответил Том. — А парня моего пусти.
— Ну а не пущу, так что? — осклабился тот.
Том вдруг заговорил очень тихо.
— Если вам охота драку затеять, ребята, так то за милую душу. Только вот я только что со двора, а туда сейчас въехали деррийские всадники. И коли вам охота с ними объясняться, по какому праву на эрловых землях разбой чините, — я в сторонке постою да полюбуюсь.
— Без башки поваляешься, снизу поглядишь, — рявкнул один из наёмников, но другой, тот, что сидел, видимо, главный в троице, предостерегающе поднял руку.
— Ганс, — сказал он ничего не выражающим тоном. — Ступай во двор, проверь.
Тот, кого назвали Гансом, ругнулся под нос, но пошёл.
Их осталось двое. Всего двое, понял Адриан. Сердце гулко колотилось в горле. Люд вокруг продолжал толкаться и шуметь, не особенно заботясь, что происходит рядом. В дальнем углу кто-то завопил, кажется, там началась драка.
— Сын, говоришь? — насмешливо спросил вожак, смерив сперва Тома, а потом Адриана изучающим взглядом. — Не больно-то похож.
— Чай, жёнка от соседа пригуляла, — гоготнул другой. Его пальцы всё ещё сжимали ворот куртки Адриана, но уже не так крепко.
— Может, от соседа, — протянул вожак, снова поглядев на Адриана, — а может, и от лорда Эвентри… как знать?
— Эй! — донёсся от дверей возмущённый крик. — Соврал, паскуда, никого нет!
— Беги! — что было сил закричал Том, и Адриан успел услышать, как он рванулся в сторону, а потом звук удара.
Адриана больше не держали.
Он взвился и оказался с ногами на скамье — за миг до того, как метнувшаяся вперёд рука наёмника успела сгрести его за плечо. Соскочил на пол, поднырнул под другую руку, потянувшуюся к нему — и услыхал позади грохот и сдавленное проклятие, а потом — скрежет выхватываемого из ножен меча. Адриан содрогнулся от этого звука и обернулся на бегу, пытаясь понять, где Том и что с ним, — и тут же перед ним выросла огромная, погромыхивающая кольчугой туша с растопыренными ручищами.
— Куда?! — взвыла туша. Адриан шарахнулся в сторону, едва не налетел на ближайшую скамью, ухватился за край стола и, круто развернувшись, ринулся к выходу.
Там его ждали: поперёк дверей, широко расставив руки, стоял Ганс. Адриан застыл на миг, но раздавшийся сзади крик: «Бес с ним, брось, пацана держи!!!» — хлестнул его и заставил сорваться с места. Краем глаза он выхватил стоящий слева стол с единственным сидевшим за ним едоком; Адриан успел заметить лишь приоткрытый рот в обрамлении длинных усов, усеянных хлебными крошками, и струйку дыма, которым истекала стоящая на столе тарелка… с чем — он уже не успел разглядеть. Дым!
Адриан схватил тарелку обеими руками, обжёг пальцы о разогретые стенки, и со всей силы запустил ею в ухмыляющуюся рожу Ганса.
Рожа скрылась под глиняным днищем, потом, когда из-под днища медленно потекла горячая тёмная жижа, завопила и вцепилась в тарелку руками. Путь был свободен. Адриан стрелой промчался мимо орущего наёмника, не задев его даже краем рукава, и кинулся вперёд, через двор. Ему не впервые приходилось вот так удирать, поэтому он почти не боялся…
До тех пор, пока не достиг ворот, которые на сей раз никто не торопился закрыть, и внезапно понял, что бежать ему некуда.
Он круто развернулся и посмотрел в сторону трактира. Внутри завязалась нешуточная драка — причём, судя по поднятому ору, к ней присоединилось не меньше половины посетителей. Тома Адриан не видел. Проклятье, что же делать?! А если Тома убьют? Их ведь трое, а он один! И что делать тогда?
«Только вот если они меня поймают, толку всё равно будет немного», — лихорадочно подумал Адриан — и уже почти решился, но тут дверной проём заполнила пошатывающаяся фигура, лицо обладателя которой было густо-коричневым от потёков соуса — там, где не алели пятна ожогов. Адриан встретился с ним взглядом.
— Гадёныш, — прохрипел Ганс. — Да я тебя…
Адриан развернулся и стремглав кинулся сквозь ворота.
Он только теперь заметил, что дождь наконец перестал, но земля всё ещё была скользкой и вязкой, повсюду темнели огромные лужи, похожие на маленькие озерца. Адриан попробовал перескочить одну из них — и провалился по самые бёдра. Лужа, к счастью, была не слишком топкой, и он легко выбрался на другой её край, но расстояние между ним и погоней сократилось. Оборачиваться Адриан не стал, сберегая драгоценные мгновенья. «Проклятье, — подумал он, — как жаль, что я снова потерял нож Тома! Может, я смог бы…»
Он не сумел даже осознать всей смехотворной наивности этой мысли — не было времени на реальную оценку своих сил. Но его ноги соображали в этом деле лучше, чем голова, — и несли его дальше, со всей прытью, на какую он только был способен. Разнонаборное железо, собранное с десятка мертвецов, грохотало позади, уже совсем рядом, мешаясь с криками… проклятье, кричали двое! Или трое? Считать он тоже не стал — только ноги, так резво уносившие его от одного преследователя, предательски ослабли, когда он понял, что их больше, и, если они догонят его, ему никак от них не отбиться. Он споткнулся и едва не упал, выпрямился — и увидел, что дорога делает крутой поворот, мимо поля, в обход пролеска.
Адриан завернул за этот поворот, вылетел из-за него — и замер, потому что теперь ноги не несли и не слабли — они вовсе отказали ему, совсем.
Посреди дороги он увидел леди Алекзайн.
Она сидела верхом на огромном вороном жеребце, раздувавшем тёмные ноздри и задиравшем верхнюю губу в страшном оскале, и ветер трепал её распущенные волосы, мешая рыжие пряди с чёрными. Только это — то, как путались и сплетались эти пряди, то, что он уже видел раньше, как они сплетаются под пальцами ветра, — заставило Адриана поверить, что она не дух и не видение. Но именно на видение она была похожа больше всего, бледная, прекрасная и ужасная, как один из его снов, от которых он просыпался весь в поту и которые никогда не мог запомнить. Короткие перчатки для верховой езды оставляли обнажёнными её запястья.
— В кусты, — коротко сказала Алекзайн. И, когда Адриан не двинулся с места, резко крикнула и вонзила шпоры в лоснящиеся здоровой шерстью бока коня. Вороной издал яростное ржание и поднялся на дыбы. Адриан долю мгновения смотрел на огромные чёрные копыта, вздымающиеся в небо перед его лицом, потом бросился на землю и, сам не помня как, кубарем вкатился в заросли кустарника, растущие вдоль дороги. Там рухнул ничком, услышал треск и почувствовал, как больно хлестнула сзади по шее обломившаяся ветка. Тяжело дыша, Адриан развернулся, обдирая руки о колючки — его занесло в заросли дикой малины. Да уж, повезло так повезло… Он услышал топот и крики совсем близко и бросился в траву, замерев и почти не дыша. Заросли были достаточно густыми, чтобы скрыть его, но, как Адриан понял с запоздалым ужасом, внимательный глаз сразу заметит место, в котором он проломил сцепившиеся ветви кустарника. От этой мысли ему захотелось завопить, он задрожал, но неимоверным усилием заставил себя успокоиться — трясущийся у обочины куст уж точно вызвал бы серьёзные подозрения.
А так у него пока что был шанс. Крохотный, но был.
— Смотрите, куда идёте! Смерды…
Злобные нетерпеливые вопли, которыми обменивались преследователи Адриана, смолкли, пресечённые этим гневным окриком.
— Да какого хре… — в ярости начал кто-то — и подавился ругательством.
Адриан не видел их: сквозь зелёную завесу листвы маячил лишь круп вороного. Адриан отрешённо отметил, что некоторые листки на кусте пожелтели и свернулись по краям. И подумал, что, случись всё это хоть несколькими неделями позже, придорожные кусты не спасли бы его. И Алекзайн бы не спасла.
Но теперь она стояла посреди дороги, её чудовищный жеребец всхрапывал, загребая передним копытом, а преследователи Адриана стояли и смотрели на неё. Молча. Онемев. Адриан знал, что они испытывают в этот миг.
— Досточтимая… гхм… мнэ-э… миледи, — с поразительной учтивостью произнёс тот самый голос, который пять минут назад обещал переломать Адриану ноги, если он поднимет крик. — Прощу простить нас, мы торопимся…
— Это повод кидаться под копыта моему коню? Или вы торопитесь на свидание с Мологом?
Один из преследователей торопливо забормотал под нос экзорцизм. И немудрено — Адриан никогда не слышал, чтобы кто-нибудь произнес имя дьявола так ровно и равнодушно, как это сделала леди Алекзайн.
А впрочем, вспомнил он, чего ей его бояться. Она же была жрицей Яноны, любимой дочери Черноголового…
И впервые Адриан подумал, а не стоит ли ему бояться её.
— Простите, миледи, — всё так же учтиво ответил наёмник. — Мы гонимся за мальчишкой, который только что свернул сюда. Вы, часом, не видали его?
— Видела, конечно, — презрительно ответила Алекзайн, и у Адриана волосы встали дыбом. — Я же не слепая. Он выскочил из-за угла, ровно как вы, под ноги моему коню. Тоже, видать, торопился к Мологу. Но испугался лошади и бросился в кусты, вон туда.
Он видел, почти видел, как она махнула рукой, тонкой, в короткой перчатке, обнажавшей её белое запястье… И впрямь, с чего он взял, что она спасёт его и на этот раз? Ведь он бросил её. Сбежал от неё. Предал клятву, которую ей дал. И теперь она имеет полное право отплатить ему тем же…
— Благодарю, досточтимая леди.
Он услышал приближающиеся шаги и уже готовился сорваться с места и очертя голову ринуться в лес, когда преследовавшие приблизились и… миновали это место.
Адриан лежал, вжавшись в землю и боясь вдохнуть, и слушал, как наёмники ломятся через кусты в дюжине ярдов от того места, где он лежал, — слушал, сжавшись в комок и стуча зубами. Так громко стуча, что сам диву давался — как они могут его не заметить?!
— Эгей, гляди, тут вон вроде протоптано!
Они его не заметили.
Они продрались сквозь малинник, там, где недавно, видимо, пробирался какой-то зверь, и Адриан слышал, как они чертыхаются. Когда голоса немного отдалились, он услышал негромкий голос Алекзайн:
— Выходи.
Он не вышел — выполз, всё ещё боясь вздохнуть. Посмотрел на неё снизу вверх остановившимися от неверия и дикого облегчения глазами.
Она не ответила на взгляд. Сказала:
— Забирайся.
И коротко кивнула себе за плечо. Но не подала ему руки.
Адриан кое-как вскарабкался в седло — и она рванула в галоп прежде, чем он успел усесться как следует. Адриан охнул и ухватился за её плечи, её узкие хрупкие плечи, путаясь пальцами в её волосах. У него перехватило дух — от собственной дерзости, от близости её тела, от прикосновения её волос, которые ветер швырял ему в лицо, от бешеной скачки, от чувства полной нереальности происходящего.
— Держись за мой пояс, — сказала Алекзайн, и голос её звучал глухо, перекрываемый ветром, бившим им в лица. — И крепче держись.
Он обхватил её талию. И подумал, что если сейчас не свалится с коня замертво, то всю будущую ночь простоит на коленях, благодаря Милосердного Гвидре за такую милость.
Снова стало накрапывать. Серые поля, окутанные мглой, со свистом проносились мимо.
Дождь перестал к ночи. Алекзайн как будто ждала именно этого, наказывала его и себя бешеной скачкой по непогоде, — но теперь непогода кончилось, и наказание тоже.
— Слезай.
Адриан поспешно спешился и смотрел, как спешивается она.
— Собери дров. Разведи огонь.
Она говорила с ним холодно и равнодушно, так, словно он был временным слугой, нанятым на постоялом дворе. «Почему она одна?» — подумал Адриан. Почему путешествует верхом, а не в карете, без сопровождения, без охраны? Ведь это может быть опасно для неё.
Он думал об этом, разгребая завалы влажной листвы в поисках не слишком сырых веток, и в этих мыслях не было тревоги за неё — была, скорее, тревога из-за неё. Отчего-то он был уверен, что она не стала бы рисковать собой понапрасну — а значит, и не рисковала. Он должен был радоваться этому, ведь это означало, что, пока он с ней, он тоже в безопасности…
Но он не чувствовал себя в безопасности.
Вернувшись с куцей охапкой сырых дров, Адриан увидел, что Алекзайн всё так же стоит у дороги, держа в поводу своего жуткого жеребца. Тот ничуть не утомился от скачки и рвался её продолжить, фыркая, загребая копытом и вращая налитыми кровью глазами. Адриан смотрел на него в страхе, не признаваясь себе, что предпочитает смотреть скорее на это чудовище, чем на его хозяйку.
— Разведи огонь и займись моим конём.
Он сделал всё, как она сказала. Хотя едва не умер от страха, вычищая круп вороного и каждое мгновение ожидая, что этот круп вильнёт в сторону и громадное чёрное копыто долбанёт его в грудь. Но жеребец вытерпел заботу, хотя и недовольно фыркал от его робких прикосновений. Замирая от ужаса и непрестанно молясь про себя Милосердному Гвидре, Адриан стреножил коня и, произведя эту смертельно опасную для себя процедуру, оставил пастись. И только тогда утёр выступивший на лбу пот. Ночной ветер пробирал до костей, от промозглого воздуха кожа как будто съеживалась под липнущей к телу влажной одеждой. Адриан посмотрел на яркое в сумерках пламя костра, на миг ощутив гордость, что всё-таки умудрился его развести — и подумал, что Том, может быть, похвалил бы его за это…
С этой мыслью пришло отчаяние. Такое же сильное, как несколько дней назад на тинге, когда он хотел броситься к Анастасу и Том сказал ему: «Нет». Такое же, а может, и ещё большее. Хотя тогда он думал, что хуже быть уже просто не может.
— Подойди, — сказал из темноты голос Алекзайн.
Ему не хотелось — даже тепло костра не манило его. Он знал, что у огня будет холодно — холоднее, чем здесь, на обочине тракта, на пронизывающем ветру. Но подошёл — и остановился. Алекзайн не предложила ему сесть. Она сидела у огня, держа спину прямой и обхватив правой рукой согнутое колено. Она была в мужском костюме для верховой езды, он невероятно шёл ей, особенно сейчас, когда она вымокла под дождём и ткань облепила её точёную фигуру. Любой жрец любого бога проклял бы её, если бы увидел. Адриан внезапно понял, почему онемели гнавшиеся за ним наёмники, когда увидели её. Тогда он об этом не подумал — потому что сам-то немел при виде неё всегда, вне зависимости от того, что было на ней надето… и было ли надето вообще.
— Сядь.
Он сел.
Она очень долго молчала. Они сидели рядом на обочине дороги у огня, не ели, не сушили одежду — словно ждали кого-то. Один раз мимо них галопом пронёсся всадник, и Адриан порывисто обернулся, но конник даже не обратил внимания на их костёр.
— Ты бросил меня, — сказала Алекзайн.
Он отвернулся, не зная, что ответить.
— Ты обещал, что сделаешь для меня это. Ты поклялся мне. Ты обманул меня, Адриан Эвентри?
— Нет, — ответил он.
Она удовлетворённо кивнула.
Адриан наконец посмотрел ей в лицо — и уже не смог отвести глаз. Он впервые подумал, что было что-то неправильное, что-то пугающее в том, как она действует на него. В том, как притягивает взгляд, в том, что он чувствует, глядя на эти алебастрово-белые, заострённые скулы, на тёмные круги под глазами — они никуда не делись, напротив, стали ещё больше и глубже, а может, это была лишь игра тени и света, отбрасываемого огнём на её лицо. Её влажные после дождя волосы слегка завились на концах. Адриан вспомнил слова Тома о них, о том, что она, должно быть, красит их. И в тот же миг совершенно ясно увидел в её волосах седину — длинную, тонкую белую прядь, спускавшуюся с виска.
Он вдруг ощутил что-то неизъяснимо и неизбежно правильное в том, что она сидит здесь с ним, сейчас, и в том, как и что она говорит. Это было то, от чего он не мог избавиться, так же, как и от своего проклятого дара, в который всё ещё не верил до конца.
И, подумав об этом, Адриан задал себе вопрос — а человек ли она?
— Я сказала, чтобы ты забыл о своём клане, — сказала женщина по имени Алекзайн в полной тишине, прерываемой лишь треском огня и шумом ветвей вокруг них.
— Простите, миледи. Я не смог.
— Да. Это правильно. Я ошибалась.
Он смотрел на неё широко раскрытыми глазами.
— Ошибались?..
— Когда я говорила тебе это, твой клан ещё не значил так много. Совсем ничего не значил. Но теперь всё изменится.
Всё изменится… да, Том тоже так сказал. И именно поэтому тоже переменил своё решение. Они оба так быстро и часто меняли свои решения! И в придачу хотели от него разного, порой — противоположного… Адриану невыносимо захотелось оказаться как можно дальше отсюда, как можно дальше от них обоих.
— Теперь твой брат поведёт свободные кланы против Одвеллов, — сказала Алекзайн и, подтянув к груди второе колено, положила на него подбородок. Это был такой простой и будничный, такой домашний жест, что Адриан ощутил невыносимое чувство вины за те холодные и жестокие мысли, что пронеслись в его голове за последнюю минуту. — И Фосиган, конечно, не останется от этого в стороне. Теперь твой клан станет центром мира. А тебе проще всего будет начать именно из центра.
— Начать?.. — переспросил он, снова не понимая, о чём она говорит, так просто говорит, словно это была самая очевидная вещь на свете.
— Да, начать. Ты ведь не забыл о чёрной оспе?
Забыл ли он?
— Нет, — он подумал это и сказал вслух одновременно. А может, просто подумал, но она услышала. Том говорил, она умеет слышать и чувствовать таких, как он…
Алекзайн протянула к нему руку над огнём и прикоснулась к его лицу кончиками пальцев. Он закрыл глаза, пытаясь не отшатнуться от этого прикосновения — и не схватить эту руку, не сжать, не прижать к губам эту ладонь. Он ни за что не смог бы ответить, какой из этих двух порывов был в нём сильнее.
— Ты должен проникнуть в Сотелсхейм, Адриан. Помнишь? В самое сердце Бертана. Ты должен подняться очень высоко. Должен заставить конунга дать тебе корабли. И воинов. И пойти на восток, и вырезать всю эту гнилостную мразь, пока она не привезла к нам смерть.
— Мы именно туда и ехали, — прошептал Адриан, не открывая глаз. — В Сотелсхейм.
И почувствовал, что её пальцы, прикасавшиеся к его щеке, как будто стали ещё холоднее.
— Туда? Возможно. Но он вёз тебя туда, чтобы спрятать от тебя самого. Он знает, как хорошо для этого подходят большие города. — Адриан ничего не сказал, и она добавила немного мягче: — Важно не место, Адриан. Важна цель, с которой ты в него направляешься. И то, что происходит там… то, что ты заставишь там произойти.
Его пугало, когда она так говорила. И он сказал — инстинктивно сказал то, что, он знал, разъярит её и заставит говорить о другом.
— Я хотел бы… я хотел бы сперва вернуться. Туда, где мы с Томом… где меня… ну, в общем, на тот постоялый двор.
Она убрала руку от его лица. И спросила:
— Зачем?
Не гневно — но холод и раздражение, звучавшие в её голосе, пугали сильнее, чем гнев. Она знала, что делает, зачем оказалась здесь, она ничего не боится и убеждена, что Адриан поступит так, как она прикажет. Что он принадлежит ей.
Он внезапно понял, что не хочет этого. Нет, не хочет!
Он помнил, как она смотрела на спину Вилмы, рассечённую ударами бича.
— Они, может быть, ранили Тома. Или даже убили! Я хочу…
— Помолиться Светлоликой Гилас на его могиле? — ледяным тоном закончила Алекзайн. И улыбнулась — впервые с того мгновения, как он увидел её на вороном жеребце посреди дороги, готовую снова спасти его и снова им завладеть. — Я велела тебе забыть о Томе, Адриан, давно велела.
«Да кто ты такая, чтобы мне приказывать?!» — в ярости подумал он — и сам испугался этой ярости. Она притягивала его. Он… он, наверное, всё-таки любил её — раз сидел и слушал до сих пор. Он не мог на неё злиться. И перечить ей тоже не мог.
Однако попытался — не мог не попытаться. Слишком недавней была память о тяжёлой тёплой ладони на его затылке.
— Я не могу его бросить, миледи. Он… он очень много для меня сделал. И я хочу сделать хоть что-нибудь для него. Если те люди схватили его, я не хочу, чтобы он… чтобы с ним что-то случилось.
— И что? Ты явишься туда и предложишь обменять себя на него? — её голос резал, как стекло.
— Нет… нет, я не знаю, что сделаю, но я должен… хотя бы попробовать. Я…
— Ты глупец. Не бойся, ему ничто там не грозит. Ты что, до сих пор не понял, кто он такой?
Этот вопрос, заданный так небрежно, так презрительно, словно и в самом деле не было на свете ничего проще, заставил Адриана застыть. Он моргнул, потом снова. Кто такой Том? Странно… Адриан как-то никогда не задавался этим вопросом. Том, ну… он — Том. Или Тобиас, так его, кажется, называл Виго Блейданс… Человек, который знал о то ли даре, то ли проклятии Адриана Эвентри и не хотел, чтобы мальчишка наделал лишних бед. Вот и всё. Кем же ещё ему быть?
— Н-нет, — неуверенно сказал Адриан. — И… кто же он?
На лице Алекзайн снова появилась улыбка. И на сей раз она напомнила Адриану дни, которые он провёл в её доме над обрывом, и чувство, которое он испытывал, стоя перед ней на коленях и обхватив руками её ноги. Дни, когда она была его богиней.
Она и сейчас ею была.
— О, бедный, бедный мой мальчик, — порывисто сказала Алекзайн. — Ты и вправду не знал? Тот, кого ты называешь Томом — Одвелл. Тобиас Одвелл, старший сын лорда Дэйгона Одвелла.
Тобиас Одвелл, повторил про себя Адриан. И ещё раз. И ещё. В нём отозвалось это имя — он знал, чем, и в то же время не знал, потому что это не было его собственным чувством. Это было то, что в него вложили, то, чему его учили, что он впитал с материнским молоком… хотя мать уже не кормила его к тому времени, когда это имя проклял каждый, носивший имя Эвентри. Адриан не помнил об этом, лишь знал по рассказам родни, потому что тогда ему было всего полтора года.
Ему было полтора года, когда Тобиас из клана Одвелл соблазнил и обесчестил Камиллу, единственную дочь Уильяма Эвентри. Её Адриан не помнил тоже. Хотя нет, что-то было — смутный образ белокурых локонов, щекочущих его лицо, и запах спелой земляники, и уютное, ласковое тепло тела, к которому его прижимали руки, казавшиеся невероятно сильными двухлетнему ребёнку. Он помнил, как заливисто смеялся, чувствуя эти руки, этот запах, эти локоны на своих щеках, смеялся от счастья, потому что чувствовал, что его любят. Эта женщина, бравшая его на руки гораздо чаще, чем родная мать, любила его. И он любил её тоже, вспомнил Адриан. Так же сильно, как Анастаса, и, может, любил бы ещё сильнее, если бы она дожила до того времени, когда он вырос достаточно, чтобы понимать и помнить. Но она не дожила. А он забыл.
Совсем забыл, выбросил это воспоминание прочь, когда оно стало запретным. В его семье было не принято говорить о Камилле. И лишь два года назад Анастас наконец рассказал ему, что, когда их общий дед, тогда ещё здравствующий лорд Уильям Эвентри, узнал, что она обесчещена Одвеллом, больше того — ждёт от него ребёнка, он за волосы потащил дочь к замковому лекарю и стоял рядом, не отводя глаз, пока из её лона вырывали нечестивый плод. В тот день он проклял её и повелел, чтобы она убиралась прочь с его глаз. Она ушла. Следующим утром её нашли на конюшне, покачивающуюся на вожжах в двух футах от земли.
Адриан почти не помнил своего деда Уильяма. Знал лишь, что это был великий и страшный человек — так все говорили, и, судя по этой истории, по меньшей мере часть этого была правдой. После смерти своей дочери он объявил клану Одвелл кровную месть. Узнав об этом, клан Фосиган немедленно предложил Эвентри, в то время свободным бондам, всяческую поддержку — в обмен на лояльность. Одвеллы были сильны, много сильнее Эвентри. Лорд Уильям это знал. И всё же категорически отверг предложение преклонить колени перед конунгом, даже во имя возмездия. В сущности, он поступил тогда в точности так же, как несколько дней назад поступил Анастас. Только, в отличие от Анастаса, поддержку свободных бондов лорд Уильям не получил — большинство из них сочли это частным делом, к тому же все они знали, что никто из них поодиночке и даже несколько, объединившись, не смогут противостоять Одвеллам. Лорд Уильям собрал свои войска и пошёл на север один, полный решимости дойти до самого Одвелла. Это было смело и честно, но опрометчиво. Он погиб в первой же битве. И новый глава клана Эвентри, лорд Ричард, отец Адриана, сделал то немногое, что мог сделать для спасения своего клана от этой самоубийственной войны: он послал гонца к конунгу. Конунг был милостив. Он пришёл. И пролилось много крови — на множество двуцветных знамён. Лишь набег варваров и эпидемия оспы остановили тогда Фосиганов и Одвеллов, сцепившихся в очередном раунде смертельной схватки, начатой за много лет до того. Ныне все уже, казалось, забыли, чьё оскорбление, чья поруганная честь послужила поводом для той войны. Но Эвентри помнили. Лорд Ричард помнил, кто обесчестил его сестру и втравил его клан в бессмысленную свару, лишившую его и чести, и свободы… лишившую его всего теперь, двенадцать лет спустя.
Они помнили. И передавали своим детям. Ведь это была кровная месть, которую им предстояло продолжить. «Анастасу, — подумал Адриан, — и мне. Потому что некому больше».
Тобиас Одвелл.
Тёмные блестящие глаза, изогнутые в холодной улыбке губы, ремень, визгливо рассекающий воздух, пощёчина — и тёплая тяжёлая ладонь на его затылке, когда он плакал, вцепившись в отвороты пропахшей кровью куртки. «Тише, парень. Не реви. Ты взрослый уже. Ты в ответе».
— Нет, — сказал Адриан. — Нет, нет, этого не может быть! Не может быть!
— А почему, ты думал, он так беспокоится о тебе? Он пытается исправить то, что когда-то натворил. Он как был, так и остался глупцом. Ничего никогда нельзя исправить. Поэтому надо делать так, чтобы не пришлось исправлять.
— Но почему он… — мысли путались, чувства тоже. Адриан не мог ничего сказать, не мог даже понять, что хочет сказать, и кому. — Почему он… он так… так со мной… он же знал, кто я!
— Теперь ты захочешь убить его? — спросила Алекзайн, и её голос прозвучал лукаво, словно дразня.
Адриан задохнулся. Убить его… захотеть убить его… О да. Когда-то он хотел. Когда трясся на ужасной грязной телеге, когда брёл по горному лабиринту, охрипнув от крика, когда валялся в траве без штанов, вздрагивая от ударов — так сильно хотел! Но потом… потом что-то изменилось. Он не понимал уже, что и когда, но теперь он не хотел убить Тома… Тобиаса Одвелла. Нет, Адриан не мог заставить себя думать о нём как о Тобиасе Одвелле, том самом Тобиасе Одвелле… Отчего-то он был уверен, что Том больше не был тем человеком.
И в то же время — был.
— Что будет… — Адриан с трудом сглотнул, прочистил горло и повторил: — Что будет, если я убью его?
И тогда Алекзайн улыбнулась ему. Это была та самая улыбка, которой она могла расплатиться с ним за всё, что угодно.
— Я не знаю, Адриан, что будет. Но что-то изменится. И, прежде чем ты убьёшь или не убьёшь его, подумай хорошенько, что именно.
Адриан обхватил голову руками. Зажмурился. Затряс головой, изо всех сил пытаясь не дать пролиться тому, что нестерпимо щипало глаза.
— Я… я не знаю!
— Ты должен знать. Должен думать. Ты должен всегда просчитывать вероятные последствия своего поступка. И действовать так, будто они предопределены. Потому что они действительно предопределены, Адриан. Ты помнишь того человека, в моей деревне, которого ты убил? Ты ведь хотел его убить? Ведь хотел?
В моей деревне — как она это сказала… «моя лошадь», «моя перчатка», «моя деревня»… моё. «И ты мой, Адриан Эвентри, Тот, Кто в Ответе, и думай, что ответишь мне сейчас. Это твой дар и твоё проклятие — отвечать».
— Не хотел, — прошептал Адриан, не открывая глаз. — Не хотел убивать, я только… только хотел убрать его. Чтобы он сгинул. Чтобы не пугал больше Вилму.
— Он больше не пугает её, — улыбаясь, сказала Алекзайн. — Ты добился, чего хотел. Я говорила: главное для тебя — захотеть.
«Я хочу, чтобы ты исчезла и оставила меня в покое, навсегда, чтобы не говорила мне всех этих ужасных вещей!» — хотел сказать Адриан, может, даже прокричать, прямо ей в лицо…
…в её лицо, белое, точёное, с прорезью улыбки на атласной коже, прямо перед его лицом, и её руки — на его шее, в его волосах, его грязных спутанных волосах, гладят их, скользят к плечам, и её дыхание не обжигает его — замораживает, и сердце тоже замерзает и останавливается в груди.
И в этот миг он услышал её голос — в своей голове. Услышал, глядя на её неподвижные губы, растянутые в улыбке, способной ослепить и убить.
«Когда ты с Томом, ты чувствуешь себя таким глупым и слабым, верно? Но ты не глуп и не слаб. Ты бог. И этот мир — твой».
Он услышал что-то позади себя — топот, треск, грохот, рёв, вой, хруст разламывающейся земли. Он не обернулся.
«Этот мир — твой».
И словно эхом — отголосок, то ли в нём, то ли вовне:»Твой, твой, мой, мой, мой…»
Адриан схватил её — схватил её голову, сжал ладонями, словно в тисках, прижимая к её щекам влажные пряди волос — рыжих и седых. И увидел, как медленно раскрылись её губы — раскрылись единственным словом.
«НЕТ».
Нет. Не сейчас. Когда сделаешь. Когда возьмёшь этот мир. Тогда богиня отдастся богу. Тогда Молог раздвинет трепещущие колени Гилас, покорной, сдавшейся на его милость…
Нет. Нет, не то. Тогда Гвидре возьмёт Янону. Свою проклятую сестру. Возьмёт её, ненавидя и любя, боясь её неистовой злобы, не понимая её, не умея её понять. Возьмёт, потому что она позволит. В награду за то, что он сделает для неё.
Он возьмёт её, а она возьмёт его — себе.
Адриан вскочил. Его колотила дрожь. Алекзайн сидела перед ним на земле, глядя снизу вверх. Этот мир — твой, Отвечающий, а ты — мой. Вместе со своим миром.
Она сказала, он должен решить, чего хочет. Он решил.
Он этого не хотел.
И в этот миг посреди панического ужаса, среди растерянности и недоумения, среди ошеломляющей безысходности чувства, что он является её вещью, её рабом, её добычей — среди всего этого мелькнула вспышка дикой, всепоглощающей ярости, куда более страшной, чем та, которая охватила его, когда он вонзил нож под ребро Элжерона в такой же холодной и страшной ночи, как эта, тысячу лет назад. И вспышка этой ярости была подобна молнии, осветившей кромешную мглу его страха.
Проклятье, нет!
Он не будет её добычей.
Он не сказал ни слова, развернулся и бросился в темноту, к дороге, туда, откуда она его привезла…
И остановился, не сделав и трёх шагов.
То, что он слышал за своей спиной, когда Алекзайн притягивала его к себе, существовало не только в его воспалённом сознании. По крайне мере, кое-что из этого было явью. И теперь четверо всадников нависали над ним на тёмной вязкой дороге, высясь чёрными тенями в ночи, и один из них, немолодой бородач с широким скуластым лицом, улыбался во весь рот.
Адриану не надо было оборачиваться, чтобы знать, что Алекзайн отвечает на эту улыбку — призраком своей.
— Что ж, парень, вот ты и попался, — сказал Топпер Индабиран.
Часть 6 Память замка Эвентри
1
«Людям достаточно хлеба и зрелищ, чтобы быть довольными, — мысленно рассуждал Эд. — Именно в таком порядке, но если есть хлеб, то характер и содержание зрелищ уже не столь важны. А если господин додумается совместить в одном действе подачку и представление, то… то получится, собственно, вот это».
Человеческое море волновалось и дрожало: возбуждение, любопытство и нетерпение валом прокатывались по нему, и на вершине этого вала белёсой рябью подрагивал страх, зыбкий, как пена на гребнях волн. Людей собралось порядка полсотни, все они были крестьянами из деревеньки, видневшейся поодаль, у подножья холма. Деревенька называлась Дубовой Рощей, хотя никакой рощи в округе не было, а дуб имелся один-единственный, в пятистах шагах от селения — вот этот самый, к которому стёкся сегодня простой люд, чтобы получить хлеба и зрелищ. Хлеб, впрочем, они уже получили — вернее, сохранили: вчерашняя битва, залившая кровью поле за холмом, поставила точку в междоусобной распре и окончила войну — по крайней мере, на некоторое время. Урожаю больше ничего не грозит, а это ли не повод для праздника?
И победитель великодушно устроил им этот праздник.
«А что касается зрелищ, — думал Эд, похлопывая по холке коня, взволнованного толчеёй, и глядя на свисавшую с ветви дуба верёвочную петлю, — то тут одно из двух: либо балаган, либо казнь. И если господин додумается совместить то и другое в одном действе…»
То получится, собственно, — вот это.
— Готов? — рявкнул низкий голос, и народ замер, затаив дыхание, вытягивая шеи, пытаясь рассмотреть. В полной тишине было слышно, как загудела тетива, как просвистела стрела, рассекая воздух, — и как глухо стукнулся наконечник в крепкий ствол дуба, двумя футами правее от болтающейся в воздухе пустой петли.
Впрочем, пустовать ей осталось недолго.
— Мимо! — хохотнул низкий голос.
Толпа выдохнула. Неудачливый стрелок опустил лук, уголки его рта подергивались от разочарования. Двое дюжих воинов в латах, покрытых пятнами крови и грязи после вчерашней битвы, схватили связанного человека, стоявшего у древесного ствола, и поволокли его к петле. Яблоко, до этого мгновения покоившееся на макушке пленника и служившее мишенью для стрелка, упало и покатилось по земле. Глашатай наклонился и подобрал его в тот самый миг, когда ноги осуждённого оторвались от земли и судорожно задрыгались в воздухе. Толпа глядела на это как заворожённая — так, будто никогда прежде не видала повешенья.
— Следующий, — негромко сказал старик на высоком вороном жеребце — один из немногих конников в этой толпе. Другой всадник, по возрасту годящийся ему во внуки, махнул рукой в сторону шеренги пленников, топтавшихся у подножия дуба. Двое солдат, исполнявших обязанности палачей, выволокли новую жертву. Эта, впрочем, оказалась строптивой: пленник упирался, пытался вырваться. Когда его подтащили к дубу и, заставив выпрямиться, положили на темя яблоко, он злобно тряхнул головой, и яблоко снова исчезло в траве.
Глашатай вновь наклонился и выудил сочный зелёный плод из сорняка. Судя по всему, он уже привык это делать.
— Напоминаю, — зычно сказал он, — условия соревнования. Тот, кому удастся сбить мишень, получает осуждённого в полное владение, со всеми потрохами и имуществом. По одной попытке на голову!
— Глянь, нет, ты глянь на его сапоги! — возбуждённо прошипел кто-то совсем рядом с Эдом. Эд посмотрел на сапоги пленника, как раз поваленного наземь и избиваемого солдатами. Говоря по правде, на вид они не были так уж хороши, но крестьянам, большую часть жизни обходившимся деревянными башмаками, и впрямь должны были казаться завидным богатством. Мужики возбуждённо перешёптывались — многие из них наверняка отчаянно жалели о своём неумении натягивать тетиву, а те, кто умел, спорили между собой за право выиграть приз. У них была только одна попытка — на всех.
«Что же ты вырываешься, дурень, ведь это твой единственный шанс на спасение», — мысленно сказал Эд пленнику, который, получив заработанную порцию пинков, дёргался уже не столь рьяно, но сдаваться всё равно не собирался. Конечно, это было унизительно — к тому же существовал немаленький шанс не только на спасение, но и на возможность схлопотать стрелу в глаз. Меткостью жители Дубовой Рощи, как Эд уже успел заметить, не отличались.
Наконец пленник то ли осознал своё положение, то ли смирился с неизбежным. Яблоко водворили на его темени — большое, спелое яблоко, до которого от линии выстрела было всего-то тридцать шагов. Толпа наконец определилась с представителем, и к прочерченной на земле линии, нервно потирая ладони, вышел плюгавый мужичонка с хитрым лисьим личиком. Один из солдат подал ему лук, и по тому, как мужичонка принял его, Эд понял, что у бедолаги, застывшего сейчас возле ствола дуба, нет никакой надежды. Они были мужиками, эти стрелки. Большинство тех, кто сейчас стоял в путах и ждал своей участи, тоже были всего лишь мужиками, и вся вина их была в том, что они жили на землях лордов, которые не делали различия между крестьянином и воином. Этих бедолаг, которых разыгрывали сейчас, будто медовых петушков на ярмарке, призвал к оружию их лорд — и теперь другой лорд, разбивший их господина в бою, потешался над ними. Это был балаган не для смердов, а для господ, хотя смерды о том не знали.
Как не знали они и о том, что даже для меткого охотника попасть в яблоко с тридцати шагов — трудная задача. Они об этом не думали. Они думали о сапогах.
Стрелок натянул тетиву, прищурив глаз. Пленник, забыв напрочь об унижении, инстинктивно застыл, вытянувшись в струну, затаил дыхание, закрыл глаза. Один из конных воинов что-то сказал товарищу, тот расхохотался. Отведённый в сторону локоть стрелка дрогнул. Щёлкнула тетива. Пленник ещё мгновение стоял неподвижно, потом его ноги подкосились, и он медленно осел наземь. Оперение стрелы торчало из шеи, пробив горло навылет. Яблоко на его темени держалось на удивление долго и соскользнуло лишь когда тело рухнуло в траву.
Толпа выдохнула. Старик на вороном коне поморщился. Его молодой соратник раздражённо сказал:
— Проклятье, что ж вы все тут такие мазилы?
— Будто ты ещё вчера не имел случая в этом убедиться, — презрительно отозвался другой всадник, и оба расхохотались. Незадачливый стрелок опустил лук. Оружие у него тут же отобрали.
— А сапоги действительно были хороши, — серьёзным тоном сказал ему глашатай и махнул палачам. Те оттащили труп в сторону. — Следующий!
Эд смотрел на них. Смотрел на крестьян, напуганных, возбуждённых и алчных в равной мере, смотрел на пленников, уныло переступавших на залитой кровью земле. Один из них всхлипывал. Конные лорды — их было шестеро или семеро, не считая пеших воинов, выполнявших приказы и сдерживавших толпу, — гарцевали, переговариваясь, и лишь краем глаза поглядывали на представление. Действо длилось не первый час и кое-кому уже начало надоедать. Однако дело следовало довести до конца.
Палачи вытащили из шеренги смертников нового осуждённого, и гул стих.
— …обещала зажарить целиком быка, в сметане и винном соусе, — неожиданно громко прозвучал в наступившей тиши голос конника, обращавшегося к старику на вороном. В гробовом молчании эти слова прозвучали так нелепо, что конник осёкся и завертел головой.
Лёгкий шепоток прошёл по толпе: люди называли имя.
Они знали этого человека.
Он был худощав, рыжеволос и очень молод, ему вряд ли минуло двадцать лет. Он позволил вывести себя, не сопротивляясь, дождался, пока мишень установят на его голове, и тогда сказал, ровно и очень спокойно:
— Будь ты проклят, Лотар Пейреван, и ты, Никлас Индабиран, и ты, Дэйгон Одвелл. Будь прокляты вы и ваши кланы во имя Светлоликой Гилас и Милосердного Гвидре.
Это не было бессвязной руганью обречённого. Это было молитвой. Предсмертной молитвой человека, который просил богов о том, чего хотел больше всего на свете.
Было тихо. Вдруг стало слышно, как в шелестящей на ветру осенней листве поют птицы. Толпа стояла неподвижно. Эд отметил, что этот человек одет совсем бедно. У него даже не было сапог.
— А может, просто вздёрнуть его без проволочек, милорд? — предложил самый молодой из трёх воинов, чьи имена только что проклял пленник. — А то, глядите, вечереть скоро будет…
— Да и бык стынет, — добавил другой, плечистый и грузный мужчина средних лет, и хохотнул. Получилось неестественно и не так чтобы очень убедительно.
Старик на вороном коне, чуть прищурясь, смотрел на толпу.
Глашатай прочистил горло и повернулся к толпе крестьян. Где-то детский голос громко попросился домой, вслед за чем раздался хлёсткий звук подзатыльника.
— Ну, что, этого языкатого никто не хочет? — презрительно поинтересовался глашатай и, не дождавшись ответа, махнул палачам.
— Стойте!
Все посмотрели туда, откуда донёсся крик. Эд тоже посмотрел.
— Стойте… пустите… матушка, пустите меня! Я смогу…
Сперва показались волосы — взлохмаченная огненно-рыжая шевелюра, похожая на птичье гнездо. Под шевелюрой — костлявое личико, под личиком — тощая шея, узкие плечи, переходящие в длинные неуклюжие руки и столь же нескладное туловище. Мальчишке было не больше двенадцати. Он был до такой степени похож на человека, стоявшего сейчас связанным у дуба, что родство между ними не вызывало никаких сомнений. А разница в возрасте, равно как и то, как они посмотрели друг на друга, когда встретились взглядами, не оставляла сомнений в характере родства.
Они были братьями.
— Что, малец, вздумалось удаль показать? — распорядитель лордовского балагана сверкнул щербатой ухмылкой. Рыжеволосый мальчишка с усилием сглотнул и бросил на него беспокойный взгляд. Воин оглянулся к лордам, заметил в их лицах одобрение, ухмыльнулся шире и сунул парнишке лук.
— Миро, не надо! — крикнула из толпы женщина. На неё зашикали. Эд глянул в ту сторону, откуда доносились женские рыдания, потом снова на мальчишку, и лишь потом на пленника. Тот смотрел на брата неотрывно, болезненно расширенными глазами. Эд понял, что он пытается улыбнуться, но у него ничего не выходит. Он боялся. Когда стоял среди смертников, когда его вели на верную гибель, всё одно, в петле или от стрелы — не боялся, а теперь — холодел от страха. Не за себя.
За своего маленького брата, если тот промахнётся.
— Ну, парень, давай, ату его, ату! — насмешливо крикнул младший из лордов, проклятых пленным юношей, и, сунув два пальца в рот, задорно свистнул.
Мальчик умел стрелять — Эд понял это сразу, по тому, как он взялся за лук, как положил пальцы на тетиву, как инстинктивным, на удивление холодным движением наклонил голову, прицеливаясь. Он умел стрелять и с годами, возможно, станет стрелять очень хорошо — быть может, лучше всех. Что бы ни случилось, когда стрела сорвётся с тетивы, он не забудет этот день, это солнце, клонящееся к горизонту, но всё ещё такое жаркое, этот дуб, эту верёвочную петлю, этих лордов, чьи кони фыркают и топчут землю, которая принадлежит не им. Он не забудет, и однажды все они заплатят ему за то, что не дали забыть. Он будет тем, кто свершит проклятье своего брата, внезапно понял Эд. Понял ясно и чётко — как понимал порой, что случится, если он поступит так или иначе, видел чётко и ясно, за какую из бесчисленных вероятностей будущего ему предстоит держать ответ.
Это будет. Но — не сейчас. Сейчас этот мальчик промахнётся. Не потому, что не умеет стрелять. Потому, что стреляет в своего брата. И у него дрожит рука. Едва заметно. Так, что он и сам не чувствует этого. Если бы чувствовал, смог бы сделать поправку на прицел, но он не чувствует…
Поэтому — промахнётся.
И брат его умрёт.
«И, — подумал Эд, — я буду в ответе, я снова буду в ответе за это, потому что стою в толпе и смотрю».
— Стой! Не стрелять!
На миг ему почудилось, что от его окрика мальчишка непроизвольно дёрнется и отпустит тетиву. Мальчишка дёрнулся, но тетиву не отпустил. Он в самом деле был хорошим стрелком. Он только опустил лук и обернулся. И затаившие дыхание люди в толпе обернулись.
И лорды обернулись тоже. Теперь они смотрели на Эда.
А он смотрел на них.
Он знал их, всех троих, — хотя видел раньше лишь двух их них: самого младшего, который был ещё моложе, когда они встречались, и Эд был совершенно уверен, что Лотар Пейреван не помнит об этой встрече; и Никласа Индабирана — он сильно изменился с тех пор, но Эд узнал его без труда, потому что с годами лэрд Индабиран стал почти точной копией своего отца. Лишь Дэйгона Одвелла он прежде никогда не видел, зато знавал в своё время всех его сыновей.
У каждого из этих людей были поводы желать ему смерти, и ни один из них не подозревал об этом. Они не подозревали даже о том, что он здесь, он давно уже здесь, стоит в стороне и наблюдает за ними, наблюдает за тем, как они переговариваются, хохоча и хлопая себя по бокам, когда очередной стрелок пускает стрелу мимо цели, довольно крякая, когда ноги очередной жертвы отрываются от земли.
«Вы больше не убьёте ничьих братьев», — мысленно сказал им Эд Эфрин и соскочил с коня.
— Дай, — коротко сказал он рыжему мальчишке и протянул руку. Тот заколебался, открыл рот, чтобы возразить, но перехватил взгляд Эда и закрыл его. Потом с нежданной надменностью заявил:
— Я умею стрелять!
— Знаю, — спокойно ответил Эд. — Но позволь мне.
— Эй, это не по правилам! — возмущённо крикнул лорд Пейреван. — Какого хрена, кто это вообще такой? По одной попытке на башку!
— Он своей попытки ещё не сделал, — возразил Эд, обернувшись к нему. — И передаёт её мне. Правда, парень?
Мальчишка молчал и таращил на него глаза. Все таращили на него глаза. Он слишком сильно отличался от них — своим видом, своей речью, уверенностью, звучавшей в его голосе. Как забавно, подумал Эд, они только теперь меня заметили, потому что были слишком увлечены представлением. А сейчас я сам для них — представление.
— Дай, — тихо повторил он.
Парнишка и подчинился.
Эд развернулся на каблуках, легко вскинул лук к плечу, оттянул тетиву и отпустил её. Короткий щелчок, удар — доля мгновения, так быстро, что на сей раз никто не успел затаить дыхание. Когда Эд опустил лук, над толпой всё ещё висела тишина.
Глашатай медленно наклонился и вытащил из травы яблоко, пронзённое стрелой.
Толпа взорвалась криком.
Пленник ошалело моргал, оглядываясь, ничего не понимая. Его товарищи по несчастью тоже оживились, и стражником пришлось пройтись им по рёбрам, чтобы урезонить. Другие воины сдерживали напирающую толпу. Кто-то из лордов восхищённо выругался.
Эд небрежно передал лук глашатаю.
— Как я понимаю, теперь он мой? — указав на пленника, спросил он. Дождавшись от глашатая неуверенного кивка, повернулся к рыжему мальчишке, потрясённо глядящему на него и будто не слышавшему победного рёва односельчан, и хлопнул его по плечу. — Ну, парень, что ж ты стоишь? Иди, забирай своего брата.
Толпа всё ревела. Подачек им больше не хотелось — зрелище вышло уж больно впечатляющее. Те, кто стояли ближе, наперебой благодарили Эда, выкрикивали приветствия. Он помахал им рукой и снова вскочил в седло своего коня.
Потом повернулся и стал смотреть, как к нему подъезжает человек, который устроил это представление для себя — и для которого устроил это представление Эд.
— Эдвард Фосиган, если не ошибаюсь? — спросил лорд Дэйгон, глава клана Одвелл. Вороной жеребец под ним бил копытом, ветер трепал седую прядь, выбившуюся из короткой косы. Как и Эд, лорд Одвелл заплетал волосы на морской манер, хотя, как и Эд, редко бывал в море.
Эд лишь поклонился в ответ на вопрос, не требовавший от него никакого ответа.
— Также известный как Эд из города Эфрин… — смерив его взглядом, задумчиво добавил лорд Одвелл.
Эд выпрямился и ничего не сказал. К ним подъехал Лотар Пейреван — Индабиран отдавал распоряжения воинам, пытавшимся утихомирить ликующую толпу, — и подозрительно посмотрел на Эда. Он услышал последние слова Одвелла, и его глаза сузились.
— Большая радость и ещё бульшая неожиданность встретить вас в этих краях, — сказал лорд Дэйгон ничего не выражающим голосом и повернул голову к лорду Пейревану. — Лотар, вели разогнать толпу. Довольно потехи на сегодня.
— Милорд… да, милорд, — Пейреван проглотил возражение и, бросив на Эда ещё один неприязненный взгляд, спросил: — А с оставшимися пленниками что делать?
— Повесить, разумеется. Или у тебя возникли ещё какие-нибудь оригинальные идеи?
Пейреван хмыкнул и развернул коня. Лорд Одвелл снова взглянул на Эда, и на его морщинистом лице впервые появилось подобие улыбки.
— Никлас битый час расписывал мне, какое знатное угощение ждёт нас у него в Индабиртейне. Позволю себе от его имени пригласить и вас разделить с нами трапезу. Не столько, скажу прямо, из вежливости, сколько из искреннего восхищения. Вы и впрямь отменный стрелок, хотя я, грешным делом, думал, что слухи о вас лгут.
— Слухи обо мне не лгут, — мягко улыбнулся Эд. — И я, разумеется, почту за великую честь принять ваше приглашение. Тем более что я ничего не жрал со вчерашнего вечера.
— В самом деле? Знатно, видать, торопились?
— Знатно.
И лорд Одвелл улыбнулся — по-настоящему.
— Что же, — сказал он, — теперь вам торопиться некуда.
Поле за холмом шелестело пеплом. Кое-где ещё слабо дымились островки выжженной земли — там, где накануне сжигали трупы. По чёрной земле прыгало вороньё, с разочарованным карканьем тыкавшее клювами редкие уцелевшие останки. Ветер дул с севера, и запах тлена, гари и крови уносило в сторону от холма, за которым сегодня лорд Одвелл со своими верными соратниками вершил справедливый суд над бунтовщиками. Эд понял, что они не случайно выбрали для своего представления место за соседним холмом. С одной стороны, оно было достаточно близко к месту вчерашней битвы, чтобы создать ощущение скорой и неизбежной расправы; с другой — ни запахом, ни дымом не выдавало свою близость; а главное — это поле, уничтоженное бравым войском лорда Одвелла, принадлежало не Дубовой Роще, а другой деревне, раскинувшейся по ту сторону холма. Эд не помнил, как она называется, и спросить было не у кого: селение словно вымерло, когда они, миновав поле, проехали по нему, гремя шпорами, смехом и цокотом конских подков. Дома стояли по большей части целые, только в некоторых были выворочены ворота и повалены плетни, кое-где валялись двери сараев, сорванные с петель, — войско лорда Одвелла, видать, проводило тут продовольственную реквизицию. А кроме того, именно из этой деревни в большинстве своём были родом пленники, повешенные час назад на старом дубу. Лорд Дэйгон поступил мудро, не поддавшись на искушение устрашить смердов лишний раз, предложив зрелище другим крестьянам — тем, чьи поля, дома и головы остались целы. Теперь они, может статься, любили лорда Одвелла. Порой не надо ничего давать, чтобы заслужить благодарность — достаточно ничего не отнимать; а благодарность и любовь всегда идут рука об руку.
Он был умным человеком, этот лорд Одвелл. Гораздо более умным, чем могли понять и оценить его септы.
— А бык-то, к слову сказать, вот прямо отсюда, с этого самого двора! — беспечно выкрикнул Никлас Индабиран, когда они проезжали мимо большого, некогда богатого дома в самом центре деревни. Двери его были распахнуты настежь, выставляя напоказ разруху, царящую внутри. У самого порога виднелось широкое пятно подсохшей крови. Не было видно ни души, не слышно ни звука, только поскрипывала створка ворот, болтавшаяся на одной петле. Эд отвернулся. Лэрд Индабиран, более всего прочего в этом мире озабоченный наполнением своего желудка, продолжал расписывать достоинства своего повара и щедрость ожидавшего их стола. Лорд Пейреван внимал ему с видимым предвкушением. Лорд Одвелл, к удовольствию Эда, не внимал ему вообще. Он даже не повернул головы, чтобы посмотреть на дом, поставивший быка к господскому столу, дом, в котором убили всех.
— Следовало просто повесить их. Сразу, — сказал Дэйгон Одвелл, и эти слова были первыми, произнесёнными им с той минуты, когда они покинули Дубовую Рощу.
Его не услышал никто, кроме Эда, — они ехали немного впереди остальных, рука об руку. Индабиран с Пейреваном скакали позади, оживлённо переговариваясь, за ними следовали их воины. Двое всадников ехали в авангарде, и один из них нёс штандарт со знаменем Одвелла. Бело-лиловое полотнище хлопало на ветру.
— Почему? — спросил Эд. — Вам не понравилось представление?
Лорд Одвелл криво улыбнулся. Он не носил бороды, и от того улыбка на его лице выглядела странно, непривычно — и беззащитно, потому что он не мог её спрятать. В то же время отсутствие растительности на лице подчёркивало его годы, оставляя открытыми глубокие морщины, избороздившие вялую, обвисшую кожу. На левой щеке у него было несколько бурых пятен, похожих на шрамы от коросты. Дэйгону Одвеллу шёл семьдесят первый год, и он не пытался скрыть это или притвориться, будто он молод и силён, как прежде. Однако спина его оставалась прямой, а плечи — широкими и всегда расправленными. Эд знал, что он здоров как бык. Эта мысль вызвала у него мимолётную улыбку — и от лорда Одвелла она не укрылась, хотя истолковать верно он её не мог.
— Отчего же, — проговорил он, — представление удалось на славу, в основном благодаря вашей меткости, дражайший мой Эдвард. Вы, говоря по правде, подоспели очень вовремя — я уж думал, мне придётся самому вставать к черте и выигрывать жизнь хоть для одного из этих щенков. Вышел бы срам, если бы казнить пришлось их всех. Если бы сразу и без проволочек — другое дело, но с тем балаганом, что затеял Лоран…
— Я дивлюсь вам, милорд — что вам с любви и признательности местных смердов? Они ведь даже не ваши…
— Мои, — равнодушно отозвался Одвелл. — Чьи же ещё?
Пейреван позади них что-то сказал, и Индабиран разразился хохотом, подхваченным другими воинами. Резкий порыв ветра заглушил и развеял смех.
— Вы оказали мне услугу, Эфрин.
«Вы бы определились, милорд, кто я для вас — Эфрин или дражайший Эдвард», — подумал Эд, и тут же понял, что, вероятно, лорд Одвелл давно уже с этим определился.
— Куда бульшую, чем вы полагаете, мой лорд.
— Неужели?
— Этот парень, которого я выиграл, проклял вас. Предсмертные проклятия имеют обыкновение сбываться.
Одвелл коротко рассмеялся. Эд впервые слышал его смех — по-старчески хриплый, но всё ещё жёсткий и отрывистый.
— Если бы все предсмертные проклятия, которые обрушивали на мою голову, сбывались, я бы давно отбыл к Мологу, — бросил он и резко сменил тему: — Думаю, не надо указывать вам, чтобы вы держали глаза раскрытыми пошире, но вот на это не могу не обратить ваше внимание. Глядите!
Эд посмотрел туда, куда указывала жилистая рука старика. Они уже выехали за пределы деревни, и сразу за ней, у обочины, начиналась дорога смерти. Десятки трупов были развешены на деревьях. Они уже начали разлагаться, и на них пировали мухи и вороньё.
— Вот, — сказал Дэйгон Одвелл. — Так надо было. Сразу. И здесь. Видите, Эдвард? Крестьяне их не сняли. А я нарочно не отдавал прямого запрета. Здешние смерды были вольны вынуть своих родичей из петли и предать земле. Ан нет. Всё висят.
Он замолчал. Ехавшие за ними всадники притихли тоже, хотя и не смолкли совсем, но их смешки и болтовня стали сдавленнее. Видать, навалившийся смрад слегка подпортил им настроение.
— Милорд, может, галопом? — жалобно крикнул издали Пейреван. Одвелл не повернул к нему головы. Он ехал, прикрыв глаза и даже не подняв руки к носу, пока они продвигались аллей мертвецов, и, казалось, дремал в седле. Кони волновались, чуя трупный дух. Было тихо и чересчур тепло, как для середины осени.
— Неужели, — сказал Дэйгон Одвелл, — неужели Фосиган и впрямь думает, что я испугаюсь этого щенка?
Никто не ответил ему. Эд почувствовал спиной палящие взгляды десятков глаз, но не обернулся. Лес кончился, они снова выехали к полю.
И тут уже пошли галопом, потому что бык, зажаренный знаменитым поваром Никласа Индабирана, и впрямь стыл.
Прошло, однако, ещё добрых полчаса, прежде чем они увидели вдалеке голубые башни, а ещё через час подвесной мост замка Эвентри опустился перед ними.
— Добро пожаловать в мою обитель, милорды, — сказал Никлас Индабиран, и копыта его коня прогрохотали по дубовым брёвнам моста.
Так Эд из города Эфрин вернулся туда, где не был двенадцать лет.
Тут мало что изменилось — замок Эвентри (ах нет — замок Индабиртейн, как обмолвился лорд Одвелл) по-прежнему не слишком отличался от любого большого замка, в которых Эду приходилось бывать. Просторное подворье было запружено солдатами, слугами, крестьянами, лошадьми, курами и орущими детьми. Когда кавалькада из двух дюжин всадников въехала во двор, всё это разномастное сборище хлынуло в стороны, и под чьими-то копытами истошно завизжала задавленная свинья. Немедленно раздалась брань, притихшее было подворье вновь зашевелилось и загудело. Эд знал, что здесь его столичные манеры некому оценить, однако вежливо дождался, пока спешатся Индабиран, затем Одвелл, только тогда спешился сам — и с размаху вступил ногой в коровью лепёшку. Он выругался, отступил и повозил подошвой по земле. Кто-то взял у него повод коня — Эд даже не обратил внимания, кто именно, он всё ещё возился с сапогом.
— Молог задери, — пробормотал он, — хоть бы соломы постелили…
Кто-то наступил ему на ногу и тут же отскочил. Полдюжины лошадей создали некоторую толчею. Раздались резкие командные выкрики Индабирана, ворчание Пейревана, отрывистая ругань солдат.
— Катарина! — орал лорд Никлас. — Катарина, где ты, дура?! Так-то встречаешь дорогих гостей?
Эд краем глаза заметил спешащую к ним женщину — судя по небогатому, но благородного покроя платью красно-оранжевых цветов и окутывавшему голову покрывалу, хозяйку замка. Она что-то говорила, но голос её был слишком тих, чтобы Эд мог разобрать слова, а лицо — слишком неподвижно, чтобы по нему можно было понять, оправдывается она, извиняется или приветствует гостей. Эд успел подумать только, что она красива, и мысленно воззвал к Светлоликой Гилас с отчаянным упрёком, ропща, что приходится представать перед дамой с коровьим дерьмом на сапоге. По счастью, пока что между ним и нею было достаточно людей и лошадей; Эд схватил за рукав ковыляющего мимо слугу.
— Эй, любезный, дай-ка мне что-нибудь… — начал он — и осёкся.
И почувствовал — это: всё вдруг стало далеко, бесконечно далеко, смолкли крики, конское ржание, блеянье овец, далёкий стук кузнечного молота и брань — всё исчезло в один миг, перестало быть важным, никогда не было важным. Важным было только одно, только это — единственный миг.
— Олпорт, — сказал Эд. — Здравствуй, Олпорт. Помнишь меня?
Замковый дурачок Эвентри ничуть не изменился с годами. Ему по-прежнему было лет сорок на вид, у него всё так же были глубокие проплешины в реденьких волосёнках, но он упорно не лысел окончательно — казалось, он как родился с этими проплешинами, так и помрёт. И лицо всё то же, ни единой новой морщинки, и ни на йоту не больше мысли в больших круглых глазах, всегда влажных и почти всегда равнодушных.
Они и сейчас остались равнодушными.
Олпорт его не помнил.
Ну ещё бы — двенадцать лет всё-таки…
«Не трогай его. Оставь… Или тронь. Тронь, говори с ним. Скажи ему».
Это был голос Алекзайн в его голове — как обычно, хотя Эд знал теперь, что с ним говорила вовсе не Алекзайн. Да это и не имело значение. Не имело значения даже то, что именно она сказала.
Главное — она заговорила с ним. Сейчас.
Эд всё ещё держал дурака за рукав. Тот стоял, скособочившись, высоко задрав левое плечо над правым, и всё равно они были почти одного роста.
— Меня не помнишь, — сказал Эд. — А кого помнишь? Анастаса — помнишь? Адриана? Бертрана?
— Бертра-ана, — протянул дурачок, и слабая искра удовлетворения блеснула в его глазах. Эд знал, что это ещё ни о чём не говорит: Олпорт всегда повторял последнее слово, которое слышал. Но он всё равно перехватил руку дурачка повыше локтя и сжал — сильно, но не больно. И повторил:
— Бертрана. Помнишь? Анастас, Адриан, Бертран. Они давали тебе яблоки. Ты помнишь яблоки?
— Яблоки! — с восторгом повторил дурак.
Да, точно. Он всегда их любил.
— Ты видел кого-нибудь из них, Олпорт? Видел Анастаса, Адриана, Бертрана? Видел?
Это было бесполезно. Олпорт никогда не отвечал на вопросы. Эд знал это — и всё равно спрашивал. Он должен был только спрашивать. Ответы ему были ни к чему.
— Если ты увидишь кого-то, кого-нибудь, Анастаса, или Адриана, или Бертрана, ты скажешь ему про яблоки? Скажешь про яблоки, Олпорт?
— Яблоки! — закричал дурак, и искра безумной, дикой радости полыхнула в его глазах, на долю мгновения сделав их ясными и живыми. — Яб-ло-о-ки-и-и!
— Что там такое?
Кузнечный молот звенел где-то далеко и глухо, и тысячи его крохотных братьев колотили в виски Эда. Он почувствовал, что улыбается, улыбается этому грохоту в висках, этой боли.
— Яблоки, Олпорт. Прости меня, ладно? — прошептал он и разжал руку.
И лишь только он сделал это, замковый дурак Эвентри повалился навзничь. Повалился и остался лежать, глядя на него широко распахнутыми пустыми глазами.
— Снова этот дурень орёт?! — рявкнул лорд Индабиран, протолкавшись наконец к ним. В руке он сжимал плеть, которой не преминул огреть застывшего у ног Эда дурачка. Тот завалился набок, но подняться не попытался. Эд заставил себя вскинуть взгляд — и увидел, что вокруг них образовалось довольно внушительное свободное пространство. Некоторые из слуг бросили работу и сбежались посмотреть, как лорд будет пороть идиота — похоже, это зрелище они очень любили. «Хлеба и зрелищ», — машинально подумал Эд. Большего они никогда не попросят.
— А ну вставай, козлиное дерьмо, подымайся, бестолочь, а ну как на живодёрню тебя! — орал лорд Никлас, охаживая бока Олпорта кнутом. Он был явно недоволен толкотнёй во дворе и недостаточно торжественным приёмом, оказанным ему и его высоким гостям, потому обрадовался поводу отвести душу. Никто ему не мешал. Эд тоже не мешал. Он не имел права вмешиваться — только не теперь.
— Ну ладно, Никлас, довольно, — раздался наконец голос лорда Одвелла, такой же сухой и хлёсткий, как удары бича, которыми сыпал Индабиран. — Извинись-ка лучше перед нашим другом Эдвардом.
Лорд Никлас с шумом выдохнул, занесённая для удара рука дрогнула и опустилась. Рывком отвернувшись от скорчившегося на земле идиота, он оказался лицом к лицу с Эдом. В его глазах было искреннее раскаяние.
— Я приношу свои извинения, сударь. Надеюсь, он не успел оскорбить вас. Если так, я велю забить его до смерти, и если вы соблаговолите присутствовать при…
— Если меня кто и оскорбил, — сказал Эд, — то это ваша корова, насравшая посреди двора и изгваздавшая мне сапог. Я был бы, разумеется, весьма польщён, если бы вы велели забить её до смерти на моих глазах, но, увы, не знаю, какая именно из ваших коров нанесла мне оскорбление. А требовать у вас заколоть всё поголовье не чувствую себя вправе.
Повисла тишина — даже молот на минуту стих, вскоре, впрочем, возобновив работу — видать, кузнец просто остановился отереть пот. Но тишина получилась эффектной. Никлас Индабиран тупо смотрел на Эда, всё ещё сжимая в руке плеть. Раскаяние в его глазах сменилось недоумением.
А потом он захохотал, и подворье громыхнуло хохотом вместе с ним. Он с силой хлопнул Эда по плечу. Эд подумал о том, что сделала двенадцать лет назад эта рука, и закрыл глаза — на долю мгновения, а когда открыл их, то тоже улыбался.
— Ещё раз мои извинения, сударь, — за всё поголовье, — хохотнул Индабиран. — А это, знаете ли, дурак моей жены, только оттого и терплю слюнтяя, что просит за него, знаете ли, еженощно…
И снова хохот. Эд присоединился к нему, но ещё прежде нашёл взглядом бледную леди в покрывале. Катарина Индабиран. Её дурак, стало быть. Она смотрела в сторону, ни единым жестом не выдавая своего отношения к происходящему. Эд даже не понял, благодарна ли она ему за то, что он милостиво отменил экзекуцию. Впрочем, до того ли ей…
— Эй, Никлас, а это не тот ли самый дурак, что достался тебе в наследство от Эвентри? — добродушно спросил лорд Одвелл. Эд увидел, что он стоит совсем близко — а значит, он наблюдал всю эту сцену. «Как давно? — подумал он. — Как давно Дэйгон Одвелл её наблюдает?»
— Вроде того, — отозвался Индабиран. — Это ж их дурак был. Ну а как замок перешёл ко мне, притащился сюда — ровно пёс в знакомую конуру. Управляющий его, конечно, велел гнать палками, но вот Катарина решила проявить милосердие…
— Не в первый раз дивлюсь великодушию леди Индабиран, — проговорил лорд Одвелл и отвесил в сторону женщины в покрывале лёгкий поклон.
И впервые на её гладких, бескровных щеках слабо вспыхнул румянец.
— Ладно, мои лорды, — сказал Одвелл, прервав неловкую паузу, возникшую после его слов. — Беседы про коров и дураков, я полагаю, вполне можно переместить за стол. Как вы полагаете, Никлас?
— Да, мой лорд, вы правы, воистину!
— Воистину. Так ведите нас, — сказал лорд Дэйгон и, коротко улыбнувшись, посмотрел Эду в глаза. — Все мы уж, я полагаю, довольно налюбовались на дурака.
Проголодавшиеся воины одобрительно загалдели. Кто-то из старших слуг заорал, разгоняя толпу зевак. Снова поднялся шум и толкотня. Лорды двинулись к донжону.
Эд пошёл с ними.
2
— Ты ведь не думал, что я узнаю тебя в лицо, — сказал Дэйгон Одвелл. — Верно?
В этом мгновении было слишком много значения. Слишком много смыслов во множестве деталей: сам вопрос, его форма, тон, которым он был задан, обращение на «ты», место, где они находились, тот факт, что лорд Одвелл смотрел в стену, тот факт, что они были наедине. Слишком много деталей, и любая из них могла определить весь дальнейший ход как этого разговора, ради которого, собственно, Эд и прибыл сюда, так и ход гораздо более важных событий.
Эд Эфрин умел чуять такие вещи. Это и делало его тем, кем он был.
Всё это вызвало паузу, последовавшую между вопросом лорда Одвелла и ответом Эда. Это — а ещё комната, в которой они находились. Эд её помнил. Небольшой квадратный зал на третьем этаже, прямо над залом для пиров, где в эту самую минуту Никлас Индабиран продолжал потчевать своих гостей пресловутым быком, фаршированным голубями и рябчиками. Роскошное для этих мест угощение, хотя и несколько варварское. Лорд Одвелл, будучи наиболее почётным гостем Индабирана, отдал пиршеству должное, похвалил повара, менестреля, акробатов, а под конец — и хозяйку. Никлас Индабиран улыбался во весь рот, его бородатое лицо то и дело шло красными пятнами. Он робел перед своим могущественным господином, главой великого клана. Может статься, подумалось тогда Эду, это первый раз, когда новому хозяину замка Эвентри доводится принимать у себя такого гостя.
И это тоже о многом, очень о многом говорило.
Но Эд думал сейчас не об этом, а о комнате, в которой они находились. Той самой, где бывшие владельцы замка, члены клана Эвентри, устраивали советы и принимали жизненно важные решения. Малодушные и трусливые решения в массе своей — с тех пор, как умер Уильям Эвентри. Эд прикрыл глаза, позволяя памяти окутать себя и унести во времена, которые ему было трудно соотносить с собственной жизнью, но которые тем не менее были ею — когда-то.
Прошло много, слишком много безмолвных мгновений, прежде чем он понял, что лорд Дэйгон Одвелл всё ещё ждёт от него ответа на вопрос.
— Нет, — сказал Эд. — Не думал. А должен был?
Они оба были трезвы — по крайней мере на счёт Одвелла Эд не сомневался: он видел, что за весь вечер рука лорда Дэйгона потянулась к кубку едва ли три раза. Насчёт себя он столь уверен не был. У него кружилась голова и ноги чуть подрагивали, что в равной степени могло быть вызвано как опьянением, так и страхом. Страхом, который он очень хорошо знал. И любил. Приучился любить.
— Почему же ты не спросил меня, откуда я тебя знаю?
Одвелл стоял спиной к нему у окна; на фоне наливающегося сумеречным светом проёма его высокая сухопарая фигура казалась нескладной, но Эд знал, что в этом теле ещё очень много силы и воли. Слишком много, пожалуй. Он подумал, что правильно поступил, приехав сюда сейчас. И ещё подумал, что, хотя внешне Дэйгон Одвелл был полной противоположностью своему вечному врагу Грегору Фосигану, он точно так же, как и конунг, имел привычку разговаривать с людьми, стоя к ним спиной, и точно так же сцеплял руки в замок на пояснице. Это сходство вызвало у Эда невольную улыбку. Он сказал:
— Быть может, я решил дать вам возможность самому сообщить мне об этом, мой лорд.
И тут же понял, что совершил ошибку. Лорд Одвелл круто развернулся на каблуках, с резвостью и скоростью, поразительной для старика.
— Не смей дерзить мне, щенок. Я не твой подагрочный Фосиган.
В комнате не горели ни свечи, ни факелы, ни камин. Толстый слой пыли на мебели и отсутствие гобеленов свидетельствовали, что новый хозяин почти не пользовался ею, а дров и света для нежилого помещения жалел. Не похоже, что завоёванные земли приносили ему большой доход. Было темно, холодно и совершенно тихо. Шум пиршества не долетал сюда сквозь толщу стен.
Эд подумал, что, вероятно, смог бы сейчас убить этого старика — без особого шума и хлопот. Но это было не то, чего он хотел. Вовсе не то.
Дэйгон Одвелл прошёлся по комнате — не взволнованно, скорее, походило, что он пытается размять ноги. Потом с усталым вздохом опустился в кресло у чернеющего очага. Эд шагнул вперёд и взялся рукой за спинку второго кресла, стоящего напротив.
— Я не позволял тебе садиться, — в голосе лорда Одвелла звенел металл. Ещё вчера этот человек принимал участие в битве на поле, чёрную тень которого можно было видеть из окон замка Индабиртейн.
— Вы не смеете говорить со мной так, — спокойно сказал Эд.
Одвелл вскинул на него насмешливый взгляд.
— Уверен, что готов это обсуждать? — поинтересовался он. Эд заколебался. Нет, не может быть, чтобы этот человек знал… неоткуда ему было знать. То, что он смог узнать Эда в лицо в Дубовой Роще, ещё ничего не значило. Дэйгон Одвелл наверняка бывал в Сотелсхейме…
Эд говорил себе это, а его ноги слабели. Ему очень хотелось сесть.
— Ладно… милорд, — медленно проговорил Эд Эфрин. — Вы будете столь любезны и разрешите мне сесть в вашем светлейшем присутствии?
— Мне не нравится твой сарказм. А в остальном — неплохо. Фосиган заставляет тебя каждый раз так перед ним пресмыкаться?
— Вы сами сказали, что вы — не Фосиган.
— Да, но я что-то не вижу, чтобы ты это уяснил.
Эд помолчал. Потом повторил:
— Так я могу сесть?
— Нет.
Эд почувствовал, что начинает свирепеть. На мгновение злость даже заглушила и почти уничтожила в нём и страх, и даже азарт. Ни слова не сказав, Эд обогнул кресло, уселся и, откинувшись на спинку, вытянул ноги вперёд, так, что они едва не задевали ноги Одвелла. Тот сидел в своём кресле прямо, неотрывно глядя Эду в лицо.
— Ты и впрямь наглец, — проговорил он со слабой ноткой удовлетворения в голосе. — Я мог бы убить тебя за это.
— Сомневаюсь. Если вы и могли бы убить меня, то вовсе не за это. И сделали бы это ещё там, под дубом.
— У меня всё не проходит ощущение, словно ты продолжаешь принимать меня за этого старого борова Фосигана. Болвана, что нацепил золотой венец и решил, будто это подняло его над остальными.
— Но вы ведь и сами не прочь нацепить этот венец, насколько я понимаю. Отчего же гневаетесь, когда я обращаюсь с вами так, будто уже нацепили?
Одвелл расхохотался. Резко, без паузы, которую, в отличие от него, обычно делал между шуткой и её одобрением Грегор Фосиган. Эд поймал себя на том, что и вправду продолжает сравнивать их, и заставил себя отбросить эту мысль. Не важно, в конце концов, как он будет держаться с этим человеком. Одвелл действительно не конунг. И Эду было нужно от него совсем не то, что от конунга.
— Ладно, будем именно этот момент считать нашим знакомством, — сказал лорд Дэйгон. — Я видел тебя в Сотелсхейме этим летом, во время праздника Эоху.
— Где именно? — небрежно поинтересовался Эд. Праздник Эоху. Глава клана Одвелл был в Сотелсхейме всего три месяца назад. Тайно — иначе Эд знал бы об этом. Проклятье, что он там делал?!
— В первый раз — в кабаке, где ты праздновал успешную дуэль. Ту самую, в которой расквасил рожу Сальдо Бристансону. Кстати, он выжил?
Знает? Конечно, знает. Просто хочет создать у Эда впечатление, что он пробыл в Сотелсхейме меньше, чем на самом деле. С кем же он мог видеться там? Почему глава одного из первых кланов Бертана лично едет в цитадель своего злейшего врага? Чей зов оказался так силён, что ни гордость, ни осторожность не помешали ему откликнуться?
Во время праздника Эоху?..
О боги… да нет. Нет. Как говаривал один давний знакомец Эда — скорее уж Гилас раздвинет ноги перед Мологом… Да только не это ли самое она и собиралась сделать? Или, наоборот — не согласился ли Молог наконец сдаться на её милость?
Грегор Фосиган однажды упоминал об этом как об одной из возможностей, которые его тревожат. Что будет, если Одвеллы сменят богов? Если от извечного поклонения Мологу, которому посвятили себя их деды, обратятся к служению Гилас? Ведь пока что это было одной из главных причин, отвращавших от Одвеллов народ и храмовников — и едва ли не главным преимуществом Фосиганов, чтивших Тафи. Однако Эду с трудом верилось, что один из древнейших кланов Бертана пойдёт на излом многовековых традиций своего рода, пусть бы даже и ради конунгского трона в Сотелсхейме. Он ещё раз окинул взглядом сухопарую фигуру старого лорда. Нет. Грегор Фосиган мог бы сделать такое. Дэйгон Одвелл этого не сделает. Именно поэтому он не конунг.
— А после, — негромко сказал лорд Одвелл, так, словно не было между предшествующими словами и этими бесконечно долгой, гнетущей тишины, — я видел тебя на Конунговой площади, где ты вместе с толпой смердов хохотал над ужимками шутов, изображавших, как лорд Фосиган трахает тебя в зад. Мне казалось, ты получал истинное удовольствие от этого представления.
— Так и было, — ответил Эд. Он слегка улыбался. Лорд Одвелл не ответил на улыбку. Его костлявые пальцы побарабанили по подлокотнику кресла.
— Кое-кто, — заговорил он медленнее, чем прежде, словно обдумывал слова или тщательно взвешивал их, — считает, что ты, любовник Фосигана, будешь весьма ценным заложником. На мгновение и у меня возникла такая мысль. Сюда, знаешь ли, тоже доходят сплетни о тебе и великом конунге… Вы славно потрудились, распуская их, верно?
Эд вдохнул. И не смог выдохнуть. Последние слова лорда Одвелла прозвучали с неприкрытой насмешкой — так взрослый безжалостно раскрывает неумелую игру ребёнка, наивно уверенного в собственной хитрости.
— Тогда, летом, увидев тех карликов, я подумал даже, не сам ли Грегор организовал этот балаган. Твоё присутствие там располагало к такой мысли, но… это не его стиль. Слишком грубо. Такое мог бы устроить я, если б желал, чтобы весь город говорил о том, кого я ставлю раком. — Он широко, почти добродушно ухмыльнулся. Эд всё ещё не мог шевельнуться. — Я вижу, мальчик, теперь ты в самом деле ошарашен. Брось, вдохни поглубже. Меня-то вы провести не смогли, но таких, как я, не слишком много. Я знаю Грегора сорок лет. Он всегда был сучьим потрохом, и за ним водятся разные грешки, но уж чем-чем, а мальчиками он никогда не увлекался. Сомневаюсь, что на старости лет он сменил привычки. Бьюсь об заклад, он никогда не прикасался к тебе и пальцем. И ты не касался его иначе, чем целуя конунгский перстень. Ну, что, станешь отрицать? Может, предложишь мне доказать на деле, что я ошибаюсь? Хотя не думаю… ты и сам-то не слишком похож на мужеложца.
В насмешке по-прежнему не было яда. Он просто забавлялся. «Так же, — подумал Эд, — как забавлялись мы с лордом Грегором, когда придумали это. Идея была его. Мы были очень пьяны в ту ночь — достаточно пьяны, чтобы изобрести такой ход. Это была та самая ночь, когда он рассказал мне…»
Он облизнул пересохшие губы и сказал:
— Вы очень проницательны… милорд.
— Брось, — отмахнулся Одвелл. — Это заметил бы любой, кто знает его достаточно хорошо… а таких, увы, мало осталось. Но отдаю вам должное, ход был хорош. Люди очень охотно верят в такое. Чем гнуснее сплетня, тем легче её подхватят. И никто не задавал тебе вопросов. Да и о чём тут спрашивать, право слово… Ну, довольно об этом. Меня, как ты догадываешься, теперь интересует совсем другое. Ты в самом деле близок к Фосигану. Настолько близок, что это потворствует мерзким слухам, которые вы сами же и распустили. Собственно, для того вам это и понадобилось, чтобы ни у кого не возникло вопросов об истинной причине вашей близости. Между тобой и Грегором существует что-то очень странное. И, думается мне, очень давнее. Это немного удивляет, учитывая твой возраст, но… — лорд Дэйгон смолк, и на то время, что он размышлял, Эд совсем перестал дышать. — Ясно одно: это что-то ещё более нелицеприятное, чем мужеложество, раз уж вы оба решили, что слух о мужеложестве будет предпочтительней. Кто же ты такой, Эд Эфрин?
Он сделал это. Назвал имя. Задал вопрос — с любопытством, которое выдало его с головой.
Он действительно не знал.
Эд ощутил, как стальные когти, державшие его за горло последние несколько минут, разжались. Глубоко вздохнул, даже не пытаясь скрыть облегчение.
— Проклятье, милорд, если бы в финале вашей обличительной речи вы назвали меня моим настоящим именем, я бы просто в штаны наложил.
Одвелл моргнул — и расхохотался. Эда больше не коробил этот смех.
— Рад, что избавил тебя от такой неловкости. Что ж, я понял. Оставим это пока. В данный момент мне довольно того, что ты не опровергаешь моих выводов. Ну, я слушаю тебя. Что же его милость великий конунг решил передать мне с человеком, который более близок ему, чем мог бы быть любовник?
«Он очень умён, — подумал Эд со смесью восхищения и растерянности. — Ничем не уступает Фосигану». Если конунг лорд Грегор, а не он, то вовсе не из-за недостатка ума у лорда Одвелла — или воинской доблести, свидетельства которой Эд сегодня лицезрел в достатке. Он ощутил сожаление оттого, что, скорее всего, так и не получит возможности получше узнать этого человека. Эд почти не сомневался, что сумел бы найти к нему подход — так же, как нашёл его к Фосигану. К сожалению, на это не было времени. Совсем не было. Алекзайн сказала ему это, и он ей верил.
— Я думал… он, — поправился Эд, — думал, что вас это озадачит.
— Что? Тот факт, что этот старый пердун засылает ко мне тайных послов? Не скажу, что я ждал такого поворота со дня на день, но возможность всегда была. Он себе самому навредил своим упрямством, когда разорвал с Одвеллами все дипломатические сношения двадцать лет назад. Впрочем, то, что он решил наверстать именно сейчас, меня и впрямь… интересует. Ну, я слушаю тебя.
Эд беззвучно вздохнул, собираясь с мыслями. Сейчас он вступал на очень тонкий лёд. Он знал, конечно, что Дэйгон Одвелл и Грегор Фосиган были знакомы много лет и когда-то, очень давно, даже дружны — до тех пор, пока оба не обратили свои взгляды на Сотелсхейм. Одвелл знал о конунге множество вещей, которых не знал больше никто. Эд предполагал это, но выводы, к которым это знание могло подтолкнуть Одвелла, слишком его ошарашили. Он собирался лгать человеку, который гораздо лучше него знал истину. Это была очень опасная игра.
В последние двенадцать лет Эд Эфрин не вёл других.
— Прежде всего, — заговорил он, — лорд Грегор шлёт вам пожелания доброго здравия, успехов в начинаниях и скорейшей победы над выскочкой Эвентри, досаждающим вашим септам в последние недели.
Лицо Одвелла не дрогнуло. Это был прямолинейный и откровенный человек, но он умел владеть собой.
— Дальше.
— Не могу дальше, — беспечно сказал Эд. — Лорд Грегор велел продолжать лишь при условии определённой реакции с вашей стороны на эти слова. Вы никак не реагируете. Я разочарованно умолкаю.
— Я, кажется, начинаю понимать, что в тебе нашёл Фосиган, — без улыбки ответил Одвелл. — Не думаю, что есть нужда повторять то, что ты уже слышал от меня сегодня. Это всё? Ты только для этого ехал за триста лиг прямо волку в пасть?
«Неужели Фосиган думает, что я испугаюсь этого щенка?» Да. Эд помнил эти слова. Они были сказаны так, чтобы он услышал и запомнил — чтобы все услышали и запомнили.
— Вы позволите мне говорить сейчас от своего имени, милорд? Просто чтобы избежать некоторых… недоразумений?
— Попробуй.
— Попробую… Да, я слышал, что вы говорили сегодня. Я видел также балаган у Дубовой Рощи и то, с каким явным неодобрением вы наблюдали разорённую деревню. Я видел, с каким неуклюжим, однако же искренним радушием наш добрый друг Никлас Индабиран принимал вас в своём замке, и я заключил из этого, что вы, милорд, нечасто балуете его визитами. Также я наблюдал за вами во время пира и отметил, как любезны вы были, отмеряя хозяевам долю не совсем заслуженных похвал. Я заключаю из всего этого, что вы обычно пренебрегаете своими септами, но сейчас нуждаетесь в них и задабриваете по мере сил. Вы также сочли уместным покинуть Одвелл и приехать в Эвентри, чтобы лично проследить за скорейшим изничтожением последнего отростка дерева, которое вы, как вам казалось, уже срубили под корень. Я делаю из всего этого вывод, что да, вы боитесь этого щенка, называющего себя Анастасом Эвентри. Вы, впрочем, и не утверждали обратного — вы всего лишь выразили удивление, что лорд Фосиган об этом знает.
Лорд Одвелл долго молчал. Эд подумал, как хорошо было бы выпить вина или покурить и чем-нибудь занять эту паузу. С конунгом он всегда так делал.
— Ты в самом деле умён, — проговорил наконец Одвелл. — Ты заставил меня усомниться… Грегор всегда предпочитал окружать себя дураками. Если вдруг он приблизил к себе умного человека, как знать, не сменил ли он и постельные предпочтения. — Он смолк. Потом сухо добавил: — Это шутка.
— Я понял.
— Отрадно, — сказал Дэйгон Одвелл и встал. Для человека его лет он был слишком подвижным. Эд увидел, как трудно ему долго сидеть на одном месте. Это и внизу, в зале для пиршеств, давалось ему с видимым трудом — потому Эд и обратил внимание, что лорд Одвелл в замке своего септы делает то, что ему явно неудобно и неприятно — не без умысла, конечно.
— Что же, — заговорил глава клана Одвелл, прохаживаясь по комнате. — Фосиган хотел от меня реакции на твои слова. Добро, я тебе её дам. Я полагаю, тебе известно, что мальчишка, который и впрямь имеет наглость именовать себя Анастасом Эвентри, едва не отбил этот замок у Индабиранов. Его с трудом удалось отбросить. Затем Никлас имел глупость дать ему бой в открытом поле — к несчастью, его отец, обладающей несколько бульшим количеством мозгов, как раз в это время свалился в Индабиране с жесточайшим приступом подагры, и до сих пор валяется. Эвентри разбил войско Никласа. Он был не один — с ним пришёл Виго Блейданс, чего, говоря по правде, никто не ждал… Индабиранский гонец рыдал и валялся у меня в ногах, умоляя прийти на помощь его господину. Ты знаешь, почему я ему ответил?
— Все об этом знают. В данный момент Эвентри — ваши крайние южные рубежи. Если великий конунг всё же решит идти на вас войной, он начнёт именно с Эвентри. К слову сказать, сомнительная контрибуция для ваших верных Индабиранов…
— Я не спрашивал твоего мнения. Но суть ты подметил верно. Поэтому я, как видишь, прибыл сюда сам. Мой сын Редьярд остался в Одвелле на случай, если Эвентри вздумает партизанствовать у нас в тылах. Ты знаешь моего сына?
Это мог быть выстрел наудачу, а мог — с прицелом, слишком тщательным, чтобы Эд сумел уклониться. Он не колебался ни мгновения, прежде чем ответить — пауза могла бы выдать его.
— Редьярда Одвелла? Нет. Не имел чести.
— Он умеет драться, но во всём остальном — баранья башка. Его близнец Рейнальд был гораздо умнее и искуснее в принятии решений, но не слишком хорошо владел мечом и луком. Они отлично дополняли друг друга, ну да теперь Рейнальда нет… Ты понимаешь, — ничуть не сменив тона, продолжал он, — что если я оставил своего непутёвого сына защищать наш родовой замок, а сам явился сюда, то это значит, что происходящее здесь я считаю более важным. Я никогда не скрывал своего отношения к Эвентри и ко всей этой треклятой истории, которая тянется уже Молог знает сколько лет. Если бы я мог, я бы разрубил этот узел давным-давно, ещё когда мой сын Тобиас втравил всех нас в кровную месть. Но с Уильямом Эвентри было невозможно договориться. Позже я совершил большую ошибку, сбросив со счетов его сына. Ричард был достаточно безволен, чтобы пойти на любые условия мира, но тогда у меня были другие заботы… и я забыл об Эвентри. На время. Пока они не напомнили о себе сами.
— Сами? — Эд знал, что должен молчать, но не смог удержаться. — Неужто?
Одвелл взглянул на него немного странно.
— Эту тему я обсуждать не намерен, тем более с тобой. Ты спросил о дне сегодняшнем, о нём я тебе и говорю. Да, не могу сказать, что юный Эвентри, который взялся сейчас за меч, не имеет на то оснований. И признаюсь, что меня тревожит поддержка, которую оказали ему Блейдансы — потому что они могут оказаться не единственными. Мне жаль, что мои септы Индабираны сделали с Эвентри то, что сделали. Это случилось вопреки моей воле. Но то дело вчерашнее, и теперь я должен думать о своих септах и о собственном клане. Потому я убью этого мальчишку и наконец покончу с делом, которое и так тянется слишком долго. Я стар, и не могу срываться в походы за полтораста лиг от дома каждые десять лет.
— Двенадцать, — вполголоса сказал Эд.
Дэйгон Одвелл долго смотрел на него.
— Да, — проговорил он. — Двенадцать. Итак, я сказал то, что ты хотел услышать. Теперь говори, что Грегор Фосиган хочет мне предложить.
Он боится, понял Эд. Боится сильнее, чем сам думает. Он действительно стар, и его утомила эта вражда, развязанная вовсе не им, вопреки его воле, снова и снова угрожающая ему в самый неожиданный момент и с самой неожиданной стороны. Это была война его септ и его сыновей, сам лорд Одвелл никогда её не хотел. Эвентри не были ему врагами. У него был только один враг — и именно он, этот враг, рассказал когда-то Эду правду обо всём. Рассказал, всё навсегда изменив.
Эд смотрел на человека, которого много лет ненавидел, а потом — презирал, и впервые в жизни чувствовал к нему некое подобие жалости.
Это чувство притупило страх, и Эд пошёл на риск, на который не решился бы ещё четверть часа назад.
— Грегор Фосиган предлагает вам перемирие и помощь в борьбе с кланом Эвентри и с теми из свободных бондов, которые могут объёдиниться вокруг него. Но его условие — вы немедленно прекращаете сношения со жрецами Гилас как в Сотелсхейме, так и в любых святилищах за его пределами.
«Есть, — понял Эд, смолкнув. — Он попался. Я сказал наобум, на основе едва уловимых догадок, — и попал в яблоко с тридцати шагов. Второй раз за этот день».
Ещё прежде, чем он кончил говорить, Дэйгон Одвелл подошёл к креслу и тяжело опустился в него, медленно и осторожно, совсем по-стариковски. В нём куда меньше воли к борьбе, чем было когда-то… Но намного больше, чем необходимо для того, чтобы конунг мог спать спокойно.
— Значит, эти ублюдочные жрецы всё-таки двурушничали. Я так и полагал. — В сгустившихся сумерках Эд уже почти не различал его лица, и оттого, возможно, голос Одвелла показался ему особенно надломанным, по-старчески дребезжащим. — Сучьи дети. И они ещё меня называют мологовым отродьем… Ну а что потом? Что на сей счёт думает твой конунг, парень? Когда мы совместными усилиями раздавим наконец этих неуничтожимых Эвентри? Я возобновлю переговоры с храмовниками, и он об этом знает. В чём моя выгода — очевидно, но в чём выгода для него?
— Я могу говорить только о собственных догадках, мой лорд.
— Говори.
— Я думаю, — сказал Эд, — что лорд Грегор тоже боится этого щенка.
Потом он добавил вполне невинным тоном:
— Холодрыга, не находите? Затопить бы камин…
— Нет. Мои старые кости терпят, и ты потерпи. — Лорд Одвелл снова побарабанил пальцами по подлокотнику. — Если задуматься, всё это просто смешно. Двое стариков, поджавших хвосты перед сопливым мальчишкой…
— Или перед призраком сопливого мальчишки, — сказал Эд. — Это немного меняет дело. Или вы не боитесь призраков, мой лорд?
Одвелл ухмыльнулся — в точности как тогда, когда Эд напомнил ему о силе предсмертных проклятий. Нет, Дэйгон Одвелл не боялся призраков. Он был умным человеком и боялся живых.
— Призрак! Я видел его в бою вчера. Могу тебя уверить, парень живёхонек. Мне не удалось пустить ему кровь, но не сомневаюсь, что забила бы бойко.
— Почему он тогда называет себя так? Почему взял… это имя?
— Может, он и не Эвентри вовсе? — с неожиданной мягкостью закончил Дэйгон Одвелл его невысказанную мысль. — Это ты имеешь в виду, мальчик? Это тебя тревожит?
Эд ничего не сказал. Ни отшучиваться, ни лгать не мог. Не хотел.
— Конечно, он не Анастас Эвентри, — сказал лорд Одвелл наконец. — И не Уильям Эвентри. Хотя… он, пожалуй, похож на Уильяма больше, чем любой из его братьев.
Какое-то время они сидели в тиши, в промозглой, сырой темноте. За окнами выл ветер.
— Так что мне передать великому конунгу? — спросил Эд тоном, который возвращал их к самому началу разговора.
— Ты ничего не будешь ему передавать, — рассеянно отозвался лорд Одвелл. — Но он узнает о нашей беседе, не сомневайся. В конце концов, я думаю, он действительно предлагает это всерьёз, иначе не прислал бы мне такого заложника. Если же это уловка, и он пытается пустить мне пыль в глаза… что ж, я надеюсь, ему будет неприятно тебя потерять.
Не дожидаясь ответа, лорд Одвелл встал и подёргал за шнур у камина. На зов явились не слуги, а четверо стражников в полном вооружении. Эд понял, что они караулили вход всё время, пока длился разговор. Лорд Одвелл кивком указал им на Эда.
— В темницу и заковать. Ты, — он посмотрел в лицо старшему из стражников, — лично ты — головой отвечаешь. Без грубости. Обращаться по-людски, кормить вдосталь. Всё, увести.
Эд встал. Двое стражников уже стояли по обе стороны от него.
— Не медлите с решением, мой лорд, — спокойно сказал он. Дэйгон Одвелл смотрел на него несколько мгновений, потом кивнул. Эд слегка поклонился ему и повернулся к двери.
«Милосердный Гвидре, — думал он, когда тяжёлая дверь закрылась за ним и он стал под конвоем спускаться по винтовой лестнице в непроглядную тьму, — как сильно порой надо стараться, как долго нарываться и изобретательно врать, чтобы всё-таки угодить в каземат. Право слово, я уж думал, мне придётся его просить».
3
В пятый день первого осеннего месяца у Катарины Индабиран было необычайно много хлопот. Она не ждала возвращения мужа так скоро — отбывая около полудня с отрядом своих соратников на место вчерашнего боя, он сам сказал ей, что они не вернутся раньше заката. Катарина заверила его, что к тому времени всё будет готово — и, едва отъезжающие пересекли подъёмный мост, поспешила на кухню, где с самого рассвета кипела работа. Повар Индабиранов был человеком старой закалки, он умел сделать сочной даже курицу, умершую от старости, и был непревзойдённым мастером десертов. Однако перспектива приготовить целиком быка, сделав кушанье не только впечатляющим, но и съедобным, слегка его напугала. Катарина видела это и обмирала от страха, что будет, если повар не справится. Спорить с мужем она не пыталась, давно зная о бесполезности любых пререканий: женщина в доме Индабиранов знала своё место, как знали его и слуги, поэтому все выслушали дикое требование лорда Никласа и, наскоро помолившись каждый своим богам, взялись за дело. Что поделать — уж слишком Никлас жаждал произвести впечатление на лорда Одвелла, почтившего их своим визитом и принесшим долгожданную победу над проклятым мальчишкой Эвентри… Так он говорил, а Катарина слушала, пытаясь прикинуть, как подать на стол блюдо, размером превосходящее человека в шесть раз, и не допустить при этом свалки.
И если бы этот бык был её единственной заботой! Лорд Одвелл привёл с собой двести пятьдесят воинов, а затем, совершенно неожиданно, к ним присоединилась сотня солдат лорда Пейревана, и всех их надо было где-то разместить, накормить, напоить элем и проследить, чтобы они не слишком буйствовали и не хватали служанок посреди двора. Всё это Никлас также предоставил её заботам: она была здесь хозяйкой; всё, что не касается войны, дело леди, а не лорда. Часть союзных солдат удалось расселить в замковой казарме, к большому неудовольствию воинов Индабирана, вынужденных теперь ютиться вдвоём на одной койке — и это лишь для старших чинов, простые же солдаты спали прямо на полу как попало, но им всё равно надо было раздобыть одеяла. Остальных пришлось расквартировать на конюшне, в амбарах, в пекарне, даже на кухне, хотя это немедленно привело к скандалу — бравые воины так и норовили стащить лишний окорок или бутылку джина. А ещё стягивались крестьяне из окрестных, уцелевших в недавней резне деревень, приносили срочно потребованный оброк провизией и скотом, и за этим тоже надо было следить. Большинство дел, конечно, вёл управляющий, но и на долю леди Индабиран оставалось столько работы, что она ни разу не присела с самого утра и всё равно была отнюдь не уверена, что всё идёт как следует. Прогнать со двора старшин лорда Одвелла, высыпавших из казарм и пожелавших развлечься тренировкой, она так и не сумела — они лишь откровенно рассмеялись ей в лицо, когда она попросила их освободить подворье, потому что сейчас прибудет стадо коров из Дубовой Рощи. В результате коров принимали прямо перед входом в замок, и Катарине осталось в отчаянии наблюдать, как толкущееся мычащее стадо топчет и пачкает двор перед главными воротами, который она всего час назад велела как следует вымести.
И, будто все боги в тот день ополчились на Катарину, почти сразу после этого вернулся Никлас.
Ей вовремя сообщили об отряде, показавшемся за поворотом дороги, и она едва успела подняться к себе и переодеться в торжественные одежды своих цветов. Она не сделала этого в прошлый раз, когда Никлас вернулся с поля боя — наконец-то победителем! — и получила от него за это жестокий выговор. Заниматься волосами не было времени, и Катарина просто стянула их в узел и накинула на голову покрывало. Спускаясь по лестнице, она уже слышала крики и суматоху внизу — ворота распахнулись, её лорд со своими воинами, друзьями и господином въехали в замок. Перед самой дверью Катарина задержалась и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Она устала, но день только начинался. Убедившись, что сердце бьётся почти ровно, а лицо сохраняет неподвижность, она ступила во двор, чтобы приветствовать своего мужа и его гостей.
Их вернулось меньше, чем уехало: с собой лорды взяли дюжину пленников, захваченных во вчерашней битве с Анастасом Эвентри, и ни один из осуждённых не вернулся назад. Катарина знала, что с ними случилось, — она слышала, какую забаву предложил лорд Пейреван вчера вечером, когда они праздновали победу. Никлас любил такие забавы, и обычно они затягивались надолго, поэтому Катарина, захваченная врасплох столь быстрым возвращением мужа, изо всех сил старалась скрыть отчаяние. Никлас сердито сверкал на неё глазами из-под кустистых бровей и два раза спросил про быка. Катарина ответила, что всё готово, молясь про себя Неистовой Яноне, чтобы это не оказалось ложью, — она уже часа два не заглядывала на кухню и не знала, как там обстоят дела. Во дворе, где и так было не повернуться, стоял галдёж и толкотня, Никлас кричал на неё, а она стояла прямая, внешне спокойная, и тихо отвечала ему: «Да, мой лорд». Он понемногу успокаивался, как обычно, и она, видя, что способна вернуть ему самообладание, успокаивалась тоже — всё было так, как всегда, и всё наладится, как всегда, она поняла это и на душе у неё стало легко…
И тут она увидела этого человека.
— Яблоки-и-и!
Позже, когда Катарина Индабиран вспоминала это мгновение, она поняла, что посмотрела в ту сторону ещё до того, как услышала пронзительный голос дурачка Олпорта. Как будто, думала она позже, ей почудилось там что-то, какая-то вспышка света, она оглянулась и увидела человека, который навсегда изменил её жизнь. Но в тот миг ей казалось, что она повернула голову именно на крик — холодея, проклиная свою неосмотрительность и предвидя ярость Никласа, запрещавшего ей пускать Олпорта болтаться по двору, когда в замке находились посторонние. Обычно она выполняла приказ, вполне соглашаясь с его целесообразностью, — но сегодня ей было просто не до того. Она не уследила. Она была виновата. И теперь Олпорт вопил, повиснув на руке человека, которого Катарина видела впервые в жизни. Она была совершенно уверена, что он не состоял в свите ни одного из лордов. Иначе она заметила бы его раньше.
Он слишком сильно отличался от всех, кто его окружал.
Он был не очень высок, но строен, в его движениях сквозило странно небрежное изящество — и отчего-то Катарина, за свою жизнь побывавшая от силы в трёх замках, инстинктивно ощутила, что это изящество у него не врождённое, просто там, откуда он приехал, так держатся все. Его лицо было гладко выбрито — кроме лорда Одвелла, он оказался единственным из скопившихся на подворье мужчин, кто не носил бороды, и это сбивало Катарину с толку и мешало точно определить его возраст. Сперва она решила, что он очень юн, но потом поняла, что ошиблась. Его светлые волосы, вновь как у лорда Одвелла, были заплетены в короткую косу, прикрывавшую затылок и шею. Одежда тоже выделяла его среди прочих: светло-бежевая куртка и коричневые брюки облегали тело, подчёркивая не крупную, хорошо сложенную фигуру, высокие голенища сапог туго обтягивали ноги — Катарина никогда не видела ни таких сапог, ни вообще таких одежд. На фоне остальных мужчин, закутанных в многочисленные накидки, отчего их грузные тела казались ещё больше, этот человек выглядел маленьким и как будто незначительным…
Но ей хватило одного взгляда, чтобы ощутить исходящую от него опасность.
«Олпорт, — подумала Катарина, — о Янона, Олпорт! Что же ты наделал?» Никлас уже приплясывал подле них с плетью, брызжа слюной и угрожая запороть дурачка до смерти. Катарина всегда боялась, что однажды он всё-таки это сделает, — и, замерев от ужаса, смотрела на странного, яркого, изящного человека, который стоял, отвернувшись от неё, и смотрел вниз, на валяющегося у его ног идиота. А потом он заговорил. У него был сильный, звонкий голос, от звука которого окружающие невольно замолкали, и Катарина слышала, как этот голос отпустил грубую шутку, облекая её при этом в такие изящные и затейливые слова, что соль сказанного дошла до слушателей не сразу. Несколько мгновений висела мертвенная тишина, прежде чем Никлас расхохотался, подарив дурачку Олпорту ещё один день жизни. Золотоволосый незнакомец тоже улыбался.
И тогда лорд Одвелл назвал его по имени. И несколько мгновений Катарина думала, что ослышалась.
Этот человек был Фосиган.
Фосиган, злейший враг Одвеллов, а следовательно — и враг клана Индабиран, приехал с её мужем в их замок как ни в чём не бывало, походя чуть не уничтожил и так же походя спас Олпорта, и смеялся теперь, сетуя на то, что гостеприимный Индабиртейн встречает его коровьей лепёшкой. Остальные смеялись вместе с ним — не над ним, но с ним, как будто не знали, кто он. Но они знали. Катарина только теперь заметила, что, куда бы ни пошёл этот человек, за его спиной всегда маячат двое или трое воинов Одвелла. Его коня тоже увёл не конюх, а солдат; с него не спускали глаз, и лишь когда подвесной мост был поднят, лорд Одвелл слегка кивнул своим людям, позволяя ослабить наблюдение. Этот человек был пленником — о чём как будто сам не догадывался.
Или догадывался, но не придавал этому никакого значения.
По настоянию лорда Дэйгона они прошли в зал для пиров, к счастью, уже приготовленный; бык запаздывал, но куропатки, эль и выступление акробатов помогли скрасить ожидание. Катарина возблагодарила богов, что догадалась позаботиться об артистах — Никласу не нравились лицедеи, но, Катарина знала, они нравятся всем остальным, а сейчас единственное, что могло порадовать её мужа — это радость, доставленная им лорду Одвеллу и другим гостям. На пиру Фосиган — Эдвард Фосиган, теперь она знала его полное имя — сидел рядом с хозяином замка, неподалёку от самого Одвелла, ел, пил и отпускал шутки, над которыми покатывалась его сторона стола, а остальные вытягивали шеи, пытаясь расслышать беседу. Долгожданное явление быка он встретил с тем же восторгом, что и все прочие (лорд Одвелл, отметила Катарина, тоже казался довольным), хотя наверняка видал в своей жизни и более затейливые яства. Потом ел вместе со всеми — аккуратнее многих, и пил меньше остальных и всегда — с изысканным и остроумным тостом. Один раз он обратился к ней, заметив, что её чаша для вина пустует, и она поблагодарила его кивком; он наполнил ей чашу, отпустив по ходу небрежную любезность, и вернулся к прерванной беседе. Катарина смотрела не него, почти не отводя глаз, и чувствовала, как тяжело и гулко колотится сердце в её груди.
Он был самым красивым мужчиной, которого она видела в своей жизни. Но он ей не нравился. Он совсем ей не нравился.
Немного позже — быстрее, чем она ожидала, но достаточно поздно, чтобы счесть приличия соблюдёнными — он покинул зал вместе с лордом Одвеллом. И тогда мужчины, оставшиеся за столом, заговорили все разом — совсем не так, как говорили, пока Фосиган сидел за столом. Никлас помалкивал, больше слушал — он казался удивлённым, как будто для него было новостью то, что он узнавал о человеке, которого посадил с собой за стол. Катарина тоже слушала — внимательнее, чем показывала.
И так она узнала, что этот человек — не просто Фосиган: что он безродный выскочка из северного приморского городка Эфрин, которого конунг сделал своим любовником.
«Какая нелепость», — подумала Катарина Индабиран — но не знала сама, откуда взялась эта мысль. Она не знала даже, что именно ей показалось нелепостью: мысль, будто Эдвард Фосиган — мужеложец, или предположение, что он неблагородного происхождения. Катарина не очень долго жила на свете и не так уж много видела, но она была женщиной, и её чутьё не требовало оправданий и доказательств. Будучи дворянкой, она понимала, что этот человек равен ей, что бы ни твердила молва. А будучи женщиной, знала, что этот человек любит женщин, а не мужчин — знала, хотя единственный взгляд, которым они обменялись, не содержал в себе вожделения. Да что уж там — Катарина Индабиран была не из тех женщин, которых вожделеют, бросив на них единственный взгляд, и прекрасно знала об этом. Но она знала также, что этот человек вовсе не так прост, как считают эти грубые, прямодушные мужчины, которые окружали её всю жизнь и которых она научилась любить, как любит женщина мужчин, нуждающихся в её опеке и заботе. Эдвард Фосиган не нуждался в заботе. Он прибыл сюда не для того, чтобы насладиться устроенным Катариной пиром.
Она знала: он прибыл сюда, чтобы уничтожить их всех. И никогда не смогла бы объяснить, откуда взялась эта мысль.
Точнее, в тот миг не могла. Она поняла это позже, ночью, когда лежала в своей постели без сна, трижды помолившись Яноне Неистовой и один раз — Дирху-Меченосцу, богу своего мужа. И ещё один раз — Милосердному Гвидре, чего не делала очень, очень давно.
Милосердный Гвидре был не её богом. Он был богом тех людей, которых родичи её мужа безжалостно вырезали, чтобы отобрать у них этот замок и эти земли. Гвидре милосерден, но Катарина знала, что рано или поздно он заставит платить. Все боги заставляют платить — и за то, что получаешь от них, и за то, что отнимаешь у других.
Если бы Катарина могла знать, кто из богов послал Эдварда Фосигана в её дом, может быть, она перестала бы испытывать такой страх.
Никлас вернулся под утро, пьяный, как сапожник, подбрёл к кровати, свалился и захрапел. Катарина встала, зажгла свечу, в полумраке раздела мужа, затащила на кровать и укрыла. Потом долго сидела рядом, пока небо в окне не забрезжило блеклыми красками осеннего рассвета. Только тогда она, поёжившись, встала и накинула на ночную сорочку мантию, подбитую беличьими шкурками, — давний подарок Никласа, сделанный в честь рождения их первенца. С тех пор он редко дарил ей подарки, но она любила его не за это. Да, Катарина Индабиран любила своего мужа.
Но она уже знала, что боги не отделяют дела, сделанные из корысти, от деяний, совершённых из любви.
Точно таким же осенним рассветом четырнадцать лет назад Катарина из клана Даэлис стояла босая, в одной только ночной сорочке, на ледяных камнях главного зала в замке Даэлис, почти в ста лигах от места, где она сидела теперь, невидящим взглядом глядя в окно. Ей было шестнадцать лет, и она готовилась умереть. Её мёртвого отца вынесли из этого самого зала минуту назад; не выволокли, а вынесли, предварительно закрыв ему глаза и укрыв тело плащом с цветами их клана — она это запомнила. И позже это имело большое значение — большее, чем она могла предположить, дрожа в огромном зале среди перевёрнутой мебели и тупо думая о том, что её отец мёртв и она, старшая из его детей, теперь — леди Даэлис, хозяйка замка, захваченного в эту ночь кланом Индабиран. И ещё она думала, что клана Даэлис больше не существует, потому что у её отца не было сыновей. И ещё думала, что всё это не имеет никакого значения, потому что сейчас она умрёт. Полыхали факелы, которые держали воины в окровавленных доспехах, стоявшие по всему залу, но всё равно было темно и холодно, и Катарина дрожала, обхватив плечи руками и глядя на свои босые, поджатые от холода ступни до тех пор, пока твёрдая рука не взяла её за подбородок и не заставила поднять голову. Она посмотрела в заросшее мохнатой бородой лицо Топпера Индабирана и услышала, как он сказал: «Простите грубость моих солдат и не бойтесь ничего, моя леди. Надеюсь, они не оскорбили вас?».
Тогда она поняла, что будет жить — ещё какое-то время. Не особенно долго; она собиралась покончить с собой, как только представится такая возможность. Её отец вырвал у неё эту клятву за несколько недель перед тем, уходя на очередную войну со своим проклятым соседом Индабираном, много лет оспаривавшим у клана Даэлис северные владения, и наконец, бросив угрозы и увещевания, взявшимся за огонь и меч. «Если мы проиграем и они возьмут Даэлис, — сказал тогда её отец и лорд, — им должны достаться только стены. Ты понимаешь, Ката?» Он не называл её Катой с тех пор, как она была совсем маленькой, и Катарина, сглотнув, кивнула. Она понимала. Даэлис были небольшим и не очень древним кланом, но они были свободными бондами, и они были горды. Они могли исчезнуть, но не раствориться в более сильном. Так думал её отец, и так — послушно, вслед за ним — думала Катарина.
Она не учла, что захочет жить. Даже не допускала такой возможности. И правда стала для неё тяжким грузом, который ей пришлось нести.
Она стала женой Никласа Индабирана, единственного сына лорда Топпера, и принесла ему в приданое замок Даэлис вместе с прилегающими землями, включая — разумеется — и те, которые, как утверждали Индабираны, по праву принадлежали их клану и отошли к Даэлисам сорок лет назад вследствие брачной аферы её прабабки. Катарина не вникала в эти тонкости. Она думала только о том, что не выполнила клятву, которую дала отцу, — и ждала, что Янона возненавидит её за это. Янона не любит тех, кто цепляется за жизнь.
Но Катарина Даэлис-Индабиран любила жизнь, и никогда не жалела об этом.
Было несколько причин, помимо заурядного страха смерти, не давших ей в те дни выполнить своё обещание. То, как говорил с ней лорд Топпер в ту ужасную ночь. То, что он оказал последние почести телу её отца. А ещё — Никлас Индабиран. Он не принимал участия в битве за Даэлис, и не он убил отца Катарины — это сделал один из воинов лорда Топпера, которого потом, по её просьбе, перевели в пограничный форпост. То, что такая просьба — опрометчивая, как она понимала, и всё равно не могла не попросить, — была выполнена, оказалось для Катарины полной неожиданностью. Неожиданностью стал и Никлас, неуклюжий, неловкий, грубоватый и очень смущённый их знакомством. Неожиданностью стала его неумелая бережность в их брачную ночь — и его признание, что раньше у него никогда не было женщины. Она до сих пор помнила своё изумление: этот могучий, вспыльчивый человек двадцати трёх лет от роду оказался очень робок в обращении с женщинами. Она ведь сама видела, как он хлестал плетью провинившуюся служанку. Но путь от насилия к нежности был ему неведом — и Катарина обнаружила, что ему очень просто показать этот путь. Он хотел учиться и принял её понимание с благодарностью. Иногда он был груб с ней, мог ударить, несколько раз выпорол — когда она заговаривала о своём отце и о преступлении, совершённом против Даэлисов Топпером Индабираном. Ей было всего шестнадцать лет, и тогда она отказывалась признать, что не было преступления. Была война, а на войне всегда кто-то умирает.
Настоящее преступление Индабираны совершили позже, и жертвой его стала не Катарина. Но именно тогда она всерьёз задумалась, имеет ли право любить людей, которые совершают такое, и простят ли ей боги эту любовь. Боги, да… дело было ещё и в богах.
Индабираны поклонялись Дирху-Меченосцу, сыну Молога, и, надо заметить, не отличались особой набожностью. В замке Индабиран даже не было собственного святилища Дирха, хотя раз в несколько лет глава клана совершал паломничество в Уивиелл, где находится главный храм бога-Меченосца. Клан Даэлис поклонялся Яноне, и поклонялся истово — Катарина не могла представить ночи, которой не предваряла бы униженная молитва, и новогоднего праздника, не сопровождаемого жертвоприношением. Семья её мужа с уважением отнеслась к вере и традициям её рода. Уничтожив клан Даэлис, они позволили Катарине сохранить память о нём — сохранить и передать детям, родившимся от Индабирана. Оба её сына были освящены по двум обрядам: по обряду Дирха и обряду Яноны. А младший — ещё и по обряду Гвидре, хотя Никлас считал это излишеством и ворчал, называя бабьей придурью, но то был редкий случай, когда Катарина позволила себе быть непреклонной.
Вверить душу своего сына богу клана, подло уничтоженного кланом её мужа — в этом она видела один из путей искупления греха, совершённого Индабиранами.
Когда люди лорда Топпера тайно проникли в замок Эвентри и вырезали почти всех, кто в нём находился, Никлас торжествовал, как и отец, и с восторгом отнёсся к перспективе стать новым хозяином замка Эвентри. Замок Даэлис такая участь не постигла; Катарине следовало радоваться, но она знала, что по сравнению с Эвентри Даэлис были лишь мелкой сошкой. То, что сделал её муж, было ужасно. Ужасные деяния караются богами — так учили Катарину. Янона неистова, она любит карать, только и ищет повод для этого. Боги не несправедливы, просто люди дают причину для кары слишком часто.
Катарина не хотела ехать в Эвентри. Она, говоря по правде, сомневалась, что вообще туда попадёт. У убитого лорда Эвентри осталось две дочери, одной из них исполнилось пятнадцать — всего на год меньше, чем было Катарине, когда её насильно выдали замуж за Никласа Индабирана. А фьев Эвентри был куда соблазнительней, чем клочок бесплодной северной земли клана Даэлис. Катарина знала, что это означает. Она недавно разрешилась от бремени и, сидя в своих покоях с ребёнком на руках, думала о том, убьёт ли её Никлас сам или поручит это кому-нибудь постороннему. Она не знала, какая участь была бы легче для неё. И отчаянно пыталась пожалеть о том, что не убила себя два года назад, как обещала отцу. Пыталась и не могла. Она ни о чём не жалела.
Ночью она сказала Никласу. Она хотела, чтобы он знал об этом — знал, что она ни в чём его не винит. Он слушал, выпучив на неё покрасневшие глаза; он был пьян в ту ночь, и Катарина не исключала, что он напился для храбрости, дабы его рука не дрогнула, когда он возьмёт нож и перережет ей горло. Когда она закончила, он долго молчал. А потом сказал: «Дура. Дирх и Молог всемогущий, какая же ты дура, Ката!» Он в первый раз назвал её так. В ту самую ночь, когда она поняла, что любит его — вот такого, неуклюжего, грубого, иногда жестокого, вероломного и недалёкого, любит за то, что никто, кроме неё, не может рассказать ему о том светлом и добром, что может случиться между двумя людьми, если только оба они захотят. Он узнал об этом от неё. Он никогда бы её не променял ни на кого и ни на что, даже на замок Эвентри.
Но это и не понадобилось. Они просто переехали туда, сменив замку имя, а челяди — господина. Девочки Эвентри стали жёнами других септ клана Фосиган, и ни одна из них не получила замок в приданое — формально потому, что считалось, будто некоторые сыновья Эвентри ещё живы. Никлас говорил, что любой из них может прийти и попытаться вышибить его из этого замка — пусть приходят! Это было низостью, ведь сыновья Эвентри были ещё мальчиками, детьми — самого младшего из них, семилетнего Бертрана, лорд Топпер отправил в далёкий монастырь, навсегда изгнав из мира. Теперь замок Эвентри звался Индабиртейном и принадлежал им.
Катарина всегда знала, что это принесёт им беду.
Приехав, она долго не могла обвыкнуться. Первым делом попросила, чтобы не трогали святилище Гвидре, находившееся в замке. Позже оказалось, что её порыв, вызванный, как сказал Никлас, женскими предрассудками, имел немаловажные политические последствия: бывшие люди Эвентри оценили, что новые хозяева отнеслись с уважением к их традициям и не заставили менять богов. Это их немного успокоило и во многом сгладило возникшую напряжённость. Слух о том, что благодарить за это надо леди Индабиран, быстро разнёсся по округе. Но Катарина не чувствовала себя вправе принимать благодарности. Она сделала это не из милосердия, а из страха перед божьей карой.
Впрочем, как она уже знала, богам всё равно, отчего ты поступаешь так или иначе.
Вскоре после этого появился Олпорт. Приковылял и встал у ворот, мыча и истекая слюной. Его пытались прогнать, но он возвращался; солдаты из суеверия не решались прибить убогого и послали за хозяйкой. Одна из старых служанок, оставшаяся в замке после уничтожения клана Эвентри (таких слуг нашлось мало, но они были, и Катарина всегда прислушивалась к ним), сказала, что этот дурачок много лет жил при замке и как будто приносил клану удачу. Катарина могла бы поспорить с этим, но велела впустить идиота, накормить и найти ему какую-нибудь несложную работу.
Никлас высмеял бы её, если бы узнал, но они считала, что это было одно из испытаний Милосердного Гвидре — ведь известно, что именно он, покровитель странников, направляет дороги смертных. Он послал к ней Олпорта, чтобы испытать её милосердие. Пока Олпорт будет в порядке и достатке, клану Индабиран — её клану — не грозит месть со стороны Гвидре Милосердного.
Она верила в это так неистово, что порой пугала саму себя.
Никлас был несдержан, и Катарина знала, что жизни Олпорта ежедневно грозит опасность. Она прятала дурачка, как могла, оберегая от досадных случайностей, могущих стоить ему жизни. «Сегодня, — думала Катарина, разглядывая набирающие яркость краски за окном и кутаясь в подбитую белками манию, — едва не стоила. Кто это Эдвард Фосиган… этот Эд из Эфрина, как его называют за глаза? Ещё одно испытание нашего милосердия, устроенное Гвидре? Или погибель, посланная мне и всем, кого я люблю, Неистовой Яноной, помнящей о том, что я нарушила клятву, которую дала её именем? Или посланник Дирха, принесший возмездие за преступление, совершённое моим мужем? Как много богов, — думала Катарина Индабиран, ёжась и чувствуя себя больной. — Так много, и каждый хочет чего-то иного, и каждый карает за то, за что одаряет милостью другой. Так страшно жить, будучи всего лишь пешкой в этой игре чужой силы и чужих страстей».
И почему-то при этой мысли она подумала об Эдварде Фосигане — красивом и опасном человеке, пленнике её мужа, о котором говорили столько странного и в котором она чувствовала множество иного, ещё более странного. «Как бы там ни было, — думала Катарина, — он послан нам. Не знаю кем, не знаю зачем. Но сжалься над нами, Янона… сжалься и пощади на этот раз».
Катарина встала, распрямляя затёкшие плечи, оделась и тихо вышла из спальни, прикрыв дверь под громкий храп Никласа. Спустившись вниз, она встретила слугу и узнала, что ночью по приказу лорда Одвелла Эдвард Фосиган был помещён в темницу замка, где его держат теперь под строжайшим надзором. Катарина не удивилась этому. Она только подумала, что никогда не разделяла обиды Никласа на невнимание их господина. Она всегда знала, что рано или поздно Дэйгон Одвелл принесёт в её дом беду.
Ей пришлось выждать, пока её муж и лорд Одвелл покинут замок, прежде чем она решилась сделать это. Ждать пришлось недолго — на третий день гонец принёс слух о том, что из деревень вновь пропадают крестьяне, а следовательно, Анастас Эвентри продолжает вербовать сторонников на землях своего врага. Лорды немедленно выехали — в карательный поход, Катарина знала это, хотя ни о чём не спрашивала. Она плохо разбиралась в политике и военном деле, но ей был знаком огонь, разгоравшийся в воспалённых от трёхдневной пьянки глазах её мужа, когда ему предстояло взять в руки меч. В такие минуты она не могла любить его, но всё равно не переставала за него молиться, ведь он был отцом её детей.
Она стояла на крепостной стене, глядя, как отряд из сотни воинов удаляется к горизонту. Когда пыль на горизонте осела, Катарина спустилась вниз и пошла на кухню. Там она взяла жареного кролика, ещё тёплого, головку сыра, большой ломоть пирога с малиновым вареньем и краюху душистого хлеба, а также бутылку хорошего вина. Всё это она сложила в корзинку и, не обращая внимания на заинтересованный взгляд поварёнка, который подал ей всё это, вышла во двор и пошла к башне, в которой находилось святилище Гвидре и откуда вела лестница в подземелье замка.
На страже стояли двое солдат, и они слегка заколебались, когда она объяснила, куда идёт.
— Миледи, я не уверен, что… — начал один из них, но она оборвала его и спросила:
— Разве его велено держать впроголодь?
Стражники переглянулись, и Катарина поняла, что никаких указаний на сей счёт они не получали. Это её слегка успокоило — она боялась, что с ним будут жестоки, и помыслить не смела о том, к чему это приведёт. Её не только пропустили, но и проводили вниз: один из стражников ступал впереди, освещая факелом каменные ступеньки, по которым она ступала.
Подземелье бывшего замка Эвентри было небольшим, им нечасто пользовались — знатных пленников во время междоусобиц обычно попадалось мало, а смердов вешали сразу, без долгих проволочек. От глухого коридора камеры отделяли цельные решётки, служившие дверьми; вонь и сырость беспрепятственно проникали сквозь них на лестницу. Стражник, сопровождавший Катарину, отпер замок на решётке и сказал, что подождёт её здесь. Она поколебалась, но кивнула. Ей не хотелось оставаться наедине с Эдвардом Фосиганом, если неподалёку не стоял бы человек, которому она доверяла.
В камере было темно, и Катарина взяла у стражника факел, прежде чем ступить за порог, но ей всё равно пришлось присматриваться несколько мгновений, пока глаза не привыкли к полумраку.
Эдвард Фосиган сидел здесь уже три дня, и его глаза успели привыкнуть к темноте, поэтому он рассмотрел её раньше.
— Леди Индабиран! Не могу поверить оказанной мне чести.
Он сидел у стены, на тощем обтрёпанном матраце, и, щурясь, насмешливо глядел на неё. Его лицо казалось бледнее, чем прежде, волосы растрепались, на щеках синела щетина. Грязь на светлой ткани щёгольского костюма выделялась болезненно ярко. Он снял куртку и, видимо, укрывался ею ночью, а также расшнуровал ворот рубашки, словно ему было жарко — тогда как Катарина уже подрагивала от промозглого холода подземелья. Она пожалела, что не захватила плащ — не для себя, для него.
— Прошу извинить мой вид, если он вас смущает, — будто прочтя её мысли, сказал Фосиган и тут же добавил: — И я нижайше молю простить меня, что я не могу встать и приветствовать вас со всей учтивостью — как видите, мои передвижения несколько ограниченны.
Катарина машинально опустила взгляд — и только теперь увидела кандалы на его ногах. Цепь от них тянулась к стене и была очень короткой. Он едва мог подняться на ноги, не то что ходить по камере. «Должно быть, ему приходится справлять нужду почти на том самом месте, где он лежит», — подумала Катарина и вспыхнула от этой мысли. В камере сильно воняло — кажется, отхожий чан ещё не сменили ни разу.
Она почувствовала, что её руки начинают дрожать. Все мысли вылетели из головы, осталось лишь отчаяние, граничащее с ужасом. Как Никлас может держать этого человека в таких условиях?! Неужели он не понимает, что…
А хотя что он может понять, если она толком не понимает сама?
— Я принесла вам поесть, — сказала Катарина и, неловко наклонившись, поставила корзинку на пол. Эдвард Фосиган с интересом взглянул на принесённую пищу, его кадык дёрнулся, и он сглотнул.
— Нет никаких слов, способных выразить вам мою горячую признательность, — с чувством сказал Эдвард и, опершись обеими руками на пол, приподнялся и пододвинулся вперёд. Гулко звякнула цепь. Катарина поняла, что поставила корзину так, что он не может дотянуться — и, кляня себя последними словами, поспешно присела, чтобы пододвинуть её ближе.
— О, простите, я… — воскликнула она, хватаясь за плетёную ручку корзинки — и в то же мгновение Эдвард Фосиган тоже взялся за неё, и Катарина Индабиран ощутила тепло его кожи на своей руке.
— Спасибо, — улыбнулся он. — Я достану.
Катарина выпрямилась, чувствуя, как лицо заливает краска. Она невольно отодвинула факел, который всё ещё держала в левой руке, пытаясь спрятать своё лицо в полумраке.
— Почему они… почему Никлас так с вами обходится? — резким от волнения голосом спросила она.
— Никлас? Вы имеете в виду вашего супруга? Нет, я здесь по приказу лорда Одвелла, — беспечно сказал лорд Эдвард. — Думаю, он очень боится, что я сбегу. Я вполне понимаю его опасения, так что зла не держу, не бойтесь.
«Почему он не ест?» — подумала Катарина. Она заметила на полу пустую миску и глиняный кувшин, на дне которого поблескивала вода. Пленника кормили, конечно, но, судя по всему, весьма скудно.
— Вы позволите? — его голос прозвучал странно. Она неожиданно поняла, до чего он голоден, и судорожно кивнула. Он поколебался, будто смущаясь её присутствием, потом откусил от хлебной краюхи и прожевал — неторопливо и аккуратно, так же, как ел три дня назад за общим столом. Потом глубоко вздохнул и посмотрел на поднос. — А табака вы мне случайно не принесли?
Катарина вспомнила, что там, в общем зале, он курил, и мысленно упрекнула себя за забывчивость.
— Нет… простите… я принесу, если желаете.
— О нет, что вы, я не посмею вас утруждать. Я и так до сих пор не пойму, чем обязан такому вниманию со стороны моей леди.
Катарина промолчала. Она не могла ответить на его неявный вопрос, как не могла — и не хотела — объяснить чувства, которые вызывал в ней этот человек. Он сидел в подвале, на цепи, словно пёс, и не проявляя никакой враждебности ни к ней, ни к её мужу, но с каждым мгновением, проведённым рядом с ним, страх Катарины рос и крепчал, вытесняя все прочие чувства. «Сжалься, — подумала она с внезапной страстью, — сжалься, пощади нас, молю тебя! Молю… Что хочешь тебе за это дам». Она смотрела, как он ест, с трепетным благоговением, будто наблюдала, как божество поглощает жертвенные дары, принесённые ею. Когда он отложил недоеденный хлеб, у Катарины вырвался встревоженный вздох — она боялась, что не угодила. Но тут увидела его смущённую улыбку и поняла, что он просто утолил самый острый голод и не хотел вести себя как дикарь в её присутствии. Он не был богом. Он был человеком.
Было что-то утешительное в этой мысли — утешительное, как любой самообман.
— Я… мне пора…
— Как там Олпорт?
Катарина Индабиран замерла, потом медленно повернулась и подняла факел выше. Эдвард Фосиган смотрел на неё, по-прежнему улыбаясь самой приятной и обворожительной улыбкой из всех, что ей доводилось видеть. «Не пытается ли он соблазнить меня?» — подумала Катарина — и вновь покраснела от этой дикой и неуместной мысли.
— Олпорт в порядке, — сказала она ничего не выражающим голосом. — Благодарю вас.
— Вы очень добры к нему.
— Мы должны быть милосердны к сирым мира сего.
— Это верно, — задумчиво сказал Эд. — Он ведь был замковым дурачком Эвентри, не так ли? Вы мужественны, миледи. Не всякий смог бы каждый день терпеть перед глазами напоминание о преступлении своего клана.
О, наконец — это было то, чего она с самого начала ждала. Он обвинял их, обвинял её — пусть и прежним предельно учтивым тоном. Катарина выпрямила спину.
— Он напоминает мне также о грехе, который предстоит отмолить, — нарочито спокойно ответила она. — Что я и делаю по мере собственных сил.
— Держа бедного идиота насильно в замке, где ваш муж может пристукнуть его каждую минуту? Не думаю, что это можно назвать милосердием.
Катарина смотрела на него в изумлении. Он действительно упрекал её — но вовсе не в том, в чём она, говоря по правде, заслуживала упрёков, хотя и собиралась защищаться от них. Его будто не волновала собственная судьба — но гневила участь идиота, который, внезапно поняла Катарина, был в Индабиртейне таким же пленником, как Эдвард Фосиган, хотя и не сидел в тюрьме.
И тем не менее она попыталась защититься:
— Он сам пришёл сюда. И я не держу его! Он не уходит, когда ворота открыты.
— Не уходит, потому что вы его не отпускаете. Вы впустили его, когда он просился, пригрели и приручили, привязали его к себе заботой. Зачем он вам, моя леди? Только лишь чтобы он каждый день напоминал вам о том, о чём вам следует помнить? Но разве вам, с вашим милосердием, не довольно для этого собственной совести?
Она уже не пыталась скрыть краску, залившую её лицо. Так и было, всё так, как он говорил сейчас, мягко, но уверенно. И это не было упрёком, нет. Она хотела думать, что это упрёк, чтобы с негодованием отвергнуть его. Но он просто читал в её душе, а против этого она возразить ничего не могла.
«Гвидре, — поняла Катарина Индабиран. — Милосердный Гвидре — вот тот бог, который послал мне этого человека. И говорит теперь его устами — о милосердии мне говорит тот, кого мой муж держит здесь, словно животное». Ей захотелось упасть на колени, схватить руку этого человека и прижаться к ней губами, и молить о прощении — для себя, для Никласа, для всех них. Но она знала, что он ждёт от неё не этого.
— Я… кажется, понимаю, — еле слышно проговорила она.
— Знаю, что понимаете, иначе не говорил бы. У вас и впрямь доброе сердце, леди Катарина, лорд Дэйгон совершенно прав. Впрочем, он прав не только в этом.
Она медленно кивнула, не в силах оторвать от него глаз. Ей так хотелось сделать что-нибудь для него — для него, хотя он просил не за себя.
— Я буду приносить вам еду, — вырвалось у неё, хотя она не собиралась говорить этого, — и табак, и… я принесу вам одежду потеплее. Здесь так сыро…
И тут, к её полной растерянности, он рассмеялся, будто она очень остроумно пошутила.
— Не волнуйтесь обо мне, миледи. Я сиживал в казематах понеприветливее этого. А что до конкретно этого каземата, то тут я уже когда-то гостил, так что чувствую себя как дома, поверьте.
Она ещё несколько мгновений выдерживала его смеющийся взгляд, потом неловко кивнула и повернулась, чтобы уйти.
— Миледи…
Она дала себе слово не затягивать больше эту встречу, и так длившуюся дольше, чем позволяло благоразумие, но что-то в его голосе заставило её вновь обернуться.
Теперь Эдвард Фосиган не смотрел на неё. Он смотрел на свои скованные ноги, вытянутые вперёд и почти упиравшиеся в противоположную стену его тесной камеры. Руки он заложил за голову, сцепив в замок поверх растрепавшейся косы.
— Знаете, сударыня, — проговорил он негромко, совсем иным тоном, чем тот, что она слышала от него прежде, — когда я был ребёнком, то частенько озорничал, как все мальчишки. Порой меня наказывали, запирая в чулане. А однажды мой воспитатель даже увёз меня в горную глушь, чтобы там в одиночестве и лишениях я обдумал своё поведение и не бедокурил больше. Но, поверите ли, даже там я умудрился набедокурить. Некоторые мальчишки так несносны, что их не сдерживают никакие запреты. И они продолжают бедокурить, даже сидя под замком.
Катарина слушала его и не могла двинуться с места. У неё пересохло во рту. Когда он умолк, она прочистила горло и с трудом спросила:
— Что… что вы пытаетесь сказать мне?
— Ничего. Почти ничего. Благодарю, что скрасили моё заточение.
Больше он не сказал ни слова. Больше боги не хотели говорить с ней.
Но они и так сказали достаточно.
Катарина Индабиран вышла из камеры, и стражник забрал у неё факел.
Олпорта она нашла не сразу — после недавней бури дурачок почуял опасность и дни и ночи прятался на голубятне. Катарина поднялась туда по лестнице, пачкая юбку соломой и птичьим помётом, и, разглядев в полумраке испуганно поблескивавшие глаза, ласково поманила его к себе:
— Иди сюда, Олпорт, иди ко мне…
Он подполз к ней на четвереньках, будто огромный пёс, и ткнулся плешивым теменем ей в ладонь. День стоял пасмурный, на голубятне было почти так же сыро, как в подземелье, и Олпорт подрагивал — Катарине хотелось верить, что только от холода. Уговорами она заставила его спуститься вниз, накинула ему на плечи тёплый плащ, который принесла с собой, и сунула в руки узелок с едой. А потом отвела к раскрытым воротам замка и подтолкнула в спину.
— Иди, — мягко сказал она. — Тебе не нужно быть здесь больше. Иди.
Он посмотрел на неё с удивлением, но без обиды и горечи — она и боялась, и хотела увидеть это в его глазах. Кажется, он или не понимал, что его прогоняют, или не был этим огорчён. «Я смотрю на него каждый день, — подумала Катарина Индабиран, — и каждый день он напоминает мне про грех моего клана. Быть может, во мне и впрямь довольно низости и спеси, чтобы забыть об этом грехе, когда он уйдёт. А быть может, и нет. Это и есть твоё испытание, Гвидре Милосердный, не так ли?.. И благодарю, благодарю, что у тебя достало милосердия помочь мне наконец-то понять это».
Движимая необъяснимой нежностью, Катарина Индабиран наклонилась и поцеловала дурачка Олпорта в выпуклый костистый лоб.
— Иди, — прошептала она, — иди и найди своих настоящих хозяев.
Олпорт посмотрел на неё. Послушно сказал:
— Хозяев. Яблоки.
И улыбнулся.
Она смотрела вслед его ковыляющей фигуре так же, как провожала взглядом армию своего мужа, растворившуюся в клубах пыли.
Лэрд Индабиран и его соратники вернулись к ночи, в грязи и крови. Они собирались совершить дознание в деревне, которую подозревали в измене, но это оказалось засадой. Им удалось отбиться, почти никого не потеряв и вырезав нападающих до последнего человека, и до самой ночи они вершили расправу над изменниками. Поднявшись на стену замка, Катарина могла видеть зарево пожара там, где ещё утром стояла одна из деревень — её деревень, — и столб дыма до самых небес. Это была та самая сторона, куда днём ушёл дурачок Олпорт, и Катарина гадала, пережил ли он этот день.
Лорды были молчаливы и недовольны, особенно Никлас. Никто из них не пострадал, но они потеряли несколько воинов, и среди нападавших на них сегодня не было Анастаса Эвентри. Сие означало, что «этот трусливый выродок», как называл его Никлас, набрался ума и не собирался больше кидаться в открытый бой, не имея для того достаточных сил. Но ещё немного — и эти силы у него соберутся, мрачно говорили между собой лорды. Точных сведений ни у кого не было, но один из взятых сегодня пленников перед смертью сообщил, что к Эвентри присоединился ещё кто-то из свободных бондов, помимо Блейданса. Кто именно — он не сказал, хотя Катарина не сомневалась, что они сделали немало, чтобы заставить его говорить.
В ту ночь они не пировали. Лорд Одвелл заперся у себя с Никласом и лордом Пейреваном и долго обсуждал с ними что-то. Катарина не ложилась спать, пока Никлас не вернулся. Окна спальни выходили на запад, потому даже в ночи она видела огонь и дым, и пыталась понять, кто из богов наслал его. Думая об этом, она чувствовала глухие, тяжкие удары в груди, уже знакомые ей — знакомые слишком хорошо.
— Я боюсь, — сказала она своему мужу, когда его большое, тёплое, сильное тело оказалось рядом с ней.
— Не глупи, Ката, — ответил Никлас Индабиран, обнимая её руками, пахнущими кровью людей, которых он сегодня убил. — Этот щенок зарывается, спору нет, но нам он не угроза. Лорд Одвелл с нами, и более сильный союзник вскорости будет тоже…
— Кто? — спросила она, и на его бородатом лице мелькнуло удивление. Она никогда прежде не задавала ему таких вопросов.
— Он силён, — поколебавшись, сказал Никлас. — Этого достаточно. Не бойся ничего. Мы справимся и с мальчишкой Эвентри, и со всеми, кто вздумает к нему примкнуть.
Как она могла объяснить ему, что боится вовсе не Анастаса Эвентри и не его союзников… Что страх её вызван человеком, прикованным к стене глубоко под землёй, и необъяснимым, а оттого ещё более пугающим чувством, что именно он, именно этот человек в ответе за всё, что происходит сейчас и что ещё случится очень скоро?..
— Убей его, — сказала Катарина прежде, чем поняла, чтт говорит.
— Кого?
— Эдварда Фосигана. О, Никлас, прошу тебя, пожалуйста, убей его, пока он не…
— Да ты что, Катарина? Что ты несёшь? Он теперь залог нашего союза с Фосиганом, его пальцем тронуть нельзя.
Союза с Фосиганом? Она уже ничего не понимала. И вдруг расплакалась.
— Я ходила к нему, — ткнувшись лицом в широкую грудь своего мужа, всхлипнула Катарина. — Я… я такая дура, Никлас!
— Ходила? К нему? Зачем?
Он не гневался, как она ждала. Он и сам не понимает, что происходит, осознала Катарина, и от этого, самого ужасного осознания ей стало так холодно и тоскливо, как не было никогда, даже в ту ночь, когда она стояла босая на каменном полу в замке Даэлис и боялась — боялась только за саму себя, только за собственную жизнь, потому что больше ей нечего было терять. Но теперь было. Было что терять, а она не хотела терять больше.
— Обними меня, — прошептала она, жарко оплетая его руками, — обними, Никлас, обними…
И он обнял её, и она впустила его в своё лоно в ночи, озаряемой сполохами далёкого пожара, и на эти мгновения забыла о страхе перед богами и людьми, а когда он откинулся от неё, ощутила тем особым, необъяснимым чутьём, которое доступно лишь немногим женщинам, что этой ночью в ней зародилась новая жизнь. Катарина сочла это знаком Гилас — благословением Светлоликой Матери, которой она никогда не молилась, и снова заплакала, на сей раз от облегчения, и уснула, прижавшись к груди своего мужа.
Утром её разбудила пустота в постели. Никлас поднялся до зари, и за окном уже стучал кузнечный молот, ржали кони и звенело оружие. Армия готовилась выступить — снова, всего через несколько дней после прошлой битвы. Эта спешка значила одно: Никлас ошибся, юный Эвентри не собирался ограничиваться вылазками и засадам. Он тоже собирал армию, и теперь намеревался идти на Индабиртейн, чего Никлас не мог ему позволить: приближается зима, продовольственные запасы ограничены, и замок может не выдержать долгой осады.
И вновь Катарина смотрела, как они уходят — смотрела со стороны, из окна в башне замка. Смотрела, замирая от мысли, что не успела с ним проститься.
«Боже, — думала она, сама не зная, к какому из богов взывает, — скажи, что я сделала не так?»
Потом она занялась хозяйством: нужно было немедленно организовать сбор провианта на случай, если они всё же подвергнутся осаде. Это отняло у неё целый день и часть вечера. А когда дела были сделаны и солнце село, Катарина пошла в замковый загон и взяла там овцу, и сама связала её, и позвала своих сыновей, и втроём они отнесли недоумённо блеющее животное в покои леди Индабиран. И там, в комнате, которая служила когда-то будуаром Мелинде Эвентри, а ныне превратилась в святилище Яноны Неистовой, Катарина Индабиран перерезала горло овце и окропила её кровью себя, своих сыновей и каменную плиту перед статуей богини, стоявшей в нише у стены. Затем она взяла правой рукой руку своего старшего сына, а левой — ладошку младшего, и встала на колени, заставив их опуститься тоже, и сказала, слыша, как ей вторят их детские голоса:
— Будь жестока к врагам нашим, о Неистовая, а нас, и наш род, и наш клан пощади на этот раз.
Потом она обняла своих мальчиков, прижав их головы к своей груди, и долго плакала, стоя на коленях в холодной тёмной комнате, пока далеко на западе умирал её муж.
4
Мясо, сыр, хлеб. Кувшин вина — подарок леди Индабиран — и остатки воды, которую принёс тюремщик. Эд смотрел на всё это, прикидывая, на какой срок ему хватит этого провианта, если съедать и выпивать ровно столько, чтобы не умереть с голоду.
Перспектива в любом случае получалась неутешительная.
Катарина Индабиран была последним человеком, которого видел Эд. С тех пор к нему перестали приходить — совсем. Даже тюремщики не заглядывали — ни проведать, ни накормить, ни опорожнить этот треклятый чан с дерьмом, от вони которого Эда давно и устойчиво тошнило. Прошло, по примерным его прикидкам (насколько возможно прикидывать ход времени в полной темноте и бездействии), два дня, может быть, три. Стражники либо были мертвы, либо им было не до него. Всем в замке Индабиран нынче было не до пленного Фосигана, являвшегося залогом переговоров с конунгом.
И это было бы дьявольски интересно, если бы не грозило Эду не очень скорой и не очень приятной смертью.
Он пошевелил ногами, слушая глухой звон цепи. Глаз не открывал: в кромешной темноте это было ни к чему. «Интересно, — думал Эд, — понял ли уже Дэйгон Одвелл, кто я такой?» Если понял — может быть, это его месть. Мелочная, конечно, и совершенно несвоевременная в нынешних обстоятельствах, но не сказать что совсем уж нелепая. Попросту сгноить его в этом подземелье, в этом самом подземелье — это было бы забавно, если бы Эд смог счесть своё положение забавным. Но на это чувства юмора ему уже не хватало. Всему есть свой предел, Молог задери.
Ему снова было страшно.
Он не сомневался, что леди Катарина сделала то, к чему он неявно подтолкнул её. Она смотрела на него с почти суеверным ужасом, временами переходящим в благоговение, и он моментально понял, как вести себя с ней — понял ещё там, во дворе, когда она вспыхнула при обращённых к ней словах Одвелла. Словах о милосердии. Она очень ценила своё милосердие, пеклась о нём и лелеяла его. Это было то, за что она цеплялась, когда не могла найти объяснения поворотам судьбы. А от мистицизма до суеверия один шаг…
Эд заставил её сделать этот шаг, но теперь, когда на принесённом Катариной Индабиран подносе остался огрызок сырной головки и груда обглоданных куриных костей, уже сомневался, так ли уж ему это помогло.
«Помогло, — подумал Эд, не открывая глаз. — Должно было помочь. Она не могла не послушаться. И Олпорт… он не мог не сделать того, что я сказал. Они всегда делают, как я скажу. Всё всегда выходит так, как я хочу».
Да, но он не хотел смерти Магдалены. И своей собственной смерти тоже не хотел.
И всё же Магда мертва, и, похоже, вскоре он встретится с ней.
«Эвентри. Тот мальчик из Эвентри. Это всегда происходит в Эвентри», — повторил он про себя слова Алекзайн, чувствуя, как холод — иной, не тот, что шёл от камней темницы и крутил его суставы, — растекается по всему телу. Конечно. Тот, кто, убив его жену, пустил под откос его неторопливый, далеко просчитанный план в Сотелсхейме. Тот, кто убивал теперь его самого, пуская под откос и все прочие планы. «Я беспомощен», — подумал Эд и тут же отбросил эту мысль, но она вернулась к нему снова, как бумеранг. Это единственное, что пугало его — пугало всегда, до одури, до оцепенения. «Я беспомощен. Я ничего не могу. Кто-то другой в ответе за всё это.
Кто-то другой, не я».
И так он провёл не один день в этом страхе и этой тьме, прежде чем услышал звук шагов и увидел слабый, а потом набирающий силу свет факела. И тогда понял, что не должен был бояться. И сомневаться тоже не должен. Никогда.
Он в ответе; это его жребий, который он выбрал сам.
Две мужские фигуры темнели впереди, за решёткой. Один из мужчин вполголоса потребовал отпереть замок, другой подчинился. Пока гремели ключи, Эд заметил, что мужчин на самом деле трое; один из них держал факел, другой трясущимися руками возился с запором, третий неподвижно стоял рядом. Эд смотрел на него, на этого третьего, щурясь и моргая от непривычно яркого света. Когда решётка со стуком отлетела к стене, человек забрал факел у своего спутника, пригнул голову — он был очень высок, — и шагнул внутрь. Медленно обвёл камеру глазами, пока его взгляд не остановился на Эде.
Они смотрели друг на друга. Молча и очень, очень долго. Бесконечно долго. И Эд чувствовал, как одновременно с удивлением, облегчением и грустью в нём разливается глубокая, смертельная тоска.
«А что, ты и впрямь ожидал увидеть Анастаса?» — с насмешкой спросил голос внутри него, голос, которого он не слышал уже давным-давно. Нет, не ожидал, конечно. И — да, ожидал. Надеялся непонятно на что. На то, что сделанное можно исправить? Он ведь знал, что это не так.
Человек, стоявший над ним, не был Анастасом. Он был даже не очень похож на Анастаса. У него был нос и скулы Эвентри, светло-голубые глаза Эвентри, но волосы и борода были темнее, чем у Анастаса — тёмно-русые, а не пшеничные, и челюсть казалась тяжелее, а лоб шире. И он выглядел старше, гораздо старше, хотя сейчас ему было столько же лет, сколько и Анастасу, когда тот погиб. «Девятнадцать, — мысленно подсчитал Эд. — Когда я видел его в последний раз, ему было семь, значит, теперь ему девятнадцать. Как странно, что я вообще его узнал», — рассуждал он со смесью нежности и отчуждения. Отчуждения?.. Да, конечно. Что же ещё могло между ними остаться после всех этих лет?
«Интересно, — подумал Эд из города Эфрин, — он узнает меня?»
— Адриан, — сказал его младший брат. — Это всё-таки ты.
Эд прикрыл глаза. Его столько лет не называли этим именем.
Потом ответил:
— Я. Здравствуй, Бертран.
Двое последних мужчин из клана Эвентри, не видевшиеся с тех пор, как оба они были детьми, смотрели друг на друга. Потом Бертран опустил руку с факелом.
— Малк, — сказал он, не оборачиваясь, — приведи сюда кузнеца. Надо разбить эти кандалы.
Снаружи был день, пасмурный, но для привыкших ко мраку глаз слишком яркий. На минуту узник потерял способность видеть и, пошатнувшись, ухватился за оказавшееся рядом плечо. Ноги, ещё чувствовавшие тяжесть только что снятых оков, плохо его слушались.
— Сможешь идти? — спросил Бертран. Это его плечо сжимал Эд, и звенья кольчуги впивались в его ладонь. Проморгавшись, Эд с трудом смог рассмотреть неподвижное лицо, обращённое к нему. И только теперь понял, что брат выше его на голову.
— Ну ты и вымахал, — криво усмехнулся он. Бертран не улыбнулся в ответ.
— Тебе нужно что-нибудь прямо сейчас? — его голос звучал сухо. В нём не слышалось нетерпения, но Эд не собирался сейчас обременять его. Он снова улыбнулся краем рта, потёр кулаком заросший подбородок.
— Покурить и побриться. Именно в таком порядке. Хотя с этим тоже, в общем-то, можно обождать…
— Хорошо, — сказал Бертран и шагнул вперёд. Ладонь Эда соскользнула с его плеча. Солдат по имени Малк, замковый кузнец и бывший тюремщик Эда остались за их спинами. Поколебавшись мгновенье, Эд пошёл следом за братом, мерившим подворье решительным широким шагом.
Здесь мало что изменилось, разве что стало потише. И солдаты, запрудившие всё свободное пространство, были другими — некоторые из них носили красные и белые цвета. И красно-белое двуконечное знамя реяло на крепостной стене.
— Всё-таки ты вернул его, — нагнав Бертрана, проговорил Эд, и тот резко остановился. Зрение Эда окончательно восстановилось, и теперь он смотрел на своего младшего брата, на крепкого, мрачного человека, которого едва помнил и совершенно не знал. «Он точно так же глядит на меня, — мелькнула у него мысль с оттенком бессмысленной горечи. — И точно так же меня не знает».
— Кто-то из нас должен был это сделать, — ответил Бертран, и в его голосе прозвучал упрёк. Эд слегка улыбнулся, и брат снова не ответил на улыбку. Он всегда был нелюдимым и самым неулыбчивым из них — в противоположность Анастасу.
— Меня не было бы здесь, если бы не ты, — сказал Бертран Эвентри так тихо, что Эд едва расслышал его среди гула голосов, стука орудий и фырканья коней.
И Эд ответил:
— О да. Я это знаю.
Больше они ничего не сказали друг другу. Бертран вошёл в замок, и Эд последовал за ним. Двое стражей, стоявших у входа, распахнули перед Бертраном двери. Тот поколебался, будто сомневаясь, идти ли ему первым или пропустить Эда вперёд, потом быстро ступил через порог и снял факел со стены.
— Я хочу, чтобы ты пошёл со мной, — отрывисто сказал он. — Ступай осторожно, здесь скользко.
Эд посмотрел вниз и увидел кровь на ступенях. Молча кивнул, но Бертран уже шёл наверх, не дожидаясь ответа.
Они направлялись в зал для пиршеств — тот самый, где несколько дней назад Эд вместе с лордом Одвеллом и его септами праздновал их победу над юным Эвентри. Празднование оказалось преждевременным. По дороге им встретилось несколько караулов: Бертран расставил солдат по всему замку, опасаясь бунта или чьего-то побега. Это не походило на триумфальное возвращение в давно потерянный и вновь обретённый дом. Пока что Бертран вёл себя как захватчик.
Эд подумал, что вряд ли уместно сейчас говорить ему об этом, а потому лишь следовал за ним, с трудом поспевая — ему всё ещё трудно было двигаться, а его младший братец, судя по всему, находился в отменной физической форме. Он шагал быстро, переступая через две ступеньки, длинный меч тяжело бил его по бедру. Достигнув третьего этажа, они наконец остановились у дубовых дверей, за которыми находился зал. И пол перед этими дверьми до самой лестницы тоже был вымазан кровью — широкий след тянулся от порога к ступенькам, будто здесь проволокли чьё-то тело.
Бертран Эвентри прошёл мимо стоявших у двери стражников и распахнул её ударом ноги.
Внутри царил полный разгром. Судя по всему, здесь состоялась нешуточная битва: столы перевёрнуты и разрублены, скамьи разбиты в щепки, порванные гобелены криво свисают со стен, валяются подсвечники, битое стекло усеивает пол — и повсюду кровь. Эд медленно обвёл взглядом зал, в котором его отец давал пиры и заключал мирные союзы, в котором танцевала его мать и в котором они с Бертраном играли у пылающего камина зимними вечерами, когда были детьми. Все эти воспоминания вихрем промчались в его памяти за один только миг, и ни одно из них не было ярче прочих.
Бертран поднял факел высоко над головой, так, чтобы пламя озарило как можно большее пространство, и, повернувшись к Эду, сказал:
— Смотри. Тебя не было здесь двенадцать лет назад, когда Индабираны убили Ричарда и отца. Ты не видел. Теперь смотри, как это было.
Он говорил громко — слишком громко, по мнению Эда. Они были не одни здесь, а он не хотел, чтобы эти жестокие и несправедливые слова были услышаны кем-то ещё — и тем более он не мог сейчас и здесь на них ответить. Поэтому он взглянул Бертрану в лицо, а потом отвернулся и посмотрел на людей, находившихся в этом зале — на людей, чьей кровью Бертран Эвентри залил сегодня полы своего родового замка, отдавая старые долги.
Большинство из них были солдатами Бертрана — Эд понял это по их самоуверенному виду, а также по цветам Эвентри, которые многие из них носили на одежде, на рукоятях мечей и древках копий. Два десятка воинов сторожили пятерых пленников. Троих из них Эд знал лишь в лицо, не помня имён: они были у Дубовой Рощи, где разделяли веселье своих хозяев и пировали вместе с ними вечером того же дня. Они были мелкопоместными лордами, септами Одвелла, и выглядели сейчас не в пример менее уверенно, чем прежде. С ними был Лотар Пейреван, зеленовато-бледный, икающий от страха. Он стоял немного в стороне, поддерживаемый под руки двумя солдатами, словно ему было трудно стоять, хотя Эд не заметил на нём крови.
Кровь была на другом человеке — на том, кто, Эд знал, не должен был здесь находиться, и в то же время не мог оказаться в другом месте.
Солдаты переговаривались до их появления; когда Бертран ступил в зал, все голоса смолкли. Скудный дневной свет, проникая через окна, освещал молчащих людей, придавая их лицам мертвенно-серый оттенок. Бертран Эвентри вышел на середину зала — туда, где несколько дней назад плясали акробаты. Пламя факела в его руке трепетало на сквозняке.
— Лорды, — сказал он, обращаясь к троим пленникам; его бесстрастный голос звучно отдавался от стен. — Я не имею личной вражды к вам, однако то, что вы пытались напасть на моих людей, когда замок был уже сдан, есть вероломство и бесчестие. Я отдам вас на суд Дирха-Меченосца и сам выйду против вас на поединке. Если Дирх дарует вам прощение, вы получите свободу и уйдёте с миром, в противном случае примете смерть от его вездесущей длани.
— Эй, погодите! — возмутился один из лордов, самый щуплый и низкорослый из троих. Он со страхом глядел на могучую фигуру Бертрана и был всерьёз обеспокоен перспективой драться с ним за свою жизнь. — Мы давали присягу лорду Одвеллу, мы его септы! Мы не могли стоять и смотреть, как…
— Те же, кто откажутся и проявят трусость, будут повешены, — спокойно закончил Бертран.
Низкорослый лорд осёкся и затих. Бертран перевёл взгляд на лорда Пейревана, обвисшего в крепких руках стражей. Приказал:
— Пустите его.
Стражи отступили, и лорд Пейреван, к его чести и немалому удивлению Эда, остался стоять на ногах, хотя это явно стоило ему больших усилий.
— Лорд Пейреван, — сказал Бертран всё так же спокойно. — Вы трус и предатель более, чем любой их тех, кто уже принял или ещё примет кару. Вы обещали свою помощь мне и лорду Блейдансу и предали нас обоих на поле боя. У меня чешутся руки повесить вас на крепостной стене, но это право, увы, боги отдали не мне. Лорд Блейданс потерял множество своих людей в той битве, в которой вы вероломно нас предали. Ему и вершить вашу участь. Вы будете переданы клану Блейданс для суда, а мне остаётся лишь молиться, дабы боги ожесточили их сердца и не допустили по отношению к вам милосердия, которого вы не заслуживаете.
За время этой речи лицо Пейревана поочерёдно приобрело все оттенки от снежно-белого до густо-пунцового, но в конце он вздохнул с видимым облегчением и явно приободрился. Ещё бы — он, как и прочие, был наслышан о чести и благородстве клана Блейданс. Эд почти не сомневался, что он отделается выкупом. И если то, что он услышал сейчас от Бертрана, было правдой, то сожалел он об этом не меньше, чем сам Бертран.
Тем временем Бертран Эвентри сделал ещё несколько шагов и остановился перед последним из пленников. Этот человек единственный в зале стоял на коленях: его удерживали так насильно всё время, пока Бертран отлучался: Эд не сомневался, по чьему приказу это было сделано. И его сердце странно сжалось от этого зрелища, потому что раненные семидесятилетние старики, в чём бы они ни были повинны, не должны стоять на коленях.
— Лорд Одвелл, — сказал Бертран Эвентри и замолчал. В полнейшей тишине раздавалось его тяжёлое, глубокое дыхание. Дэйгон Одвелл, придерживая правое плечо левой рукой, поднял голову и посмотрел ему в лицо — они стояли слишком далеко, чтобы Эд мог увидеть, как именно. Потом глава клана Одвелл повернул голову. Эд встретился с ним глазами — и увидел в них чистое, по-детски безграничное удивление.
— Так вот кто ты, — проговорил он, глядя на Эда. — Грегор знает?
— Лорд Одвелл, — сказал Бертран, повысив голос.
Тот ещё несколько мгновений смотрел на Эда, потом взглянул на мужчину, стоящего над ним. В его старом лице была усталость. Бертран заговорил, чеканя слова:
— Ты виновен передо мной и перед моим кланом. Ты направил руку проклятых Индабиранов, которые уже наполовину мертвы и вскоре будут мертвы совсем, так, как когда-то едва не стали мертвы Эвентри. Ты видел голову одного из тех, кто поднял руку на мой клан, на пике перед воротами. Хочешь ли ты сказать мне что-то?
— Тебе — нет, мальчик, — негромко сказал Дэйгон Одвелл. — Ты не готов слушать.
— Я слушал слишком долго, — сказал Бертран и вытащил меч — лёгким, уверенным движением человека, для которого этот жест привычнее любого другого. — Теперь я сделаю.
И тем же лёгким, привычным движением убийцы он всадил клинок в грудь главы клана Одвелл. Лорд Дэйгон откинулся назад, его рот раскрылся, на губах выступила, а потом потоком хлынула кровь. Но его глаза всё ещё были открыты. Бертран Эвентри упёр подошву сапога в грудь старика, стоявшего перед ним на коленях.
— Так твой сын убил когда-то моего отца. И сын моего отца теперь убивает так тебя, во славу Дирха Мстящего, — сказал он и резким движением вырвал меч из пронзённого тела, а когда оно опустилось на пол, схватил ещё дышавшего Одвелла за волосы и одним ударом отсёк ему голову.
Эд смотрел на это в гробовой тишине пиршественного зала в замке Эвентри, которую разорвал лишь звук падающего тела и шумный вздох лорда Пейревана. Он смотрел, как его младший брат выпрямляется, держа в руке отсечённую голову, смотрел, как кровь хлещет с перерубленной шеи. И вспоминал, как видел его в последний раз, как он жался между коленями Эда, который звался тогда Адрианом, и юбками их сестры Бетани, пытаясь приникнуть к замочной скважине и подслушать разговор, который вели старшие. Это были глупые мысли, нелепые, слишком сентиментальные. «Мы вырастаем, — подумал Эд, — мы всё равно вырастаем и становимся мужчинами. И вот такими тоже… такими тоже».
— Насадить на пику рядом с головой Индабирана, — без выражения сказал Бертран, протянув голову лорда Одвелла одному из своих солдат. Тот забрал её и быстро вышел. В тишине гулко отдавались его шаги.
Бертран развернулся, не задержавшись глазами на Эде, и посмотрел в противоположный конец зала, самый тёмный, куда до сих пор ни разу не бросил взгляд. В его лице впервые, и только на один миг, появилась неуверенность. Эд тоже посмотрел туда.
И не смог объяснить себе, как, почему не заметил её раньше.
Катарина Индабиран стояла у погасшего камина, прямая, как клинок, спокойная почти до безмятежности. Её неподвижное лицо под покрывалом, красно-оранжевым, цветов клана Индабиран, было таким же бледным, как когда она спустилась в темницу к Эду, чтобы принести ему поесть. «Интересно, — подумал Эд, — какого цвета у неё волосы?» Её белые руки обнимали за плечи двух мальчиков. Одному на вид было лет двенадцать или тринадцать, другому — около семи. «Почти что наши с Бертраном ровесники, какими мы были в тот день, когда её клан уничтожил нас, вот так, как мы сейчас уничтожаем их», — подумал Эд, и его охватило отчаянное, упрямое ощущение катастрофической неправильности происходящего. Это было местью, возможно, даже справедливостью, но…
«Есть вещи, более важные, чем месть и справедливость, Бертран!» — хотел сказать он, но не сказал. Он просто смотрел, как брат его идёт вперёд, всё ещё держа в руке меч, с которого капала кровь Дэйгона Одвелла.
— Леди Индабиран, — проговорил он, роняя слова так, словно каждое их них весило десять пудов. — Жена Никласа Индабирана. Сыновья Никласа Индабирана. Вы знаете, что случилось с леди Эвентри и её детьми? Отвечайте.
Она вскинула голову, и Эд подумал, что она очень сильная и очень упрямая женщина. Он пытался поймать её взгляд, но она не смотрела на него. Как будто знала, что он обманул — что оказался не тем, кем она его сочла, пытаясь утешиться и прогнать свой слишком обоснованный страх. И она не простит ему этого, понял Эд. Никогда.
— Мне известно это, сударь, — сказала она, и её голос прозвучал до странного равнодушно. — Но если я могу просить, то молю вас о милости для моих детей.
— Вы не можете просить! — резко сказал Бертран, этот девятнадцатилетний юноша, годившийся ей едва ли не в сыновья, её палач. — Вы преступница, так же, как и весь ваш проклятый клан!
— Я — да, — спокойно ответила она. — Но не мои дети, поскольку они не выбирали, у каких родителей им родиться. Так же, как не выбирал этого ты, Бертран Эвентри. Твоя месть клеймом лежит на тебе, но я не хочу, чтобы с моими детьми было то же самое.
Она говорила поразительно смело для женщины, перед которой стоял выбор между смертью и монастырём. Бертран смотрел на неё в упор. Когда он заговорил, его голос был совершенно безжизненным.
— Я вижу, леди, что ваша кровь отравлена тем же ядом дерзости и своеволия, что и кровь всего вашего рода. Потому думаю, что и ваши дети им отравлены. Я не хочу, чтобы через двенадцать лет они явились под стены этого замка, как явился сегодня я, и попытались смыть с этих камней вашу кровь моей кровью. Поэтому…
— Но они не станут! — воскликнула Катарина, крепче прижимая к себе своих детей. — Они не станут! Не все такие, как… как был Никлас. Или как вы! Они не будут такими, как вы!
— Мама! — отрывисто, почти истерично вскрикнул старший мальчик, буравя Бертрана ненавидящим взглядом; младший ребёнок спрятал лицо в материной юбке и заплакал. Бертран покачал головой, медленно поднимая руку с мечом. Стоящие рядом солдаты смотрели на него непонимающе, словно в самом деле не веря, что он собирается это сделать.
— Мне жаль, леди, — сказал он глухо. — Но я намерен поставить сегодня точку в этом деле, насколько возможно. Да будут Гилас и Гвидре к вам милосердны.
— Гвидре! — воскликнула Катарина Индабиран — и вдруг расхохоталась, яростно, страшно. — Гвидре! Гвидре Милосердный!
Она насмехалась, она проклинала, она звала. Звала бога, перед которым так отчаянно пыталась оправдаться — звала в последний раз, чтобы он посмотрел на дело рук своих, и, может быть, устыдился… она ведь старалась. Она вправду старалась загладить зло, совершённое теми, кого она любила.
Гвидре мог не слышать — боги редко слышат, — но Эд слышал. И, в отличие от Гвидре, он был здесь.
— Не смей, — сказал он, перехватывая руку Бертрана, руку, сжимавшую меч, уже дрогнувшую, готовившуюся опуститься. — Не смей прикасаться к этой женщине и её детям.
Бертран обернулся, и Эд встретил его яростный, почти безумный взгляд. «О боги, Бертран, — подумал Адриан Эвентри, глядя в эти глаза. — Во что ты превратился? И во что превратился я?..»
— Кто ты такой? — спросил Бертран очень медленно, и Эд уловил краем глаза беспокойное движение его солдат рядом с ними. — Кто ты такой, чтобы говорить мне это?
И он ответил — без паузы, твёрдо, холодно, так, как только и мог произнести слова, которые должны были изменить всё — как и большинство слов, сказанных им в жизни:
— Я твой старший брат и глава клана Эвентри. И как глава клана я запрещаю тебе прикасаться к этим людям.
Он сказал это и отпустил его руку. Силой он всё равно не смог бы её удержать — Бертран здоровее и сильнее его, хотя и младше на семь лет. «Теперь, — подумал Эд, — разница в возрасте будет играть на руку ему, а не мне. Он совсем юн, он всё ещё набирает силы, а я растратил большую часть того, что у меня было…»
Если он и мог одолеть Бертрана, то не силой. Не такой силой.
Бертран ждал ещё несколько мгновений. Потом опустил руку. Головы не склонил, но в его глазах Эд увидел всё, что хотел увидеть. Это наполнило его уверенностью, которой он до этого мгновения не чувствовал, хотя и заставлял её звучать в своём голосе. Не дав Бертрану времени заговорить, Эд повернулся к Катарине Индабиран, смотревшей на него широко раскрытыми глазами — почти так же, как она смотрела, когда он сидел на цепи в подземелье у её мужа. Эта мысль некстати позабавила его.
— Вас никто не тронет, миледи, — сказал он достаточно громко, чтобы его услышал каждый, находившийся в зале. — Ни вас, ни ваших детей. Вашему свёкру в замок Индабиран будет отправлено послание с требованием выкупа за вас троих. Вы вернётесь домой, но я советую вам затем как можно скорее покинуть замок Индабиран. Вы там не будете в безопасности, потому что Эвентри придут туда, и очень скоро.
Она кивнула, не сказав ни слова. Эду захотелось ободряюще сжать её руку, но он не позволил себе столь фамильярного жеста. Вместо этого посмотрел на одного из солдат, стоявшего рядом с Катариной и её сыновьями.
— Проводи леди Индабиран в покои, которые она занимала, будучи хозяйкой этого замка. И обращайся с ней и её детьми так, как подобает по их рангу.
Солдат бросил на Бертрана вопросительный взгляд. Это не понравилось Эду, но он понимал, что иначе пока что быть не могло. Пришлось довольствоваться тем, что Бертран не возразил, и его солдат, ответив наконец кивком на приказ Эда, указал леди Индабиран на выход. Она пошла вперёд, и её спина больше не была прямой — плечи поникли, голова опустилась, как будто теперь, именно теперь она сломалась и не могла уже быть сильной. «Но вам придётся, миледи, — мысленно сказал ей Эд, провожая её взглядом. — Придётся быть сильной. Отныне и до тех пор, пока Молог не заберёт нас всех».
Он отвернулся, не дожидаясь, пока они выйдут, и посмотрел в лицо Бертрана, всё ещё бледное. На его лбу и щеках выступили красные пятна, отчего он стал выглядеть совсем как мальчишка, несмотря на бороду и кровь врагов на своих руках.
— Ты закончил? — тихо спросил Эд. Бертран, поколебавшись, кивнул. — Тогда я, с твоего позволения, всё же хочу покурить и побриться. И вымыться, и пожрать, если только твои солдаты не разорили здешнюю кухню подчистую. А потом поговорить с тобой.
— Я тоже хочу поговорить с тобой, Адриан, — сказал Бертран. И улыбнулся ему. Очень слабо, неуверенно, почти робко. Эд помнил эту улыбку — и это видение встало перед ним так полно, так ярко, как ни одно прочее из тех смутных обрывков поблекших воспоминаний, что успели промчаться сквозь его разум за этот день.
Не думая, что делает, он протянул руку и сжал плечо своего брата. А потом отпустил. И на долю мгновения в окровавленном сумрачном зале не осталось никого, кроме них двоих.
* * *
Им накрыли стол в малом зале третьего этажа; в той самой комнате, у двери которой они подслушивали вместе двенадцать лет назад; той самой, где Эд говорил с Дэйгоном Одвеллом. Теперь здесь горел камин. Больше не изменилось ничего.
— Расскажи мне, что случилось.
Бертран сидел напротив него, откинувшись на спинку кресла, спиной к огню. Его очень коротко остриженные волосы темнели в отблесках пламени. Тень насмешки мелькнула в его лице, сейчас вновь казавшемся Эду взрослым, почти старым.
— С чего я должен начать?
— С начала, — сказал Эд и медленно затянулся табачным дымом. Он изо всех сил старался не стискивать мундштук зубами. — С той ночи двенадцать лет назад.
Лицо Бертрана изменилось. Какое-то время он молчал, и было слышно, как ветер воет в каминной трубе. Потом вполголоса спросил:
— Так ты до сих пор не знаешь, что тогда произошло?
Эд покачал головой. Бертран поколебался — он как будто не ждал этого вопроса. Или, более вероятно, сам слишком давно вспоминал об этом в последний раз.
— В тот день к нам попросились на ночлег пилигримы, — сказал он наконец. Эд кивнул, давая понять, что это он помнит. — Среди них были люди Индабирана. Ночью они вырезали караул у ворот, опустили мост и впустили индабиранских солдат. Их было около пятидесяти человек. Нас вытащили из постелей и приволокли вниз. — Он умолк на мгновение. — Там уже были отец с матерью и… тело Ричарда. Я так и не понял, как вышло, что он погиб. Он… был не из тех, кто мог сопротивляться насилию. Мне кажется, они убили его для того, чтобы показать отцу серьёзность своих намерений. Они хотели запугать его и вынудить заключить договор… брачный, я думаю.
— Отец воспротивился? — удивился Эд.
— Насколько я помню, нет, — поколебавшись, ответил Бертран. — Я плохо понимал, что происходит. Они говорили что-то об Анастасе. Их планы касались именно его. Сын Индабирана уже был женат, но у него оставалась совершеннолетняя дочь…
— Она теперь замужем за Логфордом.
— Может быть, — равнодушно отозвался Бертран. — Они явились к нам, чтобы насильно связать свой клан с нашим. Но ни Анастаса, ни тебя в замке не оказалось. А Ричарда они убили сами. И когда поняли, что их план рухнул, взъярились… на всех нас.
— Что они сделали с девочками?
— Я не знаю. Нас с матерью заперли в её спальне. Ни девочек, ни отца я больше не видел. Мы просидели там несколько дней и видели из окон пожары в окрестностях. Потом приехал Дэйгон Одвелл с одним из своих сыновей, Редьярдом. Я слышал, как солдаты, которые сторожили нас с матерью, говорили между собой, и из их слов выходило, что Редьярд Одвелл навестил лорда Ричарда в темнице, после чего из камеры вытащили тело отца. Я видел его голову на пике на крепостной стене. Наши окна выходили как раз на эту сторону. — Он помолчал немного, после тем же тоном добавил: — Потом меня увезли из Эвентри, и больше я не видел никого из них.
— Они отправили тебя в монастырь?
— Да.
— Ты, как я вижу, не задержался там.
Эд сказал это насмешливее, чем собирался — и немедленно пожалел об этом. Лицо Бертрана осталось неподвижным.
— Я задержался там дольше, чем следовало.
— К слову сказать, ты в превосходной форме для монаха.
— Мне никто не мешал упражнять тело. В сильном теле дух крепчает. Я всегда знал, что выйду оттуда и вернусь.
Вернёшься — и что, Бертран? Отомстишь Индабиранам и их хозяину? Вернёшь замок, в котором родился и рос? Восстановишь наш клан? О чём ты думал, упражняя тело и лелея в душе с каждым днём растущую ненависть? И захочешь ли ты говорить со мной об этом, если я спрошу?
Эд вытряхнул табак из трубки и принялся набивать её снова.
— Ты покинул свой монастырь, — вполголоса сказал он. — Не боишься, что Лутдах проклянёт тебя за это?
— Мне нет дела до Лутдаха. Он никогда не был моим богом. К тому же меня не успели ему посвятить. Когда мне было двенадцать, в храм прибыл Таврос, верховный жрец Дирха. Он заметил меня и забрал с собой. Он сразу понял, кому из богов я принадлежу на самом деле.
— И тебя отпустили?
— Отпустили. Я потребовал суда Дирха и убил храмового стража на священном поединке. Им ничего другого не оставалось.
Он говорил об этом так буднично… Эд попытался представить своего двенадцатилетнего брата, стоящего с мечом наперевес против взрослого мужчины, воина, служившего при храме бога мудрецов. Бог мудрецов сглупил, допустив этот бой. Впрочем, может, так он давал понять, что ему неугодно насильное служение. И отдавал Дирху, своему мрачному мстительному брату, то, что по праву ему принадлежало.
Иногда понять богов много проще, чем людей.
— Так что же, теперь ты монах Дирха, Бертран?
— Не совсем. Когда Таврос привёз меня в Лентерское святилище Дирха, я сказал ему, что собираюсь сделать. Сказал, что намерен убить своих врагов во славу Меченосца, как и каждого, кто встанет у меня на пути. И преподобный Таврос благословил меня и мой путь. — Поймав непонимающий взгляд Эда, Бертран улыбнулся краешком губ. — Необязательно брить голову и запирать себя в четырёх стенах, чтобы служить богам, Адриан. Я был посвящён Дирху, когда мне было семь лет. Меня посвятили ему Индабираны, убив моего отца. И в этом посвящении больше таинства, нежели в ритуалах и пострижениях. Преподобный Таврос объяснил мне это.
— Стало быть, сегодня ты убил тех, кто привёл тебя к твоему богу, — сказал Эд. — Ты доволен?
Бертран не ответил. Потянулся через стол, взял кувшин — не с вином, с водой, — и опрокинул его над чашей.
— Ты не пьёшь вина.
— Не пью.
— И не куришь.
— Нет.
— Значит, я предаюсь порокам за нас обоих, — вздохнул Эд и тоже потянулся — но за вином, а не за водой. Интересно, соблюдает ли его братец обет целомудрия. Эда бы это нисколько не удивило.
«Но я никогда не мог подумать, что ты вырастешь таким, Бертран».
— Я учился, — проговорил Бертран, нарушив затянувшееся молчание. — Так прилежно, как мог. Учился управлять своим телом и своей яростью. Учился слышать Дирха. Этим летом преподобный Таврос сказал, что я готов.
Эд отставил кубок. Теперь начиналось то, что он действительно хотел услышать.
— Я написал несколько писем — главам кланов, которые когда-то выступили за Анастаса. Отозвался только один.
— Виго Блейданс, — сказал Эд. Бертран кивнул.
— Он обещал мне помощь и оказал её. У меня не было ничего, кроме моего меча и Дирха в моём сердце. Блейданс дал мне воинов. Мы подошли к Эвентри в начале осени. Мы… едва не взяли замок, — Бертран прочистил горло, и Эд впервые заметил в нём признаками смущения. — Стоял сильный туман, мы подошли незаметно… мы должны были победить.
— Но вас отбросили. Я знаю.
Эд постарался сказать это ровно и без упрёка, но Бертран резко выпрямился и сжал руку в кулак.
— Я сказал Никласу Индабирану, кто я! Крикнул ему, стоя под стенами моего замка, который этот червь осмелился переименовать в Индабиртейн, «младший Индабиран». «Младший Индабиран»!.. Я бросил ему вызов. Я сказал, что вызываю его на суд Дирха.
— Но он не вышел, — Эду самому не нравилось, что он то и дело перебивает брата, предвосхищая его рассказ, но он не мог ничего с собой поделать. Всё это было так предсказуемо.
— Не вышел, — кадык Бертрана дёрнулся. — Однако согласился дать мне бой в открытом поле. Мы с Виго разбили его. И гнали, как паршивого пса, до самого замка, но он успел укрыться и натравил на нас своих лучников… по правде, я и не ждал от него ничего другого, — добавил он и сплюнул на пол. — Индабираны не способны драться честно, один на один.
— С чего бы, если иначе они проигрывают? — пожал плечами Эд. Бертран посмотрел на него как-то странно. Чтобы замять паузу, Эд отхлебнул ещё вина, потом спросил: — Что было дальше?
— Дальше пришёл Одвелл. И двести пятьдесят воинов с ним. Блейданс предложил мне отступить, но тут я получил ответ от ещё одного из свободных бондов… от Пейревана. Он предложил нам двести копий. У Виго оставалось полторы сотни, и под знамёна Эвентри после нашей победы пришло более ста человек из окрестных деревень. Теперь мы могли дать им бой.
Он говорил запальчиво, быстро, без горечи или насмешки над собственным легковерием, как будто не знал или не хотел вспоминать, чем это легковерие для него обернулось. «Теперь мы могли дать им бой…» «Эх, Бертран, да ведь не присоединись к вам в тот момент Пейреван, вы ушли бы, верно? Ушли бы и снова копили силы для удара, который нанесли бы, дождавшись, когда Одвеллу надоест сидеть в Индабиртейне. Но он не собирался вас отпускать. Он решил раздавить вас наконец… раздавить нас наконец. Мы, братец, чертовски ему надоели за все эти годы».
Эд мог бы сказать и это тоже, но не сказал. Он начинал понимать, что можно, а чего нельзя говорить Бертрану Эвентри.
— Мы бились, — продолжал Бертран. — По уговору Пейреван оставался в резерве и должен был зайти Одвеллу с флангов. Но вместо этого он зашёл в тыл к нам. — Его щёки пылали, это было видно даже в полумраке. Это был гнев, а не стыд из-за своей доверчивости. — И они разбили нас наголову. Отряд Блейданса вырезали подчистую, сам он был тяжело ранен и чудом спасся… как и я. Я получил удар по голове и потерял сознание, когда у меня оставалось от силы десять человек. Очнулся я уже в нашем лагере. Они вынесли меня оттуда, когда поняли, что всё кончено. Я… — он осёкся — и вдруг сцепил руки в замок на коленях, стыдливым, извиняющимся жестом напроказившего ребёнка. Эд смотрел на него слегка расширившимися глазами. «Этот человек — мой брат», — подумал он в сотый раз за этот день, и в сотый раз не смог понять, что чувствует по этому поводу. — Я должен был остаться и довести до конца этот бой.
— И умереть, — резко закончил Эд. — Ты в самом деле считаешь, что таков твой долг?
— Тогда считал, — по-прежнему не поднимая головы, сказал Бертран. — После этого поражения Виго покинул меня. Он не хотел уходить, но ему больше нечего было мне дать. Я не могу упрекать его. Он обещал, что вернётся, когда наберёт ещё людей.
— Он совершенно не изменился, — вырвалось у Эда. Бертран взглянул на него с лёгким недоумением.
— А должен был?
Что тебе сказать, мой простодушный одержимый брат? Что люди должны умнеть и взрослеть со временем? Вряд ли это укрепит доверие и приязнь между нами.
— Я собирался… отступить, — это слово давалось Бертрану с заметным трудом. — Но тут ко мне привели Олпорта. Нашего старого замкового дурака.
Эд прикрыл глаза. Он держал трубку в зубах, но давно уже не затягивался. Сейчас он затянулся, вдохнул глубоко, полной грудью. И опустил веки, пряча глаза от едкого дыма.
— Ты всегда боялся его, — сказал он — и скорее почувствовал, чем увидел, как Бертран напрягся.
— Он не нравился мне, — возразил тот. — Скорее, так… Но он искал меня. Брёл по дороге, выкрикивал моё имя… и твоё. Один из моих людей жил когда-то в Эвентри — Трой, может, ты помнишь его, он был у нас старшим плотником. Он узнал Олпорта. И узнал, что тот пришёл из замка. Когда дурак увидел меня, то… он бросился на колени. — В голосе Бертрана снова слышалось смущение. — Хватал меня за сапоги. И только два слова повторял: «Адриан» и «яблоки».
Эд сидел, прижавшись затылком к твёрдой спинке кресла. Он чувствовал, как дым колышется перед его лицом, щекочет ноздри и впитывается в волосы, наполняя их приглушённым запахом яблок и гари. Ему не хотелось открывать глаза.
Адриан, яблоки.
Любимое лакомство идиота и имя, которое он почти забыл — вот и всё, что всем им осталось от жизни, которую Бертран пытался вернуть.
Если только он и впрямь хотел именно этого.
— Ты поверил ему.
— Поверил. Хотя до сих пор не пойму, отчего. Но я понял, что ты в замке… что ты жив. — Он очень долго молчал. Потом сказал так, что от его голоса Эд Эфрин вздрогнул и, открыв глаза, подумал с яростной, отчаянной уверенностью: «Да, проклятье, да, это — мой брат!» — И уже не мог уйти.
«Я знал, что не сможешь, — мысленно сказал ему Эд. — Знал, что единственным, что может выманить тебя из подполья и заставить штурмовать замок Эвентри после всех поражений, будет моё имя, мой призрак на зубцах крепостной стены. Этот призрак вёл Анастаса двенадцать лет назад, и теперь он вёл тебя. Я знал, что так будет, потому что ты ведёшь эту войну не под своим, а под его именем. Ты хотел бы быть им, так же, как и я».
Так он думал, почти не слушая, что говорит в это время Бертран — это было уже маловажно.
— Знамёна Эвентри действуют на здешний люд сильнее, чем хотелось бы думать Одвеллам. Ко мне стали приходить ещё люди — некоторые прямиком из замка. Но я не мог поступить, как Индабиран поступил когда-то с нами, и просить их открыть ворота…
— Потому что это низко или потому что у тебя всё равно не хватало людей для атаки? — не выдержав, спросил Эд. В лице Бертрана появилось упрямство, одновременно детское — и такое знакомое. Характерное упрямство Эвентри — лучших из Эвентри, как Эд теперь понимал.
— Мы пустили Индабиранам ложные сведения о готовящейся на них западне, и выманили их из замка. Мне на руку играло то, что они опасались длительной осады. Не с первого раза, но мне удалось загнать Одвелла в капкан. Я убил его прихвостня Индабирана, его самого захватил. В замке в это время осталась только леди Индабиран под опекой предателя Пейревана. Когда он понял, как повернулось дело, то под угрозой убийства Одвелла открыл ворота. Он думал, ему нечего терять — да и в любом случае он не собирался держать оборону чужого замка.
Эд кивнул. Игра с заложниками почти всегда оправдывает себя. «Любопытно, — подумал он, — почему Одвелл не решился дождаться помощи от конунга, которую ему пообещал Эд? Видимо, всё же он был не так наивен, чтобы поверить. В конечном итоге это же его и сгубило».
— Я не думал, откровенно говоря, — произнёс Бертран не очень уверенно, — что всё это получится. У меня был в заложниках Одвелл, но у Индабиранов был ты…
— Нет, — широко улыбнулся Эд. — Меня у них не было. Они понятия не имели, кто сидит у них под замком. Забавно, правда?
— Забавно, — медленно кивнул Бертран. — Но я, по большому счёту, тоже понятия об этом не имел… я лишь верил и… надеялся. Адриан, что с тобой произошло? Где… где ты был все эти годы? И кто ты теперь?
Эд не перестал улыбаться, хотя это и было очень трудно. Конечно, он знал, что разговор рано или поздно приведёт их к этому. Это была цена, которую он должен был заплатить.
— Бертран, скажи… — проговорил он вместо ответа. — Почему ты называешь себя именем Анастаса?
Он не знал, какой реакции ждать на этот очевидный вопрос — и удивился, когда Бертран выдохнул, будто от удара под дых, и лицо его снова пошло пятнами.
И ещё больше удивился — нет, был попросту потрясён ответом.
— А ты, Адриан, почему куришь табак?
От неожиданности он выпустил мундштук и опустил руку с трубкой на стол. Посмотрел на неё так, словно это была не его — чья-то чужая рука, делавшая то, что он делать вовсе не собирался и не хотел. Потом слабо улыбнулся и покачал головой.
— Это не делает нас им, — очень тихо сказал он. — Как бы нам этого ни хотелось.
Бертран сглотнул. Эд не смотрел на него — не хотел видеть этой растерянности, детской беспомощности в глазах, так стремительно и внезапно сменившей решимость и гнев. Поднявшись, Эд прошёл через комнату и, остановившись у камина, постучал по решётке, вытряхивая пепел из трубки и глядя, как он серой струйкой сыплется в огонь.
— Никто из нас никогда не смог бы быть таким, как он, — сказал Эд и положил трубку на каминную полку. Долго стоял молча, пока его младший брат Бертран так же молча сидел в кресле у огня. Потом сказал как ни в чём не бывало: — Но ты поступил довольно умно. Люди здесь ещё помнят его имя. Помнят, что он сделал. Они пришли к тебе, потом что помнят его.
«Ты хоть понимаешь это, Бертран?» — мысленно закончил он — но этого тоже нельзя было говорить вслух. Этого даже думать было нельзя. Но Адриан Эвентри всю свою жизнь поступал так, как нельзя было поступать, и приучился не жалеть об этом.
Хотя иногда это и было так трудно, так невыносимо трудно.
— Ты все эти годы был на свободе, — сказал Бертран, не поворачивая к нему головы. — И ты был взрослым уже тогда, когда это случилось. Почему ты ничего не делал?
Это был самый жестокий, самый несправедливый упрёк из всех возможных. Эд почувствовал, как кровь отхлынула от его лица и красная волна прилила к голове. Он поймал себя на том, что сжимает кулаки. И не мог ответить. Не имел права отвечать.
Всё это началось так давно, так давно, Бертран! И как далеко ещё до конца.
— Я делал. — Чужой голос, слова, которых он не должен говорить. — Я делал, Бертран. Но меня не вёл Дирх. Я, увы, не слышу его голоса в своём сердце, как-то не сложилось.
— А чей голос ты слышишь? — спросил Бертран Эвентри очень спокойно.
И тогда Эд понял, что мог бы сказать ему. Ему, именно ему — человеку, который тоже отказался от себя и поступал так, как велела некая сила, которой он радостно и охотно покорился. «Но я, — подумал Эд, — покорился не радостно и не охотно. Я даже продолжаю уверять себя, будто не покорился вовсе. И иногда, изредка, верю в это. Я хочу верить в это.
Поэтому нет, Бертран, нам всё же не о чем с тобой говорить».
— У меня другое предназначение, — сказал Эд — и вскинулся от грохота, с которым перевернулось кресло, когда Бертран вскочил и оказался перед своим братом, сжимая кулаки с горящими от гнева глазами.
— Другое?! Что другое может волновать тебя — тебя, который все эти годы тоже провёл в изгнании, в унижении?! Ты понимаешь вообще, что они сделали с нами? И ты думаешь, это можно просто оставить в стороне и идти дальше?
«Можно, — подумал Эд, чувствуя, как волна чудовищной боли и горечи накрывает его. — Можно, Бертран. И ты думал об этом. Ты сам об этом думал, ты допускал такую мысль — иначе не говорил бы этого теперь. Ты сейчас признаёшься мне в том, что терзает тебя самого… В том, что гложет семилетнего мальчика, жизнь которого сломало чужое своеволие и который стал тем, чем его хотели сделать — вся беда твоих палачей в том, что они не смогли удержать тебя на цепи. Ни одного из нас нельзя удержать на цепи — мы, Эвентри, странный народ. Мы умудряемся нести другим зло, даже когда сидим взаперти.
И кого волнует, что мы вовсе, вовсе этого не хотим?»
И эта мысль, это ошеломляющее понимание и эта боль заставили Эда сделать то, что он совершенно не намеревался делать ни сейчас, ни когда-либо: он положил обе руки на плечи своего брата и, заглянув ему в глаза, внятно и тихо сказал:
— Я собираюсь спасти Бертан от чёрной оспы. Для этого я должен стать конунгом. И мне понадобится твоя помощь.
Какое-то время они смотрели друг на друга и оба почти что верили, что ослышались, — а после оба думали, что человек, произнёсший сейчас эти слова, безумен. Но также оба они знали, что эти мысли были ложью.
И чтобы понять всё это, им не нужно было говорить.
— Не смейся надо мной.
— Я не смеюсь. Я действительно намерен это сделать. Я однажды уже сделал это, Бертран. Двенадцать лет назад должен был разразиться мор. Я остановил его.
— Как?.. Что ты… ты не в своём уме, — сказал Бертран, стряхивая его руки, но в его голосе не было уверенности. «О да, — с сумасшедшим весельем подумал Эд, — ты-то знаешь, что такое одержимость, верно, братец? Видишь, я тоже одержим, хотя и не тем, чем ты. И это роднит нас куда больше, чем общая кровь».
— Помоги мне.
— Говоришь, ты однажды уже сделал это? Так сделаешь снова. И вполне обойдёшься без меня.
— Теперь не обойдусь! Теперь всё не так, как тогда… всё гораздо сложнее. — Эд глубоко вздохнул. Кровь стучала у него в висках. Проклятье, он же совсем не собирался говорить всего этого! И что-то изменится теперь оттого, что всё же сказал.
— Ты действительно собрался стать конунгом? — недоверчиво спросил Бертран. — Ты хочешь выступить против Фосигана? Это… это то, что ты выбрал, Адриан? Вместо своего клана?
«Проклятье, нет!» — хотелось закричать ему, но это была бы ложь.
Да, так и есть: именно это он выбрал вместо своего клана. И никогда не смог бы объяснить, чего ему стоил этот выбор. Ни Бертрану, ни кому бы то ни было в целом свете.
И внезапно он ощутил то, что накатывало на него временами, всё реже и реже с течением времени, но хотя чувство это и посещало его теперь нечасто, сила его не ослабевала ни на йоту. Эд знал, оно не ослабнет и тогда, когда он достигнет своей цели. В этом мире не было силы, способной избавить его от этого чувства, и потому он так любил, так ценил те мгновения, когда оно отступало, переставало скрестись где-то очень глубоко в нём…
Но это мгновение, когда он стоял перед своим братом, не несло облегчения. Оно несло осознание.
«Бертран, ты никогда не был так одинок, как я», — подумал Адриан Эвентри.
Он протянул руку и сжал плечо своего брата Бертрана.
— Послушай меня. Послушай очень внимательно. Я должен рассказать тебе кое-что. После этого ты, возможно, поймёшь меня лучше… Хотя я и не думаю, что до конца. — Он перевёл дыхание. Бертран ждал, не пытаясь больше стряхнуть его руку. Это был хороший знак. — Ты думаешь, что Дэйгон Одвелл был вдохновителем набега на наш клан двенадцать лет назад. Но это не так. Не совсем так.
И он рассказал Бертрану то, что знал.
Бертран слушал, и его глаза округлялись, становились по-детски удивлёнными, почти обиженными. Как, говорили эти глаза, меня обманули? Меня заставили ненавидеть и убивать вовсе не тех, кого следовало? Словно мало было всего остального? Он опустил взгляд, и на мгновение Эду показалось, что он рассматривает свои руки, залитые кровью тех, кого он привык винить в своей искалеченной жизни.
— Это невозможно, — беспомощно сказал он, когда Эд смолк.
— Это не просто возможно, Бертран, это единственный закономерный ход событий. Мы тогда были слишком малы и напуганы, чтобы это понять. Я не снимаю вины с Одвеллов… с Редьярда Одвелла, который воспользовался поворотом событий и убил отца. Но Одвеллы не единственные и не первые, кого мы должны винить.
— Но ты… ты септа Фосигана! — воскликнул Бертран. — Ты носишь имя его клана! И скрываешь имя, под которым родился. Ты был женат на его дочери, ты… ты ел с его стола и жил с ним бок о бок, зная, что он сделал с нашим кланом!
— Да, — сказал Эд. — Я всё это делал.
«Это мой брат. Это не мой брат», — подумал он, глядя, как Бертран Эвентри отстраняется от него. И понял, что всё-таки ошибся. Для человека, которым стал его младший брат, не существовало полутонов. Он хотел смерти своим врагам, смерти скорой и неизбежной. И больше ничего.
«Неужели он не поможет мне добровольно? — почти в отчаянии подумал Эд. — Значит, снова придётся его заставить. Заставил же я его взять штурмом этот замок. Заставил же сохранить жизнь детям Никласа Индабирана, которые, возможно, совсем скоро вернутся сюда с именем Дирха-Мстителя на устах… и разве у них на то меньше оснований, чем было у нас? Если они убьют тебя, Бертран, это будет моя вина, и мне держать за это ответ, как всегда.
И прости меня, брат, но я пойду на эту жертву, как всегда».
— Я могу сказать тебе лишь одно. Я могу сказать, что к тому времени, когда я достигну своей цели, и Фосиганы, и Одвеллы будут довольно наказаны. Этого тебе будет достаточно?
— Нет, Адриан, не будет. Потому что теперь я не знаю, хватит ли мне только их смертей, чтобы свершить возмездие, или понадобится ещё и твоя.
Эд сжал его плечо крепче и мягко улыбнулся — так мягко, как только мог.
— Давай решим этот вопрос, когда покончим с остальным. Договорились?
Бертран не ответил. «Эвентри, — подумал Эд. — Он Эвентри, как и я. Теперь я должен думать только об этом, а не о том, чем он только что мне угрожал… или о чём он меня только что предупредил».
Он не мог дольше тянуть. И заговорил быстро, решительно и твёрдо.
— Ты должен созвать тинг.
Бертран вздрогнул.
— Они не придут…
— Теперь придут. Ты созовёшь его от имени главы клана Эвентри. Мы всё ещё свободные бонды, какими нас сделал Анастас, мы имеем на это право. Ты созовёшь их сюда, в замок Эвентри, и скажешь, что намерен пойти на Индабиран, а потом на Одвелл. Это придётся сделать быстро, пока септы Одвелла не узнали о смерти лорда Дэйгона. Пока клан Одвелл обезглавлен, они не решатся на согласованные действия, а Редьярд вряд ли сумеет быстро их объединить — они недостаточно уважают его. Всё это даст нам отсрочку, и мы должны использовать её прежде, чем придёт Фосиган.
— Фосиган? Он… выйдет… против нас?
— Теперь да, — ответил Эд. Теперь, когда получит запоздалое сообщение от почившего с миром лорда Одвелла — да… Фосигану мы тоже надоели. О, боги, как же сильно мы ему надоели, ты и представить себе не можешь, Бертран. — Теперь да, но это оставь мне. Фосиганом займусь я. Ты должен заручиться поддержкой бондов и покончить с Одвеллами. Ты сможешь это сделать.
«Ты именно это сделать и собирался, — добавил бы он, если бы доверял своему брату. — Но теперь сделаешь это не для своего мстительного бога, а для меня».
— Ты должен остаться, — тяжело сказал Бертран. — Если ты объявляешь себя главной клана, Адриан, тебе придётся остаться и самому созвать тинг.
— Я не могу этого сделать. Сейчас я должен отправиться в другое место. Тебе придётся верить мне.
— Я не могу.
«Мой брат. Это — мой брат».
— Что ж, — сказал он. — Тогда не верь. Но делай, во имя Гвидре, как я прошу.
И, не дожидаясь ответа, он протянул руку и прижал свою ладонь ко лбу Бертрана, то ли благословляя, то ли проклиная, то ли силой вырывая клятву, от которой тот не мог отказаться.
— Сделай это хотя бы для Анастаса, ты же знаешь, он бы этого хотел, — прошептал Эд.
Бертран зажмурился, крепко, как делал в детстве, когда Адриан дразнил его, а он не хотел его видеть и не смел прогнать. И сказал, не открывая глаз:
— Гилас проклянет тебя, если ты солжёшь мне.
— Я знаю, — ответил Эд и, убрав ладонь, поцеловал своего младшего брата в покрытый испариной лоб.
Ветер выл и метался в трубе меж стен, которые видели столько предательств и клятвопреступлений, что вполне могли стерпеть ещё одно.
Часть 7 Лиловый принц
1
Теперь они ехали в Эвентри. Прямо в Эвентри, и на сей раз никаких окольных путей — напрямик, кратчайшей дорогой. Скакали быстро, покрывая за день два десятка лиг. Всё это могло бы очень порадовать Адриана, после долгих скитаний возвращавшегося в родовое гнездо.
Но не радовало совершенно.
Лорд Индабиран вёз его на своём коне, усадив в седло перед собой. Он держал поводья обеими руками, сомкнув их у юноши на талии. Руки Адриана, крепко связанные за спиной, были тесно прижаты к холодному металлическому нагруднику лорда Топпера и больно ударялись о него всякий раз, когда конь переходил на галоп. А поскольку таким образом он шёл почти всё время, очень скоро руки пленника от запястий до плеч покрылись синяками. Несколько раз он чуть не падал, но лорд Индабиран всегда успевал поддержать его.
С ним никто не разговаривал. Казалось, ему придавали не больше значения, чем сбежавшему и пойманному крепостному. Это и пугало его, и в то же время приносило небольшое облегчение: вряд ли сейчас он смог бы достойно сносить насмешки своих похитителей. Трое спутников лорда Индабирана были, судя по всему, его слугами. Из их обрывочных разговоров Адриан понял, что они возвращались из Тэйрака, где заручились лояльностью тамошнего эрла. Адриан вспомнил, как несколько недель назад предложил Тому ехать в Эвентри через Тэйрак, и почувствовал глухое отчаяние. Он подумал, что можно попробовать соскользнуть с коня и кинуться в лес, но стоило ему немного поёрзать в седле, как здоровенные ручищи лорда Топпера сжались крепче, вминаясь железными наручами Адриану в предплечья, и ему пришлось утихнуть.
А ещё из разговоров своих захватчиков Адриану стало ясно, что леди Алекзайн получила за него расписку на две тысячи стерциев.
Было уже поздно, и после двух или трёх часов бешеной скачки Индабираны встали на ночлег. Они были в своих цветах и явно не испытывали стеснений в средствах, так что на постоялом дворе их приняли с распростёртыми объятиями. Для лорда Топпера нашлась отдельная комната на втором этаже гостиницы. Один из его людей отвёл туда Адриана. Посадил на пол в дальнем от двери углу, связал пленнику ноги поясным ремнём и ушёл, оставив одного. Оказавшись наконец без надзора, Адриан попытался освободиться, но из этого ничего не вышло — люди Индабирана своё дело знали. Он в отчаянии осмотрелся, пытаясь придумать хоть что-нибудь. В комнате был камин, но он не горел, так что нельзя было устроить пожар. Адриан всё ещё напряжённо искал выход, когда дверь скрипнула и в тёмную комнату, держа в одной руке поднос, а в другой свечу, вошла девочка-служанка. Она обвела комнату настороженным, напряжённым взглядом, заметила лежащего на полу мальчика, заколебалась, но потом всё-таки подошла. Когда она присела перед ним на корточки, он увидел, до чего она бледна.
— Вот… поешь… тебе велели…
Он внимательно посмотрел ей в глаза, и она торопливо опустила взгляд. На подносе у неё был хлеб и тарелка с чем-то вязким и тёмным, истекавшим приятным мясным запахом. Девочка отломила кусок хлеба, обмакнула в похлёбку и нерешительно протянула Адриану.
— Помоги, — глядя мимо хлеба ей в лицо, тихо сказал он. — Помоги мне. Развяжи…
Девчонка вскочила, с грохотом перевернув поднос. Свеча погасла, и Адриан в почти полном мраке увидел кинувшуюся прочь фигурку и услышал торопливый стук башмаков.
Когда дверь захлопнулась, он тяжело вздохнул и тоскливо посмотрел на перевёрнутую миску, валявшуюся на полу. Сглупил, конечно. Хоть бы поел сперва, а потом просил. А теперь вот останется в придачу ко всему ещё и голодным.
Лорд Топпер вскоре поднялся в комнату. Поглядел на Адриана, проверил надёжность его пут. Сказал, ухмыльнувшись:
— Да уж, парень, заставил ты нас побегать.
Потом снял латы и, не раздеваясь, завалился на кровать. Через минуту он уже храпел. А Адриан так и просидел в углу остаток ночи, дрожа от холода и изо всех сил отгоняя волнами накатывавший страх.
Утром ему развязали ноги, отвели вниз, там накормили, заталкивая куски плохо прожаренного мяса ему в рот (на этот раз он не стал отказываться и послушно глотал), после чего вывели во двор, посадили на коня и тронулись дальше.
Погода никак не выправлялась, дождь лил целыми днями, гулко барабаня по латам лорда Индабирана, стекая за шиворот Адриану, а он мог только трясти головой, будто мокрый пёс. На ночлег останавливались ещё дважды, всякий раз так же, как и в первую ночь: Адриана кормили, связывали, ночь он проводил в сырой каморке, дрожа и проклиная толстокожего лорда Индабирана, казалось, вовсе не чувствительного к холоду, потом проваливался в беспокойную дрёму, а утром его везли дальше. Несколько раз по дороге и в трактирах Адриан ловил на себе завистливые, разочарованные взгляды разных людей, обычно довольно потрёпанного вида, — они, кажется, узнавали его и, без сомнения, узнавали цвета Индабиранов в одеждах его конвоиров. Они горевали, что не сумели поймать его первыми и награда уплыла у них из рук. Он ненавидел бы их, если бы рядом с ним не были Индабираны, на которых и так уходила вся его бессильная злость.
На четвёртый день он проснулся с тяжёлой, горящей головой, чувствуя непереносимую ломоту в затёкшем теле, но не мог понять, то ли его лихорадит, то ли он просто ужасно устал от беспрерывной скачки и отсутствия нормального отдыха. Когда на исходе четвёртого дня вдали показались голубые башни замка Эвентри, Адриан не почувствовал ни облегчения, ни отчаяния — только подумал, что совсем иначе представлял себе этот день, когда мечтал о нём в начале лета.
Когда они въехали в замок, поднялся шум, но Адриан плохо понимал, сам ли стал его причиной, или это крестьяне («Мои крестьяне», — подумал он с детской обидой) просто приветствовали возвращение своего нового господина. Адриана сняли с коня и наконец (он испытал приступ острой радости, хотя в глубине души и понимал, как это унизительно) развязали ему руки. Они повисли вдоль его тела, будто тряпки. У него болела каждая косточка, глаза слипались, больше всего на свете ему хотелось оказаться в тёплой постели и свернуться под одеялом. Но этому желанию не было суждено исполниться. Адриан не сразу понял, куда его ведут, подталкивая в спину, — так, словно совсем забыл это место, этот замок, хотя знал его как свои пять пальцев. Когда он осознал, что его ведут в замковую темницу, то едва не заревел (по-детски, снова так по-детски!) от обиды и злости. Это было так несправедливо! Он упёрся и запротестовал, не очень понимая, что именно говорит. Кто-то хрипло хохотнул ему в ухо, и его пробил озноб от этого смешка, странно отчетливого и, как ему почудилось, невероятно громкого. А потом его просто подхватили с двух сторон, оторвали от земли, так что ему оставалось только дёргать ногами в воздухе, и потащили вперёд, и железная дверь с грохотом захлопнулась за его спиной, и вот тогда-то его охватил ужас.
Когда-то очень давно, невероятно давно, когда Адриану было столько лет, сколько сейчас малышу Бертрану, а сам малыш Бертран только-только родился, Адриан пробрался в замковые темницы. Он не помнил толком как — кажется, дверь караулки была приоткрыта, вот он и прошмыгнул туда. Это было запретное место, единственное, где он никогда не бывал, и потому для него было делом чести исследовать наконец эту неизведанную, но тем не менее принадлежащую ему территорию. Он прошёл половину пути по ступенькам вниз, наступил на жирную крысу, заорал от страха — и уже через пять минут был вытащен наверх подоспевшим стражником. Адриан не помнил толком, что говорил отец и как его потом наказали, но то подземелье, ту лестницу, уходящую вниз крутыми витками, он помнил, и сырую чёрную мглу внизу, манящую его незнакомым запахом, и огромную крысу, настолько наглую, что он не удрала из-под его ноги, только злобно пискнула, и ему показалось в тот миг, что сейчас она вцепится ему в лодыжку…
Когда, став старше, он вспоминал об этом, то думал, что именно крыса испугала его больше всего. Вернее, не сама крыса (в кладовых и амбарах их было полно), а её наглость, её полная уверенность в том, что она здесь хозяйка, и он вторгся в её владения.
Темницы Эвентри принадлежали не Эвентри и не Адриану. Они принадлежали крысам.
Всё это пронеслось в голове, пока его волокли по лестнице вниз, а потом бросили в тесную камеру с решёткой вместо двери. В первые мгновения Адриан испытал дикое желание закричать, как тогда, много лет назад, кинуться вперёд и вцепиться стражу в сапог, и кричать, кричать, пока его не заберут отсюда. Но он так ослаб от страха и отчаяния, что не мог пошевелиться и только смотрел, как они запирают решётку и уходят. Шаги стихли, он остался один в полной темноте, на ледяном полу душной маленькой камеры. Он пошарил ладонями вокруг себя, сам не зная, что хочет найти, и его пальцы наткнулись на ледяной металл. Он вздрогнул, отдёрнул руку, но потом пощупал странную поверхность снова. Это была цепь, вделанная в стену на уровне пояса взрослого человека. Заканчивалась она тяжёлыми ножными кандалами. В подземелье иногда сажали бунтующих крестьян, или слуг, дерзивших управляющему, перед поркой. «Интересно, — подумал Адриан, — их заковывали? И как долго вообще тут может просидеть человек, не задохнувшись и не умерев от отчаяния?» Он постарался вспомнить, кого ещё отец сажал сюда, и не смог.
«Ну, — подумал Адриан, — зато я знаю теперь, что тут, внизу».
Он отполз от кандалов в сторону, как можно дальше, и, оказавшись в самом углу, свернулся калачиком. Потом немножко поплакал, не очень долго и не очень сильно. Подумал про крысу — ту самую. Жива ли она ещё? Сколько вообще живут крысы? И что они едят тут, в этом погребе? Узников, конечно. Что ещё тут можно есть? Не кандалы ведь.
Он думал, что эта мысль его испугает, но он слишком устал, ему было слишком плохо, чтобы опять пугаться. Он напрягся, ожидая услышать, как скребутся крысы в своих норах, как капает вода с влажного потолка, но не услышал вообще ничего. Тогда он обхватил колени руками, крепко вжимаясь спиной в ледяную стену, и уснул, подумав напоследок про Тома и про то, что так и не смог ему помочь.
Он просыпался несколько раз и тут же засыпал снова, даже не меняя позы. Ему больше не было холодно, наоборот, стало жарко, и он выпростал из штанов грязную, насквозь мокрую рубашку. Хотел снять её, но почему-то не сумел — руки как будто одеревенели. Один раз ему показалось, что он слышит голос Алекзайн, далёкий, слабый, настойчивый. Он не пытался откликнуться на зов — только крепко зажмурился, стиснув зубы до боли в челюстях. Разговаривать с ней? Вот ещё. Он не собирался с ней разговаривать. Том ему это запретил, дважды запретил, а в третий раз Том ничего не повторяет. «Как хорошо, — подумал Адриан, — что нету Тома, и как жаль, что нету Тома», — и снова уснул.
В следующий раз кто-то тряс его за плечо и звал, и Адриан удивился, как это Алекзайн умудряется трясти его за плечо, когда он тут, а она — неизвестно где. И всё же он вяло отмахнулся от того, кто его тормошил, — ему по-прежнему ужасно хотелось спать, и по-прежнему всё болело, ему было неприятно и больно, когда к нему прикасались. Но тот, кто нарушил его долгожданный покой, был безжалостен: Адриана поставили на ноги и опять повели вперёд. Он едва не захныкал от обиды (ну когда, когда его все оставят, наконец, в покое!), но в последний миг вспомнил, кто он и где он, и сдержался. Он — Адриан Эвентри, и он в плену в замке Эвентри. В своём собственном замке. И он не будет хныкать и жаловаться. Нет.
Он вскинул голову, так высоко, как мог, и тут его вытащили на свет, и ему почудилось, словно по его глазным яблокам ударили кузнечным молотом. Адриан покачнулся и, вскрикнув, прикрыл лицо локтем — но его руку рывком опустили, заломили, и потащили его вперёд.
И тогда он почувствовал злость — такую глубокую, такую испепеляющую, какой не испытывал никогда в жизни.
— Да хватит уже, пустите меня! Я могу идти сам! — закричал он со всей силой и всей яростью, какие только мог вложить в крик. И с ужасом, переходящим в панику, понял, что сейчас расплачется, опять расплачется, как маленький, если они его не отпустят.
И в этот самый миг в мешанине голосов, движущихся теней и рваных пятен света услышал ровный и ясный голос:
— Пустите его.
Руки на его плечах и локтях неохотно разжались. Адриан запоздало дёрнулся, так, как будто бы вырвался сам, и подумал, что, наверное, выглядит ужасно глупо. Он пошатнулся, чуть не потерял равновесие, но кто-то придержал его — совсем не так, как придерживали стражники или Топпер Индабиран, когда вёз его, связанного, на своём седле. Нет, рука, которая придержала его сейчас, была совсем другой, совсем… такой мягкой, хотя и крепкой, такой тёплой и надёжной, такой…
— Том? — прошептал Адриан, и слёзы всё-таки потекли по его щекам — слёзы облегчения, радости и вины. «Прости меня, Том, я снова набедокурил, я так виноват…»
Молодой мужчина с гладко выбритым, красивым лицом, со спадающими на лоб тёмными волосами, с маленьким родимым пятном в уголке левого глаза, которое почему-то совсем его не портило, обернулся через плечо и сказал, всё ещё держа Адриана за плечи своими сильными тёплыми руками:
— Вы в своём уме, Индабиран? Он же ещё совсем ребёнок!
Голос у него был выше и чище, чем у Тома. Он был моложе Тома. Тоньше, изящнее, мягче Тома. Том ходил в бесцветных обносках, а на этом человеке была лиловая куртка и тёмно-фиолетовые брюки, заправленные в высокие сапоги, и ярко-белая сорочка, и лиловый плащ с белой подкладкой. И всё же это был Том. Каким-то непостижимым образом это был Том. Хотя у Тома, насколько помнил Адриан, не было маленького родимого пятна в уголке левого глаза.
Одна из тёплых крепких рук отпустила его плечо и взяла Адриана за подбородок. Он не попытался отнять голову, и несколько мгновений человек, похожий и не похожий на Тома, пристально смотрел ему в лицо. Потом его рука выпустила подбородок Адриана и быстрым движением прошлась по его щеке, убирая пряди, прилипшие к мокрой коже.
— У него жар. Вы гоняетесь за ним по всему Бертану, а когда наконец поймали, делаете всё, чтобы сжить со свету. Не могу не оценить ваше рвение, но нельзя же быть таким кретином. Что толку от мёртвого заложника?
— Милорд…
Адриан увидел лорда Топпера, такого же большого и массивного, как и прежде, только теперь без доспехов, смущённо переминавшегося с ноги на ногу перед юношей, который был вдвое его моложе и которому он мог бы переломить хребет одним ударом. Этот юноша, казалось Адриану, похож на принца из сказки. В далёких странах, рассказывала ему няня, есть короли, а сыновья королей называются принцы, они всегда очень красивы, ходят в шелках и никогда не воюют, если только им не нужно спасти свою возлюбленную от дракона. Адриан не знал, кто такие драконы. Няня умерла от чёрной оспы и не успела рассказать.
— Милорд, я полагал, что важнее всего надёжность…
— Вы всерьёз думаете, что этот мальчик сбежал бы от вас, если бы вы не посадили его в темницу? В таком состоянии? Если вы столь дурного мнения о ваших часовых, Индабиран, велите их повесить, и дело с концом.
— Мы так долго его искали, — краснея от стыда и гнева, сказал лорд Топпер. — Вы сами знаете, лэрд Рейнальд, как он важен. Я решил…
— Хвала Мологу, теперь я здесь, и решаете не вы, — отрезал принц в бело-лиловом плаще, и его ладонь наконец отпустила лицо Адриана, а другая рука оставила его плечо. Адриану стало неуютно, ему было так хорошо чувствовать эти надёжные тёплые руки. — Касприн, немедленно отведите мальчика в нормальное помещение. Какая-нибудь из спален в замке вполне подойдёт. Проследите, чтобы там был камин, и велите хорошенько протопить. Положите его в постель и немедленно пришлите к нему лекаря. А вы, Индабиран, — сказал он лорду Топперу, когда кто-то взял Адриана под локоть и повёл в сторону, — молитесь вашим богам, чтобы парень не умер. Судя по его состоянию, до этого недалеко. Сколько вы продержали его в подземелье?
Ответа Адриан не услышал и не особенно этому огорчился. Он понял только одно: в темницу он не вернётся. Крыса может быть совершенно спокойна за неприкосновенность своих угодий. Он жалел только о том, что не мог ей об этом сказать, и ещё о том, что так и не узнал, жива она ещё или нет.
С этой тревожной мыслью Адриан Эвентри тяжело вздохнул и наконец потерял сознание.
Когда он открыл глаза и увидел над собой тёмно-бордовый прямоугольник балдахина с силуэтом орла, вышитого золотистой нитью, первой его мыслью было: «Анастас меня убьёт!» Он однажды уже просыпался вот так, в этом самом месте, и именно с этой мыслью. Тогда он тоже болел — но не оспой, нет, это была не оспа, просто он слёг с простудой, и мать велела перевести его в отдельные покои, чтобы он не заразил младших. На время болезни ему отдали комнату старшего брата, а самого Анастаса временно переселили к Ричарду. В то утро Адриан открыл глаза и подумал, что Анастас, должно быть, страшно зол на него за то, что он так бесцеремонно вторгся в его владения. Во всяком случае, Адриан на его месте злился бы ужасно. И когда в тот же день Анастас заглянул навестить его и поймал его затравленный взгляд из-под натянутого на самый нос одеяла, то даже не стал ничего спрашивать, только взъерошил ему волосы и сказал странным, непривычно низким голосом: «Ну и дурачина же ты, братишка».
Но всё равно даже теперь, через несколько лет, когда Адриан снова проснулся в этой комнате, первая его мысль была точно такой же.
А второй мыслью было: «Я дома!» Он ведь знал, он помнил этот балдахин, и гобелен со сценой соколиной охоты на противоположной стене.
А потом он вынырнул из дрёмы, перевитой смутными то ли снами, то ли воспоминаниями, и проснулся окончательно.
Ставни были закрыты, и в комнате, ещё недавно принадлежавшей Анастасу Эвентри, царил сумрак, разрываемый красноватым светом пламени, потрескивавшего в камине. Адриан медленно выполз из-под тёплого стёганого одеяла, оглядываясь так, словно видел это место в первый раз. Нет сомнений, гобелен тот же самый. И стол с резным креслом у окна. И небольшой комод у стены. В прошлый раз, когда Адриан проснулся в этой комнате, Анастас сказал, сразу после того, как взъерошил ему волосы: «А вот если в комод полезешь — точно прибью». После такого заявления Адриан, прежде не обративший на скучную мебель никакого внимания, немедленно полез в комод, едва дождавшись ухода брата…
Адриан встал и, покачнувшись, ухватился за столбик кровати. Голова уже не горела, и в груди почти перестало ныть, он больше не кашлял, но чувствовал ужасную слабость во всём теле. В комнате пахло гарью, путом и лекарствами. С трудом добравшись до окна, Адриан вцепился в подоконник, постоял немного, восстанавливая силы, а потом открыл ставни.
Окна в комнате Анастаса выходили во внутренний двор. Адриан видел кузницу, часть амбара и калитку в крепостной стене, не охраняемую, но забранную засовами и заставленную телегой, на которой громоздилось оружие. То же самое он мог бы видеть из детской спальни этажом выше, если бы там оказался. По двору сновали люди, никто из них не смотрел вверх и не мог встретиться с ним взглядом. У стены рядом с кузницей всё ещё валялась деревянная колода — та самая, на которой они с Анастасом сидели после семейного совета. Анастас курил и говорил что-то, чего Адриан теперь никак не мог вспомнить. Но помнил лицо брата, мечтательное, со слегка прищуренными глазами, в пелене дыма. И помнил, как тепло ему было, когда он смотрел на это лицо. И ещё помнил, как стало холодно при воспоминании о нём позже, когда Бетани сказала…
«Я дома, — подумал Адриан. — Я так хотел домой, и вот я дома».
Он почувствовал, как дрожат его плечи, но ничего не смог с этим сделать. Он думал об Анастасе, о Бетани, об Алисии, о Бертране, о Ричарде-младшем, об отце, о маме. О маме, когда она брала его на руки, совсем маленького, и называла «Адо». Адриан Эвентри стоял у окна в комнате, больше не принадлежавшей его брату, в замке, отобранном у его рода, и думал о своей семье, думал впервые с того дня, как покинул их, думал о каждом из тех, кто обижал его и не замечал, думал, что любит их всех. И впервые он думал о том, что, скорее всего, больше никого из них никогда не увидит. Отца и Ричарда — точно не увидит, и маму тоже, и Бертрана, и девочек… И он никогда не подозревал, что даже думать об этом может быть так больно.
«Я как будто верил, что вот вернусь — и они тоже вернутся, — подумал он, проводя ладонью по мокрому лицу. — И всё вернётся, всё станет, как было. О Гвидре, о чём я только думал?»
Он сглотнул слёзы и, прерывисто вздохнув, повернулся. Дневной свет выхватил из темноты углы комнаты, и Адриан увидел, что на комоде лежит одежда. Он вздрогнул, только теперь заметив, что раздет почти донага — на нём была только ночная сорочка. Он не помнил, кто и когда его переодел. Он вообще ничего не помнил, не знал даже, какой сегодня день. Адриан взглянул на дверь. Вряд ли стоило тешить себя иллюзиями, но он всё же попытался. Заперто, конечно. Он обречённо подёргал ручку и снова посмотрел на одежду. Что-то в ней его смущало. Он заставил себя сдвинуться с места и, подойдя ближе, взял в руки то, что лежало на комоде.
Это был очень добротный, отлично сшитый костюм — точно по его мерке. Белоснежная батистовая сорочка, куртка и брюки из красной замши, тёмно-красный плащ, отделанный белым кроличьим мехом, перчатки и пояс из белой кожи, небольшая шапочка с залихватски загнутыми полями и белым пером. И лоснящиеся, до блеска начищенные сапоги из кожи винного цвета на полу.
Хороший крой. Дорогие ткани. Цвета его клана.
Адриан услышал шелест ткани в своих руках и понял, что изо всех сил стискивает кулаки. Опомнившись, слегка разжал руки. У него никогда не было такой красивой одежды. В последние годы денежные дела Эвентри шли неважно, и Адриан донашивал обноски Анастаса. У него был один парадный костюм красного и белого цветов, сшитый специально для него, который полагалось надевать на торжества. Да только торжества случались редко, и мать запрещала Адриану носить эту одежду без особого повода. Большую часть времени он бегал в простой рубашке и штанах, в обычных башмаках, как простолюдин. А в последние месяцы так и вовсе выглядел как последний нищий…
И вот теперь отчего-то Индабираны, стремившиеся уничтожить его клан, решили разодеть своего пленника, словно конунгова сына.
«Или это не Индабираны, — подумал Адриан. — Это тот… принц. Так похожий на Тома. В белом и лиловом».
Цвета Одвеллов.
— Не рано ли вам вставать с постели, юноша?
Адриан обернулся, невольно разжимая руки. Батистовая сорочка, треснувшая в его подрагивающих руках по шву между рукавом и горловиной, скользнула на пол. Мужчина, вошедший в комнату, неодобрительно покачал головой.
— Ну-ка ложитесь в постель, сударь. Я не для того вытаскивал вас из могилы, чтобы вы теперь пустили насмарку все мои труды.
Он говорил спокойно, негромким приятным голосом, с напускной строгостью. У него было полное лицо и живые лучистые глаза. Адриан смотрел на него широко распахнутыми глазами, не в силах двинуться с места. Всё происходящее казалось ему наваждением, продолжением недавнего сна. Сейчас дверь за спиной этого человека откроется, войдёт Анастас и… и Алекзайн следом за ним.
— Вы меня не помните?
Лекарь, успевший подойти и положить ему на плечо свою мягкую ладонь, остановился и пристально посмотрел ему в лицо.
— Мы встречались в Скортиаре, — настойчиво напомнил Адриан. — В середине лета. У леди Алекзайн.
В ясных глазах лекаря промелькнуло лёгкое удивление.
— В самом деле, — проговорил он. — Теперь я вспомнил. Надо же… А я всё думал, отчего ты кажешься мне знакомым. Но тогда ты не был таким худым и не умирал от воспаления лёгких, так что немудрено, что я тебя не сразу признал. Что ж, приятно вновь встретиться. А теперь в постель.
Адриан подчинился, чувствуя необъяснимое возбуждение. Отчего-то его взбудоражило это совпадение.
— Что вы здесь делаете? — спросил он, пока лекарь щупал его лоб и узлы, вздувшиеся под кожей на шее.
— То же, что и везде, по мере сил. Лечу. Открой рот и покашляй.
Адриан снова подчинился, а когда лекарь отстранился от него, быстро спросил:
— Вы знаете, кто я?
— Как ты спал? По нужде ходил сегодня?
— Проклятье, да ответьте же мне!
— Простыни насквозь мокрые, — пробормотал лекарь, проводя рукой по постели. — Почему они убрали от тебя сиделку?
— Сиделку? — Адриан заморгал. — О чём вы…
Но он не договорил, потому что в памяти тут же всплыла худенькая фигурка, бледное личико, срывающийся голос, и страх в глазах становится ещё отчётливее… На миг ему показалось, что это та самая девочка, которую он просил помочь ему далеко отсюда, в трактире. А потом он понял, что у неё лицо Вилмы.
— Что с тобой, мальчик? Тебе дурно? — Мягкая ладонь снова легла на его лоб. «Мягкая, — подумал Адриан отрешённо. — Никаких мозолей. Ах да, он же бережёт свои руки, этот человек».
— Не помню никакой сиделки, — проговорил он, отводя руку мужчины от своего лба. — Я проснулся только что и был один. И я здоров.
— Ещё не до конца, но уже почти, да. Хотя это и довольно странно… Однако вставать тебе всё равно рано. Ты должен будешь…
— Вы знаете, что я Адриан Эвентри? — резко спросил он. — Знаете или нет?
Лекарь слегка отстранился от него. Его глаза были такими же удивлённо-равнодушными, как несколько недель назад, когда Адриан обвинял его в бездействии в то время, когда забулдыга в деревенской таверне приставал к Вилме.
— Да, мне сказали.
— Вы ненавидите меня?
— Нет. С чего ты взял?
— Почему же вы служите Индабиранам?
— Я не служу им, мальчик. Я шёл через этот фьев, и мне нужно было где-то остановиться. Здешние трактиры сейчас неприветливы, к тому же, — в его голосе зазвучало раздражение, — мне пришлось столкнуться со сборщиком податей в Логфорде, и у меня просто нет средств на постой в тавернах. А здесь к тому же была возможность подзаработать.
— Почему Индабираны не прислали ко мне своего лекаря?
— Он отказался тобой заниматься. Отворил тебе кровь и предложил лэрду Одвеллу помолиться богам. Лэрд Одвелл предложил ему помолиться своим и велел повесить.
Адриан заморгал. Лекарь коротко улыбнулся при виде его растерянности.
— Не кори себя, мальчик. Он был плохим врачом. Тебе повезло, что я оказался поблизости.
— Вы тоже отворяли мне кровь?
Лекарь рассмеялся.
— Ну уж нет, одного раза с тебя более чем достаточно! Тебе ставили компрессы и поили травами. Я никому из своих пациентов не отворяю кровь. Это устаревшая метода.
— А оспу? Её вы как лечите?
Было что-то странное в этом мгновении. Они оба это почувствовали: равнодушная невозмутимость впервые исчезла, на лице лекаря появилось слегка встревоженное выражение — так, словно кто-то узнал его тайну, которую он пытался скрыть. А Адриан думал, что ему нужно изыскать способ сбежать отсюда, может быть с помощью этого человека, коль скоро он не слуга Одвеллов. Но вместо этого он задавал ему какие-то совершенно нелепые вопросы о том, что на самом деле не имело никакого значения…
И всё же он спросил ещё раз, тихо, но с нажимом, не давая возможности уйти от ответа:
— Как вы лечите чёрную оспу, сударь?
— Странный вопрос для мальчика твоих лет… и твоего положения, — произнёс лекарь. — Но отвечу. Я пока что никак её не лечу. У меня есть одна теория, но… тебе это ни к чему. Я сейчас узнаю, почему ушла сиделка, она принесёт тебе травы, выпей и поспи.
— Miale kelu, — сказал Адриан, — nostro ortedzhi karune, al’tazaro otro.
— Что? — лекарь резко встал. Он глядел на Адриана так, словно тот вслух молился Мологу.
— Mielane kirpin, suleno ordan biene, letorgo, leturae it nardo. Kropastiamino ed spedra kal’nioza brusta. Kropastia mino ed spedra kal’nioza brusta, riverrado al’dano, it orpio, it narue. Dra fiosa lienne rista, ed miale kkelu ariona dar Battiia Rosa. Там дальше было ещё. Мне продолжать?
— Довольно. У тебя превосходная память. Кто велел тебе это выучить?
— Никто. Я сам. Жалею теперь, что не взял ту книгу с собой. — Адриан помолчал. Лежать в постели было тепло и почти спокойно, он устал от движения, его клонило в сон. Но он продолжал: — Я это выучил, но не знаю, что оно означает. Вы ведь именно это переписывали, да? Эту книгу… она не захотела вам отдать?
Лекарь странно дёрнул уголками рта, словно откусил от кислого яблока.
— Почему ты так интересуешься оспой? Леди Алекзайн знала об этом?
Адриан рассмеялся. Смех сразу перешёл в кашель. Он с трудом отдышался.
— Знала. Ещё бы, — хрипло сказал он и резко добавил: — Это её стараниями я здесь. И не удивлюсь, если её стараниями теперь говорю с вами.
— Что ты имеешь в виду?
— Не важно. Ради всего святого, сударь, ради Гилас, скажите мне, что было написано в этой книге.
Лекарь в нерешительности опустился на край кровати. Маска равнодушия наконец слетела с него, но он не выглядел особенно уверенным. Адриан слушал то, что он говорил дальше, запоминая каждое слово, с жадным, болезненным вниманием. Он никого никогда не слушал так прежде. Только её.
— Эту книгу привезли из-за моря два десятилетия назад, как раз после эпидемии. Насколько я знаю, в этой части мира она существует в единственном экземпляре. Её написали в Фарии, далёкой западной земле. Говорят, что оспу там сумели победить, и не только оспу, но и прочие заразные болезни. В этой книге описано, как. Когда жрецы Гилас узнали про этот трактат, они велели отыскать его и сжечь. Хранить его запрещено. Храмовники считают ересью то, что там написано. И они никогда не допустят, чтобы кто-либо попытался воплотить это в жизнь.
— И что же это? — нетерпеливо спросил Адриан.
Лекарь вздохнул.
— Тебе, думаю, это покажется кощунством. Ты, возможно, знаешь, что коровы тоже болеют оспой. Суть в том, что на теле больного животного надлежит сделать разрез — желательно на месте одного из чирьев. Гной, добытый оттуда, нужно смешать с определёнными травами и развести всё это в воде, смешанной с золой. Затем нужно сделать надрез на теле здорового человека и помазать ранку этой смесью…
— То есть… заразить его оспой?!
— Да. Но это не та хворь, от которой умирают. Травы и зола в смеси ослабляют силу заразы, содержащейся в гное больного. И здоровому передаётся ослабленная, стреноженная оспа. Её он может побороть. Он заболеет, но не так уж сильно, и быстро встанет на ноги, у него даже не останется оспин после такой болезни. И настоящий мор после этого уже его не возьмёт. Это называется прививание.
Адриан слушал не сглатывая. Потом покачал головой.
— Но это же… как убийство. Это не лечение, а наоборот! А что если человек всё-таки умрёт?! Как можно лечить, заражая?!
— Вот именно это и говорят наши лекари и жрецы Гилас, — усмехнулся лекарь. — Надо заметить, о чёрной оспе они знают не больше, чем ты, мальчик.
Адриан покраснел. В самом деле, нашёлся тоже, учёный муж. Но всё равно то, что он узнал, звучало невероятно. Никто никогда не согласится, чтобы его намеренно заразили оспой, даже если ему пообещают, что он от этого не умрёт. Это нелепость. Должен быть другой путь.
— Зачем вы это изучаете? Ведь вам никогда не позволят этим заниматься!
— Мне — нет, — сухо сказал лекарь. — Но я надеюсь, что, быть может, следующее поколение будет мудрее. Может, ещё один экземпляр «Miale Allerum» однажды попадёт в Бертан. И, может, однажды мы получим достаточно образованного и мудрого конунга, который сумеет сломить сопротивление жрецов и позволит испробовать прививание. А также согласится выделить солдат, которые будут связывать пациентов, чтобы не вырвались и не убежали от своего спасения. — Он рассмеялся, скорее горько, чем весело. Адриан напряжённо слушал его, изо всех сил пытаясь запомнить сказанное как можно точнее. Мысли неслись в его голове с дикой скоростью, налетая одна на другую. Алекзайн тоже говорила про конунга. Говорила, что он должен дать Адриану корабли. Что надо убить тех, кто приносит мор с востока. Но что, если мор однажды придёт из другого места — с юга или с севера? Что, тогда снова поднимать корабли? Куда как надёжнее построить защитную стену, чем совершать бесконечные набеги на неведомых врагов, грозящих твоему дому… но только всё равно это безумие. Даже конунг не сможет заставить людей добровольно принимать в своё тело болезнь. Разве что если они будут очень доверять этому конунгу.
— Что такое Battia Rosa?
— Чёрная оспа, конечно. Что же ещё это может значить? — сказал лекарь и вдруг улыбнулся. — Но меня в самом деле удивляет, что ты задаёшь мне все эти вопросы. Ты и впрямь ещё не до конца оправился. Тебе нужно поспать.
— Вы можете переписать для меня эту книгу? То, что успели переписать у леди Алекзайн? Или дайте мне, я сам перепишу. Пожалуйста!
Он подался вперёд и схватил мужчину за руку; у него снова горела голова, он дрожал, он знал, что должен сделать, и в то же время совершенно не знал, как этого добиться. Но теперь всё встало на свои места. От начала и до конца.
Лекарь не отнял свою руку и не повторил, что ему нужно отдохнуть. Только смотрел на Адриана странным, задумчивым взглядом. Потом проговорил:
— Я останусь тут ещё какое-то время. Лэрд Одвелл очень добр ко мне. К тебе, как я понимаю, тоже. Если он позволит, я думаю, ты сможешь переписать её. Когда окрепнешь. Хотя если она так интересует тебя, ты мог попросить у своей леди.
— Она не моя леди, — сказал Адриан.
И тут же понял, что это глупо. Глупо обвинять её, даже если она заслуживала обвинений. Он собирался сделать то, что она ему велела, и по непостижимой причине верил, что справится. Он как будто забыл, где находится, в чьей он власти, забыл собственное имя. Он думал лишь о том, что только что услышал. И о том, что если теперь забудет это и выкинет из головы, то тысячи тысяч жизней будут на его совести. Ведь он узнал, как их можно спасти, и отмахнулся от этого шанса, не поверил в него, ничего не сделал. И значит, он в ответе за это.
Адриан подумал об Анастасе, о маме, о Вилме, о том, что не хочет больше быть в ответе за беды, случающиеся с другими.
Когда лекарь ушёл, он лёг и закрыл глаза.
2
Он проспал несколько часов и был разбужен угрюмым незнакомым слугой, сообщившим, что костоправ велел выпить настой. Он так и сказал — «костоправ». Адриан не знал этого слугу: наверное, он был из людей Индабирана. Он не стал спорить и выпил, сонно моргая слипающимися глазами. Вкус был смутно знакомый; кажется, его уже поили этим прежде, когда он был в горячке.
Слуга забрал чашку и спросил, хочет ли Адриан есть. Адриан сказал, что не хочет, а когда слуга ушёл, понял, что солгал. Просто ему никогда не хотелось есть сразу после пробуждения, и сейчас он не разобрался со сна, голоден или нет. Это мысль его рассердила. Ну вот, придётся терпеть, пока снова спросят. Можно было, конечно, попросить, но он помнил, что является здесь пленником, и просить ни о чём не собирался. Только тоскливо посмотрел в окно, затянутое малиновой пеленой сумерек.
Дверь снова скрипнула, и Адриан обернулся, втайне надеясь, что это вернулся угрюмый слуга, но вместо него в комнату вошёл человек, которого Адриан видел во дворе замка несколько дней назад. Тот, кто трогал его лоб и смотрел на него со смесью жалости и возмущения, адресованного, впрочем, не ему. Тот, кто был так похож и так не похож на Тома.
Лиловый принц.
— Добрый вечер, Адриан, — сказал Рейнальд Одвелл, подходя к кровати. На этот раз он не надел свои цвета; на нём был простой, элегантный домашний костюм цвета тёмного мёда. У младшего брата Тома была открытая, невероятно обаятельная улыбка, на которую просто невозможно было не ответить — особенно когда её обладатель не носил цвета Одвеллов.
Отчего, впрочем, Одвеллом быть не переставал.
Адриан сел в постели, пытаясь скрыть обескураженность. Он долгого сна и общего упадка сил, последовавшего за изнурительной болезнью, он совсем растерялся и не знал теперь, как вести себя с этим человеком. Тот отодвинул кресло, предназначенное, видимо, для врача, и, сделав успокаивающий жест ладонью, опустился в него.
— Всё в порядке. Лежи. Я не хочу тебя беспокоить.
Адриан ощутил, что у него пересохло в горле, и сглотнул. Он всё ещё лежал на влажных смятых простынях, в одной ночной сорочке. Он не чувствовал неловкости или стыда, нет… что-то другое. Сам он не смог бы подыскать этому название, но на самом деле это было чувство уязвимости перед врагом, в чьей полной власти он находился. И это чувство не нравилось Адриану Эвентри. Никогда не нравилось.
— Вы позволите мне одеться? — наконец сказал он.
Голос прозвучал на удивление ровно. Брови Рейнальда Одвелла удивлённо приподнялись, словно его порядком озадачил этот вопрос.
— Ни к чему. Ты ещё слаб. Лежи, я не займу тебя надолго…
— Если вы будете столь любезны, — очень вежливо сказал Адриан, собрав в кулак всю свою волю и призвав на помощь все уроки манер, которые ему когда-либо преподавали, — то я бы всё же хотел одеться.
В последовавшей паузе было больше напряжения, чем ожидания. И, как смутно ощутил Адриан, была ещё настороженность — со стороны Рейнальда, и враждебность — с его собственной стороны. Они молчали дольше, чем требовала ситуация, словно каждый из них заново оценивал противника. Потом лэрд Одвелл коротко кивнул, и у Адриана внутри всё скрутилось от этого жеста. Лэрд Одвелл позволял своему пленнику принять перед ним менее униженный вид. Любезность победителя, не более того.
Адриан неуклюже выбрался из постели, путаясь в простынях. Обогнул кровать так, чтобы не пришлось проходить мимо сидящего в кресле Одвелла, и взял одежду, по-прежнему лежавшую на комоде. Украдкой бросил взгляд через плечо. Рейнальд скучающе смотрел в окно, его длинные, тонкие, унизанные перстнями пальцы лениво барабанили по подлокотнику. Не похоже, чтобы он куда-то торопился. Адриан поспешно и воровато стащил через голову пропахшую путом ночную сорочку, мимолётно подумав, как славно было бы помыться, и натянул рубашку, брюки и сапоги. Рубашка треснула у плеча, но всё равно — прохлада свежей одежды как будто немного остудила его возбуждение. Он быстро окинул себя взглядом. Без куртки, шапки и плаща костюм казался почти нейтральных, не вызывающих тонов. Так мог бы одеться любой богатый, но незнатный человек, не принадлежащий к определённому клану. Украдкой вздохнув, Адриан повернулся к своему пленителю. Тот уловил движение краем глаза и повернул голову. Его взгляд был оценивающим. Адриан слегка покраснел, надеясь про себя, что сумерки скрадут румянец.
Рейнальд Одвелл поднялся и шагнул к нему.
— Тебя никогда не учили расправлять воротник? — спросил он, и, прежде чем Адриан успел возразить, гибкие пальцы завернули и разгладили ворот сорочки, отогнув его у горловины. Это был какой-то особенной крой, Адриан никогда не носил такой одежды и не знал, как должно быть правильно. Он снова почувствовал себя униженным и с трудом удержался от того, чтобы отбросить от себя эти руки, управлявшиеся с его туалетом со сноровкой бывалого камердинера.
— А это что? Ты уже порвал? Когда успел? — Рейнальд Одвелл беззлобно усмехнулся и пробормотал: — Мальчишки…
— Вы имели что-то сказать мне, сударь?
Улыбка Одвелла стала чуть шире. Он убрал руки от воротника Адриана и отстранился.
— Присядь.
— Здесь только одно кресло. По долгу хозяина дома предоставляю его вам, сударь.
Он сказал это и поразился собственной смелости. Лэрд Одвелл вполне разделял его изумление. Адриан ждал вспышки гнева, может быть, пощёчины за дерзость, но вместо этого Рейнальд Одвелл снова улыбнулся.
— Я мог бы многое ответить тебе на это, — сказал он. — Но это было бы низко с моей стороны. Потому я промолчу и воспользуюсь твоим гостеприимным предложением.
Он вернулся в кресло, как будто ужасно довольный началом беседы. Адриан не мог взять в толк, что ему нужно, и от того нервничал сильнее с каждой минутой. Теперь ему некуда было сесть — не на кровать же? — и он остался на ногах.
— Вижу, усилия мэтра Лорана даром не прошли. Ты хорошо себя чувствуешь?
— Мэтра Лорана?.. Это кто?
— Это лекарь, который тебя пользовал. Лучший, какого я видал на своём веку. Ты ни в чём не нуждаешься?
— Как давно я здесь?
— Двенадцать дней. Не считая тех двух суток, что ты провёл в подземелье стараниями этого кретина Индабирана, — Рейнальд поморщился при этом имени, словно от одного его звучания во рту становилось кисло.
— Кто тут был со мной? — спросил Адриан; он не собирался, вырвалось словно само собой. — Я знаю, была какая-то сиделка… что с ней стало?
— Была, — кивнул Рейнальд. — Одна из горничных, я приставил её в помощь мэтру Лорану. Должна была ходить за тобой. Ты её не помнишь?
Адриан помотал головой. Слова о двенадцати днях оглушили его, он не мог поверить в услышанное. Так долго! Ему казалось, он потерял сознание во дворе замка и сразу очнулся в постели.
— Ты бредил, — пояснил лэрд Одвелл, — и ей померещилось, будто ты одержим бесом. Вылетела отсюда с криком, что и на верёвке её к тебе не подтащат. Не стоило ей так говорить…
— Вы её повесили?! — ужаснулся Адриан, вспомнив о судьбе незадачливого лекаря Индабиранов. О боги, ещё и за это ему быть в ответе…
Рейнальд Одвелл рассмеялся, развеяв его тревогу.
— Не бойся. Она всего лишь деревенская дура, что с неё взять? Штопать и стирать она умеет, а ходить за больными её не учили. Навоображала невесть чего… отделалась поркой. Сурово, я знаю, но, пойми меня, мальчик, новым хозяевам этого замка приходится держать прислугу в строгости. Риск бунта всё ещё остаётся, хотя он уже и не так велик, как прежде.
Адриан смотрел на него расширившимися глазами. Как запросто этот человек, этот вор, убийца и вероломный предатель говорит с ним о том, каково удерживать в руках награбленное! Бунт среди слуг? А это идея, мелькнула у Адриана безумная мысль. Я мог бы помочь Анастасу, коль скоро уж оказался здесь. Действовать изнутри, из тыла врага…
Но следующий его вопрос, снова вырвавшийся будто сам по себе, не имел никакого отношения к планам побега.
— Что я говорил? Чего… чего она так испугалась?
Лэрд Одвелл пожал плечами.
— Меня при этом не было, да и девку я не особо спрашивал. Она болтала что-то о Яноне и Мологе. Должно быть, ты поминал этих богов. Кстати, почему? Ведь твой род почитает Гвидре? Или ты сменил культ?
Адриан слушал, чувствуя, как гулко стучит кровь в висках. Потом сказал пересохшими губами:
— Нет. Я почитаю Милосердного Гвидре. Это вы и ваш проклятый клан молитесь Мологу, столь же дурному, как вы сами.
Он ждал в ответ окрика или взрыва хохота, но Рейнальд Одвелл лишь внимательно посмотрел ему в глаза. Так похож на Тома… и так не похож. «Может, — подумал Адриан, — сказать ему, что я знаю его старшего брата? Тот тоже походя поминает Молога так, словно совсем его не боится. Как можно не бояться дьявола? Вот я, — думал Адриан, — Милосердного Гвидре — и то боюсь. Потому что на деле вышло, что не так-то уж он и милосерден».
— Ты богобоязнен? — поинтересовался Одвелл.
Адриан, не ждавший такого вопроса, вновь растерялся. Он не знал, что ответить. Рейнальд усмехнулся.
— Понятно. Как и многие южане, ты предпочитаешь верить сердцем, а не думать головой. Не гневайся на меня, но я скажу, что именно это принесло беду твоему клану.
— Беду моему клану принесли вы и ваши септы!
Рейнальд Одвелл вздохнул и, поставив локти на подлокотники кресла, сплёл пальцы.
— Это верно. Именно об этом я и хотел поговорить с тобой… Адриан Эвентри.
И опять он загнал Адриана в тупик. Всё это было так странно. Адриан ждал от него мелочной жестокости Элжерона, ленивой грубости Топпера Индабирана, на худой конец, ледяной надменности Тома — это было всё, что он знал о зле в реальном мире. Но то зло, что он видел сейчас перед собой, было совсем другим, совсем на зло не походило. Адриан вспомнил, как Рейнальд расправлял ворот его рубашки, и сглотнул. Он неожиданно пожалел, что ему негде сесть.
— Мой отец считает, — вполголоса заговорил лэрд Одвелл, — что наш великий предок, лорд Зигмунд, подложил нам большую свинью, приняв поклонение Мологу. Это было разумно и оправдано со многих точек зрения, но людское суеверие не слабеет с веками. Люди как прежде чурались мологопоклонников, так и ныне чураются. А что ты знаешь о Мологе? Чему тебя учили?
— Вас, должно быть, учили иначе, — напряжённо ответил Адриан.
Рейнальд рассмеялся, легко и беспечно.
— Не думаю. Молог — он Молог и есть. Одно из двух изначальных божеств, существовавших всегда. Пока Гилас царила в небе, Молог царил на земле, и Великая Тьма гуляла меж землёй и небом, знаменуя границу их владений. Но свет Гилас, рассеивавший даже эту Тьму, достигал земли и притягивал взор Молога. Множество раз просил Молог Гилас спуститься к нему и подарить земле часть света, что она дарит небесам, но всегда отказывала Гилас, презирая земное. И тогда однажды Молог выследил её, и потянулся, и схватил, и стащил с небес на землю, где взял силой её тело и её свет. Взял силой то, что прежде просил и в чём ему безосновательно отказали. Что из этого вышло, знаешь, Адриан Эвентри?
Он как будто был замковым жрецом, учившим его и спрашивавшим теперь урок. Адриан сжал зубы.
— Всякий знает. Гилас навеки прокляла Молога и…
— И понесла от него детей, — безмятежно закончил Рейнальд. — Понесла и родила через тысячу лет десятерых близнецов: пять дочерей и пять сыновей, половина из которых светла, как мать, а другая половина — темна, как отец. Дети Гилас и Молога населили Великую Тьму меж небом и землёй, и рассеяли её своим божественным присутствием, и так земля соединилась с небом и появился мир. Говорят, что Молог взял Гилас там, где земля ныне сходится с небом. И когда солнце алеет на закате — это девственная кровь божественной супруги Молога изливается с небес. И когда восходит на востоке — это победное семя Молога озаряет созданный им мир. Они оба создали наш мир, вместе. Ни один из них не справился бы в одиночку. Кстати, — добавил он как ни в чём не бывало, — у меня есть брат-близнец. Мы вместе слушали эти истории и очень хорошо понимали богов-детей. Мать всегда любила меня и терпеть не могла Редьярда, моего брата. А отец, напротив, был к нему снисходительнее, а ко мне строже. Мы, случалось, называли друг друга «сыном Гилас» и «сыном Молога». Второе было почётнее, чем первое, ведь Молог — наш бог.
Адриан обнаружил, что слушает, приоткрыв рот. Со стуком закрыл его — и снова покраснел. Он чувствовал себя круглым дураком, но ведь то, что он слышал, было невообразимо, неслыханно! Такое отъявленное богохульство! Как будто этот человек и впрямь считает себя сыном бога. Да только боги тут ни при чём.
— Не боги делают людей дурными, это дурные люди выбирают дурных богов, — сказал он — и сразу почувствовал себя лучше.
— Сам придумал? — приподнял брови лэрд Одвелл.
Адриан вдруг разозлился.
— Нет, — холодно сказал он. — Так говорит мой брат.
Рейнальд Одвелл какое-то время смотрел на него, не шевелясь и даже не моргая.
— Адриан, — сказал он наконец, — твой брат совершенно прав. Но кое в чём всё же ошибается. Люди, как и боги, не бывают хорошими и дурными. Вся вина Молога была в том, что он взял силой то, чего хотел и в чём ему было отказано. Кто-то сочтёт это дурным, но есть ли в нашем мире иной способ получить желаемое?
— Иногда можно от этого просто отказаться! — выпалил Адриан.
— Да? Почему же тогда твой брат Анастас не откажется от мысли вырезать мой род так же, как мои септы вырезали Эвентри?
Адриан снова открыл рот — и закрыл. Что-то в нём ёкнуло: он понял, что они наконец-то переходят к сути разговора. Рейнальд Одвелл навестил его не просто так. Ему что-то нужно. Но чего он может хотеть от мальчишки, который и так в полной его власти?
— Не сваливайте вину на своих септ, — ровно, хотя и зло сказал Адриан. — Умейте держать ответ за то, что сделали.
«Ты будешь учить меня?» — сказал бы старший брат этого человека, Тобиас Одвелл, и влепил бы Адриану оплеуху — чтоб знал своё место. Но Рейнальд Одвелл был деликатнее, мягче и хитрее своего прямодушного брата. Он поджал губы, переставшие наконец улыбаться. И встал, но на сей раз шагнул не к Адриану, а к окну, сложив руки на груди.
— Ты вряд ли поверишь в то, что я сейчас расскажу тебе, — проговорил он. — Но я всё же расскажу, пусть есть лишь ничтожный шанс, что ты способен услышать и понять. Ты неглуп, Адриан Эвентри, хотя и юн. И так сталось, что из всех Эвентри, с которыми я мог бы вести этот разговор, со мной оказался именно ты. Поэтому прошу тебя, как члена твоего клана: выслушай меня, и постарайся помнить, что ни люди, ни боги не дурны сами по себе.
Теперь он говорил совсем другим тоном. Адриан пожалел, что постеснялся и не стал надевать весь костюм своих цветов. Сейчас ему это казалось уместным.
— Ты знаешь, конечно, что рассорило наши кланы. Мой старший брат Тобиас обесчестил твою тётку Камиллу, и это принесло много позора и горя и Одвеллам, и Эвентри. Отец проклял Тобиаса и лишил наследства, таким образом, мы с Редьярдом обрели право старшинства и стали лэрдами, его наследниками. Но было уже поздно. Твой дед, лорд Уильям Эвентри, был жёстким, неистовым и непримиримым человеком. Он не счёл компенсацию достаточной и объявил моему клану кровную вражду. Ты знаешь, что этот вызов нельзя отклонить — к великому сожалению… и мне хотелось бы верить, что одному из конунгов, тому, кто сможет наконец объединить все кланы, хватит ума запретить этот варварский обычай. — Он смолк ненадолго, будто внутренне споря сам с собой или вспоминая того, кто с ним спорил. Потом продолжил: — Твой дед сам пал первой жертвой этой вражды. Его сын и твой отец, лорд Ричард, не проявлял желания продолжать вражду, но и на примирение не шёл. Мой отец не мог сделать первый шаг, потому что именно Эвентри объявили войну. Мы пытались существовать, попросту не замечая друг друга. Так было, пока твой клан не присягнул Фосигану. Вы снова стали проблемой для нас, хотя уже и иного порядка. И всё же отец не чувствовал себя вправе вредить вам. Его до сих пор терзает чувство вины за поступок Тобиаса. Когда лорд Индабиран сказал, что знает способ быстро и легко убрать клан Эвентри с доски, отец отказался. Он ответил, — продолжал Рейнальд, заглушив протестующий возглас Адриана, — что если и станет убивать Эвентри, то на поле боя и с поднятым забралом. Этот разговор состоялся прошлой весной в замке Одвелл. Мой отец и лорд Индабиран крепко повздорили. В результате лорд Дэйгон велел лорду Топперу убираться вон и забыть о своих вероломных планах. Молог взял Гилас силой, — добавил он безо всякого перехода, — потому что она вела себя с ним так, словно он не был ей равным. Она первая оскорбила его. Тот, кто оскорблён, заранее получает отпущение грехов. Так нас учат, Адриан, так учили моего отца и так мой отец учил меня. Эвентри были оскорблены нами. Они имели право мстить. Мы не могли поднять на них меч первыми, тем более — так коварно. Это противоречит заветам нашего бога.
Он обернулся и впервые с начала своей речи взглянул Адриану в лицо. И Адриан увидел, что он не лжёт. Недоговаривает, быть может, увиливает и сгущает краски, но не лжёт. Его клан и вправду верил в это. Именно эта вера позволила им многие века сохранять верность богу, ненавидимому и презираемому всеми прочими в Бертане. Они просто были согласны с тем, что делал и чем был этот бог. И сами они были такими, какими были. И не собирались этого стыдиться.
Адриан мог бы восхититься этим, если бы они не убили его родных.
— Топпер Индабиран уехал ни с чем, — продолжал Рейнальд. — А через полтора месяца мы узнали, что он осуществил свой план. Узнали от его собственного гонца, которого он прислал нам, с гордостью и радостью сообщая, что приказ моего отца выполнен. Он ждал от нас поддержки людьми и деньгами и, конечно, одобрения, похвалы, благодарности. Благодарности за то, что от нашего имени ещё раз ударил оскорблённый нами клан. И так ударил, что клану уже, быть может, не подняться. Отец впал в неистовство при этом известии; я никогда не видел его таким. Он хотел бросить всё и немедленно ехать в Эвентри, но я отговорил его. В это время несколько наших деревень подняли бунт, отец был нужен там, никто, кроме него, не смог бы их усмирить. Как ни крути, а собственный клан — превыше всего… поэтому в Эвентри отправились мы с Редьярдом. Индабиран был дьявольски огорчён, узнав, что никакого приказа ему мы не отдавали.
— Как это — не отдавали?! — только теперь поняв, о чём он толкует, воскликнул Адриан. — Не будете же вы меня убеждать, что всё это было против вашей воли!
— Против. Против, Адриан. Ты можешь не верить мне, но это так. Лорд Топпер показал мне письмо, писанное якобы рукой лорда Одвелла, с его печатью и лентой наших цветов. Там было сказано, что он сожалеет о своей несдержанности, что он обдумал предложение лорда Топпера и всецело его поддерживает. И там был приказ осуществить план немедленно. Тот, кто писал письмо, знал, что отец по горло занят неурядицами в собственном фьеве и не уследит за происходящим вне его пределов. Тем более что и план Индабиранов был таков, что не предполагал шумной подготовки, могущей привлечь внимание. Я думаю, тот, кто всё это затеял, с самого начала рассчитывал именно на быстроту и незаметность.
— Тот, кто всё это затеял?.. Вы хотите сказать, что…
— Ну конечно. Подумай головой, парень. Индабираны свирепы и преданны, как волкодавы, но и мозгов у них не больше. Они не замыслили бы такое сами. Кто-то направлял их. И действовал достаточно осторожно и умело, что они поверили, будто это их собственная идея.
— Кто-то…
— Кто-то. Я не знаю, кто именно. Пока не выяснил. Но тот, кто сделал это, — истинный враг твоего клана, мальчик. Тот, кто желал его уничтожения. И, думаю, желает до сих пор.
В комнате повисла тяжёлая, неуютная тишина. Всё услышанное не укладывалось у Адриана в голове. Он пока не рассматривал вариант, что Рейнальд Одвелл просто лжёт ему — допустить такую мысль значило окончательно потерять ориентацию в происходящем. Но если всё и вправду так… если Одвеллы не желали им зла, то почему сделали всё, что случилось следом?
— Так, стало быть, — проговорил Адриан, и его голос прозвучал нежданно звонко в наступившей тиши, — стало быть, это от большой любви к моему клану и желая нам добра, вы убили в темнице моего отца, заперли в монастырь мою мать и Бертрана, насильно выдали замуж сестёр, рыскали за мной повсюду? Это вы, стало быть, так хотели загладить вину?
Лэрд Одвелл скривился, словно у него только что сломался зуб. Он явно ждал этого вопроса и столь же явно не горел желанием на него отвечать.
— Помнишь Гилас и Молога? Молог мог жалеть о сделанном, но это не отменяло последствий. Если война объявлена, её предстоит вести. Что мы могли сделать? Обвинить Индабиранов, выставить их дураками, превратить из исполнителей воли своего хозяина в зарвавшихся самодуров? И потерять их преданность? Не сейчас. Дела в Одвелле в самом деле идут скверно, Адриан, я искренне говорю тебе это. А тут ещё прошёл слух, что конунг Фосиган вздумал пойти на нас войной — якобы под предлогом мести за бесчестье, которому подвергли его септу. Где вот только он был, когда твой брат скликал войска и просил у него помощи… тогда-то он предпочел стоять в стороне и смотреть, как обернётся дело. А теперь понял, что оно оборачивается ему на руку и…
— Не обвиняйте конунга, — резко сказал Адриан. — Отвечайте за себя.
Невероятно, но Одвелл смутился. Он быстро отвернулся и провёл пальцами по гладко выбритому подбородку.
— Ты опять прав… Адриан. Хорошо, я буду говорить за себя и свой клан. Мы не можем открыто отречься от Индабиранов, даже после того, что они сделали. Но раз не отрекаемся — значит, поддерживаем и одобряем. К тому же они и впрямь ждали награды, пока думали, что приказ о нападении на Эвентри исходит из Одвелла. По нашем с Рэдом приезде они были очень разочарованы. Лорд Топпер хоть и не блещет умом, а смекнул, что выглядит теперь обычным разбойником. Потому решено было продолжать вести себя так, словно это действительно был наш замысел, и, коль скоро дело сделано, извлечь из него как можно больше выгоды для всех. Твой брат Ричард уже был мёртв, отец ранен и умирал в темнице, куда его запроторил Индабиран. Он дожил как раз до посещения моего брата. Твой отец умер у него на руках. Никто их нас не хотел его смерти в тот миг, но я солгу, если скажу, что мы планировали оставить ему жизнь. Мы убили бы его. Это правда. Я говорю тебе это, чтобы ты не думал, будто всё сказанное мной — ложь, которой я пытаюсь обелить свой клан. Мы убили бы его рано или поздно. Но он умер сам. — Снова установилась тишина. Рейнальд дал Адриану время принять услышанное, потом продолжал, всё тем же негромким, немного усталым голосом: — Поскольку ты и твой брат Анастас пропали без вести, единственным Эвентри мужского пола остался Бертран. Я запретил убивать его — всё же он совсем ребёнок. Даже Молог не убивал детей. Поэтому было решено отправить его в монастырь, где, став монахом, он лишится всех своих мирских титулов и прав наследования. Леди Эвентри сама, добровольно предложила разделить участь сына, хотя мы не позволили им отправиться в один и тот же монастырь. Я не хотел, чтобы твоя мать осталась рядом с ним и растила его в ненависти. Остались твои сёстры, Алисия и Бетани. В иных обстоятельствах руку старшей получили бы Индабираны, но при том, как обернулось дело, они не заслужили этого, да у них и нет неженатых мужчин нужного возраста. Потому решено было отдать твоих сестёр в жёны Тортозо и Вайленте, другим нашим септам, а с ними — и часть ваших земель в качестве приданого. Индабиранам достанется только этот замок… и это скорее наказание, между нами говоря, потому что именно сюда уже теперь нацелены копья воинов твоего брата.
— Вы так уверенно говорите о том, как поделили наши земли, — сказал Адриан. — А ведь я жив. И Анастас жив. И он вышибет вас отсюда, как шелудивых псов, пинком под зад. Что тогда вы ответите вашим Вайленте и Тортозо?
— Я надеюсь, что до этого не дойдёт, — сказал Рейнальд Одвелл очень спокойно. — И думаю, что ты мне в этом поможешь.
— Я? Помогу? Вам?! — переспросил Адриан и расхохотался. Он не смеялся уже очень давно, ужасно давно, и, кажется, почти разучился это делать. Собственный смех показался ему хриплым и неприятным, и он быстро оборвал его.
Когда Рейнальд заговорил, его голос звучал очень тихо.
— Топпер Индабиран искал тебя и твоего брата для того, чтобы убить. Убить и окончательно покончить с вашим кланом и вашими претензиями на то, что он уже считает своим. Я сумел убедить его, что теперь, когда Анастас Эвентри заключил союз со свободными бондами, его нельзя просто выследить и убить — за ним огромная сила, которая всё равно сметёт нас, даже в случае его смерти, потому что направлена против Одвеллов, а не за Эвентри. Эвентри только предлог. Вы всегда были только предлогом, Адриан, как ни печально мне это признавать.
— Да только ни мне, ни моим родным от этого не легче, — горько сказал Адриан. Рейнальд Одвелл смотрел на него с искренней жалостью.
— Я знаю. И мне действительно очень жаль. Я… мы очень виноваты перед вами. Я знаю, что однажды месть придёт. Но я люблю свой клан и верен ему, и сделаю всё, чтобы отсрочить этот день. Я не хочу воевать с тобой, Адриан Эвентри, с твоим братом и твоим кланом. Я предпочитаю договориться с вами, пока это ещё возможно. Пока бонды, которых поднял твой брат, не поняли, что на самом деле он не нужен им, и не начали собственную войну. Я хочу придушить всё это в зародыше, пока не стало слишком поздно. Именно за этим меня прислал сюда отец.
— Вы уже пытались придушить в зародыше, — грубо перебил Адриан. — На тинге. Это вы называете — всё уладить, пока не поздно? Не больно-то вышло!
— Откуда ты знаешь про тинг? — быстро спросил Рейнальд и тут же сам себе ответил: — Ты был там?
Адриан досадливо закусил губу и отвёл взгляд. Сын лорда Одвелла шагнул к нему и схватил его за плечо — не больно, но крепко. «Точно так же, — снова подумал Адриан, — точно так же, как брал меня за плечо его старший брат».
— Я не ошибся в тебе, — сказал Рейнальд со странным удовлетворением. — Ты замешан в этом глубже, чем может показаться.
— И что вы хотите? — переведя дыхание, с трудом спросил Адриан. — Чего хотите от меня?
— Нелегко быть средним сыном, верно? — сказал вместо ответа Рейнальд Одвелл, и Адриан с изумлением посмотрел на него. Тот как будто ждал ответа. Адриан поневоле задумался. Нелегко?.. Он не знал. Никогда об этом так не думал. И всё же, если подумать теперь…
— Нелегко, — ответил вместо него Рейнальд. — Сам знаю. Когда-то у меня был старший брат, Тобиас, и младший брат тоже был. Мартин. Любимец отца, матери, всей домашней челяди, всей дворовой скотины. Красивый, как младенец Эоху, крепкий, рослый, смышлёный. Все его обожали. И все ценили и уважали Тобиаса, ведь он был наследником отца. А мы с Рэдом были ни нашим, ни вашим. Как будто и не в тягость, но никакой от нас пользы, ни уму, ни сердцу. Родители всю любовь отдавали младшему, всё уважение и внимание — старшему. Потом Тобиас предал нас и был проклят, а ещё через год Мартин умер. И остались только я да Рэд… и ты теперь тоже остался один, да, Адриан? Ты и твой брат. Он тоже был средним, как и ты. И если вы оба недополучали ласки и внимания, то теперь надежды нет ни на кого, кроме вас.
— Чьей надежды? — прошептал Адриан. — Чьей? Надеяться-то некому…
Рука на его плече сжалась. Не грубо. Скорее, ободряюще.
— Вашим детям. Вашим внукам. Тем, кто продолжит клан Эвентри после вас. И благодаря вам.
Адриан зажмурился. Всё это было так странно, так неправильно — слышать такое от Одвелла, находясь в его руках в своём собственном замке…
— Что вы хотите? — снова спросил он.
— Помощи.
— От меня?
— От тебя.
— И… что я… должен сделать? — было трудно даже выговорить это, но он сумел. И Рейнальд снова улыбнулся, лучисто и заразительно.
— Да, в сущности, почти ничего. Просто — быть хорошим заложником. Быть послушным, не пытаться бежать или напакостить. Я уже послал гонца к твоему брату. Вскоре он узнает, что ты здесь. Я предложу ему сложить оружие и прекратить поднятый против нас поход в обмен на тебя, здорового и невредимого. И я уверен, что, подумав как следует, он согласится. Клан — это не земли и замки, Адриан. Клан — это люди. Вас в клане осталось всего двое. Ты в руках врагов, а твоего брата могут убить на поле боя. И кто выиграет от этого? Бонды, посредством которых воюет против нас твой брат — или которые, напротив, сами воюют с нами его посредством? Конунг, которому на руку ослабление Одвеллов? Но не ты и не я. И не наши кланы. Вы, Эвентри, побиты, но не повержены. Вы сможете начать всё заново. Вы септы конунга, он даст вам новые земли и новые замки. И однажды, если вы сочтёте нужным, то вернётесь сюда и убьёте нас. Но не делайте этого сейчас, когда это может обернуться окончательным уничтожением для всех нас.
Он объяснял, уговаривал, он почти просил. И о чём просил? О такой малости… Адриан, разве не этого ты хотел с самого начала? Просто сложить руки и тихо дождаться, пока придёт Анастас и заберёт тебя отсюда. Вот именно это ты и должен делать теперь. Это самый правильный выход. И это так легко.
— Мы договорились?
Рейнальд всё ещё держал руку на плече Адриана. Тот сглотнул. Потом снова.
— Мне можно выйти отсюда? — спросил он — и не смог удержать вздоха, когда Рейнальд с сожалением покачал головой.
— Индабиран вообще считает, что тебя надо держать в темнице. А поскольку мы порешили отдать замок Эвентри ему, то он здесь теперь хозяин… Он слушается меня, до определённого предела, но всё же я — не мой отец. Я выторговал для тебя всё, что мог. Тебе придётся пожить здесь какое-то время — если всё пойдёт как следует, то не дольше нескольких дней. В ближайшие дни будет пир. Я хотел бы, чтобы ты появился там. Ты сделаешь это?
Адриан снова сглотнул — и кивнул. Он чувствовал странную, глупую благодарность к этому человеку, который пришёл и вот так просто объяснил ему, что надо делать.
И старательно гнал от себя тихое, упрямо скрежещущее в глубине души чувство, что не должен, не должен поступать так, как его пытаются убедить.
— Спасибо, — сказал Рейнальд Одвелл. — Я правда рад, что мы друг друга поняли.
Он наконец отпустил его плечо и отошёл. Адриан окинул взглядом комнату, бывшую, как он вдруг ясно понял, камерой его заключения.
— Вы не могли бы…
— Что?
— У мэтра Лорана… у лекаря… есть одна книга. Точнее, выписки из книги. Я хотел бы их переписать. Если позволите. Мне надо бумаги, чернил и всего такого…
— Конечно, — улыбнулся лэрд Одвелл. — Ты умеешь читать? И любишь, как я понимаю? Это редкое свойство.
Адриан не ответил. Он не знал, почему вспомнил сейчас о «Miale Allerum»; именно сейчас, после разговора о судьбе его клана, которая и впрямь не в малой степени зависит от него. Просто остаться на месте и ждать… и переписывать книгу, которая содержит тайну спасения тысячи жизней. Что, спрашивается, может быть лучше?
— Спасибо, — сказал он, эхом отозвавшись на только что услышанные слова.
Рейнальд Одвелл посмотрел на него со странным чувством. Потом протянул руку и коснулся пальцами его щеки.
— Ты славный мальчик, — сказал он. — Я думаю, ты вырастешь толковым человеком.
«Твой брат думает иначе», — едва не вырвалось у Адриана — и ему нестерпимо захотелось сказать это вслух. Сказать, что знает Тома… Тобиаса. Что он до сих пор жив. Сказать — и посмотреть, что отразится в лице этого красивого, умного, холёного мужчины, так складно и, казалось, так искренне говорившего о своей любви к клану. И понять, тогда в самом деле понять, так ли уж он искренен в действительности.
Но он ничего не сказал. Просто смотрел Рейнальду Одвеллу в спину, молча, пока тот уходил.
Когда дверь закрылась и в замочной скважине со щелчком повернулся ключ, Адриан без сил опустился на постель. Он устал, у него болело всё тело, он опять чувствовал себя больным. Он стал стаскивать с себя рубашку, ворот которой так заботливо укладывал лэрд Рейнальд — и застыл на полпути, с поднятыми руками и задранными локтями.
Он слышал голос.
«Адриан…»
Очень далёкий, неуверенный, как будто уставший от долгих, бесполезных воззваний, но звавший всё равно. Смутно знакомый. И в то же время — совсем чужой.
«Адриан… Адриан… Адриан…»
Он зажмурился. Том говорил ему, что это случится. Что он услышит это однажды. Что она всегда говорит с такими, как он. Умеет как-то находить их. И напоминать им о том, что они ей обещали, если им не посчастливится забыть или сделать вид, будто забыли…
«АДРИАН».
Она уже была здесь. Здесь, в нём, в его голове. Совсем рядом. Она нашла его и поняла это. И обрадовалась.
Его обдало холодом, когда он ощутил её радость.
«АДРИАН! Я знала! Знала, что ты жив, что ты здесь! С тобой всё в порядке? Ты сердишься на меня? Но я знала, что ты должен оказаться там, именно там, Адриан. Ты должен быть там, где…»
Она говорила торопливо, сбивчиво, и каждое слово будто вбивало гвоздь в его висок. На мгновение ему захотелось раствориться в этом голосе, нырнуть в него и утонуть, и не слышать никогда ничего больше… Адриан стиснул зубы, заставляя себя вынырнуть из этого омута. Отчего-то ему стало противно, неизъяснимо противно слышать этот голос — хотя он знал, что она права, и он делал, и ещё сделает то, что она сказала. Но слышать её он не хотел. Не после того, как она продала его Индабиранам — не важно, почему, и о чём она в это время думала, и кому она желала добра.
«Никто никому не желает добра», — подумал Адриан Эвентри, ложась на мокрую измятую постель, где метался в бреду столько дней. Рейнальд Одвелл сказал, что не бывает дурных людей, но он сам запутался в собственной лжи. Если нет дурных людей, то и хороших тоже нет. И добра никто никому не желает, так же как и зла. Каждый лишь стремится сделать то, что он хочет и должен сделать.
«Вот и я, — решил Адриан, — буду заботиться только об этом».
С этой мыслью он закрыл глаза и больше уже не слышал никаких голосов.
3
Ему сшили новую рубашку взамен порванной. На миг у Адриана мелькнула шальная мысль: а что, если и эту порвать, опять сошьют заново? Так полотна не напасёшься. Тем более что полотно это наверняка из здешних запасов, из сундуков его матери. Поэтому он не чувствовал себя вправе так по-детски мелочно пакостить своим захватчикам. Это было просто глупо.
На третьей неделе своего пребывания в родных стенах Адриан наконец вышел из бывшей комнаты Анастаса. Двое незнакомых с виду солдат, с красно-оранжевыми лентами на древках алебард, отвели его вниз. Они не прикасались к нему; один шёл впереди, освещая факелом крутые ступени, другой замыкал, не давая возможности незаметно улизнуть в боковой проход.
Когда тяжёлые двери большой пиршественной залы распахнулись, у Адриана перехватило дыхание.
Дубовые столы, крытые багровой бархатной скатертью, нескончаемым рядом тянулись вдоль стены. Они уже были до отказа завалены яствами, отражение пламени настенных факелов колебалось на поверхности вина в кувшинах, бульонов в супницах и соусов на широких плоскодонных блюдах. Пир ещё не начался, это была только первая партия блюд, и слуги торопливо сновали туда-сюда, заканчивая сервировку. В зале стоял негромкий гул: скамьи вдоль столов были заполнены людьми, в основном мужчинами в боевом облачении и ярких цветах. Тут были жёлтый и оранжевый цвета Харротея, белый и малиновый Коралорна, бирюзовый и чёрный Гэнгрила, красный и охровый Чейзера, и другие, которых Адриан не узнавал. Их объединяло одно: все они были септами Одвеллов. Их жён с ними не было, зато было несколько шлюх — развратного вида девок с крашеными волосами и подведёнными сажей бесстыжими глазищами, в откровенных платьях, из корсажей которых едва не вываливались обвислые груди. Они были ещё почти трезвы и потому вели себя не слишком нагло, только хихикали и жались к бёдрам мужчин.
Адриан Эвентри смотрел на всё это и думал о том, как всё же странно, что первый пир в этом зале, в доме его отца, на который он приглашён, происходит вот так. Прежде он мог только подглядывать вместе с младшими да слушать менестрелей, спрятавшись на верхней галерее. А теперь он стоял на пороге в этот зал в одежде цветов своего клана и должен был сесть рядом с этими людьми, и пить с ними в том самом месте, где пировали его родные. Отец не оказывал ему такой чести. Зато её оказали ему те, кто убил его отца.
Адриан оглянулся и обнаружил, что его больше не конвоируют. Никто не глядел в его сторону, и он нерешительно осмотрелся, не зная, что должен делать теперь. К еде пока никто не прикасался. Все, казалось, ждали чего-то. Или кого-то.
Адриан только теперь увидел, что место во главе стола пустует.
Он мгновенно окинул взглядом собравшихся, выискивая Рейнальда Одвелла или ещё кого-нибудь в бело-лиловых цветах. Не нашёл, зато наткнулся взглядом на Топпера Индабирана, сидевшего в противоположном конце стола. Для него также приготовили кресло во главе, но в нижнем конце, таким образом, оставив лэрду Одвеллу наиболее почётное место в этом зале. Лэрд Одвелл, однако, не проявлял ответного уважения и задерживался. Впрочем, пока ещё не слишком сильно.
Мимо Адриана пронёсся слуга с гигантским блюдом, на котором опасно раскачивался здоровенный жареный павлин, утыканный перьями. Адриан едва успел отскочить в сторону, иначе бы его сшибли с ног. Слуга пробормотал извинения — и, встретившись с Адрианом взглядом, осёкся на полуслове.
Он его узнал. Его или его цвета — не важно. Адриан смотрел слуге в лицо, казавшееся смутно знакомым, но припомнить точно не мог. Да ему это и не требовалось. Ему было достаточно этого взгляда.
— Лэрд Эвентри, — прошептал слуга и, стушевавшись, поклонился. Адриан медленно повернулся в сторону стола. Снова посмотрел на пустующее кресло с высокой резной спинкой, стоящее на небольшой возвышенности во главе пиршественного стола.
И тогда его охватило чувство, совершенно для него новое и незнакомое, но от того не менее восхитительное. Не задумываясь, что делает, и не дав себе времени передумать, Адриан решительно двинулся вперёд. От двери, через которую он вошёл, торопился кто-то ещё, слуги сновали туда-сюда, и его шаги не привлекали внимания до тех пор, пока он не оказался возле самого стола. Сидевший по правую руку от кресла мужчина в цветах Кадви оживлённо флиртовал с жавшейся к нему женщиной и не обращал внимания на то, что происходит у него под носом. Адриан посмотрел на него, чувствуя сумасшедшее, злое веселье.
А потом поднялся на две ступеньки и сел в резное кресло во главе стола.
Потребовалось какое-то время, чтобы взгляды присутствующих обратились к нему. И чем больше глаз он на себе чувствовал, тем тише становилось вокруг. Наконец установилась гробовое молчание. Даже слуги перестали суетиться и, разинув рты, уставились на мальчика в красных и белых одеждах, сидящего на месте, предназначенном лэрду Одвеллу.
Те из них, кто видел его впервые, узнали его цвета и не могли не понять, кто он такой.
Адриан поймал взгляд Топпера Индабирана, глядящего на него с отвисшей челюстью, и улыбнулся.
— Приветствую вас, милорды, — сказал он, и его звонкий мальчишеский голос эхом отдался от сводов зала.
Топпер Индабиран закусил ус, явно пытаясь совладать с собой и решить, что следует предпринять. По залу прошелестел шепоток. Лорды были настолько обескуражены его наглостью, что самое очевидное решение — стащить его с кресла силой — не пришло в голову ни одному из них. Адриан сидел, не в силах согнать улыбку с лица, обводя взглядом всех и каждого. Лорд Кадви, сидящий к нему ближе остальных, ошалело моргал. Почувствовал чьё-то присутствие рядом с собой, Адриан повернул голову и взглянул в глаза виночерпию, стоявшему возле него с таким же ошалелым видом, как и у всех присутствующих. На виночерпии была ливрея с цветами Одвеллов.
— Мой лорд, — пробормотал он. — Я боюсь… я опасаюсь, что…
— Можно начинать, полагаю? Или кого-нибудь ждём? — беспечно спросил Адриан и, подняв со стола кубок, протянул его слуге. — Плесни-ка мне, друг, в горле пересохло.
Он всё ещё улыбался. Ему не было страшно. Он был будто во сне, в дурмане, его слегка знобило от возбуждения. И ему было наплевать, чем всё это обернётся в следующий миг.
И однако он вздрогнул вместе со всеми, услышав нарочито любезный голос за своей спиной:
— Вижу, я опоздал. Моё место уже занято.
Адриан обернулся, не вставая. Рейнальд Одвелл, лиловый принц, в ослепительно белом плаще, с безупречно уложенными волосами, со сверкающими сапфирами на одежде, руках и ножнах меча, стоял в шаге от него и слегка улыбался, глядя ему в глаза.
Адриан выдержал этот взгляд.
— Воистину так, мой лорд, — сказал он с невесть откуда взявшимся спокойствием. — Впредь извольте являться вовремя.
— Да что, в конце концов, позволяет себе этот щенок! — рявкнул наконец пришедший в себя Топпер Индабиран. Это воззвание прозвучало бы убедительнее, если бы не доносилось с противоположного конца стола, и всё же оно слегка отрезвило собравшихся.
— Это Адриан Эвентри?! — словно не веря, переспросил кто-то у своего соседа. Адриан не расслышал ответа, потому что Рейнальд Одвелл в этот миг посмотрел в сторону лорда Индабирана и сказал достаточно громко, чтобы его слышали все:
— Что же, не могу отрицать права лэрда Эвентри возглавлять пир в замке Эвентри. Будет ли мне позволено занять место по правую руку от моего лорда?
«Хочешь меня высмеять? Унизить? Не выйдет», — стиснув зубы, подумал Адриан, и, заставив челюсти расслабиться, вежливо улыбнулся.
— Для меня, как лэрда Эвентри, — честь принимать лэрда Одвелла впервые за годы, что проложил между нашими кланами давний разлад. Будьте моим гостем, лэрд Рейнальд, если сочтёте достойным мой кров и моё имя.
Всё же не зря местр Адук вколачивал в него уроки этикета. На красивом лице Рейнальда Одвелла мелькнула растерянность. Его собственный пленник публично оказывал ему гостеприимство — и его нельзя было столь же публично осадить, потому что формально, пока Анастас Эвентри жив и борется против захватчиков, этот замок всё ещё принадлежит его клану. Возможно, именно на этом пиру Одвеллы с Индабиранами собирались провозгласить, что заявляют свои права на этот замок и эти земли. Возможно, присутствие на пиру юного Эвентри, покорного и безропотного, должно было знаменовать отказ Эвентри от своих прав, создать иллюзию законности происходящего. Вот только Адриан Эвентри не был по натуре своей ни покорным, ни безропотным — о чём Рейнальд Одвелл, конечно, не знал.
Его брат Тобиас мог бы ему немало порассказать об этом.
Пауза затягивалась, и Адриан лихорадочно соображал, что бы ещё сделать и сказать, чтобы закрепить свой успех. Ему не приходило в голову, что человек менее тонкий и дипломатичный, чем Рейнальд Одвелл, пинком сбросил бы его на пол, продемонстрировав всем присутствующим, кто тут хозяин на самом деле. Если бы Адриан понимал это, быть может, он и не вёл бы себя так. Лорд Индабиран досадливо крякнул со своего конца стола и стал подниматься, но тут дверь с грохотом распахнулась, и шумное прибытие новых действующих лиц перетянуло на себя внимание, до этого мгновения намертво прикованное к противостоянию двух лэрдов.
Ибо в зал, громыхая шпорами, вошли, оба мрачные как туча, Редьярд Одвелл и Никлас Индабиран.
Адриан мгновенно узнал обоих — не только по цветам, но и потому, что они были невероятно похожи на своих родичей, присутствующих здесь. Только сын лорда Топпера был помельче своего отца, а близнец лэрда Рейнальда — крупнее и грубее своего брата. При этом друг на друга эти двое походили, как ни странно, даже больше, чем на своих ближайших родственников.
И тогда Адриан понял, чьё место занял на самом деле. И из-за чего затевался этот пир.
И ещё он понял, что, когда пир затевали, повод планировали более радостный.
Увидев Адриана Эвентри во главе стола, Редьярд Одвелл встал как вкопанный и долго хватал ртом воздух, а потом разразился ужасающими проклятиями. Из его речи, вылившейся на присутствующих, будто ушат холодной воды, следовало, что старший брат вот этого ублюдка (при этом лэрд Редьярд остервенело ткнул пальцем в сторону Адриана) устроил ему и Никласу засаду в лиге от замка, ограбил обоз с оружием, который они везли в Эвентри, а эскорт вырезал подчистую. В связи с этим лэрд Редьярд изъявлял настойчивое желание узнать, что этот щенок делает здесь и почему его башка всё ещё не торчит на пике над главными воротами. Всё это было сказано весьма экспрессивно и сбивчиво: красноречием своего брата-близнеца Редьярд Одвелл явно не обладал, как и его выдержкой.
Адриан выслушал всё это с неведомо откуда взявшимся хладнокровием, не пытаясь перебить и даже не покраснев. Анастас не сидит сложа руки. Что ж, отрадно. Он выждал, пока Рейнальд тихим, настойчивым голосом сказал своему разбушевавшемуся родичу несколько урезонивающих слов, из которых Адриан разобрал только: «Сейчас не время…» А потом проговорил со всё тем же необъяснимым холодным спокойствием:
— Мой лорд, в том, что между нашими кланами ныне существует кровная вражда, нет ни моей, ни, равно, и вашей вины. Но поскольку место, где в этот миг находимся все мы, вы сами только что изволили назвать замком Эвентри, я, как второй по старшинству мужчина в клане, в отсутствие моего брата являюсь здесь хозяином. По каковому праву и прошу вас сесть и разделить с нами трапезу. Ибо, как я могу судить, вы сильно устали с дороги и наверняка вас мучает жажда. Лэрд Рейнальд, — сказал он безо всякого перехода, повернувшись к брату Редьярда, — поскольку, как мне кажется, на этом пиру вы являетесь распорядителем, извольте отдать приказание, чтобы начинали.
«Боже, — подумал Адриан, глядя в застывшие лица обоих Одвеллов, — Гвидре Милосердный, что я делаю?! Вот теперь они точно меня стащат отсюда и… выпорют. Прилюдно выпорют, вот прямо тут, перед всеми, как смерда, как ребёнка, как… Гвидре, дай мне силы не отвести глаза».
Так, в этот самый миг, тот, кем начал становиться Адриан Эвентри, впервые собственным чутьём постиг, как это важно, как жизненно важно — не отводить глаза.
И он их не отвёл.
И потому не казался слушавшим его мужчинам ребёнком, зарвавшимся наглецом, малолетним дурачком, потерявшим голову от отчаянной дерзости, — тем, кем на самом деле был. Он казался им лэрдом Эвентри, внуком своего достославного и несгибаемого деда. И на долю мгновения те, кто знавали лорда Уильяма, увидели его в этом мальчике, так спокойно бросавшем вызов своим злейшим врагам в их собственном логове.
Присутствовали тут, впрочем, — и они составляли большинство, — те, кто лорда Уильяма не знавал. Причём многие из них были чужды проникновенной сентиментальности и полны здорового прагматизма. Они явились сюда на зов клана Одвелл, но каждый из них прежде всего хотел понять, как следует воспринимать сложившееся положение и чего ждать от него. Среди них было мало тех, кто не понимал сущности творящегося беззакония, и ещё меньше тех, кого это беззаконие устраивало — ведь оно давало их врагам повод пойти на них справедливой войной, что уже и делал Анастас Эвентри. А на стороне справедливой войны боги и, что важнее, жрецы с их деньгами и народ со своими вилами. Победителей не судят, конечно, но можно ли считаться победителем лишь потому, что пируешь в замке своего противника?
И вот эти-то лорды, бесстрастно наблюдавшие разыгравшееся представление, думали о поспешном сообщении Редьярда Одвелла и о том, что Анастас Эвентри всерьёз настроен на борьбу. А стало быть — неизвестно ещё, выиграна ли уже эта война, как их тут пытался уверить лорд Индабиран, или ещё бабка надвое сказала. А коли так — быть может, есть смысл и впрямь принять всерьёз этого мальчика, сидящего во главе стола, тогда как оба сына лорда Одвелла остаются на ногах. Мальчика, который сейчас был таким же символом и средоточием своего клана, как и его старший брат. Ведь по большому счёту, мало кто из здесь присутствующих питал ненависть к клану Эвентри. Просто они были септами Одвеллов, и им не оставили выбора. Большинство из них были смущены и прибыли сюда в надежде, что их уверят в законности происходящего.
Только вот единственным, кого тут никак нельзя было упрекнуть в злоумышлении против закона и справедливости, был Адриан Эвентри.
Рейнальд Одвелл понял это первым. И понял также, что игра, которую он затеял с юным Эвентри, проиграна, и что он перехитрил сам себя. По его лицу Адриан видел, как отчаянно он жалеет, что допустил его сюда, — а может, и о том, что вытащил из подземелья. Эта мысль заставила Адриана улыбнуться ему — широко и искренне, так, как потом он будет множество раз улыбаться людям, желающим его гибели, но вместо этого гибнущим по его вине.
«Если бы Том был здесь, он похвалил бы меня», — отчего-то подумал Адриан, глядя, как оба лэрда Рейнальда садятся за стол по правую руку от него, а Никлас Индабиран, кидая в его сторону недоуменные взгляды, идёт в дальний конец стола к своему отцу. Странная мысль — ведь Том никогда ни за что его не хвалил. Но теперь он остался бы доволен. Адриан почему-то был в этом уверен.
Вот так и начался первый пир Адриана Эвентри.
— Не могу согласиться с вами, лорд Кейн, никак не могу. Знаю, трудно судить об этом, не узнав этот народ получше, но смею уверить вас, что…
— Я одно знаю! — рявкнул лорд Кейн Кадви, хрястнув кулаком по столешнице. — Эти суки палят прибрежные селенья в моём фьеве всякий раз, стоит им на нём высадиться. А потому я не намерен им этого позволять впредь, так-то!
— Об этом речь вовсе не идёт, — примирительно ответил лорд Бьярд своему разгорячившемуся собеседнику. — Видите ли, мой лорд, тут дело такое…
Адриан не вслушивался нарочно в их разговор, но они сидели слишком близко и их голоса, хмельные и потому чересчур громкие, прорывались сквозь нестройный гул музыки и прочих разговоров. Пир длился не первый час; напряжение, созданное тем, что вытворил Адриан в самом его начале, слегка ослабло ко второй смене блюд, когда подали жареных цапель, и окончательно развеялось после полной смены винных кувшинов по всему столу. Редьярд Одвелл пил как подорванный, мрачно и молчаливо, кидая на Адриана тяжёлые взгляды. Его брат время от времени что-то негромко говорил ему, не забывая расточать любезности соседям по столу, переглядываться с лордом Индабираном и пристально смотреть на Адриана. Тот старался не отвечать на эти взгляды: его кураж куда-то улетучился, и теперь сиденье тронного кресла жгло его так, будто было раскалено добела. К счастью, помимо братьев Одвеллов, никто внимания на него не обращал. И Адриан запоздало понял, что всё-таки превратился в абстрактную фигуру на этом пиру. Он должен был, по замыслу лэрда Одвелла, стать символом — символом и стал, ещё и больше оттого, что сидел на месте, которое само по себе было куда значительней, чем он сам. Что он теперь станет делать и говорить, было уже не важно. Адриан смутно чувствовал это, хотя не понимал до конца, и сидел, боясь шевельнуться и неосторожным движение разрушить то хрупкое превосходство, которое обрёл. Он почти ничего не ел, к чаше с вином прикладывался редко, и, когда в какой-то момент ему стало тошно наблюдать за тем, как жрут и хохочут люди, желающие гибели его клану, он отвернулся и стал смотреть на акробатов, очень кстати появившихся в зале. Это был какой-то сброд, нищие бродяги, валандающиеся по дорогам от ярмарки до ярмарки и дающие незамысловатые представления во встречных замках. Ни отцу, ни матери такие развлечения не нравились, поэтому странствующие артисты были в замке Эвентри в диковинку. Слуги, сновавшие вокруг стола, с любопытством поглядывали на акробатов, строивших живую пирамиду прямо посреди зала. Что-то у них пошло наперекосяк — а может, так и было задумано? — и пирамида обрушилась, к вящей радости лордов, встретивших зрелище дружным хохотом. Потом жонглёр, крутивший в воздухе зажжённые факелы, поронял их, и факелы погасли; один из слуг смотрел на это, разинув рот, и пролил вино на штаны господину, за что получил такую оплеуху, что полетел на пол, уронив и разбив кувшин, и вино забрызгало теперь не только гневливого лорда, но и всех, кто сидел вокруг. Адриан растерянно смотрел на всё это. Неужто все пиры его отца проходили вот так? Подглядывая за пирующими с верхней галереи, он, как ему помнилось, видел красивых людей, слышал приятные голоса, и пение приглашённого менестреля казалось дивной соловьиной трелью… А может, всё это только казалось ему таким — оттого, что они были внизу, а он наверху, и ему было запрещено находиться среди них. «Если бы я знал, — подумал Адриан, — если бы я знал, что будет так…» Ему стало ужасно грустно от этой мысли, и он не засмеялся, когда жонглёр в очередной раз уронил свои снаряды и под всеобщий свист и хохот был выпровожен. Его сменил пожилой менестрель, попросивший тишины. Ему дали тишину, и он запел.
«Мой сын, из дальних сизых гор к тебе взывает мать. Мольбу, объятья и укор стремлюсь тебе послать. В родимом доме на холме ты не был много лет, И перед матерью своей тебе держать ответ».Было странно слышать женскую партию, исполняемую низким, сипловатым мужским голосом; он придавал словам суровость и обвинительность вместо жалобного упрёка, который звучал бы в них, если бы эту песню пела женщина. И когда женской партии ответила мужская, то жёсткость и грубость ответа не казалась странной. Она была такой, какой должна была быть.
«В глухих горах мой старый дом, и ты уже стара. На что теперь твоё нытьё? Скорей бы померла!»— Не могу согласиться с вами, лорд Кейн, никак не могу…
Голоса спорящих лордов перекрыли музыку. Адриан раздражённо взглянул на них и снова отвернулся, пытаясь вслушаться в песню. Трубадур не был мастером, он немного фальшивил и не слишком виртуозно владел лютней, но слова, произносимые его суровым голосом, отчего-то притягивали Адриана — так, как когда-то притянул отрешённый и пустой взгляд фиолетовых глаз…
— Видите ли, мой лорд, тут дело такое. Андразийцы, конечно, народ варварский, но до сей поры мы смотрели на них только как на врагов, а ведь варварство не только несёт угрозу — им можно и воспользоваться. Вы верно говорите, люди они лихие и на расправу скорые, но и дела свои они делают так же. И облапошить их — дело нехитрое…
— Может, и нехитрое, но честное ли? — вмешался какой-то лорд в зелёном и оранжевом, сидящий по левую руку от лорда Кадви.
— Во славу Бертана и истинных богов — почему бы и нет? — спокойно ответил лорд Бьярд.
Лорд Кадви расхохотался. «Да тише вы!» — чуть не крикнул Адриан, но вовремя прикусил язык. В его намерения вовсе не входило привлекать к себе лишнее внимание. Что-то ёкнуло у него в груди, сильно, почти болезненно. «…Тебе держать ответ», — неслось из середины зала, прорываясь в гул разговоров; Адриан уже не разбирал слов, никаких, кроме этого рефрена, звучавшего снова и снова, будто для него одного. «Я здесь не просто так, — внезапно подумал он. — Здесь, именно здесь… на этом пиру… на этом кресле. На этом месте. Если бы я сел в другом месте, там, где мне велел бы лэрд Одвелл, я бы не слышал сейчас, что говорят эти люди. А я слышу. И значит…»
Адриан бросил быстрый взгляд в сторону лэрда Одвелла. Тот о чём-то беседовал с соседом по столу.
Повернувшись к лорду Бьярду и его собеседникам, Адриан стал слушать.
— Некоторые, впрочем, не таковы. Но я могу заверить вас, мои лорды, что если мы наладим торговлю с Андразией, в самом скором времени дело может повернуться совсем иначе. Я вам теперь это говорю, потому что и так собирался поделиться с лордом Одвеллом, или с лэрдом Рейнальдом, коль уж его отец не почтил нас своим вниманием. Не секрет ведь, что торговля — лучшее подспорье для дипломатии, а поскольку именно северо-восточное побережье первым делом подвергается набегам при новой войне, ясное дело, для каких кланов от подобного союза будет наипервейшая выгода…
— Мы их били всегда, — отрезал лорд Кадви, в котором от избытка эля проснулась несвойственная ему воинственность. — И снова побьём, как сунутся!
— Ах, ну что вы говорите, мой милостивый лорд, посудите сами — ещё и андразийцев бить? Теперь-то? Не до того нам…
Адриан ощутил на себе взгляд и, поспешно отвернувшись, потянулся к чаше с вином. Она пустовала, и он подозвал пробегавшего мимо слугу. Когда чаша снова оказалась наполнена, взгляда на себе он больше не ощущал. «Кто это, — подумал он, — кто на меня смотрел? Рейнальд Одвелл? Или лорд Индабиран? Или…
Или, леди Алекзайн, это были вы? Снова?»
— Не говоря уж о том, — воодушевлённо продолжал лорд Бьярд, — что коммерческая выгода сего предприятия не подлежит никаким сомнениям. Мне, право слово, досадно, что никто прежде не додумался до такой простой вещи, как торговля с андразийцами! У них ведь совсем нет шерсти. Вы не знали? Они не выращивают овец, Гилас их знает почему.
— То-то всё в волчьи шкуры рядятся, будто дикари какие, — хохотнул кто-то, уловивший отголосок разговора.
— И не только шерсть, также хлопок, пшеница, тмин, железо, наконец…
— Железо? Вы, Бьярд, собираетесь торговать с нашими врагами железом? Чтобы потом они ковали из него мечи, которыми будут рубить наши головы?
— Ах, знали бы вы, лорд Кадви, что они дадут взамен… знали бы… — проговорил лорд Бьярд с пьяной полуулыбкой и загадочно покачал головой, разжигая этим жестом всеобщее любопытство и одновременно отказываясь это любопытство удовлетворить. На все расспросы он ответил лишь, что глупые варвары отдадут за необработанную сталь нечто такое, чем можно убить в сто раз больше врагов.
— Порою мало иметь одно лишь железо, — таинственно улыбаясь, пояснил лорд Бьярд. — Требуется знать ещё, как выковать из него меч. Они не умеют ковать мечи из своего железа — по счастью, мои лорды, по великому для нас счастью!
— Ну ладно, а чего ты ждёшь теперь от Одвелла? — требовательно спросил Кадви, перейдя в запале на «ты», чего лорд Бьярд, впрочем, не заметил.
— Сущей малости. Всего лишь сущей малости, мои лорды, от которой зависит будущее величие Бертана.
— Денег, — фыркнул лорд в зелёно-оранжевом.
Лорд Бьярд насупился.
— Я строю корабль, мои лорды. Так-то! Не утлую лодчонку вроде тех, на которых к нам приходят андразийцы, и не рыбацкую шлюпку. Настоящее судно, по фарийским чертежам. Мне и строит его фарийский мастер, он уверяет, что даже у него на родине таких судов покамест почти нет, ибо всем вам известна прижимистость этого народца… И до чего же странно порою рассуждают боги, мои лорды: один народ богат, но глуп, другой — умён, да скуп… и лишь Бертану достанет и ума, и смелости воспользоваться мудростью одних и богатством других! И победить, вследствие того, обоих!
— Вы явно посещали учёные дома при храмах Лутдаха, лорд Эли, — язвительно вставил кто-то. — Попроситесь к лэрду Одвеллу в советчики, может, придумаете, как справиться с мальчишками Эвентри. Оно сейчас, знаете ли, как-то насущнее.
— Я работаю на отдалённую перспективу, — туманно поведал Эли Бьярд, и никто, кроме него, не понял, что он хотел этим сказать.
А пожилой менестрель тем временем пел. Пел о том, кто поступал как хотел, а не как было должно.
«Отвергнув бога и людей, презрев жену и мать, Перед самим собой тебе теперь ответ держать». И тут умолк беспутный сын, потупив дерзкий взор, И для ответа сил найти не может до сих пор, —спел он и, взяв финальный аккорд, опустил лютню.
— Так вы строите корабль, лорд Эли? — спросил Адриан, перекрывая жидкие аплодисменты и звон монет, бросаемых на каменные плиты пола к ногам менестреля — песня понравилась. — Правда, настоящий корабль?
Он старался, чтобы у него горели глаза. Он не знал, как это сделать нарочно, но думал, что у него получается, потому что его в самом деле потряхивало от возбуждения. Лорд Бьярд обернулся к мальчику, сидевшему по правую руку от него — тому самому мальчику, который так взбудоражил этот зал несколько часов назад и о котором все уже позабыли, и снисходительно улыбнулся ему. Ну в самом деле, что может быть естественнее мальчишки, с любопытством спрашивающего о стоящемся большом корабле? Почитай, уже мечтает, как бы на нём поплавать. Да только не удастся, потому что корабль строит Бьярд, септа клана Одвелл, а мальчишка — из клана Эвентри…
Адриан с такой ясностью читал все эти мысли на лице лорда Бьярда, что успел — всё-таки успел — развеять его зарождающееся подозрение, робко улыбнувшись и умоляюще добавив:
— Я никогда не видел настоящих кораблей. Только на картинках…
Лицо лорда Бьярда разгладилось. Он был, в сущности, неплохим человеком, больше торговцем, чем воином, и любил детей — у него было семеро своих, в которых он души не чаял.
— Это будет самый красивый корабль из всех, что ты видел на картинках, — милостиво улыбнувшись, ответил он. — А может, и того лучше. И он сможет плыть так далеко, как ни один корабль до того не плавал. До самой Андразии.
— А это далеко? — Адриан наморщил лоб, пытаясь изобразить, будто прикидывает.
— Смотря откуда мерить, мой мальчик. Я вот, знаешь ли, и хочу попросить лэрда Одвелла, чтоб обеспечил мне стоянку в одном из своих прибрежных городов. Мой фьев находится на западе, и чтобы плыть в Андразию, моей «Светлоликой Гилас» придётся обогнуть с севера весь Бертан, до самого Хэдлода, что почти равно расстоянию от Хэдлода до Андразии…
— «Светлоликая Гилас»? Это так называется ваш корабль?
— Так, мальчик. Тебе нравится?
— Боги благословят его, — ответил Адриан серьёзно. — Вы нарекли его мудро, лорд Эли, — добавил он — и опустил глаза, будто устыдившись собственной смелости. Лорд Бьярд мимолётно вспомнил, как этот самый мальчик несколько часов назад привселюдно осадил сыновей лорда Одвелла — тех самых двух задавак, что ни разу за весь пир не удостоили лорда Бьярда взглядом или словом, хотя у него было к ним важное дело. Эта мысль вызвала в нём странное смешение чувств: досаду на Одвеллов — и симпатию к этому мальчику, их заложнику, который понимал больше, чем взрослые мужчины…
«Жаль, что с его кланом так обошлись. Может, Эвентри поняли бы и оценили мой замысел быстрее», — подумал лорд Бьярд и, когда юный Адриан спросил, отчего же такие неудобства и где сейчас стоит «Светлоликая Гилас», ответил:
— В Эфрине, мой мальчик. Есть такой небольшой городок у меня в Бьярде, на самом побережье. Только она пока ещё там не стоит, я только строю её на специально возведённой верфи. Моя «Светлоликая» почти готова, я спущу её на воду весной.
«Весной», — эхом отдалось в голове Адриана, и он стиснул под столом кулаки с такой силой, что ногти до крови впились в ладони. Но улыбаться он не перестал. Эфрин, город в Бьярде. Весной.
Весной из города Эфрин выйдет корабль, который отправится в Андразию, страну варваров, которые приносят в Бертан чёрную оспу. И никто из этих людей, а прежде всего сам лорд Бьярд, не осознаёт, что собирается сделать. Принято считать, что мор на Бертан насылают боги, что люди, а тем паче варвары, здесь ни при чём. Даже если сказать им правду, они не поверят, а хоть бы и поверили — не остановятся. Лорд Бьярд говорит о своём корабле так, как Анастас говорил о благе клана, так, как Том говорил об Отвечающем, так, как Алекзайн говорила о предназначении Адриана. Так, будто в мире нет ничего важнее — по крайней мере для того, кто держит речь. Бьярд отправится туда, откуда приходит оспа, и снова привезёт её. Алекзайн сказала, что Адриан должен взять у конунга корабли, поплыть в Андразию, уничтожить её, уничтожить рассадник смерти. Она не говорила, что он должен потом вернуться. Конечно, не должен… Уничтожив заразу, он должен будет умереть сам, чтобы никто и никогда больше не протянул нить между Бертаном и страной, которая несла ему смерть.
Теперь не варвары это сделают — а Эли Бьярд, следующей же весной.
«Вы были правы, — подумал Адриан. — Правы, миледи, когда отправили меня сюда. Я должен был оказаться здесь и узнать это. Так и есть, миледи. Всё так и есть».
— Ты давно здесь? — спросил лорд Бьярд. Адриан, очнувшись, посмотрел в его лицо. — С тобой хорошо обращаются?
— Ни на что не жалуюсь, благодарение Гилас, — коротко ответил Адриан — и отвернулся.
Бьярд обиженно взглянул на юного Эвентри, которому подарил пять минут своего драгоценного общения, и повернулся к соседям по столу.
Адриан тем временем смотрел на артистов, снова выставивших на сцену акробатов, — и на пожилого менестреля, присевшего пока что в углу: ему как раз поднесли вино.
Что-то в этом человеке смутно тревожило Адриана.
Он увидел, как пожилой артист поймал за рукав уходящего слугу и что-то сказал ему. Тот бросил быстрый взгляд в сторону Адриана — и тот вздрогнул оттого, что уже в который раз за этот вечер его смутное предчувствие подтверждалось. Да что ж это такое, в самом-то деле?! Он смотрел, как меняется лицо слуги, как тот быстро кивает, воровато озираясь, потом обходит остальных артистов, как ему, должно быть, было велено — а потом идёт вдоль рядов прямо к Адриану. Он останавливался по дороге и предлагал дамам засахаренные яблоки, которых у него был целый поднос, но Адриан ясно видел, что слуга направляется к нему, и поражался, как этого не видят все остальные. По мере приближения этого человека у него ком вставал в горле, и, когда тот наконец оказался рядом и предложил ему яблок, Адриан только и смог, что деревянно кивнуть. Слуга ловко подцепил парочку фруктов, нагнулся к тарелке Адриана. Жерон, вспомнил Адриан. Его имя Жерон. Эвентри приняли его в услужение в начале лета, всего за пару недель перед тем, как Индабираны захватили замок.
И пары недель этому парнишке хватило, чтобы понять, что такое верность.
— Мой лорд, — сказал он еле слышно, почти не шевеля губами, — господин менестрель настоятельно просит вас, чтобы вы не ложились спать этой ночью.
Он выпрямился и пошёл дальше, обогнув стол, и через мгновение уже предлагал яблоки Редьярду Одвеллу. Адриан всё никак не мог сглотнуть. Он взял кубок с вином, надеясь промочить горло, но рука задрожала, и он вернул кубок на место. Повернувшись, бросил взгляд на компанию артистов, сгрудившихся в дальнем углу и уминавших хозяйское угощение. Менестрель, певший песню об Отвечающем, смотрел прямо на него — ждал его взгляда как ответа. Когда их глаза встретились, менестрель кивнул. Сухо и жёстко, так же, как пел.
Он не просил. Он предупреждал.
И тогда Адриан узнал его. Несмотря на фальшивую бороду и парик, усиленно обведённые сажей глаза — впрочем, всё это было сделано очень умело, ему явно помогали артисты, с которыми он проник в замок, а это значит, что они были с ним заодно. Адриан не узнал бы его, если бы он так явно не обратил на себя его внимание.
Этот человек — эти люди, — были в Эвентри из-за него. Ради него. Они были настроены решительно, и если действовали, то наверняка. И не было ни малейших сомнений, что за всем этим стоит Анастас. Он не собирался идти с Одвеллами на полюбовную сделку. Он вернулся, чтобы забрать своё.
«И я ведь хочу этого, — подумал Адриан. — Ведь хочу? Я же этого с самого начала и хотел — вернуться к Анастасу. Быть с ним и… рассказать ему. Всё, как есть. Кто я есть. И что должен сделать. Этого никто не сделает, кроме меня. Анастас поймёт. Он поможет мне добраться до Эфрина, до «Светлоликой Гилас», и…
…И что это ты такое удумал, Адо? — вот что он скажет. Что за глупости? Ты в ответе? Кто тебе такое сказал? Гвидре Милосердный, да не смеши меня. Я так долго тебя искал, так хотел найти, возродить наш клан… а теперь ты мне говоришь, что это зря? Что ты должен оставить наше дело и заняться своим? Этого не будет, Адриан Эвентри. Клан — прежде всего. Ты не можешь уйти.
Вот что он скажет, когда увидит меня, после того, как обнимет и спросит, здоров ли я, не ранен ли. Когда он поймёт, что я хочу сделать, он поведёт себя так, как положено главе клана. Он не позволит мне отдать себя служению, в котором я поклялся леди Алекзайн. Он не поймёт.
О боже, — в ужасе и тоске подумал Адриан, — он не поймёт. Никогда не сможет понять. Ведь он не такой, как я».
И всё это значило только одно: он не должен возвращаться к Анастасу.
От этой мысли, прозвучавшей в его голове просто и обыденно, пока он смотрел поверх голов пирующих в лицо Энгусу Линлойсу, верному слуге клана Эвентри, Адриану захотелось расхохотаться и разрыдаться одновременно. Всё напрасно. Всё, чего он хотел, о чём мечтал, во что верил последние месяцы, — всё напрасно. Он не мог себе этого позволить. И больше, хуже того — он не хотел. «Не ложись спать этой ночью», — приказал ему Линлойс. Это значило: я приду, сниму охрану и уведу тебя. Куда? Не важно. Положись на меня. Не задавай вопросов и делай как велят, мальчик. Они все ему это говорили: Рейнальд Одвелл, считавший его безобидной пешкой в своей игре; Том, не веривший в его разум и волю; Алекзайн, верившая в него, но всё равно ему не доверявшая, и потому жёстко направлявшая его путь. Они все сознавали его важность и значимость, но при этом не переставали считать глупым ребёнком. Вот и теперь — его снова собирались бесцеремонно похитить и увезти, снова решали за него, как будет лучше. «Но я знаю кое-что, чего не знаете вы, — подумал Адриан, до хруста стиснув зубы. — Знаю и… и могу кое-что, чего вы не можете. Я могу менять. И мне держать ответ, если я этого не сделаю. Мне, а не вам!»
Но он никогда никому не смог бы этого объяснить. И это, пожалуй, было самым большим горем, какое выпало Адриану Эвентри за всю его жизнь.
Адриан знал, что на пирах всегда бывают танцы. Иногда раньше, иногда позже дамам надоедает кривлянье артистов и пошлые шуточки кавалеров, они начинают ёрзать на своих местах, отодвигая пышные бёдра от ляжек соседей и бросая нетерпеливые взгляды через плечо. Тогда мужчины, кряхтя, с трудом вылезают из-за столов, волоча отяжелевшие животы, и протягивают дамам руки. Они знают, что грядущее веселье под задёрнутым балдахином надо ещё заработать, и вот так они его зарабатывают, хотя в глубине души и считают, что платить шлюхам звонкой монетой куда как менее обременительно.
Адриан не рассчитывал на весёлую ночь ни с одной из присутствующих здесь леди — хотя несколько раз ловил на себе весьма многозначительны взгляды оных. Всё, что ему было нужно, — это под благовидным предлогом встать из-за стола и переместиться поближе к выходу.
Чернявая женщина, которой он протянул руку, была одной из самых юных и наименее потасканных. У неё были наивные голубые глаза, мелкие, едва заметные оспинки на лбу и щеках и лёгкие курчавые локоны, придававшие её облику умилительную, почти детскую беззащитность. Она взглянула на него с восхищением, польщённая тем, что будет танцевать с лэрдом Эвентри, и вложила ему в ладонь свои пухлые короткие пальчики. Она была сильно пьяна и слегка пошатывалась, но Адриану это было только на руку — он не сомневался, что ей совершенно всё равно, что он скажет ей и насколько сильно отдавит ноги. Всё, что ему требовалось, — это чтобы она не бросила его посреди танца.
«Жаль, что тут нет Бетани», — подумалось Адриану, когда он вёл свою партнёршу на середину зала, чувствуя на себе внимательный взгляд Рейнальда Одвелла. Танец грянул, по счастью, энергичный и требующий активного передвижения по залу. На удивление твёрдой рукой сжав хрупкую талию чернявой леди, Адриан решительно повёл её в танце, кружа и вертя, будто куклу. Чернявой леди это безумно нравилось: она заливисто хохотала, тонко вскрикивая всякий раз, когда Адриан отрывал её от пола и, развернувшись, ставил на землю — на шаг ближе к двери, чем до того. Визжала флейта, мелькал калейдоскоп родовых цветов, ослепляя яркостью красок, и очень скоро Адриан перестал ощущать на себе чужой взгляд. Это ни о чём не говорило наверняка, но у Адриана больше не было возможности проверить, не привлекая к себе внимания. Танец вышел на последний период, а до двери оставалось ещё добрых десять шагов. Чернявая леди заметила, что они отклонились от центра зала, и захныкала. И что-то щёлкнуло у Адриана в голове, внятно и громко — так, словно кто-то сдвинул крышку колодца, в котором он сидел долгие месяцы, и в его темницу потоком ворвался свет. Не давая себе времени на раздумья, Адриан стиснул талию партнёрши обеими руками и закружил её по залу в безумном темпе, через каждый шаг отрывая от земли и едва не оглохнув от её визга. Завершив па, остановился, скользнул по обнажённой спине женщины раскрытой ладонью и, рывком притянув к себе, запрокинул назад в глубоком и бесстыжем поцелуе.
Он чувствовал, как она дрыгает ножкой за его спиной, и её губы отозвались на его прикосновение со страстью, которой он не ожидал. Её руки сцепились в замок на его шее, притягивая ближе, и Адриан на миг запаниковал, что ему придётся её оттолкнуть, но оказалось достаточно так же резко выпрямить её — и она разжала руки сама, от неожиданности. Не дав ей опомниться, он быстро перехватил её запястье и, прижавшись к нему губами, хрипло прошептал:
— Моя леди, тысяча нижайших извинений! Вы свели меня с ума…
Она только шумно выдохнула и вцепилась ему в руку. Адриан воровато оглянулся, потом словно ненароком посмотрел на распахнутые двери зала и темнеющий за ними коридор. Женщина перехватила его взгляд — и вдруг опустила глаза. Адриан неприятно поразился такой нежданной стыдливости, способной пустить под откос весь его план — но тут же понял, что она просто смотрит на его пах. Ему не понадобилось даже прилагать усилий, чтобы покраснеть. К счастью, он действительно возбудился — не столько оттого, что прижимал её к себе, сколько от общей рискованности ситуации. Она заметила это.
И сама, без намёка или жеста с его стороны, потащила Адриана к выходу.
Адриан весьма смутно представлял, что она собиралась делать. Его единственной женщиной была деревенская девушка Вилма, разноцветные глаза которой выжигали ему душу и лишали возможности соображать с тем же успехом, что и разноцветные волосы леди Алекзайн, колыхавшиеся в горячей воде. Поэтому он испытал настоящий шок, когда чернявая леди, сделав десяток шагов от двери, выпустила его руку, вжалась спиной в стену и задрала юбки.
Не думая, что делает, Адриан распустил завязки штанов.
За их спинами раздался хохот. Мужской голос что-то сказал с добродушной грубоватостью — кажется, подначивал насчёт мальцов, что по молодости из портков так и выпрыгивают. Адриан не ответил, он не мог говорить, голова у него была как в тумане, и он думал только, что должен это сделать. Женское лоно, впустившее его в себя, было горячим, просторным и податливым. Кто-то прошёл у него за спиной, кто-то снова захохотал, из зала неслась музыка и пьяные выкрики.
— О, Эд, — простонала чернявая леди и закинула ногу ему на пояс, вминая пятку ему в ягодицу.
— Меня зовут Адриан, — прохрипел тот.
— Всё равно, — сказала она и насадила себя на него.
«Отец, прости меня», — пронеслось в голове у Адриана Эвентри, пока он овладевал шлюхой его убийц прямо посреди коридора, в пяти шагах от пиршественной залы, и когда выплеснулся, почувствовал такое облегчение, как будто вместе с семенем из него ушла и вина.
Чернявая леди гортанно вздохнула, обмякая в его руках. Адриан выпустил её горячее тело и отступил на шаг. Двое солдат, стоявших у двери, уже не смотрели в их сторону — их внимание привлекла какая-то потасовка, завязавшаяся в зале. Адриан сделал шаг назад, всё ещё слыша тяжёлое дыхание женщины. Она так и стояла, прижавшись к стене, запрокинув голову, с задранными юбками и пульсирующей на шее жилкой, будто напрочь потеряв к нему интерес.
Адриан развернулся и беззвучно скользнул в полумрак коридора.
Слуги сновали по проходам, но в полумраке они не могли разглядеть его лицо или цвета, в которые он был одет. Меряя коридоры своего замка широким шагом, Адриан думал, что Рейнальд Одвелл уже наверняка хватился его, но теперь это не важно. Теперь, когда он смог выбраться из зала, у него появлялось неоспоримое преимущество. Он не лгал сегодня вечером за столом — или лгал меньше, чем хотелось думать врагам Эвентри. Это действительно был его замок. И каждый закоулок, каждую нишу и каморку здесь он знал как свои пять пальцев.
А они — нет.
Раз или два он едва не столкнулся с солдатами Индабирана, и ещё раз — с каким-то лордом, подтягивавшем штаны на ходу (видать, тоже посчастливилось урвать в укромном местечке минутку удовольствия). Всех этих встреч Адриан благополучно избежал, вовремя находя тёмный угол или углубление в стене. Он хорошо их знал, потому что игра в прятки была их излюбленной игрой вплоть до этого лета, и, случалось, даже Анастас присоединялся к малышне, потому что отыскать в переплетении галерей того, кто бродит по ним всю жизнь и знает на ощупь каждый камень, в самом деле не так-то просто. Сейчас Адриан играл в прятки с Индабиранами. И явно выигрывал.
Он добрался до двора и сразу поднырнул под телегу с сеном, стоявшую едва ли не у самого входа в замок. Отлежался, пока мимо грохотали сапоги со шпорами, и пополз на животе прочь, в сторону людской, где ярко горели факелы и суетилась челядь. Из прорубленных в глиняных стенах окошек валом валил пар, выскакивали искры, отлетая от жаровни. Адриан огляделся, но не увидел ни одного знакомого лица и, собравшись с духом, пошёл прямо к кухне.
Внутри царил полный бардак, все носились, орали и поминали Молога, что говорило о крайней степени отчаяния. Адриан нашёл взглядом старую тётушку Розу, бывшую главной кухаркой при Эвентри и до сих пор не покинувшую замок. Она высилась посреди кухни, как монумент, раздавая тумаки носившимся вокруг поварятам и вопя во всё горло.
— Шустрее, сучье отродье! Шустрее! А не то всем нам на стене завтра болтаться! А ты тут что… — заорала она на Адриана — и осеклась, когда он выпрямился в полный рост. Её щекастое, вечно красное лицо застыло. На долю мгновения Адриану показалось, что сейчас она кликнет стражу и выдаст его, и он схватил её за толстое запястье, крепко, умоляюще сжав.
— Тише, тётушка, это я, Адриан, — прошептал он. — Помоги мне. Прошу, помоги.
У него было не больше минуты, прежде чем кто-нибудь обратит внимание на цвета его одежды.
— Гвидре Милосердный, — сказала старая служанка; её грудной голос даже шепотом звучал будто раскат грома. — Мой лорд… что вы тут…
— Скажи мне, где они держат оружие, — стиснув ей руку («У неё на запястье останутся следы моих пальцев», — отрешённо подумал он), настойчиво прошептал Адриан. — Только скажи, и всё.
Она подняла свободную руку, белую и сухую от муки, и положила ему на лоб, словно благословляя.
— Амбар у северной стены. Где раньше зерно…
Он подавил желание обнять её, ткнуться лицом в душный от муки передник. Вместо этого разжал руку и, ни слова не сказав и даже не кивнув, быстро вышел прочь. Какой-то слуга удивлённо посмотрел ему вслед — и тут же завопил, получив поварёшкой по лбу.
— Чего ворон ловишь, дуралей?! Я кого за водой посылала?! Ну! Мологово отродье…
За несколько минут пребывания на кухне Адриан взмок до нитки — и, оказавшись снаружи, почти машинально стащил куртку, несмотря на то, что холодный осенний воздух мгновенно остудил его голову. Но он всё равно горел, от возбуждения, от нетерпения, от недавнего соития, вспоминавшегося теперь будто во сне, — Адриан понял, что совершенно не помнит лица чернявой леди, только лёгкие растрепавшиеся локоны у неё надо лбом. На ходу свернув красную куртку в узел и зашвырнув её в груду наваленных по пути бочек, Адриан обогнул замок, подбираясь к северной стороне. По пути ему встречались и солдаты, и слуги, которых он иногда узнавал, но никто не смотрел ему в лицо теперь, когда он был просто взъерошенным мальчишкой в измятой одежде, болтавшимся на заднем дворе в замке, до отказа запруженном людьми.
Северный амбар! Ну надо же… И кому только в голову взбрело поместить оружие именно туда? Может, кто-то из слуг дурным советом отомстил захватчикам за унижение прежних хозяев?.. Как бы там ни было, лучше и не придумать. Сорок лет назад во время междоусобицы с кланом Сафларе, который в те времена был с Эвентри во вражде, стену северного амбара пробило насквозь ядром из катапульты. Образовалась внушительных размеров дыра, которую всё собирались, да так и не собрались замуровать и попросту заставили досками, а зерно, чтобы не погнило от сырости и плесени, перенесли в амбар у южной стены. С тех пор в северный амбар валили всякий хлам вроде погнувшихся оглобель, до которых всё не доходят руки у кузнеца, — последний лорд Эвентри был никудышным хозяйственником, да и леди Мелинда больше интересовалась шитьём и чтением романов, чем ведением замкового хозяйства.
И вот теперь лорд Индабиран велел сложить туда оружие. Не удосужившись заглянуть под скопище старых досок у восточной стены и поглядеть, нет ли под ней, часом, дыры в половину человеческого роста высотой.
У входа в амбар играли в кости двое солдат. Адриан обошёл их по дуге, но они и так не подняли голов. Оказавшись у восточной стены, смерил взглядом завалы досок. Он помнил, что нужно чуть сдвинуть в сторону всего две из них, чтобы оголился проём, достаточный для того, чтобы Адриан мог в него пролезть. Одно время это было его любимое укрытие при игре в прятки — до тех пор, пока Анастас не раскусил его и не стал первым делом искать именно там.
Но даже Анастас сообразил далеко не с первого раза.
Отодвинуть доски оказалось легче, чем прежде — за последние месяцы Адриан заметно окреп и, как ему казалось, даже подрос. Последнее едва не стало серьёзным препятствием: если прежде он без труда пролезал в отверстие, то теперь при взгляде на не такую уж и большую дыру в его душу закралось ужасное подозрение, что теперь он там не поместится. Адриан оглянулся, убедился, что никто на него не смотрит, и, присев на корточки, подполз под доски. Кругом пахло грибком и гнилым деревом — он хорошо помнил этот запах. Подобравшись к самой стене, Адриан просунул голову в дыру и, подтянувшись, лёг животом на холодный камень. Внутри стояла непроглядная темень. Он напряг зрение, пытаясь сообразить, куда бы лучше упасть. Вроде бы разглядел пространство посвободнее и, набрав воздуху в грудь, кувырнулся вперёд.
Ему повезло — он приземлился не на ящики, которыми, как он понял через мгновение, тут было всё заставлено, а на небольшой свободный участок между ними. Земляной пол приглушил звук падения, но Адриан всё равно застыл, вслушиваясь в голоса сторожей за запертой дверью. Всё в порядке, они продолжали игру. «Что ж, — подумал Адриан, ухмыльнувшись, — а я продолжу свою».
Его глаза привыкли к темноте, и теперь он мог разглядеть очертания окружавших его предметов. Тут были в основном мечи и луки; на то, чтобы найти кинжал и арбалет, понадобилось какое-то время. Стилет, длинный и узкий, Адриан прицепил к поясу; он плохо фехтовал, но пускать в ход нож ему уже приходилось, и теперь он думал, что в случае чего справится с этим снова. Разыскать небольшой арбалет, подходящий ему по весу, оказалось труднее. Он рылся в ящиках, стараясь не звякать железом, но руки слегка подрагивали, и, когда он запустил руку в ящик с болтами, раздался довольно громкий звон. Адриан застыл от ужаса, но его по-прежнему не услышали — гул во дворе был слишком силён. Переведя дыхание. Адриан выудил несколько болтов и ссыпал их в отворот сапога. Поколебался мгновение и, движимый необъяснимым побуждением, взял один болт и зарядил им арбалет, который держал в руке.
— Ну и ну… Вот это да. Здорово. Просто здорово! — протянул кто-то у него над головой, и Адриан круто развернулся и вскинул руки, сжимающие приклад.
Заряжённый арбалет уставился в грудь Рейнальда Одвелла, сидевшего на краю дыры, пробитой осадным ядром в стене северного амбара.
— Отменное укрытие, — восхищённо сказал лэрд Одвелл, оглядывая амбар. Он всё ещё сидел в проёме, придерживаясь за стену одной рукой; взошедшая за его спиной луна делала его силуэт болезненно чётким. — Руку даю на отсечение, Индабиран не знает об этой дыре. Я и сам не заметил, когда обходил двор. Когда приставлены доски, изнутри кажется, будто дыра заколочена.
Он как будто оправдывался, словно его задела собственная невнимательность. Звучало всё это довольно беспомощно: Адриан понимал, что скорее всего они просто не обратили внимания на такую мелочь. Были слишком заняты, строя планы по уничтожению его семьи. «То-то тебе будет головомойка от батюшки, — со злорадным весельем подумал Адриан. — Уж он-то бы так не сглупил!»
— Вы у меня на мушке, мой лорд, — сказал он, прижимая приклад арбалета к плечу. — Так что лучше вам не двигаться.
— Давай рассуждать здраво, Адриан, — сказал Рейнальд Одвелл совершенно спокойно. — Что будет, если сейчас ты застрелишь меня — при условии, конечно, что попадёшь. Освещение тут не очень, и, могу спорить, у тебя дрожат руки. Как думаешь, что случится, когда ты потратишь впустую этот единственный болт?
Адриан сжал арбалет чуть крепче. Руки у него в самом деле подрагивали, но только чуть-чуть — странное дело, он почти не волновался, словно весь его страх и вся дерзость остались там, в пиршественном зале. Он был почти уверен, что попадёт, если выстрелит — вот только нужно ли ему стрелять? Нужно или нет? Он пытался решить и не мог. Если бы на его месте был Анастас, он знал бы. Знал бы, как надо поступить.
«Да только ты — не Анастас», — сказал в его голове голос Тома.
«И это к лучшему», — добавила Алекзайн.
— Почему вы не позовёте стражу? — спросил Адриан.
— Давай вместе подумаем, почему. Как полагаешь, что скажет мой брат, когда узнает, за чем я тебя поймал? Подскажу: лорд Индабиран скорее всего горячо его поддержит.
Адриан сглотнул. Ему стало холодно.
— Они запрут меня, — чуть слышно сказал он.
— О да. И закуют в цепи, я полагаю. На сей раз я не смогу им помешать, потому что поверил твоему честному слову, а ты меня обманул.
— Я не обещал, что не сбегу, — грубо ответил Адриан. — И что буду пешкой в игре с вашими септами. Вы всерьёз думали, что я потерплю вас во главе стола в моём собственном доме?
Он не мог видеть лица Рейнальда, но смотрел на него. «Он-то видит моё лицо, видит мои глаза, и лунный свет, играющий на металле арбалета, — так пусть смотрит. Пусть знает, кто я, и не говорит потом, что я ему лгал».
— Опусти арбалет, — сказал Рейнальд Одвелл. — Вылезай вместе со мной через это окно и возвращайся в зал. Если кто спросит, похвастаешься любовным успехом у шлюхи лорда Харротея. Только перед самим лордом не слишком бахвалься: он ревнив, а ты чересчур юн, чтобы открыто бросать ему вызов. Мы договорились, Адриан, ты помнишь? То, что ты делаешь сейчас, лишь навредит твоему брату. И ты понимаешь это не хуже, чем я.
«Лучше, — подумал Адриан. — Лучше, чем вы. Вам и в голову не придёт, насколько лучше, мой лорд».
А вслух сказал:
— Простите.
И, сместив прицел арбалета на полдюйма вправо, нажал на спусковой крючок.
Рейнальд Одвелл не шелохнулся, когда болт просвистел мимо его шеи — так, будто приготовился к смерти и смирился с ней, а скорее так, будто не мог поверить, что Адриан действительно выстрелил. Ещё мгновение он не двигался, словно недоумевая, почему всё ещё жив. Потом его губы шевельнулись, и Адриан знал, что первым словом, которое из них вырвется, будет слово «Стража!». Поэтому он выпрямился, бросил арбалет на пол и сказал голосом, показавшимся ему совершенно чужим:
— Поглядите, кто это.
Рейнальд Одвелл посмотрел на него с недоумением. Он слегка переместился, и теперь лунный свет озарял его лицо. Он нерешительно оглянулся себе через плечо и посмотрел вниз — туда, где лежал человек со стрелой Адриана в глазу. Человек, несколько секунд назад появившийся за спиной Рейнальда Одвелла с клинком, блеснувшим в лунном свете. «Вы следили за мной, милорд, но и за вами следили тоже. Это прятки-догонялки; не зная всех правил, трудно играть и ещё труднее выиграть».
— Узнаёте его?
— Кажется, один из акробатов, — неуверенно проговорил Рейнальд, вглядываясь в темноту. — Тот, который пел…
Он повернул голову и посмотрел на Адриана, будто только теперь осознав, что произошло.
— Проклятье, мальчик, — сказал он. — Ты отлично стреляешь.
Какое-то время они смотрели друг на друга, соединённые белым лунным лучом, падавшим в пролом.
Потом Рейнальд Одвелл мягко спрыгнул вниз.
— Почему ты это сделал?
Тон, которым он задал этот вопрос, отличался от всего, что Адриан слышал от него прежде. В нём не было больше ни нарочитой мягкости, ни ласкового упрёка, ни показного участия, ни столь же фальшивого сожаления. Это был сухой и отрывистый голос человека, обнаружившего, что игра, которую он затеял, имеет на самом деле вовсе не те правила, которые он почитал заведомо выигрышными. Это был человек, осознавший, что вёл себя словно глупец. Человек, который очень не любил, когда его выставляли глупцом.
Адриан слегка улыбнулся ему. Впервые за весь этот безумный вечер он совершенно не чувствовал страха.
— У тебя был выбор, — в голосе Одвелла звенело нетерпение. — Его или меня. Почему его? У тебя счёты с ним? Ты…
— Я даже не видел его лица.
Рейнальд Одвелл шагнул к нему. Адриан предостерегающе поднял руку. Одвелл остановился.
— Теперь, — сказал Адриан, — вы отпустите меня.
— Что?
— Вы отпустите меня. Позволите мне уйти… к моему брату. Без выкупа, без условий. Просто так, в благодарность за то, что я спас вашу жизнь. И когда я окажусь с Анастасом, я расскажу ему об этом. Расскажу о жесте доброй воли, которым вы доказали, что действительно не хотите вражды с Эвентри. Я скажу ему, что спас вашу жизнь, а вы взамен вернули мне свободу, и это первые узы между нашими кланами, не замешанные на ненависти. Это будет лучшим доказательством для него. А может, и единственно возможным.
Рейнальд Одвелл долго смотрел на него — не так, вовсе не так, как прежде. Потом, ни слова не сказав, повернулся спиной и пошёл к двери. Его кулак требовательно заколотил о доски. Снаружи послышались изумлённые вскрики, дверь отворилась — и солдат, шагнувший на порог, рухнул наземь от могучего удара в челюсть.
— Чем вы тут занимаетесь, отребье?! — рявкнул лэрд Одвелл, став в этот миг как две капли воды похож на своего брата-близнеца. — Совсем уши позакладывало?! Марш за амбар, там труп!
— Т-труп? — выдавил, пятясь, второй стражник, пока первый, потирая челюсть, стонал у ног своего лорда.
Лэрд Одвелл шагнул за порог. И только тогда повернулся и посмотрел на Адриана.
— Благодарю вас, лэрд Эвентри, — сказал он. — От всей души и от имени своего клана.
Адриан прикрыл глаза — на миг, только на один миг. Попытался представить лицо Энгуса Линлойса, его мёртвые глаза, глядящие мимо старых досок в ночное небо над Эвентри.
И поднял руку ладонью вперёд, показывая, что принимает благодарность.
Он покинул Эвентри — на следующие двенадцать лет, хотя не мог об этом знать — утром следующего дня, едва рассвело. Судя по торопливости, с которой его отряжали, Рейнальд не обсуждал своё решение с Редьярдом Одвеллом и Топпером Индабираном. Адриан про себя счёл это правильным. Он надеялся, что Рейнальд просто выпустит его из замка на все четыре стороны, но тот, похоже, слишком дорожил шаткой перспективой перемирия с Эвентри. Он хотел быть уверен, что Адриан доберётся до своего брата в целости и сохранности, посему выделил ему троих сопровождающих из числа собственных телохранителей. Адриан хотел было возразить — но, сообразив, что, по-хорошему говоря, у него нет для того оснований, прикусил язык. Ему позволили выбрать лошадь из конюшен Эвентри. Адриан взял Буревестника, резвого гнедого, на котором не раз обходил Анастаса, когда им вздумывалось устроить скачки. Конь узнал его и радостно фыркнул, ткнувшись носом Адриану в ладонь. Это было единственное знакомое существо, которое не было изумлено, увидев его здесь. От этой мысли веяло домом.
Рейнальд дал ему серый плащ — набросить поверх слишком приметной одежды красно-белых цветов. Адриан принял этот подарок с едва ли не большей благодарностью, чем коня.
Арбалет он оставил на складе, но украденный оттуда стилет всё ещё висел у пояса. Рейнальд увидел его, но ничего не сказал.
— Скажи своему брату, что я хочу переговоров, — сказал он Адриану на прощанье. — И что готов приехать к нему сам, если он гарантирует мне личную безопасность.
Адриан кивнул, придерживая Буревестника, нетерпеливо перебиравшего копытами. Его конвоиры — или его эскорт? — помалкивали, не смея встревать в разговор. Их взгляды были сонными и равнодушными; они не понимали, что происходит, не знали, кого им велено сопровождать, и мало этим интересовались. Адриан протянул Рейнальду Одвеллу руку.
— Мы квиты, — сказал он — и почувствовал себя странно взрослым и усталым от этих слов, хотя и прежде сотни раз говорил их — тому же Анастасу, когда удавалось отплатить за причинённую раньше пакость.
Рейнальд Одвелл сжал его ладонь в своей, и Адриан отчётливо увидел, насколько мужская рука больше и крепче его собственной руки.
— Я думаю, мы ещё увидимся, — сказал он и махнул рукой, давая знак открыть ворота. Адриан стукнул пятками бока коня.
Из ворот Эвентри он выехал во главе кавалькады. На горизонте вставало солнце.
Ехали до полудня. Когда оказались на распутье дорог, одна из которых уводила в глубь фьева, две другие — к соседним землям, Адриан остановил коня и спокойным тоном, который со вчерашнего дня давался ему на удивление легко, поблагодарил своих стражей за сопровождение. Он надеялся, что, если будет достаточно убедителен, они поверят, что он волен отпустить их, когда хочет — ведь, судя по всему, они не получили от Рейнальда прямых указаний конвоировать его. Рейнальд резонно предположил, что Адриан сам будет рад пользоваться их защитой, пока не достигнет Лакмора, где расположились силы его брата.
Расчёт оказался верен. Они ему поверили.
Он ехал какое-то время один на юго-запад от развилки, на случай, если они следят за тем, куда он направляется, а на следующем повороте свернул на север. Он крайне смутно представлял себе, куда и как ему теперь добираться. Сознание жгло мыслью, что сейчас он ближе к Анастасу, чем за все последние месяцы — только свернуть на другую дорогу… Несколько лиг до Анастаса… до возможности бросить всё, что он так не хотел на себя взваливать.
Адриан подумал о мэтре Лоране, оставшемся в замке Эвентри при Рейналде Одвелле. Тронул лежащие за пазухой листки, переписанные его собственным почерком — он закончил их копировать накануне вечером, перед самым пиром. Потом оглянулся и посмотрел на юго-запад, туда, где посреди полей колыхались на осеннем ветру собранные стога.
Он не знал, что в это самое время Редьярд Одвелл, услышав от своего брата, что тот сделал, встал и влепил ему пощёчину на глазах у Топпера Индабирана и полудюжины прочих септ клана Одвелл. Не видел, как изменилось лицо Рейнальда после этого, и не мог подозревать, к чему приведёт совсем скоро эта пощечина, полученная из-за него.
Также он не знал, что двух ротозеев-стражников, игравших ночью в кости у склада с оружием, утром сбросили с крепостной стены на верёвках, опутавших их шеи, и те повисли с вывалившимися, распухшими языками.
Ещё он не знал, что лорд Харротей, который накануне напился слишком сильно и слишком быстро, чтобы следить за своей шлюхой, протрезвел к вечеру следующего дня и, прознав, что она обжималась с мальчишкой Эвентри, свернул ей шею в припадке ревности. Не знал он и того, что этой шлюхе, чьего имени он не знал тоже, не хватило всего двух месяцев, чтобы встретить на перекрёстке дорог явление Ясноокой Уриенн, раскаяться и начать добродетельную жизнь.
Но самым главным из того, чего не знал Адриан, было то, что его брат Анастас, услышав о смерти верного Линлойса, пробравшегося на свой страх и риск в Эвентри с целью спасти оттуда Адриана, пришёл в ярость, какой прежде никогда не знал. Те, кто помнили его деда, лорда Уильяма, говорили, что Анастас стал очень похож на него в тот миг, когда схватил за спинку резное кресло и с грохотом швырнул его в стену. Потом он выпрямился, тяжело дыша, обвёл потемневшими глазами своих застывших соратников и поклялся, что не будет знать ни сна, ни покоя, пока не вырежет клан Одвелл до последнего проклятого ростка.
Адриан не знал о том, сколько крови, страданий и смертей — одно чуть раньше, другое чуть позже — принесла эта ночь, когда он пытался направить свою жизнь в русло, казавшееся ему верным. Если бы Адриан знал об этом — он бы, возможно, остановился.
Но он не знал. И с этим незнанием нёс свою вину, не чуя её тени за плечом.
4
В недобрый день, когда Адриан Эвентри оказался в руках лорда Индабирана, у Тобиаса Одвелла были все шансы распроститься наконец с многотерпеливой землёй, которая и так уже носила его на тринадцать лет дольше, чем ему было отпущено.
Сколь велики эти шансы, бывший лэрд Одвелл, ныне звавшийся Томом, понял сразу, едва его попытка завязать драку в таверне и дать Адриану возможность бежать увенчалась успехом. Мальчишка, кой-чему всё же научившись за прошедшие месяцы, времени зря не терял и дал стрекача. По ходу он весьма ловко расправившийся с одним из наёмников, пытавшихся его схватить — какой-никакой, а повод для гордости за него. Остальные ломанулись за ним — но вожак, тот, кто казался самым сильным из всей компании, остался, предусмотрительно предвидев попытки Тома помешать им схватить мальчишку. Дабы свести вероятность таких попыток к нулю, здоровяк-наёмник несколько раз с чувством наподдал Тому в печень, парировал его удар и приложил лбом о скамью. Из глаз Тома брызнули искры, и он потерял сознание, не успев даже подумать о том, что теперь будет с ним и с мальчиком, ответственность за которого он так опрометчиво взял на себя.
Очнулся он от побоев. Наёмники вернулись и упоённо пинали его кованными подошвами сапог — ныне в полном составе, и по злобе, с которой они это делали, Том понял, что Адриана они всё-таки не поймали. Эта мысль вызвала в нём такое облегчение, что он не сопротивлялся, когда его схватили за шиворот и поволокли во двор, где продолжили избивать. Отведя душу вдоволь, они бросили его в грязи под проливным дождём, и Том лежал там на спине, хватая сырой воздух широко раскрытым ртом и позволяя дождевой воде стекать в пересохшее горло, вздрагивавшее от каждого вздоха. Он вяло подумал тогда, что, будь сам он на месте этих наёмников, не торопился бы уходить — ведь всегда оставалась вероятность, что глупый мальчишка, напрятавшись по кустам, вернётся в таверну за Томом. «Не делай этого, мальчик, не надо», — мысленно сказал он — так, будто Адриан мог услышать, и сознание его снова угасло.
Он должен был умереть там, в этой грязи, под проливным дождём. Собаке — собачья смерть.
Но потом он почувствовал, как его снова тащат куда-то — и обеспокоился, не оказались ли давешние наемники сообразительнее, чем он полагал. Но это были не наёмники. Гостиничные слуги, ругаясь на чём свет стоит, волокли его избитое тело по земле, потом — по дощатому полу, и сварливый женский голос прикрикивал: «Да выше, выше его, скотину, подымайте, все полы обгадит!» — словно он был пьянчугой, свалившимся замертво у порога корчмы. Потом — по лестнице вверх, и он считал ступеньки босыми ногами — не побрезговали наёмники, стащили сапоги, и то пожива… Когда в итоге его бросили наконец и Том ощутил под собой мягкое — то подумал, что вот так умирают, и грубые слуги — это ангелы Гилас, а сварливая старуха — сама Светлоликая и есть, да и с чего он взял, право, что она будет его радостно привечать…
Так закончился для Тобиаса Одвелла день, когда он должен был умереть.
Но вместо смерти пришёл сон, и в этом сне была Камилла. Она его звала.
— Тобиас… Тобиас… ох, Тобиас…
Звала и плакала, пряча лицо, которого он почти не помнил, в дрожащих руках. Что прячешься, милая? Стыдишься? Стыдись… если у меня не осталось совести, чтоб стыдиться, так хоть ты, родная, повинись за меня перед Светлоликой.
Камилла склонялась над ним, всё ниже и ниже, роняя ему на лицо слезинки сквозь пальцы, и внезапно Том понял, что происходит. Понял и вспомнил — как же он мог забыть…
— А, — сказал он. — Это снова ты. Ну, чего тебе теперь? Будешь винить, что не уберёг его? Не хочу тебя слушать… прочь пошла. Слышишь, пошла прочь!
Но она не слышала, или притворялась, что не слышит, и всё плакала, и склонялась ниже, ниже… и ничего не говорила, только его имя, снова и снова: «Тобиас, Тобиас…»
— Я не Тобиас Одвелл больше. Сколько тебе повторять?! Уходи, Алекзайн, оставь меня…
Но даже во сне он чувствовал: что-то не так. Прежде она всегда отвечала ему, желчно и зло — мстительная сука, не желавшая оставить его, принять его выбор, не желавшая его простить. Она только рада была уколоть лишний раз — и делала это, когда могла. Она и теперь могла, уж когда, если не теперь! Но лишь повторяла его имя, снова и снова.
— Алекзайн… — Том ощутил лёгкий укол сомнения. Поколебавшись, потянулся вперёд, чтобы отнять руку от её лица, но она отпрянула, прижав ладони к глазам ещё крепче.
У неё были руки Камиллы, волосы Камиллы, губы и голос Камиллы… но она не была Камиллой. Камилла никогда не приходила к нему. Ни разу за двенадцать лет. Он предал её и принёс горе её клану. Он и теперь не смог уберечь мальчика, которого, он помнил, она так любила. Чего же ей к нему приходить?
— Тобиас, Тобиас, Тобиас…
И столько скорби было в ней, что он впервые за долгие годы вновь пожалел о собственном малодушии, спасшем его когда-то от смерти.
— Алекзайн! Алекзайн, посмотри на меня! Говори со мной! — повторял он, но она теперь отдалялась, быстро и неумолимо, таяла в полуяви-полусне, и когда он потерял её из виду, по-прежнему не отнимала ладони от лица.
— Алекзайн!
— Я здесь, Том. Вовсе ни к чему так дозываться, — сказал её насмешливый голос прямо над ним, и Том, содрогнувшись всем телом, открыл глаза.
Открыл — и увидел её.
Поразительно, но она в самом деле выкрасила волосы. И выглядела теперь много лучше, чем когда они расстались тринадцать лет назад. На ней было богатое дорожное платье, и держалась она как истинная леди, сидя на краю кровати. Матрац был грязным и мокрым. «Это оттого, что я на нём лежу», — тупо подумал Том, вспоминая тяжёлые смачные удары под дых и грязь, в которую он летел лицом…
Он моргнул и попытался приподняться, но лишь застонал от кусачей боли во всём теле. Алекзайн смотрела на него с ласковой улыбкой, будто любящая мать, наблюдающая за весёлой игрой своего дитяти. Всегда она так смотрела на него, что бы он ни делал. «На Адриана ты тоже смотришь вот так? Ты по-другому вовсе не умеешь смотреть?» — подумал Том — и будто очнулся от дурмана, разом сел, невесть откуда взяв силы.
— Где он?
— Кто? — спросила Алекзайн, улыбаясь. Этот голос, низкий, вязкий, будто трясина, всё это, некогда лишившее его разума… всё это могучим ударом швырнуло его обратно, в далёкую, мёртвую ныне юность, в страшные дни, когда он узнал её и узнал, кто он сам.
Но то время прошло. Прошло давно, и теперь Том — не Тобиас Одвелл, просто Том — был свободен от этого бремени, ибо отказался от него по собственному решению.
— Ты, проклятая лживая сука… — прохрипел он — и с силой, которой Алекзайн вряд ли от него ждала, схватил её за горло.
Она дёрнулась, когда он тряхнул её, будто куклу, и — о, да, наконец-то! — лицемерная улыбка сползла с её губ. Том сжал пальцы крепче, глядя, как наливается понемногу кровью её бледное лицо. Она заёрзала, обхватила его предплечье обеими руками, силясь отодрать от себя, но он держал её крепко. Он всегда держал крепко, если уж удавалось схватить.
— Где он? — повторил Том, наклоняясь ближе к существу, которое когда-то сломало ему жизнь. — Где Адриан, сука, отвечай мне, если тебе дорога твоя пакостная душонка.
Она закатила глаза и обмякла. Том выругался, но не разжал руку — ему ли не знать эти её штучки. Один Молог ведает, как ему сейчас хотелось сжать ладонь крепче, вмять пальцы в эту лебединую шею да свернуть её одним движением кисти… но он не мог. Она не просто так оказалась сейчас здесь, вместе с ним — это значит, что Адриан теперь там, где она и хотела его видеть…
— Где он? — в третий раз повторил Том, никогда и никому не повторявший трижды. — Отведи меня к нему. Ты слышишь? Отведи немедленно.
Белки её глаз шевельнулись под приопущенными веками.
«Ты так нетерпелив, мой дорогой. Так и не научился верить мне. Ах, отчего…»
— Я убью тебя, — пообещал он. — Убью это тело, и делай что знаешь, если немедленно не отведёшь меня к нему.
«Ну что ж, как скажешь…» — сказал внятный и ясный голос Алекзайн в его голове, пока он душил её безвольное тело, и тогда Том увидел Адриана. Увидел — и всё в нём оборвалось. Мальчик лежал, свернувшись на полу тюремной камеры, вздрагивая и постанывая во сне, и со стены рядом с ним свисала к земле длинная железная цепь.
— Адриан! — крикнул Том. Потом снова и снова. Адриан шевельнулся, но тут же свернулся крепче, обхватив плечи руками, и через мгновение исчез — будто и не было его.
«Ах, прости, дорогой. Я сделала, что смогла. Видишь, он жив. Или ты надеялся, что я покажу тебе его могилу?»
Том разжал пальцы и без сил откинулся назад.
Алекзайн отпрянула, широко открыв рот, сипло втягивая воздух. Лиловые зрачки медленно выплыли из-под посиневших век, краска понемногу отступала от щёк. Том сидел, откинувшись на щуплую подушку, и в бессильной злости смотрел, как она приходит в себя и на её лицо возвращается снисходительная, понимающая полуулыбка.
Она даже не встала с постели, когда окончательно оправилась. Лишь слегка отодвинулась, на расстояние вытянутой руки, словно не желая снова вводить его в искушение.
— Видишь, — сказала Алекзайн с упрёком. — Он не хочет с тобой говорить.
— С тобой тоже, — огрызнулся Том.
— Да, — ответила она, подумав мгновение. — Со мной тоже. — И добавила с улыбкой: — Он вовсе не такой, как ты.
Если бы у него так не болело всё тело, он бы поднялся и вышел прочь. Он не стал бы с ней говорить. Но у него просто не было на это сил: вся его энергия ушла в рывок, оказавшийся бесполезным… почти бесполезным. Ведь он всё же увидел Адриана, пусть и на один только миг.
— Где он? Куда ты его запроторила?
— Он там, где должен был быть с самого начала, Том. Там, откуда ты увёз его, не считаясь ни с его волей, ни с волей богов.
Том стиснул зубы и всё же попытался встать. Вроде бы у него ничего не было сломано, вот только рёбра ныли незнакомой болью и грудь спирало при слишком глубоком вдохе. Просто ушиб… ничего…
— Куда ты? — окликнула его Алекзайн насмешливо, не мешая ему встать — словно знала, что на самом деле он никуда не пойдёт.
— В Эвентри.
— И что ты сделаешь? Снова его оттуда похитишь? Не кажется ли тебе, что ты ходишь по кругу, Тобиас?
То, что она впервые за прошедшие годы назвала его этим именем, поразило его меньше, чем исчезнувшая из её голоса улыбка. Том повернулся к ней, придерживаясь за спинку в изголовье кровати и морщась от нарастающей боли в рёбрах.
— Оставь его уже в покое, — сказала Алекзайн. Она по-прежнему сидела на краю постели, куда велела его положить, невозмутимая, будто каменное изваяние, и такая же равнодушная, со сложенными поверх юбки руками — леди, ждущая коленопреклонения от своего холопа. — Позволь ему идти его собственной дорогой.
— Той, на которую его усердно толкаешь ты? Это ты называешь его собственной дорогой?
— Он мог выбирать, — возразила Алекзайн. — Ты сам сказал ему это, когда приехал ко мне в Скортиар и увёз его от меня. И он выберет теперь так же, как выбрал тогда.
— Как он выберет, если ты продала его Индабиранам?
— Выберет, не сомневайся. Почему ты так не доверяешь ему? Он…
— Он глупый мальчишка, — отрезал Том. — Он понятия не имеет, во что ввязывается и чем это может обернуться!
— Что ж ты ему не объяснил этого, если сам так хорошо осведомлён?
Том открыл было рот для ответа — и вдруг вспомнил, с кем говорит. Эх, Томас Лурк… не ты ли зарёкся слушать эту женщину, если только будет в твой силе заткнуть свои уши или её рот? Каждое её слово — отрава, ты знаешь это. Ты знал это всегда. Так что же теперь ты стоишь и споришь с ней — споришь с той, которая всегда выходит победительницей в любом споре?
«Потому и спорю, — мрачно ответил он сам себе. — Если я всё равно не могу её убить, так пусть хоть знает, что её заговоры на меня не действуют».
«Да она и так знает это, — шепнуло что-то в глубине. — Знает. И ей всё равно. Ты больше нисколько не волнуешь её. Теперь у неё есть Адриан.
А не из ревности ли ты так старался уничтожить в нём тягу к его предназначению. Не потому ли, что одно его имя говорит тебе: время твоё безвозвратно ушло? И по земле теперь ходит новый Тот, Кто в Ответе за всё…»
Том шатко подбрёл к окну, держась одной рукой за бок, и приоткрыл ставню. Было очень поздно, вернее, совсем рано, над лесом вдалеке занималась заря. Двор постоялого двора был пуст и тёмен.
— Сколько я лежу здесь?
— Третий день.
— Зачем ты меня подобрала? Почему не позволила умереть?
Он услышал мелодичный смех (смех Камиллы…) и лёгкие шаги за своей спиной. Её полупрозрачная ручка легла Тому на плечо, но он не вздрогнул и не повернулся, даже когда почувствовал, как Алекзайн положила голову ему на спину между лопаток, прижимаясь щекой к его грязной рубашке.
— Не знаю. Может быть, я и вправду любила тебя, Тобиас Одвелл.
Он ткнулся виском в угол ставни и беззвучно рассмеялся. Смех отдался новой болью в подреберье, и Том умолк.
— Ничего смешного нет, — сказала Алекзайн. — Если бы я не любила тебя, ты не был бы мною избран.
— Ты, стало быть, зверски неразборчива, дорогая.
— Что поделать — сердцу не прикажешь. Но не беда. Теперь Адриан исправить все ошибки — и твои, и мои.
— Если только прежде не напортачит со своими собственными.
— Ничего. Тогда я пришлю нового, который приберёт за ним. Так всегда происходит, Том.
Впервые в жизни он слышал от неё нечто, похожее на попытку оправдать и утешить. Именно теперь, когда он меньше всего в этом нуждался.
А ведь в тот ужасный год, тринадцать лет назад, она и не думала его оправдывать. Она обвиняла. Выросла перед ним, хмельным и весёлым, когда он вышел отлить за угол таверны в Одвелле, где бражничал с друзьями по случаю своей тайной женитьбы на Камилле Эвентри. И обвинила — в точности как сам он позже обвинил Адриана Эвентри, стоя над ним в залитой полуденным солнцем хижине в горах Уивиелла. Том подумал, что тогда, в той хижине, подсознательно пытался быть таким, как она — говорить, как она, смотреть, обвинять, выносить приговор безо всякого милосердия. «Тобиас Одвелл, — сказало это дивное видение, появившееся перед ним в ночи словно из ниоткуда — так, что он сперва подумал, будто упился до зелёных бесов, — то, что ты сделал сегодня, сломало жизнь сотням и тысячам, включая ещё не живущих. Тебе держать за это ответ». Том не сразу поверил ей — сперва он даже не был уверен, что она ему не привиделась. Он отдавал себе отчёт в том, что его поступок сильно обострит отношения его клана с Эвентри, но, Молог задери, ему было всего двадцать лет, он верил в себя и в то лучшее, что есть в каждом человеке, хотя и проявляется лишь в немногих. Он был уверен, что и его отец, и суровый отец Камиллы поймут и простят, когда узнают о силе их чувства — а в самых честолюбивых мечтах мнил себя причиной грядущего объединения великих кланов, мечтал, как все вместе пойдут против Фосигана и вышвырнут рябого старика из Сотелсхейма… Он и подумать не мог, что его поступок сочтут бесчестьем обе стороны. А Сусанна Блейданс — ну, что Сусанна Блейданс… не первая и не последняя обманутая девица. «Дай ей Гилас того же счастья, что и нам с Камиллой», — думал Том тем вечером, до того, как почувствовал тяжесть в мочевом пузыре и вышел на морозный двор, подставляя холодным ветрам одуревшую свою голову…
И увидел там Алекзайн, которая сказала, что он совершил страшное преступление и довеку будет за это платить.
Так и вышло — и, как он думал позже множество раз, возможно, именно потому, что он послушал её и поверил ей. Когда та, что взяла себе имя Алекзайн, обрушила ему на голову его предназначение, Том испугался — так, что разом протрезвел. Забежал в корчму только затем, чтобы забрать плащ, завернулся в него и, шатаясь, побежал в пургу. Для его двадцатилетнего беспутного рассудка всё услышанное было слишком тяжким испытанием. Он принял самое разумное, хотя и самое трусливое решение: бежать без оглядки. Конечно, он непременно вернётся за Камиллой, немного позже, когда обдумает всё как следует… Он осознал тогда, что у него нет ни одного по-настоящему близкого друга, которому он мог бы поведать о том, что узнал. У него была только Алекзайн. И она сказала: «Слушай меня, Тобиас, и всё будет хорошо».
Он слушал. И через неделю узнал, что сделал отец с Камиллой, когда ему стало известно об их браке — и что сделала после этого она с собой. Искала ли она своего мужа перед этим? Звала ли? Проклинала ли, вдевая голову в петлю?
Этих вопросов было слишком много для Тобиаса Одвелла. Тобиас Одвелл не смог их вынести. И тоже вдел голову в петлю, но даже довести дело до конца ему не хватило духу.
И тем не менее старший сын Дэйгона Одвелла умер там, в этой петле. Тронутую сединой голову вынул из петли простолюдин по имени Том. И первым, что он увидел, были бледные губы Алекзайн, его персонального демона, стоявшего в дверях конюшни. Она как будто ждала, что он завершит начатое — а нет, так вернётся и исправит, что натворил… Но он не верил, что способен. Страх перед тем, что играючи сделали его руки, пока голова была занята юношеской влюблённостью и тщеславной дурью, был слишком велик.
Он и теперь был слишком велик.
И когда много лет спустя, в другой жизни, он узнал, что на смену ему пришёл — страшно вымолвить даже! — несмышлёный мальчишка, то решил, что не имеет права этого так оставить. Не умея исправлять свои ошибки, он решил по меньшей мере предотвратить чужие.
Странно, но теперь, когда он стоял у окна, опершись на резную ставню, чувствуя покалывающую боль в груди и тепло щеки Алекзайн на своей спине, всё это казалось ему куда более очевидным, чем прежде. Может, это оттого, что он снова был с ней рядом. Именно поэтому он все эти годы так старательно её избегал.
— Ты знала, что будет с Камиллой, когда пришла ко мне тогда? Уже заранее знала, что она… что её надо принести в жертву, чтоб началась эта треклятая война?
— Жертва, — повторила Алекзайн, не отрывая щеки от его спины, словно пробовала слово на вкус. — Ты думал об этом так?.. Что ж… Возможно. Богам всегда нужны жертвы, иначе они и пальцем не пошевелят. Уж кому знать, как не тебе.
— А Адриану ты об этом сказала?
Она чуть слышно фыркнула.
— Он умный мальчик. Всё давно понял сам. А нет, так поймёт.
— Умный мальчик? — Том едва не рассмеялся. — Хотя если сравнивать со мной — неглуп, да. Ты нарочно таких выбираешь, Алекзайн?
— Алекзайн ничего не выбирает, Тобиас. Это Янона. Ты же знаешь, я говорила тебе.
Говорила… И вправду, она рассказала ему историю своего невольного породнения с богиней, которой не хотела служить, но Том не особенно верил в эту сказку. На самом деле он никогда всерьёз не задавался вопросом, кто же такая эта женщина, явившаяся ему с вестью, что каждый его шаг и каждый выбор несёт другим гибель. Довольно того, что она сумела использовать его страх и отчаяние так, как было угодно её злой богине. И жертв было много.
Если рассудить толком, то Алекзайн за это в ответе ничуть не меньше, чем Том.
Её руки скользнули вниз и обвили его талию. Она прижалась к нему крепче и заговорила, мягко, настойчиво:
— Том, я прошу тебя. Пожалуйста, позволь Адриану уйти. Ты сам на его месте выбрал малодушие и силой пытался заставить его повторить твой выбор. Но кто дал тебе право вмешиваться в дела богов? Они выбрали его, значит, знали, что делали.
— Они не знали, что делали, когда выбрали меня.
— О, Тобиас, ты так уверен в этом? Подумай: если бы ты не увёз Адриана из его дома в ту ночь, всё могло теперь повернуться иначе. Не думается ли тебе, что ты причастен ко всему, что случилось потом… всему, что он сделал и ещё сделает благодаря тому, что ты спас ему жизнь? И как знать, быть может, именно это самый главный твой поступок из всех, за которые ты в ответе?
Он наконец вздрогнул и обернулся к ней, заставив разжать руки и отступить на шаг. Алекзайн смотрела ему в лицо, и впервые он видел в её глазах нечто похожее на мольбу. «Вот для чего ты не дала мне умереть там, — подумал Том, не сводя с неё глаз. — Чтобы сказать мне всё это. А может быть, на деле я умираю там внизу, в грязи, и всё это — последний не сон и не явь из тех, которыми ты меня опутывала тринадцать лет?»
— Ты хотел убежать от своего предназначения, Тобиас, — сказала Алекзайн очень мягко, — но в итоге сам пришёл к нему. Так всегда бывает.
— Но ты же говорила, что я утратил это… — с трудом ответил Том. — Что раз отказавшись, я больше не в ответе…
— Я не говорила этого. Я говорила, что твоё бремя оказалось сильнее тебя, и ты неспособен его нести. Но это не значит, что оно оставило тебя. Камень, раздавив тебя, не откатывается в сторону.
Ему внезапно захотелось встать перед ней на колени, взять её прозрачные белые руки, которые всего несколько минут назад пытались разомкнуть его пальцы, когда он её душил, ткнуться в них лбом и заплакать — с детской беспомощностью и бесстыдством, как Адриан Эвентри, всхлипывавший у него на груди в зареве пожара на бранном поле. Том слабо улыбнулся этой мысли, этому желанию — и двадцатилетнему Тобиасу Одвеллу, трусу и глупцу, который всегда оставался в нём, как бы он себя ни называл.
«Я всё время убегал, — подумал Том. — Убегал и прятался. Я и его хотел заставить убежать и спрятаться, даже не спрашивая, этого ли он хочет. Просто я не понимал, как можно хотеть другого? Как можно принимать на себя такое бремя, если оно исходит не изнутри тебя, а извне, если оно тебе навязано? Я трус. И даже будучи трусом, я сломал жизни стольких людей — Камиллы, Сусанны, отца и братьев… Я начал войну, но не захотел признать её своей. Я и теперь этого не признаю. Я просто стою в стороне и смотрю, как продолжают падать костяшки оттого, что я коснулся пальцем одной из них… Костяшки или кости — не всё ли равно».
— Чего ты от меня хочешь? — спросил он. — Чего, всех богов ради? Что мне сделать, чтобы ты… чтоб ты меня наконец отпустила?
И женщина, которая не была Камиллой, женщина с лиловыми глазами и спрятанной сединой в волосах, женщина, бывшая чем-то, что он ненавидел, но никогда не мог понять, выдохнула, будто долго, очень долго ждала именно этого вопроса. Вскинула руки — белые, как её седина — и обвила их вокруг его шеи, так, что он почувствовал, понял — и, о боги, принял, — то, от чего столько лет бежал без оглядки и что так и не смог преодолеть.
«Не смог и не смогу. А ты, Адриан Эвентри… ты — сможешь?»
— Что мне сделать? — хрипло спросил Тобиас Одвелл, Тот, Кто был когда-то в Ответе за всё.
— Только одно: прости меня, — ответила Янона Неистовая и оставила бренное и тесное тело женщины, которой притворялась.
Часть 8 Начало
1
Человек, жаждущий как можно сильнее выделяться в толпе, должен следовать нескольким нехитрым правилам. Прежде всего ему надлежит закутаться в чёрный плащ, низко надвинув капюшон на глаза. Путешествовать он должен верхом, шагом, не понукая лошадь, а если случай либо необходимость занесут его в людное место вроде таверны, то двигаться он должен боком, вдоль стенки, заказ произносить приглушённым бормочущим голосом, а затем, ни в коем случае не озираясь по сторонам, торопливо скрыться в жилом крыле.
Тот, кто будет следовать этим наставлениям, может быть совершенно уверен, что привлечёт пристальное внимание каждого, имеющего глаза.
Обо всех этих простых и очевидных правилах леди, скрывшаяся за портьерой, отделяющей обеденный зал гостиницы «Седой филин» от спален, явно не имела никакого представления. Из этого Эд сделал вывод, что пробираться куда-либо тайком было не в её привычках. Если бы не полный набор вышеназванных действий, Эд бы даже не обратил на неё внимания — в гостинице было людно и шумно, и до прибытия таинственной леди в зале не наблюдалось ни одного человека в плаще с капюшоном. Если бы леди изволила спросить мнения Эда на сей счёт, он бы охотно поведал ей, что самый лучший способ замаскироваться — это выйти на люди голым. Разумеется, только слепой не обратит взгляд на такого человека, но после, если свидетелей спросят, они опишут каждый мускул и каждый шрам виденного ими чудака, не говоря уж о более пикантных приметах, но ни один из них не вспомнит его лица.
Впрочем, благородная леди всё равно вряд ли бы согласилась использовать подобный способ конспирации, даже несмотря на его очевидную эффективность.
Среди слуг, снующих по заполненному залу, Эд выбрал самого юного и подозвал его.
— Кто эта леди? — спросил он, неуловимым жестом опытного фокусника извлекая золотую монету и столь же неприметно перемещая её в ладонь мальчишки.
— Какая леди? — удивлённо спросил тот.
— Леди в чёрном плаще, которую ты только что пропустил в спальни.
— Да Гилас с вами, сударь, — ещё сильнее удивился тот, зажимая монету в кулаке. — Вовсе никакую леди я не отводил в первую комнату слева на втором этаже. Вам померещилось.
Эд благодарно улыбнулся и попросил ещё вина, главным образом чтобы отослать мальца и дать себе время докурить трубку. Дело, по большому счёту, не в том, что он маялся скукой, и даже не в том, что с тех пор, как он выехал из Сотелсхейма, у него ни разу не было женщины. И уж совершенно точно не в том, что он искал повод и средство оттянуть миг, когда прибудет к месту своего назначения…
Просто он заметил женщину, которая, хоть и действовала несколько наивно, однако же довольно успешно старалась остаться незамеченной. Будь на месте Эда кто-нибудь другой, он ощутил бы разве что досужее любопытство, усмехнувшись про себя забавной случайности. Но в жизни Эда Эфрина не бывало случайностей. Его жизнь стала намного труднее с тех пор, как он понял это — и одновременно намного легче, потому что с тех пор он не знал колебаний. Ныне нечто зависело от того, останется ли он на месте или поднимется наверх следом за таинственной леди. Что именно — он не знал.
Докурив и выбив трубку, Эд поднялся и вышел из обеденного зала в спальное крыло.
Это была хорошая гостиница, одна из самых дорогих в этой части Тортозо; Эд остановился в ней, зная, что теперь до самого Скортиара ему не встретится ни одной забегаловки подобного уровня. Здесь наливали хорошее вино, почти не разбавленное, практически не шарили по карманам, а публика подбиралась спокойная. За портьерой, отрезавшей Эда от сдержанного гула обеденной залы, царил почти непроглядный мрак. Лестницу он нашёл на ощупь; к счастью, она была достаточно крепка и даже оснащена перилами, видимо, специально для таинственных леди, пробирающихся по ним вслепую. Первую комнату слева обнаружить оказалось проще простого, несмотря на густой мрак, вползавший на второй этаж из нижнего коридора, ибо из-за закрытой двери доносились голоса. Два голоса, если быть точным. Женский и мужской. Оба сердитые донельзя.
Эд проверил, легко ли выходит меч из ножен, и придвинулся ближе.
Одним из немногих недостатков «Старого филина» были огорчительно тонкие стены.
— А я сказала вам, что это невозможно! Я устала повторять это снова и снова, Родерик, вы будто вовсе меня не слушаете!
— Воистину, у меня просто нет сил слушать ваши злые слова, лишающие меня разума. Но я не верю, нет, слышите, я не верю, что вы и вправду можете быть столь жестоки! Вы что-то скрываете от меня, я это чувствую…
— Родерик! Да вы оглохли, что ли?! Я прямо вам сказала: мой муж вот-вот узнает обо всём, и я не намерена…
— Так вы боитесь его мести! О, любовь моя! Если так, то вы ведь знаете, что ваш бедный, ваш потерявший голову Родерик положит и жизнь свою, и честь на алтарь взаимного чувства, коим…
— Вы скорее положите на алтарь мою жизнь и честь. Да пустите же мою руку, несчастный! И встаньте наконец с колен!
Нельзя сказать, чтобы эта ссора тайных любовников была Эду очень уж интересна или познавательна. Он больше трёх лет провёл при дворе конунга и наслушался подобных диалогов достаточно, чтобы на всю жизнь удовлетворить праздный интерес. В общем-то, глупо с его стороны было следить за этой женщиной — глупо и низко, если уж говорить начистоту, — и самым разумным, что он мог теперь сделать, было повернуться и уйти так же тихо, как он пришёл сюда.
Но он не ушёл. Он стоял и слушал, зная, что в его жизни ничто не происходит случайно.
— Ну, довольно. Я сказала всё, что имела вам сказать. Я ухожу.
— Постойте! Но ведь вы всё же пришли, пришли сюда! А это значит, что ваше сердце…
— У меня зубы от вас сводит, Родерик, — сказала таинственная леди голосом, говорившим о её чувствах много больше самих слов, и, чтобы не понять её, следовало и вправду быть кромешным идиотом. — Даже не знаю, от чего больше: от вашей глупости или от вашего упрямства. Я пришла только потому, что вы отказывались верить в подлинность моих писем, где я недвусмысленно говорила вам то, что повторяю сейчас. Кстати, вы обещали, что вернёте мне их… и я, кажется, просила вас отпустить мою руку.
— Я не могу, — мужской голос заговорил тихо и очень напряжённо, так напряжённо, что Эд невольно подобрался. — Я не могу отпустить вас.
— Что вы делаете? Это просто смешно. Я немедленно ухожу. — В женском голосе не было страха, лишь холодная непререкаемость.
— Вы никуда не уйдёте. Вы пришли ко мне, значит, вы хотите меня. Так было всегда, и не лгите мне больше…
Вместо ответа на сей раз раздался хлёсткий звук пощёчины. А за ним — крик. Сдавленный, приглушённый, исполненный больше гнева, чем страха, — она всё ещё не верила, что он посмеет зайти так далеко, и боялась себя выдать.
Разговор сменился вознёй и звуками яростной борьбы. Эд не стал больше ждать.
Они не заперли дверь — о, сколько множества разнообразных событий происходили в этом непредсказуемом мире из-за кстати и некстати запертых или, напротив, незапертых дверей! Впрочем, будь дверь заперта, Эду удалось бы её выбить, пусть и не сразу, так что в данном случае сие обстоятельство вряд ли имело критическое значение. Под ударом ноги Эда дверь отлетела к стене, и двое любовников, боровшихся на полу, одновременно вскинулись — как показалось Эду, с одинаковым испугом. Незадачливый господин по имени Родерик, успевший задрать юбку своей строптивой подруге, озабоченно моргал, косясь на направленное в его лицо лезвие меча.
— Да тут, я погляжу, творится сущий разбой, — с упрёком проговорил Эд. — Будьте любезны оставить леди в покое, сударь.
— Кто вы такой? Убирайтесь вон! — выкрикнул Родерик с гневом, за которым явственно проглядывало замешательство — не было похоже, что он мнит себя умелым бойцом. Подмятая под ним женщина, как ни странно, промолчала. Эд покачал головой.
— Боюсь, что это исключено. К тому же, поскольку я и так уже нарушил ваше уединение, у меня нет ни малейшей причины позволить вам уединиться снова. Кстати, если я не ошибаюсь, здесь происходит адюльтер, чего моя честь никак не позволяет мне одобрить и чему я никоим образом не могу потворствовать. Отпустите леди и встаньте, сударь. Я не стану повторять в третий раз.
Скрипнув зубами, неудавшийся насильник разжал руки и неловко поднялся. Эд несильно кольнул его в грудь, заставив отступить на два шага. Он всё ещё не смотрел на распростертую женщину, но слышал, как шуршат её юбки, когда она оправляла их и поднималась с пола. Она так и не сказала ни единого слова.
— С тобой всё в порядке? — не оборачиваясь, спросил Эд.
Родерик, услышав это, ощерился.
— Вы знакомы?! — выпалил он, и его лицо резко и очень быстро налилось кровью. — Так это он… это на него вы меня променяли…
— Хочешь, чтобы я его убил? — негромко спросил Эд, когда ринувшийся было на него с кулаками мужчина наткнулся на выставленный клинок и со стоном отступил.
Вместо ответа женщина шагнула мимо него к своему любовнику и влепила ему тяжёлую, не по-женски крепкую пощёчину.
— Любовь моя… — заскулил тот, и она, не оборачиваясь, сказала:
— Сделай так, чтоб он унялся.
Эд шагнул вперёд. Родерик заморгал, будто не понимая, что он собирается сделать — и через миг, получив удар рукоятью меча в висок, мягко осел на пол.
— Если ты действительно не хочешь, чтобы твой муж узнал об этом, лучше его убить, — сказал Эд, поворачиваясь к ней.
Она стояла, распрямив плечи и слегка сжимая кулаки. Её щёки розовели от гнева. Эд помнил этот румянец, выступавший не от стыда и смущения, нет — всегда только от гнева. Белокурые локоны, выбившиеся из-под сетки, разлетелись по плечам. Она была красива. Очень красива и похожа на мать больше, чем любой из них, — Эд не был удивлён, что мужчины сходили по ней с ума. И, он подозревал, ей нравилось это. Ей нравилось играть с опасностью, делать то, что запрещено.
Она всегда такой была.
— Могла ли я подумать, — сказала леди Тортозо, — что придёт день, когда кто-нибудь из моих братьев всё-таки сможет меня защитить. И могла ли подумать, что это будешь ты.
— Мог ли я подумать, что ударю другого мужчину из-за тебя, — в тон ей ответил Эд. — Если кому мне всегда и хотелось вмазать, так это тебе.
— Ты всё только обещал. Только грозился, а ударить женщину кишка была тонка.
— К сожалению, теперь я переменился, Бетани.
— Да, — сказала она. — Я вижу.
И только тогда его младшая сестра, та самая, из-за которой всё случилось, та, из-за которой он двенадцать лет назад запер калитку, шагнула вперёд и обняла его. Она была маленького роста, и её голова, едва доходившая Эду до плеча, легко и естественно легла ему на грудь. Эд положил ладонь, свободную от меча, на её золотоволосую головку и, закрыв глаза, прижался к её темени губами.
— Я думала, ты умер, — прошептала Бетани, не отнимая щеки от его груди. — Думала, вы все умерли… Ох, Адриан… Адриан…
Ему казалось, что она плачет, но он ничего не сказал, только продолжал слегка поглаживать её волосы. Как сказать ей, что она была права? Что они все мертвы, даже те, кто ещё ходит по земле.
Наконец она отстранилась, и Эд отпустил её, однако задержал ладонь на её шее и слегка провёл большим пальцем по её подбородку.
— Ты точно в порядке? — спросил он, и, когда она, сглотнув, кивнула, добавил: — Точно уверена, что хочешь оставить ему жизнь?
На миг ему почудилось, что она колеблется. Он уже собирался принять решение самостоятельно, избавив её от этого бремени — но не успел.
— Бетани! Что это значит?! Как ты могла?!
«Ещё один?» — удивился про себя Эд. Не то чтобы назначать два тайных свидания в одном месте и в одно время было совсем уж не в духе его любимой сестрёнки, но такой поступок заслуживал звания не легкомыслия даже, а откровенной глупости, в то время как дурой Бетани вроде бы не была… или поглупела с возрастом?
Впрочем, по страху, мгновенно вспыхнувшему в её глазах, Эд понял, что ошибся. Она была удивлена не меньше его — и, в отличие от него, по-настоящему испугана.
— Роберт! — круто развернувшись и стряхнув руку Эда со своей шеи, воскликнула она. — Что ты здесь делаешь?!
— Этот вопрос я намерен задать тебе… и этому человеку! — прорычал плотный низкорослый мужчина, обнажая меч и шагая к Эду с весьма решительным и недвусмысленным видом. В тёмной науке конспирации он был осведомлён ещё меньше, чем Бетани — а может, просто отличался бешеным темпераментом, лишившим его предусмотрительности и помешавшим уловить щекотливость ситуации. В любом случае, было не слишком разумно ревниво выслеживать жену, вырядившись в одежду цветов своего клана, тем более что травянисто-зелёный и ярко-желтый цвета Тортозо были заметны и узнаваемы даже в полумраке.
Однако в чём этому человеку нельзя было отказать — это в прямоте и отваге, посему в глазах Эда он был заведомо привлекательнее малодушного мямли, которого леди Тортозо избрала себе в любовники.
— Не могу знать, чем вызван ваш гнев, сударь, — холодно сказал Эд, не поднимая меч, что было довольно рискованно, ибо лорд Тортозо явственно намеревался изрубить его на куски. — Я только что спас вашу супругу от посягательств насильника — и вот моя награда? Я в высшей степени смущён, мой лорд.
Ледяной и оскорблённый тон, с которым он произнёс эти слова, в сочетании с самими словами на мгновение вернули лорду Тортозо ясный рассудок. Мутный взгляд его обвёл комнату, задержавшись на распростертом на полу бездыханном теле и несколько дольше — на приведённом в некоторый беспорядок туалете Бетани. Затем лорд Тортозо повернул к супруге голову жестом выпущенного из загона быка и спросил:
— Это правда, Бетани?
Это, с какой стороны ни посмотри, была истинная правда, и Бетани уверенно кивнула. Эд видел, что страх из неё уже ушёл — теперь он был склонен думать, что она просто растерялась от неожиданности, — и она вовсе не собирается падать в обморок, что, впрочем, в сложившейся ситуации было бы одним из самых удобных решений. Лорд Тортозо какое-то время смотрел ей в лицо, будто пытаясь прочесть в нём истину, которую от него бессовестно утаивали. Потом неуверенно сказал:
— Что ж… в таком случае… я должен, видать, принести вам заверения в моей признательности… и всё такое прочее, — проворчал он, не убирая, однако, клинок. — Этот мерзавец, я так понимаю, мёртв?
— Мертвее некуда, — не моргнув глазом, соврал Эд.
Роберт Тортозо кивнул, ещё более нерешительно.
— В таком случае, я ещё раз сердечно благодарю и… постойте… Бетани, что вообще произошло? Почему он напал на тебя? И как ты, Молог раздери, здесь оказалась?!
Лорд Тортозо был не только вспыльчив, недальновиден, беспечен и прямолинеен. Он был ещё и немножечко туповат. Самую малость, но этого было достаточно, чтобы его жена вертела шашни у него под носом — и чтобы Эд безо всякого труда смог найти к нему подход на третьей минуте знакомства.
— Всё объясняется очень просто, — сказал он и, убрав клинок в ножны, шагнул к Бетани и взял её за руку. — Она встречалась здесь со мной.
Ладонь Бетани дрогнула в его руке. Лорд Тортозо открыл рот. Но прежде, чем из его груди успел вырваться рёв, Бетани, метнув на Эда внимательный взгляд и встретившая в ответ полное его спокойствие, повернулась к мужу и сказала:
— Милый, позволь представить тебе моего брата, Адриана Эвентри.
— Счастлив запоздалым, но давно и трепетно лелеемым в мечтах знакомством, — добавил Эд и изящно поклонился.
Лорд Тортозо был, без сомнения, не только вспыльчив, недальновиден, беспечен, прямолинеен и туповат, но и не особенно куртуазен, потому что в ответ на это он лишь раскрыл рот ещё шире. Однако, несмотря на такое количество очевидных недостатков, он был хорошим человеком. Гораздо лучшим, чем мог предполагать Эд, стоя перед ним и держа за руку его жену, которую за Роберта Тортозо отдали одиннадцать лет назад и которую он все эти одиннадцать лет любил так сильно, как умел.
— Вы — Адриан Эвентри? — потрясённо повторил он. Эд снова поклонился.
— Я прошу прощения, милорд. Было низко и малодушно с моей стороны подвергать мою сестру такому риску, но…
— Это была моя идея, — подхватила Бетани с выражением лица, изображавшим самое искреннее раскаяние, какое только приходилось видеть Эду. — Я не знала, как ты примешь его, боялась, ты захочешь выдать его Одвеллу и…
— Что за глупости, Бетани, — сказал её муж. — Ты прекрасно знала, как бы я его принял.
И он протянул Эду широкую, жёсткую от мозолей ладонь.
— Я счастлив и польщён приветствовать лорда Эвентри на своей земле, — сказал лорд Тортозо, и Эд понял, что, как обычно, оказался в нужном месте в нужное время и сделал именно то, что теперь могло всё изменить.
2
В определённых кругах Верхнего Сотелсхейма ходила поговорка: «Нет сыновей — позови на помощь Тортозо». Если чем и был славен этот не особенно древний и отнюдь не выдающийся клан, так это невероятной плодовитостью, особенно в том, что касалось производства на свет наследников в количествах, превышающих все разумные пределы. Нынешний лорд Тортозо имел одиннадцать братьев и двух сестёр, давным-давно покинувших отчий дом и отданных дружественным кланам; сам же замок Тортозо полнился женщинами Гвэнтли, Бьярд, Драйдер, Уолл и Пейреван, а одна из шамкающих старушек, уже многие годы коротающая дни за одним и тем же вышиванием, прабабка лорда Роберта, приходилась кузиной самому лорду Чарльзу Одвеллу, прадеду нынешнего лорда Дэйгона. Все эти женщины, осенённые благословением мужской силы Тортозо, плодились и размножались, согласно завету Гилас, с рвением, достойным лучшего применения; а ведь у лорда Роберта была, помимо братьев, целая орава дядьёв и племянников, а также кузенов разной степени родства. К великому сожалению, ни воинской доблестью, ни острым умом, ни хотя бы деловой хваткой Тортозо похвастаться не могли. Особенно туго было с последним, в связи с чем финансовые дела клана постоянно пребывали в некотором беспорядке. Из шести их замков четыре были убыточными, что не помешало лордам Тортозо рассовывать по ним стремительно плодящихся родственников. Ситуация усугублялась тем, что женщины Тортозо упрямо рожали мальчиков, мальчиков и снова мальчиков, которые, вырастая, оставались в клане, требовали земель, еды и денег на вооружение. Посему, в отличие от прочих кланов, Тортозо не могли нарадоваться каждой новой дочери, рождённой их женщинами, потому что это означалось, что всего через лет пятнадцать её можно будет спихнуть на сторону, освободив лишнюю койку в замке.
В свои двадцать четыре года Бетани Тортозо, урождённая Эвентри, успела подарить мужу трёх дочерей. Неудивительно, что лорд Одвелл обожал своих женщин — всех четверых.
— Папа, папа! — раздался пронзительный писк из-под копыт жеребца лорда Роберта, зацокавших по опущенному подвесному мосту, когда хозяин замка вместе с женой и шурином въехал во двор.
— Девочки мои! — пробасил тот в ответ, спрыгивая наземь и раскрывая для дочерей свои медвежьи объятья. В них мгновенно влетели две пичужки лет десяти, обе светловолосые и курносые, как мать, и широкоскулые, как отец. Когда могучие руки оторвали их от земли, визг стал ещё громче. Лорд Тортозо выглядел совершенно разомлевшим.
Третья девочка, с виду младше близняшек года на два, возилась у крепостной стены, но тут увидела родителей и побежала вперёд, однако остановилась, не дойдя десяти шагов. Эд уловил в её взгляде настороженность — и отметил про себя, что эта хмурая рыжеволосая девочка не похожа ни на отца, ни на мать, ни хотя бы на сестёр.
Мать заметила её и, наклонившись вперёд, протянула к ней руку:
— Анна! Иди сюда!
Казалось, все они не виделись много дней.
Девочка сказала, не двигаясь с места:
— Почему вы вернулись так скоро? Ты ведь сказала, что едешь к тёте Присцилле в Морстор. А папа сказал, что глупо было отпускать тебя одну и поехал следом. Вы уже съездили? Ты привезла мне морсторских яблок?
— Нет, милая, не привезла, — спешиваясь, сказала Бетани. — Я не виделась в этот раз с твоей тётей Присциллой. Кстати, сколько раз говорить, чтобы ты называла её не тётей, а леди?
— А кто этот человек? — спросила малышка Анна, не ответив на замечание матери.
Старшие девочки, закончив тереться носиками о щетину отца, как по команде обернулись и уставились на Эда, будто только теперь его заметив. Он начинал думать, что старшие пошли характером и смекалкой в отца, тогда как младшая со временем станет точной копией матери — если не внешне, то уж норовом точно.
— Это твой дядя Адриан, — подойдя к девочке и взяв её за руку, сказала Бетани. — Поздоровайся.
— Здравствуй, Анна, — сказал Эд.
Девочка посмотрела на него исподлобья. Её нельзя было назвать хорошенькой даже сейчас, когда она ещё находилась в том возрасте, когда милыми выглядят почти все дети, и в будущем уж тем более не обещала стать красавицей. У неё было больше дядьев, чем она могла сосчитать, и появление ещё одного явно не вызвало у девочки восторга. Её сёстры, напротив, радостно заверещали, наперебой повторяя его имя. Лорд Тортозо, слегка одуревший от прилива нежности, наконец очнулся и, нарочито посуровев, опустил обеих девочек на землю.
— А ну потише, тарахтелки! Гость только на порог, а вы его уже тревожите. Бетани, вели приготовить пожрать. Мне принесли сплетню на твой счёт, когда я едва сел обедать, и я сорвался, успев съесть одного жалкого рябчика.
Бетани посмотрела на него с кротким упрёком. «Любопытно, — подумал Эд, — что же за сорока принесла лорду Тортозо известие, что его жена направляется в таверну неподалёку от замка, чтобы встретиться там с неким мужчиной. И ещё более любопытно, знает ли сама Бетани эту сороку…»
Слуги забрали коней. Бетани что-то сказала Анне, та огрызнулась, за что получила шлепок и была отослана прочь. Напоследок Адриан удостоился ещё одного хмурого, почти ненавидящего взгляда. Эта девочка была слишком угрюмой для своих лет, хотя не похоже, что Бетани её не любила. Скорее напротив — старших дочерей она приласкала, причём весьма небрежно, лишь после того, как младшая, шмыгнув носом и приняв рассеянное поглаживание по голове от отца, вернулась к своим занятиям у крепостной стены. Странно, но в эту минуту она невероятно напомнила Адриану Бертрана. Не такого, каким он стал сейчас, сурового и в то же время бесконечно наивного юношу, — а ребёнка, нелюдимого, робкого, которым он когда-то был. Адриан смотрел на малышку Анну, ковылявшую по замковому двору, на её короткие, растрёпанные светлые волосы, взъерошенные на затылке, и изумлялся огромному, неодолимому чувству дома, которое она вызывала в нём — она, Анна Тортозо, пробудившая в Эде Эфрине память о том, что оба они — Эвентри.
Двор был настолько забит разнообразными Тортозо и их челядью, что никто не обратил особенного внимания ни на отъезд леди, а затем лорда, ни на их спешное возвращение. Эд был на этой земле всего несколько часов, но уже начинал понимать, что эти люди жили не то что одним днём — одним часом. Их не слишком волновало то, что происходит вокруг, они ленились что-то вызнавать и менять — и по этой простой причине были очень, очень счастливы. Эд давно не видел столько улыбающихся лиц.
Лорд Роберт покинул замок всего несколько часов назад, и слуги, знавшие его вспыльчивый, но отходчивый нрав, решили не разбирать обеденный стол. Они предвидели, что, вне зависимости от того, вернётся ли лорд Тортозо в гневе, волоча за конём неверную жену, или в простодушной радости от собственной оплошности, он непременно будет голоден. Правда, рябчики, поросята и рыба успели порядком поостыть, но холодец из оленины был всё ещё очень неплох. В таверне Эд не успел как следует поесть и теперь с большим удовольствием разделил трапезу с септой человека, которого его брат Бертран обезглавил четыре дня назад.
Если слухи об этом и успели докатиться до Тортозо, лорд Роберт пока ничем этого не выдавал.
Бетани обедала с ними и была с виду совершенно спокойна — либо великолепно владела собой. Она сидела по правую руку от мужа и, отослав челядь, сама прислуживала ему во время обеда, что было редкостью для людей их статуса. Лорд Роберт охотно принимал её ухаживания, задорно шутил, расспрашивал Эда о том, как ему нравятся тортозские дороги и хвастался тем, что спустил на их благоустройство едва ли не четверть всех своих прошлогодних доходов.
— Это я его уговорила, — объяснила Бетани Эду. — Только полный дурак мог оставлять их в том состоянии, в каком они были, и тешить себя надеждой, что Тортозо останется торговым путём — особенно после дороги, которую проложил у себя Логфорд. Та самая, что раньше звалась Тряской дорогой. Ты представляешь, он всю её вымостил камнем! Путь по ней теперь чуть не вдвое быстрее, чем по нашим землям, — а Роберт ещё дивился, почему это так резко упали наши доходы с приграничных застав!
— Ну уж прости, милая, — виновато развёл руками её муж, ничуть не задетый этой чересчур рассудительной и дерзкой для женщины тирадой. — Были бы у меня Логфордские каменоломни — я бы тоже такое учудил…
— Они у тебя были бы, если бы ты только соизволил оторвать свою жирную задницу от кресла, — отрезала Бетани. Они как будто вели какой-то застарелый спор, ничуть не смущаясь присутствием постороннего. Эд деликатно откашлялся.
— Логфордские каменоломни, — сказал он, — если я не ошибаюсь, состоят на золотом обеспечении у лорда Одвелла. По крайней мере, прежде состояли. Если обстоятельства изменятся, Логфорду, скорее всего, придётся начать сдавать их в аренду.
— В аренду! — фыркнула его сестра, и её глаза блеснули, как в детстве, перед тем, как она собиралась отпустить одну из тех злых насмешек, которыми так любила унижать своего старшего брата при слугах. Это было до того знакомо, что у Эда на миг внутри сжалось в точности так же, как много лет назад, когда он беспомощно смотрел на неё, сжимая кулаки и не зная, как её остановить и что ей ответить. С тех пор он научился отвечать, но сейчас это ощущение вызвало в нём не гнев, а вспышку острой, почти болезненной нежности к ней, к его несносной, невыносимой младшей сестре.
— В аренду! — повторила леди Тортозо. — А платить за неё, вероятно, будешь ты, мой милый братец — иначе придётся в качестве платы посылать Логфорду наших мужчин, чтоб вкалывали на каменоломне. А хотя почему бы и нет? Видит Большерукая, это единственное, чего у нас в достатке, вот только толку от них никакого!
Было просто поразительно, что она говорила так в присутствии своего мужа, который сегодня едва не поймал её на супружеской измене. Эд, кажется, начинал кое-что понимать. Насупленный, обиженный вид лорда Роберта (в этот миг в нём неуловимо промелькнуло сходство с Анной) говорил о том, что хотя ему и неприятно слышать обличения жены, однако не согласиться с ней он не может. Эд вспомнил, что сказал и сделал этот человек, услышав его имя. Внезапно ему нестерпимо захотелось курить. Он подавил порыв и сказал:
— Арендную плату, сестрица, можно платить не только деньгами. Кровь подойдёт тоже.
И тут лорд Роберт впервые по-настоящему изумил его, щёлкнув пальцами и торжествующе воскликнув:
— Х-ха! А я тебе что говорил?!
Не дав жене времени ответить, а Эду — отреагировать, лорд Роберт, септа клана Одвелл, навалился могучей грудью на стол, едва не перевернув блюдо с рябчиками, приблизил к Эду взлохмаченную голову и сказал:
— Лорд Эвентри, вы прибыли сюда, чтобы предложить мне предать Одвелла и присоединиться к войне вашего клана?
Эд задумчиво потёр подбородок, делая вид, будто размышляет над ответом. На самом же деле он размышлял над тем, насколько оправдан будет риск в этот раз. Как обычно, весьма многое зависело от того, как он себя поведёт. Судя по некоторым косвенным признакам, лорд Тортозо будет не просто озадачен, а оскорблён, когда поймёт, что ничего подобного Эд не планировал, во всяком случае пока, и лишь случайность — одна из многих случайностей — свела его сегодня днём в таверне с сестрой, которую он не видел двенадцать лет. Кроме того, сказать так — означало предать Бетани, ведь лорд Роберт поверил, что она убежала из замка на тайное свидание с любимым братцем, чей клан в войне с их хозяином.
— Давно вы, мой лорд, знаете о том, что случилось давеча в Эвентри?
Лорд Тортозо хмыкнул. То, что он был не очень сообразителен, не означало, что он глуп.
— С сегодняшнего утра.
— Роберт! — воскликнула Бетани.
Тот послал ей кривую улыбку.
— Прости, дорогая, не было случая тебе сказать. А когда ты ни с того ни с сего заторопилась навестить Присциллу, я заподозрил, что ты и сама знаешь. Да, сегодня утром прибыл гонец из Одвелла. Тайно прибыл, ко всему прочему. Похоже, Одвеллы спешат уведомить верных людей, но не торопятся разносить печальную весть по всему Бертану. Четвёртого дня твои братцы, Бетани, захватили замок Индабиртейн и перерезали половину Одвеллов и Индабиранов. Клан, которому я присягал, обезглавлен, и Бертран Эвентри собирает армию, чтобы идти на Одвелл и сровнять его с землёй. Так-то.
Он казался очень довольным, когда говорил это. Бетани слушала, широко раскрыв глаза. Потом перевела взгляд на Эда, и тот пожал плечами, показывая, что возразить ему нечего. Он ждал от неё очередной тирады, но она снова его удивила. Он не видел её так давно…
— Бертран, — прошептала Бетани, и Эд слегка вздрогнул при этом имени, вспомнив могучего воина с непроницаемыми глазами и тёмным от ярости лицом, которого теперь должен был считать своим братом. — О, Большерукая… так он тоже вернулся… вы оба…
Она смолкла — и вдруг резким движением схватила стоявший на столе кубок и швырнула его в Эда.
Это было так неожиданно, что он едва успел уклониться. Кубок был бронзовый, и, не окажись Эд столь проворен, ему запросто могло бы расшибить голову. Он обернулся, провожая взглядом покатившуюся по полу чашу, потом в изумлении посмотрел на сестру.
Она плакала, уткнувшись лицом в ладони.
— Вы оба… как вы могли!.. я же все эти годы думала, что вас…
Роберт Тортозо встал, шагнул к ней и обнял за плечи. Он не смеялся, хотя Эду почему-то казалось, что человеку с его нравом женская истерика должна показаться очень забавным зрелищем. Когда его рука легла на плечо жены, Бетани сердито стряхнула её и уже открыла рот, чтобы, по всей видимости, обрушить обвинение в том, что он смолчал, когда Роберт тихо сказал:
— Я полагаю, вам стоит немного побыть наедине, дорогая моя. В таверне я прервал вас. После подниметесь в оружейную, там и продолжим.
Она схватила его за руку и с силой сжала её. В ответ муж погладил её по голове, точно тем же жестом, каким гладил свою младшую дочь во дворе, и ушёл, напоследок уронив на Эда ободряющий взгляд.
Когда они остались вдвоём, Эд какое-то время сидел неподвижно. Потом встал, поднял с пола чашу, едва не проломившую ему череп, обошёл вокруг стола и поставил её рядом с Бетани.
— Ты совершенно не изменилась, — сказал он, и Бетани вздохнула.
— Правда? Роберт тоже так говорит. Всю жизнь твердит, что влюбился в меня в первый же день, когда я за обедом попыталась убить его вилкой.
— Ты не хотела за него замуж?
— Ты, я вижу, такой же дурак, каким был всегда. Мне было двенадцать лет, а ему сорок, он был старый, толстый и вонючий. Меня забрали из дома от отца и матери и от братьев, которых я любила. Как я могла за него хотеть?
Это было хуже всех обвинений, которые она имела право на него обрушить и к которым он уже внутренне приготовился. Эд встал рядом с Бетани на колени и взял её руку, поразительно безвольно лежащую поверх платья.
— Анастас собирался вернуться. Вернуться и спасти нас всех.
— Ерунда, — ответила Бетани резко, но не отняла у него своей руки. — Анастас вернулся, но уж точно не за мной. Он вёл свою дурацкую войну, он жёг и убивал, чтобы отомстить за мёртвых, а на живых ему было плевать. Он даже не попытался меня найти!
— Ты стала женой Тортозо. Ты не была больше частью клана.
— Конечно! Клан! — воскликнула она. — Кого волнуют люди? Людей нет, есть только трижды проклятые кланы!
Её рука в его ладони внезапно сжалась, пальцы ухватили его так же крепко, как перед тем — руку Роберта.
— Я совсем не представляю себе Бертрана, каким он стал сейчас. Скажи, его тоже волнует только клан?
Эд молча кивнул. Она пристально смотрела ему в лицо.
— А ты? Что волнует тебя, Адриан?
Он не был готов ответить на этот вопрос. Слишком много между ними оставалось несказанного — и даже когда будет сказано всё, Адриан сомневался, что Бетани окажется способна его понять. Проклятье, даже Бертран не мог его понять. А она была женщиной. Женщин не интересуют кланы, их интересуют дети, и мужья, и родители, и братья.
— Последние несколько лет, — проговорил он наконец, — я провёл в Сотелсхейме под именем Эдварда Фосигана. Я женился на дочери конунга, Бетани.
Она посмотрела на него с недоверием. Потом, когда поняла, что он не шутит, усмехнулась.
— Вот как! Однако же славно нас пораскидал Милосердный Гвидре, ты не находишь?.. — в насмешливых словах сквозила горечь, и Эд сжал её руку чуть крепче. Ему казалось очень важным не разрывать сейчас этого рукопожатия.
— Теперь моя жена мертва, — спокойно продолжал он. — По моей вине. Бетани, за эти годы я был во многих местах и сделал очень много такого, чем никогда не смогу гордиться. И всё это время я меньше всего думал о нашем клане. О тебе я не думал тоже. Вспоминал, но не думал. Ты упрекнула Анастаса в том, что он жил ради мести. Бертран теперь живёт ради того же. Я — нет, мне месть не нужна, но… я тоже бросил тебя. По разным причинам, но мы все это сделали, сестрёнка. И если ты решила их ненавидеть за то, что они тебя оставили — то ненавидь и меня тоже. Поверь, я заслуживаю этого даже больше, чем они.
За все прошедшие годы он никогда и никому не говорил этого так прямо и так просто. Ещё не закончив, он ощутил, что сбросил громадную тяжесть с сердца. Бетани смотрела на него не моргая, не сжимая руку крепче, но и не разжимая её. Потом слабая, усталая улыбка тронула её красивые полные губы, а другая рука — та, которая умела отвешивать тяжёлые пощёчины, — мягко легла на его лицо.
— Ты всегда был таким странным, Адриан. Самым странным из всех нас. Я терпеть тебя не могла.
— А я тебя. Но всё равно мы друг друга любили, правда?
— Правда, — эхом откликнулась Бетани, и оба они ненадолго замолчали.
Потом Эд сказал, немного нерешительно, потому что боялся её обидеть:
— Я вижу, ты не очень несчастна.
— Я счастлива. И была бы счастлива абсолютно, если бы у Роберта было чуточку больше мозгов.
— Будь у него чуточку больше мозгов, самую чуточку, он бы тебя не слушал.
— Это верно, — фыркнула она — и рассмеялась. — Я действительно не могла бы мечтать о лучшем муже, но это было трудно понять в двенадцать лет. Так значит, ты не собираешься мстить? В таком случае, что означает эта война против Одвеллов, о которой толкует Роберт?
— Ты спрашиваешь, что она означает для меня, для тебя, для Бертрана или для страны? — спросил Эд очень серьезно.
Бетани метнула в него сердитый взгляд.
— Я не дура, Адриан!
— Это я уже понял, сестрёнка.
— Скажи, ты знал, что затевает Бертран?
— Нет. О его действиях я узнал в Сотелсхейме от конунга. Лорд Фосиган собирался поддержать его, но сейчас я уже не уверен, что его намерения не изменились.
— Почему?
— Потому что Бертран будет воевать против него.
Она охнула и, наконец вырвав из его ладоней свою руку, прижала её к губам — совсем детским жестом. У неё муж и трое детей, она привыкла управлять делами почти нищего и непристойно разросшегося семейства, но в глубине души осталась ребёнком. Нежность, которую испытывал к ней Эд, стала почти невыносимой.
— Это ты его натравил?.. Но почему?
— Потому что это Грегор Фосиган едва не уничтожил нашу семью двенадцать лет назад.
Она заморгала. Эд спокойно объяснил:
— Нападение Индабиранов было провокацией, исходившей от конунга. Он натравил их на нас — он, а не Одвелл. Хотя они и сами об этом не знали. Всё было подстроено довольно ловко.
— О, Большерукая, — выдохнула Бетани. — Но зачем ему это?! Мы были его септами! Зачем ему нас уничтожать?
Она через слово поминала Большерукую Ллей, дочь Гилас, простодушную богиню ремесленников и честных людей, зарабатывающих на хлеб собственными руками — богиню черни, как её с некоторым презрением именовали храмовники. Всего несколько кланов избрали Ллей своей покровительницей — в основном те, кто вёл свой род отнюдь не от древних конунгов, а скорее от разбогатевших крестьян. Тортозо были из таких — возможно, потому они не особенно кичились своим статусом и жили скорее как огромная крестьянская семья. Эд вспомнил, что по бегавшим во дворе детям нельзя было сказать, то ли это ребятня челяди, то ли многочисленные отпрыски Тортозо. И не исключено, что именно это создало Тортозо их пресловутую репутацию, а вовсе не их собственная плодовитость. Они не делали разницы между собой и теми, кто жил с ними рядом. Поэтому их было так много. Люди, а не клан. Люди и есть клан.
— Адриан?
Он моргнул, вспомнив, что она задала вопрос и ждёт ответа. Но ответить он ей не мог, по крайней мере сейчас, поэтому спросил:
— Ты приняла другого бога?
— Да, — немного резко, с вызовом сказала Бетани. — А почему бы и нет? Что хорошего я видела от Гвидре?
— Я тоже, — сказал Эд, — тоже переменил богов.
Она только посмотрела на него, но переспрашивать не стала. Эд был ей за это благодарен.
— Значит, снова месть… Теперь не Одвеллам, а Фосиганам. Только и всего.
— Нет. Не только месть. Я не стал бы затевать это из-за мести, Бетани.
— Почему? — с внезапным любопытством спросила его сестра. — Почему не стал бы?
— Потому что есть нечто более важное.
Было мгновение, когда он боялся, что она, так же как Бертран, спросит: «И что же?» — но она не спросила. У неё был свой ответ на этот вопрос, и хотя он не совпадал с ответом Эда, пока что было довольно и этого.
— Расскажи мне о ваших отношениях с Одвеллами, — решившись наконец переменить тему беседы, попросил Эд. — Как я понимаю, твой муж не слишком опечален кончиной лорда Дэйгона.
— А чего бы ему печалиться? — фыркнула Бетани. — Последние десять лет мы не видели от них ничего, кроме поборов. Одвелл обещал нам защиту, но не вмешивался, когда Анастас жёг наши пограничные заставы, чтобы очистить путь подкреплению из Скортиара. После лорд Дэйгон сказал, что ему самому в то время приходилось несладко — он не ждал, что к Анастасу присоединится столько свободных бондов. Но ты и сам помнишь, что тогда творилось…
— Нет. Не помню. Меня тогда не было в Бертане.
— А где же ты был?
Эд снова взял её за руку и слегка сжал, показывая, что не стоит сейчас отклоняться от темы. Он всё ещё стоял на коленях, и это, кажется, немного её смягчало.
— Продолжай, Бетани.
— Я давно говорю Роберту, что господский клан, нарушивший обязательство, освобождает своего септу от клятвы. Ведь Анастас тогда отказался от Фосигана на том основании, что конунг не пришёл на помощь Эвентри? Но Роберт твердит, что мы не сможем вести жизнь свободных бондов, у нас нет для этого достаточно средств и людей, чтобы оборонять границы… Ах, если бы все эти бездельники, его родичи, были годны хоть на что-нибудь, кроме выпивки!
— Это всё? — спросил Эд. — Дело только в том, что Одвелл вас бросил? Или здесь есть что-то ещё?
Бетани поколебалась, прежде чем ответить. Эд вдруг понял, что у неё нет никаких оснований доверять ему.
— Если говорить откровенно, — начала она, — то ни мне, ни Роберту никогда не нравились Одвеллы. О, я понимаю, почему ты так смотришь, как мне могли нравиться Одвеллы после того, что они со мной сделали… но не в этом дело. Я довольно быстро привыкла к своей новой жизни. Почему бы мне было и не привыкнуть, когда все мои родственники погибли или исчезли, а Анастас совсем не помнил обо мне? Если я не была нужна Эвентри, я стала Тортозо. Только и дел…
— Я ни в чём тебя не виню, — видя, что она снова распаляется, мягко сказал Эд.
Бетани вспыхнула, словно он её пристыдил.
— И на том спасибо, братец. Ты говоришь, что теперь ты Фосиган? Так вот, знай, что Тортозо ненавидят Одвеллов за то, что они не Фосиганы. О, Большерукая Ллей, да ты вообще знаешь о том, что тут творилось, когда ты пропал? Анастас со своими союзниками чуть не раздавили Одвелла. Твой Фосиган всё время стоял в стороне, ждал, видать, пока одни кости останутся, чтобы потом их подобрать. Анастас был силён, по крайней мере здесь, на востоке, ему никто не мог толком противостоять. Роберту хватало сил только на то, чтобы сдерживать вылазки его людей, обращённые против нас… Впрочем, Анастас тогда все силы бросил против Одвелла. Однако даже с союзниками ему всё равно не хватало людей. Они несли ужасные потери, но он всё равно побеждал… и, Адриан, я помню, как люди — здешние люди, Тортозо — как они говорили о нём… словно он бог или великий воин древности, пришедший покарать живущих в бесчестье. И когда он погиб… его люди сломались. Он был тем, кто держал свободные кланы вместе, понимаешь? Лишившись его, они перессорились. Лорд Дэйгон пошёл в массированное наступление и за две недели разбросал их, как щенков. — Она осеклась, словно какое-то чувство, клокотавшее в горле, мешало ей говорить дальше. Эд не без удивления понял, что этим чувством был гнев. — И он мог воспользоваться этим тогда. Он должен был этим воспользоваться, если хотел сохранить уважение и страх, которые мы к нему питали. Если бы тогда он не стал вырезать армию бондов, а предложил им перейти под его руку, у них не оставалось бы другого выбора, кроме как согласиться. Кто-то из них, конечно, выбрал бы смерть, но остальные подчинились бы. Они уже тогда были очень злы на Анастаса за то, что он втравил их в эту войну — и так некстати погиб. И тогда Одвелл мог бы повести их на Сотелсхейм.
— Бетани, откуда ты знаешь всё это?
Она гордо вскинула голову, задрав маленький острый подбородок.
— Я же сказала тебе: я не дура! Роберт не принимал участие в той войне, ему было приказано удерживать позиции и не пропускать к врагу продовольственные обозы. Но к нам часто приезжали гонцы от других лордов, а иногда и сами лорды… Они с Робертом говорили, а я слушала. И я видела, как они относятся ко всему происходящему.
— И как же они к этому относились?
— Они называли Одвелла трусом. Он и есть трус… был трус. Он десятки раз мог стать великим конунгом, но ему всегда не хватало решимости для последнего рывка. Он нападал и тут же отступал, удерживал свои позиции, но не стремился продвинуться дальше на юг. И рано или поздно это погубит всех нас. Власть Фосигана крепнет год от года, к нему продолжают присоединяться нейтральные кланы… ты должен знать об этом даже больше меня, если пробыл с ним рядом три года. И ты же видишь, что он делает всё это время! Сидит себе, носа за ворота не кажет, смотрит, как Одвелл и бонды рвут друг другу глотки и слабнут… Пусть через годы, он всё же накопит достаточно сил, чтобы просто прийти под стены Одвелла и потребовать у него присягу и дань, и тогда его никто не сможет остановить.
— Знаешь, — проговорил Эд, — я три года знал его… достаточно близко… и так и не смог понять, за что все вы так его ненавидите.
Бетани, его умная, проницательная, гневливая сестрёнка Бетани вспыхнула и выпрямилась, словно он нанёс ей личное оскорбление.
— Не ты ли только что сказал, что это он пытался уничтожить нашу семью?!
— Да. Но ты не знала об этом до сегодняшнего дня. А я знал и… — Эд смолк, понимая, что сказал лишнее. Как мог он всё это время быть для Грегора Фосигана не просто приближённым, но другом, зная всё, что он знал?.. «Есть нечто более важное, Бетани, — мысленно сказал он ей. — Нечто более важное, чем я, или ты, или то, что мы любим». Эта мысль вызвала в нём отвращение к самому себе, которое он испытывал гораздо чаще, чем ему хотелось бы.
— Я слыхала, — сказала Бетани, — что в городах, которые обложены его данью, наместники имеют право первой брачной ночи. Они могу взять любую женщину города в день, когда она выходит замуж, и вернуть её мужу уже испорченной.
— Глупости. Каждому известно, что Фосиган предпочитает мальчиков. Его наместники во всём вторят хозяевам. Так что они не невесту забирают, а жениха.
Она вытаращилась на него, а потом расхохоталась. Впрочем, смех быстро стих.
— Говоря по правде, я сама не знаю, чем так плох Фосиган… кроме того, что он не выполнил обязательств, которые дал моей семье, — призналась она. — Но Роберт и его люди не хотят припадать к его ногам и называть великим конунгом. И это заразно. Это чувство… это нежелание сгибать спину.
— Заразно, — эхом отозвался Эд. Это слово значило для него гораздо больше, чем она могла понять. Его усмешка была деревянной. — Бетани, подумай сама, ты в самом деле не глупа. Великий конунг, перед которым преклоняются все кланы и города, — это не только поборы и тирания. Это большая армия, обширная торговля, это хорошие дороги на твоей земле, о которых ты так мечтаешь, потому что когда они станут принадлежать конунгу, поверь, он первый позаботится о том, чтобы тебе было на что их строить. Ты так боишься, что он придёт и заберёт вас под свою руку… но сама утверждаешь, что это всё равно случится рано или поздно.
— Случится. Теперь, когда вы с Бертраном убили лорда Дэйгона… — она осеклась снова, и её глаза расширились. Она и впрямь выросла в умную женщину. — Адриан! Так вы… вы хотите…
Он взял обе её ладони в свои и внимательно посмотрел ей в лицо.
— Бетани, скажи мне одну вещь. Если появится некто, кто сделал бы то, чего вы тщетно ждали от Одвелла… Если бы он объединил бондов, призвал вас и повёл бы на Сотелсхейм… твой муж пошёл бы за ним?
Она дёрнула рукой, словно хотела в ужасе прикрыть ладонью рот — снова таким знакомым и детским жестом. Эд не выпустил её.
— Но… это же немыслимо, Адриан! У вас… у тебя нет столько людей, и к тому же Сотелсхейм!.. Его ведь не взять… там тройное кольцо стен, и тысяча башен, и…
— Башен всего восемьдесят. И не ты ли сама только что говорила мне, что главная провинность перед вами Одвелла в том, что он струсил?
— Но он всегда был силён. От него всегда этого ждали. А от тебя… — она запнулась, кажется, только теперь поняв, к чему он всё это время клонил. Потом покачала головой. — Я уверена, у Фосигана множество сторонников в самом Сотелсхейме. Даже если ты его уничтожишь, кто-нибудь из его септ займёт освободившееся место, вот и всё.
— Сомневаюсь, — лучисто улыбнулся Эд, и Бетани слегка вздрогнула от этой улыбки. Таким она никогда прежде не видела своего брата — и как будто неожиданно усомнилась, а в самом ли деле это её брат…
«Мы все изменились, сестрёнка, — подумал он. — Кто-то больше, кто-то меньше, но время не стоит на месте».
— Бетани, поверь мне на слово: сейчас при дворе Фосигана ему не найдётся бесспорный преемник. Так уж случилось, что самые значительные кланы в последние несколько лет попали в опалу или лишились своих лучших представителей. Те, кто остались, — мелкие сошки, и после смерти Фосигана они перегрызутся между собой точно так же, как перегрызлись бонды после смерти Анастаса.
— После смерти Фосигана, — медленно повторила Бетани. — Адриан… ты уже всё решил? Ты… боги, я ведь так и не спросила тебя… ты знал, что я буду сегодня в «Седом филине»? Ты ждал меня там?..
Он твёрдо покачал головой: ему было важно, чтобы она ему верила.
— Нет. Я не могу этого объяснить, но я даже не подозревал, что ты будешь там. Я ехал в Скортиар… по своим делам. Мне нужно уладить там кое-что, прежде чем возвращаться в Сотелсхейм. Я не думал, что встречу тебя.
Он не знал, как больно ранил её этими словами, пока последнее из них не сорвалось с его губ.
— Значит, ты не думал обо мне. Ты по-прежнему обо мне не думал.
Как, ну как было ей объяснить, что он не мог думать? Ни о ней — тогда и теперь, — ни о её маленьких дочерях, его родной крови, ни об Анастасе много лет назад, ни о своих несчастных жене и возлюбленной в Сотелсхейме, ни о ком из тех, кого он не смел позволить себе любить, потому что они были не так уж важны?.. Как чудовищно это звучало: не так уж важны. Он ненавидел себя всякий раз, когда эта мысль приходила к нему, снова и снова, и не имел права её отогнать, потому что именно она вела его к цели все эти двенадцать лет.
— Прости меня, — сказал Адриан Эвентри своей сестре и спрятал лицо в её ладонях.
Она не ударила его и не отняла рук. Её пальцы слегка шевельнулись и погладили его по волосам.
— Бедный мой. Бедный мой братишка. Не хочешь мне рассказать?..
Он покачал головой. Какое-то время они сидела не шевелясь. За окном собирались сумерки.
— Я думаю, Роберт будет на твоей стороне. Сейчас он готов на всё, лишь бы не подпустить к нам Фосигана. Мы его ненавидим за то, что он хочет поработить нас, но… Адриан, ты понимаешь, что когда ты добьёшься своей цели, то ненавидеть мы будем уже тебя? Страшна даже не сама сила, а свидетельства этой силы.
— Тогда, видимо, мне остаётся порадоваться, что я вовсе не так силён и внушителен, как лорд Грегор.
— О да, — сказала Бетани. — Но это только так кажется. Это ведь только с виду.
Он поднял голову и встал с колен. Теперь она смотрела на него снизу вверх.
— Я могу сказать твоему мужу всё то, что сказал тебе?
— Не надо. Я сама. Роберт хороший человек и… не так глуп, как ты мог подумать, — добавила она и вдруг зарделась. — Просто к нему надо знать подход.
— Ты вьёшь из него верёвки, сестрёнка, — развеселившись, заметил Эд. — И как тебе не совестно? Он ведь от тебя без ума.
— Да, — без улыбки ответила Бетани. — Именно поэтому он от меня и без ума.
Помолчав и словно обдумав что-то, она решительно добавила:
— Тебе понадобится поддержка жрецов. И, может быть, прежде всего именно жрецов Гвидре, если ты собираешься стать конунгом. Ведь это бог твоего клана.
Она в самом деле была умна, дьявольски умна, куда умнее его самого — его несносная младшая сестра.
— Моего клана, — медленно повторил Эд. — Ну да. Ты думаешь, стоит сделать это прямо сейчас?..
— Конечно. Война Эвентри против Одвеллов — это одно, этим никого теперь не удивишь. Но ты собираешься пойти с огнём и мечом на земли, где люди уже много лет живут в мире и наблюдают за тем, как мы тут убиваем друг друга, — сказала Бетани с горечью. — Если жрецы не поддержат эту войну и не повлияют на народ, против тебя ополчится весь Бертан. Ты не продвинешься дальше Тэйрака, тебя замучают партизаны… Что такое? Почему ты смеёшься?
— Я глубоко сожалею, дорогая сестра, — сказал Эд Эфрин, — что боги не одобряют браков между кровными родичами. В противном случае, клянусь, лорд Роберт не дожил бы до рассвета, а ты бы недолго была вдовой.
— Всё ты врёшь, — не моргнув глазом, сказала Бетани. — Ни один мужчина на самом деле не желает себе умной жены. Вы только восхищаетесь вслух чужими. К тому же я бы всё равно тебе изменяла.
— О, это я бы как-нибудь пережил, — заверил Эд, и она фыркнула. Потом встала и протянула ему руку — как в детстве, в те редкие дни, когда они не ссорились и она звала его с собой поиграть.
— Пойдём к Роберту. Но ничего не говори ему, понял? Я сама.
И Эд покорно взял её за руку и пошёл, когда она повела его за собой, так, будто это она была старшей и знала, что нужно делать и как поступить, чтобы всё было хорошо.
3
Восьмого дня второго осеннего месяца внутренний дворик монастыря огласил гневный отрывистый крик:
— Сестра Гизелла!
И торопливый топот дебелых ног ответствовал этому зову.
Сестра Гизелла была одной из самых немолодых и, по досадному совместительству, самых бестолковых служанок Милосердного сына Гилас, каких только знавала святая земля Скортиарского монастыря гвидреанок. Это была грузная, потливая и безмозглая баба из клана Аленви, которую в монастырь запроторил муж, пожелавший жениться на молодой. В общем-то, сестру Гизеллу стоило пожалеть, это велели и заветы Гвидре Милосердного, и простое человеколюбие, однако местра-настоятельница имела собственное мнение на сей счёт.
— Сестра Гизелла!
Пыхтя и тщетно пытаясь справиться с одышкой, нерадивая монахиня влетела в просторную светлую комнату, где ей надлежало находиться и откуда она малодушно улизнула — дескать, взять со склада чистые простыни. В действительности она и вправду собиралась всего лишь сходить за простынями, но по дороге ей встретилась сестра Мадлена. И надо же такому случиться, что местра Адель, некстати проходя по галерее второго этажа, увидела их, беспечно болтавших посреди двора в разгар трудового дня. Сестру Мадлену преподобная настоятельница не любила ещё больше, чем её простоватую подругу из Аленви — большей болтушки и бездельницы было не сыскать не только в Скортиаре, но и во всех иных обителях Гвидре. Местра Адель на дух не выносила сестру Мадлену и терпела её в стенах своего монастыря лишь потому, что та попала сюда по протекции самого лорда Фосигана. Не то чтобы местра Адель испытывала к великому конунгу хотя бы слабое подобие благолепия. Всё было куда прозаичнее: он держал в руках Сотелсхейм, а с ним — жреческий Анклав, и она не могла позволить себе с ним ссориться.
Однако гонять и третировать его протеже — могла и вполне. Жаль, сейчас ей было не до того, но она вспомнит о сестре Мадлене, как только самые насущные дела будут закончены. В отличие от большинства своих братьев и сестёр по вере, местра Адель не считала наказание нерадивых первостепенной задачей духовного наставника. Были и более важные дела.
— Сестра Гизелла!
В третий раз окрик прозвучал уже не столь громко, но совершенно ледяным тоном. Бедная сестра Гизелла, задыхаясь, рухнула на колени перед своей местрой, каменным изваянием застывшей в шаге от дверного проёма.
— Простите, матушка…
— Где вы были, сестра? Разве я не запретила вам отлучаться?
— Простите, матушка, кончились простыни, и я…
— Когда вы в последний раз меняли ему перевязки? Вы сходили за шалфеевым настоем? Корпия почти закончилась, и вода совсем остыла.
— Да, матушка…
— Что «да, матушка»? Вы хотите смерти этому несчастному? От вас было бы куда больше проку, если бы вы с утра до ночи торчали в молельне, общаясь с нашим Милосердным Господом, если уж вам так охота почесать языком. Прося принять вас в эту обитель, вы прекрасно знали, что здесь от вас потребуется другое.
— Матушка… — в больших голубых глазах простодушной дурёхи, не способной ни оправдаться, ни повиниться толком, дрожали слёзы, пухлые руки судорожно прижимались к груди. Одна из простыней выскользнула и упала на вычищенный чуть не до блеску пол. Сестра Гизелла вскрикнула так, словно ждала смертельного удара в наказание за неловкость.
Местра Адель наклонилась с проворством, удивительным для её отнюдь не юных лет, подхватила простыню и указала покрасневшей сестре Гизелле на стол в дальнем углу комнаты.
— Положите туда, а это отнесите назад и прокипятите. Вы кипятили простыни?
— Да, конечно, матушка, как вы и велели…
— Ваша расторопность и понятливость меня потрясают. Подите, сестра.
Человек, глядящий на происходящее со стороны, мог решить, что утром восьмого дня второго осеннего месяца преподобная местра Адель, настоятельница Скортиарского монастыря гвидреанок, пребывала не в духе. Однако это было не так, вернее, не совсем так. Преподобная местра Адель всегда была не в духе. Те, кто знали её много лет, давно привыкли к этому, но бедная сестра Гизелла попала в Скортиар всего несколько недель назад. Ей многое предстояло обнаружить. И понять.
Впрочем, может, не столь уж и многое, думала местра Адель, бросая на пол испачканную простыню. Слишком она глупа. Надо при первом же удобном случае позаботиться о её переводе в другой монастырь. Было два рода послушниц, от которых преподобная настоятельница старалась избавиться как можно быстрее: слишком глупые и слишком умные. Первые были бесполезны, вторые могли быть опасны. Иногда, впрочем, случалось и с точностью до наоборот. В таких стенах, как эти, ум порой становился совершенно бесполезен, а глупость — опасней любого коварства. «Завтра же напишу её мужу», — решила Адель и наконец повернулась к человеку, чьё здоровье и благополучие оказались под угрозой из-за безалаберности Гизеллы Аленви.
Человек этот лежал на узкой койке, вытянув поверх одеяла длинные, худые, иссечённые шрамами руки. Лицо его побелело, взмокло от пота, синеватые веки были опущены, грудь вздымалась часто и неровно. У него была проникающая колотая рана в животе; третьего дня его привёз сюда мэтр Хоран, хозяин трактира «Благословение Гвидре», что двумя милями ниже по дороге, ведущей мимо Скортиарской обители. Несмотря на умиротворяющее название, драки в этом трактире случались ничуть не реже, чем в любом другом кабаке, и, по договорённости с местрой-настоятельницей, тяжелораненых, которым не могли оказать помощи на месте, немедленно доставляли в монастырь. Когда этого человека принесли сюда, его кишки свисали с носилок и болтались, только что не полощась в пыли. В любом другом трактире Бертана его бы бросили там, где он упал, справедливо сочтя безнадёжным. Но мэтр Хоран не первый год поставлял сёстрам-гвидреанкам пациентов. Он знал, что местра Адель не охнет и не прикроет рот ладонью при виде кровавого месива на животе несчастного. О нет, она только сожмёт плотнее губы, и странный огонь вспыхнет в её глазах — вспыхнет на миг и тут же погаснет, но мэтр Хоран успеет его заметить. Он слишком давно и слишком хорошо её знает. С ним она может позволить себе мимолётную слабость и не скрывать этот огонь. И это доверие, которое она ему оказывала и которое он сполна оправдывал, было платой за то, что она раз за разом вытаскивала из могилы его постояльцев.
Мужчина всё ещё был без сознания. Адель отёрла его лоб чистой тряпицей, потрогала. Ещё горячий, но уже не так, как прежде, — жар определённо спадает. Бережно размотав повязки, пропитавшиеся кровью (ох и получит всё-таки сестра Гизелла, когда у местры Адель дойдут до этого руки!), с затаенной тревогой посмотрела на рану, зашитую толстой просмоленной нитью. Никто не знал об этом, но она волновалась — прежде ей не приходилось оперировать раненых, находящихся в настолько тяжёлом состоянии. Она опасалась, что он умрёт прямо во время операции, но гнала эти мысли прочь — и он выжил. Это уже было победой, но теперь для Адели такой победы было мало. Она хотела, чтобы он жил. Поднеся к лицу извлечённые из раны клочки корпии, она понюхала их, потом наклонилась и понюхала рану, чтобы удостовериться. Нет, наверняка она бы не поручилась — прежде случалось, что органы чувств обманывали её, подсказывая не то, что есть на самом деле, а то, чего бы ей хотелось, — но, кажется, рана была чистой. Что, конечно, не продлится долго, если у бедняги и впредь будут столь нерадивые сиделки.
Надрывный кашель из-за перегородки, отделяющей постель раненого от соседней койки, вынудил Адель поднять голову. Кашель звучал так, словно что-то внутри у больного рвалось в клочья.
— Сестра Тэсса! Вы здесь?
Маленькая, бледная, робкая сестра Тэсса шагнула из-за ширмы, наклонив голову в приветствии. Это бедное дитя была сиротой, много лет назад переданной на попечение Гвидре. Всегда тихая и незаметная, как мышка — её тут словно бы и не было, когда местра отчитывала сестру Гизеллу — а та, к слову, снова убежала, небось, довольная, что нашёлся новый повод отлучиться из лазарета. Ей было страшно здесь — Адель это знала. Хуже дурака может быть только трусливый дурак.
— Что там Галиотто?
Они называли Галиотто этого пациента, потому что он, как герой древней баллады, был гонцом и нёс послание сквозь грозы, бури и ливни, и донёс, и, подобно герою, пал замертво — только не на пороге дома, в который шёл, а на обратном пути, еле-еле успев доползти до монастыря гвидреанок и рухнув у ворот, захаркивая землю вокруг кровавой мокротой. Он успел рассказать им это, прежде чем потерял сознание, но так и не назвал своего имени — потому они и звали его Галиотто. У него было лёгочное воспаление; тепло, покой и сок рябины помогли ему, и он уже три дня кашлял без крови. Но сейчас, судя по звуку, с которым вырывался кашель из истерзанных лёгких, положение вновь ухудшилось.
Вместо ответа на заданный вопрос сестра Тэсса показала местре Адели платок с красными пятнами свежей крови. Нахмурившись, настоятельница шагнула за ширму, но прежде обернулась и подозвала сестру Нору, кормившую своего больного в дальнем конце палаты. У каждого из пациентов Скортиарской обители (или, как звала её мысленно Адель, Скортиарского госпиталя) была собственная сиделка; раненый и заштопанный протеже мэтра Хорана был поручен сестре Гизелле. По легкомыслию и тщеславной самоуверенности местры-настоятельницы, чересчур уверовавшей в свои педагогические способности, он остался без надзора, и об этом следовало позаботиться в первую очередь. Сестре Норе она доверяла больше прочих.
— Промойте рану и перевяжите. Потом найдите кого-нибудь из младших сестёр, пусть она вас заменит у постели Гифуса. Вы нужны мне здесь.
— Да, матушка, — отозвалась та и пошла выполнять приказание.
Адель повернулась к Галиотто, продолжавшему сотрясаться в сухом лающем кашле.
— Ну-ну, друг мой, успокойтесь, — негромко сказала местра, подходя и кладя руку ему на плечо. Он был в жару и бреду и не слышал её, но она знала, как действует спокойный женский голос на больных, даже если их разум закрыт от мира. Галиотто метался по постели, на его губах пузырилась розовая пена. Адель отёрла её и пощупала шею больного. Ничего хорошего: узлы набухли ещё сильнее и были на ощупь твёрдыми, как камешки.
— Сестра Тэсса, велите сестре Урсуле нагреть воды, — не оборачиваясь, сказала Адель. — И скажите, чтобы она сделала компресс.
— Тепловой компресс? При кровохарканье? Должно быть, этот человек — великий грешник, раз вы желаете ему смерти, преподобная местра.
Адель выпрямилась так резко, что у неё заныла спина. И дело было не в словах, которые были сказаны.
Дело было в том, что произнесший их голос принадлежал мужчине.
Адель из клана Джесвел была родом с острова Дордуэлл, более известного под названием Сварливый остров. Гилас и Молог отсылали туда нерождённые души самых упрямых, вспыльчивых, гневливых и вздорных смертных, чтобы, придя в мир на убогом клочке земли, они довеку грызлись между собой за него, за свои кланы, за своих хозяев и богов — когда на потеху, а когда и на устрашение всему Бертану, в зависимости от того, хватало ли у кого-то из островитян запалу добраться до материка и там показать равно и врагам своим, и друзьям, почём фунт лиха. Клан Джесвел присягнул Фосигану полвека назад, но это ничего не значило — ввиду удалённости своих владений Джесвелы ограничивали септанскую повинность отправкой припасов и снаряжений, приберегая основные силы для личных дрязг на самом Дордуэлле. Сколько Адель помнила себя, в их доме постоянно стоял крик, ор и плач, хлопали двери, билась посуда, громыхали в ярости брошенные на пол ножны, а порой звенела и сталь, хотя досточтимый лорд Нейл, отец Адели, всё же знал пределы и чаще обходился кулаками.
Адель из клана Джесвел была достойной дочерью своего рода и своего острова. И когда двадцать лет назад она юной девочкой прибыла в монастырь Милосердного Гвидре в Скортиаре, а двенадцать спустя стала его настоятельницей, её характер не изменился ни на йоту.
Зажав в кулаке тряпицу с кровавой гнойной мокротой своего подопечного, местра Адель упёрла кулаки в бока и, смерив незваного гостя взглядом с головы до пят, спросила тоном, каким обычно осведомляются у человека о преступлении, в котором его только что уличили:
— Вы больны?
Стоящий перед ней молодой мужчина приподнял бровь.
— Боюсь, что нет, преподобная местра. Я…
— Очень жаль. В таком случае, кто бы вы ни были, подите прочь и молитесь Гвидре Милосердному, чтобы простил вам грех, который вы совершили, ворвавшись в женский монастырь и осквернив его своим присутствием. Вон.
— Я не могу уйти сейчас, преподобная. Это означало бы обречь на скорую и мучительную гибель вот этого человека, — мужчина с деланным смущением указал на Галиотто, переставшего наконец кашлять и теперь шумно и сипло дышавшего у Адели за спиной.
— Вы лекарь?
— Не больше, чем вы. И знаю, без сомнения, не больше вашего о том, как лечить человека, выхаркивающего собственные лёгкие. Однако…
Женщина более уравновешенная, чем преподобная местра Адель, но обладающая её умом и опытом, именно в этот миг остановилась бы, понимая, чем может обернуться подобный разговор — ведь она понятия не имела, кто стоит перед ней. Но Адель Джесвел не умела останавливать коней на поворотах. А кроме того, она видела, что этому человеку есть что сказать по поводу Галиотто. Она готова была слушать. Это ничего ей не стоило.
— Продолжайте.
Он слегка улыбнулся, и Адель только теперь заметила, что он молод и хорошо одет, хотя его дорожный костюм порядком извозился в грязи и пыли. Его лицо было ей незнакомо. Под каким предлогом он проник в монастырь? Его истинные цели пока что её не интересовали.
Она ждала, что он ответит что-нибудь всё тем же язвительным тоном, но вместо этого он сказал только: «Позвольте» — и, обойдя её, подошёл к постели больного. Адель смотрела, как он трогает лоб и шею Галиотто — в точности как сама Адель минутой ранее. «Он мог видеть, как я это делаю», — подумала она, но тут он откинул одеяло и самым бесцеремонным образом ощупал пах больного. Адель услышала, как ахнула позади неё маленькая Урсула, и круто обернулась.
— Сестра, вы меня слышали? Я велела нагреть воды! — резко сказала она. Сестра Тэсса шевельнулась, переступив с ноги на ноги, и только тогда Адель заметила, что она всё ещё здесь — стоит и смотрит во все глаза, как совершенно незнакомый всем им мужчина ощупывает другого мужчину.
— Тэсса, помогите сестре Норе.
— Да, матушка.
На шум сбежалось ещё несколько любопытных монахинь, в основном юных, несших свою вахту у постелей больных за другими ширмами. Адель разогнала их и наконец повернулась к наглому незнакомцу. Тот уже набросил одеяло на тело больного, снова погрузившегося в забытьё, и требовательно протянул к Адели руку.
— Дайте.
Она не сразу поняла, что он просит платок, которым она отирала губы Галиотто. Она поколебалась секунду, потом протянула к нему руку. Мужчина развернул платок, встряхнул его, распрямляя, осмотрел, понюхал.
— У него внутреннее кровотечение, — сказал он. — Любая тепловая процедура его убьёт. Что вы ему давали?
— Эфирные масла, — поколебавшись, ответила Адель. Этот человек странно действовал на неё — он был юн и дерзок, но отчего-то она слушала его и отвечала ему. — Мирт и базилик…
— Попробуйте ещё гвоздику. И сок рябины, хорошо бы свежевыжатый. И ни в коем случае не давать ему горячего. Никаких компрессов… о кровопускании, думаю, вам и говорить не надо, верно?
Он улыбнулся ей лукаво и почти заговорщицки, и лишь тогда она очнулась от дурмана, в который ввёл её его напор и самоуверенность. Он не был похож на шпиона, но именно поэтому мог им оказаться. Несмотря на то, что знал про сок рябины.
Она решила схитрить.
— О да, конечно, кровопускание мы ему делаем. Дважды в сутки.
— Неужели? И как давно он здесь лежит?
Адель закусила губу — девчоночий жест, от которого она так и не смогла избавиться. Ну в самом деле, так глупо попасться…
— Шестой день.
— И вы за шесть дней не убили его кровопусканиями? Воистину, досточтимые сёстры-гвидреанки изобрели некий принципиально новый способ проведения этой процедуры, способный помочь больному, а не убить его, как оно обычно бывает. Примите моё восхищение.
Его насмешка была столь же желчна и неприкрыта, как недавняя насмешка Адели над сестрой Гизеллой. Она смотрела на него, хмурясь, но не могла отделаться от странного прилива необъяснимой симпатии, которую он в ней вызывал — он и его знания и бесшабашная юная беспечность, с которой он эти знания демонстрировал. Адель знала людей, похожих на него, которые погибали из-за этого.
— Кто вы? — спросила она наконец. — Где вы этому научились?
— В Фарии, — он не ответил на первый вопрос, и Адель это заметила, но ответ на второй вопрос слишком её потряс, чтобы она стала переспрашивать. — Я знаю мало о лёгочных болезнях, говоря по правде, но…
— Вы учились в Фарии?!
Она невольно понизила голос, хотя здесь не было никого, кто не разделил бы её изумление и восторг — и испытала укол разочарования, когда он покачал головой.
— Не учился. Служил у одного лекаря. Утром чистил его сапоги, днём бегал по поручениям, а вечером пробирался в библиотеку и читал его книги.
— Кто вы? — снова спросила Адель.
Он поклонился ей — не официальным, но глубоким поклоном, выражавшим искреннее уважение, — и ответил:
— Адриан Эвентри из клана Эвентри, преподобная местра. Прибыл в обитель Милосердного Гвидре, чтобы увидеться с моей матерью.
Келья местры Адели выходила окнами на глухую монастырскую стену. Только голый серый камень и небо, необычайно ясное для осеннего дня. Выбор мог показаться — и казался — странным любому, кто знал местру настоятельницу недостаточно хорошо, но ещё больше ему удивился бы любой, знавший Адель Джесвел до того, как она приняла постриг. Она любила простор, любила открытое поле, к которому пробиралась через ручей вброд, задрав юбку до колен, и запах свежескошенного сена. Если отец хотел наказать её, то не порол, как остальных своих детей, а запирал в комнате, окна которой выходили на глухую стену. Не потому, что он любил её больше других детей и особенно берёг — напротив. Он её ненавидел: её ум и её дерзость, из-за которой она отказывалась притворяться глупее, быть глупее, как он того хотел. Просто он знал чувствительные места своей дочери слишком хорошо. И всякий раз, глядя на глухую монастырскую стену, ещё более высокую и оставлявшую ещё меньше неба, чем крепостная стена в родовом замке Джесвел, местра настоятельница вспоминала своего отца — и снова говорила себе, что поступила правильно, когда совершила выбор между политическим замужеством и монастырём — единственный выбор, который Нэйл Джесвел дал своей дочери. Она выбрала не колеблясь — и победила, и отомстила уже одним этим выбором, хотя он никогда об этом не узнает. Он думал, что навечно запер её в задней комнате с окном, выходящим на стену, но на самом деле именно эта келья и эта стена наконец её освободили.
«А что освободило вас, юноша?» — подумала Адель Джесвел и спросила:
— Где же вы были так долго, Адриан Эвентри?
После секундного промедления — продуманного ли? она бы дала немало, чтобы знать наверняка — он отвёл взгляд от ивового венка, висевшего на стене в изголовье узкой койки, составлявшей единственную меблировку кельи. Символ Гвидре Милосердного, символ скорби, с которой он склоняется над теми, кого хочет оплакать, и сострадания, которое он оказывает тем, кто способен его принять. Этот юноша, стоявший перед местрой Скортиарской обители, — чего он ждёт от Гвидре? Он принадлежал к клану, почитавшему Гвидре своим богом, но Адель видела, что сам он давно отверг бога, которому поручил себя его род. Она видела это по лёгкому прищуру, с которым он смотрел на символ отринутой веры, и поджавшимся губам, когда он окидывал монашеское жилище быстрым, нарочито равнодушным взглядом. Адриан Эвентри… Адель знала его историю. Знала слишком хорошо, ибо двенадцать лет назад сама стала гробовщиком, заживо похоронившим леди Эвентри в этих самых стенах. Во имя Милосердного Гвидре. Для той несчастной женщины это действительно было милосердием — но не для её сыновей. Кем была Адель Джесвел со Сварливого острова, чтобы попрекать Адриана Эвентри богоотступничеством? Он был вправе ждать сострадания, но получил лишь скорбь.
И теперь она задавала ему вопрос, который звучал как упрёк, но на деле вовсе не был упрёком — и отчего-то она верила, что он это понимает.
— Где же вы были так долго, Адриан Эвентри…
— Часть ответа вы уже знаете, преподобная, — ответил он, слегка улыбнувшись.
Адель на мгновение задержала дыхание — потому что, да, она знала часть ответа, а с этими словами получала оставшийся ответ. Она быстро припомнила все слухи, доносившиеся в последнее время из внешнего мира. Война против клана Индабиран, которую развязал некто, называвший себя Анастасом Эвентри, беспокойство на западе… Сотелсхейм пока что никак не отреагировал на происходящее, следовательно, Фосиганы не придавали этому большого значения — обычная междоусобная свара, развязанная к тому же наверняка самозванцем… Теперь, глядя на стоящего перед ней мужчину, местра Адель уже не была так уверена в этом. Нет, он не тот, кто начал эту войну, он не брал имени своего брата — в этом она могла поручиться, хотя видела его впервые в жизни. Он оставил своего бога — а значит, и свой клан. Его старшие братья погибли, а младший был заперт в монастыре; оставшись единственным законным наследником Эвентри, этот юноша ничего не сделал, чтобы попытаться восстановить свои права, а с ними и свой клан — иначе Адель слышала бы о нём хотя бы изредка за все эти годы. Но он просто исчез. У него были заботы поважнее.
И всё это значило, что сейчас он здесь вовсе не ради своей матери.
Поэтому, и только поэтому, Адель привела его в свою келью — единственное место, где они могли говорить свободно. Она надеялась, что он воспримет это как жест доверия — и потому именно доверие услышит в тех её словах, которые в ином месте прозвучали бы укором. Это было единственное место, где она могла задать ему уже прозвучавший вопрос так, чтобы его скрытый смысл оказался очевиден для них обоих. Не «где ты был, сын своей матери», но «где ты был, Адриан Эвентри».
— Простите, — сказал он, повернувшись к ней, — я не знаю, может быть, то, что вы находитесь здесь наедине со мной, скомпрометирует вас…
Это было так неожиданно и прозвучало так робко после его недавнего вызывающего поведения, что Адель рассмеялась.
— Скомпрометирует меня? В моём собственном монастыре? Вы слишком высокого мнения о себе, молодой человек.
— Разве вы не должны называть меня «сын мой»?
— Вы мне не сын. Вы отвергли милосердие господа нашего Гвидре, так что вы не сын и ему. У меня нет ни оснований, ни права обращаться к вам так.
— Гвидре отверг меня первым, — сказал он очень спокойно, как о вопросе, который давно для себя решил. — Вырвал с корнем и мясом весь клан Эвентри и отшвырнул от себя прочь. Это был его выбор, а не наш.
— Вы ждёте, что я оправдаю его в ваших глазах?
Он слегка напрягся, и Адель поняла, что невольно — а впрочем, чего греха таить, вполне осознанно — попала в его больное место. Она улыбнулась скорее презрительно, чем снисходительно — дурная привычка, от которой её не избавили даже годы монашества.
— Мне жаль разочаровывать вас, юноша, но это не в моей власти. Тем более что вы сказали правду — милосердие Гвидре не для вас. Мне неведомо, за какой грех был покаран клан Эвентри. Но лишь одно я могу сказать вам, вернее, спросить. Вы сказали, что Гвидре вырвал вас из себя с мясом и корнем. Если бы вам пришлось оторвать собственную руку и выбросить вон, неужели вы бы сделали это безо всякой веской причины?
На сей раз он не просто напрягся, а вздрогнул, и Адель снова удивилась тому, насколько верны оказывались всё её догадки. Она плохо разбиралась в людских душах. Тела интересовали её много больше — она подозревала, что однажды будет сожжена за это, но не испытывала на сей счёт огорчений. Каждому своё — кто-то умеет врачевать души, кто-то тела. Местра гвидреанского монастыря обязана была уметь первое и бежать от второго, ибо о теле заботится не Гвидре, а иные боги. Она вторгалась на чужую территорию, ничуть не смущаясь этим. И юноша, стоявший перед ней — тоже. Она читала его с лёгкостью, которой не ожидала от себя, и это почти пугало её.
Он, казалось, тоже испытал страх — но только на мгновение. Вопрос, который она задала, вынудил его взглянуть на вещи под новым углом, но сейчас явно было не место и не время для раздумий на эту тему. Он пришёл сюда не ради своей матери, но и не ради себя самого. Ради чего же тогда?.. «А не жаждет ли он мести?» — мелькнула у Адели запоздалая мысль. Ах, местра, вы были и остаётесь столь неосторожны… При нём не было видимого оружия, но человека можно убить иглой, спрятанной в рукаве, или просто свернув шею резким движением. Гвидре покинул его клан — можно отомстить Гвидре, придушив божью служанку. Впрочем, это была бы жалкая месть, ведь служанка нерадивейшая из нерадивых, но откуда об этом знать юноше, много лет пробывшему на чужбине? С другой стороны, жажди он мести, вернулся бы раньше…
— Вам не надо меня бояться, местра, — тихо сказал Адриан Эвентри.
— Я боюсь не вас, — ответила Адель, — а того вреда, который вы можете нанести, может быть, даже не желая этого, если убьёте меня. Скажите, вы за этим пришли сюда? Если да, то вам стоит сознавать последствия, за которые вам придётся нести ответ.
Она думала о Фарии, когда говорила это, о том, что он, так же как она, читал книги фарийских лекарей и разделял взгляды фарийских учёных на строение человеческого тела. Это делало их единомышленниками, сообщниками, и она хотела по крайней мере дать ему понять это прежде, чем он сделает то, за чем пришёл. Её охватило почти восторженное возбуждение, как в детстве, когда она находила новые способы вызвать ярость отца и играла с этой яростью, чувствуя свою силу, несмотря на то, что ею же разведённый огонь наверняка опалит её саму.
Поэтому теперь она не сразу заметила, что он замер и смотрит на неё почти с ужасом. Их разделяло четыре шага, которые ему ничего не стоило сделать, чтобы протянуть руку к её горлу, но в его небесно-голубых глазах, до этого мгновения непроницаемых, мелькнуло что-то, что Адель не могла назвать ничем иным, кроме суеверного ужаса — так, словно сказанные ею в общем вполне невинные слова поразили его до глубины души. Как будто она снова прочла в его сердце — но на сей раза не поняла слов, будто книга эта была написана на неведомом ей языке… так когда-то давно она читала трактаты на фарийском, заучивая наизусть незнакомые слова, чувствуя их силу, хотя и не понимая её разумом.
— Она была права, — негромко сказал Адриан Эвентри. — Права, что послала меня к вам.
— Вы сказали, что пришли проведать свою мать, — спокойно проговорила Адель, не задав ему вопроса, которого он, вероятно, ждал. — Тогда вы будете рады узнать, что она жива и здорова телом. Гвидре отринул вас, но не её.
— Вы правы, преподобная местра, я действительно рад слышать это. Однако позвольте спросить, посеяна ли и в её сердце фарийская ересь, которой заражён ваш монастырь?
Чем бы ни был вызван его недавний шок — он уже оправился, а может, напротив, был поражён слишком сильно, чтобы держать себя в руках, как собирался сначала. Теперь он с грубой прямотой говорил ей то, что умный человек выпытал бы осторожными намёками. Адель не знала, сердиться ей или смеяться. В этом юноше, при всей его дерзости и затаенном гневе, было что-то упоительно невинное.
— Сердце вашей матери теперь закрыто от любой ереси и скверны, которую может посеять пагубное мудрствование слабого разума. Но ваши слова удивляют меня. Фарийская ересь? В этих стенах?
— Должно быть, я ослышался… Там внизу мне почудилось, что вы сказали, будто лечите своего больного эфирными маслами мирта и базилика. Это одно из самых распространённых средств лечения грудных хворей в Фарии.
— В самом деле? Я впервые слышу об этом… Но что может знать о таких вещах скромная настоятельница святой обители? Вы видели мир, молодой человек, вы знаете больше о мире и мирском. А эфирные масла вместе с советом по их использованию мои сёстры приобрели у заезжего купца много месяцев назад. Мы пробуем любые средства, чтобы облегчить боль несчастных, вверенных нашим заботам.
— И вам это удаётся, воистину. Те, кто были внесены в эти стены умирающими, столь часто покидают их на своих двоих, что Скортиарский монастырь имеет славу чудотворного места… что странно, поскольку здесь не хранятся святые мощи.
Он говорил ровно, но внимательно следил за её реакцией.
— Гвидре милосерден. Пусть не ко всем нам, но хотя бы к немногим. И если тень его пальцев касается несчастных исцеляющим прикосновением, используя наши руки, — не это ли сполна оправдывает служение?
Адриан Эвентри улыбнулся. Адель, не удержавшись, улыбнулась тоже. Это было очень неосторожно, и глупо, и безответственно с её стороны, но… она читала его. Не понимала, но читала, и чувствовала, что он здесь не затем, чтобы уничтожить дело всей её жизни. Может быть, её саму — но не то, что она выбрала для себя… От этой мысли её словно ударило изнутри. Не успев обдумать слов, она сказала:
— То, что мы выбрали для себя, наш путь — это больше, чем мы. Вы ведь понимаете, что я хочу сказать, не правда ли?
— Да, — ответил он после паузы. — Да, местра Адель.
— Вы не должны называть меня так. Это форма обращения для послушников. Вам следует звать меня «преподобная местра».
— Местра Адель, — повторил он, — если Анклав Гилас в Сотелсхейме узнает о вашей маленькой клинике, которую вы здесь устроили, и о том, что вы лечите людей по еретической методе фарийских лекарей, вы ведь будете сожжены?
«Местра Адель»… Да. Теперь она наконец поняла, зачем он сюда пришёл. Облегчение сменилось досадой — оттого, что он не сделал этого раньше. Её главный вопрос так и остался неотвеченным: где ты был так долго, где ты бы все эти двенадцать лет, юный лорд Эвентри…
— Не если они узнают, — сказала она совершенно спокойно. — Они знают. Но никогда не смогут доказать. В этих стенах нет ни одной книги, не одобренной Анклавом. Ни одна из наших сестёр никогда не принимала участия ни в каких обрядах, противоречащих набору ритуалов Гвидре. Никто и никогда в этих стенах не передавал никаких учений, противоречащих учению Гилас, ни письменно, ни из уст в уста. Мы всего лишь лечим людей.
— Да. Всего лишь лечите. Вы, преподобная местра, пришли сюда много лет назад и были приставлены к больному местрой-настоятельницей, как все послушницы. Верно? Вас ничему не учили. Вы просто смотрели, как это делают старшие сёстры. После стали делать сами. А теперь ваши послушницы смотрят, как лечите вы. Никаких бесед, никаких ритуалов, никаких книг на фарийском. Вы не обсуждаете фарийскую науку, вы просто несёте её в жизнь. Молча и безропотно, как истинные монахини.
Насмешка в его голосе, столь близкая к обвинению и тем более опасная, что каждое слово было истиной, странным образом смешивалась с сочувствием — и пониманием, так, словно он сам испытывал то, о чём говорил. Словно знал, каково это — вечно молчать, вечно быть лишённым права рассказывать о том, чему отдал всего себя. Не иметь возможности поведать другим о том, на что себя обрёк — просто делать, потому что дела важнее слов… Он знал, каково это. Адели вдруг больше всего на свете захотелось заставить его встать на колени, преклонить колени самой и принять его исповедь, а после исповедаться ему. Она не имела на это права, потому что он отринул Гвидре, но желание было столь сильным, что Адель едва не поддалась ему. Слишком, о, слишком часто Адель Джесвел со Сварливого острова шла на поводу у своих желаний… но разве хотя бы раз в жизни она об этом жалела?
Увы, она не была больше Аделью Джесвел. Она была местрой-настоятельницей обители гвидреанок, монастыря, погрязшего в ереси. И её долгом было думать о своих сёстрах, которых она подвергала смертельному риску, и о людях, больных и раненых, жизни которых они не смогут спасти, если сами будут мертвы.
Поэтому она сказала не то, что хотела, а то, что была должна.
— Чего вы хотите?
Человек, которого она так хорошо чувствовала и так плохо понимала, слегка развёл руками, будто она спрашивала очевидное.
— Я хочу знать, местра, на что бы вы согласились за право не только делать, но и говорить. За право не только практиковать премудрости из фарийских трактатов, но и хранить их, и читать. За право учить и учиться не только через немое, преступное наблюдение, но открыто, жадно, не боясь спрашивать. Скажите, сколько ваших пациентов умерло, прежде чем вы научились накладывать швы, только потому, что вам приходилось просто наблюдать за руками вашей наставницы, но никогда не спрашивать о том, что вам непонятно?
Адель промолчала. Счёт был слишком велик.
— Я хочу знать, местра, на что вы пойдёте за право пользоваться своим разумом и не скрывать этого, — сказал Адриан Эвентри, и Адель поняла, что он читал её так же легко и незаметно, как и она — его. Он знал, что ей нужно, что всегда у неё болело, — так же хорошо знал, как знала она, что он обрёк себя на нечто, что едва-едва может вынести.
Ей захотелось взять его за руку. Уже очень давно она не касалась мужчины.
— На всё, — сказала она. — Я пойду на всё.
— Тогда, — ответил Адриан Эвентри, — клянусь вам: когда волей Гвидре или любого другого бога я стану конунгом, вы получите такое право. И я не лгу… потому что тогда оно, это право, будет нужно и мне не меньше, чем вам.
Она довольно долго смотрела на него, пытаясь почувствовать, насколько этот мальчик, странный, глубоко раненный и одержимый чем-то, чего она не могла понять, осознаёт, о чём говорит и чего просит. Но, кажется, он осознавал это вполне. Адель видела в нём многое: горячечность, напряжение, отчаяние, быть может… видела всё, кроме колебаний.
— Скажите, что я должна сделать, — сказала Адель.
Весь следующий час он объяснял, а она слушала, поправляла и предлагала, и он ни разу не возразил и не попытался надавить на неё. Возможно, потому, что до сих пор до конца не знал, что делает, — и, несмотря на это, в нём жила такая пугающая уверенность в успешном исходе всех своих замыслов, что это наполнило Адель суеверным ужасом.
— Это вряд ли получится, — заключила она наконец, когда они всё обсудили и всё безумие общей идеи наконец начало доходить до неё, опьянённой нежданным предложением всего, о чём она когда-либо мечтала.
— Это получится, — сказал Адриан Эвентри, и Адель Джесвел ему поверила.
Она ощущала в нём силу, изменяющую всё, с чем он ни соприкоснётся. И, будучи хоть и еретичкой, но истово служащей Гвидре даже в своей ереси, местра Адель сердцем чувствовала, что сила эта — не от светлых богов. А потому лишь радовалось, что, соприкоснувшись с ней, эта сила поднимет и спасёт её, а не сметёт, как многих других на своём пути.
Когда он собрался уходить, она сказала:
— Может, вы всё-таки повидаетесь с вашей матерью?
Он заколебался. На его лице неожиданно появилось совсем детское выражение растерянности, смешанной с упрямством и затаенным страхом. Это наполнило её сердце почти материнской нежностью и жалостью. Он так много мог, так много предлагал — и всё равно нуждался в том, чтобы его направили. Она помогла ему в этом.
— Могут спросить, зачем вы приезжали сюда — спросят и вас, и меня. Лучше, если вы воспользуетесь предлогом и по прямому назначению тоже.
Он закусил губу, потом кивнул, как будто решившись.
— Утром я видела вашу мать во дворе у северной стены, — сказала Адель. — Должно быть, она всё ещё там. Я провожу вас.
Она вышла из кельи первой, он — следом, задержавшись на мгновенье — может быть, чтобы снова посмотреть на ивовый венок на стене. Потом они шли по пустым и гулким коридорам обители, залитым полуденным светом, что проникал сквозь стрельчатые окна, и их шаги далеко разносились вокруг.
Леди Мелинда Эвентри, как и предполагала Адель, была у северной стены, на монастырском огороде, и пропалывала грядки с саженцами клубники. С самого утра она пропалывала грядки: кто-то из сестёр привёл её сюда, помог опуститься на колени (в последние годы у неё усилились боли в спине, и даже припарки из огуречного листа почти не помогали), вложил в её руки мотыгу и оставил здесь. Когда пробил колокол на молитву, сестра пришла за ней и отвела в часовню, затем на кухню, на обед, а потом — обратно. Одно время Адель подумывала, не пора ли поручать ей менее обременительные занятия, но потом решила оставить всё как есть. Леди Мелинда любила огород и радовалась, как дитя, всякий раз, когда ей поручали именно эту, не самую чистую и лёгкую работу. Это могло показаться странным тому, кто знал её в прежние времена. Но прежние времена на то и были прежними, что теперь от них осталась только память — и имена.
— Сестра Мелинда! — позвала Адель, остановившись у огородной оградки, выложенной крупными валунами. Юный лорд Эвентри замедлил шаг и немного отстал от неё, но она не обернулась.
Седоволосая, хотя ещё и не старая с виду женщина подняла голову, огрубевшие пальцы с забившейся под ногти землёй перестали прилежно ковырять почву у корней саженцев. Тёмные глаза взглянули на местру-настоятельницу, как всегда, кротко и доверчиво.
— Сестра, — вполголоса сказала Адель, — приехал ваш сын. Он хочет видеть вас, если вы этого пожелаете.
Мелинда Эвентри моргнула несколько раз — с усилием, по-совиному, будто человек, отчаянно борющийся со сном.
— Мой сын, — повторила она, и Адель услышала, как выдохнул Адриан Эвентри за её спиной при звуке этого по-старчески надтреснутого голоса, так резко диссонировавшего с нестарым лицом и по-прежнему ясными глазами, и так подходящего к её седым волосам. — Но я ещё не закончила с саженцами.
Она сказала это почти капризно — и указала грязным пальцем на кустик, с которым возилась. Она отвечала так всегда, когда не хотела что-то делать — идти на молитву или на трапезу, или в баню. Уговорить её сходить в баню было труднее всего. Здесь важно было проявить твёрдость.
— Вы вполне можете закончить с саженцами позже, сестра, — сказал Адель тоном, который всегда на неё действовал, — тоном, от которого она вздрагивала и смотрела на местру в тревожной растерянности… точно как её сын. — Сейчас вы должны сделать перерыв. И поговорить с кем-то, кто очень хочет вас видеть.
— Меня? — Мелинда улыбнулась удивлённо и робко, всё так же неотрывно глядя Адели в лицо, хотя тот, кто пришёл к ней, тот, кто шёл к ней так долго, стоял в шаге от местры и смотрел на неё… нет, Адель не хотела знать, как он на неё смотрел.
— Не утомляйте её слишком сильно, — не оборачиваясь, вполголоса сказала Адель. — Я оставлю вас, но буду неподалёку. Если она станет кричать или плакать, не пытайтесь её успокоить, просто позовите меня.
Не дожидаясь ответа, она ободряюще улыбнулась Мелинде и пошла по дорожке обратно, к колоннаде. Она не оглянулась ни разу, пока шла. И лишь завернув за первую из колонн, остановилась и посмотрела туда, где оставила Мелинду Эвентри и её сына.
Он всё ещё стоял за оградой, а Мелинда стояла на коленях посреди земли и сорняков. Её руки были сложены на коленях, так, словно она сидела в кресле у камина в тёплом и безопасном доме. Пустые, неразумные глаза пытливо и мучительно вглядывались в стоявшего перед ней мужчину, которого она не знала, но пыталась вспомнить. Адель отделяло от них немалое расстояние, но в пустом монастырском двору звук разносился далеко и гулко. Поэтому она услышала, как леди Эвентри спросила нерешительно и недоверчиво:
— Анастас?
А потом отрывисто вскрикнула, выбросила вперёд руку и покачнулась, будто вот-вот собиралась упасть и молила его о помощи.
И тогда её сын, тот, кого она так и не узнала, наконец сорвался с места и бросился к ней.
Адели Джесвел захотелось отвернуться и оставить их вдвоём, с их болью и стеной, которую ни один из них не мог преодолеть. Но местра гвидреанского монастыря, исповедовавшего фарийскую ересь, продолжала стоять и смотреть, как человек, который собирался стать великим конунгом, падает на колени в грязь рядом со своей матерью, хватает её сморщенные руки, целует её загрубелые ладони и плачет. Смотрела и думала, что есть раны, которые даже фарийская ересь не умеет исцелять.
Леди Мелинда несколько мгновений удивлённо глядела на человека, целующего её руки. Потом отняла одну и нерешительно погладила его по голове, пачкая его волосы влажной землёй.
— Анастас… бедный мой мальчик. Пришёл навестить свою матушку? Ты так повзрослел… Когда ты успел так повзрослеть? Я тебя едва узнала. А где Бертран? Где девочки? И Ричард? И Адриан? Они, наверное, тоже выросли? Ну, дай-ка я на тебя посмотрю…
Она заставила его поднять голову и какое-то время рассматривала его лицо, и в её глазах удивление мешалось с гордостью.
— Ты стал очень похож на отца. Я всегда знала, что так будет. Анастас, ты был плохим сыном, знаешь это? Дерзкий, гадкий мальчишка. Ты будешь наказан, я скажу батюшке, и он запрёт тебя. И даже хуже, если ты не бросишь эту мерзкую привычку. Табак — пристрастие Молога, дым табака — дым из пасти Черноголового! И не смей со мной спорить!
Он не спорил. Его плечи дрожали, он больше не всхлипывал, но словно в дурмане водил ладонью матери по своему лицу, и Адель знала, что её руки теперь станут мокрыми. И подумала, что есть бальзамы, которые принимают внутрь, чтобы исцелить телесную рану, но бальзам для иных ран душа исторгает сама, выводя из тела с водой и солью.
— Перестань, — раздражённо сказала леди Мелинда. — Ты большой мальчик, Анастас. Тебе уже четырнадцать. Какой пример ты подаёшь младшим? Адриан и так растёт сущим проклятьем. О, местра Адель, знали бы вы, как я с ним мучаюсь! — вскинув голову, громко пожаловалась она — хотя Адель знала, что леди Эвентри не может её видеть. — С ним нет никакого спасу, где он, там всегда напасть и беда. Мне порой кажется, что им овладел Молог… что? Что ты говоришь, сынок?
Адриан Эвентри что-то пробормотал, едва различимо. И лицо его матери, расслышавшей эти слова, разгладилось и озарилось светом, вонзившимся острой иглой ревности в сердце местры Адели, которая сама выбрала свой путь и, идя по нему, не могла узнать, что такое быть матерью и гладить своего сына по волосам. Она никогда не жалела об этом, ни разу — до этого дня.
— Конечно, Адо, я тебя прощаю, — сказала безумная леди Эвентри, лишившаяся разума в тот самый день, когда она потеряла всю свою семью, и поцеловала своего сына в темя, а потом обняла его и закрыла глаза, улыбаясь так, будто наконец обрела покой.
Где ты был прежде, так долго, Адриан Эвентри?
Местра Адель повернулась и вошла в свой храм.
Эжен Троска по прозвищу Галиотто (так называли его монашки-гвидреанки, к которым он каким-то образом попал — каким именно и почему они так его называли, он так и не смог вспомнить) должен был умереть от тяжёлой грудной простуды, однако не умер. Он скакал галопом двое суток и загнал трёх лошадей, спеша к лорду Скортиару с донесением от лорда Иторна. По дороге он попал в страшный ливень, и молил Многомудрую Аравин, богиню клана Иторн, лишь о том, чтобы она сохранила его до порога дома, в который он был направлен. Эжен Троска не читал древней поэмы о Галиотто, однако мог быть сравним с легендарным гонцом вполне правомерно. Он был готов умереть, лишь бы выполнить свой долг, — но лишь после того, как выполнит.
Однако он не умер. Он бредил, его мучили то жар, то озноб, неизменная жажда и жгучий страх смерти, сковывающий льдом грудь, в которую, казалось, налили расплавленного воска. От кашля его рвало, он харкал кровью, он давно должен был попасть в светлую обитель Гилас и там прильнуть к её ласковой материнской груди. Но его не отпускали. В него вливали что-то, его растирали чем-то, а он только хрипел, пытаясь сказать им, чтобы они перестали заниматься глупостями и скорее позвали лекаря и тот пустил ему кровь. Он надеялся, что они сделали это, пока он был без сознания, но когда в краткие мгновения прояснения рассудка, случавшиеся обычно ночью, когда его сиделка спала, Троска смотрел на сгибы своих локтей, он не находил там следы надрезов. Они не собирались его лечить. Они хотели чего-то другого. Если бы место, где он оказался, не было святым монастырём, Троска испугался бы. Он был неграмотен и мнителен настолько же, насколько набожен.
Впрочем, неграмотность не означала невежества. Он знал, что такое Фария. Он слышал это слово в замке Логфорд, когда жрец богини Аравин, дворовой капеллан лорда, поспорил со жрецом Лутдаха, остановившимся в замке на ночлег. Из их разговора Троска мало что понял — кроме того, что из места под названием Фария в Бертан проникает ересь, и проникновение это тем более опасно, что избирает наиболее благопристойные с виду пути — такие, как помощь больным и раненым…
Местра Скортиарского монастыря гвидреанок лечила Эжена Троску по-фарийски. Он слышал, как об этом сказал человек, который подошёл следом за ней к постели Троски в первый день, когда Эжен наконец почувствовал ясность разума не в тёмное время суток. Так он сказал, а она не стала отрицать. Они думали, что он в беспамятстве и не слышит их.
Но он не был в беспамятстве.
Теперь Эжен Троска боялся лишь одного — что и Многомудрая Аравин, и Гвидре Милосердный, чьим именем гнусно прикрывался этот оплот еретиков и иноверов, проклянут его за то, что он принял, пусть и невольно, помощь из рук, покрытых скверной. Он боялся — нет, он был уверен, что они не позволят ему выздороветь, покарав тем самым и дерзких врачевателей, и его самого. Однако он выздоровел прежде, чем успел выпасть первый снег, и тогда подумал, что, должно быть, боги решили отсрочить кару, уготовив для него нечто более страшное. Эти жуткие мысли угнетали его, он слабел, угрюмо уходя от расспросов благожелательных с виду монахинь. Ему были отвратительны их ханжески благочестивые лица, их прикосновения. В одну из ночей, когда у него снова начался жар, Троска подумал, что, быть может, ему оставили жизнь, чтобы он мог искупить свой грех. Или сделать что-то очень важное. Или совместить одно с другим…
Неграмотность Троски не означала невежества, не означала она и глупости.
Когда он понял, что сможет удержаться в седле, то долее ни минуты не оставался в осквернённых стенах. Его лошадь всё это время содержалась в полном довольстве в конюшнях монастыря, и за это — только за это — Троска сквозь зубы поблагодарил местру-настоятельницу, которая вышла проводить его до ворот. Она дала ему с собой узелок с какими-то пузырьками и сказала, чтобы он в течение недели втирал их содержимое себе в грудь. Он не стал отказываться. Это могла оказаться важная улика, и в любом случае, требуя срочной аудиенции у жрецов Сотелсхеймского Анклава, нужно было иметь при себе что-то повесомее собственного слова.
Всю обратную дорогу Троска пытался вспомнить имя человека, который произнёс над его телом роковое слово «Фария». Память вернулась лишь на самых подступах к Сотелсхейму. Адриан Эвентри — вот как его звали. И он якобы прибыл в Скортиарскую обитель, чтобы встретиться со своей матерью.
Этот человек, Адриан Эвентри, вольно или невольно спас жизнь Эжену Троске.
И, как обычно, это многое, весьма многое изменило.
4
Он помнил эту тропинку.
Какие странные шутки порой выкидывает память — ведь за прошедшие двенадцать лет это место нисколько не изменилось. Эд был в том уверен: для далёких бедных деревушек вроде этой, стоящих вдалеке от торговых трактов, время течёт втрое медленнее, чем для всего остального мира. Люди рождаются и умирают, а больше ничего не происходит. Камни остаются теми же, какими были, только, быть может, лежат теперь не там, где прежде. Разница между камнем и перекати-полем — только во времени, за которое они преодолевают свой путь. Но время — это такая малость. Такая ничего не значащая безделица…
Эд знал это, потому что снова стоял на той самой тропинке, в двух шагах от ручья, где двенадцать лет назад бросил наземь вёдра и ушёл с Тобиасом Одвеллом — вместо того, чтобы остаться в красном домике выше по склону, на который он смотрел теперь, щурясь на солнце. «Вот, — думал он, — я опять стою здесь, я помню эту тропинку — этот крутой поворот чуть повыше, там до сих пор стоит камень, о который я споткнулся, когда бежал тем утром с вёдрами вниз… Другие камни сорвались со своих вековых лежбищ и улетели кто вниз, к деревне, кто к пропасти и в море, и теперь они лежат там, ещё на тысячу лет… А этот камень по-прежнему здесь — как и я.
Мы всё ещё здесь, и что изменилось за эти двенадцать лет?»
Ничего.
Это было ложью, но, стоя посреди этой тропы и глядя на красное пятнышко, выделявшееся среди серой пелены скал далеко впереди, Эд не мог думать ни о чём другом. Ему казалось, что пятнышко поблекло и замшело, словно покрывшись пылью, но наверняка это была всего лишь игра его воображения. Внизу, в деревеньке, он спросил, кому принадлежит этот дом на скале. Ему ответили: леди Алекзайн, и быстрым движением сотворили знак, отводящий злые силы. Нет, ничего не изменилось.
Было странно, что спустя все эти годы он так легко смог отыскать её в этом же самом месте. До того странно, что Эд снова ощутил тревогу, с которой, казалось, уже распрощался после визита в Скортиарскую обитель. Он всё ещё ощущал тёплую ладонь своей матери на щеке и помнил взгляд скортиарской местры, такой ясный и такой всепрощающий, что Эд почувствовал бы себя совершенно счастливым, если бы только ему было нужно её прощение. Но ему было нужно кое-что другое, куда более прагматичное, — и это он, судя по всему, тоже получит.
Сейчас и здесь он тоже искал нечто прагматичное. В этом месте, в этом доме. У этой женщины, которая продала его Индабиранам двенадцать лет назад. Которая сказала ему, что ей нужно от него. Теперь — и это было единственным, что вправду переменилось, — ему нужно кое-что от неё.
И он это получит.
Он шёл пеший, так же, как тогда. Не потому, что это что-то значило, или усиливало его связь с этим местом, или пробуждало его память о вещах, большинство из которых он предпочёл бы забыть, — нет. Просто его лошадь подцепила какую-то заразу на последнем постоялом дворе и пала прямо посреди тракта, когда домики деревушки уже виднелись на горизонте. Эд дошёл до горы пешком, когда уже стало смеркаться. Хозяин единственной в деревне таверны, признав в чужаке небедного господина, чуть поклоны не бил, уговаривая заночевать. Конечно, он не узнал в высокомерном мужчине того самого мальчика, который много лет назад вступился в его кабаке за девочку-служанку… Тогда-то Эд впервые подумал о Вилме. Знать бы, где она и что с ней стало… Но на самом деле он не хотел этого знать. Это было не так уж важно. Не важнее, чем его братья, его сёстры, его мать. Не важнее чёрной оспы.
«Ты — оспа, Алекзайн, — подумал Эд, глядя на приближающееся багряное пятно. — Ты зараза, ты чума, которая проникла в моё тело и разум и захватила их. Но ведь ничто не мешает рабу убить своего хозяина. Не затем, чтобы освободиться… Просто за то, что я тебя ненавижу».
Да, он ненавидел её. Никогда об этом не думал так, но — ненавидел. За многое, но больше всего — за то, что она сказала: «Теперь можно», и поцеловала его губами девушки-роолло именно тогда, когда он совсем этого не хотел.
Она всегда вторгалась в его жизнь тогда, когда он этого не хотел, а не тогда, когда действительно в ней нуждался.
Ворота перед домом были распахнуты настежь — как и прежде, их не запирали. Толстая немолодая женщина с сильной проседью в волосах развешивала на верёвках бельё, пыхтя и отдуваясь — каждое движение явно давалось ей с трудом. На земле у её ног возились трое чумазых детишек — один лепил куличики из грязи, двое других упоённо ими швырялись. Женщина шикала на них и была щедра на подзатыльники, но не делала ничего, чтобы унять детвору по-настоящему. Только когда один из малышей пригнулся, и летевшая ему в лицо лепёшка смачно шмякнулась на трепетавшую по ветру белоснежную простыню, женщина гаркнула: «Джон! Ах, паскудник!» — и, схватив за ухо того малыша, в которого метили лепёшкой — то есть ни в чём, в общем-то, не повинного, — шлёпнула его со всей силой суровой материнской любви. Мальчишка заверещал, и под этот пронзительный вопль Эд ступил во двор дома, который совсем не изменился и так изменился с тех пор, как он был здесь в последний раз.
Ему хватило беглого взгляда вокруг, чтобы оценить обстановку. Не считая многодетной мамаши и собаки, тут же подбежавшей, чтобы облаять Эда, двор был пуст, если не сказать — запущен. У колоды для рубки дров валялась поломанная оглобля, словно кто-то взялся чинить и бросил дело на половине.
— Эй, сударыня, — окликнул Эд женщину, всё ещё лупившую вопящего ребёнка и полностью поглощённую этим ответственным делом. Двое других, отбежавших от матери подальше, тут же обернулись и уставились на Эда со смесью детского любопытства и взрослого подозрения. Судя по всему, они жили здесь и нечасто видели других людей.
— Сударыня! — повторил Эд громче, и женщина, наконец выпустив сына, который тут же дал стрекача, повернулась к нему. Лёгкое удивление, появившееся на её лице, задержалось не долее чем на миг.
— Чего вам? — Голос у неё был низкий и хриплый, как у человека, часто и неумеренно прикладывающегося к бутылке. — Вы, сударь, чай, к Гилберту? Так его нет. Третьего дня ещё уехал в Пронтхолл на рынок и вернётся не раньше будущей недели.
— Гилберт? — вырвалось у Эда. Неподвижное лицо, стальные глаза под кустистыми бровями, свист бича, кровь — неправильная кровь, не там, не так… — Он всё ещё работает здесь?
— Ну а куда ж ему деться-то. Вы если за тем седлом, так я и сама вам отдать могу. Я жена его. Он сказал, если придёте…
— Я не за седлом, — перебил Эд. — Я хочу видеть вашу хозяйку. Леди Алекзайн.
Женщина, уже повернувшись было к Эду спиной, взглянула ему в лицо. Сам не зная почему, он отвёл взгляд. Лицо у неё было красным, припухшим от пьянства и, как сильно подозревал Эд, от мужниных побоев. Видят боги, Эд Эфрин не был ни чрезмерно стыдлив, ни сверх меры сострадателен, но, глядя на эту женщину, он испытывал ему самому непонятный стыд — так, словно был в ответе за неё и за то, чем она была.
— Леди, — повторила служанка. — Вот оно как…
— Надеюсь, она дома? Я проделал долгий путь, чтобы её увидеть.
— Дома, а то как же… Только вряд ли она вас примет. Вам бы, может, лучше хозяина повидать?
— Хозяина? — Эд был сбит с толку. Впрочем… а почему бы и нет? Алекзайн молода и красива — она могла выйти замуж.
Кто-то подёргал его за отворот сапога. Эд посмотрел вниз — и едва не вздрогнул от свирепого окрика женщины:
— Джон! А ну лапы свои прочь от благородного господина! И вы двое, а ну пошли вон, на задний двор. И пса заберите. Носа не казать, пока не позову!
Под весь этот шум и гам малышня наконец убралась со двора, забрав с собой скулящую и вырывающуюся собаку. Как это было странно… Если Эд знал Алекзайн хотя бы немного — она никогда не стала бы терпеть у себя в доме подобного гвалта. И Вилма, и даже Гилберт, когда Алекзайн была здесь, ходили на цыпочках.
Эд сказал:
— Да, если возможно, пожалуй, я бы повидал вашего хозяина, господина…
— Тома, — закончила она за него. — Я схожу, позову его.
И прежде чем Эд успел сказать хоть слово, окно наверху со стуком распахнулось, и отрывистый мужской голос, который Эд узнал бы и через тысячу лет, крикнул:
— Вилма! Поднимись! Сейчас же!
— Господин Том! — запрокинув голову, крикнула та в ответ. — А тут пришли к вам! Уже иду! Вы простите, сударь, — сказала она Эду, повернувшись к нему и простодушно взглянув на него своими глазами — карим и зелёным. — Обычно-то гостей муж привечает, а тут я теперь одна… У него это лучше выходит, да и редко у нас гости. Вы идите в дом, я сбегаю узнаю, что там, заодно господину Тому про вас скажу.
«Вряд ли в этом есть надобность», — хотел сказать Эд и не сказал. У него язык словно присох к нёбу. Он хотел посмотреть наверх. И не мог, потому что его собственный взгляд был намертво прикован к женщине, торопливо ковылявшей к дому. Обрюзгшей, некрасивой, потасканной женщине, выглядящей на десять лет старше своего настоящего возраста, женщине, избегавшей смотреть в глаза собеседнику — потому что она знала, какое впечатление обычно производят её глаза, разные, как у самого Молога… Женщине, вышедший замуж за человека, который бил её плетью по приказу их госпожи. Женщине, которая когда-то, безумно давно, прижалась к его губам горячим жадным ртом и научила его быть мужчиной…
Нет. Нет, не научила. Потому что уже на следующий день он бросил её, избитую, истерзанную из-за него. Бросил маленькой и одинокой, оставил лежать на узкой койке лицом вниз… Она прятала лицо в сгибе локтя — так, словно ей было стыдно… стыдно за него.
Она его даже не узнала.
«Ничего не меняется, — подумал Эд. — Она всё ещё здесь. И я тоже. И Алекзайн. И даже Том».
Он подошёл к дому, преодолевая себя для каждого шага, и, перешагнув порог, ступил в холодный сырой мрак жизни, которую когда-то так легко позволил у себя отнять.
Дом, как и прежде, производил впечатление призрака. Эд ощущал на лице солёный морской ветер, который заносило в коридоры сквозняком. Все двери раскрыты, и ни в одну не хочется входить, потому что глубоко запрятанным инстинктом знаешь, что ничего хорошего ни за одной из них тебя не ждёт. Отчасти это было похоже на чувство, которое он испытывал, входя в покои конунга в Сотелсхейме — в комнату, из которой мог выйти прямо на плаху. Стуча в дверь конунга, Эд каждый раз вспоминал ту ночь, когда Алекзайн позвала его к себе и он, войдя, увидел её в спальне обнажённой, зовущей и отталкивающей одновременно… Ужас, непонимание и восторг, слитые воедино.
Эта комната, та самая, была единственной, из которой раздавались сейчас хоть какие-то звуки в этом пустом и мрачном доме. Простые и будничные звуки — возня, приглушённые голоса, перемежаемые досадливой руганью Вилмы. У неё всё такой же скверный характер, как в юности. А с чего бы ей измениться? Она никогда не выходила за пределы этих стен. Она была заперта здесь, потому что он ушёл и бросил её.
«Не важно. Я здесь не за этим», — сказал себе Эд Эфрин и, подняв руку и задержав её в дюйме от двери на долю мгновения, толкнул дверь.
Это была спальня Алекзайн — такая же, как двенадцать лет назад. Но Алекзайн в ней не было. Вилма и Том — Эд узнал его с первого взгляда, он почти не изменился, только плечи ссутулились, а лицо пересекали морщины — суетились у постели какой-то старухи, хрипевшей и бившейся в судорогах. Старуха была такой древней, что казалось, будто она может испустить дух от слишком резкого движения, а судороги, бившие её иссохшее тело, непременно должны были сломать ей все кости. Том держал её коротко остриженную голову, прижимая к подушке, и Вилма, разжав сильными руками упрямо сжимаемые челюсти, пыталась влить между ними какое-то питьё, но из-за конвульсий старухи половину проливала мимо, на ночную сорочку женщины и простыню, и без того покрытую жёлтыми пятнами.
Это было одно из самых отвратительных зрелищ, которые приходилось видеть Эду. Всё его существо рвалось выскочить за порог и захлопнуть дверь, но он стоял и смотрел. Наконец усилия Вилмы увенчались успехом, и почти сразу судороги стали утихать, а потом прекратились. Том отпустил голову старухи, на мгновение задержав ладонь на её лбу и слегка погладив.
— Всё, — тихо сказал он.
Вилма поставила опорожнённую чашку на столик у изголовья кровати и шумно вздохнула.
— Ох, сударь мой, да придушили б вы её уже, сколько ж можно-то… и ей мука, и вам…
— Смени ей сорочку и простыни, — словно не слыша её, сказал Том. — И побудь здесь, пока я…
Не переставая говорить, он наконец поднял голову — и умолк на полуслове. Вилма обернулась тоже.
Оба они только теперь заметили Эда.
Руки Тобиаса Одвелла дёрнулись — так, словно он инстинктивно пытался схватить что-то и набросить на женщину, тихо хрипевшую на зловонной постели. В его взгляде, брошенном на Эда, смешались гнев и стыд.
— Уйди прочь, — отрывисто сказал он, и Адриан Эвентри вспомнил, как этот голос велел ему спустить штаны и приготовиться для порки. — Тебе нечего здесь делать!
Он не выразил ни малейшего удивления — и узнал Эда так же легко, как тот узнал его. «А ведь я изменился, — подумал Эд, — и… и он изменился тоже, почему мне сперва показалось, будто нет?.. Как и Вилма, отяжелел, тугие мышцы уступили место жирку, волосы поредели, глаза выцвели… Он теперь старик, хотя я помню его молодым мужчиной, а я — мужчина, хотя он помнит меня мальчиком, но мы узнали друг друга с первого взгляда и в первый же миг. Может, потому, что дело не во внешности, а в том, что один Отвечающий всегда ощущает и помнит другого?»
Адриан Эвентри помнил Тома, поэтому в ответ на приказ повернулся и вышел, как ему было велено. Ничто не меняется.
Он отошёл от двери на шаг и терпеливо ждал, пока Том, отдав Вилме ещё несколько приказаний, выйдет к нему. Они оказались в сумрачном сыром коридоре вдвоём, и на миг что-то ёкнуло внутри — точно так же они столкнулись впервые в Эвентри, когда…
— Что тебе надо?
В полумраке Эд видел его лицо смутно, но ему и не требовалось света, чтобы различить неприязнь и раздражение.
— Мне нужна Алекзайн. Я должен задать ей несколько вопросов.
— Задавай хоть дюжину — она тебе не ответит.
— Я могу видеть её, Том?
— Ты уже видел.
Эд недоумённо моргнул. О чём он…
Гилас… нет.
Это зловоние, яркий солнечный свет, снопом ложащийся на запертую дверь в купальню, и существо на постели…
Нет!
— О боже, — прошептал Эд, протягивая руку и касаясь ладонью стены — он всегда так делал для верности, когда у него слабели ноги. — Как… почему… что случилось?
Том молчал. Это было усталое, измученное молчание, говорившее больше слов. Потом Эд почувствовал прикосновение к своему плечу — то самое, его он тоже помнил, и, как прежде, инстинктивно напрягся. Эта рука всегда вела его туда, где он не хотел быть, и она же когда-то успокаивающе поглаживала его по затылку. Держись, парень, ты уже взрослый.
— Пойдём, — сказал Том. — Здесь не лучшее место для разговора.
Лучшим местом для разговора была комната внизу, та самая, где Алекзайн когда-то читала книгу, страницы которой шевелил ветер. Том подошёл к креслу, в котором она сидела, когда позвала к себе Адриана и спросила, на что он готов ради неё, и опустился туда с осторожностью человека, привыкшего беречь спину. Он немного расслабился, и от этого только заметнее стала его дряхлость. Не физическая. Просто он очень устал жить и ни от кого этого не скрывал.
— Когда тебя схватили Индабираны, — без предисловий сказал Том, — она вернулась за мной в ту таверну, где на нас напали наёмники — помнишь? Она со мной говорила. Не так, — он постучал костяшкой пальца по своему виску, — а просто говорила, как прежде. И в конце концов убедила, что я должен предоставить тебя самому себе. Говоря по правде, именно этого я и хотел, только думал, что права не имею. И когда я согласился, она внезапно потеряла сознание и… стала стареть.
— Стареть? — повторил Эд.
— Я своими глазами видел, как ссыхается её кожа, краска сходит с волос, тают мускулы… как она становится такой. Ты видел, — его голос звучал совершенно ровно, но именно в этом спокойствии Эд отчётливо видел след ужаса, который Том испытал в тот миг. — За несколько минут она превратилась в столетнюю старуху. Я думал, она умерла. Она почти не дышала и всю ночь была без сознания. А потом очнулась.
Он умолк, и молчание было враждебным, как будто он ждал вопроса, в котором прозвучит обвинение или упрёк. Но в чём Эд мог его обвинять? В том, что Том не убил её сразу?
Господи, ведь прошло двенадцать лет…
— Том, кто она? Во имя всего святого, кто она такая?
— Никто, — с горечью ответил тот. — Просто женщина из обедневшего рода, ещё девочкой отданная в монастырь Яноны. Когда она была подростком, Янона забрала себе её тело, чтобы найти своего Отвечающего. Боги не могут говорить с нами напрямую, сами, они слишком отличаются от нас. Каждый выбирает собственные пути. Яноне нравятся женские тела — она знает, как они воздействуют на нас… на мужчин. — Он коротко и сухо усмехнулся губами, из которых давно ушла кровь. — Дух этой девочки, Алекзайн, оказался силён, её нрав полюбился Яноне, и она надолго осталась в этом теле. Очень долго по человеческим меркам. Алекзайн сопровождала пятерых Отвечающих. Пятерых, Адриан.
Пятерых… По одному в каждом поколении.
Сто лет.
— А теперь?.. — с трудом спросил он.
— Теперь она, видимо, решила, что с этого тела довольно. Или с этого духа… Янона ведь не уничтожила и не вытеснила душу Алекзайн из тела. Они обе всё это время были внутри. Я даже представить себе не могу, каково это — делить свою голову с богиней… с Неистовой дочерью Молога. Она очень редко пыталась забраться в мою, едва касалась меня, и всякий раз я едва не сходил с ума. Я сходил с ума… Адриан, я был безумцем, законченным безумцем, когда сделал всё, что сделал. Но Алекзайн была гораздо безумнее, потому что нельзя сто лет делить себя с Яноной и не сойти с ума.
— Откуда ты знаешь всё это?
— Она мне сказала. Пока ещё могла говорить. Она всё помнит. Всё, что делала — и что Янона делала с помощью её тела. Ей… ей стыдно, Адриан. Она просила, если я когда-нибудь встречу тебя, попросить у тебя за неё прощения.
— За что? — Эд снова протянул руку и коснулся пальцами стены. Глупый жест, привычка, а не необходимость. — Это не её вина. Всё, что делала… эта… богиня… всё это была её воля.
— И ты эту волю выполнял. И до сих пор выполняешь. Я прав?
— Да. — Не было смысла отрицать. — Выполняю и выполнял. И выполню.
— Жизнь тебя ничему не научила, — с отвращением сказал Том.
— Ты ошибаешься. Просто я учился тому, чему она хотела меня научить. Чтобы я выполнил свой долг.
— Какой долг, Адриан? Янона безумна. Всё, к чему она прикасается, она заражает безумием. Алекзу… тебя, и меня…
— Так удобно верить в это, — резко сказал Эд. — Удобно, верно, Тобиас Одвелл? Или Томас Лурк — кто ты там теперь? Ты называешь себя безумцем и всё, что делал, а ещё хуже — то, чего не сделал, списываешь на безумие. Но ты не безумен, ты в ответе, за сделанное и не сделанное, так же, как и я.
— Ты прав, — тихо сказал Том. — Ты всегда был прав. А я всегда трусил. Я…
— Это то же самое оправдание, — отрезал Эд. — Трусость, безумие, слабость — не важно. Всё — лишь бы повод отбрехаться от твоего бремени. И как тебе, легче жить, веря в это? Вправду ли легче?
— А тебе, вижу, нравится то, чем она тебя сделала. Ну и как, Адриан Эвентри, многого ты достиг? Изменил мироздание? Спас мир? Или ты только на середине пути?
В голосе Тома звучала насмешка — но слишком явно сквозь неё пробивалось плохо скрываемое замешательство. Эд ощутил острый приступ вины — за то, что пришёл сюда, разбередив его раны, и за то, что Том говорил правду.
— Да. Я на середине пути. И да, Том, мне это нравится… если бы не нравилось, я бы тоже обезумел, или притворился, что верю в своё безумие, — так, как ты.
— Настоящий безумец себя таковым никогда не признает.
— О, в самом деле? Тогда это означает, что ты в здравом уме. А я, может быть, нет, но, увы, я не могу позволить себе роскоши в это поверить.
Том тихо засмеялся, одновременно и с грустью, и с облегчением.
— А всё-таки она не ошиблась в тебе. Ты сильнее меня… мальчик.
— Да. Давай, насмехайся. Я был глупым мальчишкой и остался им, знаю. Я не особенно задумываюсь, что делаю. Может, именно поэтому Отвечающий — всегда мальчишка.
Смех Тома оборвался.
— Что, уже появился новый?
В его устах это звучало так… буднично. Так закономерно.
— Именно об этом я и собирался спросить у Алекзайн, — бросил Эд, тщетно пытаясь скрыть досаду. — Она послала ко мне какую-то девицу, бродяжку роолло, и с ней передала мне эту прекрасную новость. И, проклятье, я знаю, что она не солгала! Я чувствую это, чувствую его! Он…
— Погоди, — осадил его Том. Эд умолк, ещё больше раздосадованный тем, что его перебили, — ему так хотелось наконец выплеснуть все свои тревоги человеку, которому не надо было объяснять их непростую суть. — Когда это случилось? Когда ты встретил эту девицу?
— Два месяца назад в Сотелсхейме. Она…
— Это невозможно, Адриан. Янона покинула Алекзайн двенадцать лет назад. Как я понимаю, все эти годы ты был предоставлен самому себе — она действительно очень в тебя поверила… Но кем бы она ни пришла к тебе снова — это не Алекзайн.
Тёмные полные губы… блестящие глаза, волосы, заплетённые в косы, пыль на подоле, месившем грязь на всех дорогах мира… «Роолло забирает то, что хочет забрать, роолло крадёт песню и оставляет её себе». И тихое, тёплое «Теперь можно» у самых губ.
Янона Неистовая хотела взять себе своего Отвечающего, своего мученика — и взяла. Много раньше, чем он это понял.
— Ты прав, — сказал Эд. — Том, ты прав… я такой дурак.
— Ты не дурак, Адриан, — сказал Тобиас Одвелл мягко. — Я давно тебе говорил: не будь к себе чересчур суров, помнишь? Просто ты не принадлежишь самому себе. И никогда не принадлежал. Так же, как я. Я зову это безумием, а ты зови как хочешь.
«Нет, нет… Неправильно, всё не так! Это был мой выбор. Ты же сам говорил мне, Том: сделай выбор и держи за него ответ… я так и старался делать всю свою жизнь! И теперь ты, ты сам говоришь мне, что это был всего лишь мираж… что выбора не было с самого начала ни у кого из нас…
Так легко в это поверить — и отдаться течению божьего дыхания, отдаться Её рукам… и снять с себя тяжесть ответственности, потому что не моя вина — но Её воля…»
— Почему она не умирает?
— Как она может умереть, Адриан? Она ведь богиня…
— Нет! Я про Алекзайн. Почему она так страдает и… не может умереть?
Том сжал губы. Эд внезапно понял, что не следовало задавать этот вопрос, что он не хочет слышать ответ.
— Не надо, — быстро сказал он, — не отвечай…
— Я же сказал тебе: Янона безумна, — вот и всё, что ответил Том, и Эд застонал от отчаяния, от ужаса, от муки — за Алекзайн, за Тома и за себя, оттого, что был связан с богиней, которая способна на такое…
Способна любить своих несмышлёных детей-человеков так сильно, что всегда возвращает им отнятое. Сто лет жизни она забрала у девы по имени Алекзайн — и вернула их ей, когда перестала в ней нуждаться. Не отняла жизнь, но только позаимствовала её. И теперь вернула обратно. Каждый год, день и час.
«Что она отняла у меня? — подумал Эд. — И каким вернёт?»
Ну что же ты, Адриан — ведь ответ тебе уже известен. Она отняла у тебя твой клан. Твою семью. Твоих братьев. И возвращает теперь, разве ты ещё не заметил? Она вернула тебе даже Анастаса — в глазах Бертрана, ослепших от ненависти, и в глазах вашей матери, ослепших от горя…
Эд Эфрин, человек без имени, человек с жизнью, вывернутой наизнанку, опустился на корточки и закрыл лицо руками. Так он сидел долго, жмурясь, стискивая зубы до боли в скулах, давя в себе дикий, звериный крик — единственное, чем он мог бы выразить эту муку. Потом он встал. Он сделал свой выбор много лет назад и держал за него ответ.
И времени, чтобы сделать это, у него оставалось всё меньше и меньше.
— Я должен найти нового Отвечающего. Если Алекзайн мне в этом не поможет, помоги ты. Скажи… тогда, в самом начале… Она ведь и тебе дала знать, что родился новый Отвечающий и твоё время на исходе. Да? Так откуда ты знал, кого и где искать?
Ответ обескуражил его:
— Она сама сказала мне. Я тогда жил в горах — в той хижине, ты помнишь… Она стала приходить в мои сны и рассказывать о тебе. Я долгое время отмахивался от них, не хотел ввязываться в это снова. А потом подумал, что ты вряд ли будешь умнее меня. Ведь ты был даже младше, чем я сам в те годы, когда узнал о том, кто я…
— Зачем она это делает?
— Что?..
— Зачем Янона рассказывает своим Отвечающим, что их время на исходе? Зачем называет имя… — Эд хотел сказать «соперника», но только мотнул головой. Том понял его. Эд видел, что сам он никогда не задавал себе этот вопрос.
— Может быть, — помедлив, наконец сказал Том, — мы связаны крепче, чем думаем. Может, мы должны… как бы инициировать друг друга. Может, именно от своего предшественника Отвечающий должен узнать, кто он таков.
— Но ты-то узнал об этом прямо от неё. От Алекзайн.
— Да. Потому что человек, Отвечавший до меня, покончил с собой через год после моего рождения.
Кратким всполохом в памяти: яркий румянец, болезненно разгоревшийся на бледных щеках.
«…Проник в лагерь Фосигана… подбросил моровые останки в ручей… Он был так глуп, так слаб… Он отчаялся…»
«…И убил себя, когда понял сполна, что сотворил. Об этом ты мне не сказала».
Такой выход никогда не приходил ему в голову. Это тоже было слишком удобно.
— И может быть, — медленно проговорил Том, поднимая на него глаза, — может, именно поэтому я не смог… я не понял, что от меня требуется. И не сумел быть в ответе.
Эд рассмеялся — сухим, каркающим смехом.
— Как это можно не суметь, Том? Ты можешь вынести свою вину или нет, но она всё равно есть, и никуда от этого не деться.
— У меня к тебе просьба.
— Я выполню, если смогу.
— Убей Алекзайн. А потом меня.
Эд солгал бы, если бы сказал, что удивлён или разгневан. Ему уже приходилось убивать — нечасто, но приходилось, и он это делал. Он знал, зачем. И сейчас тоже знал, зачем. Возможно, это часть того, за что он в ответе — если бы он не был столь сговорчив и не отдал себя Яноне так охотно, быть может, Алекзайн всё ещё была бы прежней… всё ещё оставалась бы прекрасной и жуткой куклой, ведомой бесплотной рукой богини.
— Почему ты здесь, Том? — спросил Эд. — Почему не вернулся в свой дом в горах?
— Я не могу оставить её. Я за неё…
— В ответе.
Том отвернулся. Эд покачал головой.
— Я не могу выполнить твою просьбу. Всё, что ты должен сделать, сделай сам.
— Ты жесток, — тихо сказал Тобиас Одвелл, и Адриан Эвентри ответил:
— Да. Я знаю. Мне очень жаль. Я не хотел быть таким. Я… — он хотел, должен был добавить что-то ещё, но его просили не о словах, а о милости, которой он не мог оказать, потому что считал это малодушием. «Я тоже в ответе, — подумал он с болью, — за Тома, за беспомощную старуху, забота о которой сводит его в могилу и в то же время не даёт права уйти, за Вилму, которую должен был тогда взять с собой, и всё могло быть совсем иначе… Я в ответе, но что я могу, кроме как убить их? Ничего».
Но убивать он больше не хотел.
— Я придумаю что-нибудь. Я… узнаю, что делать, Том. И вернусь.
«Когда сделаю то, что важнее вас, важнее меня, важнее всего».
Часть 9 Дыхание Молога
1
Земли лорда Бьярда и прибрежный город Эфрин — к северо-востоку от Эвентри. Если ехать на хорошей лошади по прямой, на дорогу уйдёт около десяти дней, при условии, что повезёт с погодой. Фьевы центральных земель Бертана волей-неволей выполняли роль форпостов между владениями Одвеллов и Фосиганов, и у владетельных лордов в здешних местах было множество непреходящих забот оборонительного характера, потому они не особенно следили за состоянием своих дорог. Торговые тракты проходили через Логфорд, Флейн и Тэйрак — далеко к востоку от заболоченных пустошей, через которые лежал путь Адриана.
Десять дней — это немного, успокаивал он себя. Если быть осторожным, избегать больших дорог и трактиров, ничего с ним не случится за десять дней.
Он утешал себя это мыслью до тех пор, пока у него не украли лошадь.
На самом деле, неприятности начались ещё раньше — когда в первой же деревне, у колодца, где Адриан остановился напоить коня, он ощутил на себе недобрые взгляды и понял, что сходу повёл себя как последний дурак. Красно-белые цвета его одежд, хотя и прикрытые плащом, были теперь для простого люда всё равно что тряпка-дразнилка для быка. Эвентри пустили на свои земли захватчиков, жёгших деревни и обложивших народ непомерными податями. Никто не жалел Эвентри.
Адриан убрался оттуда так быстро, как смог, и потом целый день ехал окольными дорогами, озираясь через плечо. Одна из них вывела его к одинокому хутору, стоящему в стороне от деревень. Адриан спешился в рощице, раскинувшейся немного в стороне, разделся до штанов и нижней рубахи, и в таком виде пешком явился на хутор. Там он сказался несчастливым путником, которого ограбили разбойники, и спросил, не купят ли добрые люди его одежду, чтобы он мог добраться домой, потому что его матушка, должно быть, уже сходит с ума от волнения. Хозяйка хутора, выслушав эту жалостливую историю, сокрушённо покачала головой и налила ему тёплого козьего молока. Хозяин же подозрительно сощурил глаз, а после сказал, что лишних денег у них нет, да и цветастое тряпьё это им ни к чему, так что он мог бы разве что выменять его у Адриана на еду и одежду попроще. Именно это и было ему нужно.
За куртку, шёлковую сорочку, перчатки, бархатную шапочку и кожаные брюки Адриан получил поношенную холщовую куртку, подбитую изнутри овчиной и изрядно поеденную молью, и такие же штаны с широким поясом из грубо выделанной кожи. Плащ и сапоги он решил оставить себе — ночи были холодными, и не каждую из них ему удавалось провести под крышей. К новому костюму лэрда Эвентри прилагалась краюха ржаного хлеба, ломоть солонины, большой кусок сливового пирога и целая горка крутобоких груш. Хозяйка, тронутая его юностью и растерянностью — отнюдь не наигранной, — добавила к этому флягу сидра и пригоршню леденцов. На прощание она погладила Адриана по голове и сказала, что будет молиться за него Милосердному Гвидре. Адриан подумал, что гораздо более действенной помощью было бы позволить ему переночевать, но он и так уже вызвал достаточно подозрений. Он вернулся в рощицу за оставленными там конём и стилетом, поспал до утра в зарослях бузины и с рассветом, приторочив к седлу свою небогатую поклажу, двинулся дальше.
Денег у него не было ни гроша, но он надеялся, что, если экономить, еды ему хватит на неделю. А дальше можно было кормиться плодами диких яблонь и груш, к счастью, буйно плодоносивших сейчас в этой части Бертана. Охота прокормила бы его лучше, но, во-первых, Адриан умел охотиться только со стрелковым оружием, а во-вторых, всё здесь кому-нибудь принадлежало. Его вряд ли повесят за то, что он сорвёт с ветки дикое яблоко, но за убитого зайца могут и поколотить, а ещё хуже — доставят в замок здешнего лорда на суд. А лорд-то, может статься, был на недавнем пиру в замке Эвентри и помнит в лицо мальчика, нагло воссевшего во главу стола… Адриан не мог так рисковать.
Ему пришлось сделать крюк, чтобы обогнуть фьев Индабиран, к которому он не приблизился бы за всё золото мира, поэтому первые дни он ехал через Иторн и Элпринг, присягнувшие Фосигану. Далее были нейтральные Чейзеры, а за ними начиналась бесконечная череда земель, означенных на новейших картах лиловым контуром: то были септы клана Одвелл. Рейли, Шердаро, Кундз и Вайленте. Бьярд — за ними, на северо-востоке, за Когтистым заливом. Адриан предпочёл бы по возможности обогнуть Вайленте так же, как Индабиран — его сестра Алисия была насильно выдана замуж за тамошнего лорда, и вряд ли в этих местах его ждал тёплый приём. Однако земли Вайленте примыкали к границам Бьярда со всех сторон, где их не омывало море. «Ладно, — сказал себе Адриан, — проблемы надо решать по мере их возникновения. Доберусь до Вайленте, там и буду думать». Он рассчитывал, что окажется там через неделю. И понял, что был слишком самонадеян, когда зарядили дожди.
Дожди в северной части Бертана — притча во языцех для сухих и тёплых фьевов юга. Собираться может долго, несколько дней — глядишь в небо с утра до ночи и думаешь: ну, польёт или не польёт? И уже когда решишь, что нет, не польёт, так и будет угрожающе нависать над головой пухлыми, неповоротливыми тучами, похожими на беременных нищенок, — а тут-то небо и разродится от тяжести ливнем, сносящим глинобитные крыши, сбивающим с ног коней и топящим неосторожных, которых угораздило провалиться в лужу, глубокую, как небольшое озерцо. Одно спасенье: заберись куда повыше и где посуше, да и сиди — жди, пока схлынет. Такие дожди не длятся долго, но оставляют после себя напрочь размытые поля и дороги. Счастье, что случаются они поздней осенью, когда ничего не грозит посевам, а массовые переходы откладываются до весны.
Однако Адриан не мог ждать до весны. Он не знал точного дня, когда лорд Бьярд спустит на воду свою «Моровую Гилас», как Адриан, не страшась кары богов за такое кощунство, называл про себя его корабль. Это страшное название отражало истину, и мысль об этом подстёгивала Адриана в те минуты, когда ему хотелось лечь на землю, ткнуться лицом в траву и лежать так, пока кто-нибудь не придёт и не заберёт его туда, где хорошо, тепло и безопасно и где он не будет ни в чём виноват. Но он мог лежать так тысячу лет, и никто бы не пришёл. Разве что лорд Индабиран, чтобы снова его где-нибудь запереть.
Поэтому Адриан ехал вперёд, не очень быстро, чтобы не загонять ни лошадь, ни себя — он понимал, что с учётом скудного рациона ему надо беречь силы. Ливень застал его в открытом поле, которое он решил пересечь напрямик, чтобы срезать путь до дороги. Дело было в Шердаро, славившемся самыми кошмарными трактами в Бертане. Адриан теперь имел возможность убедиться, что слава оправдана: разница между тропой через поле и главным трактом была только в названии.
Однако у трактов есть одно несомненное преимущество — трактиры. Вдоль тропы в чистом поле трактиров, разумеется, не было. Не было даже навеса или сарая для сена, где можно было бы спрятаться на то время, пока Молог не перестанет грохотать и бушевать в небе. Адриан не боялся грозы, но молнии, рассекавшие небо, раскинувшееся от края до края горизонта, заставляли его вздрагивать, а Буревестника, вопреки гордому имени — испуганно и жалобно ржать. Когда одна из молний вонзилась в землю прямо перед ним — далеко, но Адриану почудилось, что всего лишь на расстоянии вытянутой руки — у него волосы встали дыбом. Поэтому, завидев вдалеке огни, Адриан без колебаний припустил к ним — меньше всего на свете ему хотелось быть сожжённым молнией в поле, там, где никто не смог бы даже опознать его тело или то, что от него останется.
Огни, как он и надеялся, оказались предвестниками постоялого двора. В такую погоду, как нынешняя, перед лицом безжалостной стихии и ещё более безжалостных богов, люди на время забывают обиды, свары и подозрительность и стараются держаться вместе. Адриана пустили на двор, позволили переночевать в общем зале и даже разрешили хлебнуть супа из котла, болтавшегося над жарким и уютным очагом. Трактир был набит битком — многие укрылись здесь сегодня от непогоды, в чадном дыму стоял громкий гул голосов, перемежаемый взрывами смеха и брани. Адриан слишком устал, продрог и измучился от недавнего испуга, чтобы вслушиваться в этот говор. Поужинав, он побрёл в общий спальный зал, завалился на скамью и, завернувшись в свой плащ, уснул мёртвым сном, едва слыша вой стихии за тонкой деревянной стеной. Это была первая ночь за последнюю неделю, которую он провёл не под открытым небом.
Он спал долго и проснулся в тревоге, потому что никто до сих пор не разбудил его и не выставил вон. Он ещё накануне признался хозяину, что денег у него нет. Трактирщик хмыкнул и подтолкнул его к очагу. В тот миг Адриан лишь устало возблагодарил Гвидре за то, что он изредка вкладывает частичку своего милосердия в зачерствелые человеческие сердца.
Выйдя на двор и завернув в конюшни, Адриан не нашёл в них своего коня.
Сперва он подумал, что у него в голове мутится от усталости, и обошёл денники ещё раз. Буревестника не было, хотя Адриан вчера сам завёл его в конюшню и лично попросил конюшенного мальчишку позаботиться о нём. Не без труда отыскав этого мальчишку и потребовав ответа, Адриан с изумлением услышал, что его лошадь продана хозяином двора. Какому-то из вчерашних постояльцев она приглянулась, он сразу купил её и уехал, едва только кончился ливень, потому что очень спешил.
И только тогда Адриан Эвентри сполна постиг глубину и безнадёжность собственной глупости. Милосердие, значит? Накормили-пригрели даром? Держи карман шире! С того, с кого нечего взять, шкуру сдерут — а не отпустят, пока не заплатишь сполна.
Что было делать? Кричать, топать ногами, драться? Пытаться объяснить, что произошла ошибка? Да не было никакой ошибки: видя, что у парня нет денег, трактирщик взыскал с него плату имуществом — намётанным глазом определив, что, кроме коня, с него больше нечего взять. А может, всё было ещё проще: заприметив растерянного и одинокого мальчишку, путешествующего куда глаза глядят без чьей бы то ни было защиты и покровительства, ловкий трактирщик решил его обобрать — а пусть кричит потом, надрывается! Кто его станет слушать? Да и, в конце концов, — кто поручится, что сам он добыл эту лошадь честным путём? А про то всегда можно вызнать у лорда-владетеля…
Адриану вовсе не хотелось видеться с лордом-владетелем. Ему хотелось сесть на землю и… нет, не ткнуться лицом в траву. Хотелось рвать эту траву клочьями, пока земля не станет такой же голой и беззащитной, как он сам.
Он не стал закатывать скандал, хотя по выжидательному, изучающему взгляду трактирщика, который поймал на себе, когда выходил со двора, понял, что тот не только ждал свары, но и хотел. Начал что-то подозревать?.. Эх, Адриан, прав был Том, веля тебе держаться подальше от людей. Горе одно от этих людей. И ты это горе только приумножишь, если спасёшь их от чёрной оспы.
«Но чем же ещё мне быть?» — подумал Адриан, ступая на размытую до состояния жидкой каши дорогу и увязая в ней сапогом по щиколотку. Он радовался уже тому, что вчера отцепил от седла узелок с едой. По крайней мере голод ему на первое время не грозил.
Он шёл какое-то время, хлюпая подошвами по грязи — и радуясь, что додумался не продавать сапоги. Шёл и радовался, что алчный трактирщик не узнал в нём мальчика, которого ещё недавно повсюду разыскивали Индабираны. Радовался, что, пока спал ночью в общем зале, никакой старый извращенец не попытался пристроиться к нему рядом на скамье. Он радовался, что свободен, что дышит, что жив. Радовался и лишь изредка утирал рукавом щёки, размазывая по ним влагу и грязь.
Десять дней до города Эфрина за одну ночь превратились в недели, в месяцы, которые надо было как-то пережить — и не просто пережить, а с каждым днём преодолевая несколько лиг пути, если только он хочет успеть вовремя.
Именно тогда Адриан окончательно понял, каков тот путь, что он выбрал для себя. И отстранённо, словно это происходило вовсе не с ним, удивился тому, сколь иначе это виделось ему в далёком красном домике леди Алекзайн, когда он стоял на коленях и клялся быть её рыцарем. Он не знал, что рыцари побираются, голодают и тонут в грязи, одинокие, никем не оплаканные и никому не нужные. Это было так страшно.
— Мне страшно, — сказал он вслух. Услышать его было некому — последними, кого он встретил на этой дороге, была тройка всадников, пронесшаяся мимо Адриана галопом с такой скоростью, что он едва успел отскочить на обочину. Но признание, сделанное вслух, облегчило тяжесть, камнем лежавшую в его груди. Адриан глубоко вздохнул и ускорил шаг. Лошади больше нет, но это не значит, что сам он должен плестись как улитка. У него есть еда и нож. И цель впереди. Это больше, чем у него было несколько недель назад, когда он сидел в подземной тюрьме Индабиртейн.
«Не больше, — шепнул ему мерзкий тонкий голосок, прятавшийся глубоко внутри. — Тогда у тебя был Анастас. И надежда, что вы встретитесь. Но теперь ты сам всё испортил, сам его оттолкнул. Ты сам виноват».
«Виноват. И буду держать ответ».
Он подумал так, и голосок умолк.
Может быть, Адриану стало бы легче, если бы он узнал, что Буревестник в тот же самый день сбросил с себя своего седока, да так удачно, что тот сломал себе шею. А может, и не стало бы. Как ни крути, тогда Адриан ещё очень многого не знал.
И каждый новый день приносил ему новое знание.
Еда закончилась, как он и предполагал, за неделю. К тому времени он пересёк северную границу Шердаро (к счастью, её охране лорд Шердаро уделял внимания немногим больше, чем своим дорогам) и ступил на земли Энрико Кундза, славившегося тем, что он мог убить быка ударом головы. Больше ничего достойного восхищения и уважения об этом лорде Адриан не слышал. Будь он всё ещё верхом, постарался бы проехать Кундз как можно быстрее и незаметнее, но теперь выбора не было. Как назло, в здешних лесах почти не росли дикие яблони и груши, а ягоды уже отошли.
Два дня Адриан почти ничего не ел. Потом выбрался из пролеска на дорогу и подошёл к воротам первого попавшегося трактира.
— Вам не нужны работники? — спросил он рослого немолодого мужчину, отчитывавшего во дворе человека помоложе.
— Не нужны, — смерив Адриана взглядом, не выражавшим и тени доверия, ответил тот. — Иди своей дорогой.
Адриан подумал, что даже вымазанные в грязи и обтрепавшиеся, его добротные сапоги и плащ в сочетании с крестьянской одеждой выглядят в высшей степени неблагонадёжно. Но у него не было выбора. Он хотел есть.
— Я не о постоянной работе, — сказал он, придержав уже отвернувшегося трактирщика за рукав. — Просто что-нибудь, чем я мог бы отработать ужин и кров на одну ночь. Я могу носить воду и хворост, мыть котлы, ухаживать за лошадьми и…
— Как же, пущу я тебя к лошадям, — хмыкнул трактирщик и снова смерил его взглядом, уже чуть более внимательным и чуть менее враждебным. — Разве что навоз выгребать.
Он умолк, глядя Адриану в лицо. Это было не дурной шуткой, а предложением. Единственным, которое хозяин был согласен сделать подозрительному оборванцу, приставшему к нему во дворе в сумерках.
Адриан Эвентри, сын и брат лорда, сглотнул и кивнул, надеясь, что отец не видит его из чертога Гилас. А если и видит — то ненавидит не очень сильно. Но он ничего не мог поделать. Он ужасно, ужасно хотел есть.
Трактирщик, видимо, понял это — угадывать чужие нужды было его профессиональным навыком. Ему хватило великодушия накормить Адриана прежде, чем отправлять на работу. Горячая каша и похлёбка с отрубями показались Адриану самыми вкусными яствами, какие он только пробовал. Едва дождавшись, пока он утрёт губы и отодвинет миску, хозяин кликнул конюха — того самого парня, которого ругал во дворе. Адриану вручили тяжёлую тупую лопату и указали, что и куда сгребать.
Это было унизительно. Однако не унизительнее, чем выпалывание сорняков в огороде у Тома. И уж всяко не унизительнее, чем лежать носом в землю, чувствуя ласковые прикосновения ремня, охаживающего зад.
Привык он довольно быстро. Почти на каждом дворе, куда он заходил, для него находилась работа: то наколоть дров, то перетащить поклажу, то сбегать с пустяковым поручением к соседу за полторы лиги и сегодня же вернуться с ответом. Иногда это были трактиры, иногда хутора; последние нравились Адриану больше — сострадательные хозяйки часто давали с собой что-нибудь на дорожку, а одна даже подарила старые мужнины рукавицы, латаные-перелатаные, с торчащими из-под заплат ободранными нитками. Адриан поблагодарил так сердечно, как не благодарил никого и никогда, и тогда женщина схватила его за плечи и жарко поцеловала в губы. А потом шепнула: «Иди, иди», — и толкнула в спину, боязливо озираясь на дверь — не глядел ли муж.
На одном постоялом дворе, где Адриану за ужин и кров велели выскоблить песком полы, он не сразу заметил, что за ним наблюдает какая-то дородная, богато одетая дама. Сперва он испугался, что она узнала его, и нарочно стал прятать взгляд, делая вид, что его тут вовсе нет. Дама путешествовала в крытых носилках в сопровождении двух дюжих молодцев с бандитскими мордами — вряд ли леди, скорее купчиха или содержанка какого-нибудь ростовщика. Адриан успешно избегал прямого столкновения с ней весь вечер. Но когда он кончил наконец работу и с наслаждением растянулся возле камина, упоённо поглощая похлёбку и заедая её хлебом со шкварками, кто-то сгрёб его за шиворот.
Ощущение было слишком знакомым, а память о нём — слишком недавней, и Адриан инстинктивно перебрал ногами, собираясь дать дёру.
— Не ершись, — коротко пробасили над его головой — и швырнули на скамью, прямо напротив дородной дамы.
— Не надо грубости, Рон, — сказала она низким грудным голосом. Её бархатистые чёрные глаза смотрели на Адриана пристально, но не с подозрением, к которому он успел привыкнуть, а, скорее, оценивающе. Наёмник отодвинулся, перестав отравлять воздух вокруг Адриана перегаром. Женщина наклонилась вперёд, и её объёмистая грудь волнующе колыхнулась в глубоком вырезе платья.
— Ты, я вижу, работаешь за еду, юноша. Тебя постигло несчастье? Ты не похож на нищего. Я могла бы помочь тебе деньгами, если в них есть нужда. Идём со мной наверх, ты увидишь, сколь много способна сделать зрелая и сострадательная женщина для бедного мальчика, очутившегося в беде…
Знакомство с Элжероном навек отучило Адриана полагаться на зрелых и сострадательных людей, которые встречаются на пути бедных мальчиков, очутившихся в беде. Он был рад, что успел поесть и отдохнуть — это позволило ему резко подняться и, поблагодарив сиятельную леди за её милость, как можно скорее покинуть трактир. Ему уже приходилось овладевать женщиной ради достижения своей цели — и он помнил гадостное, гнусное ощущение, которое осталось у него после этого на сердце и напрочь заглушало приятное тепло в паху. Он не исключал, что, возможно, ему придётся когда-то повторить подобное снова. Но надеялся, что не доживёт до того дня, когда будет вынужден делать это за деньги.
Так он и бродил от трактира к трактиру, от хутора к хутору, увязая по колено в осенней грязи, недоедая и недосыпая, но упорно продвигаясь на северо-запад. Конечно, везло ему не всегда. Не раз его гнали от порога, даже не выслушав, а однажды приняли за наводчика промышлявшей в округе банды и спустили собак. Улепётывая от них по густому пролеску, Адриан потерял сапог; пришлось потом вернуться и найти его (к счастью, не изодранный собачьими клыками), потому что приближалась зима. Всё чаще поутру поверхность луж схватывало прозрачной корочкой льда, голые ветви кустарников обволакивало инеем. И иней, и лёд сходили к полудню, но Адриан всем своим нутром чувствовал, как подбирается к нему коварная, обманчиво мягкая бертанская зима. В этой части света зимы редко бывали суровыми, скорее сырыми и промозглыми, и именно в такую погоду ничего не стоило схватить простуду или грудную хворь, которая за несколько дней свела бы его в могилу. Когда Адриан пересёк границу фьева Рейли, граничившего с Вайленте, он подумал, что, возможно, ему стоит поискать постоянную работу и осесть где-нибудь на время, пока не ударили морозы. Сапоги ещё не успели прохудиться, но овчинная курточка грела плохо, и однажды ночью, закопавшись в прошлогоднее прогнившее сено на заброшенном сеновале, Адриан дрожал во сне так сильно, что прикусил себе язык.
Беда была в том, что на каждую деревню приходились огромные просторы незаселённой, необработанной земли. Адриан старался держаться трактов — если бы он заблудился, то не только не добрался бы до Эфрина в срок, но мог и просто погибнуть от волчьих или, того хуже, человечьих когтей. В день, когда выпал первый снег — он таял на лету, но втягивать холодный воздух уже было больно, и пар вырывался изо рта от глубокого выдоха, — Адриан решил, что пора сменить тактику. Он дошёл до первого же трактира и спросил, не найдётся ли для него работы, за которую он мог бы получить не только еду, но и немного денег. Такого не нашлось; он пошёл дальше, и в конце концов громадный толстощёкий трактирщик с жиденькими усиками над верхней губой — впоследствии оказавшийся трактирщицей — сказал, что его конюху нужен помощник на время. В связи с войной, которую вёл сейчас лорд Рейли под знамёнами Одвелла, движение по главному тракту заметно оживилось, что было редкостью для этого времени года. Потому-то мамаша Ширла, как звали усатую трактирщицу, и не рассчитала в срок, сколько работников ей понадобится, — Адриан подоспел как раз вовремя.
В день, когда она наняла его помощником конюха, ему исполнилось пятнадцать лет, и это был лучший подарок, о котором теперь мог мечтать лэрд Адриан из клана Эвентри.
Работы и впрямь было невпроворот. Разрозненные отряды всадников чуть не ежедневно проходили этой дорогой на юг, к Эвентри; туда-сюда носились гонцы, посыльные, наёмнические банды и просто путники-одиночки, и многие из них требовали сменных лошадей. Конюшни всегда были полны, в воздухе денников стоял непроходящий смрад пота и навоза. Целый день напролёт Адриан торчал в этих стойлах, порой едва успевая принимать поводья коней, которых подводил к нему конюшенный мальчик. На самом деле это был зазывала, звонкоголосый и хорошенький, радостно привечавший гостей во дворе, — ему они охотно препоручали своих лошадей. Конечно, если бы они увидели грязного, лохматого, вонючего и измотанного мальчишку, который вычищал их коней на самом деле — они не то что поводьев бы ему не подали, глянуть в его сторону не соизволили бы. Адриан понимал это и не обижался на мамашу Ширлу. Оберегать клиентов от треволнений — это была её работа, и именно из кармана этих клиентов должен был получить Адриан свою плату. Потому он не жаловался, хотя если бы ещё год назад ему сказали, что он безропотно будет заниматься такой чёрной и унизительной работой, он просто не поверил бы.
Впрочем, если бы ему сказали год назад, что вскоре он потеряет всех своих близких, а от единственного, к кому ещё может вернуться, от самого родного и любимого, добровольно откажется сам, он бы тоже не поверил.
Мамаша Ширла была вдовой и держала трактир одна; для женщины это было нелегко и выработало в ней стальной характер, но сердце у неё было доброе. Она не загоняла Адриана слишком сильно, а вечером его всегда ждала подогретая вода для мытья и место у огня внизу, где он мог сытно и вкусно поесть. Он это заработал, и ему было до странного хорошо и отрадно сидеть там, внизу, в зале, полном дымного смога, рядом с незнакомыми суровыми мужчинами, попыхивавшими трубками и спорящими о вещах, в которых он сперва мало что понимал. Последние недели выдались чересчур хлопотными, чтобы вслушиваться в чужие разговоры. Но теперь, по крайней мере на время избавившись от угрозы голодной и холодной смерти, он немного расслабился и стал наблюдать за тем, что происходило вокруг.
То, что происходило вокруг, совсем ему не нравилось.
Конечно, сплетни следовало делить на три, но по разговорам выходило так, что Анастас собрал все войска, какие смог — в основном это были присоединившиеся к нему свободные бонды, — и пошёл на Одвелла настоящей войной. Ему удалось отбить замок Эвентри, взять в плен и убить Рейнальда Одвелла (Адриан вздрогнул, услышав об этом, и испытал то жуткое, отвратительное сосущее под ложечкой ощущение, какое появлялось, когда Том обвинял его в том, о чём он не имел никакого понятия). Никлас и Топпер Индабираны успели сбежать из замка через подземный ход. Прознавший об этом лорд Дэйгон Одвелл в холодной ярости, имевшей мало общего со скорбью по сыну, бросил против Эвентри все свои силы. Замок подвергся жесточайшему штурму — говорили, что восточная башня и часть стены превратились в груду камней, — которого не смог выдержать. Анастас Эвентри защищал каждый булыжник на подступах к замку и каждую ступеньку донжона, но в конце концов был вынужден признать поражение и бежать через тот самый подземный тоннель, которым уже воспользовались его враги, по ходу едва не погибнув в засаде, которую устроили люди Одвелла у выхода из подземелья. Теперь в замке Эвентри, который рассказчики, ухмыляясь в бороды, называли беспокойным местечком, снова воцарился Индабиран — и походило, что надолго. Когда Анастас Эвентри понял, что его брата нет в замке, он ушёл, оставив своё родовое гнездо врагу, и принялся стягивать армии союзных бондов к землям Одвелла, намереваясь дать им бой на их собственной земле. За этим последовал ряд свирепых, стремительных битв, и, как ни невероятно это звучало, Анастас Эвентри начал теснить лорда Одвелла — теснить на его собственной земле… Дэйгон Одвелл не ждал от него столь дерзкого и необдуманного наступления сейчас, на пороге зимы — он был немолодым человеком и резонно полагал, что плохие дороги и отсутствие подножного корма для лошадей остановят любого благоразумного человека.
Он не учёл одного: Анастас Эвентри не был благоразумным человеком. Он был человеком, которому нечего было терять после того, как он ворвался в свой родовой замок, надеясь найти там своего брата Адриана, а нашёл лишь Рейнальда Одвелла, лицемерно уверявшего, что мальчик ещё десять дней тому назад был отпущен на свободу и отправлен к Анастасу. Говорили, что, когда Анастас Эвентри услышал это, его глаза налились кровью — и люди, знавшие его деда, неистового лорда Уильяма, не впервые отметили сходство между легендарным лордом Эвентри и его внуком.
«Ох, Гилас, — думал Адриан, слушая эти разговоры и не замечая, что стоящая у него на коленях миска с рубленым мясом давно остыла. — Я же не хотел… я не думал, что будет так. Анастас, ну почему ты ему не поверил? Почему он…»
Не имеет смысла гадать, почему, холодно оборвал его жалкие оправдания голос Тома. Ты в ответе. Ты в ответе, как всегда, и только это имеет значение.
В тот вечер он рано ушёл к себе, сказавшись мамаше Ширле на сильную усталость после рабочего дня. Спал Адриан в узкой каморке на первом этаже трактира, на одной кровати с конюхом Гримом, своим непосредственным начальником. Конюх этот был парень неплохой, хотя крикливый и скорый на подзатыльники, а лучше всего в нём было то, что он любил заложить за воротник и часто падал на пороге или сразу за ним, не успев добрести до постели, да так и храпел на полу до утра, оставляя всю кровать в распоряжении Адриана. Когда Адриан пошёл спать, тот как раз прикладывался к первой за вечер бутылке — следовательно, ещё часа на три спокойного сна в единовластно ему принадлежавшей постели Адриан мог рассчитывать. Он правда устал, но хуже была какая-то болезненная тяжесть в голове, мешавшая шевелиться и думать. Ему снова хотелось лечь лицом вниз и ткнуться во что-нибудь мягкое и ощутить тёплую тяжёлую ладонь на своём затылке. Он свернул свою куртку и положил под голову, подтянув колени к груди, и только-только устроился, когда дверь скрипнула, на миг впустив полоску света.
— Грим? — спросил Адриан, приподнявшись на локте, но тут же понял, что ошибся. Грим никогда не ступал так тихо. И фигурка, темневшая в полумраке, была втрое тоньше Грима и ниже его на две головы.
— Это я, — раздался приглушённый, испуганный шепот. — Можно? Ты не спишь?
Это была Дунси, дочка Ширлы — Адриан сомневался, что родная. Худенькое, тоненькое, болезненное создание, прислуживавшее гостям в общем зале и с утра до ночи гнувшее спину под тяжестью гружёных блюдами подносов походило на мамашу Ширлу не больше, чем иголка на веретено. Впрочем, если задуматься, то и Адриан в определённом смысле был Ширле сыном — не зря ведь она велела ему звать её «мамашей». Она всех любила, насколько могла себе это позволить в мире, где каждый сам за себя.
— Не сплю. Можно, — ответил Адриан, и Дунси тихонько вздохнула. Иногда он ловил на себе её робкие, пугливые взгляды, и она поспешно отворачивалась, когда понимала, что он её заметил. Она шагнула к кровати, он почувствовал рядом тепло её дыхания, пододвинулся и откинул одеяло. Хрупкое, костлявое, но такое тёплое девичье тельце скользнуло под одеяло и прильнуло к Адриану, он ощутил её тонкие пальчики на своей щеке и закрыл глаза. Всего на один миг ему вспомнилась Вилма, её большое, пышное, жаркое тело, её разноцветные глаза, но он тут же выкинул это из головы. Его губы нашли губы девушки легко и просто, так, словно она уже многие ночи подряд приходила к нему, а он откидывал одеяло.
Конечно, она оказалась не девственницей, но опыта у неё было явно не многим больше, чем у Адриана, поэтому они сделали всё неуклюже, неумело и очень нежно. Когда она застонала, Адриан прижал её к себе теснее, испытав неодолимое желание защитить её, помочь ей, всегда её оберегать. Но он не мог. Он даже самого себя не умел сберечь и защитить. Когда всё кончилось, Дунси не ушла, а приподнялась чуть повыше и почти силой положила голову Адриана на свою тяжело вздымающуюся грудь. Он ткнулся лицом между щуплыми холмиками, покрытыми пупырышками от холода (в каморке дуло и тянуло от земли, от которой их отделяли только доски), позволил Дунси обхватить его голову руками и уснул, пока она баюкала его и тихонько напевала что-то на наречии, которого он никогда не слышал.
Так было легче. Так можно было жить.
Адриан пробыл в «Бараньей ноге» три недели, пережидая, пока ударят и ослабнут первые, самые крепкие морозы. Потом ушёл, унося в узелке горстку медяков — всё, что осталось от его нежирного заработка после того, как он купил себе тёплый зимний тулуп, шерстяные рейтузы и сапоги на волчьем меху. Этих денег, конечно, не могло хватить на дорогу до Эфрина, но Адриан решил, что тише едешь — дальше будешь. По его расчётам, продвигаясь дальше с той же скоростью, он доберётся до цели к середине зимы — если его ничто не задержит в пути. Задержка была смерти подобна, и не только для него, но и для многих тысяч людей, которые умрут от чёрной оспы, которую привезёт «Светлоликая Гилас» из Андразии, если позволить ей выйти в море. Отчасти поэтому Адриан отбросил мысль о том, чтобы украсть лошадь, что позволило бы ему ехать быстро, или арбалет, что позволило бы ему жить охотой. Конокрадов и браконьеров преследовали с одинаковой жестокостью — особенно сейчас, когда из-за несезонной войны был введён единовременный военный налог; многие семьи, заплатив его, оказались на грани нищеты и голода, и глаза некоторых обращались к лесам, способным прокормить не одну сотню ртов. Тела этих отчаянных развешивали на ветвях тех самых лесов — как назидание и предостережение о том, что лес, несущий жизнь, с равным успехом может принести и смерть. Адриан не собирался повиснуть на одной из этих ветвей. Он не мог позволить себе этого. У него было ещё слишком много дел.
Поэтому он предпочёл не рисковать и платил за сравнительную безопасность тяжёлым трудом и мучительными проволочками. Теперь он не мёрз днём и даже под вечер, но ночевать под открытым небом или в хлеву стало невозможно. Он по-прежнему держался людных дорог, но трактиры попадались всё реже, и далёкий волчий вой из леса, сквозь который бежал главный путь фьева Вайленте, Адриан порой слышал чаще, чем человеческие голоса.
Именно поэтому ему однажды всё-таки пришлось постучаться в ворота святой обители. Монастыри и храмы были самым распространённым местом стоянки путников, даже более популярным, чем трактиры, но Адриан избегал их. Отчасти потому, что больше не любил богов — теперь они пугали его, ввергали в тоску и смятение, а этих чувств он больше не мог себе позволить. Другой причиной было то, что святые братья и сёстры хотя и давали приют всем страждущим, не взимая платы, однако как бы само собой разумелось, что за это благодарный путник отплатит храму щедрым пожертвованием. Голодранцев вроде Адриана Эвентри в святых обителях редко пускали на порог — брат-привратник обычно просто делал вид, что не слышит, как они стучат в ворота и просят помощи. Не то чтобы Адриан не успел привыкнуть к отказам. Просто он предпочитал ночевать скорее в чистом поле, чем под кровом богов, которые предали и отвергли его семью.
Однако уже не в первый раз ему пришлось поступиться принципами ради выживания. И в один холодный, сырой вечер, когда налетевший с севера ветер без труда пробирался под тулуп и пронизывал до костей, Адриан всё-таки подошёл к воротам монастыря Златокудрого Эоху, что примостился на возвышенности чуть в стороне от дороги, сразу за лесом, благодаря чему был хорошо виден издалека и будто магнитом притягивал к себе и взгляд, и тело. Тело даже особенно — заиндевевшие от холода ноги Адриана сами понесли его туда, и когда он опомнился, было уже поздно — ему отперли калитку.
Порывы ветра швыряли противную влажную морось, что-то среднее между дождём и снегом, и капюшон рясы брата-привратника, отпершего вход, был поднят, а под ним маслено поблескивали близко посаженные добродушные глазки.
— Добрый брат, — начал Адриан, — я…
— Ты умрёшь от холода, усталости, а главное, жажды, если немедля не вступишь под кров святой обители Златокудрого! — воскликнул монах и, радостно хихикнув, взмахнул фонарём, который держал в нетвёрдой руке. От него сильно несло рыбой и хмелем. — Входи, входи!
Не привыкший к такому радушию со стороны незнакомцев, Адриан смущённо переступил порог. Монашек окинул его быстрым рассеянным взглядом и снова махнул фонарём.
— Брат Рерих! У нас ещё один гость. Воистину, весел сегодня господин наш Эоху, весел и радушен! Проводи этого юношу в тепло, накорми и напои… да, главное — напои хорошенько! — строго наказал он и, хихикнув, погрозил пальцем своему собрату, такому же дородному и пьяненькому.
— Ну ещё бы, как же без того, — подхватил брат Рерих, с готовностью схватив Адриана под руку и волоча в сторону здания, весело блестевшего зажжёнными окнами.
Святые служители Эоху Златокудрого были подстать своему богу-повелителю — смешливые балагуры, не дураки поразвлечься и выпить. За это их не любили и презирали служители других богов, особенно Гилас, Гвидре и Дирха, однако простой люд если и не любил этих монахов — монахов вообще невозможно любить, — то по крайней мере симпатизировал им больше, чем любому из их собратьев, и Адриан теперь понял, почему. Его даже не спросили, каких богов он почитает и сколько у него при себе денег — вместо этого брат Рерих осведомился, не откажется ли Адриан от чашки свеженького грога с гвоздикой. Адриан заверил, что не откажется, чем вызвал у брата Рериха полный восторг и расположение.
Повёл его святой брат, однако, не в сам храм, а к маленькому приземистому строению рядом, сообщавшемуся с храмом через тесную пристройку.
— У нас нынче людно, — объяснил он, заводя Адриана в узкую тёмную келью. — Лорд наш и леди переезжают на зиму в замок Нойлен, вот у нас и заночевали. А с ними две дюжины сопровождающих, и все они пожелали восславить Златокудрого… — брат Рерих запнулся, выпучил глаза и шумно икнул, а потом попросил Адриан располагаться в его скромном обиталище и поспешно заковылял прочь.
Адриан выглянул в окно кельи. Было уже довольно поздно, и, несмотря на ярко горевшие окна основного здания обители, в монастыре стояла тишина: похоже, лорд со своими сопровождающими и весёлыми братьями славили Златокудрого с самого утра и успели притомиться. Адриан чувствовал голод, но в последнее время голод преследовал его неотлучно, поэтому усталость досаждала ему сильнее. Он бы с радостью лёг на узкую койку брата Рериха и уснул, но не был уверен, что ему отвели именно это место, к тому же слегка растерялся от непривычно тёплого приёма. Пока он топтался у очага, не зная, что делать, монах прибежал обратно с горячим, ещё дымящимся котелком и двумя кружками.
— Наша обитель славится грогом, лучшим в округе, — похвастался досточтимый брат, и Адриан немедленно получил возможность убедиться в справедливости его слов.
Горячее питьё было очень крепким; ещё не допив до конца кружку, Адриан ощутил, как ноги обмякают, а голову заволакивает туман. Заметивший его внезапную слабость брат Рерих молодецки расхохотался, усадил своего гостя на кровать и налил ему ещё. Он болтал что-то об их лорде, чудесной души человеке, и его карге-супруге, с самого утра совавшей свой длинный нос во все котлы и чуланы обители, но Адриан слушал вполуха, чувствуя, что засыпает. Он успел опорожнить две кружки прежде, чем его окончательно сморило, и даже не почувствовал, как брат Рерих закинул его ноги на кровать и ушёл назад к своим братьям по обету — догуливать.
Адриана разбудила посреди ночи луна, глядевшая в окно ослепительно ярким пегим глазом. Брат Рерих раскатисто храпел на полу, свернувшись поверх плаща прямо на досках. Адриан ощутил укол совести, потом — благодарность, а потом — жгучую жажду. Гвоздика, корица и листорский перец, спору нет, придавали грогу святых братьев особенную пикантность; они же ужасно раздражали язык и нёбо, заставив их высохнуть и распухнуть. Рот у Адриана как будто набили ватой; он сел на постели, лихорадочно озираясь в поисках воды. На подоконнике стоял кувшин. Адриан радостно схватился за него — и разочарованно застонал, обнаружив, что воды в нём нет ни капли. Видимо, досточтимый брат Рерих тоже уже просыпался этой ночью. Адриан на цыпочках пробрался к двери, стараясь не потревожить покой доброго монаха, и выскользнул наружу.
Он понятия не имел, сколько времени до рассвета; монастырь уже погрузился во мрак и сон, брат-привратник шумно храпел в сторожке у едва теплившегося фонаря. Монастырский двор был маленьким, и Адриан без труда нашёл колодец, но крышка оказалась задвинута, и он не смог сдвинуть её в одиночку. Пламя во рту и горле тем временем грозило свести его с ума. Адриан обошёл дворик обители, пытаясь прикинуть, где тут может быть кухня. Обитель была сложена из камня; в таких местах кухня обычно — самое тёплое местечко, а поскольку монахи сегодня славили Эоху допоздна, она наверняка не успела остыть. Не особенно надеясь на удачу. Адриан снова обошёл дворик, щупая рукой камни. В одном месте они показались ему чуточку теплее, чем во всех прочих. Неподалёку была дверь. Адриан осторожно толкнул её, она открылась.
Внутри было темно, и он пробирался ощупью, идя на запах гвоздики. Ему повезло: кухня и впрямь оказалась там, где он думал. Там никого не было, угли тлели в очаге, винный пар ещё стоял в воздухе, напоминая о недавней пирушке. «А хорошо быть монахом Эоху, — почти с завистью подумал Адриан. — Ничего не делаешь целыми днями, только молишься да веселишься — а люди ещё и думают, что ты пошёл на большую жертву, отринул земное и посвятил себя богу». Адриан тоже сделал именно это, однако никто бы не поверил ему, если бы он рассказал. Янона Неистовая была менее благосклонна к своим верным слугам, чем её Златокудрый брат.
Желание завидовать и роптать мигом покинуло Адриана, когда он увидел у окна бадью с водой, поблескивавшей в лунном свете. Он кинулся к ней, зачерпнул воду ладонями и пил, пока в горле не перестало драть. Ох, ну и пойло же у этих святых братьев… В голове у Адриана до сих пор было не совсем ясно.
Он наконец выпрямился, утёр губы рукавом и повернулся к выходу.
И только тогда заметил, что ошибся, решив, что в кухне никого нет.
Тонкая фигурка беззвучно пятилась от него к двери, по-видимому, страстно жаждя остаться незамеченной.
— Ой, — сказал Адриан, и обладатель — обладательница, как он понял мгновением позже — фигурки, пронзительно взвизгнув, запустила в него чем-то маленьким и мягким, тем не менее весьма обидно врезавшимся Адриану прямо в скулу.
«Сушёное яблоко», — машинально отметил он, бросаясь вперёд.
Позже он так и не мог толком объяснить себе, зачем кинулся и схватил её. Должно быть, разозлился, что она тут пряталась, а потом ещё и запустила в него яблоком, хотя он просто захотел пить и ничего плохого не делал. Его сёстры иногда вели себя вот так, и взвизгнула эта женщина тоже очень похоже на них, вот он и бросился… как будто он дома, у них на кухне, а она… она…
Он схватил её за плечо, в ужасе подумал: «Что я делаю?!» — и тогда девушка обернулась, и в перекошенном от страха и досады бледном личике, освещённом полной луной, Адриан узнал Алисию.
Свою старшую сестру Алисию.
«Лорд и леди наши нынче тут заночевали», — сказал брат Рерих, а Адриан, дурья башка, слишком устал и был так ошарашен приёмом, что пропустил эти слова мимо ушей. Какой-то лорд и какая-то леди, много ли делов — главное не попасться им на глаза… Он как будто напрочь забыл, на чьей земле находится — это же фьев Вайленте! Именно за Свана Вайленте насильно отдали его старшую сестру прошлым летом. Адриан был уверен, что больше никогда в жизни её не увидит.
И вот теперь она запустила в него сушёным яблоком, а он схватил её за плечо. Наверное, впервые в жизни — она была старше, выше и сильнее его, и ещё она была злюкой и доносчицей, и больше всего на свете любила поймать его на чём-то таком, за что его потом накажут.
— Алисия, — прошептал Адриан и, выпустив её, отступил на шаг.
Она всё ещё смотрела на него огромными от страха глазами, не узнавая. Неужели он так изменился за эти месяцы?.. Она-то совсем не изменилась — он узнал её сразу, несмотря на покрывало, под которым она теперь, как пристало замужней женщине, прятала волосы. Её платье было мешковатым, слишком большим для неё, так что она путалась в подоле — не иначе как муж рядит её в обноски бывшей леди Вайленте, скончавшейся в прошлом году. Адриан припомнил, что у лорда Свана есть дочь шестнадцати лет — ровесница своей мачехи. Интересно, её Алисия изводит так же, как изводила своих младших братьев и сестру?
— Не тронь меня, — громким шёпотом сказал Алисия, выставив вперёд руку с растопыренными пальцами. — Не то закричу. Не то…
— Алисия, это же я! Ты что, меня не узнала? Это я… — сказал Адриан и умолк. Он, наверное, должен был обрадоваться ей, обнять её, но почему-то вместо этого его охватила тревога, уже почти забытое чувство тупого животного страха, который он испытал, когда Топпер Индабиран бросил его в подземелье его собственного замка, замка, в котором вырос и он, и Алисия…
Её растопыренные пальцы, неестественно бледные в лунном свете, дрогнули и опустились. На узком, длинноносом лице появилось недоверие.
— Адриан? — недоверчиво спросила леди Вайленте. — Это… это ты? Что ты здесь делаешь?!
Ну в точности как будто они оба в Эвентри, он тайком пробрался в кладовую, а она поймала его за шиворот и учиняет допрос на месте! «А сама-то ты что тут забыла?» — огрызался Адриан в таких случаях, отчаянно отбиваясь.
Но они не в Эвентри. Нет больше Эвентри. И ни один из них больше не носит это имя.
— Я тут… я пить захотел, — тихо сказал Адриан, словно это всё объясняло. — Я уже ухожу.
— Вот ещё! — сказала его сестра, наконец делая к нему шаг, протягивая руку — но не затем, чтобы обнять своего потерянного, множество раз чуть не погибшего брата. Длинная узкая тень её упала Адриану на лицо, цепкие пальцы вцепились в рукав. И предательский, дрожащий холодок прокатился волной по его спине — как прежде.
И не как прежде, потому что теперь всё было иначе.
— Я пойду, — быстро повторил он. — Пусти, мне надо уходить.
— Никуда ты не пойдёшь, — прошипела она, стискивая его рукав крепче.
Ох, Алисия…
Он вырвался из её рук. И тогда она закричала.
Адриан крикнул: «Не надо!» — понимая, как это глупо, но ему всё ещё казалось, будто она просто не понимает, что делает, будто ей тоже, как и ему, чудится, словно они опять очутились дома… будто она всего лишь дура, а не предательница. Он шарахнулся от неё к двери, а она смотрела на него и кричала, с холодным, неподвижным, злым лицом, и Адриан успел подумать: «Ох, ну какая же ты всё-таки стервища».
Не тратя больше на неё времени, он рванулся в коридор — и с размаху угодил в чьи-то руки, с готовностью его схватившие. От их обладателя предсказуемо несло хмелем, и Адриан без труда вывернулся, но тут его снова схватили, на сей раз крепко. По всем коридорам уже грохотали шаги, а леди Вайленте, Алисия Вайленте, всё кричала и кричала: «Держите, держите же его!»
Адриан со всех сил саданул локтем в живот человека, который его держал, и сумел вырваться. Лягнул другого, чудом вывернулся из-под рук третьего. В темноте и тесноте коридора монахи кричали, бестолково толкаясь и хватая друг друга, кто-то орал: «Что случилось, где разбойники?» и «Света дайте, света!» Во всей этой кутерьме Адриан как-то сумел пробиться к выходу и, может быть, смог бы спастись, если бы уже на пороге не угодил в чью-то стальную хватку. Кто-то стиснул его горло так, что в глазах разом потемнело, и Адриан понял, что опять попался. Он рванулся один раз, его придушили крепче, и он перестал трепыхаться. Это было бессмысленно. Схвативший его человек был единственным, от кого не пахло вином.
Его потащили куда-то и бросили на пол. Пока он откашливался, потирая горло рукой, вспыхнул свет. Адриан приподнялся, морщась и оглядываясь. Вокруг топтались чьи-то ноги в деревянных башмаках и высоких сапогах. Рядом с одними из них мелькнула юбка. Алисия. Сестрёнка… Он поднял на неё глаза. Леди Вайленте висела на локте высокого рыжеволосого мужчины и кричала:
— Это он, Сван, я же говорю тебе, это он!
— Кто? — сухо спросил мужчина, и Адриан узнал в нём человека, который схватил его в дверях и притащил сюда.
— Да он же! Мой брат! Адриан!
— А в чём, собственно, дело? — спросил чей-то развязный пьяный голос. Другой поддержал его:
— Надо разбудить местра-настоятеля…
— Не надо, — голос лорда Вайленте возвысился над поднявшимся гулом, заставив его разом стихнуть. — Вы можете идти спать, досточтимые братья. Вы тоже, — сказал он своим людям, сбежавшимся на шум. — Простите за переполох.
Толкаясь и ворча, монахи и слуги вышли из кухни. Через минуту в освещаемом теперь не только лунным светом, но и свечами помещении остались трое: лорд Вайленте, его жена и её брат.
Адриан всё ещё сидел на полу. Ему вдруг стало почти всё равно, что случится дальше.
— Надо запереть его, — возбуждённо сказала Алисия, стискивая кулачки. Теперь, на свету, её бледное лицо в голубых и белых цветах Вайленте казалось каким-то синюшным. — Не то он сбежит. Он вечно сбегает, его…
— Как он здесь оказался? — перебил её муж, однако, задавая этот вопрос, он смотрел не на Алисию, а на Адриана. Адриан промолчал. Алисия фыркнула — с оттенком торжества, в точности как когда сдавала набедокурившего брата отцу на строгий и скорый суд.
— Не всё ли равно! Он крался тут, будто вор, перепугал меня до смерти…
— А сама-то ты, — сказал лорд Вайленте, поворачиваясь к ней, — что здесь делала?
Алисия открыла рот. Вопрос явно застал её врасплох. «Как странно, — подумал Адриан, — что отец никогда не спрашивал её об этом. Будто само собой разумелось, что она всюду бродит и всё вынюхивает».
— Я?.. Я… я просто…
Сушёные яблоки… ну конечно.
— Ты просто залезла сюда, чтобы чем-нибудь полакомиться, — сказал Адриан. Алисия вздрогнула, а её муж быстро посмотрел на Адриана, всё так же сидящего на полу со следами его пальцев на шее. — Она ужасная сладкоежка. А ещё у неё дурная привычка есть по ночам. Она и дома всё время ночью пробиралась на кухню, думала, что я не слышу.
Он всегда мечтал это сказать. Но не говорил, даже когда отец наказывал его. Не хотел становиться таким же ябедой, как она.
— Ложь! — воскликнула леди Вайленте. — Это ложь, ты, маленький негодяй! Я просто…
— Ты просто что? — спросил её муж.
Она снова открыла рот и снова закрыла. Что ж ты, сестрёнка, — неужели не озаботилась придумать благовидное враньё на случай, если тебя поймают? Слишком уж привыкла всех ловить сама? Адриан думал обо всём этом с весельем, вовсе не соответствовавшем плачевности его положения. Сейчас его свяжут и запрут до утра в погребе, но пока этого не случилось, он упивался местью, которой ждал всю жизнь.
— Я просто решила проверить, что тут и как, — нашлась наконец Алисия. — Ты же сам заметил, как ужасно нас покормили, и все монахи тут пьяные! Наверняка у них всё никуда не годится, и я решила проверить…
— Посреди ночи? — мягко спросил Вайленте. Казалось, ещё миг, и он улыбнётся. Но миг этот так и не настал.
— Ведь это же наш монастырь! — возмущённо крикнула Алисия, будто это всё объясняло. Лгунья, злюка, предательница. Адриан её ненавидел.
Но всё равно в мгновение ока оказался на ногах, когда лорд Вайленте коротко ударил свою жену по щеке.
— Не трогай её! — в ярости крикнул Адриан и кинулся вперёд, на человека, который чуть не задушил его пять минут назад. Алисия отшатнулась — то ли от мужа, то ли от непрошеного защитника. Сван Вайленте обернулся на Адриана — и тот застыл на месте, напоровшись на этот взгляд, будто на выставленный клинок. Муж его сестры смотрел на него несколько мгновений, потом повернулся к жене. Его голос звучал очень тихо.
— Этот монастырь принадлежит Эоху. А не нам. Эоху, а не тебе, решать, чем кормить испросивших крова и кому этот кров давать. Потому замолчи, наконец.
Алисия всхлипнула, но не посмела перечить. Отцу бы она на такую отповедь ворох слов наговорила. Впрочем, отец обычно её и не одёргивал…
Лорд Вайленте отвёл взгляд от съёжившейся жены и посмотрел на Адриана, сжимавшего кулаки в шаге от него.
— Ты Адриан Эвентри? — спросил он так, будто не слышал ни слова из того, что сказал его жена.
Адриан закусил губу и кивнул. Взгляда он не отвёл.
— Сван, я не понимаю, чего ты ждёшь, — снова подала голос Алисия. — Я же сказала тебе — это он! Ты ведь знаешь, лорд Одвелл ищет его по всей…
На этот раз Адриан знал, что Вайленте её ударит. Пока Алисия говорила, её муж смотрел не на неё, а на него, и Адриан увидел, как дёрнулись его губы, ещё до того, как он повернулся к жене. И на сей раз пощёчина была настолько тяжела, что сбила её с ног. Алисия вскрикнула и рухнула на колени, схватившись рукой за лицо.
— Молчи, — сказал лорд Вайленте. — Молчи, ясно тебе? Сука.
— Сван! — вскрикнула Алисия, но он больше не смотрел в её сторону. Шагнув вперёд, он взял Адриана за плечо — вовсе не так грубо, как тот ждал, — и сказал:
— Идём со мной.
Адриан повиновался. Не говоря ни слова, они вышли из кухни, прошли коридором и оказались во внутреннем дворике. Суматоха окончательно улеглась, обитель снова погрузилась в сон. Пройдя через двор, Вайленте с Адрианом остановились у ворот, в нескольких шагах от дремлющего брата-привратника.
— Почему ты здесь? — спросил лорд Вайленте.
Адриан не ответил. Яркая луна освещала их обоих, стоящих у выхода из монастыря.
— Понятно, — сказал муж Алисии. — Я не настаиваю на ответе. Ты далеко сумел забраться. Лорд Дэйгон действительно тебя ищет. И Индабираны. И все остальные септы Одвеллов.
— Кроме вас? — не выдержал Адриан.
— С чего ты это взял?
— Вы… — Адриан посмотрел на него в растерянности. — Но вы же… вы ударили её, когда она…
— Славных женщин родит клан Эвентри, — с отвращением сказал лорд Сван. — Столь же преданных, сколь и мудрых.
— Не обижайте Алисию. Она не плохая… на самом деле… Просто вредная. И помешана на правилах, — сказал Адриан и вдруг понял, что это правда. Его сестра тайком пробралась в храмовую кухню, чтобы полакомиться сушёными яблочками, а кончилось тем, что её избил муж. И всё из-за него, из-за Адриана. Это он виноват. Это от него все беды, не от неё.
— Верно, — после паузы ответил Вайленте. — Правила для неё святы. Жаль, что верность мужу и клану находится за пределами этих правил.
— Не обижайте её, — настойчиво повторил Адриан.
И вот он — миг, отделявший лорда Вайленте от улыбки.
— А ты упрямый, Адриан Эвентри. Видит Эоху, я не хочу обижать твою сестру, но она слишком часто не оставляет мне другого выбора. Я не мог просто так спустить ей то, что она сделала.
— Что она сделала? — переспросил Адриан, не понимая.
— Выдала тебя. К этому мы с ней ещё вернёмся… Будет знать, стерва, как предавать сородичей. А теперь тебе нужно уходить. Не дожидаясь утра. Я скажу всем, что Алисия обозналась, но лучше тебе не рисковать. И не задерживайся в Вайленте. После этой ночи пойдут слухи, что тебя здесь видели. Я не спрашиваю, куда ты держишь путь, но… Тебе не нужны деньги?
Конечно, ему нужны были деньги. Но он не мог об этом сказать. Не этому человеку… этому чужому человеку, септе и союзнику врага, который сейчас его спасал. Адриан собирался совершить кое-что, не делавшее ему чести, и не хотел, чтобы этот человек, знавший о чести больше многих, делил с ним эту вину.
— Нет. Не нужны.
Лорд Вайленте кивнул, улыбнувшись краем губ.
— Ну ладно… Иди разбуди брата-привратника и попроси открыть ворота. Спьяну он, я думаю, не станет дознаваться, что стряслось. В одном Алисия права, — добавил он. — Эти монахи чересчур много пьют.
— Да она всегда права, — сказал Адриан — без досады, скорее с грустью. — Просто…
— Просто иногда лучше врать или вовсе молчать, чем говорить правду, — закончил Сван Вайленте и хлопнул его по плечу. — А теперь иди. И удачи тебе, лэрд Эвентри, куда бы ты ни шёл.
2
— Сударь, скажите, где стоит «Светлоликая Гилас»?
За три месяца, проведённые в пути, Адриан настолько привык к подозрительным взглядам и выжидательным паузам между своим вопросом и чужим ответом, что уже не огорчался ни одному, ни другому. Он не отвёл взгляд, и горожанин в бархатной куртке, изучающе осмотрев его, ответил:
— Если ты о храме Светлоликой, мальчик, то здесь такого нет. В центре города есть храм Риограну, он помолится за тебя перед своей Матерью.
— Да нет, — сказал Адриан, — я о корабле.
Позже он понял, что не стоило приставать с расспросами к прилично выглядящим людям — сам он слишком поистаскался для того, чтобы вызывать в них хотя бы тень доверия.
— Корабль? — презрительно переспросил горожанин. — Это рыбачий шлюп, что ли? Совсем стыд потеряли… нарекать божьим именем свои лоханки! На пристань иди, там справишься.
И пошёл прочь, надвинув шляпу на глаза и бормоча проклятья. Адриан проводил его взглядом и обернулся, оглядывая длинную широкую улицу, мощёную серым булыжником и таявшую вдалеке, там, откуда ветер доносил солёный запах моря. Пристань… ну конечно. Где же ещё стоять кораблю лорда Бьярда?
Город Эфрин ютился на западной оконечности Когтистого залива, расползясь по усыпанному галькой берегу частой сетью приземистых домиков. Адриан не знал толком, отчего залив прозвали Когтистым — то ли из-за рифов, которых бог волн и глубин, Белоглавый Риогран, щедрой рукой рассыпал у берегов и которые, обнажаемые отливом, торчали из воды подобно когтистой лапе; то ли из-за остатков замка, высившегося некогда над рыбацкой деревушкой, прилепившейся к скале и промышлявшей добычей устриц, которые тут водились в избытке. Замок звался Эфрином и принадлежал младшим септам лорда Бьярда; во время давней междоусобицы, лет сто назад, его разрушили до основания, и от замка осталась лишь угловая башня, криво торчавшая на утёсе, словно зловеще выгнутый коготь неведомой твари, погребённой в скале. Башня и теперь стояла на камнях, царапая облака, тенью былой грозности и мощи возвышалась над городом, в который превратилась за это столетие деревушка. Последние лорды Бьярды оказались предприимчивы, Аравин благоволила к ним, и устричный промысел шёл бойко. Безымянная деревушка пережила своего старшего брата — замок Эфрин, и, став городом, приняла его имя. Некоторые говорили ещё, что на древнем языке «эфрин» и значило — «коготь», но это была неправда. «Эфрин» значило — «то, что смоет вода».
Адриан шёл по улице, отделявшей торговые ряды от рыбацкого квартала. Ветер доносил до него запах рыбьих потрохов, водорослей, прогорклого масла, в котором мариновали устриц. Пятна этого масла поблескивали на мостовой в слабых лучах солнца, ещё не решившего, пора ли ему одарить своим теплом землю после зимы, — Ясноокая Уриенн неохотно просыпалась в этом году. Шла последняя неделя зимы, и здесь, у моря, мороз уступал место промозглой сырости. Снега почти не было — множество ног, копыт и колёс смешивали его с песком и грязью, стаптывая в серую кашицу. Жёны рыбаков радовались первому солнышку и уже не боялись вывешивать рыбу на просушку под стрехи крыш, прямо рядом со свежевыстиранным бельём, так что простыни и тараньки трепыхались на ветру рядом. Проходя мимо одного из таких домов, Адриан спросил женщину, развешивавшую бельё, правильно ли он идёт к пристани. Та сказала, что правильно, и спросила, не хочет ли он рыбки. Адриан сказал, что хочет — он ничего не ел с самого утра, торопясь скорее дойти до города, путь к которому был так долог. Женщина сняла с верёвки тощую тараньку и дала ему. Адриан сунул рыбу за пазуху на ходу: есть сейчас он не собирался. Он не мог есть, не мог отдохнуть, не мог присесть и перевести дух до тех пор, пока не увидит то, ради чего так долго сюда шёл.
Рыбацкий квартал на юге сливался с трущобами, а на западе переходил в пристань. В эти дни, видимо, не принято было ходить в море: на пристани было пусто, лишь кое-где бегали и плескались в воде детвора и собаки, да гудел над водной гладью молоток рыбака, чинившего лодку. Лодки — одни поменьше, другие побольше, но все как одна латаные и увешанные сетями — толклись вдоль дощатого настила, выводящего с берега к воде. На дальнем краю настила Адриан разглядел сгорбленную фигурку с удочкой. День стоял ясный, ветреный, пенистые гребни волновались у берега, солнце ослепительно отблескивало на воде.
«Светлоликой Гилас» нигде не было.
— Сударь… Сударь… Добрый человек! — позвал Адриан, перекрывая стук молотка. Мужчина, чинивший лодку, поднял голову и посмотрел на оборванного, худого и жилистого подростка, шедшего к нему. В городах вроде Эфрина людей встречают по одёжке, а первым делом — по обуви, потому рыбак сразу перевёл взгляд с лица мальчишки на его сапоги, стоптанные и грязные, но добротные — раз уж до сих пор не развалились. А уж вынести-то им пришлось немало, если судить по впалым щекам подростка и туго затянутому поясу на торчащих рёбрах. Боги всякому посылают испытания; то, что рыбак увидел, ему скорее понравилось, поэтому он прекратил работу и повернулся к Адриану.
— Чего тебе, малой?
— Доброй вам работы и доброго дня…
— И тебе доброго. Водички не найдётся?
При упоминании о воде Адриан болезненно сглотнул. Принятое решение и слово, данное леди Алекзайн, гнали его вперёд без оглядки и с такой жестокостью, что он не только не ел сегодня, но и почти не пил. Фляжка давно была пуста, а ни фонтана, ни колодца по дороге не встретилось.
— Н-нет… простите.
— Жалко, да ничего. Что ты хотел?
— Не знаете, где тут есть корабль по имени «Светлоликая Гилас»?
Рыбак сощурил глаз и упёр в пояс свободную от молотка руку.
— Э-ва! — протянул он. — Ещё один. Ну, повадились… Да никак весь Бертан скоро соберётся к нам в Эфрин, на невидаль лордову поглазеть? Рано ещё, не на что там глазеть.
— Так корабль здесь? — с трудом сдержав облегчённый вздох, спросил Адриан.
— Здесь, здесь. Уж как лорд наш тщится тайну свою оберечь, а гляди ж ты, всякая шваль уже и то пронюхала! А рано нам ещё гостей принимать, да и не на что — чай, не ярмарка. Отлив вот-вот на носу, устрица наверх выйдет, работы будет невпроворот.
Мужик говорил не зло, но недовольно, и Адриан с радостью ухватился за возможность сменить раздосадовавшую его тему:
— Работы? Правда? А можно тут к кому-нибудь наняться?
— Э-э, нет, — засмеялся рыбак. — Если ты за этим, парень, то в Эфрине тебе ловить нечего — хоть бы и устриц. Берег этот наш, лордом Бьярдом рыбацкой гильдии в полное пользование отдан — чем больше насобираем, тем больше нам останется. А люди все свои, чужаки-то к нам не едут… ну, прежде не ехали. Каждый другому не брат, так сват, не мастер, так подмастерье. Рук хватает, а рты лишние ни к чему. А хотя… — он на миг задумался. — Вроде бы Шрад из маслобойни искал работника. Можешь у него справиться.
— Спасибо, — сказал Адриан и пошёл прочь. О «Светлоликой Гилас» он больше не спрашивал — ему вовсе не хотелось привлекать к себе лишнее внимание, и ещё меньше — чтобы рыбак с молотком его запомнил. К Шраду из маслобойни, конечно, идти теперь нельзя. Именно там его будут искать, если что-то пойдёт не так…
Пристань огибала берег по дуге, тянулась за выступающий в воду скалистый утёс. Адриан пошёл по берегу, по песку, смешанному с галькой. Волны швыряли ему под ноги мелкие камешки, увитые водорослью. Здесь пахло так же, как в доме Алекзайн в Скортиаре, и в то же время совсем не так. По берегу, долбя клювами в осколки ракушек, прыгали толстые чайки.
Адриан дошёл почти до самого конца пристани, обогнул выступ утёса и тогда увидел корабль.
Он стоял в бухточке, вымытой в утёсе волнами, укрытый нависающими со всех сторон скалами и от ветров, и от любопытных взглядов. Со стороны города его никак нельзя было увидеть, если только не пройти пристань до самого конца — а случайный путник в мёртвый рыбачий сезон редко это делал. Корабль был виден с моря, но по морю ходили только рыбацкие лодчонки из Эфрина. Небольшие галеи, курсировавшие берегами Бертана, огибали Эфрин, опасаясь рифов, и швартовались не в Когтистом заливе, а выше, в Блейдансе. Лорд Бьярд рассчитал верно: это было едва ли не идеальное место, чтобы тайно построить и спустить на воду корабль. Самый большой и самый великолепный корабль, какой только видел Белогривый Риогран.
Он был вдесятеро больше самой крупной рыбацкой лодки в Эфрине. На трёх мачтах висели три спущенные паруса — белые с бирюзовым, цветов Бьярдов. Крутые белоснежные бока с отверстиями по бортам величаво покачивались на зеленоватой воде, и Адриан почти видел мысленным взглядом длинные вёсла, свешивающиеся из уключин и с силой рассекающие волны. Судно стояло кормой к пристани, но с того места, где стоял Адриан, была видна передняя часть корабля и носовая фигура на ней: огромная белогрудая дева, вздымающая обнажённые руки к небу, с ликом строгим и благородным, с широко раскрытыми бирюзовыми глазами, глядящими на воду вертикальными прорезями зрачков. Лорд Бьярд не побоялся расцветить Светлоликую Гилас красками своего клана — должно быть, он безоглядно верил, что она благосклонно примет это, и что сын её, суровый Риогран, не посмеет низвергнуть в пучину вод образ своей великой Матери. И, стоя возле неё, глядя на блики солнца на бортах и вздувавшиеся пузырями паруса, Адриан понимал и разделял эту безоглядную веру. Она была непобедима, священна, прекрасна.
И Адриан собирался уничтожить её.
От блестящего лакированного борта к пристани тянулся длинный трап, раскачивающийся и стонущий на ветру. Адриан посмотрел на него с сомнением. Прежде ему никогда не приходилось плавать по морю; он надеялся, что и не придётся. Море его пугало, оно было слишком своевольно и непредсказуемо. К тому же Риогран не был его богом ни по клану, ни по зову. Риогран был именем, пеной на волнах, тревожными тучами над водной гладью, грозной статуей у входа в храм. Адриан боялся вверять себя воле бога, которого не знал.
Однако сделать это было необходимо. Сглотнув, быстро зажмурившись и снова распахнув глаза, Адриан поставил ногу на качающуюся доску, казавшуюся такой узкой и ненадёжной.
— Эй! Эй, ты там! Стой, куда идёшь?
Адриан отпрянул, почти с облегчением убрав ногу со скользкой доски. Как глупо… с чего он взял, что на корабле никого нет? С пристани так и казалось, но разве могли оставить эту ослепительную красавицу без надёжной охраны? Не могли, конечно. Плечистый мужчина в меховой куртке, толстых полосатых штанах и широкополой шляпе показался там, где трап соединялся с палубой. В зубах у него была трубка, за плечом торчал приклад арбалета.
— Чего надо? — лениво крикнул он.
Адриан снова сглотнул. За последние месяцы ему сотни раз приходилось отвечать на этот вопрос, но сейчас, именно сейчас, когда так важно было ответить осторожно и правильно, в голове у него разом образовалась вязкая чёрная пустота.
— Я… мне…
— А ну пшёл вон, — сказал стражник, перебрасывая трубку в другой уголок рта. — Нечего тут шастать.
— Я хочу наняться на этот корабль! — выпалил Адриан.
От мужчины его отделяло добрых тридцать шагов, но он всё равно заметил изумление на обветренном бородатом лице. Потом человек расхохотался.
— А кто не хочет? Пшёл вон, сказано, а то болт в тебя всажу.
Вряд ли стражник собирался воплощать угрозу в жизнь — арбалет с плеча он так и не снял, — но рисковать не стоило. «Дурак», — мысленно обозвал себя Адриан. Так торопился, с таким нетерпением рвался сюда, чтоб увидеть её… И ни разу не задумывался о том, как проберётся на борт. Конечно, команда «Светлоликой Гилас» давно укомплектована, и в неё не берут кого попало — слишком много сил, средств и надежд вложил в это судно лорд Бьярд. И уж тем паче нечего тут ловить оборванному заморышу в дырявых сапогах и подведённым от голода животом…
Внезапно ужасно, до смерти захотелось есть. Адриан понял, что всё утро продержался на одном только возбуждённом ожидании, и теперь, когда оно отчасти удовлетворено, а отчасти — жестоко обмануто, его тело решилось напомнить мятущемуся духу, что неплохо бы и пожрать. Не дожидаясь нового окрика, Адриан отошёл от трапа. Ноги у него ослабли, и он сел на доски и стал тупо глядеть на волны, разбивавшиеся белой пеной о крепления мола. «Ну, — подумал он, — вот я и здесь. Я дошёл». Куда теперь податься и что делать дальше, он не знал.
— Что, хочешь на «Светлоликую»?
Звонкий, весёлый голос, сказавший эти слова, так отличался от голосов, которые за последнее время привык слышать Адриан, что тот разом вскинул голову. Прямо перед ним были широко расставленные тощие ноги в полосатых штанах, таких же, как на стражнике у трапа. Выше ног обнаружился широкий кожаный ремень с медной пряжкой и маленькие, чёрные от мозолей руки с гордо заткнутыми за ремень большими пальцами. Ещё выше — живот, почти такой же тощий и впалый, как у Адриана, и рёбра под холщовой рубашкой в прорезях курточки, и маленький острый подбородок, не знавший бритвы, и ухмыляющийся рот, и конопатый нос, и весёлые светлые глаза. Мальчик года на два младше Адриана стоял над ним, уперев ноги в доски настила и чуть наклонившись вперёд — стойка моряка, привыкшего к шаткой палубе больше, чем к твёрдой земле, — и смотрел на него сверху вниз.
— На «Светлоликую», говорю, хочешь? — повторил мальчишка — ответ он явно знал заранее и страшно хотел его как-то прокомментировать.
Адриан не стал его разочаровывать. В нём что-то ёкнуло. Едва уловимо, но это ощущение он уже знал.
— Хочу.
— Ещё бы! А кто не хочет?! — воскликнул мальчишка и звонко расхохотался. Он явно не слышал, что кричал Адриану стражник с корабля, иначе не стал бы повторять его слова — которые, вероятно, от него же и услышал.
— Ты, — сказал Адриан. — Ты не хочешь. Я прав?
Мальчишка ухмыльнулся, но ухмылка не была ни надменной, ни злой. Он явно старался казаться важным и значительным, но на самом деле всего лишь отчаянно желал похвастаться. Адриан понял это без труда: его сестра Бетани была точно такой же.
— Ну, вроде того. Мне и впрямь нечего туда хотеть — я уже и так там! — сказал мальчик и чётким натренированным жестом щёлкнул пальцами по медной пряжке своего ремня. Адриан присмотрелся к ней и увидел выгравированную на меди вязь: «Светлоликая Гилас». Почему-то ему вспомнился гневливый горожанин из верхней части города, называвший затею лорда Бьярда и его деяния богохульством.
— Ты в команде? — спросил Адриан с любопытством.
— А то, — важно сказал мальчишка. — Я тут с прошлой зимы торчал. Как узнал, что команду будут набирать — решил, что с пристани не уйду, пока не возьмут. Капитан Дордак меня сперва гнал, как всех, но я ему показал, чего стую. Я умею по морю ходить, не то что некоторые. У меня отец рыбак был, мы с ним за морским окунем ходили вдоль берега до самого Уивиелла! Я и с рулём управляться умею, и парус ставить…
— А что ты будешь делать на «Гилас»?
Мальчишка слегка смутился. Этого вопроса он явно не ждал.
— Ну, на первый раз ничего особенного… Ну там палубу драить… всё такое. Но ведь на «Гилас» же. Какая разница, что делать на «Гилас»?
Чернорабочий, значит. Адриан читал когда-то, что фарийцы на больших кораблях нанимают таких на время плавания, но забыл, как они их называли. Видимо, не очень-то гордо, раз мальчишка не назвал свою официальную должность на судне. Он мог бы попытаться приукрасить своё положение, раз уж его так тянуло похвастаться удачей, но был слишком прямолинеен и простодушен для этого. Адриану он нравился.
— Повезло тебе, — сказал он искренне. Мальчишка снова заулыбался. Зубы у него были мелкие и длинные, как у крысёнка.
— Ага! Повезло — не то слово! Если хорошо сходим и капитан доволен останется, может, на будущий раз меня возьмут юнгой. А тебе зачем на «Гилас»?
— А тебе зачем? — фыркнул Адриан. — Посмотри… какая она. Вот затем.
Мальчик посмотрел на корабль и кивнул. Адриан посмотрел тоже. Близился вечер, сумеречный воздух окрашивал борта корабля в розоватый цвет, от чего они казались словно мраморными. Какое-то время оба мальчика молчали, завороженные красотой того, что открывалось их глазам.
— Жалко, — сказал Адриан. — Так жалко… я так долго сюда ехал. Хотел хоть посмотреть на неё…
— Я тоже долго ехал, — сказал мальчик со «Светлоликой Гилас», и хвастовство в его голосе уступило место сочувствию. — А ты откуда?
— Из Эвентри, — машинально ответил Адриан.
— Так я тоже из Эвентри, — обрадовался мальчишка и плюхнулся на доски рядом с Адрианом. — То есть оттуда моя мама. А отец из Хэдлода, мы там и жили, в Хэдлоде, в Старой Щепке — это деревня такая на побережье… А мамка из Кедрового Дола, там устраиваются большие эвентрийские ярмарки два раза в год, знаешь? Они с отцом моим там и встретились. Знаешь Кедровый Дол?
Конечно, Адриан знал Кедровый Дол. Это была одна из самых богатых и процветающих деревень его отца. Его деревня. Этот мальчик в полосатых штанах и пропитанных солью башмаках был его мальчиком. Его человеком. «Я — твой лэрд», — подумал Адриан, и ему стало смешно. У него не было даже пояса с медной пряжкой, а башмаки «его» мальчишки явно были прочнее и надёжнее, чем прохудившиеся сапоги лэрда Эвентри.
— Ага, слышал, — сказал Адриан. — Мой отец туда тоже ездил… на ярмарку. Я из Живоселья. Знаешь?
Мальчишка поморгал, потом замотал головой. Живоселье — крохотное южное селение на самой границе с фьевом Иторн. Оно далеко от моря. Откуда ему знать?
— А почему ты здесь? Почему не ходишь с отцом в Уивиелл? — спросил Адриан.
— Помер он, — помрачнел мальчишка. — Потонул в бурю. Мамка после этого заболела и тоже померла, а дом наш мой дядька себе забрал, меня за порог… вот я и… а ты?
— У меня тоже никого нет, — сказал Адриан. «Только, — добавил он мысленно, — ты всех потерял, а я всех бросил. Я виноват, а ты нет. Ты лучше меня».
Мальчик немного помолчал, болтая свесившейся с мола ногой и ловя брызги пены на башмак. Усиливающийся ветер трепал его рыжие волосы.
— А спать ты где будешь? — спросил он вдруг. Адриан пожал плечами. Мальчишка посмотрел на него оценивающе — в точности как смотрели взрослые, размышлявшие, пустить ли его на порог или затравить собаками. — Я знаю тут одну ночлежку. Я там сам ночевал, когда только приехал. Если скажешь, что от меня, то на ночь-другую тебя даром пустят. Там хорошо, тепло и блохи не очень кусачие. Она в самом конце Золотушного переулка, это если отсюда идти, то вон туда и всё время налево. Скажи, что ты от Доффи. Меня Доффи зовут. А тебя?
— Ад… — начал Адриан — и прикусил язык с такой силой, что во рту стало солоно. Ну конечно — мальчик по имени Адриан из фьева Эвентри! Светловолосый, голубоглазый, с виду четырнадцати-пятнадцати лет. Маленький Доффи добрался сюда с другого конца страны, а ведь он ещё младше Адриана. Он не дурак, если даже и выглядит простачком, и вряд ли глухой. Просто он, кажется, и вправду хороший… а хорошие зачастую выглядят глупее, чем есть. И ещё они не обязательно оказываются такими уж хорошими, когда доходит до возможности получить награду за чужую голову.
— Эд, говоришь? Моего дядьку так же зовут… Запомнил, Эд? Золотушный переулок. Скажешь, что от Доффи.
— Запомнил. Спасибо, Доффи.
Ну что же… Эд так Эд.
Ночлежка оказалась и впрямь хорошей. Адриана пустили туда и накормили супом; правда, он подозревал, что куда больше имени корабельного чернорабочего Доффи на хозяина ночлежки подействовали три медяка, которые Адриан ему всё-таки заплатил. Это были последние его деньги, оставшиеся от зимнего заработка. Если он не найдёт работу или способ попасть на «Светлоликую Гилас», то вскоре умрёт от голода. Это было бы так глупо — дойти почти до конца и подохнуть на самом пороге.
Хозяин ночлежки сказал, что Адриан может ночевать в общей спальне три ночи. Там действительно было не так уж плохо — всё, что повидал Адриан, было всяко лучше подземелья в замке Эвентри. Правда, жутко воняло тухлой рыбой, прогорклым маслом и мочой, а блохи, вопреки заверениям Доффи, оказались свирепы, как дикие кабаны. Наутро, выйдя из ночлежки чуть свет, Адриан с удивлением увидел Доффи, сидящего на оглобле тачки и весело болтающего с развязного вида девицей в шерстяном платке. Девице было лет семнадцать, но болтовне Доффи она смеялась так, словно ему было все двадцать и в кошельке у него звенело серебро. Это его пряжка, понял Адриан. Даже чернорабочий с лордовского корабля тут в почёте.
— Привет, Эд! — заметив Адриана, крикнул Доффи и махнул рукой. — А я тебя искал. Как спалось? Есть хочешь? Пошли! Расскажешь мне про Эвентри. Я по нему соскучился.
Он вправду был хорошим, этот Доффи из Кедрового Дола.
Вопреки своему заявлению, расспрашивать Адриана Доффи ни о чём не стал — и это было большим облегчением. Они зашли в маленькую грязную таверну на этой же улице, сели за липкий стол, взяли эля и жареной рыбы, в которой костей было больше, чем мякоти, и маленький моряк принялся изливать на новообретённого товарища все свои радости и горести.
— Вообще-то на самом деле меня зовут Пит. Доффи — это меня так капитан Дордак назвал, за то, что у меня нос длинный. Разве длинный?.. Но мне нравится. Питом у нас в деревне так звали одного свинопаса, и над ним все смеялись, ну и надо мной заодно, нарочно делали вид, как будто меня с ним путают… Я, когда сюда приехал, тоже все сперва смеялись. А потом я показал капитану Дордаку, как я по мачте лазать могу. Залез на корабль и…
— Постой, — осадил его Адриан. — Как ты туда залез, если там на страже стоит этот, с арбалетом…
— Курт? У Курта только рожа страшная, а так он неповоротливый, что твой боров. Я у него между ног прошмыгнул, вот так — фьють! Капитан крик поднял, а я раз-раз — прыгнул на борт, за ванты ухватился, полез по мачте… хвать — а я уже в гнезде наверху!
— В гнезде?
— Ну, это корзинка такая, где вперёдсмотрящий сидит, — снисходительно пояснил Доффи и откусил от своей рыбёшки хвост вместе с неочищенным плавником. — И кричу им сверху: смотрите, как я могу! Я ещё и ловчее могу! Ну, капитан Дордак тут и засмеялся. А драить палубу, говорит, так же справно сумеешь? Сумею, говорю. Вот… Да ты эту рыбу вместе с косточками ешь. Косточки — они самые вкусные!
Адриан слушал, кивал, смеялся его шуткам. Потом они вместе затянули песенку, которую пели эвентрийские крестьяне во время жатвы. Она нравилась Анастасу, и он научил ей Адриана, а Доффи узнал её от своей матери. Потом Доффи спел несколько морских песенок, и немногие посетители таверны, заглянувшие в её душный полумрак этим утром, хохотали и хлопали чистому мальчишескому дисканту. Адриану было хорошо и весело. И страшно, где-то очень глубоко, в тайном, тёмном месте, из которого на него всегда смотрели фиолетовые глаза леди Алекзайн, чёрные глаза Тома и разноцветные глаза Вилмы. Где-то в этом тайном месте у него ёкало, ёкало, ёкало, как будто там билось ещё одно, чёрное, чужое сердце, гнало по жилам странную чёрную кровь. Адриан не хотел ощущать это, но у него не было выбора. «Ты должен научиться слушать. Научиться хотеть», — сказал ему его леди. Он хотел и слушал.
Он ждал.
— А тебе не страшно? — с любопытством спросил он, когда Доффи спел песню о чёрном гневе Риограна и злой буре, что бушует на море, когда богу волн не угодны те, кто вторгаются в его владенья. — Не боишься, что тебя Риогран заберёт… как твоего отца?
Он выпил слишком много эля и слишком мало съел, и устал, и отчаялся, чтобы бояться сболтнуть лишнее. Как когда-то в замке Эвентри, на пиру своих врагов, его охватила отчаянная дерзость. Он знал, что его вопрос может смутить или рассердить Доффи, но всё равно спросил. Он и позже так делал много раз.
И это всегда срабатывало.
— Боюсь, — сказал Доффи, потупившись. — Но только отец был безбожник, он не Риограну молился, а Тафи. Это богиня клана Хэдлод, батька был их человеком, вот и говорил: бог лордов — наш бог, да и к тому же Тафи одаривает удачей, а что ещё надо моряку, как не удача?
— Благословение хозяина волн, — сказал Эд. Доффи посмотрел на него неожиданно взрослыми, умными глазами — и кивнул со взрослой твёрдостью. Они оба знали, о чём говорит Адриан. Знали на собственных шкурах.
— Батька этого понимать не хотел. А я понимаю. Я Риограну всегда молюсь, и в храм хожу. — Он сделал рукой странный знак, какого Адриан никогда не видел — но догадался, что это знак-оберег Белоголового.
— Но всё равно боишься, — заметил Адриан. — Молишься и боишься.
— Боюсь…
— Почему? Богам надо верить. Доверяться. Иначе как они тебя защитят?
Он лгал, жестоко и бессовестно лгал, и снова это подействовало.
— Я знаю… просто… в общем, я не умею плавать, — тихо сказал Доффи и залился пунцовым румянцем.
Адриан чуть не подавился рыбьей костью, которую как раз неосторожно пытался проглотить.
— Как это?! Ходишь в море — и не умеешь плавать?!
— Ну, умею… только плохо. Я глубины боюсь. Воды не боюсь, а глубины боюсь. Я как-то за борт упал, испугался и захлебнулся. Батька меня вытащил, но я с тех пор боюсь, и вот как окажусь в воде — так прямо весь коченею и… знаю же, как плыть надо, ну, там, руками-ногами как делать — знаю, а вот страх такой берёт, что не могу.
Адриан хотел спросить, как же он тогда может мечтать о море. Как может рваться к воде, если боится её и знает, что она грозит ему гибелью. Хотел — и не спросил. Потому что он знал это чувство — чувство, когда тебя тянет куда-то, где ты быть не хочешь и не должен, тянет неодолимой силой, который ты и не понимаешь, и противиться не можешь… Он не смог бы объяснить это даже самому себе. Том называл это «предназначением», Алекзайн — «долгом», но всё это были неправильные слова. Море тянуло Доффи так же, как Адриана тянула «Светлоликая Гилас». И чёрная оспа. Страх был здесь ни при чём. Страх не мешал.
— Только ты никому не говори, — неверно истолковав молчание Адриана, испугался Доффи. — Ладно? Пожалуйста! Если капитан Дордак узнает, что я плохо плаваю, он…
— А ты не боишься, что он и так узнает? Вот свалишься за борт в пути — что тогда?
— Не свалюсь. А и свалюсь, так меня спасут. Вытащат… И тогда что уж — будем в море, поздно будет. Ну, зачем мне плавать, а? Я же на корабле ходить буду, а не по воде.
— И то верно. Да ты и не Белоголовый Риогран, чтоб по воде босиком ходить, — насмешливо сказал Адриан, и они оба хохотнули — Доффи облегчённо, Адриан — понимающе.
Внутри у него уже не ёкало. Это было таким облегчением.
— Только не говори никому, — снова попросил Доффи и поспешно заказал ещё эля. Он явно жалел, что так разоткровенничался.
— Не скажу, — заверил его Адриан — и не солгал.
Даже и скажи он — кто бы ему поверил?
Они просидели в таверне до полудня, а потом Доффи потащил Адриана гулять по городу. Показал ему торговые ряды, и храмовую площадь, и сам храм Риограна с колоннами в форме рыб, стоящих на собственных хвостах. И отовсюду, куда бы они ни пошли, поднимались ли по улице вверх или спускались вниз, к рыбацкому кварталу, был виден далёкий чёрный силуэт башни Коготь, нависавшей над морем зловещим перстом.
— А вон там переулок Удачливый, — сказал Доффи, ткнув пальцем куда-то вниз, когда они взобрались на пригорок чуть в стороне от рыбацких домишек. Отсюда весь Эфрин был как на ладони. — Его так прозвали, потому что побывать там и ничего не подцепить — редкая удача. Один из старых лордов Бьярдов, говорят, даже статую Тафи там поставить хотел, чтоб мужики ей молились перед тем, как залезть под одеяло к девкам.
Адриан фыркнул, оценив чувство юмора старого лорда.
— Я там сплю, — доверительно сообщил Доффи, и Адриан, перестав усмехаться, изумлённо обернулся к нему.
— У шлюх?!
Мальчишка хитро сощурился.
— Ну а чего? Я когда только в Эфрин попал, они меня сразу подобрали. Они меня дитятей малым считают. Своих-то почти ни у кого нет, так они любому подкидышу рады.
— Небось и сиську сосать дают? — съехидничал Адриан. Доффи гордо надулся, и сразу стало понятно, что мальчишку и впрямь принимают за малыша. Да он и был малышом — теперь, присмотревшись к нему как следует, Адриан понял, что ему лет двенадцать от силы. Рядом с ним он чувствовал себя совсем взрослым.
Видимо, что-то в его взгляде выдало эти мысли, потому что Доффи надулся снова, на этот раз обиженно, и, пытаясь подтвердить свою великовозрастность, надменно предложил пойти напиться. Дескать, у него тут в одном кабачке знакомый пивовар, который по дружбе наливает в долг…
Неизвестно, как насчёт женщин из Удачливого переулка, а насчёт знакомств своих Доффи не врал. Похоже, он и впрямь умел ладить с людьми — а иначе бы не попал на «Светлоликую Гилас» и не выжил в чужом городе один. Он умел нравиться. Адриан почувствовал это на себе.
Пивовар из таверны «Мокрый гусак» тоже не избег этой участи. При виде Доффи, ввалившегося вместе с Адрианом через заднюю дверь, его плутоватая рожа расплылась в улыбке, а рука потянулась к кранику огромной пивной бочки, за которой слышался гомон и голоса — дело шло к вечеру, и кабачок заполнялся посетителями. Доффи с Адрианом получили по большой кружке пенистого, терпко пахнущего пива и вышли на задний двор, где завалились в сваленное у сарая сено, которое слуга не успел прибрать, и предались блаженной неге безделья. Адриан и вправду блаженствовал: за последние месяцы это был едва ли не первый день, который он провёл в полном ничегонеделании.
— А у Косолапой Мисси во-от такие шары, — сказал Доффи и показал руками, какие. — Она меня раз мордой в них ткнула и прижала, так я чуть не задохнулся. Соловка-Мира так поёт и так на лютне выводит, что даже мужики её плачут, а потом дают ещё денег. А у Пэтти-Редиски волосы рыжие-прерыжие до самой земли, и когда она их расплетает, в мире ничего красивей нет…
На город Эфрин наползали сумерки, дрожащие, прозрачные, густо пахнущие солью. Доффи ещё трижды бегал к своему дружку-пивовару наполнять кружки, а один раз вернулся с миской горячих сальных шкварок. Пока его не было, Адриан лежал в сене, закинув руки за голову, иногда проваливаясь в дрёму, и сквозь сон ему мерещилось, что чайки, рассекающие сиреневое небо над ними, выкрикивают его имя. «Эд! — горланили они. — Эд, Эд, Эд!» Потом Доффи со знакомым уже Адриану важным видом вытащил из-за пазухи трубку и набил её табаком. Увидев, как у Адриана разгорелись глаза, гордо заявил, что все моряки курят; это была правда, потому что фарийцы, у которых табак рос, по слухам, словно сорная трава, часто расплачивались именно им, если случалась торговля между встретившимися в море кораблями. Они раскурили трубку на двоих, и ни один, к тайному разочарованию другого, не закашлялся и не показал себя наивным неумехой. Потом Доффи болтал, Адриан слушал, иногда смеялся, и ему казалось, что не было вчера и не будет завтра, и он сам уже не знает, кто он такой.
— Ладно, — сказал Доффи наконец, когда колокол на далёкой городской башне пробил полночь, а гул хмельных голосов из таверны заметно утих и поредел. — Домой пора. Мне завтра чуть свет надо на «Светлоликой» быть.
— А когда она отходит?
— Кто, «Светлоликая»? Через неделю. Только это секрет. Тс-с, — сказал Доффи и, хихикнув, прижал палец к губам, влажно поблескивавшим в темноте от только что проглоченной последней шкварки. Адриан послушно кивнул. Это была по меньшей мере восьмая страшная тайна, которую доверил ему его новый приятель. И Адриан честно собирался свято хранить их все.
Он попытался встать и тут же повалился обратно в мягкое, примятое их телами тело. Доффи захихикал и протянул ему руку. Адриан ухватился за неё, подтянулся и снова рухнул, увлекая Доффи за собой. Они повалились рядом, давясь приглушённым хохотом.
— Ты пьяный, — сказал Доффи.
— Ты тоже.
— Ещё чего! Я пить умею. А ты нет.
— Ну… вообще да, не умею, — признался Адриан.
— Ты сам до Гурстовой ночлежки не дойдёшь.
— Да чего, дойду…
— А где она, помнишь?
— Не помню… Я спрошу…
— Кого ты спросишь?
— Косолапую Мисси из Удачливого переулка, — ответил Адриан, и оба снова прыснули. Отсмеявшись, Доффи с видимым трудом встал и помог подняться Адриану.
— Ладно. Пошли.
— Куда?
— Куда-куда, у Мисси дорогу спрашивать.
До Удачливого было всего несколько минут ходу. Никто не обращал внимания на спотыкающихся и хохочущих мальчишек, бредущих по ночному городу, только раз какая-то горожанка выбранила их из окна и попыталась окатить содержимым ночного горшка, но они успели отскочить. Наконец, задыхаясь от беспрестанного смеха, оба ввалились в тёмный коридорчик дома, в дверь которого постучал Доффи. Встретила их женщина, в которой Адриан без труда признал Косолапую Мисси — не столько по походке, сколько по груди, оказавшейся именно такого размера, как расписывал Доффи.
— Ах, негодник! — воскликнула она, схватив мальчишку за ухо. — Где шлялся? Вот зарежут тебя! А это кто с тобой? Ах, бедняжечка, тощий какой. Вы ужинали? Спать, бесстыдники!
Получить обвинение в бесстыдстве от портовой шлюхи было очень забавно, и мальчишки снова прыснули разом. Мисси шлепками и подзатыльниками проводила их по коридору, впихнула в какой-то чуланчик, снова спросила, не голодны ли они и не надо ли им света, а потом ушла.
— Она тебе и вправду словно матушка, — заметил Адриан, когда они в изнеможении повалились на ворох одеял, разбросанных на полу.
— Ага. И уж всяко добрее, чем была моя, — сказал Доффи, и на этот раз почему-то ни один из них не засмеялся. Адриан подумал о собственной матери, леди Мелинде Эвентри. Интересно, вспоминает ли она его хоть иногда? Плакала ли по нему хоть вполовину так горько, как по Ричарду, Бертрану и девочкам?
Адриан вдруг понял, что ужасно устал. Он сильно опьянел, в глазах у него жгло, в горле першило. Он действительно не умел пить, ему сразу становилось дурно. В чуланчике борделя было тепло и почти уютно, тут вполне сносно пахло. Как хорошо было бы сейчас уснуть… Только бы Доффи не начал снова болтать. Адриан повернулся на бок, подтягивая колени к груди. Мальчишка рядом с ним заворочался, тоже устраиваясь. Каморка была совсем тесной, тюфяк только один, и волей-неволей они прижались друг к другу. Доффи шумно вздохнул. Потом что-то проворчал и ткнулся лбом Адриану в плечо. Через несколько мгновений он уже спал.
Адриан довольно долго лежал, слушая его дыхание. Потом осторожно высвободился и сел. Его покачивало от хмеля. Он встал на четвереньки и осторожно пополз вперёд, пока не стукнулся головой о дверь. Сев, Адриан обернулся на мальчишку. Тот не шевелился. Тогда Адриан запустил руку в карман куртки. В ладони сразу стало сколько и жирно. Сальные шкварки, которые он тайком от Доффи напихал в карманы, нагрелись и растаяли, превратившись в слизкую жирную массу. Адриан как мог вывалил её из карманов. Ноги Доффи в деревянных башмаках торчали из-под одеяла, которое он натянул на самый нос. Подошвы были прямо перед Адрианом.
Он осторожно подался вперёд и густо вымазал подошвы Доффиных башмаков толстым слоем растаявшего сала.
Закончив, Адриан долго оттирал ладони об одеяло — слишком сильно сегодня он их запачкал. Ему страшно хотелось вымыться, но сейчас он не мог себе этого позволить. Осторожно вернувшись на место, он лёг и укрылся. Доффи застонал во сне и снова ткнулся головой ему в подмышку. Так, словно Адриан и не вставал вовсе.
«Ничего не было, — подумал он. — Я ничего не делал. Да если бы и сделал, ничего не будет. Толку никакого и… я просто… ну, я только попробовал».
Он знал, что лжёт себе, но сейчас ему была так нужна эта ложь.
Его разбудило солнце. Адриан уснул лицом к окну, и первые лучи света, пощекотав ему веки, заставили их раскрыться. Где-то вдалеке кричал петух, а ещё дальше, едва слышно, били колокола.
Доффи заворочался, не открывая глаз.
— Где… — пробормотал он. — Сколько…
— Ночь ещё, — шепнул Адриан, не давая ему отстраниться. — Рано совсем. Спи.
Мальчишка засопел и послушался, так и не открыв глаз. Его костлявое плечо под ладонью Адриана слегка приподнималось и опускалось во сне.
Он пролежал неподвижно ещё час. Адриан всё это время лежал не шевелясь, боясь вздохнуть. Окно в каморке выходило на море, и в квадратном проёме он видел верхушку башни Коготь.
Наконец Доффи откатился от него и заныл, пряча глаза под сгибом локтя. Это длилось несколько мгновений. Потом он умолк.
И вскочил так резко, что отпихнул Адриана к самой стене.
— Сколько времени?!
— А? — Адриан усиленно заморгал, протёр глаза, разыгрывая сонливость. — Чего?..
— Молог разорви! Проспал! — в отчаянии крикнул Доффи и заметался по каморке. — Проспал, как есть проспал! Капитан с меня шкуру сдерёт!
Он бросился к выходу, поскользнулся у самой двери, и сердце у Адриана оборвалось. Но Доффи был слишком испуган, слишком торопился и к тому же ещё не до конца проснулся. Да и выпили они вчера немало… что ж странного, что ноги его не держат? Если он и почувствовал, что с его башмаками что-то не так, сейчас ему было не до башмаков.
Когда дверь за ним захлопнулась, Адриан сел и посмотрел на свои руки — всё ещё скользкие, блестящие от жира. Он снова вытер их об одеяло. Ничего не было. Он ничего такого не сделал. Он никогда не хотел сделать ничего такого.
Несмотря на не слишком уже ранний час, бордель спал — оно и понятно, рабочая смена у его тружениц только что завершилась. Адриан вышел в Удачливый переулок, никем не замеченный. Он надеялся, что Косолапая Мисси вчера не разглядела его толком в темноте — он и сам-то её не узнал бы, столкнись он с ней на улице, разве что по необъятной груди.
Город проснулся, улицы были запружены людьми, всадниками, каретами, телегами, тачками. Адриан попытался выйти к пристани и почти сразу заблудился. То и дело чья-то грубая рука хватала его за плечо и отпихивала с дороги, люди кричали на него, собаки облаивали. Он сам не знал, как его всё-таки вынесло к рыбацкому кварталу. Тут было попросторнее: большинство обитателей ушли на лов с утренним приливом. Адриан огляделся, нашёл взглядом чёрный силуэт башни Коготь. Ему было в ту сторону, но он не торопился. Говоря по правде, он предпочёл бы вовсе туда не ходить. Забиться куда-нибудь… да вот хотя бы в эту треснутую бочку, воняющую тухлой селёдкой, что валяется на груде мусора. Забиться и просидеть там… до конце жизни просидеть.
Что за славный финал последнего из клана Эвентри.
«Я больше не из клана Эвентри», — подумал Адриан и пошёл вперёд. Так и есть. Не важно, что он сделал или ещё сделает. Его клан тут ни при чём. Да и нет у него клана. «Меня зовут Эд. Эд из города Эфрина», — подумал он и побежал.
«Светлоликая Гилас» стояла на прежнем месте. Только пробраться к ней сегодня было непросто: к молу причалили несколько торговых барж, торговцы сошли на берег и разложили товар, стремясь сбыть его, пока не завонялся, и ступить было нельзя без риска обрушить чей-нибудь лоток. Кое-как протолкавшись к самому краю пристани, Адриан посмотрел вперёд, в сторону бухты.
«Светлоликую» постигла та же участь, что и весь город сегодня. Люди облепили её, будто муравьи, моряки в трепетавших на ветру рубахах лазали по вантам и мачтам, словно обезьяны, стук молотков и подстёгивающий крик стелился над водой. Море тоже было сегодня неспокойным — то ли его встревожила людская суета над его гладью, то ли оно знало, что сделал Эд из города Эфрин…
«Ничего, — в сотый раз подумал он, — ничего я не сделал. Я только…»
Тут он увидел Доффи.
Мальчишка стоял на планшире, держась одной рукой за вант, а другой подтягивая распустившийся узел. На мгновение у Адриана отлегло от сердца («Не вышло, я знал, что не выйдет, только попробовал, я был должен…»). Но потом Доффи обернулся, как будто на чей-то окрик, и съёжился, втягивая голову в плечи, словно на неё уже обрушивался удар. Адриан увидел человека, который его звал; тот стоял на мостике на корме, высокий, в широкополой красной шляпе и развевающемся по ветру плаще, и с исказившимся от гнева лицом указывал куда-то вперёд, отдавая приказ. Капитан Дордак, понял Адриан, — тот самый, который грозился спустить с Доффи шкуру за опоздание… Маленький чернорабочий торопливо кивнул, выпустил вант, шагнул вперёд, намереваясь спрыгнуть на палубу, и его нога соскользнула с планшира.
Адриан не мог, никак не мог видеть этого с такого расстояния — но увидел. А может, и не увидел, а просто знал. Каменная мостовая, усыпанная песком и галькой, ободрала с подошв доффиных башмаков большую часть сала, которым они были вымазаны. Но гладкий, до блеска отполированный, покрытый тёмным лаком планшир — это не то же самое, что песок и галька. Он скользкий. Он очень скользкий.
Маленький Доффи неловко взмахнул руками и полетел вниз. Адриан видел, как его тело протаранило зелёную волнистую гладь, увидел клочья белой пены, взметнувшиеся и тут же опавшие там, где только что Риогран проглотил сына так же, как отца. Рыжеволосая голова показалась над волнами — затылком к Адриану, так что тот не мог видеть лица мальчишки и его глаз. Не мог — и всё равно подумал: «О Господи».
Яростный вопль капитана Дордака был столь могуч, что долетел до пристани и заставил несколько голов повернуться к кораблю. Наблюдавшие за «Светлоликой Гилас» зеваки уже вовсю вопили, перегнувшись через парапет, отделявший мол от зелёной воды. «Что же они, — подумал Адриан. — Он ведь упал за борт. Разве они не видели? Что ж они его не вытащат?..»
Они вытащат. Не торопятся просто. Мальчишка — дурень, раз свалился, и лентяй, раз проспал сегодня, холодная ванна ему не повредит, а пару минут на воде как-нибудь да продержится…
Они же не знают, что он не умеет плавать. Если бы знали, давно выгнали бы вон.
— Вытащите его! — кинувшись вперёд, что было сил закричал Адриан. — Вытащите! Он не умеет плавать!
— Ты сдурел, что ли? — удивлённо спросил кто-то рядом с ним, и тогда Адриан сбросил сапоги, вскинул руки над головой и прыгнул в воду.
По-зимнему холодная вода обожгла его кожу и горло. Он вынырнул, выдирая ноги из вязких водорослей, тут же любовно потянувших к нему лапы, и, с хриплым вдохом набрав воздуху в грудь, нырнул снова. Взбаламученная вода была мутной, соль ела глаза. Адриан почти ничего не видел и поплыл ощупью. Ему хотелось кричать, звать, но как кричать и звать под водой? Потом, позже, ему часто снилось это: он бежит куда-то и зовёт кого-то, но стоит ему открыть рот, как в лёгкие потоком вливается холодная солёная вода.
Под пальцами то и дело оказывались водоросли, Адриан хватал их, тянул и тут же отпускал. Ему казалось, прошла вечность, прежде чем он снова схватил и потянул, и тогда понял, что тащит не вросшее в галечное дно растение, а маленькое, невероятно лёгкое тело. Адриан стиснул пальцы так, что их расцепили бы только клещи, и ударил ногами, вырываясь на поверхность. Разорвав головой плёнку воды, жадно схватил ртом воздух — и по лицу его хлестнула верёвка, полоскавшаяся на ветру прямо над ним. Адриан вскинул свободную руку и уцепился за неё мёртвой хваткой. Другую руку ему оттягивало неподвижное, безвольное тело.
Их обоих вытащили наверх. Адриан перевернулся на живот и закашлялся, выхаркивая морскую воду и кусочки водорослей. С него лило в три ручья, он никак не мог отдышаться. Вокруг топотали, кричали и бранились. Повернув голову, сквозь прилипшие к глазам пряди Адриан посмотрел на мальчика, которого вырвал из рук Риограна. Тот лежал на спине. Лицо его было бледным и очень, очень спокойным.
— Нет! — выдохнул Адриан и кинулся к нему. Он помнил это лицо: такое же, точно такое было у деревенского мальчишки, с которым он плавал наперегонки в Эвентри… таким оно было, когда того мальчика вытащили их воды.
Адриан резко вытянул руки Доффи вдоль тела и, раздвинув пальцами его губы, со всех сил вдохнул в них воздух. И руки, и губы Доффи были холодные и скользкие, липкие, противные. Адриан оторвался от них, снова набрал воздуха и вдохнул снова. Его лёгкие, истерзанные солёной водой, казалось, вот-вот разорвутся. Ну дыши же ты! Ты не должен был захлебнуться! Только упасть, чтобы они увидели… Дыши!!!
— Эй, парень…
Дыши! Дыши! Дыши, Молог тебя раздери!
— Парень, хватит… хватит.
Сильные руки («Том?..») взяли его за плечи и заставили отстраниться. Адриан снова рванулся вперёд, но его держали крепко. Он только теперь понял, что находится на корабле. На «Светлоликой Гилас». Все бросили свои дела и сгрудились вокруг маленького, мокрого, бледного тела, лежащего на палубе. Человек, который держал Адриана, был тем самым, который вчера прогнал его от трапа. Как же его зовут… Доффи же вроде бы говорил…
— Успокойся. Ему уже не поможешь. Ты сделал, что мог.
Что мог. Я сделал, что мог… Я не это хотел сделать. Я только…
— Я этого не хотел, — прошептал Адриан Эвентри, не сводя глаз с бледного мальчишеского лица. Этот мальчик вчера смеялся с ним и курил, а потом Адриан дождался, пока он уснёт, и убил его. Убил, как всегда, не зная, что убивает.
— Дрянная примета для «Светлоликой», — мрачно заметил один из моряков.
— К Мологу приметы! — рявкнул, растолкав всех, капитан Дордак. — Кто нанимал этого щенка?!
— Вы, капитан, — ответил Курт. Курт, вот как его звали…
Дордак бросил на него угрюмый взгляд из-под кустистых бровей.
— Кто ж знал, что мальчишка не умеет плавать. Чего б тогда просился в море? Дурная его башка. Получил по заслугам. Проклятье… Ну вот, теперь нам нужна новая корабельная обезьяна. И немедля нужна — кто будет выгребать дерьмо из трюма? Рой! Бегом в порт, чтоб до полудня нашёл мне кого-нибудь.
— Капитан, помилуйте, как же я сейчас уйду, дел невпроворот…
«Я не хотел, — думал Адриан Эвентри. — Не хотел. Не хотел! Никто не должен был умереть!»
«Мало ли, чего ты хотел, — сказал ему на это Эд из города Эфрин. — Всегда кто-то умирает».
— Сударь… — откашлявшись, начал он. — Если позволите… если вам нужен чернорабочий…
Капитан Дордак смерил его взглядом, который он хорошо знал: смесь досады и расчёта. Он видел перед собой тощего, жилистого оборвыша, видел мускулы на его плечах и мозоли на ладонях, его поджарый живот, его почерневшие от долгой ходьбы пятки. Он видел мокрого мальчишку со странно потемневшими глазами, слизывающего с губ соль.
— Ты хотя бы плавать умеешь, — сказал капитан с отвращением. — За работу. Начни с того, что убери это с моего корабля, — он мотнул головой в сторону Доффи.
— Куда… куда убрать? — хрипло спросил Адриан.
— Какое мне дело? Хоть за борт.
— За борт грешно, капитан, — вмешался Курт. — Мы ведь ещё не вышли из порта, так и не в море его хоронить…
— Тогда сам с ним и возись, — рявкнул капитан, до предела раздосадованный и раздражённый случившимся. И не он один: люди на пристани волновались, выкрикивали что-то. Однако моряки со «Светлоликой» уже разошлись, возвращаясь к прерванным делам, снова застучали молотки, и рядом с Адрианом остался один Курт.
— Как тебя звать, парень?
«Я не хотел. Правда не хотел. Но… наверное, знал, что так и будет».
— Эдом… сударь.
— Ну, Эд, — сказал Курт, — давай отнесём Доффи в порт. Он был славный мальчуган.
Вместе они перенесли тело Доффи на твёрдую землю. Помощник начальника пристани, уже услышавший о несчастье и прибежавший на мол, пообещал позаботиться о том, чтобы мальчика проводили к богам по всем правилам.
— Я видал этого мальчишку, — сказал он. — Ох, видать, гневается Белоголовый… — он явно хотел добавить: на лорда Бьярда, назвавшего кусок дерева именем Светлоликой Гилас, но поймал взгляд Курта и прикусил язык.
«Это не Риогран, — хотел сказать Адриан. — И не Гилас. Я знаю, кто это. И она не гневается. Она просто пытается вас спасти. Хотя бы кого-то из вас».
Надо было возвращаться на корабль, и тут Адриан вспомнил, что, прежде чем прыгнуть в воду, снял сапоги. Он обернулся туда, где их оставил, но сапог уже, конечно, не было.
«Жаль, — подумал Эд Эфрин. — Хорошие были сапоги».
3
— Ужин сейчас будет, — сказала дебелая, не в меру наглая служанка, попробовав на зуб полученный золотой и окинув посетителя бесцеремонно оценивающим взглядом. — А ванну обождать придётся. Воды нету, надобно набрать, да и дрова кончились, пока на рынок сходить, да пока согреть…
— В рыбацком городе — и нет воды?
— Пресной нету, сударь мой. Как паскудники эти эвентрийские Силиндайл замутили, так в притоках заместо воды один песок потёк. За водой теперь надобно аж в Колдон ездить, а это в соседнем фьеве. Ну и колдонские нам воду возят, но стоит она ровно тарталэсское вино…
— Держи, — сказал Анастас Эвентри и бросил женщине ещё один золотой. Она поймала его с ловкостью опытной жонглёрши и привычно сунула в рот.
— Ну, раз так, то обождите, — сказала она голосом куда менее жалобным, чем когда сетовала на недостаток воды, и вышла за дверь, напоследок ещё раз окинув молодого лорда взглядом с ног до головы и призывно качнув бёдрами, спрятанными под необъятной юбкой.
Когда дверь закрылась, Анастас снял плащ, повесил его на спинку стула и подошёл к окну. Ему было немножко смешно. Люди лорда Бьярда — подстать своему хозяину, всегда знают, где и как урвать свой кусок. Впрочем, уж кому-кому, а Анастасу грех было упрекать их в прижимистости. Отчасти в их затруднениях был повинен он сам. Именно он был главным эвентрийским паскудником. Хотя идея соорудить плотину в верховье Силиндайла и таким образом отрезать разом три присягнувших Одвеллу фьева от главного источника пресной воды, принадлежала не ему, а лорду Флейну. Старый пройдоха, даром что был без ума от собственной идеи, высказал её со своими обычными оговорками, вздохами и сетованиями на собственную немощь, мешающую ему прибегнуть к более достойным и решительным методам борьбы со врагом. «Стар я стал, только и сил, что воду мутить», — жаловался старик, хитро поблескивая не по годам яркими глазами. Но воду он действительно мутил исправно. Анастас успел в полную силу ощутить это на себе.
Он распахнул ставни и привалился плечом к оконной раме, подставляя лицо морскому бризу. Окна гостиницы, в которой он остановился, выходили на море, и отсюда, с третьего этажа, была видна пристань, белевшая позади лабиринта рыбачьих домиков. Корабля лорда Бьярда видно не было, но Анастас знал, что он там. В городе только и разговоров было, что об этом корабле, который уже спустили на воду и вот-вот должны были отправить в море — в Хэдлод, а оттуда в Андразию. Прежде ни один корабль, построенный в Бертане, не был достаточно крепок и хорош, чтобы пройти бурное, капризное Косматое море. Ни один из прежних конунгов не озаботился тем, чтобы построить такие корабли, никому не приходило в голову бросить взгляд за море, на восток. Хватало собственных забот — здесь, на своей земле… той самой земле, которую «своей» норовил назвать каждый, кому удавалось согнать под своё знамя больше ста копий.
У Анастаса Эвентри, который стоял у раскрытого окна эфринской гостиницы, подставляя лицо порывистому морскому ветру, было десять тысяч копий. И все они сейчас смотрели в сторону фьева Одвелл.
Он вспомнил — он постоянно вспоминал что-то подобное — одну из последних битв. Крейтон, поле между двумя посёлками, которые они выжгли дотла. Замки лорда Крейтона были укреплены не самым надёжным образом, но людей у него было много, и он рискнул дать Анастасу бой в чистом поле. Он очень самоуверенно держался, этот лорд Крейтон. Прилюдно похвалялся, что заставит «мальчишку Эвентри», как все септы Одвеллов звали Анастаса, сунуть башку себе между ног и досуха вылизать свой собственный зад. Анастас, когда до него дошла эти похвальба, ничего не сказал. Во время битвы он нашёл на поле боя лорда Крейтона и сбросил его с коня, ударив по лицу своим щитом, раскрашенным в белый и красный цвета. Когда бой кончился, Анастас приказал связать пленённого лорда так, чтобы его голова оказалась между ног, и в таком виде на открытой телеге провёз по всему его фьеву. Многие ждали, что он сам станет сопровождать процессию, но Анастасу было не до того. В это самое время он обсуждал с одним талантливым плотником из Риндена, как в кратчайшие сроки построить на Силиндайле плотину.
Эвентрийский паскудник… Он понимал, почему его так называли. Мальчишкой его звали всё реже, паскудником — всё чаще. Однажды до него долетело слово «душегуб». Это после того, как он обезглавил Рейнальда Одвелла, умершего в подземельях замка Эвентри под пыткой, и выставил его голову на пике над воротами замка. К сожалению, она недолго там пробыла — всего через неделю Одвелл подошёл к Эвентри с огромной армией своих септ. Основные силы Анастаса в это время собирались к границам одвеллских земель, поэтому ему пришлось бежать. Снова бежать, и один Гвидре знал, как он себя за это ненавидел.
Всё сильнее и сильнее, с каждым днём.
Он ощутил резь в глазах и зажмурился, поняв, что уже несколько минут стоит, не моргая. Перед взглядом всё ещё была глупая, изумлённая физиономия лорда Крейтона, выглядывающая меж его собственных широко разведённых ляжек. Примкнувшие к Анастасу свободные бонды хохотали как безумные при виде этого зрелища, но Анастас и тогда, и теперь, вспоминая об этом, ощущал омерзение и тошноту. Он не хотел этого делать. Не хотел унижать, не хотел убивать. Но он должен был отвечать на каждое слово, сказанное против него, и каждый предпринятый против него шаг. Он делал это с упрямой, безжалостной последовательностью, и вскоре его враги поняли, что ни одна из их опрометчиво брошенных угроз не останется безнаказанной. И — что много важнее — это поняли также те весёлые лорды, что примкнули к нему и хохотали над бедным дураком Крейтоном. Если кто-то из них в начале войны и считал Анастаса глупым самонадеянным мальчишкой, то теперь они если и не изменили мнение, то предпочитали держать его при себе. На самом деле Анастаса не волновало, что они думают о нём. Главное — они за ним шли. Пока что.
Он никому никогда не признался бы, как ему страшно. В самом начале, затевая всё это, являясь незваным на тинг лорда Сафларе, он почти не верил в успех. Он был мальчишкой, каким они справедливо его считали, наивным щенком, который знал, чего хочет, но не имел ни малейшего представления о том, как этого добиться. С каждым слезливым, скулящим письмом, которое он отправлял септам своего отца, он чувствовал себя всё слабее, всё ничтожнее. Линлойс до последнего отговаривал его от безумной мысли явиться на тинг. «Вас просто убьют, ещё прежде, чем вы договорите», — твердил он. «Пусть, — отвечал Анастас. — Какого хрена мне терять?» И всё же он не решился бы на это, если бы не появление, а затем исчезновение человека по имени Томас Лурк, подарившего Анастасу надежду найти Адриана — и тут же отнявшего её. Том исчез после ночи, когда Анастас под влиянием этой надежды водрузил знамя Эвентри на холме перед замком. И отчаяние, которое Анастас испытал, обнаружив новый обман, толкнуло его на последнюю меру. Может быть, это же отчаяние придало ему убедительности, когда он стоял перед тингом, зная, что каждое его слово может стать последним. Позже он узнал от Виго Блейданса, что Том всё-таки сумел найти Адриана и вёл его к брату — и оба они присутствовали на том самом тинге. Однако после боя исчезли, и их тел не было среди павших. Думая об этом, Анастас невольно стиснул в кулак ладноь больной руки. Адо… ты был так близко… а я не заметил тебя — до того ли мне было в ту ночь, чтоб глядеть по сторонам! Анастас тогда был слишком сосредоточен на том, чтобы заставить бондов слушать себя. К немалому его удивлению, они оказались куда терпеливее, чем расписывал бывалый и опытный Линлойс. Тогда-то Анастас понял, что бывалые и опытные не всегда оказываются правы. Поняв это, он освободился — и остался совсем один.
Проклятый Лурк — и бедный старый Линлойс… Никто так толком и не смог объяснить Анастасу, кто и почему всадил арбалетный болт в грудь старика, когда он пробрался в Эвентри в надежде вытащить оттуда Адриана — а ведь, видят боги, Анастас как следует расспрашивал. Всех: от старой кухарки Розы, плакавшей у него на груди и целовавшей его в щёки, как родного сына, вернувшегося живым с войны, — до одвеллского ублюдка Рейнальда, который и под пыткой утверждал, что отпустил Адриана на свободу и дал ему сопровождение, чтобы он безопасно доехал до лагеря Анастаса. Он стоял на этом до самого конца, даже когда у него стали рваться сухожилия, и Анастас не мог понять цели этой лжи. Если Адриан убит, зачем скрывать это — ведь Одвелл не мог не знать, что эта страшная новость подкосила бы Анастаса? Если он жив, но перевезён из Эвентри в другое место — почему не воспользоваться им как заложником, что они, без сомнения, собирались сделать? В рассказанную Рейнальдом Одвеллом историю Анастас не поверил ни на миг. Окончательно в своём неверии он утвердился, когда Одвелл заявил, будто именно Адриан застрелил Линлойса. Это была самая гнусная, самая нелепая ложь из возможных. Анастас знал своего брата. Он никогда никого не убивал, не любил игры с мнимыми убийствами, не хотел учиться убивать. Он был робким, бестолковым, невинным ребёнком, который никогда не выстрелил бы в человека, рядом с которым рос всю жизнь.
В конечном итоге Рейнальд Одвелл умер именно за эту ложь. И его смерть была тем немногим, о чём Анастас не жалел. Тем немногим, воспоминание о чём не вызывало в нём приступа тошноты. Временами он переставал понимать, зачем унизил лорда Крейтона, зачем перекрыл реку, лишив воды тысячи невинных людей, зачем жжёт замки и деревни. Но он знал, что хочет найти и вернуть своего брата. А потом — другого брата, сестёр и мать. Вернуть всех, кто жив, кого ещё можно вернуть. Он никогда не хотел ничего другого. И когда на пути к этой цели, единственной истинной его цели, вставало что-то или кто-то — как Рейнальд Одвелл, — Анастас забывал самого себя. Но и после не жалел о том, что делал.
Вернулась служанка с подносом; двое плечистых слуг за нею волокли лохань с водой. Анастас отослал их всех. Девица — не та дебелая, которая принимала его заказы, помоложе и посмазливее первой, — мило румянясь, спросила, не помочь ли милорду раздеться. Анастас покачал головой и, сунув ей в ладонь медяк, закрыл за ней дверь. Потом сбросил опостылевшую, впитавшую пыль трёх фьевов одежду и залез в лохань. Воду нагрели на совесть, она обжигала так, что кожа у него начала краснеть. Он закрыл глаза и почти ощутил руки Илайны, натирающие его плечи жёсткой мочалкой, услышал её переливчатый смех, её игривый голосок, предлагающий потереть милорду спину или что-нибудь ещё. Он почти услышал плеск, с которым она падала к нему в бадью, увлечённая его руками, и её радостный визг. Всё это было так давно.
Он почти расслабился, почти улыбнулся, думая обо всём этом — и тут в мыслях снова всплыло удивлённое лицо лорда Крейтона, а за ним — голова Рейнальда Одвелла, насаженная на пику, чёрная от смолы, в которую её окунули для лучшей сохранности, — чтобы Дэйгон и Редьярд Одвеллы, подходя к стенам Эвентри, успели полюбоваться на то, чем ответил им эвентрийский мальчишка, род которого они уничтожили. Лицо Илайны, лицо лорда Крейтона, лицо того, что было когда-то Рейнальдом Одвеллом. Любовь, отвращение, ненависть. Всё слилось воедино, и ничто не приносило облегчения, пока ему сопутствовало остальное.
Илайна отговаривала его от поездки в Эфрин. После гибели Линлойса она фактически заняла его место, переняв роль непрошеной советчицы. Её тревога и неверие в его рассудок сердили Анастаса не меньше, чем тревога и неверие Линлойса, но ей это было простительно — ведь она была женщиной. Его женщиной, которая носила его дитя. Быть может, она родит ещё до того, как Анастас вернётся в Кордариол, где оставил её на попечение лорда Кордариола и его домочадцев. Леди Кордариол не могла похвастаться знатным родом: её отец был богатым купцом и сосватал дочку за нищего, погрязшего в долгах лорда, к вящему удовольствию обеих сторон. Анастас прожил в Кордариоле неделю и был поражён чувством любви и согласия, царившим в его стенах. Разбогатевший после женитьбы Кордариол дал Анастасу пятьсот мечей в обмен на обещание замка Крейтон, который примыкал к его владениям и который они только что взяли; получив желаемое, он окончательно подобрел и великодушно предложил любовнице своего конунга кров, дружбу и защиту. Он так и звал Анастаса — «мой конунг». Его многие так звали, и в последнее время всё реже вкладывали в это насмешку. Илайна тоже его так звала. Она выкрикивала эти слова, обвивая его ногами в миг наивысшего блаженства. Беременность нисколько не умалила её страсть: в постели она была всё так же ретива и ненасытна, как и год назад, когда он повадился бегать к ней в деревню из отцовского замка. Тайком, потому что Анастас очень быстро понял, что любит её и что отец никогда не допустит их брака. К ней он убежал и в ту ночь, когда переодетые пилигримами Индабираны открыли ворота Эвентри его врагам. В её объятиях он спал, когда убивали его отца и старшего брата. Иной на его месте был бы втайне благодарен за это Индабиранам, потому что теперь, когда отец и Ричард мертвы, Анастас стал лордом Эвентри, и никто не мог указывать ему, кого брать в жёны. Когда он убегал из Эвентри, как жалкий трус, Илайна вызвалась поехать с ним. Она была с ним почти всё это время, хотя он всегда старался оставлять её в безопасном месте, особенно когда стало ясно, что она ждёт его ребёнка. Его сына, может быть. Лэрда Эвентри, рождённого от дочери сельского корчмаря.
В иное время и свободные бонды, и враги, и собственные септы подняли бы его на смех. Теперь же лорд Кордариол, улыбаясь, хлопал его по плечу и спрашивал, когда он поведёт под венец будущую леди Эвентри, а его супруга-простолюдинка понимающе улыбалась и поглаживала краснеющую Илайну по руке. Тот же вопрос, и тоже с улыбкой, задавал Анастасу и лорд Флейн. Только улыбка эта была совсем другая, и именно из-за неё Анастас в обоих случаях отмалчивался. «Вы ведь так алчете возрождения вашего клана, лорд Анастас, — елейно усмехался старикашка Флейн, скаля гнилые зубы. — Не лучший ли это способ его возродить?» Год назад Анастас порадовался бы всеобщей поддержке. Теперь же он понимал: если он женится на Илайне и признает её дитя своим, оба они подвергнутся такой же опасности, как и все его родичи. То, что сейчас происходит между ним и Одвеллами, — это кровная война, и она лишь стала ещё непримиримее после того, как Анастас казнил Рейнальда. Он мог лишь радоваться, что Одвелл успел отдать его сестёр за своих септ и теперь не имел права убить их, не вызвав возмущения собственных людей. Мать и Бертран принадлежали богам, и тронуть их также не посмели бы. Да это и не имело смысла: то, что отдано богам, людям больше не принадлежит. Они не Эвентри. Всех Эвентри осталось — сам Анастас да Адриан, если он ещё жив. Он не сомневался, что если Одвеллы снова схватят его младшего брата, то на этот раз убьют. Из-за него, из-за Анастаса, не сдержавшего слепого гнева. Он был виноват в этом, и не смел теперь подвергнуть тому же риску женщину, которую любил, и дитя, которое она носила.
Потому Илайна оставалась всего лишь безродной шлюхой лорда Эвентри, конунга, который первым за последние полторы сотни лет сумел объединить свободные кланы и повести их против общего врага. Илайна всё понимала и не упрекала его, но всё равно в ночь перед тем, как он оставил её на попечение Кордариола и пустился в путь, обнимала его и шептала: «Не уезжай, я прошу тебя, не бросай меня здесь…» Он гладил её круглый, гладкий живот и осушал её слёзы поцелуями, а наутро уехал. Несмотря на то, как хотелось ему остаться. Как хотелось дать волю любви, не меньше, чем ненависти.
Но это невозможно сделать, имея десять тысяч копий. Приходится думать о том, чем кормить обладателей этих копий, как заменять сломанные мечи новыми. И о том, что будет, когда он убьёт последнего Одвелла. Анастас старательно гнал эту мысль, но у него были слишком хорошие советчики: лорд Флейн, пыхтя и жалуясь на немощь тела, служил ему своим разумом даже больше, чем триста флейновских мечей в рядах Анастаса.
— Ты затеял большую игру, мальчик, — сказал он как-то, пыхтя трубкой и кашляя после каждой затяжки. — У тебя большие противники. И они тем опаснее, что на игровую доску до сей поры выступил лишь один из них. А второй сидит в засаде и ждёт, пока один из вас разорвёт другого, и вот тогда-то он тебе покажет, что припасено у него в рукаве.
Анастас слушал, кусая губы. О Грегоре Фосигане, этом гнусном и малодушном предателе, он до поры запретил себе думать. Он бы с удовольствием забыл о нём вовсе — но знал, что Флейн прав. Анастас уже теперь слишком силён и станет ещё сильнее, когда покончит с Одвеллами. Он предпочёл бы, когда это случится, просто передать стяг предводителя тому, кто захочет его взять, но уже теперь видел, что это вряд ли окажется выполнимым. Хотя бы потому, что стяг этот имел бело-красные цвета. Рано или поздно Анастасу Эвентри придётся развернуться лицом на юг, и тогда бонды напомнят ему его собственные слова, брошенные в запале отчаяния и юношеского бесстрашия. Они скажут: «Ты обещал нам свободу — так дай нам её. Что за свобода, когда рябые псы из Сотелсхейма бродят вокруг наших границ, нюхая и метя нашу землю?» И он не сможет отказать. Не будет иметь права отказать. Ведь именно ради этого они за ним пошли.
— Поэтому, — продолжал Флейн, — думай не о завтрашнем дне, мальчик мой. Думай о послезавтрашнем. Старый Одвелл давно наложил в штаны и теперь ерепенится только по привычке. Все мы, лорды старой закалки, одинаковы — пусть бы тебя пришпилили копьём к стене, а дёргайся до конца, пока не испустишь дух. Таким был твой дед… Но когда старый пёс Одвелл испустит дух, старый пёс Фосиган вспомнит о тебе. Ты должен быть готов.
— Как готов? — спросил Анастас. — Что мне понадобится?
И лорд Флейн засмеялся дребезжащим старческим смехом, а потом щёлкнул его по лбу костлявым пальцем — так, что остался синяк.
— Деньги, болван. Деньги — вот что всегда нужно. Имея деньги, имеешь всё. И всех.
Он был прав. Анастас уже знал, что такое деньги: узнал после того, как деньги лорда Кордариола, Тартайла и Берджоя купили им лояльность Дардейла и Тибрина, стоявших за бело-лиловые цвета, а также нейтралитет Чейзеров, вставших было на сторону Одвелла. Конечно, оставались такие, как Блейдансы, сражавшиеся за честь, и как Индабираны, слишком глубоко погрязшие в преступлениях Одвеллов, чтобы отступиться от них теперь, но таких было меньшинство. Большую часть остальных можно было купить, как обычных наёмников, которых тоже немало шлялось сейчас по северу Бертана — волки всегда чуют, где пахнет кровью. Они присягали тем, кто предлагал больше; поэтому Анастас должен был предложить больше. Это было очень просто и лишь немногим более гнусно, чем голова лорда Крейтона, торчащая у того меж ляжек. «Если я делаю одно, — сказал себе Анастас, — то почему не сделать и другое?» Хотя его матушка вряд ли бы это одобрила. Она презирала богиню Аравин, заступницу купцов, торгашей и тех, кто покупал кровь за золото. Матушка поклонялась Гвидре, который предпочитал просить — и давать, если его попросят.
Анастас совмещал. Ныне он приехал в Эфрин торговать — своим словом и кровью своих людей. Его выворачивало от одной этой мысли. Если бы не Илайна и её рёбёнок, если бы не призрачная, с каждым днём тающая надежда найти Адриана… Анастас хотел, чтобы они жили в мире. Для этого он должен был построить для них мир, а любое строительство стоит денег. Он надеялся, что однажды увидит свою мать и сумеет ей это объяснить.
Он лежал в лохани, пока вода совсем не остыла, потом смыл с себя грязь, слезающую клочьями серой пены, вылез, отёрся и съел остывший ужин. За окнами смеркалось, море шумело так сильно, что шелест волн долетал даже сюда, через два квартала от берега. Колокола на главной площади пробили девять. До назначенной встречи оставалось три часа. Он неожиданно почувствовал ноющее томление в паху и невольно подумал о девушке, которая принесла ему ужин, но тут же отмахнулся от этой мысли. Интересно, дождётся ли Илайна его возвращения. Он хотел быть с ней рядом, когда она родит на свет его дитя.
Он оделся, оставив сапоги на полу, и прилёг на кровать. Анастас скакал шесть дней, почти не делая остановок, но усталости не чувствовал, однако знал, что это обманчивое ощущение, вызванное внутренним напряжением. Нет, он не боялся — во всяком случае, не того, чего ему посоветовал бы остерегаться Линлойс, будь он жив. Было, конечно, безумием ехать совсем одному во фьев одвеллского септы, на встречу, которую сам же этот септа и назначил. С большой вероятностью это могло оказаться ловушкой — однако Анастас так не думал. Уж слишком сильно, по слухам из надёжных источников лорда Флейна, был обижен лорд Бьярд на своего хозяина, не пожелавшего в столь смутное время финансировать его судостроительную авантюру. Лорда Одвелла можно было понять: теряя каждый день по деревне и каждую неделю — по замку, он имел нужды более насущные, чем отдалённая и неясная перспектива торговли с андразийскими варварами. Ничего странного — клан Одвелл доживал свои последние дни. Анастасу же приходилось думать о тех днях, что настанут после. Поэтому он, по совету лорда Флейна, дал Бьярду денег на его корабль, хотя и был вынужден из-за этого сократить свою армию на пятьсот копий. Любопытно даже взглянуть, что он там на них построил.
«Когда всё кончится, — думал Анастас, лёжа на скрипучей кровати в паршивой эфринской гостинице, — Бьярд, наверное, уже вернётся из своей Андразии. Если он удачно сплавает, я дам ему денег ещё на один корабль, для нас. Выкуплю у Фьорелла его остров, в обмен на Гвизли, которое он так сильно хочет… И отвезу туда их всех. Адриана, Бертрана, Илайну с нашим сыном, матушку, девочек… И там они всегда, всегда будут в безопасности. И я больше не брошу их. Не оставлю. Не сбегу… Матушка разгневается, конечно, захочет обратно в Эвентри, но я его снесу. После всего, что там было, после крови отца и Ричарда, которая там пролилась, после того, как Одвелл держал там Адриана, я просто снесу этот проклятый замок к Мологу, сровняю его с землёй. Клан — это не стены, это люди».
В мыслях всё звучало стройно и правильно, но Анастас не был уверен, что сумел бы столь же внятно объяснить кому-нибудь своё решение. Не то что своей леди-матери, а хотя бы Илайне… Впрочем, Адриан, возможно, понял бы его. Адриан всегда его понимал.
«Я тебя найду, малыш, ты только живи», — подумал Анастас Эвентри и моргнул. Глаза у него снова резануло, он поднял руку, чтобы протереть их, и она отдалась ноющей болью. Дала о себе знать старая рана — разнылась на сыром морском воздухе. Анастас пошевелили головой, удивлённо осматриваясь. Он сам не заметил, как задремал. Свеча на столе догорела и погасла. Неужели проспал?.. Он вскочил — и тут же услышал, как на ратуше бьют колокола.
Нет, не проспал. В самый раз.
Он снял со спинки стула плащ, накинул на плечи, натянул капюшон на глаза. Лестница с жилого этажа вела в коридор, смежный с гостевым залом; ведущая туда дверь была прикрыта, чтобы хмельное веселье одних гостей не тревожило покоя других.
Никто не видел, как он вышел из гостиницы.
На пристани было пусто — и было бы тихо, если бы не гудели волны, разбиваясь о доски мола. Ночь стояла безлунная, редкие звёзды едва освещали пришвартованные к берегу рыбацкие лодки. Анастас прошёл в дальний конец пристани, ступил на мол, доски жалобно заскрипели у него под ногой. Ветер рвал полы его плаща.
Он прошёл по настилу, слыша только скрип досок у себя под ногами и рёв волн. Человек, стоящий почти в самом конце пристани, у сброшенного на доски трапа, повернулся и смотрел, как он приближается. Подойдя к нему почти вплотную, Анастас увидел, что он тоже в плаще с капюшоном, но, в отличие от Анастаса, не прячет круглощёкого, радушно улыбающегося лица.
— Приветствую вас, мой лорд, — сказал Эли Бьярд, перекрывая гул прибоя. — Я рад, что вы всё же решились почтить меня визитом. Ну как она вам — хороша?
Анастас взглянул туда, куда широким жестом указал лорд Бьярд, — на судно, со скрипом покачивающееся на беспокойных волнах и кажущееся в темноте огромным демоном, восставшим из глубин владений Риограна. Что ж, хотелось бы верить, что впечатляющие размеры этой махины поспособствуют её прочности и стойкости во время бури, а не утянут её на дно.
Бьярд помедлил, как будто ожидая от Анастаса возгласов восхищения. Не дождавшись, сказал немного обиженно:
— Прошу вас, идите за мной.
Анастас ступил следом за своим проводником на шаткий трап. Косая доска, соединявшая берег с кораблём, раскачивалась и стонала, будто была живым существом, и каждый шаг идущих по ней людей причинял ей боль. Достигнув борта, лорд Бьярд перепрыгнул через планшир и повернулся к Анастасу с протянутой рукой, но тот, не прикоснувшись к ней, легко соскочил на палубу.
— Вы прежде ходили по морю, мой лорд? — снова заулыбался лорд Бьярд.
Анастас покачал головой. Он оглядывался, ожидая увидеть людей, но, похоже, на корабле они были одни.
— Здесь никого нет, мой лорд, — угадал его мысли Бьярд. — Только вы и я.
Что ж, разумно. Вне зависимости от исхода разговора, Анастас не собирался делать своё пребывание в Эфрине всеобщим достоянием. Для всех, кроме лорда Флейна, Хьюга Кордариола и Илайны, он отбыл в Шарлэйк на смотр войск, которые собирался предложить ему тамошний лорд. Шарлэйк граничит с Бьярдом, и даже если бы кто-то случайно увидел его в таверне или на северо-западном тракте, это можно было бы легко объяснить.
— Сюда, прошу вас, — сказал лорд Бьярд, откидывая крышку трюма, и в следующее мгновение исчез внизу. Внутри было темно. Анастас колебался недолго. Поздно осторожничать — придя сюда, он многим рискует, но если Бьярд собирается убить его, то в любом случае сделает это. Анастас нащупал носком сапога перекладину ступени и скользнул вниз. Приземлившись на твёрдое деревянное дно, коснулся рукой стены, чтобы удержать равновесие, и в тот же миг в окружающем мраке вспыхнул слабый огонёк.
— Будьте так любезны, прикройте крышку трюма. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь с берега заметил свет.
Это было резонно; Анастас выполнил просимое. Лорд Бьярд, пыхтя, стягивал перчатки. Он уже уселся за импровизированный стол, роль которого выполняла бочка. На бочке стояла свеча, трепетавшая на сквозняке. Больше не было ничего.
— Простите за скудность обстановки, мой лорд, — сказал Бьярд, пригласительным жестом указывая Анастасу на бочку напротив себя. — Это помещение не оборудовано для жилья. В каюте наверху гораздо удобнее, но там нам пришлось бы сидеть в темноте, потому что свет был бы виден на пристани. Занавеси ещё не успели повесить. Всегда, знаете ли, остаётся что-то, о чём вспоминаешь в последний миг.
Он говорил, хитро щурясь, но, конечно, в коварстве и лицемерии сильно уступал лорду Флейну. Анастас почти не знал лорда Бьярда, видел его всего однажды, когда он самолично приехал во Флейн предложить свою помощь — а вернее, как вскоре выяснилось, выклянчить инвестиции. Решай Анастас сам, он бы выгнал этого вёрткого человечка взашей, не дослушав. Но в тот миг рядом с ним был старый Флейн, и решения принимал он.
— Я мог бы предложить вам вина, — продолжал Бьярд, бросив перчатки на бочку и потирая сухие пальцы, вытянутые над пламенем свечи, — но слышал, что вы совсем не пьёте. Впрочем, наверху у меня есть бутылочка тарталэсского, так что если слухи лгут…
— Лорд Эли, — перебил его Анастас, заговорив впервые с той минуты, когда они встретились на моле, — я бросил множество важных и спешных дел и скакал восемь дней, чтобы увидеть ваш корабль и услышать, что вы мне скажете. Я всё ещё не понимаю, почему этот разговор требовал моего присутствия в Эфрине. Но как бы там ни было, будьте любезны приступать к делу. Я бы хотел утром выехать обратно.
— Могу понять, — стерев с лица елейную улыбочку, сказал лорд Бьярд. — Разумеется, вы правы, мой лорд. Не могу не оценить серьёзность, с которой вы, вопреки юности ваших лет, подходите к делам, кои богам было угодно взвалить на ваши плечи. Вы верно сказали, я не мог не настаивать, чтобы вы прибыли в Эфрин. И, да, я хотел, чтобы вы увидели «Светлоликую». Как она вам?
— Понятия не имею, — сухо ответил Анастас. — Время суток и погода не располагали к внимательному осмотру.
— О… Но разве… Простите, я думал, что вы уже видели её — быть может, днём…
— Я прибыл вчера в восемь вечера и едва успел вымыться с дороги. Простите мою бесчувственность и неспособность по достоинству оценить ваши достижения. Я вижу по крайней мере, что вы действительно построили этот корабль, как и обещали. Здесь вроде бы сухо, видимо, течи нет. Это всё, что я могу сказать, простите. Смею верить, есть ещё какая-то причина, требовавшая моего присутствия?
— О да, — сморщился Бьярд. — Говоря по правде, я жаждал переговорить с вами с глазу на глаз там, где не будет этого вашего лорда Флейна. Он старый циник, а к тому же вы знаете, как подозрительны бывают пожилые люди. Он мог неправильно меня понять и…
— К вашему сведению, именно он убедил меня финансировать ваше предприятие. Вижу, для вас это новость? В любом случае, я готов услышать то, что, по-вашему, не предназначается для его ушей. Ну, говорите.
Он был резок и знал это; он устал, он скучал по Илайне, он тревожился сам не зная отчего, и у него почти не было сил это скрывать. Его радовал тот факт, что они говорили в трюме, а не в убранной коврами позолоченной каюте наверху. Здесь обстановка не обязывала к официозу, и можно было говорить прямо.
Бьярд наконец понял, что собеседник ждёт от него не велеречивой лести, а разговора по делу, и, к вящему удовольствию Анастаса, прямо к делу и перешёл.
— Невозможно переоценить перспективы торговли с Андразией, мой лорд. Прежде восточные варвары торговали только с Фарией и Даланаем, ибо, как вы знаете, брать желаемое огнём и топором для них привычнее, чем золотом. При этом они теряют зачастую больше, чем получают — время великих воинов и великих походов прошло для Андразии, нынче им научились давать отпор, и дети их голодают… Они на многое согласятся, если найти к ним подход. Тот, кто сумеет проложить к ним торговый путь, кто завоюет их доверие, заработает на этом вдесятеро больше, чем мог мечтать…
— Что вам от меня нужно, Бьярд? — устало спросил Анастас.
— О, вы уже и так немало мне дали, милорд. Вложение, которое вы сделали вот сюда, — Бьярд притопнул ногой по днищу корабля, — окупится вам сторицей уже осенью, когда я вернусь из плавания. Но, как это ни прискорбно, пока что моё начинание почти ни у кого не нашло отклика. Ваша не по годам глубокая мудрость позволила вам…
— Не моя, — снова перебил Анастас. — Лорда Флейна.
— Да, но ведь от имени Эвентри я заложил это судно. И имя Эвентри станет мне стягом и пропуском в земли лорда Хэдлода, когда я встану на якорь в его порту перед переходом в Андразию. Судно, которое построил Флейн… или Одвелл… или даже Бьярд, он мог бы просто не пропустить. А мы, увы, вряд ли способны были бы проделать весь путь без единого захода в порт.
— Дальше, — сказал Анастас, начиная понимать.
Лорд Бьярд картинно взмахнул руками.
— А дальше, мой лорд, — целый мир! Я подумываю, наладив связи в Андразии, через неё пойти к Даланаю — но на обратном пути мне понадобится остановиться в Кейне. Только там есть порт, способный вместить и обслужить мою «Светлоликую», а ей нужна будет помощь — вы ведь, без сомнения, слышали о бурях Косматого моря…
— Кейн принадлежит Одвеллу.
— О да. Сейчас да. Но, быть может, всё изменится к осени.
Анастас слегка нахмурился и откинулся назад, упершись кулаком в край бочки.
— Вы — септа Одвелла, лорд Эли. Вы должны были бы к нему обращаться с этой просьбой, а не ко мне.
— К лорду Дэйгону? О да, — с горечью отозвался Бьярд. — Лорду Дэйгону сейчас, без сомнения, только и выслушивать мои предложения. Он не пустил меня даже на порог! Могу ли я дать ему копья — вот всё, что его интересовало. А какие у меня копья, когда я всё, всё до последнего гроша извёл на этот корабль — и то бы мне не хватило, если бы не ваша своевременная помощь… Вы молоды, мой лорд, у вас гибкий, живой ум, вы способны глядеть в будущее и оценивать перспективы великих начинаний. А лорд Дэйгон… лорд Дэйгон стар, — снисходительно улыбнулся лорд Бьярд, который был моложе своего хозяина самое большее лет на десять. — Старики не видят дальше своего носа.
Он словно забыл, что Анастас только что сказал ему о Даррене Флейне. Или ему было удобно делать вид, будто забыл.
— К тому же, — продолжал Бьярд, сцепляя пальцы, — у меня есть глаза и уши, я вижу и слышу, что происходит сейчас в Бертане. Даже если бы лорд Дэйгон изволил выслушать меня и обещать поддержку, к осени его обещания обратятся в прах… вместе с его кланом.
— Польщён вашей верой в меня.
— Я верю в разум, мой друг, — если мне позволено будет вас так звать. В разумный мир, приносящий больше пользы, чем безумная война. Я верю…
— В золото, — криво улыбнулся Анастас.
— Да, — невозмутимо кивнул Бьярд. — В золото, по крайней мере больше, чем в меч. Если вам интересно знать моё мнение, то будущее мира — за золотом, а не за мечом. О, знаю, вы посмеётесь надо мной — вы, молодой, сильный воин, победитель, любимец Дирха! Но я теперь говорю вам: пройдут века, и золотом, а не мечом, будут начинаться и выигрываться битвы, подобных которым наш мир ещё не знал.
«Тебе меня в этом не нужно убеждать, — подумал Анастас. — Ведь сейчас я покупаю тебя, твой меч, твою честь, отданную клану Одвелл. А ты покупаешь меня. И твоим золотом, а не мечом, я срублю голову Одвелла и верну свою семью — видят боги, я понимаю, о чём ты говоришь, быть может, лучше, чем ты сам».
— Стало быть, — сказал он вслух, — вы хотите, чтобы я обеспечил вам лояльность лордов побережья. А там, как знать, — быть может, кто-то из них согласится выслушать вас и расширить ваши вложения. Я правильно вас понимаю, милорд?
— Мои слова о вашей мудрости были больше чем лестью, лорд Анастас.
— Так не обесценивайте их, снова повторяя как лесть. Хорошо, я посмотрю, что смогу сделать. Что-то ещё?
— О да, — тонко улыбнулся Бьярд. — Но на сей раз я не буду просить, мой лорд. Я предложу. Мы здесь одни, я могу быть откровенен. Я делец. Бог моего клана — Риогран, но сам я чту Аравин, она мне больше по нутру. И она дала мне достаточно разума, дабы понять, что одними обещаниями неясной выгоды трудно долгое время удержать веру в дело у человека, подобного вам, тем более в нынешние времена. Поэтому я покажу вам кое-что прямо сейчас.
— Что же это? — невольно заинтригованный, спросил Анастас.
На сей раз Бьярд не ответил. Он отбросил полу плаща, и Анастас только теперь увидел на нём нательную суму, вроде той, какую носят ростовщики и менялы. Бьярд надел её как перевязь, крепкая кожаная лямка обхватывала грудь плотно и надёжно, без риска соскользнуть. Лорды носят так мечи, а не золото. «Эти торгаши, — как наяву услышал Анастас визгливый голос своей леди-матери. — Эти торгаши!..»
Эли Бьярд расстегнул суму и осторожно, словно невесть какую драгоценность, вынул из неё маленький чёрный пузырёк.
— Что это? — снова спросил Анастас.
— Снадобье от подагры, которое делают андразийцы. Взгляните.
Ничего не понимая, Анастас смотрел, как лорд-торговец бережно, одними кончиками пальцев отвинчивает хрустальный колпачок и поворачивает флакон отверстием к Анастасу. В пламени свечи мутно блеснула смолянисто-чёрная матовая поверхность мази, которой он был заполнен.
— Его делают из особых смол, которые добывают в пещерах Андразийского хребта. Намазанное тонким слоем, оно довольно быстро вылечивает почти любую разновидность подагрической хвори. Правда, после использования этой смеси, случается, на коже остаются неприятные следы, похожие на ожоги, но после они проходят…
— Лорд Эли, — сказал Анастас, — вы вытащили меня в вашу глушь в самый разгар кампании для того, чтобы предложить средство от подагры?
— Лорд Флейн оценил бы ценность этого товара, — лукаво ответил Бьярд. — Как я уже сказал, андразийские лекари используют эту смесь как средство от подагры. Мне продал её один фариец, учёный, исследовавший это зелье у себя на родине. У него была любопытная мысль, которую он пока что не успел проверить. Когда я беседовал с ним, при нас находилась моя сестра, леди Сесилия… теперь местра Сесилия — она настоятельница обители гвидреанок в Скортиаре… быть может, вы слышали об этой обители.
Многозначительный тон, с которым Бьярд подчеркнул последние слова, был излишним. Конечно, Анастас слышал об обители гвидреанок, где, бывало, излечивали самые тяжёлые и страшные болезни. Разве что чёрную оспу ещё не научились лечить. Говаривали, что это неспроста: дескать, сёстры-монахини практиковали запрещённое учение фарийских лекарей, но то были только слухи.
— Сестра моя, — продолжал Бьярд, — заинтересовалась мазью и взяла её, дабы изучить её действие на больных подагрой. Через несколько недель она вернула мне этот пузырёк с гонцом и письмом, где описывала те самые свойства этого зелья, о которых подозревал фариец. Стремясь усилить целебные качества андразийской грязи, Сесилия смешала её со спиртом и некоторыми другими ингредиентами. Получившаяся смесь перед вами. Я хотел, чтобы вы увидели её действие, но не рискнул вывозить её за пределы своего фьева. Не могли бы вы отойти к той стене? И стойте там, пока я вас не позову.
Анастас, заинтригованный ещё больше прежнего, подчинился. Когда он оказался у крутого, закруглявшегося книзу борта трюма, лорд Бьярд встал, снял свечу с металлической плошки, на которой она стояла, и очень осторожно капнул в центр этой плошки одну-единственную тягучую каплю чёрного зелья андразийцев.
— Сейчас лучше не двигайтесь, мой лорд, — предупредил Бьярд и поднёс пламя свечи к блестевшей посреди металла капле.
Стрела пламени фута в три высотой взметнулась от плошки ввысь и лизнула потолочную балку трюма. Анастас вскрикнул от неожиданности и изумления, но лорд Бьярд уже лил на плошку воду из заранее заготовленных вёдер, стоявших у стены трюма. От первого потока воды пламя гневно зашипело, метнулось в сторону, но потом вновь рванулось ввысь; лишь третье ведро воды смогло погасить струю огня, которую изрыгнула одна крохотная чёрная капля.
— Молог задери! — воскликнул Анастас, бросаясь вперёд. — Что это такое было?!
— Я решил назвать это вещество «андразийским вепрем», — ответил лорд Бьярд. — Удачное название, не находите? Неусмиримое, бешеное, как вепрь, и довольно одного жаркого взгляда, чтобы оно разбушевалось. Осторожнее, сударь! Если уронить этот флакончик, весь корабль в мгновение ока превратится в факел, а с ним и мы с вами.
Туша огонь, он отбросил свечу, и сейчас они говорили в темноте. Закончив, лорд Бьярд нашёл огарок и снова запалил его. Анастас в потрясении посмотрел на мокрую плошку, почерневшую и обуглившуюся, оплавившуюся по краям. И всё это за несколько мгновений сотворила одна капля! А у андразийцев этого дьявольского вещества в буквальном смысле — что грязи… И они даже не знают, в чём его сила. Знает об этом только лорд Бьярд и его еретичка-сестра.
«О, боги, — подумал Анастас, чувствуя, что холодеет. — Благодарение вам, что Дэйгон Одвелл не пожелал слушать этого человека. Иначе у него было бы это оружие, а не у меня. И то, сколько у каждого из нас копий, стало бы значить гораздо меньше».
— А говорили, что не верите в меч, — с трудом заставив себя улыбнуться, сказал Анастас.
— В меч — да, не верю. Я верю, как вы сами сказали, в золото. И в огонь. Ваши цвета — белый и красный, мой лорд. Золото бывает и белым, и червленым, и весь белый свет вы получите, имея это пламя.
— Да вы поэт, Бьярд.
— О да. Рад, что вы заметили это, хотя и не оценили красоту моей «Светлоликой», — вновь тонко улыбнулся тот.
— За какой срок вы сможете достать больше этого средства?
— У меня есть около галлона мази, которую моя сестра сможет превратить в «андразийского вепря» меньше чем за месяц. А к осени, надеюсь, я вернусь с полными трюмами сырья.
— Этим можно сжечь весь мир, — вырвалось у Анастаса.
— Можно. Но ведь вы, мой лорд, не этого хотите?
Да, Анастас хотел не этого. И лорд Бьярд знал это, когда обращался к нему. Он сам побаивается того, что открыл, и, вероятно, долго думал, прежде чем выбрал человека, которому мог бы доверить свою смертоносную тайну.
— Кто ещё знает об этом… «вепре»?
— Никто, мой лорд. Вы и я. Сесилия думает, что у меня был только один флакон. Это не тот секрет, который стоит доверять кому ни попадя, верно?
«Я дам ему всё, что он захочет», — подумал Анастас. От одной мысли о том, как запылает замок Эвентри, облитый этой смесью, у него захватило дух. Он ощутил восторг, ненависть и восторг, и то самое свирепое, безудержное отчаяние, которое всегда толкало его на самые безумные поступки. «Я должен быть осторожен», — сказал он себе.
— Отлично. Храните вашу тайну дальше. Никто не должен знать об этом.
— Никто не узнает, мой лорд.
Они обсудили сроки и средства связи, которые понадобятся им, когда Бьярд оповестит свою сестру о том, что для неё появилась работа, и когда работа эта будет сделана. Оплавившаяся чёрная плошка лежала между ними на бочке. Свечной огарок лорд Бьярд ради безопасности поставил на пол, подальше от того места, где упала и сгорела чёрная капля.
— Я счастлив встретить в вашем лице столько всеобъемлющее и глубокое понимание, мой лорд, — довольно сказал Бьярд, сцепляя руки на животе, когда Анастас пообещал ему, помимо дипломатической поддержки, средства к постройке нового корабля, который Бьярд собирался заложить на будущую зиму. — Говоря по правде, клан Эвентри никогда не вызывал во мне иных чувств, кроме самого тёплого и искреннего уважения. Я имел честь когда-то участвовать в тинге, где присутствовал ваш великий дед, лорд Уильям… Тогда и Эвентри и Бьярды назывались свободными бондами — что за славные были времена! Увы, решением вашего отца, лорда Ричарда, и моего покойного родителя мы оказались септами враждующих кланов…
— Эвентри более не являются ничьими септами.
— О да, я знаю это. Бьярды, видимо, тоже, — обаятельно улыбнулся лорд Бьярд. — Вы разумно поступили, исправив ошибку вашего отца. Фосиган не достоин такого септы, как Эвентри. Верю, что в вашем лице, лорд Анастас, и в лице ваших братьев клан вернёт величие, какое знал при лорде Уильяме. Я, к слову, видел недавно вашего брата Адриана — на редкость славный мальчишка…
— Адриана?! — в изумлении воскликнул Анастас, вскакивая. Даже зрелище одной капли грязи, едва не спалившей весь трюм, не повергло его в такое потрясение, как это мимолётное упоминание имени его брата. — Вы видели Адриана? Когда, где?
— Прошлой осенью, в Эвентри, когда Топпер Индабиран взял его в плен. Очень славный мальчик, так храбро держался, а потом расспрашивал меня про мой корабль… Разве вы не знали, что он был там?
— Знал… просто… я не говорил ни с кем, кто видел его там. Только с Рейнальдом Одвеллом. — Голос Анастаса не изменился и не дрогнул, когда он произносил это имя. Отсечённая голова Одвелла, рожа Крейтона, лицо Илайны. Круглое лицо Бьярда. Мутное, словно в дымке, лицо Адриана. Анастас понял, что начинает забывать черты своего брата.
— Вы говорили с ним? Он ничего вам не сказал?
— Нет, ничего особенного. Он… — лорд Бьярд вдруг умолк и раздул ноздри, втягивая воздух. Потом беспокойно оглянулся. — Где-то горит?
— Что? — Анастасу хотелось расспросить про Адриана, и вопрос прозвучал резко, почти грубо.
— Запах гари. Чувствуете? — Бьярд встревоженно заозирался, топнул ногой, затаптывая невидимое пламя. Он даже задул свечу, чтобы любая искра, тлеющая на досках, не осталась незамеченной. «Хотя, — подумал Анастас, — будь здесь хоть одна искра — мы бы уже взлетели на воздух…»
И тем не менее он внезапно понял, что тоже чувствует запах гари.
— Это не здесь, — сказал он. — Это сверху… чувствуете?
— О боже, только не это! — всполошился Бьярд и кинулся к выходу из трюма. Анастас отпрянул, не желая задеть его бок, где в ростовщической суме скрылось дикое пламя, готовое взорваться от любого толчка. В трюм с палубы понемногу заползал вязкий сизый дым. Бьярд толкнул люк. Крышка не поддалась, он выругался и ударил снова, со всей силы.
— Попробуйте вы. Заело, — оглянулся он на Анастаса. Его глаза были широко распахнуты. Анастас понимал, почему. В море потушить небольшой пожар несложно, но если хоть одна искра отскочит от пламени к чёрному флакону…
— Отойдите!
Он одним прыжком оказался возле люка и изо всех сил ударил плечом в доски снизу вверх. Крышка грохотнула и подалась едва ли на четверть дюйма, глухо ударившись о что-то снаружи. «Не может быть», — подумал Анастас Эвентри и ударил снова, не обращая внимания на боль, впившуюся в плечо так и не зажившей до конца руки. «Не может быть. Старый Линлойс, предупреждавший меня из могилы в моих снах, всё-таки был прав. Он всё-таки…
Но нет, Бьярд ведь здесь, со мной. Это не Бьярд задвинул чем-то тяжёлым люк снаружи…»
— Ну скорее же, мы должны выйти отсюда! — крикнул лорд Бьярд и закашлялся. Дым полз и полз в трюм «Светлоликой Гилас» сквозь щели, слишком маленькие, чтобы сквозь них мог проскользнуть человек, но достаточные, чтобы впустить смерть.
«Илайна», — подумал Анастас. И именно эта мысль, пришедшая в этот миг, и страх, и отчаяние, и вина, которые были в ней, сказали ему то, чего он ещё не мог знать, не мог и не хотел. Но всё же, несмотря на это знание, он снова ударил плечом в наглухо запертую крышку трюма — снова, и снова, и снова.
Когда Эли Бьярд закричал, Анастас Эвентри всё ещё пытался выбить люк.
4
— Чего повезём-то? — спросил одноглазый Вульф, набивая трубку табаком.
— Бес знает. Вроде зерно, — ответил ему Ларк, и рябой Орто презрительно фыркнул:
— Чё он там наторговать-то собирается, зерном-то? Чего у них, своего зерна нет?
— Да, видать, нет, раз они за ним через море ходят, — сказал Длинный Рой, самый старый из матросов, нанятых капитаном Дордаком на «Светлоликую Гилас». — Ты, Орто, малец ещё, чай мамкину титьку сосал, когда андразийцы в последний раз приходили. Что, думаешь, они лордов грабили, ларцы из погребов у них выгребали? Да где там. Мы им нужны были, вот что — наш скот и наше зерно.
— Это потому, что замок штурмовать — не то же, что прибрежное село, — возразил Орто; он был городским жителем, о набегах варваров из-за Косматого моря знал лишь понаслышке и потому позволял себе быть самоуверенно легкомысленным в подобных разговорах. — В замке-то лучники, конники! На замок идти у них кишка тонка.
— Вот когда бы видел, как два десятка андразийцев под корень вырезают лордовскую сотню — тогда б поговорил, у кого тут кишка тонка и кто с испугу перепердел, — сказал Длинный Рой сурово. — Эд, табаку не осталось?
— Есть немного, — отозвался Адриан.
— Отсыпь, за мной не пропадёт.
Он всегда так говорил, и всегда за ним пропадало, но Адриан перегнулся с планшира, на котором сидел, закинув ногу на ногу, и бросил боцману узелок — всё равно там мало осталось, на одну трубку. Отказывать Длинному Рою — всё равно что перечить капитану: себе дороже. К тому же Адриан быстро понял, что ром и табак в неизменной цене у моряков с корабля лорда Бьярда. Потому при себе у него всегда были и ром, и табак.
— Вот смышлёный малец — поучился бы ты у него, рябая рожа, — заметил Рой, поймав узелок четырёхпалой рукой. Орто гневно вспыхнул, отчего рытвины на его лице стали ещё заметнее: подобное сравнение с мальчишкой-чернорабочим, занимавшим в корабельной иерархии самую нижнюю ступеньку, сильно его задело. — Кто таков, откель взялся — никто не знает, может, побольше твоего в жизни повидал, а знай сидит да помалкивает. И табак всегда при нём. А рому нет, Эдо?
— На три глотка осталось, — предупредил Адриан, и Длинный Рой назидательно поднял палец.
— Я что говорил? Далеко пойдёт пацан.
Адриан отсалютовал фляжкой и бросил её боцману. Он улыбался, хотя не то чтобы был очень доволен: возможно, ром и табак, только что отданные боцману, пригодились бы ему сегодня чуть позже. Но выбирать не приходилось. Он хотел не привлекать внимания этих людей и не слишком их раздражать, а по возможности нравиться. Это оказалось легче, чем он думал. Нет худа без добра: уверившись, что больше с мальчишки взять нечего, моряки отстали от него и продолжили болтать, коротая получасовой послеполуденный перерыв и нежась в скупых лучах весеннего солнца, едва ощутимых из-за резкого ветра, дувшего с моря. Кто-то поёжился и сказал, что ласки Ясноокой Уриенн столь же жарки, как поцелуи девственницы, и моряки одобрили замечание хохотом. Адриан тоже улыбнулся, растянувшись на планшире и щурясь на солнце.
Он уже неделю провёл рядом с этими людьми, вкалывая от зари до зари бок о бок с ними, и успел полюбить их. Это было совсем не то, что подрабатывать в тавернах и на одиноких хуторах — там он был чужаком, какого терпели по нужде и из милости. А здесь он за короткий срок и без особых усилий успел стать своим — что немудрено, ведь эти люди думали, что им предстоит провести вместе много месяцев пути. Конечно, они гоняли его в хвост и в гриву: опытным путём Адриан понял, что работа «корабельной обезьяны», доставшаяся ему в наследство от Доффи, не имела ничего общего с работой юнги на судах, ходивших вдоль бертанского побережья, как Адриан опрометчиво решил. В юнги брали мальчиков из хороших семей, чтобы они научились морскому ремеслу на примере бывалых мореходов и после сами стали боцманами или даже капитанами. Юнги не чистили нужники, не скоблили котлы, огребая колотушки от вечно недовольного кока, не носились с поручениями с нижней палубы на верхнюю мачту, получая неизбежные подзатыльники за недостаточную расторопность. Всё это оставалось на долю «корабельной обезьяны» — то есть Адриана. Юнгой на «Светлоликой Гилас» был рябой Орто, сынок главы эфринского цеха маслобоев, и он явно наглел больше, чем дозволяло его положение. Поэтому команда его не любила. А Адриана любила. Он это чувствовал, так же, как Орто, и ощущение это неизменно сопровождалось чувством вины. Ведь знай они, кто он на самом деле и зачем здесь, они бы жаловали его куда меньше, чем богатейского сынка.
— Как же с ними можно торговать, если они на нас войной? — не унимался юнга. — Как же так можно — с врагами дело вести?
— Вот лорда Бьярда нашего о том и спроси, как доведётся, — буркнул Длинный Рой, отвинчивая крышку Адриановой фляжки. — Коль он присягал Одвеллу, а звонкую монету принял от Эвентри, которые Одвеллу враги, а значит и ему враги, — что ж ему и с варварами не поторговать?
— Да ты никак его одобряешь, — прищурился Ларк.
Боцман присосался к фляжке, потом вздохнул, и лишь затем удостоил матроса ответом:
— Да не то чтоб мне не плевать было, кто из лордов с кем на сей раз поцапался… Я вот что знаю: город наш в осаде или нет?
— Н-нет, — не очень уверенно ответил Ларк, чуя подвох.
— Пудать на войну с тебя, охламона, содрали?
— Да какая подать, шут с тобой, — я последние штаны продал, чтоб на этот корабль попасть!
— А в ополчение тебя погнали, раз подать не уплатил? За лорда, которого ты в глаза не видал, помирать — погнали тебя или нет?
— Ну… нет.
— То-то и оно. Ты там, где сам хотел быть, и коли воля Гилас на то будет, то ранее чем завтра никак не помрёшь. И это потому только, что нашему лорду Бьярду монета Эвентри по сердцу больше, чем мечи да знамёна Одвеллов. Ну, и кто тебе больше по сердцу?
— Но андразийцы… — запротестовал Вульф.
— Угу. Резали нас. И мы их немного, когда могли. Двенадцати вёсен ещё не прошло, как я вот этой рукой, — четыре пальца сжались в кулак, — глотку вражью рвал — вот этой вот, голой, как есть, чтоб мне на месте провалиться! Да только, — кулак разжался, — тогда у меня ничего не было, а теперь жена и две дочки, красавицы. И чует мой зад: коли андразийцы не получат то, чего им надо, опять придут и заберут силой. Так что лучше мы первые придём.
— И добровольно всё сами отдадим? — возмутился Орто.
— За звонкую монету — то да, почто б и не отдать, — согласился Рой и влепил Орто подзатыльник, чтобы лучше запомнилось. Потом раскурил трубку, набитую табаком Адриана, и мечтательно добавил: — А как вернёмся, я в море ходить больше не стану. Куплю домишко за городом и поле. Я уже присмотрел. Надоело всё: и море, и война надоела… На земле работать хочу, и чтоб моя, и чтоб никто на неё ни ногой, ни один поганый лордишка…
Моряки покивали, похмыкали. Это желание было понятно многим из них — если не всем. Адриан предпочёл бы не быть здесь, не слышать ни их рассуждений, ни их мечтаний. Они возмущали его, потому что даже лишившись всего, включая собственное имя, он оставался сыном и братом лорда — но также и смущали, и вгоняли в тоску, и вызывали чувство вины, ведь он знал, что этим мечтаниям сбыться не суждено. Из-за него… но нет, не только из-за него. «Вы дураки! — хотелось крикнуть ему. — Лорд Бьярд предал своего господина, потому что ему это выгодно, так же, как Фосиган предал мой клан, потому что не захотел снова связываться с Одвеллом. И любой лорд, под которым вы окажетесь, точно так же предаст вас самих, оберёт до нитки, сожжёт ваши поля, заберёт на войну ваших детей. Всем на вас наплевать! Всем, кроме меня. Я, только я один хочу вам помочь… помочь хотя бы вам, раз я больше ничего не могу». Но они бы подняли его на смех, если бы он раскрыл рот, поэтому Адриан сидел на планшире, том самом, с которого соскользнул Доффи неделю назад, и смотрел на солнце.
«Я хочу вам помочь. Я всё сломаю, всё у вас заберу, но это только потому, что я хочу вам помочь потом… спасти вас всех. Я обещал, что сделаю это».
Когда он твердил это про себя, снова и снова, становилось легче.
Солнце ползло от зенита к горизонту, оно уже почти касалось башни Коготь, высившейся прямо над их головами. Пробили склянки, Длинный Рой крякнул и встал, веля всем возвращаться к работе. Корабль заканчивали приводить в порядок перед отплытием, он был выскоблен, вычищен от верхушки мачты до последней досточки, но какая-то работа всё время находилась снова и снова. На сей раз Адриана позвал Ларк — надо было перетащить какой-то ящик из-под палубы на корму. Год назад Адриан надорвался бы от одной попытки, но сейчас он только крякнул с Ларком в унисон, согнув колени и оторвав замшелое днище ящика от влажных досок. Когда они закончили, Ларк похвалил его: дескать, никогда бы не подумал, что Адриан такой крепкий парень — а с виду вовсе не скажешь.
— У тебя лицо такое, — сказал он, — будто у лордёныша какого. Тебе бы к скоморохам на ярмарку, на действо, благородных изображать. Там бы больше платили.
Адриан только пожал плечами. Хотя что верно, то верно: уж что-то, а изображать кого-то другого он научился. И ему даже не приходилось для этого слишком сильно притворяться…
Он едва отдышался, когда его позвал Вульф, а потом Длинный Рой потребовал ещё табаку. Узнав, что больше и вправду нет, рассердился и велел смотаться на берег и купить, и даже сам дал денег, чем несказанно удивил Адриана. Сбегая по трапу, он слышал, как напевает Орто, подтягивающий концы на мачте. У всех сегодня было славное, благодушное настроение, даже ор капитана слышался реже обычного: основная работа была окончена, через два дня ждали лорда Бьярда с осмотром, а там недалеко и до выхода к большой воде…
Единственное, о чём жалел Адриан, — это о том, что сейчас им было хорошо. И что ему, как он ни старался гнать от себя это чувство, тоже было хорошо с ними.
«А может, — мелькнуло у него, когда он бежал назад на корабль с плотным тряпичным узелком табака, болтавшимся на поясе с медной пряжкой, — может, не надо ничего делать?.. Пойти с ними в море, в Андразию. Или, может, ещё дальше. А там…»
А там чёрная оспа, и обещания, которые он давал, и, самое главное — люди, которых он любил и предал ради этого обещания. И поэтому не мог о них думать. Их больше не было для него. Только так он мог спасти их — их и всех остальных.
«По крайней мере я знаю, что всё делаю правильно», — подумал Адриан Эвентри, Тот, Кто в Ответе за всё, и сказал:
— Вот ваш табак, господин боцман.
— Молодец, пацан. Далеко пойдёшь, — ответил Длинный Рой и взъерошил ему волосы четырёхпалой рукой.
Лечь, лечь лицом к стене, свернуться калачиком и крепко зажмуриться, и вот так лежать, пока не придёт кто-нибудь, всё равно кто…
Когда солнце стало садиться и до конца рабочего дня осталась одна склянка, Адриан спросил Длинного Роя, нужен ли он ещё сегодня или уже может идти. Спрашивая, он старался покраснеть, и ему это, видимо, удалось, потому что боцман расхохотался и сказал, что ждущая его кобылка, видать, совсем горяча, раз ему неймётся потерпеть лишние полчасика.
— Я со вчера терпел, — пробормотал Адриан, усиленно пялясь в пол.
— Ох, да, со вчера! Целая вечность, кто б спорил. Эх, годы молодые, чтоб вас… Ладно, беги. Только к полуночи вернёшься, Курту пожрать снесёшь.
— Конечно, — с видимым облегчением выдохнул Адриан, и на сей раз ему не пришлось притворяться.
Он сбежал по трапу, громко топая каблуками — чтобы они видели, как он уходит с корабля. Глупо, низко, но это было нужно ему. Он не боялся мести или наказания. Просто не хотел, чтобы они знали, что это именно он их предал. Если бы они не успели ему понравиться, было бы всё равно, а так — нет, он не хотел.
Он действительно пошёл в весёлый квартал — к шлюхам из Удачливого, где ночевал с той самой ночи, когда его привёл к ним Доффи. Они охали и ахали по утонувшему мальчику так, будто он был всем им родным сыном, и охотно пустили Адриана в его чуланчик. Теперь, став частью команды «Светлоликой», он мог спать со своими товарищами в общей ночлежке, но решил остаться здесь. Каждую ночь ему чудилось, будто холодные мокрые пальцы берут его за руку, и каждую ночь он просыпался в поту. Он мог бы уйти оттуда, но не уходил. Так он наказывал себя, и от отбывания этой добровольной кары ему делалось чуточку легче.
Косолапая Мисси накормила его, и Адриан лёг спать, хотя было ещё совсем рано. Он действительно уснул — Адриан и Анастас Эвентри, находясь меньше чем в полумиле друг от друга, оба уснули перед самой кошмарной ночью в своей жизни, не подозревая о том, что человек, которого каждый из них так любил и перед которым был так виноват, сейчас совсем близко — только руку протянуть. В тот час, когда Анастас Эвентри досматривал последний в своей жизни сон, Адриан Эвентри уже вышел из борделя, ставшего ему приютом, и побежал к коку за порцией супа и пива для сторожа, оставшегося на корабле. Кок, как обычно, страшно бранился, хотя и не очень понятно, почему, а на прощанье в припадке раздражительности дал Адриану подзатыльник, так что тот едва не расплескал суп. Он часто колотил Адриана, потому что Адриан терпел. Этим он тоже себя наказывал.
На посту в ту ночь стоял Курт — так же, как в первый вечер, когда Адриан оказался на эфринской пристани. На сей раз сторож приветствовал его куда как радушнее, поблагодарил за ужин и сказал, чтобы Адриан скорей бежал домой спать, потому как бледен он что-то и, по всему видать, на ногах еле держится. Он тоже был хорошим, этот Курт. Все люди, кроме Эда Эфрина, были хорошими.
«Но это всё для вас», — думал он снова, прячась за грудой ящиков в стороне от мола и пристально глядя на тёмную фигуру, прохаживающуюся вдоль борта. Фигура сперва двигалась мерно и ровно — Курт никогда не сидел на посту, всегда стоял или ходил, отгоняя сон, — потом стала покачиваться. Наконец он сел. Адриан выждал для верности ещё минут пять, потом, озираясь, побежал к трапу и кошкой прокрался на корабль. Аптекарь, у которого он два дня назад купил снотворное зелье для своего хозяина, страдающего бессонницей, сказал, что для крепкого сна на всю ночь довольно десяти капель. Адриан вылил в суп Курта весь пузырёк. До отплытия «Светлоликой» в Андразию оставалось меньше недели. Он не мог рисковать.
Он не стал проверять, дышит ли Курт. Не мог: если бы не дышал, Адриан, наверное, закричал бы, а кричать он не имел права. Он только молился про себя, чтобы доза зелья не оказалась смертельной, а пока поступил так, как если бы знал наверняка, что Курт живой: осторожно, стараясь не слишком тарахтеть трапом, стащил тяжёлое тело на пристань. Вокруг никого не было, по крайней мере, Адриан никого не видел, и никто не окликнул его и не спросил, какого дьявола он волочет с корабля бесчувственное тело часового. Оттащив Курта от трапа, Адриан снова огляделся.
Потом поднялся на корабль, который теперь принадлежал ему одному.
Нанимая его, капитан Дордак заплатил вперёд и велел одеться получше, чтобы члена команды «Светлоликой Гилас» не принимали на улицах за нищего. Адриан потратил несколько часов, выискивая у старьёвщиков самую дешёвую одежду, какую только мог купить за эти деньги, не спуская их до гроша — капитан Дордак оказался довольно скуп. А ведь надо было ещё оставить денег на табак и ром для матросов и, самое главное, на масло. С маслом получилось проще всего: на местной маслобойне Адриан купил целый бочонок прогорклого жира за несколько медяков. Жир был из отходов, совсем никчёмный, его или выбрасывали, или продавали мыловарам из соседнего городка. Но мыловаров надо было ждать до следующего базарного дня, а Адриан готов был заплатить и забрать товар немедленно. Хозяин маслобойни охотно уступил ему и даже не взял платы за сам бочонок. Этот бочонок Адриан следующим же днём вкатил по трапу на «Светлоликую». Никто не спросил его, что это такое да по чьему приказу, — у каждого было работы невпроворот, а раз «корабельная обезьяна» что-то куда-то тащит, значит, так ей велели. Бочонок встал под палубой рядом с другими бочками и ящиками. Теперь, чёрной безлунной ночью, слыша вокруг лишь скрип мачт и шорох сложенного паруса на ветру, Адриан вытащил его наверх и откупорил.
За неделю облазив судно лорда Бьярда снизу доверху, он всякий раз прикидывал, где и как удобнее всего будет разлить масло, поэтому теперь действовал чётко и быстро, по давно отлаженному в мыслях плану. Он облил палубу на носу и на корме, планшир, капитанский мостик и дверь в пассажирскую каюту. Масло тяжко плескалось на доски и застывало мутно поблескивающими, колышущимися лужицами. Пройдя от носа до кормы, Адриан вылил остаток, вышвырнул бочонок за борт и отёр ладони о куртку. Рука прошлась по огниву, зашитому в подкладке, и замерла. «Я собираюсь это сделать, — подумал он. — Я правда собираюсь. Гилас, сделай что-нибудь. Ну, сделай. Останови меня». Он никогда бы не поверил, если бы кто-то, подслушав его мысли, сказал ему, что прозвучало это не мольбой, но вызовом.
Гилас, раскинувшая руки на носу корабля, не сделала ничего. Адриан рванул подкладку куртку, кусочек кремня упал ему в ладонь.
И тогда он услышал голоса.
Вернее, голос был только один, но Адриану, у которого ком встал в горле, со страху почудилось, что их несколько и звучат они в унисон. «Меня раскрыли, — подумал он со смесью ужаса и облегчения. — Длинный Рой что-то заподозрил, я слишком торопился уйти… Или кто-то видел, как я поднялся на корабль. Или Курт очнулся и сейчас меня убьёт…»
— Эй! — Под чьей-то тяжёлой поступью заскрипели доски, недовольный голос звучал отрывисто, пытаясь перекричать крепчавший ветер. — Эй, есть тут кто? Что за дьявольщина!
Адриан стоял возле капитанской каюты, по левому борту, прижавшись спиной к стенке и боясь вздохнуть. Несмотря на ночь и ветер, он узнал этого человека. Это был лорд Бьярд, хозяин корабля, септа клана Одвелл, тот, кто собирался привезти на бертанскую землю мор. Ему стоило сделать несколько шагов — и он увидел бы Адриана, если бы прежде не поскользнулся в разлитом масле и не растянулся на палубе. Как раз там, где стоял сейчас Адриан, оно было особенно щедро разлито, и, будь ночь ясной, вовсю блестело бы в лунном свете, и смрадом бы перешибало дух, если бы не ветер, приносивший с пристани ядрёную портовую вонь…
Если бы, если бы. Если бы это сделал кто-то другой, не Адриан Эвентри, его обнаружили бы и остановили. Но Адриан Эвентри обладал способностью менять. Он умел уничтожать. Он начал понимать это в полной мере именно в тот миг, когда лорд Бьярд, выругавшись снова, стал спускаться с трапа.
Впрочем, вскоре он вернулся, и не один.
Адриан прокрался вдоль стенки каюты к ящикам, сгружённым в кормовой части корабля, и присел там, лихорадочно соображая, что теперь делать. Он мог дождаться, пока лорд Бьярд и его спутник уйдут, и тогда поджечь корабль. Но что, если они просидят тут до утра? Лорд Бьярд выбрал, ничего не скажешь, укромное местечко и урочное время для тайной встречи. К тому же и Курт может оклематься и вернуться на корабль… если он все-таки жив. Теперь Адриан отчаянно жалел, что не проверил этого. С тех пор он всегда проверял.
Лорд Бьярд и второй мужчина спустились в трюм и опустили за собой крышку люка. Адриан подкрался к ней и припал ухом к доскам, но ничего не услышал, только едва различимый монотонный гул — из-за ветра и скрипа корабля голосов было совсем не разобрать. Да и какая, к Мологу, разница, о чём они говорят… Это не решало вопроса о том, что с ними делать…
«Ты знаешь, что делать».
В этот раз было не так, как прежде: она заговорила не изнутри его головы, и не извне… просто эта мысль пришла сама собой, прозвучала голосом Адриана, была сказана Адрианом Адриану. Или Эдом Эфрином — Эду Эфрину… «Ты знаешь, что делать. Раз судьба или Янона привели его сюда — значит, он должен был оказаться здесь. Но не для того, чтобы помешать тебе, иначе бы он уже тебя заметил. Он здесь для другого. Для того, чтобы ты сделал что-то. Посмотри, весь мир вокруг тебя — лишь для того, чтобы ты решил, что с ним сделать».
Он попытался сглотнуть, но не смог. Что-то как будто застряло в горле, что-то огромное, твёрдое, шершавое, оно одновременно душило и жгло. Адриан захрипел, просто чтобы убедиться, что может дышать, и, зажмурившись, замотал головой. Нет. Нет, нет…
«Да. Если ты не подожжёшь корабль сейчас, Бьярд можешь заметить масло, когда будет возвращаться. Или вернётся Курт. В любом случае, Бьярда насторожило отсутствие охраны, он немедленно выяснит причину, не дожидаясь утра, как только закончит разговор со своим дружком. А потом они легко вычислят тебя — ты порядочно наследил, пребывая в уверенности, что всё пойдёт как задумывалось. Так и должно пойти. И Бьярд должен был оказаться здесь. Ведь это же было неизбежно, рассуди сам. Ты собираешься уничтожить корабль, который привезёт в Бертан оспу, но оставляешь жить человека, который построил этот корабль. Что с того? Он построит ещё один. И всё равно поплывёт в Андразию. Это так просто, Адриан, Эд. О чём тут думать? Нет никакого выбора. То, что тебе кажется выбором, — это просто твоя слабость и твой страх. Ты не Том».
— Я не Том, — сказал он вслух, голосом чужим и сиплым, едва слышным сквозь ветер. Он хотел бы быть Томом. Хотел бы просто остаться в стороне. Но он слишком далеко зашёл, слишком много успел натворить, и он чувствовал холодные липкие пальчики Доффи на своём запястье. Дыши. Дыши…
Адриан задышал, тихо и часто. Зубы он стиснул, чтобы они не стучали, — ему чудилось, что этот стук его выдаст. Он нашёл ящик, который мог сдвинуть с места, и, навалившись на него плечом, стал медленно передвигать к крышке трюма, в котором лорд Бьярд вёл тайную встречу с кем-то, кого, без сомнения, потом тоже предал бы, как своего прежнего лорда. Ящик скользил по смазанной маслом палубе почти без усилия и лишь раз грохотнул, вставая на крышку люка. Там в это самое время раздался какой-то шум — лорд Бьярд со своим другом, кажется, ругались или дрались. Адриан отодвинулся от ящика и выпрямился. Он не мог больше ждать, не мог думать. Не о чем думать, раз принял на себя это бремя. «Сделай выбор и держи ответ за него…» Враньё. Выбора нет. Я не Том.
«И я не Адриан Эвентри. Адриан Эвентри ни в чём не виноват», — подумал он, высекая искру, крохотным сполохом озарившую ночь. Искра лизнула доски, на долю мгновения отразилась в разлитом на досках масле — а потом ринулась по палубе трепещущей пеленой огня. В нос ударило гарью, дым, клубясь, пополз вверх, обвивая Адриана с ног до плеч, словно огромный бесплотный змей, пытающийся задушить и проглотить.
«Можно, — спросил он мысленно сам не зная кого, — я здесь останусь? Просто останусь, и всё закончится…»
«Что закончится? — спросил огромный, бескрайний, безжалостный голос в его голове. — Ничто не закончится здесь, Адриан Эвентри, Отвечающий За Всё. Здесь и сейчас всё только началось».
И тогда он понял. Только тогда, когда стена огня, грохоча, покатилась по кораблю, носившему имя Светлоликой богини, когда дым пополз во всех корабельные щели, когда человек в трёх шагах от него, под его ногами, ударил плечом в задвинутый ящиком люк.
«Ты мой, — сказала Янона Неистовая, безумная богиня, для которой любовь и ненависть были одним и тем же, так же как жестокость и сострадание. — Ты мой и сделаешь то, для чего я позволила тебе появиться на свет. Иди, Эд. Завтра ты всё забудешь».
Он залез на планшир, где этим утром курил трубку и смотрел на солнце. Вскинул руки над головой, как делал когда-то давно, в Эвентри, прежде чем ринуться с обрыва в реку и поплыть к другому берегу, больше всего на свете мечтая опередить Анастаса. И почти всегда успевал. Он хорошо плавал. Он не тонул. Тонули другие.
«Ты мой. А мир — твой. Иди».
Он прыгнул.
И уже в воде услышал грохот, чудовищный грохот, от которого всколыхнулись небеса и башня Коготь, царапавшая тучи, озарилась кровавым заревом, точно таким же, как то зарево, которое сто лет назад уничтожило всё, частью чего она была.
Во всём Бертане потом говорили об этой ночи — и говорили долго, до самой осени, когда лорд Грегор Фосиган из Сотелсхейма наконец выступил на север, и тогда достало новых тем для разговоров. Надвигалось тёмное время, но то, что случилось той ночью, и слушателям, и рассказчикам, а более прочих очевидцам казалось концом света. «Светлоликая Гилас», объятая пламенем, ярким, высоченным, неугасаемым. Весь город проснулся и сбежался на этот пожар, весь город пытался его потушить, но дьявольское пламя не желало гаснуть, сколько бы ни лили на него воды — казалось, это само море полыхает, словно превратившись в масло. Потому в конце концов отчаявшимся людям осталось лишь стоять на берегу и смотреть, как корчится в бесконечной агонии белое тело богини — будто сам Молог дохнул на судно, сжигая свою ненавистную и возлюбленную жену. Носовая фигура, белая с золотом, чернела и осыпалась в пламени, вздымая к небу закопченные руки в молчаливой мольбе. Когда она отделилась от носа и рухнула, многие сотворили знак-оберег, многие заплакали. Команда «Светлоликой», вся как один человек, камнем стояла на самом краю обвалившегося пирса, часть которого рухнула в воду. Не один седой волос прибавился в волосах этих мужчин. Среди них не было матроса по имени Курт и корабельного мальчишки по имени Эд, нанятого всего неделю назад взамен утонувшего Доффи. Позже стало очевидно, что они были на «Светлоликой», когда она запылала — и погибли, пытаясь унять пламя. «Этот корабль проклят, — шептались в толпе. — Лорд Бьярд проклят. Одвеллы и Эвентри прокляты».
Жители города Эфрина и те, кто, разинув рты, слушали их в тавернах, утвердились в этом выводе окончательно, когда стало известно, что лорд Бьярд тоже был на «Светлоликой», когда Молог сжёг её своим адским дыханием. По всему Бертану во всех святилищах полыхало больше свечей, чем когда-либо, люди больше, чем прежде, молились и плакали, кто-то сказал, что с такими предзнаменованиями, не ровен час, скоро снова начнётся мор чёрной оспы… Боги отвернулись от Бертана. Боги гневались на Бертан, и молитвы не помогали, потому что ещё через некоторое время пронёсся слух, что Анастас Эвентри бесследно исчез.
Говорили всякое: и что его-де позвали на тайные переговоры и потихоньку прирезали; и что Дэйгон Одвелл всё-таки сумел выследить его и подослать к нему убийц; и что его уморили собственные союзники во главе со старым Флейном, с самого начала не желавшим войны; и что он бросил всё и ушёл в монастырь Гвидре, посвятив себя богу. Но как бы там ни было — он исчез, и тела его не нашли. Слухи, что, дескать, он оставил после себя беременную жену, не подтвердились — эта якобы жена была, во-первых, не жена вовсе, а любовница, ещё и из простонародья, а во-вторых, говорили, что и она, и её дитя умерли при преждевременных родах, случившихся, когда женщина узнала о смерти лорда Эвентри. А что он и впрямь мёртв, не сомневался никто. Будь он жив, не позволил бы произойти тому, что случилось следом.
Спустив бело-красное знамя Эвентри, свободные бонды мигом передрались между собой, как это уже часто бывало прежде, — чем немедля воспользовался лорд Одвелл. После чудовищного пожара на пристани Эфрина в народе стояло смятение и смута, люди не знали, кому верить и за кем идти, коль скоро боги столь яро и жестоко проявили свой гнев. Крестьяне стали волочь оброк не лордам, а храмам — задабривать богов; иные сжигали целые поля, порешив, что именно через огонь богам отныне угодно принимать жертву — кто-то пустил такой слух, и он разнёсся по Бертану быстрее, чем догорела «Светлоликая Гилас». Жрецы, сперва обрадовавшиеся притоку подношений, при виде полыхающих от края до края горизонта полей испугались сами. А лорд Одвелл тем временем шёл на юг, сметая своими конниками то, что осталось от армии под спущенным стягом Эвентри. Он вырезал их без всякой жалости — уцелеть смогли немногие, лишь те, кто, как старый Флейн, сумели договориться и отделаться откупом. Одвелл, впервые побеждавший за весь последний, страшный для него год, лютовал как никогда прежде, не отводя взгляда от реявших впереди, не поверженных ещё вражеских знамён.
За всей этой суматохой слишком поздно заметили жёлто-красную армию Грегора Фосигана, вышедшую из Сотелсхейма.
Злой была весна года 816-го для страны Бертан, весна, когда закончилась война свободных кланов против клана Одвелл, когда началась и закончилась вторая война клана Одвелл против клана Фосиган — закончилась, как и двенадцать лет назад, полной победой последнего. Великий конунг не зря мнил себя таковым — велик не тот, кто кидается в битву при первой возможности, а тот, кто умеет выждать, пока придёт его пора. Без труда проложив себе путь сквозь остатки разбежавшейся армии Анастаса Эвентри, Фосиган клином врезался в войско Одвелла, достаточно разгорячённое и раззадоренное долгожданными победами после долгих поражений, чтобы решиться на безрассудную стычку. Сытые, не успевшие утомиться, засидевшиеся в долгом ожидании ратной сечи воины клана Фосиган смели армию Одвеллов, как сметает со старых доспехов пыль метёлка расторопной прислужницы — легко, будто играючи. Дэйгон Одвелл оказался в плену, но, вопреки ожиданиям многих, не был казнён. Грегор Фосиган выехал на своём боевом коне на вершину холма, с которого открывался вид на долину и замок Эвентри — выехал бок о бок со своим врагом. Там он вытянул руку спокойным, уверенным жестом человека, стоящего на своей земле, указал ею вперёд и сказал что-то Дэйгону Одвеллу — что именно, так и не узнал никто, кроме них двоих.
Но если бы Эд Эфрин, бывший когда-то Адрианом Эвентри, был там и видел двух пожилых мужчин, чьи кони топтали сгоревшую траву у подножья его родового замка, он бы понял, что именно сказал Грегор Фосиган.
Однако Эда Эфрина не было там. Он вышел из воды в четверти лиги от Эфрина, хромая и придерживая немеющую руку — его едва не убило, когда ударной волной от взрыва швырнуло в воде и ударило о деревянное основание пирса. Он взрыва он на время оглох, чуть не ослеп и почти ничего не видел, кроме алого зарева, разрывавшего небо далеко впереди. Богиня Янона, самая странная из богов-детей, истая дочь своего отца, истая дочь своей матери, была довольно жестока, чтобы оставить его в живых, и достаточно милосердна, чтобы он не узнал, что его брат Анастас был на корабле, который он сжёг собственными руками. Впрочем, у человека, вышедшего из воды в четверти лиги от Эфрина, не было братьев. У него не было ничего, кроме знания о миссии, на него возложенной, и о цене, которая, после случившегося, не могла быть слишком высокой. Чувство холодного покоя снизошло на него, облегчив боль в израненном теле и совсем изгнав её из окончательно запутавшейся души. Он стоял и смотрел, как горит зажжённый им огонь, и не знал, и никто не знал, что если бы лорд Эли Бьярд той весной пошёл в Андразию и вернулся назад, то на корабле вместе с ним пришёл бы мор, равного какому Бертан никогда не видел. Этот мор убил бы три четверти бертанского люда, опустошил бы Тысячебашенный город Сотелсхейм, не пощадил бы на этот раз ни Фосиганов, ни Одвеллов, оставил бы запустенье, которое мёртвой тишью легло бы на Бертан на следующие тридцать лет. Никто не знал также и того, что через эти тридцать лет безродный человек, септа мелкого клана, пришёл бы в город-призрак, которым стал Тысячебашенный, и сказал бы: «Будем строить». И вдохнул бы в руины жизнь, и ещё через тридцать лет превратил бы Бертан в славнейшую империю, которую когда-либо знал мир.
Была и ещё одна вещь, которой не знал никто, хотя, быть может, в сравнении с прочим, чего никогда не случилось по вине Адриана Эвентри, оно могло показаться маловажным — но лишь показаться, ибо величайшее поначалу всегда кажется малым. Мальчик из Скортиара по имени Пит и по прозвищу Доффи, не упади он с планшира и не утони в порту города Эфрина, пойди он в Андразию на «Светлоликой Гилас», не вернулся бы в Бертан. В Андразии его заманили бы на свой корабль фарийские работорговцы, и, проведя четыре года в неволе, он был бы куплен выдающимся мореплавателем из далёкой Альбигейи — земли, о которой в ту пору не слыхивали в Бертане. Этот мореплаватель стал бы для Пита по прозвищу Доффи учителем и отцом, передал бы ему все свои знания и всю свою веру, и через тридцать лет, в тот самый год, когда в Бертане помазали бы на царство Дориана Великого, первого короля западного мира, — в тот самый год мореплаватель Пит Доффи достиг бы далеко-далеко на востоке неведомой, огромной, богатой земли, и открытие это навсегда изменило бы мир. Но Пит Доффи умер, не покинув города Эфрина, и открытие это было отсрочено почти на шестьсот лет, и каждое лето из этих шестисот принесло бы то, чего могло бы не быть.
Если бы Адриан Эвентри мог узнать обо всём этом, он лишился бы разума, раздавленный мощью того, что сотворил один-единственный его шаг. Но он не мог узнать и не узнал никогда.
Боги милосердны.
Часть 10 Ответ Яноны
1
В осень года 828-го человек, называвший себя Анастасом Эвентри, созвал свободных бондов Бертана на тинг.
Пришли не все.
Двенадцать лет, отделявших Эда Эфрина от Адриана Эвентри, двенадцать лет жизни, которые он, никому не ведомый, выторговал у богов для этих людей, в сущности мало что изменили. Всюду и во все времена люди склонны больше говорить, чем действовать. Свободные бонды всё так же кичились своей свободой, упрямо не замечая, что чем дальше, тем больше эта свобода оборачивается пустым звуком. Они по-прежнему никому не платили дани; среди них не было ни верховных кланов, ни септ, и они очень гордились этим, несмотря на то, что большая часть средств, которые они выжимали из своих крестьян, уходила на поддержание собственных армий, обороняющих границы фьевов от загребущих лап соседа. Они всё так же зарились на соседские замки, видневшиеся на горизонте в ясную погоду, всё так же были рады скорее распре, чем уступке, всё так же не доверяли друг другу. И всё так же объединить их могло только одно: страх, что кто-то с севера или с юга придёт и отберёт у них эти крохи, за которые они так отчаянно дрались между собою. Это было грустное время, унылое время, время жалких остатков того, что когда-то было огромным, могучим, свирепым Бертаном — многоглавым чудовищем, рвавшим окровавленным клювом собственную плоть, заглатывавшим части самого себя и жиревшим на этом. Теперь у многоголового Бертана голов было всего только две. А верней — одна, после того как голову, принадлежащую Дэйгону Одвеллу, срубила рука того, кто называл себя именем Эвентри. Именем, которое те, кто остался ещё не разорван и не проглочен, поминали чаще с проклятьем, чем с благодарностью.
Когда из замка Эвентри, в котором пролилось, должно быть, больше крови, чем в любом ином замке Срединного Бертана, донёсся призыв на тинг — застоявшееся болото того, что осталось от свободных бондов, снова тревожно всколыхнулось. Те, кто стояли, уцепившись за глотки друг друга, вздрогнули и разом повернули головы в ту сторону, откуда раздался клич, — в этом они были едины. Но многие, очень многие, пожав плечами, вновь отвернулись и продолжили душить соседа — то было делом куда более привычным и безопасным, чем снова встревать в большую распрю больших кланов. Другие пришли. Десять кланов — против девятнадцати, отозвавшихся на клич клана Сафларе двенадцать лет назад. С тех пор никто не созывал тинга — разгром, учинённый Дэйгоном Одвеллом армии Анастаса Эвентри, надолго запомнился свободным бондам. Как знать, быть может, они бы и утратили тогда свою свободу, если бы не подоспел Фосиган, напомнивший своему вечному сопернику, кто на самом деле держит страну в кулаке. Напомнил — и ушёл назад в свою нору, откуда было его не выкурить иначе, чем показав ему силу… подобие силы — потому что мало стоит кулак, не способный удержать вместе пять пальцев.
Однако — и Эд Эфрин знал, что так будет, — дело было не так просто. Кто он — этот «Анастас» Эвентри? В народе поползли странные слухи — да уж не тот ли это самый, который в своё время дал отпор Одвеллу? Нет, возражали другие, тот давно мёртв, потому-то бонды и проиграли Одвеллу войну. Но может, возражали третьи, он был жив всё это время и вернулся теперь? А может, добавляли четвёртые, он и впрямь вернулся — но не из изгнания, а с того света, из чертогов Молога?.. И, слыша это, все говорившие суеверно сотворяли знак, охраняющий от дурных сил.
Кто чувствовал страх, кто — недоверие, кто — любопытство. Но знать, что же это за человек да зачем он скликает тинг, хотели многие. Да что там — все хотели это знать, даже те, кто не отозвались на брошенный из Эвентри призыв. И их глаза теперь тоже были устремлены на замок, имевший столь дурную славу. Они немного завидовали своим отважным собратьям, отправившимся в это дрянное место — но своя шкура всяко была дороже.
Они называли это свободой и съехались в Эвентри послушать того, кто понимал её иначе.
На сей раз тинг проходил не в тайне, а открыто, и в распоряжении склочных бондов оказался не забытый богами хлев в чистом поле, а просторный пиршественный зал — тот самый, в котором умерли Ричард Эвентри, Рейнальд Одвелл и его отец лорд Дэйгон. Последний — менее месяца назад. Мысль эта странно отзывалась в буйных головах собравшихся: кто оглядывал зал с опаской, кто — с удовлетворением, кто — с плохо осознаваемым, смутным предчувствием дурного. Бонды прибыли на тинг в сопровождении своих людей — каждый привёл не менее десятка, — и хотя присягнули, по обычаю, не обнажать клинка на собрании, многие, прежде чем сесть, проверили, легко ли выходит меч из ножен. Все они были на тинге Сафларе и все помнили, чем он едва не закончился. Впрочем, теперь вероломный Одвелл отправился к Мологу, а тот, кто созвал их, называется именам человека, которого они могли бы упрекнуть в чём угодно, только не в отсутствии чести.
Собственно, всех снедало любопытство — кто же их созвал? Когда в зал вошёл человек в белом и красном, жадные взгляды немедленно обратились к нему — и по толпе пронёсся вздох удивлённого разочарования. Это не был Анастас Эвентри, вернувшийся хоть из-за моря, хоть из-за последней черты. К бондам вышел юноша с суровыми чертами лица, коротко стриженный, плечистый, со светлыми глазами, выражавшими скорее упрямую решимость, чем не по годам глубокую мудрость. Никто из присутствующих его не знал. Никто, кроме Виго Блейданса — ныне, после смерти своего дяди и кузена, главы клана Блейданс.
На нынешнем тинге он был распорядителем, он-то и назвал бондам имя этого человека.
Бертран Эвентри! Так вот оно что! Самый младший из сыновей лорда Ричарда, малышом увезённый в далёкий монастырь — о нём все и думать забыли. А малыш-то подрос, возмужал, и на уме у него, похоже, одна только кровная месть. Что ж, это можно было понять. Это даже вызывало симпатию лордов, всю жизнь только и делавших, что баловавшихся кровной местью и не знавших, не желавших знать других забот. Но почему он назвался именем своего славного брата? Потому, пояснил Бертан Эвентри негромким, хрипловатым от плохо скрываемого волнения голосом, что это имя он принял, отдавая свою жизнь Дирху-Меченосцу, и теперь он — брат Анастас. А, так он монах? И всё, что он делает, — выполнение обета? Бонды кивали, другие хмыкали и кривились, осуждая такую одержимость, третьи возмущённо переглядывались: и что, нас созвали сюда, чтоб мы снова выслушивали бредни мальчишки, помешанного на личной вражде и вознамерившегося втянуть в неё нас? Ну уж нет! Мы теперь учёные!
Получив ответ на главную, как им мнилось, загадку тинга, бонды наконец справились с подозрительностью, и уже через четверть часа после того, как прогремел сигнальный гонг, привычно орали, перебивали друг друга, и колотили кружками по столешнице, выражая презрение к говорящему. Виго Блейданс тщетно пытался призвать к порядку.
— Тише, благородные лорды, будьте любезны тише, так мы вовек не договоримся!
— А что говорить-то? — крякнул со своего места престарелый лорд Флейн. Он снова был здесь, хотя не менее половины глав кланов со времён последнего тинга успели смениться — а Флейн всё так же сидел в дальнем конце стола, во главе, на правах старейшего из предводителей свободных кланов. Ему было восемьдесят два года, но голос его по-прежнему перекрывал галдёж молодых и сильных лордов. — Что говорить, когда и так ясно, что Эвентри снова вздумали поиграть с нами в ту же игру. Да только я, мои лорды, стар, стар уже для этих игр, пора бы и отдохнуть…
— Чего приехал тогда? — рявкнул с другого конца стола его недруг — тот самый, что огрызался ему и на прошлом тинге. — Так бы и отсиживал свою старую задницу, а то, глядишь, приподнимешь её — и песочек посыплется!
— Приехал, ибо разума как не было у вас, благородные мои лорды, так и нет, — ответил Флейн и для пущей наглядности выразительно постучал ложкой по лбу сидящего с ним рядом юного Тартайла. Тот, охнув, схватился за лоб и уставился на старика с возмущением и обидой. — Надо же, чтоб хоть кто-то вас вовремя вразумлял, пока снова не наделали бед.
— Ты, старый хрыч, первым пошёл за Анастасом Эвентри в прошлый раз, — вставил лорд Вилзинг, и бонды, тоже припомнив, обвиняюще загалдели. — Не тебе теперь нас дураками называть!
— Пошёл, — не стал отпираться Флейн. — Потому что этот мальчик был единственным, кому от вас, дурачья, ничего не было надо. Он единственный смог вас заставить присмиреть и не орать без толку, но хоть что-то сделать ради сохранения ваших шкур.
— Э-эй, лорд Даррен, помнится мне, на тинге Сафларе вы иные речи вели, — протянул лорд Ролентри; он сильно постарел и за прошедшие годы лишился глаза из-за катаракты, но давнего своего соперничества с Флейном не забыл — как такое забыть?
— То было на тинге. После лорд Анастас показал себя славным, умелым и мудрым воином. Он бы приструнил Одвелла, а там, глядишь, и за Фосигана бы взялся, кабы не пропал. А вам, пёсьей своре, только того и довольно было — вмиг в разные стороны прыснули.
— Что ж ты сам нас не повёл, раз такой башковитый?
Флейн прищурился:
— А вы бы пошли?
И снова бонды сорвались в гвалт и ор. Нет, они бы не пошли. «Они и за мной не пойдут», — думал Бертран, беспомощно оглядывая сильных, свирепых, закалённых в битвах мужчин, которые не могли толком обуздать ни силу свою, ни свирепость. Лорд Флейн умел складно говорить, но за долгую жизнь нажил себе слишком много врагов, чтобы к нему могло прислушаться большинство; лорд Ролентри был спокойнее нравом, но не так убедителен; остальные же умели только кричать да колотить кружками, не слушая увещеваний Виго Блейданса, призывавшего вспомнить о чести, доблести и благородстве. Виго Блейданс был среди всех них, пожалуй, единственным, кто вправду нравился Бертрану и кому он мог доверять. «Пустая затея», — думал он угрюмо, сидя в кресле во главе стола и переводя взгляд от одного перекошенного злостью лица на другое. Он уже не разбирал толком, что они кричат. Он не понимал даже, зачем всё это. Они не помогут, он знал это заранее. Ведь когда он писал им несколько месяцев назад, никто не ответил ему, кроме Виго.
Стоял погожий осенний день, солнце, проникая в прорези окон, озаряло лужицы разлитого вина и лица, полные досады и гнева. Совет зашёл в тупик — уже никто никого не слушал, кое-кто, плюнув, стал подниматься, чтобы уйти. И тут ударил гонг — с такой силой, что на миг оглушил собравшихся, и они умолкли в недоумении, обернувшись на двери в поисках того, чьё появление требовало столь громогласного оглашения.
Увидев его, все немедленно смолкли.
В зал вошёл ещё один человек в белом и красном — но это был не слуга лорда Бертрана. У него были пшеничные волосы и светло-голубые глаза Эвентри, и лицо его, черты которого во многих отозвались смутной тенью узнавания, было совершенно спокойно. Он прошёл мимо Виго Блейданса, стоявшего у гонга с молотом, взглянул ему в глаза и коротко кивнул, не замедляя шаг. По тингу прошёлся ропот — вновьприбывшему, кем бы он ни был, полагалось остановиться в пяти шагах от стола, отвесить собранию поклон, назваться и испросить соизволения присоединиться. Однако был это вовсе не тот ропот, которого можно было ожидать от буйных бондов.
— Кто это? Кто? — неслось по рядам, но Виго Блейданс молчал, хмуро глядя на собрание из-под сросшихся бровей. Молчал и Бертран Эвентри. Когда человек в бело-красном подошёл к нему, он встал с кресла, отвесил поклон и шагнул в сторону. Тогда человек этот поднялся на две ступеньки к креслу во главе стола — и в этот миг лорд Кадви, бывший двенадцать лет назад септой клана Одвелл и пировавший в этом зале вместе с Индабиранами, узнал его. Узнал по этому шагу и по тому, как медленно, тяжело опустился он в кресло.
На сей раз он знал, что делает.
— Да кто ты, Молог тебя возьми, такой? — нетерпеливо выкрикнул кто-то вопрос, вертевшийся на языке у всех.
— Это Адриан Эвентри, — раздался негромкий, но чёткий голос, и все головы разом повернулись к лорду Флейну. Тот сидел прямо, щуря свои старые глаза, и тень улыбки блуждала среди месива морщин, в которое давно превратилось его лицо. — Верно, сынок?
— Верно, лорд Даррен, — ответил тот, и это были первые его слова, сказанные на тинге. — Рад, что вы узнали меня.
— Это было легко, — сказал лорд Флейн. — Ты похож на своего деда.
— Погодите-ка! — воскликнул лорд Берджой. — Что за дьявольщина?! Никакой это не Адриан Эвентри, это Эдвард Фосиган! Я его сто раз видал в Сотелсхейме!
— Тот самый выскочка?! — не веря, переспросил кто-то, и лорды загалдели снова. Бертран резко повернулся к Эду и вперил в него взгляд, будто требуя немедленно опровергнуть эту гнусную клевету.
Эд даже не повернул к нему головы.
— Лорды, — сказал он, и, дивное дело, голос его подействовал на собравшихся так же, как голос старого Флейна, — и те, кто двенадцать лет назад слышали голос Анастаса, так же клином врезавшийся в их галдёж, вздрогнули от этого сходства. — Я — Адриан из клана Эвентри. Мой брат Бертран созвал вас на тинг, и теперь вы выслушаете меня. Обещаю, что вы получите ответы на все ваши вопросы, но лишь когда я закончу, и не ранее.
Это было такой дерзостью, что лорды смолкли в потрясении. Так мог говорить конунг на своём совете — но не свободный бонд, созвавший на тинг равных, чтобы просить их о помощи. И наиболее проницательные из лордов вновь вспомнили о подозрениях, с которыми ехали в Эвентри…
Кто знает, что бы они сказали или сделали, но тут заговорил Виго Блейданс:
— Благородные лорды, подтверждаю перед богами и вами: этот человек — лорд Эвентри, и именно он созвал вас на тинг. Посему дадим ему слово.
— Но почему он не позвал нас от своего имени? Зачем эти хитрости с именем лорда Анастаса? — крикнул кто-то.
— Вот он сейчас нам и скажет, — заметил другой.
Адриан Эвентри молчал. И странным образом его ожидающее молчание подействовало на лордов не хуже удара в гонг. А может, дело было не в этом молчании, а в снедавшем каждого любопытстве.
Он не просил слова по правилам, и формально ему не позволили держать речь перед тингом, но мало-помалу все смолкли.
Тогда он заговорил.
— Вас созвал сюда Бертран, а не Адриан, потому что до нынешнего дня Адриан Эвентри считался мёртвым. Он и был мёртв. У него было другое имя, принятое им от того, кто стал причиной гибели его рода. Воскреснув, он стал бы представлять опасность для многих. Именно это теперь и происходит… на ваших глазах, мои лорды.
— Да он нам никак угрожает, — со смешком сказал кто-то. Другие тоже засмеялись.
— Ты нам угрожаешь, мальчик? — раздался над тингом голос лорда Флейна, и смешки разом унялись. Потому что это не было насмешкой. Это было вопросом.
И Адриан Эвентри ответил:
— Да. Я вам угрожаю.
И прежде чем потрясённый Бертран успел раскрыть рот, слуги в бело-красном, прислуживавшие бондам за столом, побросали на пол блюда и кувшины и выхватили арбалеты, которые прятали под просторными одеждами. Единый крик гнева и ужаса прокатился над столом, и он лишь усилился, когда бонды увидели, что даже некоторые из их собственных людей вскидывают оружие — но не за них, а против них.
Поднялся страшный шум. Люди Эвентри отступили на шаг, не снимая с арбалетного прицела заметавшихся бондов. Зал огласился бранью.
— Измена! — закричал кто-то, и Адриан Эвентри улыбнулся краешком губ. Он вспомнил, как когда-то сам прокричал это слово, тем самым спасая всех этих людей. Теперь, если бы было нужно, он был готов так же, одним словом, всех их убить.
— Вы правы, лорд Кейн, — сказал он, не повышая голоса и не вставая, — теперь он да старый Флейн, не сводивший с него прищура, были единственными, кто остался сидеть. — Изменой было для вас, пообещавшего когда-то помощь одному из Эвентри, не оказать её снова теперь, когда её попросил другой. Вы ведь тоже получили письмо от Бертрана в начале этого лета, не правда ли? И вы, лорд Тартайл? И вы, лорд Ролентри? Впрочем, вы и Анастасу не ответили когда-то… если память мне не изменяет.
«Потому что не получили его письма, — закончил он мысленно. — Не получили по моей вине, но ни вы, ни он об этом не узнали».
— Да как ты смеешь… — бледнея, начал лорд Ролентри.
— Смею. Потому что сейчас в этом зале вас всех — по трое против каждого моего человека. Вас трое против одного, благородные лорды! И вы повскакивали, вы держите руки на мечах, но не обнажаете их, потому что не уверены, что ваш сосед по столу и фьеву сделает то же самое.
— Ах ты гадёныш, — вполголоса сказал лорд Флейн, и Эд Эфрин широко улыбнулся.
— А вы, лорд мой Флейн, столь горазды раздавать ценные советы! Ну так посоветуйте благородным бондам, замершим в нерешительности, обнажить клинки! Я уже сделал это первый, поправ законы гостеприимства. И вы были к этому готовы, когда ехали в Эвентри. Вы знаете, сколько вероломства уже повидали эти стены, знали, что нет нужды бояться осквернить их, ибо их и так уже не отмыть от скверны. О чём же вы думали, благородные мои лорды?
— О благородстве, — сказал сквозь зубы кто-то — по виду ровесник Бертрана. — О чести…
— Дорогого стоит в наше время думать о чести и благородстве, — сказал лорд Флейн.
И тут Адриан Эвентри встал. И поклонился ему, глубоко и низко — так, словно без него не сумел бы найти этих слов.
— Молог знает что! — воскликнул лорд Берджой. — Ну и чего тебе надо?
— Прежде всего, — не садясь и обведя взглядом собрание, начал Эд, — хочу сообщить вам, что ваши люди, оставленные во дворе, согнаны в казармы и заперты там. Поэтому если бы вы даже набрались духу и убили сейчас меня и моих людей, внизу вас встретил бы мой гарнизон, превышающий вас численно и, в отличие от вас, готовый к встрече. Я говорю это вам для того, чтобы вы поняли, что ваша нерешительность и разъединённость ныне не погубила ваши жизни, а спасла.
— Как оно всегда и бывало, — пробормотал лорд Флейн.
— Нерешительность — это такая странная штука, мои лорды. Порой губит, порой спасает. Иногда, не сделав, можно натворить бед ещё больше, чем сделав. А иногда наоборот. Заранее никогда не знаешь.
— К чему ты клонишь? — хмуро спросил Ролентри.
— К тому, что, если вы не можете принять решение сами, кто-то должен принять его за вас. И тогда просто делайте то, что должно, то, что взялись делать. Делайте до конца, пока не выполните обещанное — или не отправитесь к Мологу. Это — та свобода, которую вы не хотите видеть, мои лорды. Двенадцать лет назад, — продолжал он, когда никто не ответил ему и не перебил, — мой брат Анастас звал вас за собой во имя остатков вашей чести. Я был там в тот день, хотя никто не знал об этом, даже он. Я стоял у стены, трусливо прячась от него и от всех вас. Теперь я зову вас за собой, но не за честью и не за мщением. Я хочу стать конунгом Бертана.
При этих словах собрание наконец очнулось от колдовской оторопи, с которой слушало этого странного человека. Вновь поднялся шум, но Адриан Эвентри продолжал, словно не слыша его:
— Я хочу стать конунгом и стану им, с вами или без вас. Я сяду в Сотелсхейме. Одвеллов больше нет — Бертран убил величайшего из них, того, кого вы так боялись всю свою жизнь и против которого смогли выступить лишь однажды, когда вас повёл Анастас. Фосиганов вскоре тоже не станет — последнего из них убью я. На моей стороне будут жрецы Анклава, а значит, и народ. Если сейчас вы пойдёте за мной, над вами не останется в этой земле никого, кроме меня. Если вы не пойдёте за мной, у вас не останется в этой земле врагов, кроме меня.
— Если ты так уверен в себе, паршивый ты щенок, на хрена мы тебе сдались? — гневно рявкнул лорд Карстерс. Адриан помнил, как ему ненавистна сама мысль о том, чтобы стоять под кем-то.
— Потому что с вами моя победа будет быстрее и проще. И потому что я не хочу быть вам врагом. Фосиган, который был вам врагом, вскоре падёт именно из-за этого. Но знайте: я не Фосиган. Мой клан пролил слишком много крови, своей и чужой, и я не остановлюсь перед тем, чтобы пролить ещё и вашу.
— А ты не боишься, — щурясь, сказал лорд Кадви, — что мы объединимся против тебя и закончим то, что начали Индабираны?
— Вы не объединитесь, — улыбнулся Эд. — Если бы могли, вы бы это уже сделали. Давно бы сделали — или хотя бы сейчас, когда увидели стрелы моих людей, нацеленные вам в грудь. Но вы ведь сидите и слушаете меня. Вы не можете объединиться. Единожды это удалось вам, и для этого вам понадобился мой брат. Теперь это могу сделать я.
— Проклятье, отчего ты так самоуверен?!
— Потому что терять мне совершенно нечего. Так же, как и вам, если вы пойдёте со мной. Я не буду давать вам слова чести, потому что все вы знаете, как мало оно стоит. Но знайте: я не хочу ничьей крови, и не хотел никогда. Однако сесть в Сотелсхейме я должен. Когда это случится, вы сохраните все свои привилегии, вы не будете платить мне дани. Но все решения, которые касаются ваших связей друг с другом, стану принимать я. Вы обязуетесь не чинить препятствий торговле, даже если прибыль от неё пойдёт вашему врагу. Вы обязуетесь строить дороги, даже если она свяжет ваш фьев с фьевом вашего недруга. Если ваш сосед примет общий закон, который я введу на всех землях Бертана, вы тоже его примете. Но, — сказал он, перекрывая вновь поднявшийся возмущённый крик, — все выгоды, которые даст эта торговля, эти дороги и законы, вы оставите себе. А если вы попросите у меня позволения применить по отношению к соседу кровную вражду, я позволю.
— Мальчишка бредит, — сказал один из лордов, пока остальные наперебой обсуждали услышанное. — Что ему с нас толку, если мы не будем платить ему дани? А копья? А наши мечи — ты и их-то небось потребуешь, конунг Эвентри!
— Не потребую. Единственное, что я потребую, — не проливать кровь друг друга без моего позволения и чтить закон, единый для всех. Во всём остальном вы сохраните свободу.
Лорд Флейн закашлялся. Только те, кто знал его в давние времена, когда он был немногим старше нынешнего Адриана Эвентри, поняли, что он смеётся.
— Мальчик, мальчик, отчего ты не родился лет хотя бы на тридцать раньше, — прокаркал он, качая головой.
— Оттого, что время тогда было не моим, — спокойно ответил тот. — А теперь — моё. И я ещё раз предлагаю вам, лорды, сделать его и вашим тоже. Все мы потеряем много, если расстанемся сейчас врагами.
— Чего ты, в конце концов, хочешь?
— Я уже сказал. Чтобы вы отвели меня в Сотелсхейм, посадили на трон и признали великим конунгом.
— Твой брат не был таким наглецом! Он просил меньшего!
— Он и предлагал вам меньше. По сути, он ничего вам не предлагал, кроме чистой совести. Но, как вы могли убедиться, совесть — это не то, что способно собрать вас вместе.
«Да, не совесть. Страх», — подумал лорд Флейн, пряча в морщинах улыбку и качая головой. Он жалел, что слишком стар для того, чтобы схлестнуться в поединке с этим мальчиком. Но, к счастью, не слишком стар для того, чтобы помочь ему.
— Что будет, если мы откажем тебе, лорд Адриан? — спросил он.
Все умолкли: вопрос был более чем насущный. На лице Эда Эфрина появилось первое отчётливое чувство с того мгновения, как он заговорил. Чувство это было сожалением.
— Тогда ни один из вас не выйдет отсюда живым. После чего бонды, не пришедшие сегодня на тинг, поймут, что я настроен серьёзно, и придут ко мне сами.
«Не совесть, а страх. Тупой страх скотины за свою шкуру», — подумал лорд Ролентри и стиснул зубы. Как и лорд Флейн, он знал это всегда, но, в отличие от юного Эвентри, ему никогда не достало бы решимости сыграть на этом так дерзко. Этот щенок сам мог бы умереть сегодня вместо тех, кому угрожал. Мог бы, только мог бы. Потому что он сказал правду: среди них не было ни одного, чей клич «Руби его!» немедля подхватили бы остальные.
«Будь прокляты эти Эвентри», — подумал лорд Ролентри, лорд Флейн и каждый из лордов, которых в тот день получил под красно-белое знамя человек, игравший именами так же легко, как и целым миром.
И когда это стало ясно, он сошёл с помоста, преклонил колени, снял ножны с пояса, протянул их тингу и склонил голову. И все были потрясены, потому что вместо злорадного торжества он проявил внезапно смирение, которым все остальные начинали тинг. Они начинали — а он закончил.
— Вы не пожалеете, — сказал Адриан Эвентри. — Богами моими и вашими, памятью моего отца и братьев, честью матери и сестёр клянусь вам, что вы не пожалеете.
Он сдержал эту клятву.
* * *
Когда этот день кончился и бонды, отныне свободные лишь на словах и сами не понимавшие, как дёшево они продались, разошлись по отведённым для них покоям — каждый под надёжной охраной, — лорд Даррен Флейн передал через слугу, что хочет видеть лорда Адриана.
Эд надел под куртку кольчугу и пошёл — младшим полагается являться на зов старших.
Его шаг пружинил, он улыбался, той лёгкой и немного безумной улыбкой, о которой много могла бы порассказать Магдалена Фосиган, или аптекарша Северина, или великий конунг. Коридоры замка были пусты, у каждой двери стояли по двое стражников из гарнизона. Дверь в покои, отведённые лорду Флейну, не была исключением. Эд назначил ему северную спальню — ту, в которую, случалось, уходила мать в ночи, когда они с отцом особенно сильно ссорились. Окна в ней выходили на реку.
— А, мой мальчик, — прошамкал лорд Флейн, когда Эд вошёл. Час был поздний, но он явно не собирался ложиться спать и сидел в кресле полностью одетый, опираясь на клюку, с которой теперь не расставался. — Спасибо, что пришёл.
— Желание гостя закон для меня.
— Да, да… Вон, — сказал лорд Флейн своему камердинеру, топтавшемуся рядом и усиленно подавлявшему зевоту. Камердинер поднял с пола постель, которую ему разложили рядом с кроватью его господина, и ушёл в гардеробную.
— Надеюсь, вам удобно, мой лорд?
— Что? А, да, очень удобно. У тебя славный замок. Я его помню. Когда твоему деду лорду Уильяму было столько, сколько тебе сейчас, я частенько у вас бывал. Он тогда, правда, ещё не был лордом… и очень этим удручался, хе-хе. — Флейн снова сощурился, и стало совсем не видно глаз. — А ты сам-то себя как чувствуешь, сынок?
Эд слегка улыбнулся.
— А вы бы себя как чувствовали, мой лорд, если бы у вас под замкум сидела половина Бертана?
— Гм, — лорд Флейн задумчиво пожевал ввалившиеся губы. Эд смотрел на него и с трудом верил, что люди доживают до таких лет. — Славный вопрос. Не знаю, что тебе и ответить, потому как никогда не пробовал. Да и желания пробовать не было, так что… не представляю, какового тебе сейчас.
— Это легко представить, мой лорд. Вы же наверняка видели диких быков в загоне перед тем, как их выпускают на бой. Вообразите чувства того, кто открывает калитку.
Не надо было ему так говорить… последняя фраза была лишней. Он ощутил, как его голос дрогнул, и мог только надеяться, что лорд Флейн этого не заметил. Что заметил, а что нет этот старый пройдоха, по нему совершенно невозможно было сказать.
— Быки, вот оно как, — протянул он. — Ты мне льстишь, мальчик. Такого быка, как я, поздно даже и на убой — мясо чересчур жёсткое, не прожуёшь.
— Гилас с вами, мой лорд, на что мне ваше мясо? Это андразийские варвары жрут друг друга, словно дикие звери. А мне вас не надо.
— Вижу. Вижу, что не надо, потому тебя и позвал. Ты не лгал там, внизу. Я подумал сперва, что ты берёшь нас на слабину, — Флейн сердито погрозил Эду костлявым пальцем. — И без вас, дескать, справлюсь! И как бы это ты без нас справился?
Эд промолчал.
— Но потом, под конец, когда ты склонил голову перед тингом… В тот миг я увидел в тебе не только твоего деда, но и твоего брата. Первый умел грозить, второй — просить. И оба не знали, чего им на самом деле надо. Лорд Уильям был как все эти, — Флейн раздражённо махнул рукой себе за спину, подразумевая, видимо, прочих бондов. — Удали много, мозгов мало… мир праху его. Брат твой, Анастас, стал бы хорошим лордом, когда бы ему по-людски жить давали. Когда он нас созвал и повёл против Одвелла, он сам не знал, что за зверя выпускает из клетки. Знаешь, он очень хотел тебя найти. Ничего-то больше, ничего другого не хотел. Так мне и говорил: вот найду, дескать, Адриана, а потом спасу девочек — сестёр ваших, стало быть — и Бертрана, и мать… Да только сёстры твои рожают новых септ Одвеллам. Мать, я слыхал, помешалась, а младшему братишке ты совсем задурил голову. Что сказал бы на это лорд Уильям, я себе представить могу. А вот что бы сказал Анастас…
— Зачем, — спросил Эд, — вы говорите мне всё это?
Он теперь ясно видел, что не зря опасался от старого Флейна предательского выпада, но совершенно напрасно надел кольчугу. Лорд Флейн метил не в плоть, а в сердце.
Флейн помедлил, будто обдумывая вопрос Эда. Одна-единственная свеча теплилась на столе.
— Дурень Ролентри правду сказал, — проговорил он наконец. — Ты куда как наглее, чем был Анастас. И хочешь большего. Но вот на что оно тебе — этого я никак в толк взять не могу. Никто из твоих предков не жаждал стать конунгом. Если бы жаждали… что ж, теперь Фосиган созывал бы тинг, чтобы выжить тебя из Сотелсхейма. И неведомо ещё, пошли ли бы мы за ним… Но твой дед не хотел быть конунгом. Он хотел свободы и чести — того, о чём толкует Виго Блейданс. Подумать только, сколько лет на свете живёт, а всё как дитя… Но ты не таков, как Виго. И не таков, как был Анастас. Твой дед пёкся только о своём клане. Твой брат — только о своей семье. А о чём печёшься ты, Адриан Эвентри?
О чём печётся Адриан Эвентри? Да всё о том же. Сперва — мой клан, затем — боги, затем — конунг, затем — я. Это было то, чему научили Адриана Эвентри, то, что вложили в него. То, что богиня Янона Неистовая из него вынула и, дунув, разметала, будто пёрышки отцветающего одуванчика. Было — и нет.
Лорд Флейн подался вперёд, опираясь на клюку так сильно, что она тихо треснула. Его вечно прищуренные глаза раскрылись так широко, что Эд увидел их — желтоватый белок и выцветшую, почти белую радужку.
— Зачем тебе Сотелсхейм? Скажи мне, сынок.
— Если и скажу, вы всё равно не поверите.
Лорд Флейн откинулся назад и покачал головой.
— Твой юный брат, этот монашек, и Блейданс — они знали, что ты собираешься сделать?
«Ты убил бы их? — спросил его Бертран этим вечером, когда кончился тинг. — Адриан, ты действительно собирался их убить?» Виго Блейданс стоял в стороне и смотрел на Эда, и в глазах его был тот же вопрос.
Он не сказал им, что собирается сделать. Вооружить слуг велел якобы из простой предосторожности на случай вероломства; о том, что часть чужих людей перекуплены, ни Виго, ни Бертран не знали. Эд затянулся трубкой и выдохнул медленно, протяжно, так, словно с дымом из него могла выйти вся отрава, которой он был пропитан многие годы. «Нет, — ответил он им. — Конечно, нет». Они не знали, что в своей жизни он делал нечто худшее. Потому они поверили. Им было удобно верить. Это очищало их совесть.
— Не знали, — не дождавшись ответа, утвердительно проговорил лорд Флейн. — И однако же ты их заставил себе верить. Тебе говорили, что от тебя исходит что-то?.. Трудно сказать… — он пошамкал. — Ох, я стар, мальчик, совсем стар, всё как есть повылетало из головы… Что-то мне дует, будь добр, прикрой окно.
Эд подчинился, внимательно следя за стариком краем глаза. Он знал: тому достанет вертлявости швырнуть стилет в спину мальчишки, загнавшего его в угол.
Но Флейн ничего не сделал, только кашлял и ёжился, кутаясь в подбитый белкой плащ, пока Эд возился со ставнями. Отдышавшись, спросил:
— Если ты действительно не будешь облагать нас данью, то как ты собираешься держать нас в руках?
Эд опустил щеколду на ставнях, прежде чем ответить. Потом сказал:
— Никак. Я думаю, раз пойдя за мной, потом вы будете и дальше мне верить. Я знаю это.
«И я готов сказать вам, откуда это знаю — только спросите», — мысленно добавил он, чувствуя, что и впрямь готов рассказать старому Флейну о мальчике, который в ответе за всё. И это чувство наполняло его — уже в который раз! — знакомым, нетерпеливым, отчаянным ожиданием. Только спросите, мой лорд… Только спросите.
Но он не спросил. Никто никогда не спрашивал.
— Все вы, Эвентри, сумасшедшие, — проворчал лорд Флейн. — Один Ричард был человек как человек, и того порубили ни за что. Ты отдашь мне Кьелд, когда мы его возьмём?
— Отдам.
— Мне нравится наглость, с которой ты обещаешь то, чем пока ещё не владеешь. Хорошо. Ты получишь мои копья. И копья остальных тоже, если у тебя хватит ума поговорить с ними, как со мной, до зари.
— Раньше, чем они успеют поговорить друг с другом? — улыбнулся Эд, и лорд Флейн, хихикнув, стукнул клюкой по каменной плитке пола. Эд смотрел на него со странной смесью отвращения и симпатии. Он был рад, очень рад, что ему не пришлось убивать этого старика.
— А за твою смекалку, — сказал лорд Флейн, вновь прикрывая глаза, — вот тебе, лорд Эвентри, мой подарок. У твоего брата Анастаса была незаконная жена. Она родила ему дочь. Мы с Кордариолом в то время почли за верный шаг скрыть это — из сострадания к твоему клану. Мать умерла в родах, а девочку отправили послушницей в Скортиарский монастырь Гвидре. Её зовут Тэсса.
Наутро гонцы от каждого из свободных кланов разлетелись из Эвентри по всему Бертану. Самый быстрый из них, не зная ни минуты отдыха, мчался к Сотелсхейму. С собой у него было два письма. Одно — местре Адель, монахине-гвидреанке, которая в это самое время прибыла в город для тайной встречи с Шионом, одним из трёх верховных жрецов Анклава. Другое было адресовано вдове Северине из аптеки «Красная змея». Оно было очень коротким. В нём говорилось: «Собери всё, что тебе дорого, найми телохранителя и уходи из города. Сделай это для меня. Эд».
2
Одиннадцатого дня третьего весеннего месяца Грегор Фосиган, звавший себя великим конунгом, стоял на стене Тысячебашенного города, который за последние сорок лет привык считать своим, и смотрел вниз, на тех, кто пришёл, чтобы отобрать у него этот город. Стоящие рядом воины косились на него и перешёптывались — как казалось лорду Грегору, не слишком благоговейно, — но те, внизу, не знали, что он там. Он нарочно надел неприметные, простые одежды без цветов своего клана. Правда, подбитый соболями плащ всё-таки накинул — весна в этом году задерживалась, и наверху, на стене, северный ветер пронизывал до костей. Ох и ныли же в эти дни кости Грегора Фосигана, старые его кости, которые давали о себе знать осенью и по весне всё чаще с каждым годом, немилосердно напоминая о том, о чём он так упорно пытался не думать.
Впрочем, дело было не в костях. И даже не в том, что люди, окружавшие его сейчас, почитали малодушием и слабостью — он знал это наверняка, его шпионы были столь же ловки, как и сорок лет назад, когда он сам впервые вошёл в Золотые сотелсхеймские ворота. Теперь они были на запоре, уже вторую неделю, и рыночная площадь перед ними, видимая с того места на стене, где стоял сейчас конунг, вымерла и опустела. Некому торговать — город заперт.
И запер его тот самый мальчишка, которого лорд Грегор собственноручно вышвырнул вон. Опрометчивость, достойная или глупого юнца, или старого дурака.
Он снова и снова обводил взглядом армию, вставшую лагерем у самых стен, на расстоянии полёта стрелы. Их были тысячи. Когда ещё прошлой осенью лорду Фосигану донесли, что клан Эвентри снова собирает на севере армию свободных бондов, он едва обратил на это внимание. Эвентри всегда были буйными не в меру, один только бедняга Ричард выгодно отличался от своей беспокойной родни — чем конунг в своё время и воспользовался, приведя его клан под свою руку. В то время он был уверен, что лорд Уильям, отец Ричарда, был последним в своём роде. Не ветвь, но ствол — а коли ствол засох, всему дереву пропасть. Так и случилось. Так должно было случиться. Лорд Грегор был удивлён, озадачен, даже обеспокоен, когда Анастас Эвентри как-то сумел соблазнить свободные кланы на войну против Одвелла, которого считал виной всех своих несчастий. Фосиган наблюдал за этим из далёкого, защищённого, сытого Сотелсхейма, как наблюдает игрок за схваткой бойцовских петухов, им же выпущенных на ринг. В этой драке Фосиган ставил на бело-лиловое. Чтобы после, как водится, зарезать и съесть петуха-победителя.
Именно так он и поступил двенадцать лет тому назад, но, Молог раздери этих Эвентри, кто бы мог подумать, что цыплятки затоптанного петуха окажутся такими бойкими!
Впрочем, и здесь Грегор Фосиган сглупил, в полной мере являя миру слабость стареющего разума. Его интересовал тот из братьев Эвентри, которому хватило одержимости именовать себя Анастасом. В честь и память о старшем брате он взял себе это имя — и, видимо, намеревался повторить его подвиги. С куда как меньшим блеском, разумеется, — бонды, наученные прежним опытом, отозвались на повторившийся клич клана Эвентри с гораздо меньшей охотой. Фосиган это предвидел и был очень доволен, когда его ожидания оправдались. Оно и понятно: двенадцать лет назад они ещё боялись Одвелла. Теперь — нет. И, при всей их ненависти к тому, кто сидел на Сотелсхеймском троне, — не боялись именно благодаря ему. Тогда многие дивились, что он не казнил Дэйгона, оказавшегося в его руках. Не дивился только сам Дэйгон. Он держался спокойно и уверенно, почти доброжелательно — так, как всегда они держались друг с другом, оставшись наедине.
— А ты не боишься, — спросил его тогда Грегор, — что я отрублю тебе голову? А заодно и твоему клану, и всему вашему хвалёному Северу?
— Не отрубишь, — пожал плечами мужчина, сорок лет бывший его лучшим другом и главным врагом. — Ты не хуже меня знаешь, что такое клан. Он как гидра. На месте отрубленной головы вырастет семь новых.
«И Бертан, — думал теперь конунг, глядя на пёстрое марево знамён, расцветившее долину перед Сотелсхеймом. — Бертан точно такой же. Отрубишь одну голову — вырастет семь новых. И каждая, едва продрав глаза, кинется кусать другую».
Он не думал, что их так много. До недавнего времени в Бертане оставалось девятнадцать кланов, не присягнувших ни лорду Сотелсхейма, ни Северному лорду. Они тихо сидели по своим норам, боясь высунуться лишний раз, — потому что это было чревато для них слишком большим риском потерять то, за что они продолжали отчаянно цепляться. Септами Одвелла называли себя шестьдесят девять кланов, Фосигану присягнули восемьдесят три. Цифры эти, а также стоявшие за ними земли, замки, мечи и средства говорили, казалось, сами за себя. И, однако, теперь под стенами самого безопасного города в мире стояли не сотни — тысячи и тысячи воинов, и не единицы — десятки разноцветных знамён реяли над их головами, терзаемые злым северным ветром. Он дул в сторону Сотелсхейма, и полотнища стягов рвались к стенам, словно в яростном нетерпении, — так хотелось им поскорее украсить собою эти стены.
Почему их было так много?
«Я что-то упустил, — думал Грегор Фосиган, кусая нижнюю губу. — Что же?»
Он знал ответ, и в то же время не знал. Всего два столетия назад Великая перепись, учинённая конунгом Дерриком, возвестила, что в Бертане числятся более девятисот крупных и мелких кланов, большинство их которых состоит друг с другом если не в кровной вражде, то в кровной связи, а иногда одновременно в том и в другом. Конечно, связь эта в основном только и ограничивалась радостной готовностью всегда выпить или подраться вместе, отбить набеги варваров или погулять на свадьбе своих детей. Но когда конунг Данэльд решил, что пора объединить Бертан под одной рукой — разумеется, под своей собственной, — всё изменилось. Мир разделился надвое: те, кто сдались Данэльду, и те, кто сдаться не пожелали. Последние тоже раскололись: часть пошла за Локхартом, решившим, что на его кудрявой голове золотой венец будет смотреться лучше, чем на лысой башке Данэльда, остальные же не видели между ними особой разницы и желали оставить всё как было. Среди этих последних больше всех надрывались речами о свободе Флейны — и, судя по тому, что докладывали лорду Грегору, это стало у них традицией, передававшейся от отца к сыну. Он и сейчас видел их лилово-оранжевые цвета, реявшие по левому флангу лагеря. Как же смог мальчишка Эвентри заставить старого проходимца предать свою глупую гордость, как заманил старика под свои знамёна?..
«Так же, как и меня», — подумал лорд Фосиган.
Потому что именно этот мальчишка Эвентри, старший из двух, был на самом деле причиной всего, что творилось сейчас у ворот Тысячебашенного города — по обе их стороны.
— Мой лорд, — сказал Давон, всё это время молча стоявший рядом, — вы выйдете к ним?
Лорд Грегор слегка нахмурился. Выйдите к ним да выйдите — упрямый осёл Давон заладил твердить это с первого дня, когда армия Эвентри и свободных бондов подошла к городу. Они продолжали звать себя свободными бондами — смех, да и только! Вряд ли многие из них понимали, чем окончится для них дело, если свершится чудо и по воле богов Эвентри войдут в Сотелсхейм. Один конунг сменится другим, только и всего. И они, те, кто помогли ему, окажутся связаны с ним оказанной помощью. Они начнут требовать привилегий, земель, замков — требовать как награды и милости, забыв о том, что ещё год назад ни у кого ничего не просили. Что почитали за высший позор — просить, и даже брать то, что дают без просьбы. Если бы брали, Фосиган купил бы их давным-давно… Но теперь они не попросят — о нет, потребуют! «Конунг Эвентри, — скажут они, — мы привели тебя сюда — теперь плати». Честная сделка, не больше и не меньше. Честная сделка, превращающая их в его септ не словом, но делом. Он купил их со всеми потрохами, и они, так гордившиеся своей неподкупностью, даже не поняли этого.
Он был редкий ловкач, этот маленький ублюдок из Эвентри. Грегор Фосиган понял это на себе, но, увы, слишком поздно. Потому теперь, вызывая удивление и раздражение своих советников и полководцев, не мог к нему выйти.
Он понял, насколько серьёзно на самом деле всё обернулось, когда до него дошла весть о расправе, которую учинил над Дэйгоном Одвеллом Бертран Эвентри. Старший его брат, по слухам, тоже был при этом — и не вмешался. Эти двое безумных мальчишек сделали то, на что более сорока лет так и не поднялась рука у самого Фосигана — разрушили равновесие, существующее между лордами Бертана. Север и юг, самопровозглашённый владыка в Сотелсхейме и вечно голодный северный волк — они удерживали чаши весов, не давая им перевесить друг друга, а меж ними, словно растревоженный улей диких пчёл, металось то, что осталось от некогда великого и свирепого бертанского народа — свободные кланы. Их можно было разделить, смутить, вырезать, переманить одного за другим, но они никак не хотели исчезать до конца. Это слишком большое, слишком долгое дело, и мечтой лорда Фосигана было довести его до конца — или хотя бы взрастить наследника, который продолжит и завершит начатое. И тогда не останется извечного источника пополнения сил для лордов Севера, каковыми вот уже полвека были Одвеллы. И Одвеллы склонятся… но не раньше, чем это сделают последние из свободных бондов. Лорд Грегор знал, что это всего лишь вопрос времени, осторожности и терпения. Беда была в том, что своенравная Тафи, заступница клана Фосиган, не наделила его ни терпением, ни осторожностью. Да и верно — не те это черты, о которых стоит молить богиню игроков.
Адрик Давон всё так же стоял рядом и выжидательно глядел на своего конунга. Он ждал. Фосиган не мог ему ответить. Он не мог покинуть Сотелсхейм — никогда не мог, с того самого дня, как впервые вступил в его стены. Знать бы тогда, что величайшая награда, величайший форпост, оплот его мира превратится в тюрьму. Никто никогда не знал, как шаток он, этот трон Сотелсхейма — никто, кроме тех, кому довелось на него воссесть. Воистину шаток — в той же мере, в какой неприступен. Вся сила, вся власть Сотелсхеймского конунга держалась лишь на неустойчивости его главного соперника. Двести лет назад Данэльд одолел сопротивление свободных кланов лишь потому, что с другой стороны им грозил Локхарт. Часть из них желали рыжего конунга меньше, чем лысого; часть побежала под крыло к тому, кто был ближе или пришёл на их земли первым, предлагая выбор между смертью и верностью. Сам того не зная, Локхарт посадил Данэльда на трон города, который тогда звался Данэльдом — а не Сотелсхеймом, как ныне, и весь состоял из пристроек к замку, где жил теперь великий конунг со своей роднёй. «Через двести лет история повторилась — она всегда повторяется, — подумал лорд Грегор с кривой усмешкой. — Одвелл посадил на трон Фосигана, а помог ему в этом Уильям Эвентри, люто ненавидевший обоих, потому что оба они хотели одного и того же — поработить его, а потому были равны перед ним. Если бы каждый из тех, кто звал себя свободным бондом, понимал это — ни Фосиган, ни Одвелл не дошли бы до Сотелсхейма». На деле два великих клана соперничали не между собою: они воевали с Эвентри, с ним одним, со всем, что он отстаивал и что не хотел им уступать. Это была война не клана против клана за бульшую власть; это был старый мир против нового, не так уж и крепко вставшего на ноги за двести лет, которые отделяли свободный Бертан от Бертана, благоговейно глядящего на Сотелсхейм.
Сотелсхейм… Город Тысячебашенный, выросший на костях и крови. Он был неприступен — так говорили те, кому не удавался приступ. Он был безопасен — так говорили те, кто всю жизнь провели в его стенах, под защитой конунга, стянувшего в город все свои силы, засевшего, словно паук в паутине. Здесь он был хозяином, и здесь он был непобедим. Но стоит ему выйти за стены — и вся его мощь обратится прахом. Восемь десятков кланов, присягнувших ему, привычно заняты междоусобными сварами — редкие из них смогли прислать более чем по пятьдесят копий. Они исправно платили дань, и на эту дань Фосиган строил и достраивал свой Тысячебашенный город, превращал его в твердыню, равной которой нет на свете. Он строил страну в стране. Он никогда не был великим конунгом Бертана. Он был великим конунгом Сотелсхейма. Те немногие, кто понимали это, считали его трусом. Но Грегор Фосиган не видел позора в том, чтобы быть трусом ради величия и сохранения того, во что вложил свою жизнь.
Кроме того, он ведь не собирался останавливаться на достигнутом. Все эти годы он старательно провоцировал свары на севере, натравливал бондов на Одвелла, а Одвелла на бондов, сам же оставался в стороне до той поры, пока не убедился, что они достаточно потрепали друг друга. Это действовало прекрасно — он был более чем доволен исходом войны Одвеллов с Эвентри двенадцать лет назад. Когда всё было кончено, Грегор велел дать Дэйгону Одвеллу коня и вместе с ним выехал на холм, с которого открывался вид на выжженную, залитую кровью долину. Он указал ему на эти пепелища, на замок, на небо и землю до самого горизонта. И сказал:
— Этот мир — мой.
Он был совершенно невозмутим; он не сомневался в том, что делает. Дэйгон коротко улыбнулся ему, и в улыбке сквозила печаль. Он признал своё поражение ещё за двадцать пять лет до того и успел смириться, хотя никогда бы не признался в этом открыто. Его сыновья — один амбициозный наглец, другой драчливый дурак, — не позволили бы ему признаться. Они мнили себя лордами Севера, не понимая, что лорды Севера всегда были и остаются пешками, необходимым злом, которое терпит тот, кто хочет в конечном счёте получить всё. Дэйгон понимал это, и он устал от этой роли. О, Грегор Фосиган как никто видел, до чего он тогда устал. И был, возможно, даже рад тому, что в итоге вновь проиграл. Если бы ему позволили просто сдаться и отдохнуть… Но нет — септы Одвеллов, большинство из которых ещё вчера звали себя свободными бондами, помнили о своей свободе слишком хорошо — и хотели воочию видеть, за что её продали. Они были как улей, растревоженный нападением медведя. Медведь давно ушёл, но улей всё ещё зол и готов накинуться на первого, кто подойдёт слишком близко… А ещё гордыня, непомерная гордыня и нежелание покоряться, нежелание понять, что мир велик и в конечном итоге либо поглотит тебя, либо подомнёт под себя и перемелет твои кости, обратив тебя в прах.
Лорд Грегор смотрел на месиво цветных полотнищ внизу и думал о том, чего так давно не видел, — о море. Море! Он думал об этом ещё во времена первого нашествия андразийцев, произошедшего на его памяти. Фосиган давно построил бы флот, но берега Бертана слишком скалисты, в них мало бухт, подходящих для портов. Лес для строительства растёт на земле фосиганских септ, подходящие для портов берега держит Одвелл, у свободных бондов — деньги, сохраняемые от конунговых податей, и каменоломни для дорог. Это большое дело, и делать его можно лишь вместе. Когда-то нашествия варваров и чёрная оспа объединяли Бертан. Слишком давно не было ни варваров, ни оспы… Фосиган всегда знал, что стоит ему ввязаться в драку всерьёз — он увязнет в ней так же, как Одвелл. Пока же Северный лорд успешно перетягивал на себя внимание и зло свободных бондов — они не смели кусать за пятки великана из Сотелсхейма, потому с лаем носились за хищником помельче, старым, больным хищником, один за другим терявшим своих детёнышей. И с торжеством, и с болью смотрел на это Грегор Фосиган. Он мог бы быть на месте Дэйгона, если бы что-то сложилось тогда иначе… если бы Дэйгона не подкосило предательство старшего сына, если бы он не сдал тогда…
Сыновья. Всё так или иначе сводится к сыновьям. Дэйгону не везло и здесь: старший, Тобиас, предал отца со всей безрассудностью юности, навязав своему клану смертельную вражду с Эвентри. Двое младших тоже не понимали его, а лучший из них полёг от руки Анастаса Эвентри. Оставшийся же чересчур вспыльчив и глуп, и теперь, после смерти отца, от него не будет никакого проку — Одвеллы увянут и растворятся в суровой мгле истории так же, как многие великие кланы до них. «А я? — спросил себя Грегор Фосиган. — Кого я оставлю после себя?» Квентин ещё слишком юн. Он мог бы вырасти мудрым, рассудительным, разумным правителем, но ему не хватает характера. Лорд Грегор особенно ясно увидел это после прошлогодней истории с борделем, в которую он так глупо впутался, и из которой не выбрался бы сам, если бы не Эд…
— Эвентри снова прислал парламентёра, — кашлянув, проговорил Давон. — Мой конунг, может быть, вы всё же…
— Оставляю стену на вас, Адрик, — не дослушав, перебил тот. — Если заметите малейшее движение в лагере — немедленно дайте мне знать.
Он повернулся и стал спускаться, и недовольное «Да, мой конунг» полетело ему в спину, будто ком грязи. Лорд Фосиган не обернулся. Он не ответил ни на один из взглядов, обращённых к нему, пока спускался со стены и шёл по городу к Верхнему Сотелсхейму — пешком, так же, как прибыл сюда. Ему хотелось хорошенько рассмотреть город, заглянуть в глаза его обитателям, которые вот уже без малого сорок лет безоговорочно верили ему. Он знал, что их вера не пошатнётся даже из-за вражеской армии, стоящей у ворот. Знал… и всё же хотел лишний раз убедиться в этом.
За два месяца, которые Сотелсхейм провёл в осаде, город мало изменился. Две из трёх рыночных площадей опустели, торговля велась лишь на центральной, исконно принадлежавшей самим сотелсхеймцам. Цены там выросли впятеро и продолжали расти, несмотря на то, что Фосиган постоянно пополнял городские амбары провизией из собственных закромов. В целом же город, казалось, жил привычной жизнью, даже повеселел, ибо лорд Грегор распорядился увеличить число и размах развлечений для народа. Больше балаганов, больше эля, больше казней. С последним было проще всего: головы с плеч конунговых септ полетели ещё до того, как армия Эвентри приблизилась к Сотелсхейму. Дерри и Иторн, беспрепятственно пропустившие трёхтысячную армию под бело-красными знамёнами, первыми легли на плаху. Фосиган надеялся, что это послужит предостережением для остальных. Но страх не мог дать им копья, которых у них не было. Ни один из его септ не был способен в одиночку сдержать подобную силу. Они заламывали руки и строчили в Сотелсхейм жалостливые письма, пытаясь оправдаться, молили о помощи. Лорд Грегор поморщился, вспоминая эти письма. Помощь! Это они, его септы, обязаны были прийти на его зов, а уж никак не ему, их конунгу, полагалось бросить всё и очертя голову кинуться им на выручку…
Хотя именно это он должен был сделать. Раньше, намного раньше, чем стало очевидно, что те, кто присягнули ему на верность и кого он многие годы считал своими людьми, предадут его так же легко и охотно, как сам он предал клан Эвентри двенадцать лет назад.
Эвентри прошёл сквозь земли его септ, как горячий нож сквозь масло. И вот он у ворот, а уличные шуты кривляются на площадях, разыгрывая сценки, в которых белобрысые карлики забираются на шею к великанам с конунгским венцом и с гиканьем гоняют их на потеху толпе, встречавшей это зрелище хохотом, за которым таился страх. Год назад он велел бы вырвать этим шутам языки. Сейчас же — он знал, что они правы, и ему некого винить в этом, кроме самого себя.
Лорд Фосиган был не в своих цветах и без свиты, поэтому неузнанным дошёл до замка, услышав и увидев больше, чем ему бы хотелось. В полдень у него был назначен малый совет, и до этого срока оставалось чуть меньше часа, который он хотел провести в тишине и покое.
Но и в этом ему было отказано. Войдя в зал для советов, который должен был в это время пустовать, лорд Грегор увидел Эмму.
— Скверная сегодня погода, — сказала она, едва он ступил на порог; и впрямь, с рассвета моросил противный, мелкий дождичек. — И надо было тебе из дому уходить — вот схватишь простуду и сляжешь, попомнишь потом моё слово! Я велю тебе грога сварить. — И, не дожидаясь ответа, она подёргала за шнур звонка, вызывая слугу.
Лорд Грегор улыбнулся краем губ. Трудно было гневаться на неё. С тех пор, как умерла Магдалена, леди Эмма разогнала всех своих дам — она говорила, что они её раздражают, но Фосиган знал, что она просто слишком горда, чтобы делить с кем бы то ни было своё горе. Она не делила его даже с ним. Даже в самые первые дни. Они не говорили о Магде, но за последний год он всё чаще заставал леди Эмму не в саду и не в рукодельной, а в зале малого совета или в своих собственных покоях. Он так и не смог толком понять, почему её вдруг так потянуло к нему, за кого она боится больше — за него или за себя. Как бы то ни было, он не мог её гнать. Да и не хотел.
Когда слуга принёс грог, леди Эмма отобрала у него поднос и отослала прочь. Налила сама Грегору и себе, двигаясь с лёгкостью и грацией, которые были свойственны ей и теперь, в семьдесят два года, почти в той же степени, что и пятьдесят лет назад, когда совсем юный ещё Грегор Фосиган впервые увидел сестру своего отца, рано овдовевшую и пожелавшую вернуться в родительский клан. Она так и не вышла замуж второй раз, не родила детей. Она всегда была рядом с ним, с его собственными жёнами и детьми, когда они появлялись, а потом умирали. Грегор Фосиган смотрел на её сухие, маленькие ручки, ловко управлявшиеся с тяжёлой серебряной посудой, и в тысячный раз за эти годы думал, что боги сыграли с ними злую шутку, родив от одной крови.
— Вот так. Пей. Ты как мальчишка, Грегор, даром что весь облысел, и загонять себя позволяешь, будто мальчишке. Ну почто ты бегаешь на эту стену каждый день? На что ты там смотришь?
Он никому не говорил, что ходит туда каждый день. А она так и не избавилась от дурной привычки за ним шпионить, хотя он сто раз приказывал ей прекратить.
Он не ответил на её вопрос, но ответа и не требовалось — леди Эмма его знала. Она сердито вздохнула, помешивая ложечкой специи в гроге. За окном чуть слышно шелестел дождь, зал полнился ароматом корицы.
— Эмма, когда мы успели так постареть?
Она передёрнула острыми, костлявыми плечами — они и в юности были такими. Она никогда не была красавицей, и потому перенесла пору увядания много легче, чем другие женщины. В некотором смысле за все эти годы она не изменилась вовсе. Может быть, поэтому лорду Грегору, глядя на неё, так трудно было поверить в возможность конца.
— Всегда-то ты всё замечаешь последним, Грегор, — фыркнула леди Эмма и приложилась к кубку. Потом спросила: — Ты ведь и правда любил этого мальчика, да?
Она всегда смотрела в корень, всегда умела спросить, и никогда он не мог злиться на неё за это. Любил ли он этого мальчика?.. Наверное. Иначе не отдал бы ему Магдалену. Прочие — те, кто знали его хуже, чем Эмма — могли строить какие угодно домыслы, но на самом деле он отдал за него Магду, а не Лизабет, именно потому, что любил Магду больше.
— Ты всегда был сентиментальным дурнем, — проворчала Эмма. — А с годами стал ещё глупей. Без меня бы ты совсем раскис и, чего доброго, ещё в том году сделал его своим наследником.
— Не говори ерунды, — не выдержал он наконец — порой она уж совсем забывалась.
Кто угодно, кроме Эммы, прикусил бы язык от его окрика. Но не она. Они оба помнили, как полвека назад она отчитывала его за то, что он перевернул чашу с вином и испортил ей платье.
— А что, скажешь, нет? Ты принял его в клан, отдал ему свою дочь. Ты пьянствовал с ним ночи напролёт и потворствовал глупым сплетням, которые ходили о вас в городе. Ты прощал ему такое, за что любому другому снял бы голову. Неужто ты впрямь думал, что он никак не воспользуется этим? Побойся богов, Грегор! Он ведь внук своего деда. Ты всегда это знал.
— Он прежде всего сын своего отца.
— А, этого… как же его там звали-то… ох, Тафи, совсем память у меня отняла… Роберт?
— Ричард.
— А, верно — лорд Ричард из клана Эвентри. Первый и последний Эвентри, которого ты сумел-таки загнать себе под сапог. Я говорила тебе, что они все бешеные, нельзя было с ними связываться. Ричард, да, конечно… с чего это я назвала его Робертом?.. А! Роберта! Её ведь Робертой звали, верно?
Он молча кивнул. Леди Эмма удовлетворённо вздохнула и откинулась на спинку кресла.
— Видишь, кой-что ещё помню… Роберта Эвентри. В девичестве… ох… Карлайл! Карлайл в девичестве? — Не получив ответа, она засмеялась так довольно, словно получила неопровержимое подтверждение своих слов. — Роберта из клана Карлайл, в замужестве — леди Эвентри, супруга лорда Уильяма! Видишь, Грегор, я всё помню.
— Я тоже, — сказал он. «Ах, дорогая, любимая тётушка, ты никогда не была так глупа, как старалась казаться. Зачем же ты теперь делаешь это со мной? Чего добиваешься?..»
Дело ведь не в Роберте Эвентри. В ней тоже, но… не только в ней. О да, юный, сильный, богатый Грегор Фосиган был до глубины души оскорблён, когда эта своенравная девчонка из второстепенного клана отдала предпочтение не ему, а уже тогда безумно старому (сорок лет казались двадцатилетнему Грегору порогом могилы), уродливому и злобному лорду Уильяму. Он бы отчасти утешился, если бы Роберту отдали за него против её воли, но это было не так. Она его любила. Она родила ему троих сыновей в первые же три года, и, Грегор знал это, именно она подогревала в своём муже неприязнь к Фосиганам. Уильям Эвентри был хотя и свиреп, но благороден до безрассудства, и с радостью пошёл бы на мировую с проигравшим соперником из одного только желания скрасить ему горечь поражения. Но Роберта не позволила этого. Она ненавидела Грегора Фосигана, ненавидела так же сильно, как он её любил. Он так и не понял, что именно в нём вызывало в ней столь сильную неприязнь. Но её слова, сказанные ему в день его сватовства, и теперь, почти полвека спустя, всё так же звучали в его голове. Он столько обещал ей… так умолял… он сказал, что станет конунгом и сложит к её ногам весь мир. А она выслушала и сказала: «Если отец отдаст меня за вас, я убью себя».
Он так ей этого и не простил.
Но всё же нет, не только в Роберте Эвентри было дело. Дело было также и в её муже Уильяме, противившемся вступлению Фосиганов в Сотелсхейм. Дело было в их детях — красивых, сильных, умных сыновьях, рождавшихся у этих двоих, которых Грегор Фосиган ненавидел с равной силой — тогда как у него самого в то время вовсе не было детей из-за бесплодия первой жены, а от второй родилась только Лизабет. Квентин появился на свет уже после смерти лорда Уильяма, и тот отошёл в могилу с лютой, хотя и глубоко похороненной ненавистью лорда Фосигана, на которую отвечал ненавистью столь же сильной, но куда более благородной. Ох эти Эвентри! Всё-то у них получалось делать благородно — даже ненавидеть. Грегор Фосиган так не умел. Он завидовал, он был оскорблен отвергнутым чувством и отвергнутой дружбой и ненавидел именно за это. Самая сильная неприязнь рождается из отвергнутой привязанности.
Поэтому двенадцать лет назад он выбрал именно Эвентри для того, чтобы стравить Одвеллов с бондами. То, что Ричард, единственный сын Уильяма и Роберты, уцелевший после эпидемии чёрной оспы, успел присягнуть клану Фосиган, не имело значения — эта присяга утешила оскорблённую гордость Грегора лишь отчасти. Он хотел уничтожить Эвентри. Они вообще не имели права родиться — никто из них. Роберта должна была достаться ему, и это были бы его сыновья… и его внуки.
Когда четыре года назад к нему пришёл юноша, называвший себя Никто из города Эфрин, Грегор Фосиган первым делом отрядил своих осведомителей на тщательнейшее расследование его происхождения и личности. Слишком складным выглядело совпадение. Выяснить удалось немного. К заговору Макатри он не имел никакого отношения и, похоже, действительно узнал о нём случайно — двое конюшенных мальчишек, посвящённых в сговор с целью убийства конунга на охоте, слишком громко трепали языками в придорожной таверне. Вместо того чтобы шантажировать их, Эд Эфрин направился прямиком к Фосигану. Прежде чем оказаться в том трактире — и так удачно оказаться, Молог его дери! — он путешествовал, а вернее, бродяжничал где-то за Косматым морем. Побывал в разных странах, включая Фарию, в которой задержался дольше всего. Он почти пять лет прослужил у одного фарийского лекаря, читавшего лекции в крупнейшем университете Ильбиана. Служба у образованного, если не сказать выдающегося человека могла объяснить выговор и манеры Эда Эфрина, который называл себя безродным, но вовсе не выглядел таковым. Откуда и когда он прибыл в Фарию, оставалось неизвестным довольно долго; наконец (Эд уже почти год пробыл в Сотелсхейме, когда до конунга дошла эта весть) выяснилось, что много лет назад он пятнадцатилетним мальчишкой отплыл из Кейна на торговом судне, шедшем в Фарию, и, нанимаясь, сказал, что видел своими глазами «Светлоликую Гилас». Конунг помнил этот давний амбициозный проект Эли Бьярда, провалившийся шумно и довольно зловеще, когда уже полностью готовый к отплытию корабль сгорел дотла прямо в порту. Расследование, проведённое в Эфрине, доказало, что мальчик действительно прослужил неделю на этом корабле. Однако дальше его следы терялись бесследно. Всем ищейкам Грегора Фосигана не удалось узнать, как и когда он попал в Эфрин, откуда пришёл и каково его настоящее имя.
Впрочем, к тому времени лорд Грегор уже получил ответ на последний вопрос.
Он сразу, с первой же встречи заметил внешнее сходство. Не с отцом и не с дедом, как теперь многие утверждали. Нет. Он был похож на Роберту. Именно поэтому конунг выслушал его в первый день и даже последовал его совету. Это спасло лорду Грегору жизнь и одновременно смутило его. Если этот мальчик — действительно Эвентри, то почему он спас конунга, вместо того чтобы позволить ему погибнуть? Может быть, он не знал, кем на самом деле был организован набег на его клан?.. Но он знал, во всяком случае, догадывался, и Фосиган вскоре окончательно в этом убедился, напоив мальчишку и вызвав на откровенный разговор. Конунг не называл никаких имён и не задавал вопросов. Просто рассказал, как двенадцать лет назад изыскал способ стравить двух своих главных врагов — клан Одвелл и непокорных бондов, — посредством третьего, тайного врага, которого лорд Грегор, даже покорив, так и не смог простить. Он не мог простить Уильяма и Роберту Эвентри. Не мог простить их одержимости друг другом и тем, что они называли честью и свободой. Не мог простить им их детей и их внуков, украденных ими у него.
Один из этих внуков сидел, откинувшись на спинку кресла, и смотрел на него прищуренным, насмешливым взглядом.
Ему как будто было всё равно.
Тогда-то Грегор Фосиган и совершил ошибку, за которую платил теперь, каждый день выходя на крепостную стену своего города. Он позволил себе поверить в чужую слабость, трусость и зависимость. И позволил себе полюбить, потому что только таких — слабых и зависимых — он любить и умел. Признавшись Адриану Эвентри в своих преступлениях перед его кланом и не получив в ответ ожидаемой злости и ненависти, лорд Грегор вообразил, будто превратил его в свою собственность. Мальчишка приполз к нему на брюхе, отказался от родового имени, вступил в клан Фосиган — он не был больше Эвентри, но в то же время был. Случись это не теперь, а пятнадцать лет назад, до рождения Квентина, Фосиган безжалостно уничтожил бы Адриана Эвентри, так же, как уничтожил весь его род. Но годы, подоспевшее наконец собственное счастье и свершившаяся месть смягчили ненависть — и обострили вину. Боги были на стороне Фосигана и наглядно это показали: Уильям Эвентри потерял жену, потом умер сам в горе и позоре, доведя до петли собственную дочь, его сыновья, кроме самого слабого и безвольного, умерли вместе с ним. А Фосиганы жили. Их не брала оспа, они плодились, они крепко сидели в новообретённом Сотелсхейме и были на вершине мира. Они процветали, тогда как враги их переживали горе, отчаяние, гибель. И настал миг, когда Грегор Фосиган подумал, что, быть может, был к ним чересчур жесток. Счастливые столь же великодушны, сколь жестокосерды несчастливые.
«Твой внук, Роберта, мог бы быть и моим внуком. Нашим с тобой», — подумал он тогда и сделал Адриана Эвентри Эдвардом Фосиганом. К тому времени он окончательно уверился, что мальчик хотя и мил, но непроходимо глуп; открыт и дерзок, но в то же время льстив и лицемерен больше, чем любой из окружения конунга. Он сумел привязать к себе лорда Грегора — и совершенно этим не пользовался. Он не требовал почестей, должностей и богатств, право на которые давало ему новообретённое положение; женитьбой на Магдалене он был больше раздосадован, чем польщён. Они с Магдой не очень ладили, и лорда Грегора это печалило. Ему хотелось видеть счастливым этого мальчика.
А мальчик, как оказалось, не хотел быть счастливым. Он хотел уничтожить клан Фосиган — так же, как когда-то уничтожили его собственный клан. И он был осторожен. «О, Молог, он был очень осторожен, а я был слепым глупцом, — подумал лорд Грегор. — Я взял его к себе, я любил его, как родного, я хранил его тайну, дал ему шанс начать жизнь заново — довольную, беспечную, сытую жизнь… А он отплатил мне тем, что отнял у меня мою дочь. И теперь хочет отнять мой город… отнять всё, что делает меня мной. Всё, что я когда-то обещал наглой, холодной, недоступно прекрасной леди Роберте. Всё, что она когда-то отвергла».
— Грог совсем остыл, — сказала Эмма. — Пей, Грегор. Пей и не думай ни о чём. Завтра ты к нему выйдешь. Ведь, в конце концов, он делает лишь то, что должен. Разве ты на его месте поступил бы иначе?
Конунг не ответил. Его ладони неподвижно лежали на стенках чаши, холодных, немых.
Шум за дверью заставил его поднять голову и слегка нахмуриться — членам малого совета полагалось приближаться к конунгу с большей почтительностью. Когда в распахнутую настежь дверь ворвался Малкой, после казни Иторна выполнявший обязанности сенешала, Грегор Фосиган понял, что малый совет отменён и что дела нынче не поправит никакой совет — ни малый, ни большой.
— Великий конунг! Я прошу нижайше смилостивиться и соблаговолить…
— В чём дело? Говори без предисловий.
— Жрецы Гилас идут по улицам священным ходом! Они поют гимны и призывают народ идти с ними! И многие идут!
— Что ж, — подумав немного, сказал лорд Грегор, — сейчас это и впрямь не повредит. Если после двух месяцев осады они ищут опоры и стойкости в богах, не вижу в этом ничего дурного…
— Мой конунг, — губы, руки и колени Малкоя тряслись. — Жрецы не призывают искать опору и стойкость в богах. Они призывают открыть ворота и впустить Эвентри!
— Что?! — Лорд Грегор вскочил и услышал грохот. Это перевернулось кресло, на котором он сидел мгновенье назад, но он сам не помнил, как толкнул его. Суставы вдруг свело немилосердной болью.
Леди Эмма поднесла к губам кубок с грогом. Её лицо было спокойным. Оно всегда было таким с того дня, как тело Магдалены опустили в склеп клана.
«Гилас, — подумал Грегор Фосиган. — Что же я упустил?»
3
Их было много. Как их было много! Неизмеримо больше, чем он мог надеяться. Больше, чем предрекал лорд Флейн, хотя лорд Ролентри, морщась, называл его ожидания неоправданно радужными.
«Алекзайн, — мысленно позвал Эд женщину, с которой привык вот так, одностороннее, спорить, досказывая ей то, что не сумел сказать когда-то очень давно. — Ты хотела, чтобы я пришёл к конунгу и попросил его корабли. А я вместо этого сжёг его корабль и могу сжечь теперь его самого». Он представил, как высокие белые стены, вздымающиеся перед ним, обагряются пламенем — незатухаемым, несбиваемым пламенем, которое не в силах обуздать ни вода, ни песок. Огонь, который не унимается, пока не выжжет дотла.
«Я знаю, что это за огонь», — подумал Эд и, обернувшись, посмотрел на людей, пришедших сюда со всего Бертана — за ним. Посмотрел в изумлении, почти в страхе — с тем же чувством, с которым в это самое время Грегор Фосиган смотрел на них с Сотелсхеймской стены. Они не видели друг друга, но думали примерно одно и то же.
Как случилось, что все эти люди — те, кто ещё вчера боялись имени Грегора Фосигана, и даже те, кто были ему верны — пришли сюда и встали против конунга?
Как ни смешно, Эда Эфрина этот вопрос мучил не меньше, а то и больше, чем его противника. Это мучило его всегда, с того самого дня, когда человек, называвшийся себя Томом, вылил на свою голову бадью воды и, страшно поблескивая белками глаз с мокрого лица, глухим и жёстким голосом сказал ему, что он, Адриан Эвентри, в ответе за всё, и будет в ответе за всё, даже если не сможет понять, каким образом в происходящем есть его воздействие — и его вина. Позже та, кто звала себя Алекзайн, сказала, что главное для него теперь — это научиться понимать, научиться хотеть. Он думал, что понял её правильно. Что понимать и хотеть — это одно и то же. И то, что за прошедшие годы ему очень часто приходилось делать то, что вовсе не приносило ему радости, но оттого не переставало быть необходимым — даже это нисколько его не переубедило. Он знал, что ему достаточно шевельнуть пальцем, чтобы обрушить страшную лавину неотвратимых последствий.
Но никогда прежде лавина эта не была так велика. Никогда прежде он не стоял перед ней, боясь, что в следующий миг она раздавит его самого. И когда он думал об этом, ему хотелось, как в детстве, сунуть в зубы кулак и стискивать их до тех пор, пока во рту не станет солоно от крови.
Это началось с гибели Магдалены и теперь набирало силу. Девять недель назад, едва закончились дожди и пробилась из-под грязного снега первая трава, пятнадцать свободных кланов во главе с Бертраном и Анастасом Эвентри выступили на юг. Позади они оставляли выжженное поле: ещё осенью Бертран при поддержке бондов выступил на Одвелл и сровнял его с землёй, благо новоявленный лорд Редьярд так и не сумел побороть смуту среди своих септ и вовремя призвать их к оружию, потому стал совсем лёгкой добычей для всё ещё жаждавшего крови Бертрана. Эд позволил своему брату сделать всё, что тот считал необходимым, хотя в глубине души и не одобрял его. Но спорить с Бертраном он не смел, боясь, что тот так и не простил ему вероломства на тинге, закончившегося захватом глав едва ли не всех свободных кланов. Ещё до рассвета пленники превратились в союзников и товарищей по мечу — но Бертран, неистовый Бертран, которому ничего не стоило вырезать под корень вражеский клан, возмущённо протестовал против резни, не обставленной по всем законам чести. Он слишком много думал о Дирхе и слишком часто его поминал. Эду же была равно омерзительна любая резня — хоть честная, хоть нет, — и он равно не брезговал ни той, ни другой, когда иного выхода не было.
Сейчас он смотрел на стены города, который намеревался взять, и больше всего на свете боялся, что эта резня станет неминуема.
Они едва успели отойти от Эвентри на пять лиг, когда их нагнал Тортозо с восьмьюдесятью всадниками — все кровные родственники главы клана, как законные, так и бастарды. Эд крепко пожал зятю руку и заверил его, что не забыл о каменоломнях Логфорда. Сам Логфорд после разгрома Одвеллов отсиживался в своём фьеве; им и такими, как он, наивно рассчитывавшими отсидеться в своих замках, Эд собирался заняться после. Сейчас его интересовал Фосиган — и его септы, через земли которых надо было пройти, чтобы пробиться к Сотелсхейму.
Вот тут-то и начало происходить то, чему он первое время не мог найти объяснения. До тех пор, пока не вспомнил про Адель Джесвел и сделку, которую заключил с нею. А вспомнив, виновато подумал, что было большой ошибкой с его стороны так недооценивать женщин и их власть. В конце концов, ведь и сам он служил не богу, но богине.
Среди фосиганских септ, со стороны которых Эд ожидал встретить решительный отпор, оказала его лишь малая часть — Престоны, которые сватали свою дочь за Квентина Фосигана, Аленви, известные, наравне с Блейдансами, трепетным отношением к чести и присяге, а также славные ослиным упрямством Клэйксы. Остальные при виде полуторатысячной армии Адриана Эвентри открывали ворота. И когда он спрашивал их, не отдадут ли они ему свои копья, когда он сядет в Сотелсхейме, они отвечали: «Мы готовы отдать тебе свои копья сейчас».
Он не понимал, что происходит, и никто не понимал — до тех пор, пока не обратил внимания на священные ходы, которых всё больше стало на крупных и мелких трактах. Монахи и жрецы взывали к справедливому гневу богов, обрушившемуся наконец на Грегора Фосигана. В самом деле — что хорошего видели его септы за те полвека, которые он держал их под своей пятой? Ничего — лишь поборы, поборы и снова поборы, стягивавшие все блага и без того малорадостного земного существования в Тысячебашенный город. Да, Сотелсхейм — чудо; но что толку с чуда тем, кто знаком с ним лишь понаслышке? Говорят, это город богатства и веселья, где в фонтанах вместо воды течёт вино, а самые прекрасные женщины мира стоят дешевле, чем прошлогодняя солома; но как попасть туда тому, кто привязан к своему лорду и своей земле, кто проводит жизнь, не разгибая спины, согнутой над плугом, и не может позволить себе поездки более дальней, нежели на ближайшую ярмарку, потому что жена его и дети хотят есть? Сотелсхейм был мечтой, и мечту эту ненавидели за её недостижимость. «Что изменилось, — спрашивали жрецы, — с тех пор, как вы, свободные, стали чьими-то? Прежде вы платили дань лишь своему лорду; ныне ваш лорд — такой же раб, как и вы, и тоже вынужден платить дань, а с кого ему взять её, как не с вас? Но всё может измениться — слышите, люди? Всё может пойти иначе! Юный лорд Эвентри, вознамерившийся отобрать у старого Фосигана его венец, обещает вашим лордам свободу от дани; больше того — он налагает на них запрет войны! И ныне всякий раз, когда лорду из ближнего фьева вздумается подпалить вашу деревню назло своему соседу, — он должен будет испрашивать на то позволения у нового конунга, приводить вескую причину, а иначе будет наказан. И уж, конечно, при таком-то деле соседний лорд трижды подумает, прежде чем идти на вас с огнём и мечом…»
Крестьяне — скот; сила, созданная богами для того, чтобы лордам было что есть, во что одеться и чем убивать друг друга. Так думали лорды Бертана, свободные и несвободные; и как же они удивились, когда народ, услышав такие речи жрецов, взялся за вилы и поднял крик: не хотим Фосигана! хотим Эвентри! А пуще всех кричали в самом Эвентри, в Элпринге и Тэйраке — тех фьевах, которым конунг не пришёл на помощь во время резни двенадцать лет назад. Что могли на это сказать их лорды? Лорды и сами почесывали в затылках. Фосиган ещё осенью, после разгрома Одвелла, потребовал прислать в Сотелсхейм не менее пятидесяти копий от клана. Многим лордам пришлось отдать собственных сыновей, потому что конунг требовал для защиты своего оплота не крестьян — умелых воинов. И вот теперь эти воины, вместо того, чтобы боронить родной порог, сидят в Тысячебашенном, прекрасном, проклятом Тысячебашенном, а враг подошёл к воротам и говорит: смотри, вот — моя рука, а вот — твоя смерть; выбирай. Лорд Фосиган, воображая, будто обезопасил себя, постепенно, неотвратимо сам себя уничтожал.
«Я это учту, — думал Эд, глядя на стену, на которой стоял конунг, и кусая губы. — Учту, что свои обещания надо сдерживать. Они не ждут этого от человека, который вырвал у них преданность силой. И тем сильнее будут мне признательны, когда я дам им всё, что обещал. Всё, и даже ещё больше». Он хотел лишь одного: чтобы ему дали шанс. И теперь, хвала Гилас и всем её детям, этот шанс ему наконец представился.
И благодарить за это он должен был жрецов, вовремя создавших в народе верное настроение. Эд так и не узнал — то ли местра Адель оказалась на диво убедительна, то ли в Анклаве и без того бродили еретические настроения. Скорее всего, и то и другое; так или иначе, в ходе тайных переговоров с местром Шионом ей удалось добиться его поддержки. Больше того: предложение местры-еретички было встречено с благожелательностью, удивившей её саму. Оказалось, что ещё несколько месяцев назад некто Эжен Троска прибыл в Анклав и потребовал встречи с верховными жрецами, заявляя, что имеет доказательства проникновения ереси в самое сердце обители богов — святой Скортиарский монастырь. По счастливому совпадению, пылкие речи Троски, тщетно бившегося на подворье Анклава с бюрократией младших братьев, не желавших допускать его до аудиенции с местрами, услышал Шион, который как раз в это время возвращался из замка, где принимал исповедь Квентина Фосигана — на парня как-то вдруг снизошло благочестие и блажь покаяться. Воспользовавшись оказией, Шион допросил Троску лично — и успел перепроверить скандальные сведения, прежде чем в Сотелсхейм явилась сама местра мятежного монастыря. К тому времени Шион успел тщательно обдумать положение, поэтому убедить его местра Адель смогла гораздо быстрее, чем она надеялась. Она писала Эду, что это дар богов — потому что в сложившемся положении на счету был каждый день.
Теперь за столь вовремя развёрнутую пропаганду жрецы потребуют у Эда сущей малости — выполнения своих обещаний и отмены гонений на иноземные учения. Вряд ли они подозревали, как сильно он жаждал этого сам. Конечно, придётся преодолеть немалое сопротивление; такие как Шион и Адель — не ядро веры в Бертане, и даже не её большинство. Они еретики. Эд Эфрин собирался превратить ересь в догму. Это было нужно ему, чтобы спасти их всех — и истинно верующих, и вероотступников, и людей чести, и клятвопреступников, и друзей, и врагов.
Но прежде чем это случится, он должен взять Сотелсхейм.
Адель Джесвел была в городе; она пообещала ему, что вскоре ворота будут открыты изнутри — и вот уже два месяца не могла выполнить обещанного. Записки, которые она передавала Эду через парламентёров, которыми ежедневно обменивались стороны, чтобы снова подтвердить невозможность договорённости, сообщали, что разногласия в Анклаве оказались глубже и сложнее, чем она надеялась. Местр Шион был, по сути дела, одинок в своём убеждении; его влияния хватило только на то, чтобы вовремя организовать по всему Бертану мощную сеть жреческой пропаганды. Но в Сотелсхеймском Анклаве большей частью заседали люди, назначенные самим конунгом, а потому близкие к нему. Они не без основания опасались за свою судьбу в случае его свержения и того больше были разгневаны перспективой смены догматов. Если бы не армия, стоявшая у стен города, как знать, не попал ли бы местр Шион на костёр, а с ним заодно и женщина, влившая в его уши яд, который, по мнению многих, давно следовало извести с земли Бертана. Но теперь никто не знал, чем ответит на подобный акт Адриан Эвентри, потому пока — только пока, предупреждала Адель в письме, — смутьяны были в относительной безопасности, даже находясь в самом логове врага. Наибольшее, чего она смогла добиться, — что разногласия внутри Анклава остаются неизвестны конунгу. Жрецы Гилас вообще не особенно посвящали Фосигана в свои дела и решения; в немалой степени поэтому он оказался столь уязвимым перед ними. «И это, — думал Эд, — я тоже учту, когда стану…»
Да, станет конунгом. Теперь он не мог произносить это, ни мысленно, ни вслух. Он подошёл очень близко. «Этот мир мой, — слегка улыбаясь, повторял он про себя, словно затверженное наизусть правило — так, как запоминал лекарские книги на фарийском прежде, чем выучил язык и смог понять их смысл. — И мне осталось только взять его. Только взять».
Алекзайн сказала ему это давным-давно. Он долго учился брать. Теперь он брал.
Но оставалась ещё одна проблема, решения которой он не видел. Он мог протянуть руку и взять. Но, взяв, он мог лишь раздавить латной рукавицей, оттягивавшей сейчас его руку. Эд никогда не был воином. Он в жизни своей не участвовал ни в одном сражении, хотя ни поединки, ни убийства ему не были в новинку. Он знал и огонь, и меч, он жёг и убивал. Но теперь, именно теперь он не хотел ни убивать, ни жечь. И именно оттого этим хмурым весенним утром ему было так трудно глядеть на стену, с которой смотрел на его людей и знамёна Грегор Фосиган.
Адриан Эвентри не мог взять этот город штурмом. Не потому, что Сотелсхейм неприступен. А потому, что он восходил на этот трон, чтобы спасти жизни тысяч, он обещал уменьшить потоки крови. И он не мог, сдерживая это обещание, пролить всю ту кровь, которую клялся сохранить.
А всё треклятый лорд Грегор — хотя Эд был уверен, что неплохо знает его. Он ждал, что конунг выступит ему навстречу — и гораздо раньше, чем он приблизится к Сотелсхейму. Но конунг не вышел. Он выходил лишь тогда, когда был совершенно уверен в победе — как против Одвеллов двенадцать лет тому назад, когда их почти уже раздавил Анастас. Сейчас, глядя — и не веря глазам своим, — как к Эвентри присоединяется всё больше кланов, Фосиган уверен в победе не был.
Единственное, в чём он был уверен — это в крепости стен Сотелсхейма.
Теперь, стоя под этими стенами. Эд проклинал себя и обзывал дураком — хотя до той поры почитал дураком Грегора Фосигана. Он мог хоть целый год держать Тысячебашенный в осаде — городу ничто не грозило. Сквозь него текла река, бурная, полноводная, которую не перекрыть так легко, как сделал в своё время Анастас с Силиндайлом. Пахотные поля остались за стенами и были подчинены армии захватчика; но в пределах городских стен оставались сады и фермы, примыкавшие к Нижнему Сотелсхейму. Тысячебашенный не зря прозвали дивным городом — он был страной в стране, он мог содержать и прокормить себя сам, пока пришлые захватчики волна за волной разбивались бы о его стены. Фосиган не трусил и не оттягивал контратаку по глупости, он просто спокойно сидел там, где пустил корни очень глубоко. И даже три десятка кланов, объединившись против него, не могли вырвать этих корней.
Эд был не единственным, кто это понимал. Главы кланов, которые за ним пошли, сознавали это тоже — и волновались, и ворчали, и сеяли недовольство в армии, бездельничавшей под понемногу начинавшем припекать весенним солнцем. Приближалось лето, пора Эоху; неведомо, как пойдут дела, если летний праздник Златокудрого застанет войско в безделье посреди разорённых полей. «Он обещал нам независимость, безопасность, достаток и мир, — скажут бонды себе и друг другу. — А дал лишь разруху и смуту. Пока мы здесь топчемся, в родных фьевах на нашей земле гниёт урожай. Зимой наши люди будут голодать, а мы так и будем торчать без толку у этих стен и слушать, как Фосиган смеётся над нами из-за них!»
Сотелсхейм невозможно взять. Все это знали. Эд это знал. Но тем не менее они пошли за ним, а он их повёл — туда, где тысячи людей могли сделать не больше, чем один человек.
Но один человек мог, возможно, сделать больше, чем тысяча.
Каждый день он отсылал к городу парламентёра и требовал встречи с конунгом. Каждый день парламентёр возвращался с одним и тем же ответом: никакого ответа. Великий конунг отказывается видеться и тем паче беседовать с вероломным, вздорным и глупым мальчишкой, которого поднял из нищеты и пригрел, подобно змее, на собственной груди. Эд знал, что лишь от него самого зависит, заставит ли он конунга вступить в переговоры. Понимал — и не знал, как это сделать. Он пробовал действовать через Адель, но она не имела связей в замке конунга; а кроме того, за четыре года Эд собственными руками расчистил вокруг Грегора Фосигана место, избавив его от всех, кому тот доверял и кого считал надёжным. Он расчистил место для себя. И не мог теперь его занять, потому что между ним и Фосиганом оставалось тройное кольцо стен, с более чем двадцатью башнями на каждой.
«Я загнал судьбу в ловушку и попался в эту же ловушку сам», — думал Эд Эфрин. Как и всегда. Всегда было только так.
Шёл семьдесят второй день осады.
— Заканчивается эль, — сказал Сван Вайленте. — Без эля мои ребята могут совсем затосковать.
— Не только твои.
— Это легко поправить. Я могу взять дюжину самых засидевшихся и прогуляться к Малым Орешникам. Там варят славный эль. Мы вернулись бы к завтрашнему вечеру, заодно ребята бы руки почесали…
— Нет, — сказал Эд.
Вайленте не возразил. Разговоры, подобные этому, звучали всё чаще и всегда заканчивались одинаково. Бондам надоело сидеть без дела, но Эд не мог позволить им тех развлечений, которых они жаждали. Он твёрдо решил не проливать крови больше необходимого. Будь его воля, он бы вообще её не проливал, но так не бывает. Боги всегда хотят крови. Вопрос лишь в том, как много.
— Знаешь, — проговорил его зять, — когда я в первый раз тебя увидел… в храме Эоху… чёрт, сколько же лет прошло?
— Двенадцать, — не глядя на него, сказал Эд.
— Да, точно… Ты был сущим мальчишкой. Испуганным, растерянным… я отчасти потому и позволил тебе тогда уйти. Мне было тебя…
— Жаль? — закончил Эд, когда он запнулся, и лорд Вайленте кивнул.
— Теперь я думаю, не проявил ли себя непроходимым дураком. Я и представить не мог тогда, что ты способен на такое…
Он умолк, но Эду не требовалось уточнений. Лязг железа, голоса, смех и кашель, фырканье и ржание лошадей, стук кузнечного молота и визг плотничьей пилы, шелест сотен палаток и знамён на крепнущем ветру… Он видел людей, большая часть которых бездельничала у костров, а прочие сновали по лагерю, слышал далёкий отрывистый голос Бертрана, гонявшего свой отряд на дежурной тренировке, видел солдат в цветах Хэдлода и Блейданса, которым их командиры делали утренний смотр. И это он привёл сюда их всех, собрал их вместе, как когда-то Анастас. Да, он тоже не думал, что способен на такое, когда стоял на берегу моря, мокрый и дрожащий, и смотрел, как полыхает подожжённая им «Светлоликая Гилас». Тогда ему казалось, что это — предел, и потому он ощутил облегчение. Сейчас он знал, что предела нет. И это пугало.
— Сван, скажи, если бы ты тогда знал, что я на это способен, ты бы меня отпустил?
Лорд Вайленте мало изменился за эти годы — разве что отпустил бороду, которую успела побить седина. Улыбался он всё так же скупо и неохотно, и тем ценнее была его искренняя усмешка, которой он одарил своего шурина, хлопнув его по плечу.
— Смеёшься? Знай я это, я бы не дал тебе уйти. Я бы отдал тебе все свои копья и помог бы всем, что было бы в моих силах.
— Ты пошёл бы за пятнадцатилетним вождём? — рассмеялся Эд.
Вайленте не рассмеялся в ответ.
— Ты единственный из нас, кто оказался на это способен. Даже Одвелл не ходил на Сотелсхейм.
«И именно этого вы ему никак не могли простить, — мысленно закончил Эд. — Его осмотрительности, его мудрости. Так же, как осмотрительность и мудрость Флейна отторгает вас от него. Вы и то, и другое почитаете за трусость. Ну что ж, вот мы и стоим у Сотелсхейма. Такие храбрецы».
— Сван, расскажи мне про Алисию. Как ей живётся?
Когда они встретились под Иторном три месяца назад — Вайленте вместе с ещё несколькими септами Одвеллов нагнал армию Эда и вступил с ним в короткие переговоры, завершившиеся объединением их войск, — Эд спросил только, где Алисия. Услышав, что она жива и здорова и осталась в замке Вайленте вместе с детьми, он на время удовлетворился этим и больше вопросов не задавал. Но он думал о ней, и в последнее время всё чаще — особенно после того, как выслушал от Роберта Тортозо подробный рассказ о Бетани.
Сван Вайленте пожал плечами.
— Про то у неё спроси. Не мне судить.
— Она всё ещё плохая жена?
— А, ты об этом… Нет, не такая уж и плохая. С годами поумнела.
— Право же, тебе повезло. С бабами это редко случается.
— Она тебя часто вспоминала. Она жалеет о том, что тогда тебя сдала. Нашего первенца мы назвали Адрианом.
Эд смутился. Он почти забыл это ощущение, и поспешно отвернулся, боясь, что покраснел. Он вроде бы избавился от этого неудобного свойства, но в детстве он легко и часто краснел — мать говорила, это оттого, что у него слишком тонкая кожа. Что ж, со временем его кожа успела огрубеть, но иногда, изредка, он снова чувствовал себя четырнадцатилетним мальчишкой, глупым, ранимым и беспомощным. «Ох, Алисия, — подумал он. — Бетани права, во всём права: мне и на тебя было все эти годы наплевать».
— Когда всё это кончится, — сказал Вайленте вполголоса, — ты позволишь мне привезти её сюда? Или приезжай к нам сам. Она будет рада видеть тебя.
— Когда всё это кончится, — после долгого молчания повторил Эд. — Сван, а это кончится? Ты вправду так думаешь?
— Конечно. Всё кончается, Адриан.
Да, верно. Кончается всё. Вопрос только в том, как.
«Если бы я только мог увидеться с конунгом», — в который раз взмолился про себя Эд. Он знал, кого молил… нет — у кого требовал этого единственного шанса. «Ты же сама говорила — мне стоит только понять, чего я хочу! Только захотеть — и ты мне это дашь! Ну, так дай же! Или хотя бы ответь! Почему ты молчишь?..» Он вспомнил иссохшую старуху, угасавшую в доме над утёсом, и темнокожую, темноглазую роолло с полными и кисло-сладкими, словно вишни, губами. «Уже можно», — сказала ему она, так если можно — почему ты мне не даёшь сделать это?..
Хотя, может быть, это не она? Может, это Гилас или Молог вмешались в то, что творит на земле их своенравная, безумная дочь Янона? Может, так они мстят Эду Эфрину за то, что он сжёг «Светлоликую» посредством мологова огня? Они хотели, они решили наслать на Бертан мор — а их дочь им противилась; отчего? Может быть, от глупого, бессмысленного бунта детей против родителей — того самого бунта, который вынуждал четырнадцатилетнего Адриана Эвентри убегать от всех взрослых, которые пытались управлять его жизнью? «Может быть, — думал он с возрастающим ужасом, — то, что я делаю — и впрямь противно богам, может, я не спасаю, но только делаю всё ещё хуже?.. Ведь я в ответе за всё. Что бы ни случилось, сколь угодно дурное — это будет моя вина».
«Я прав? Скажи мне. Только это скажи: я прав?!» — почти кричал он, пытаясь пробиться сквозь стену, которую много лет назад сам же и построил, не желая слушать никого, будучи уверен, что всё делает правильно.
Вайленте, стоявший рядом с ним, глядел, к счастью, не на него, а на ворота Сотелсхейма, потому не заметил резкой бледности, разлившейся по лицу Эда. И потому-то он первым увидел то, чего, ослепнув от слишком близко подошедшего понимания, не мог увидеть Эд.
Но потом лорд Вайленте протянул руку, указывая вперёд, и тогда не увидеть он уже не мог.
— Адриан, смотри… Похоже, боги тебе всё-таки ответили, — вполголоса сказал он, и Эд, разом очнувшись, резко повернулся туда, куда он указывал.
И увидел ответ.
Окованные железом ворота Нижнего Сотелсхейма, которые не мог взять ни один таран, медленно поднимались, десятифутовая в толще стена втягивала в свои недра дуб, окантованный стальными зубцами. Одинокий всадник в золочёных доспехах, со щитом, разделённым на жёлтое и оранжевое поля, выехал и поскакал через поле, разделявшее стены Сотелсхейма и лагерь свободных бондов. Он держал наперевес то, что Эду в первый миг показалось копьём; но, преодолев половину пути, всадник взметнул древко к небу, и по ветру развернулось и заполоскалось самое немыслимое, самое невероятное знамя — белый флаг!
Парламентёр в цветах Фосигана вышел с белым флагом!
— Молог раздери! Они сдаются! — изумлённо крикнул кто-то, и крик этот словно пробудил закосневший в бездействии лагерь Адриана Эвентри от двухмесячной спячки. Люди вскакивали, хватались за оружие, бессвязно переговаривались. Удивления было больше, чем радости. Рядом с Эдом вмиг оказались почти все бонды, пришедшие с ним к Сотелсхейму: Ролентри, Карстерс, Тортозо, Блейданс, Тартайл. Вдалеке страшно бранился старый Флейн, который давно уже не мог передвигаться самостоятельно и теперь поносил замешкавшихся оруженосцев, служивших ему поводырями.
— Что происходит? Ты говорил с кем-то? — возбуждённо спрашивал Бертран, заглушая наперебой галдящих бондов. Он примчался сюда с тренировочной площадки и был весь в мыле, от него несло потом и кровью, словно он только что прибыл с поля боя. Его ноздри раздувались, пот блестел между отрастающими щетинками волос на бритой голове. Почему-то в этот миг он показался Эду особенно юным. Мальчишка, жадный до драки… Эд чувствовал себя стариком в сравнении с ним. Но потом вспомнил, что именно этот мальчишка собственноручно отсёк голову Дэйгону Одвеллу.
Всадник в цветах Фосигана неподвижно стоял посреди поля. Конь под ним, такой же белый, как знамя на древке, нетерпеливо гарцевал, едва сдерживаемый рукой всадника.
— Коня мне, — сказал Эд, когда гомон вокруг немного улёгся. — И доспехи без знаков.
— Зачем?! — изумился юный Тартайл, широко распахнув глаза; он был на год моложе Бертрана и изумлялся чаще прочих. — Вы не выедете к нему в ваших цветах? Посмотрите, это же официальный парламентёр! Сотелсхейм сдаётся!
— Бертран, помоги мне переодеться. Ни минуты нельзя терять, — не ответив мальчишке, сказал Эд. Его брат ошарашенно кивнул. Бонды расступились, когда они быстрым шагом прошли по лагерю и скрылись в палатке Адриана. Тот немедленно стал расшнуровывать завязки наруча, не отводя глаз от красно-белой эмали, которой была покрыта сталь.
— Адриан, что ты делаешь? — тихо спросил Бертран.
Тот не ответил. Бесполезно объяснять, да и времени нет. Он знал, кто выехал к нему сдавать город, — и очень сомневался, что действительно с этой целью. Но это и не важно. Главное, Янона наконец ответила на его мольбу. Она дала ему шанс всё изменить. Тот самый единственный шанс, который ему и был нужен. Теперь всё пойдёт как надо.
Кто-то принёс лёгкий доспех из вареной кожи — видимо, первое, что удалось найти. Эд ехал на переговоры, а не на бой, потому вполне можно было удовлетвориться этим — главное, что доспех был нейтральных, ничьих цветов — ржаво-коричневый. «Точно такого же цвета была моя куртка в тот день четыре года назад, когда я испортил охоту конунга», — вспомнил Эд и улыбнулся. Славный знак. С этого мы начали, мой конунг, этим и закончим. Как верно подметил Сван — всё заканчивается рано или поздно.
Вопрос в том, как.
— Я поеду с тобой, — сказал Бертран, когда последний шнур был затянут и Эд приладил к поясу меч.
— Он выехал один. Я тоже пойду к нему один.
Бертран начал было возражать, и Эд крепко сжал его плечо, заставив смотреть себе в глаза.
— Верь мне. А не веришь — так хотя бы слушайся.
К палатке уже подвели его кобылу. Эд вскочил в седло и, пришпорив лошадь, с места пустил её в галоп. Он хотел, чтобы его конунг видел, как он спешит, как рвётся к нему, как жаждет этой встречи. Он хотел, чтобы его простили.
Он знал, что его простят.
Всадник посреди поля неподвижно ждал его приближения, уперев древко белого стяга в землю рядом с копытами жеребца, тревожно топтавшими невспаханную землю. Приближаясь к нему, Эд думал, что они съедутся как раз в том месте, которое определяет границу полёта стрелы равно от городских стен и от лагеря. Это было в той же мере риском, в которой и доверием. «Именно так мы с вами и живём, мой лорд, — подумал Эд. — Риск и доверие в равной степени, и выбор всегда за каждым из нас».
Для встречи с ним Фосиган выбрал лучший свой парадный доспех. Пока Эд приближался к месту встречи, кучившиеся на небе облака слегка расползлись и меж ними выглянул солнечный луч — словно Ясноликая Уриенн послала робкую улыбку людям, замыслившим наконец не войну, а мир. Луч этот скользнул по золочёной эмали на опущенном забрале Фосигана, и от разом притихшего ветра белое полотнище дрогнуло и опало, полоснув всадника по плечу. Он всё так же не двигался. Он ждал.
Эд перешёл с галопа на рысь, потом на шаг, и остановился — так близко, что белый Фосиганов конь пряднул ушами, заржал и потянулся мордой к морде кобылы Эда.
— Приветствую вас, мой конунг.
Конь Фосигана взбрыкнул передними ногами. Сидевший на нём человек молчал.
— Я хотел вас видеть. Давно хотел. Благодарю, что…
Закончить он не успел.
Рука в стальной перчатке, державшая древко знамени, разжалась. Белый флаг в последний раз хлестнул полотнищем по набухшему влагой воздуху и упал наземь, в вязкую весеннюю грязь. И рука, за миг до того державшая белый флаг, рванула из ножен меч.
— Ты убил мою сестру, — прозвучал из-под опущенного забрала глухой, хриплый мальчишеский голос. — Отца убить я тебе не дам.
Он двигался быстро, очень быстро, но Эд был опытным дуэлянтом и успел бы увернуться и обнажить клинок, если бы в этот самый миг до его слуха не донёсся крик с Сотелсхеймской стены — далёкий, гневный крик… Он не узнал голоса и не разобрал слов, но за долю мгновения, отделявшую встречу стали с его плотью, успел осознать, что человек, выехавший к нему с белым флагом в цветах конунга, не должен был, не имел права находиться здесь…
«Как глупо», — подумал Эд, когда остро заточенный клинок впился в его незащищённую шею. Конечно, Сотелсхейм не мог вскинуть белый флаг. На то он и Сотелсхейм.
— Квентин, не надо… — успел выговорить Эд, и его ожгло болью. В шею слева словно впились чьи-то жадные зубы. Он инстинктивно рванулся в сторону, не понимая, почему всё ещё жив, и схватился за горло рукой, чувствуя, как пальцы заливает горячая кровь. Всадник на белом коне взмахнул мечом снова. Эд видел теперь его глаза, с яростной, свирепой ненавистью блестевшие сквозь прорези забрала. «Как же я сразу не понял, — бессильно подумал Эд, зажимая рану и даже не пытаясь защититься. — Как не понял сразу…»
И в этот миг он понял всё.
Квентин!
— Остановись, — сказал Эд, чувствуя во рту солёный привкус крови, и увидел сталь, сверкнувшую в луче солнца, и оскаленные зубы коня, и копыта, топчущие белое знамя, забрызганное кровью — его кровью…
Красное на белом — цвета клана Эвентри.
Он слышал рёв, сотрясший долину по обе стороны от Сотелсхеймских стен. И через долю мгновения лавина стрел обрушилась на Квентина Фосигана.
— Нет! — из последних сил закричал Эд — нет, не Эд, это кричал Адриан Эвентри, так же, как кричал он над бездыханным телом Пита Доффи, смерти которого не хотел. Он ничьей смерти никогда не хотел. Разве что своей собственной.
Большая часть стрел, метивших в Квентина, отскочила от его доспехов. Одна вонзилась в прорезь между пластинами на бедре, две — в руку между звеньями наруча, ещё одна — под ключицу. Квентин осел и стал сползать с коня. Адриан отнял ладонь от своей окровавленной шеи и соскочил наземь в тот самый миг, когда Квентин рухнул с лошади — прямо на белый флаг, который сам же и осквернил.
— Нет, проклятье, прекратить! — во всю мощь своих лёгких закричал Эд. Конечно, его не могли услышать — слишком громкий, слишком яростный крик стоял над долиной вокруг Сотелсхейма. Они все видели, что сделал человек в цветах Фосигана. Ни один из них не мог даже вообразить большего вероломства, большего оскорбления. Они были спящим зверем, которому потехи ради подпалили шерсть. Зверь проснулся и был в ярости. Болезненно обострившимся зрением Эд увидел, как лучники снова накладывают на тетиву стрелы. И увидел даже, как дрожит от ярости поднятая рука Бертрана, подающего сигнал к залпу.
Эд не стал больше кричать. Он обхватил неподвижное тело Квентина обеими руками и закрыл его собой. Доспехи, надетые на мальчике, были вымазаны в крови, только Эд никак не мог понять, его ли это кровь или кровь самого Эда, всё ещё хлеставшая из оцарапанной шеи.
Он ждал залпа, почти хотел его. Но у Бертрана, видимо, тоже были острые глаза.
Тяжело дыша, Эд обернулся. Ряды людей, которых он всего час назад держал в своих руках, смешались. Бонды спешно готовили наступление. «Боги, нет… моя богиня, нет, разве этого ты хотела?! Ты хотела, чтобы я спас их всех, а не губил…»
«Ты спас в этот раз, а в другой — погубишь», — всплыли в памяти забытые слова Тома, сказанные в зареве ночной битвы. Том стоял тогда меж ним и Анастасом — так думал Адриан Эвентри, не зная, что на самом деле Том встал между ним и теми смертями, причиной которых он мог стать…
Которые уже случились.
Десять тысяч людей, уставших колебаться и ждать, шли штурмом на Сотелсхейм.
Эд отвернулся от них и снял с Квентина шлем, осторожно стянул подшлемник. Голова мальчика, больше не поддерживаемая железом, запрокинулась назад — он потерял сознание. «Странно, что сам я ещё на ногах, — отстранённо подумал Эд и улыбнулся. — Это тот шанс, который ты мне даёшь, Алекзайн? Или…
Или — не мне?
Квентин, Квентин… Слышишь этот рёв за моей спиной? Видишь эти тысячи копий, направленные теперь на твоего отца? Я привёл их сюда, но не затем, чтобы это случилось. И этого бы не случилось, если бы ты не сделал то, что сделал…
Ты — Тот, Кто в Ответе за это. А я думал, что ты родился в Эвентри… какой же я был дурак…»
— Вот я тебя и нашёл, — прошептал Эд, проводя окровавленной ладонью по взъерошенным тёмным волосам мальчика, которого собирался и не мог, должен был и не хотел убивать. Мальчика, который начал эту войну — вместе с ним.
— Держись, — сказал Эд и, подхватив Квентина под мышки и колени, рывком встал. Голова у него шла кругом, он пошатнулся, но не упал. К ним уже скакали во весь опор — Эд не видел, кто, не различал цветов, людей, камни, траву, солнце — всё слилось и перемешалось. Но рук он не разжал. Квентин был очень лёгким. «Он же ребёнок, — подумал Эд, — ему всего пятнадцать лет. Почти столько же, сколько было мне, когда я узнал, кто я такой».
— Он должен жить, — с трудом выговорил Эд, когда его обступили храпящие лошади, закрывшие от него солнце. — Должен! Вам понятно? Никто не должен умереть!
«Никто, кроме меня», — подумал он, уходя.
«Ну, ответь же мне. Хотя бы теперь-то ответь! Ты этого хотела? Я должен был хотеть этого? И имеет ли какое-то значение, чего мы хотим, — не важно, люди мы или боги?»
Эд Эфрин стоял в потоке света, широко раскинув руки, и кричал, требуя ответа если не у своей богини, то у любого из богов. Их так много, этих богов Бертана! И ни один их них не снизошёл до него.
Хотя на миг ему почудилось — да, один всё же снизошёл. Вернее, одна. Та, которая отзывалась всегда. У неё были такие тёплые руки.
— Лежи, — сказала Северина, когда он распахнул глаза и попытался сесть. — Лежи, Эд. Ты потерял много крови.
Она была одета по-дорожному, в платье с узкой юбкой, волосы стянуты на затылке в пучок и спрятаны под косынку. Он всегда являлся к ней в аптеку нежданным, потому чаще видел её такой, чем успевшей прихорошиться к его визиту. Именно такой он её любил.
— Откуда ты здесь? — спросил он и застонал от бессилия — так слабо и тихо звучал его голос. — Я же велел тебе уходить из города…
— Я и ушла, — спокойно сказала она. — Как видишь, я не в городе. Я здесь.
— Здесь опасно, — прошептал Эд и закрыл глаза.
— А где безопасно? Помолчи, я должна сменить тебе повязку.
Шея горела, словно он лежал головой в костре.
— Глубоко? — хрипло спросил Эд.
— Было бы глубоко — мы бы с тобой не беседовали, несчастье ты моё. Лезвие едва содрало кожу. Ты счастливчик, Адриан Эвентри.
Не открывая глаз, он нашарил её руку и сжал, наверное, слишком сильно. Ему было так больно, так тяжко, когда он слышал это имя, но теперь — странное дело! — ему впервые за прошедшие годы не захотелось одёрнуть ту, что назвала его так. Адриан Эвентри. «Да. Это моё имя. Меня зовут именно так».
— Что происходит? — Он слышал шум за стенкой палатки, но тот казался приглушённым, далёким.
— Твои септы отправились мстить за тебя, — сказал Северина, накладывая ему на шею что-то холодное и вязкое.
— Они не мои септы, — прохрипел он. — И не надо за меня мстить…
— Это уж не тебе решать, — печально улыбнулась она. Эд сглотнул — и тут же закашлялся от боли, которую кашель лишь усилил.
— Чёрт, — отдышавшись, выговорил он. — Заштопывай меня скорее, я должен идти… О боги, как ты всё-таки здесь очутилась?
— Если помолчишь минуту и будешь лежать смирно, то расскажу. Но сперва выпей.
Он выпил горькую дрянь, которую она влила ему в рот, и слушал её короткий рассказ. Получив его письмо, поступила, как он велел: собрала свои самые ценные снадобья, ушла из города и поселилась в гостинице в двух лигах от Сотелсхейма. Там они сидела и ждала его. Она знала, что он придёт, и не собиралась навязываться ему, просто хотела быть рядом на случай…
— На случай, если меня опять отравят? — спросил Эд и засмеялся, от чего снова пережил вспышку нестерпимой боли.
— Я надеюсь, — без улыбки сказала Северина, — что на лезвии не было яда. Ведь он всё-таки Фосиган.
Он. Да, конечно, он. Адриан Эвентри, ты, как всегда, думаешь только о себе.
— Где Квентин? Что с ним?
— Тоже потерял много крови. Когда я перевязывала его в последний раз, он спал.
Эд шумно выдохнул, хотя и знал, что это причинит ему боль. Но сдержать облегчение было выше его сил.
— Я пойду к нему.
— Дай я хотя бы закончу, — сказала Северина.
И тогда Эд взял её руку, скользкую от мази и горько пахнущую лекарством, и поцеловал тыльную сторону ладони.
— Я люблю тебя, — сказал он.
— Я знаю, — ответила она.
Ещё не успев поднять полог палатки, он понял, что произошло. Но верить не хотел, даже когда увидел.
Лагерь опустел. По полю перед ним словно прошёлся смерч, влажная после дождя земля превратилась в месиво, перемешанное конскими копытами. Ворота Нижнего Сотелсхейма по-прежнему были открыты. Крик, стон и дым пеленой поднимались над городом. Крепостная стена Верхнего Сотелсхейма, почти скрытая завесой дыма, ощерившаяся копьями и арбалетами защитников, казалась живым существом — огромной серой змей, в которую разом впилась тысяча мечей, и ей оставалось лишь извиваться и корчиться, пытаясь в предсмертной агонии пожрать своих врагов. Там лилась кипящая смола, кипяток и кровь. Рёв накатывал, будто прибой, волнами, то стихая, то поднимаясь до самых небес, — а их снова заволокли тучи. Ясноокая Уриенн испугалась того, что творили создания её матери, и стыдливо спрятала лицо.
Мимо торопливо проковылял мальчишка-оруженосец, волокущий тяжёлую сбрую. Эд схватил его за плечо.
— Где Бертран?!
Мальчишка вскинул на него круглые, ошалевшие глаза — и только мотнул головой в сторону города. Эд схватил его за другое плечо, стиснул, встряхнул.
— А лорд Ролентри? Блейданс? Карстерс?
— Все там, — сказал мальчишка. — Пустите, мой лорд меня и так прибить готов, что вовремя не разбудил…
Об имени лорда, проспавшего штурм Сотелсхейма, Эд спрашивать не стал. Он отпустил оруженосца, и тот поспешил дальше. Эд снова посмотрел на город — сил не было не смотреть. Ох, Бертран. Впрочем, в чём тебя-то винить? Ты не думал, обезглавливая Дэйгона Одвелла; ты и теперь не подумал, когда ринулся против Фосиганов, один из которых предательски пытался убить твоего брата, выманив его под священное белое знамя. Такое и впрямь трудно стерпеть, и вряд ли с этим поспорит хоть кто-нибудь — по обе стороны стены.
Квентин, Квентин… Что же ты наделал?
Эд без труда нашёл, где разместили сына конунга, — его палатка была единственной охранявшейся. Воин у входа вытягивал шею, тщетно пытаясь разглядеть гущу драки и явно отчаянно жалея, что ему не выпало в ней поучаствовать. Увидев Эда, он присвистнул и почтительно поклонился.
— Вот оно как! А лэрд Бертран сказал — вы померли! — воскликнул он.
Эд знаком велел ему посторониться.
Квентин лежал на походной кровати — такой же, с которой только что встал сам Эд, — на боку, отвернувшись лицом к стене. Услышав шаги, он обернулся — и, узнав Эда, страшно побледнел. Он попытался сесть, но явно переоценил свои силы и тут же повалился обратно на постель. Его глаза, блестевшие бессильной, отчаянной злостью, подозрительно покраснели.
Эд подошёл и сел рядом с ним. Он не знал, с чего начать.
— Я не убивал Магдалену, — наконец сказал он. Квентин вскинул подбородок, его губы дрогнули, но Эд не дал ему времени перебить себя: — Она погибла по моей вине. Это я знаю. Но я не хотел её смерти, я… не знал, что такое может случиться.
— О да! — горько выпалил Квентин. — И что твои люди будут штурмовать замок моего отца — ты тоже не знал!
— Они не должны были его штурмовать. И не штурмовали бы, если бы… — он смолк. Причины слишком сложны, не место и не время их объяснять. «Любопытно, — подумал Эд с горькой усмешкой, — как часто Тому, увезшему меня из моего родного дома, хотелось сесть со мной рядом и рассказать всё как есть? И сколько раз он одёргивал себя оттого, что ещё не пришло время, прежде чем сказал то, что я всё равно не был готов услышать?»
Однако оставалось кое-что, в чём обвинения Квентина были верны, и уж это-то надо было сказать прямо и вслух.
— Я не хотел причинять зла Магдалене, Квентин. Но твоему отцу действительно придётся умереть.
— И когда ты это решил? — выкрикнул мальчик, сжимая кулаки и дрожа от гнева, злости, и — это было для Эда больнее всего — от обиды существа, которое жестоко и вероломно предали. — Когда он приблизил тебя к себе? Когда дал тебе всё, что…
— Раньше. Гораздо раньше, Квентин. Ещё до того, как я узнал, что это по его приказу был уничтожен мой клан.
Квентин сглотнул, всё ещё сжимая кулаки. «О Гилас, он как я, — подумал Эд. — Он в точности каким был я».
— Ты лжёшь…
— Нет. Ты мог бы сам его спросить… впрочем, теперь это не важно. Он умрёт, Квентин, но твоей смерти я не хочу. И никогда не хотел.
— А что ты со мной сделаешь? — вскинул подбородок тот. — Запрёшь в монастыре, как Одвеллы заперли твоего брата Бертрана? Так я ведь тоже вырасту и вернусь, так же, как он!
«Боюсь, ты уже вырос, мальчик, — подумал Эд. — В тот самый час, когда решился на эту безумную вылазку… наверняка тайком от своего отца. Все наши беды, твои и мои, оттого, что мы совершаем взрослые поступки и преступления, воображая, будто мы всё ещё дети… и ни в чём не виноваты».
— Я не запру тебя в монастыре. Я…
— Что? Ты — что, Адриан Эвентри, или как там тебя! Ты решил занять место моего отца — не знаю, с чего ты взял, что будешь лучшим конунгом, чем он. Ты даже не смог быть хорошим мужем моей сестре! Тебе было на неё плевать, ты думал только о себе. Ты обманывал её… меня… всех! — Мальчишеский голос сорвался от волнения, дал петуха, и Квентин побагровел от смущения и только усилившейся этим смущением злости. И этот перепуганный, взбалмошный, глупый мальчишка — тот, в чьих руках отныне будет судьба Бертана на многие годы вперёд. «Как это страшно, — подумал Эд. Теперь он совершенно ясно понимал, почему Том пытался спрятать его от мира — а мир от него. — Он тоже смотрел на меня и видел себя самого — беспомощного и глупого, способного лишь разрушать».
«Я должен найти конунга, — подумал Эд. — Немедленно. Пока всё это не зашло слишком далеко». Он едва не рассмеялся от последней мысли — куда уж дальше? Его армия без его ведома и согласия прорвалась в Нижний город — судя по всему, местра Адель наконец нашла способ открыть ворота. Но Верхний Сотелсхейм им так легко не взять. До заката они сожгут всё, что лежит между двумя внешними стенами, убьют тысячи, десятки тысяч людей — ведь Нижний Сотелсхейм составляет едва ли не две трети Тысячебашенного, это простой люд, которому негде укрыться… Каждая минута, которую я просиживаю здесь, у постели ещё одного безответственного мальчишки, — это чья-то жизнь. Но что я могу? Что я могу на самом деле, когда разговор заходит о том, чтобы спасти, а не уничтожить?»
Тот, Кто в Ответе, несёт в мир не перемены. Он несёт вину. Том говорил это Адриану Эвентри, но тот не слушал. И никто никогда не слушал. Мальчишками все мы думаем, что только дай нам развернуться — и мы спасём мир.
— Квентин, кто знал о том, что ты поехал меня убивать?
Упоминание о неудавшейся вылазке заставило конунгова сына стиснуть зубы. Эд знал этот упрямый взгляд исподлобья — слишком хорошо знал. Он будто смотрелся в зеркало, и с каждой минутой ему делалось всё страшнее. Как? Господи, как я мог раньше не понять, не почувствовать? Алекзайн, проклятая ты сука, почему ты молчала?!
Он протянул руку и жёстко сжал плечо мальчика — перебинтованное плечо, — нарочно впившись в него пальцами. Квентин вскрикнул от боли и попытался высвободиться, но Эд не ослабил хватку.
— Слушай, — жёстко сказал он. — Смотри мне в глаза. Смотри! Я не собираюсь оправдываться перед тобой. Не сейчас, когда там люди бессмысленно убивают друг друга из-за тебя и из-за меня. Это твои люди, Квентин Фосиган, твой клан поклялся их защищать. Так что прекрати ломаться, словно девка, и отвечай: кто знал о том, что ты собираешься сделать?
— Никто, — выдохнул Квентин, морщась от боли. — Я взял доспехи отца. И знамя… нацепил простыню на древко… Потом велел открыть ворота. Стражники приняли меня за него…
— Проклятье! Даже я тебя за него принял! Готов поклясться, если бы твой отец знал, что ты замышляешь, он бы выпорол тебя… что следовало сделать давным-давно, когда ты повадился бегать по борделям.
Ещё не договорив, он вспомнил ту ночь — ночь, когда пошатнулось безоглядное доверие, которое испытывал к нему конунг. Ночной убийца, Ланс Ортойя, неизвестный юноша, которого Эд стащил с коня — у юноши были странно знакомые глаза, но до того ли ему было тогда…
«Я думал, что я один в ответе за всё, а потому держу всё в руках. Но был ещё Квентин. Квентин всё это время был рядом. И это он держал в руках меня… хотя и не знал об этом».
— Как ты собирался вернуться в замок?
— Никак. Я знал, что меня убьют, — надменно сказал Квентин и посмотрел на Эда с внезапной холодностью — гордый пленник, сохраняющий достоинство даже на допросе. Глупый задиристый щенок. Эд отпустил его плечо.
— Квентин, я должен попасть в замок и увидеть твоего отца. Мне нужно поговорить с ним. Немедленно. Ты должен провести меня.
— Я не…
— В замке наверняка есть тайный ход. Ты его должен знать.
— Не знаю я никаких ходов, — огрызнулся Квентин, отворачиваясь.
Эд снова его встряхнул.
— Прекрати вести себя, как ребёнок! Говоришь, ехал на смерть? А сколько смертей ты принесёшь, если твоя затея провалится — об этом ты подумал?!
— Ты убил Магду!
— Я не убивал Магду! — закричал Эд. — Господи! Я никого никогда не хотел убивать, как же вы все понять-то это не можете?! Если бы можно было иначе — я бы делал иначе! Но выбора у меня нет! И не было никогда!
— У меня тоже! — выкрикнул Квентин и вдруг осёкся.
Эд поймал направление его взгляда и молниеносно обернулся, вызвав новую вспышку острой боли в раненой шее. Он ждал нападения — и потому замер, когда увидел, кто стоит у порога.
— Лорд Адриан, эта леди говорит, у неё к вам дело срочное, — сказал стражник.
Эд встал. Он не сказал ни слова, но стражник всё понял и, кашлянув, опустил полог палатки.
Лизабет Фосиган, в сером плаще, прикрывавшем её мятое платье, в накинутом капюшоне, скрывавшем растрепавшиеся рыжие волосы, с отчаянием, потрясением, мольбой переводила взгляд с Эда на своего брата.
— Как видишь, он жив, — после молчания, длившегося дольше, чем позволяло милосердие, сказал Эд. — Можешь его потрогать, если не веришь.
Она сорвалась с места, кинулась к Квентину и упала рядом с ним на колени, дрожа, плача, целуя его руки. Тот растерянно коснулся головы сестры, никогда прежде не проявлявшей к нему столь бурных чувств; капюшон соскользнул, и Квентин неловко, неуклюже погладил Лизабет по взлохмаченным волосам.
— О Гилас! — ткнувшись лицом в его бедро, прорыдала Лизабет. — Квентин! Что ты натворил? Почему не спросился отца? Как ты…
— Не надо, — прошептал тот. — Перестань, Лиз, слышишь, прекрати. Он смотрит.
Эд и вправду смотрел. Смотрел на женщину, которую использовал, которой позволял использовать себя, которой сломал жизнь и от мести которой едва не погиб. На эту изнеженную, взбалмошную, капризную девчонку, которая пришла к нему сквозь разделявший их ад битвы. Он смотрел и ждал, чтобы она сказала, зачем пришла.
Она ещё какое-то время всхлипывала, потом утёрла щёки ладонями, размазав слёзы. Утром, не предвещавшим никакой беды, она успела накраситься, и на скулах у неё остались потёки макияжа.
— Я к тебе от отца, — сказала Лизабет Фосиган. — Он зовёт тебя.
4
Вход в подземелье скрывался в пологом холмике, омываемом Силмаэном. Здесь река извивалась, образовывая излучину, и замедляла бег, так что её можно было перейти вброд. Здесь Северина из аптеки «Красная змея» собиралась покончить со своей жизнью пять лет назад, но вместо этого спасла жизнь Адриана Эвентри, раненного и брошенного умирать теми самыми разбойниками, которые убили её мужа и сына. Здесь, в низкой сланцевой пещере, вход в которую почти скрывался за кустарником и травой, пряталась деревянная дверь, которую отперла дрожащими руками Лизабет Фосиган, прошептав: «Сюда».
Если очень постараться, то можно убедить себя, что виновны во всём места, а не люди. Боги, но не люди. Кто и что угодно, но только не ты.
Ход был узким, с низким потолком, поддерживаемым лишь деревянными сваями, вбитыми в земляные стены. Сваи не прогнили — видимо, их регулярно меняли, ибо никто не мог сказать, когда великому конунгу или кому-то из его родни понадобится бежать из своей твердыни, словно крысам с тонущего корабля. Эд знал, что Грегор Фосиган не побежит. Странно, что он послал Лизабет; но, если задуматься, кого ещё ему было послать? Остался ли рядом с ним хоть кто-то, кому он посмел бы довериться? Лизабет он мог не доверять тоже, но её он по крайней мере любил.
Уже через двадцать шагов ход резко шёл вниз, извиваясь спиралью крутых степеней. Слева доносился гул, шорох и ворчание ила и гальки, шевелимой потоком. «Вода рядом со мной, — думал он, ступая почти в полной тьме следом за Лизабет, несшей перед ним факел. — Вода рядом, совсем близко — быть может, уже следующая волна размоет наконец тонкую преграду земли и зальёт нас обоих, и всё кончится вот так».
— Осторожно, — услышал он хриплый голос Лизабет. — Сейчас будут ступени вверх.
Эд протянул руку в темноте и взял её ладонь. Она дрогнула, и он чуть сжал её руку в своей. Он ничего не сказал, и она не сказала, только после короткого колебания сцепила холодные пальчики вокруг его руки.
— Дай факел, — сказал Эд. — Я пойду вперёд.
И так они шли — мимо потока, сперва воды, потом — битвы, бесшумные, никем не замеченные, словно призраки. Под ногами хлюпала грязь, пищали крысы. Лизабет до смерти боялась крыс. Впрочем, с некоторых пор Адриан Эвентри их тоже не любил. Порой ему казалось, что истинные короли мира — это именно они. Хозяева подземелий, те, кто устроят пир на наших костях, когда мы упадём без сил.
Но он не собирался падать.
Он почувствовал сквозняк и понял, что выход близко. Они выбрались из хода в узкой замковой галерее, заброшенной, покрытой пылью и паутиной. Эд сразу узнал это место: в этой части замка были покои леди Аурелии, второй и последней жены Грегора Фосигана, умершей при рождении Квентина. Здесь она умерла, и с тех пор конунг велел заколотить это крыло и запретил кому бы то ни было входить сюда. Многих удивила такая сентиментальность. «Ну конечно, — подумал Эд. — Я давно мог бы догадаться».
Замок, казалось, вымер. Не слышалось привычного смеха, болтовни, суеты слуг и придворных. Эд и Лизабет шли через огромные пустые залы, мимо наглухо закрытых окон. Придворные, должно быть, попрятались в своих покоях — те их них, кто не держат караул при замковой стене. Они, конечно, знают, что замок так просто не взять — для этого вражье войско должно сперва прорваться за стену Верхнего Сотелсхейма, а после штурмовать третье кольцо внутренних стен. Но они слышат грохот битвы в Нижнем городе, видят зарево пожаров над кварталами, в которых ещё вчера беспечно бражничали и предавались разврату, не думая о завтрашнем дне. Эд Эфрин был ничем не лучше их.
Он внезапно понял, что Лизабет ведёт его к покоям конунга, и сжал её руку крепче, заставив остановиться.
— Лизабет, куда мы идём? Твой отец…
— Он у себя, — сказала она и отвернулась, будто не желая отвечать на изумлённый взгляд Эда. Что значит — конунг у себя? Как может он быть у себя, когда в его городе творится такое? Его место на стене, со своими людьми, в крайнем случае — в Анклаве, вразумлять жрецов и требовать, чтоб они угомонили народ…
У входа в комнаты конунга их встретил тройной караул. Копья с треском сомкнулись перед Эдом — и за его спиной. Лизабет выпустила его руку и вскинула ладонь.
— Пропустите! Приказ лорда Грегора!
Её голос звучал звонко и жёстко — голос не испуганной девчонки, но леди, старшей женщины своего клана. «Где теперь её муж? — подумал Эд. — Тоже прячется под кроватью в своих покоях, по примеру тестя? Или, может быть, вытащил из сундука меч и полез на стену, пытаясь разглядеть врага уцелевшим глазом?.. Господи, Лиз, прости меня. И ты тоже меня прости, если сможешь. Я не мог иначе».
Копья разомкнулись, давая им путь.
Эд вошёл в комнату предпокоя — ту самую, за порог которой ступали очень немногие. Тиннетри, неизменный камергер Грегора Фосигана в течение тридцати с лишним лет, при виде Эда молча посмотрел на дочь своего господина. Лизабет так же молча кивнула. «Он всегда меня недолюбливал, — подумал Эд. — Видел меня насквозь. Он один и видел… может, поэтому он единственный, от кого я не смог отвратить конунга».
Камергер распахнул дверь. Эд прошёл внутрь. Лизабет осталась, словно не решаясь следовать за ним.
В комнате с низким окном и винным столиком на пьедестале, той самой комнате, в которой Грегор Фосиган рассказывал Адриану Эвентри про убийство его семьи, в том самом кресле, которое неизменно занимал Эд, сидела леди Эмма, тётка конунга. На коленях её лежали пяльцы, ловкие пальцы водили иглой, отсверкивавшей в пламени лучины. Старая, безмятежная в своём слабоумии женщина, которой нет дела до того, что творится за пределами её светлицы. Не прекращая шить, она подняла глаза и встретилась с Эдом взглядом — впервые с тех пор, как он свёл в могилу её любимую внучку. У неё были такие же глаза, как у лорда Грегора, — светло-серые, с крупным, всё ещё тёмным и блестящим зрачком, блеск которого не смогли приглушить никакие годы и горести.
— Лизка всё же привела тебя, — сказала старуха, и игла в её пальцах наконец замерла. — Надо же, от девчонки есть хоть какой-то толк.
Она положила пяльцы на стол и встала.
— Идём. Грегор ждёт тебя.
Эд поклонился ей. Она не удостоила его в ответ даже взглядом. Повернулась, прошла через комнату к двери, ведущей в спальню конунга — единственную часть его покоев, которой Эд никогда не видел изнутри, хотя молва, которой сам он когда-то усиленно потакал, утверждала совершенно обратное.
Леди Эмма приоткрыла дверь и заглянула в комнату, не входя. Что-то тихо сказала, выслушала ответ и отступила. Посмотрела на Эда, сухо кивнула ему на дверь.
Он подошёл, чувствуя странную слабость в ногах и внизу живота. «Прочь», — приказал он. Страх должен приходить после, когда дело уже сделано. Страх должен знать своё место.
И всё же он поколебался, задержавшись на пороге, пока эта предательская слабость не прошла — и услышал, как леди Эмма, выйдя из столовой в предпокой, сказала: «Лизабет, детка, сними наконец плащ. Ну, успокойся же. Идём, я налью тебе грогу. Грог спасает от всех забот и хворей».
Эд толкнул дверь в спальню конунга, шагнул вперёд и закрыл её за собой.
Он не так представлял себе спальню самого могущественного человека в Бертане. Маленькая, тесная, тёмная — лорд Фосиган вообще не любил большие помещения и избегал их. В спальне только комод и кровать, вдвое более узкая, чем та, на которой спал Эд в своём доме в Верхнем городе. Полог балдахина опущен с двух сторон, с третьей — наполовину задёрнут, и тяжкое, сиплое дыхание доносилось из-за него, но парчовые занавеси были слишком тяжелы, чтобы оно могло их пошевелить. На столике у изголовья стояли какие-то чаши и склянки, на полу — тазик с чем-то тёмным, крепко и терпко пахнущим кровью. Ставни закрыты наглухо, и по всей спальне стоит запах — затхлый, тусклый запах смерти.
Медленно, очень медленно Эд подошёл к отдёрнутому пологу.
— Вы звали меня, мой лорд? — тихо спросил он.
Грегор Фосиган, лежавший на единственной куцей подушке — он ненавидел пуховые перины, как и любые другие излишества, — повернул к нему голову. Без конунгского венца или хотя бы шапки она казалась маленькой и вытянутой, будто гусиное яйцо. Лицо лорда Грегора — а точнее, правую его часть — искажала гримаса, могущая выражать равно гнев, страх и стыд. Но правду говорили глаза, яркие, живые, полные холодной отрешённости, будто этому некогда великому человеку было решительно всё равно, что жестокие боги вздумали сотворить с его телом.
— Сядь, — неожиданно внятно сказал конунг. Правая сторона его рта едва шевелилась, но говорил он без видимого труда. И даже шевельнул рукой — правой, будто отказываясь признавать и принимать, что эта часть тела ему больше не подвластна, — требовательно и нетерпеливо указывая Эду на кресло с резной спинкой, стоящее рядом с кроватью.
Эд сел. Он никогда не смел перечить этому человеку.
— Где ваши лекари? — спросил он.
— Я их всех прогнал вон, — проговорил лорд Грегор. — Велел взять мечи или их костоправские тесаки, что там у них есть, и идти защищать город. Так от них всяко будет больше проку.
Теперь Эд видел, с каким трудом даётся ему речь. Высокий от залысин лоб конунга покрыла испарина, но голос его был совершенно ровным. Он не собирался выглядеть слабым. Даже теперь. «Вы могли бы быть мне другом, мой лорд», — подумал Эд, но кого винить в том, что этого не произошло?..
— Что с вами случилось, мой конунг?
Он спросил это без злорадства. Лорд Грегор почувствовал это, и левая сторона его рта растянулась в подобии прежней улыбки.
— Со мной случился ты… лорд Адриан Эвентри. И мой сын, который был так же глуп, как я сам.
— Он поумнеет. Я обещаю вам это.
Отяжелевшие веки конунга опустились, долгое мгновение спустя снова поднялись, с мучительным трудом, словно шевелить ими было для лорда Грегора непосильной задачей.
— Ты хочешь сказать, что он… жив?
— Он жив, мой лорд. И останется жив. В этом я вам клянусь… моими братьями Ричардом и Анастасом, и моим отцом.
Клокочущий, влажный, надрывный звук, вырвавшийся из приоткрытого рта конунга, не мог быть смехом. Эд смотрел на этот рот и чувствовал, как взмокают волосы на затылке.
Он наконец понял.
Лорд Грегор услышал — а, более вероятно, увидел, придя слишком поздно, — как полдюжины стрел впивается в тело его единственного сына. Увидел, как Квентин падает с коня и как Адриан Эвентри, чудом выживший после предательского удара, забирает его тело и уносит с собой.
Когда Грегор Фосиган увидел это, его разбил удар.
«Всё из-за меня, — подумал Эд. — Я хотел вам смерти, мой лорд, но не такой».
— Слава богам, — сипло сказал конунг. — Слава Гилас, слава Тафи, слава Гвидре Милосердному. Он тяжело ранен?
— Не так тяжело, как мог бы. Он поправится.
— Что же, — сказал Фосиган после долгой тишины. — И меня не минул этот жребий. Терять наших детей — это то, на что мы сами себя обрекаем, когда берёмся забрать себе мир… Ты отнял у меня Магдалену, а теперь и Квентина.
— Вы не потеряете Квентина. Я…
— Что? Сделаешь его своим септой? Фосиган — септа Эвентри? — конунг снова засмеялся одной половиной рта, но смех на этот раз сразу смолк. — Это даже не так абсурдно, как могло бы показаться… прежде. Дай мне воды.
Эд налил в чашу воды из кувшина, стоящего на столике, и поднёс к перекошенным губам конунга. Когда он служил у мастера Киннана в Фарии, ему приходилось прислуживать больным, и он умел ухаживать за парализованными, поэтому ни пролил ни капли.
— У тебя ловкие руки, — сказал конунг, откинувшись снова на подушку. — Всегда были. Что ты будешь делать теперь, Эдо? Ты впрямь думаешь, что сможешь удержать всё это? — он слабо махнул рукой, снова правой, от того жест вышел коротким и жалким. «Он прав, — подумал Эд, — только это-то я и держу в своей власти. Только эту комнату, эту постель, этого умирающего на моих руках старика. Только это… и это так много, что он прав: я вправду не знаю, как мне быть».
— Я постараюсь, — тихо ответил он наконец.
— Зачем? — глаза Фосигана снова заблестели, он слегка приподнялся, жадно всматриваясь Эду в лицо. — Скажи, если ты хочешь власти, почему не добивался её, будучи рядом со мной?
— Мне не власть нужна.
— А что же тебе нужно?
— Вы всё равно не поймёте.
Фосиган ещё минуту смотрел на него.
— Как там Верхняя стена?
— Пока держится.
— Да, я отправил туда Ортойя… того самого Ортойя, которого ты так старался извести. Он хорошо показал себя в битве при Кадви, и он не сдаст тебе Верхний город.
— Я знаю. Я хочу, чтобы мне его сдали вы.
Конунг не стал смеяться. Только улыбнулся, так слабо, что губы едва шевельнулись, и от того улыбка была действительно похожа на улыбку, а не на изуродованный параличом оскал.
— Я уже сдаю его — видишь? Мои лекари сказали, я вряд ли доживу до утра. А если и доживу, то что это за конунг, валяющийся в койке, когда враг берёт его замок… Я не конунг больше. Ты добился, чего хотел. Но если ты думаешь, что победил, Эдо, то я огорчу тебя.
Его глаза вновь сверкнули, слабо, но хитро, торжествующе, и Эд наконец понял, зачем этот человек позвал его к своему смертному одру. «Он ненавидит меня, — подумал Эд. — Меня и весь мой клан. Он всегда ненавидел нас».
Он не шевельнулся, когда Грегор Фосиган положил багровую, но по-прежнему сильную ладонь ему на руку и стиснул её с такой силой, что Эд задержал дыхание. Это не было рукопожатием — скорее, попыткой причинить всю возможную боль, какую только мог причинить умирающий старик молодому и сильному мужчине.
— Ты не отдаёшь себе отчёта в том, что начнётся, когда ты победишь. Думаешь, посадят тебя на трон — и дело сделано? Знаю, к тебе пришли бонды, септы Одвеллов, даже мои септы… но не все. Далеко не все. Ты сумел посеять смуту даже в Анклаве, проклятый Шион дошёл до Нижних ворот, прежде чем верные жрецы Гилас схватили его и разогнали чернь, которую он поднял. И ты думаешь, после гибели моего клана они вот так просто придут к тебе на поклон? Нет, мой милый Эдо. Ты ввергнешь Бертан в новую войну, ещё кровавее прежней. Потому что юг под моей пятой сидел смирно, но теперь взбаламучен и он. Ты станешь мной, ты запрёшься в этих стенах и будешь смотреть, как они дерут глотки друг другу. И всё повторится заново. Слышишь, с тобой будет то же, что и со мной! Если бы могло быть иначе, я бы сделал это сам.
Эд слушал задыхающийся хрип этого разъярённого, злорадствующего старика, который и на пороге могилы неприкрыто торжествовал оттого, что оставит своему врагу и убийце в наследство не меньше хлопот, чем получил от него сам. Пока он говорил, его рука сжималась на руке Эда всё крепче. Закончив, он в изнеможении откинулся назад, хватая воздух перекошенным ртом, откинулся и разжал пальцы.
Эд, не отводя от него глаз, отёр кровь, выступившую на его коже там, где побывали ногти великого конунга.
— Вы знаете, мой лорд, — проговорил он после долгой тишины, — я прожил большую часть жизни в убеждении, что один человек способен изменить всё. Это нелегко, ни для него, ни для тех, кого он губит на своём пути. Когда-то я хотел быть всем сразу… помочь сразу всем, спасти сразу всех. Но так не бывает. Всегда надо выбирать, кем быть и чем жертвовать. Вы в ответе за всё это наравне со мной. Напишите приказ лорду Ортойе о сдаче города. Велите ему открыть ворота и остановите то, что сейчас происходит по нашей с вами вине. Вы закрыли ставни, мой конунг, здесь не слышно того, что происходит внизу… позвольте вам помочь.
Фосиган протестующе захрипел, но Эд уже встал и шёл к окну. Дневной свет ворвался в спальню конунга, ударив и ослепив самого Эда. Он услышал хрип — и подумал, что, быть может, этим убил лорда Грегора. Ему было жаль. Господи, ему было так жаль! Но он знал, что должен делать, и знал давно.
— Слушайте. Слушайте, мой лорд. Вы не можете видеть отсюда огня и дыма, но хоть послушайте…
Тяжёлое, частое дыхание рвалось из-за полога кровати, словно узник, жаждущий воли. Эд снова подошёл к кровати и отдёрнул полог.
— Поверьте, мой лорд, я ненавижу себя точно так же, как вы. Но это не снимает с нас наших долгов. Когда-то богиня Янона сказал мне, что я должен спасти Бертан от мора. И я делал это, не считаясь с ценой. Но больше я так не могу. Не могу и не хочу, понимаете? Не хочу больше убивать, чтобы спасти. Я слишком долго это делал.
— Твой брат, — прохрипел конунг, корчась на постели в тени Эда, падавшей на его лицо. — Твой Анастас… он был на корабле Бьярда. На «Светлоликой Гилас», когда она сгорела. Мне донесли шпики, которых я приставил к Бьярду. Они встречались там, когда корабль подожгли. Это ведь был ты? Ты его сжёг?
Что-то опалило ему лицо. И глаза. И душу — то, что осталось от души, — так ожгло, словно он снова ощущал жар взрыва, настигший его даже глубоко под водой.
Конунг засмеялся. Он смеялся, когда Адриан Эвентри наклонился к нему и сказал одними губами:
— Простите меня за Магдалену. Я не хотел. Я не знал, что она меня так любила.
И ушёл, оставив за спиной пропахшее смертью ложе, затихающий смех мертвеца и настежь распахнутое окно.
Эмма и Лизабет Фосиган, две женщины, любившие Грегора Фосигана, сидели в предпокое. Обе они обернулись на звук шагов.
— Лизабет, — сказал Адриан, — ты должна снова пройти ходом и привести сюда Квентина. Ты сможешь сделать это?
Она кивнула, напряжённо, но спокойнее, чем он ждал.
— Леди Эмма, — Эд повернулся к старухе, смотревшей на него холодным, строгим взглядом, — позаботьтесь о лорде Грегоре. Облегчите ему… что можно облегчить. И, если вам дорог ваш внук, ваш клан и ваш мир, никого не впускайте сюда, пока…
— Пока всё не будет кончено, — спокойно закончила та.
Эд, поколебавшись, кивнул. Леди Эмма подарила ему сухую улыбку.
— Я постараюсь сделать всё быстро, — негромко проговорила она. Эд поцеловал её руку, потом, не удержавшись, сжал.
— Спасибо, что доверяете мне, — прошептал он. Леди Эмма коротко кивнула. Не оборачиваясь, сказала:
— Лизка, ты ещё здесь? Бегом за Квентином, бестолочь.
— А вы, Тиннетри, — повернулся Эд к камергеру, — принесите мне бумаги и чернил. Много. И заодно пришлите писарей, так дело быстрее пойдёт.
— Люди Фосигана не послушаются приказов Эвентри, — угрюмо сказал тот.
— Разумеется. Но они послушаются приказов Фосигана. Я прошу вас, поторопитесь.
Лизабет вернулась час спустя, когда циркуляры о прекращении сопротивления, адресованные воинским частям Сотелсхейма и Анклаву, были дописаны. Писарь усердно скрипел пером, выводя слова последнего экземпляра, когда в малый зал, где Адриан сидел во главе стола и армии переписчиков, вошёл Квентин. Он прихрамывал, держась рукой за раненый бок, — пешая прогулка под землёй явно не пошла ему на пользу. «Прости, мальчик, но тебе придётся потерпеть, — мысленно сказал ему Адриан. — Тебе придётся быть сильным. Куда сильнее, чем ты бы хотел».
Он не стал ждать, пока Квентин приблизится, и подошёл к нему сам. Положил руки ему на плечи, посмотрел в недоверчивые, враждебные, растерянные глаза.
И понял, что к этому, именно к этому шёл последние двенадцать лет.
— Квентин, — сказал Адриан Эвентри своему преемнику, — я должен рассказать тебе кое-что очень важное.
Первый в истории Бертана штурм Града Тысячебашенного, начавшийся одиннадцатого дня третьего летнего месяца года 826-го, завершился ещё до вечерней зари. Соединённая армия свободных бондов, разъярённая вероломным покушением на своего предводителя, прорвалась сквозь ворота Нижнего города, открытые — как выяснилось много позже — изнутри самими же горожанами. Они хотели приветствовать Эвентри — но Эвентри на приветствие ответили погромами, огнём и мечом. Страшное побоище прокатилось по Нижнему городу, где жила беднота, рыбаки и ремесленники, а также нищие, мошенники и проститутки. Весёлый квартал пострадал больше всех — он был сожжён дотла, и от борделя «Алая подвязка», в котором год назад едва не был убит Адриан Эвентри, осталась лишь горстка золы. Пройдя по бедным кварталам и обращая их по пути в руины, войско бондов обрушилось на Верхнюю стену. Сотелсхеймцы, успев опомниться, защищали её отчаянно, но бонды, вкусившие наконец после затяжного ожидания крови, также не хотели отступать. Крик, плач, брань, проклятия стояли по долине, окружавшей самый безопасный город на свете.
За час до вечерней зари лорды-командиры клана Фосиган получили письменные приказы сложить оружие и сдаться войску бондов. Приказы эти были подписаны: «Квентин, лорд Фосиган».
Лорд Грегор умер в полночь, почти в полном одиночестве — при нём была только его тётка, леди Эмма. В четверть первого она вышла из покоев своего племянника, всё такая же прямая и безмятежная, и велела Тиннетри готовить обмывание. Квентин Фосиган, к тому времени ещё не пришедший в себя от того, что услышал из уст Эда, узнал о смерти своего отца лишь утром, когда эту новость огласили всему городу, ошарашенному, потрясённому, затихшему в ожидании новой бури.
Но больше не было бурь.
Адриан Эвентри собрал своих командиров в малом зале конунгского замка. Те пришли, переглядываясь настороженно и боязливо, словно собаки, ждущие побоев за перевёрнутый обеденный стол. Бертран Эвентри был мрачнее всех: это он отдал приказ громить Нижний город, и Адриан подоспел в последний момент, едва успев отменить распоряжение своего брата прежде, чем обрадованные вояки ринулись вдоль дымящихся улиц.
Никого не убивать, велел Адриан Эвентри. Ни одного человека. Ни одного пса. Никого.
Он не сел на конунгский трон, как многие ожидали, — ко всеобщему удивлению, ведь разве не для того он привёл их сюда? Обращаясь к ним, он стоял на возвышении рядом с троном и говорил стоя, тогда как все остальные сидели вокруг стола, взбудораженные самим фактом того, что впервые за двести лет тинг свободных бондов проходит в Сотелсхейме.
Когда Эд убедился, что они готовы слушать, он назвал им имя нового конунга.
Мгновение висела гробовая тишина. Потом поднялся крик. Как?! Не для того мы бросили все свои силы и рисковали всем, чтобы заменить одного рябого Фосигана на другого! Ты не это обещал нам, юный лорд! А коли тебе вдруг стал тесен конунгский венец — так тут множество голов, которые не прочь его примерить!
Он дал им вволю накричаться. Их люди стояли вдоль всех трёх стен Сотелсхейма, успев остыть от драки и осознать, сколь непросчитанной и отчаянной была эта атака. Многие из них понимали, что, если бы Адриан Эвентри каким-то чудом не проник в замок и не вынудил Фосиганов сдать город, они не пробились бы дальше Нижней стены.
К вечеру это поймут все.
Потому Эд позволил бондам всласть накричаться — так же, как позволил им это в замке Эвентри прошлой осенью, когда загнал их в угол. Они умели только это — драться и кричать. Надо было лишь знать, как использовать эту драчливость и этот крик.
Когда они угомонились — в немалой степени благодаря окрику лорда Флейна: «Да дайте же ему договорить!» — он объяснил им своё решение.
Фосиганы, сказал Эд, останутся конунгами в Сотелсхейме. Их южные септы сейчас слабы, потому что лорд Грегор забрал у них все средства и всех воинов для обороны Сотелсхейма. К осени, самое позднее — к будущей весне они поднимут головы. Но, продолжал Эд, если в Сотелсхейме останется Фосиган, законный наследник великого конунга, им не из-за чего будет возмутиться. Многие из них, осуждавшие политику лорда Грегора, будут, напротив, довольны. «А уж мы-то как будем довольны», — думали бонды, кивая и ухмыляясь. Мальчишке Квентину пятнадцать лет, он покорная кукла в руках Эвентри — ведь тот заставил его подписать приказы о прекращении сопротивления. Эд читал эти мысли на их лицах, и не опровергал их.
Пусть думают, как им проще.
Далее, продолжал он, в Сотелсхейме учреждается постоянно действующий Верховный Тинг. Цель его — упразднить абсолютное верховенство конунга. Заявление было встречено недоверчивым, но неприкрытым восторгом. Кто же составит этот Тинг? «Самые честолюбивые, — подумал про себя Эд, — а меж ними хоть пара-тройка самых умных». «Тинг сам решит, кто составит его, — ответил он вслух, — это сейчас не самое главное. Вам придётся смириться с тем, мои лорды, что бессменным и пожизненным главой и распорядителем Верховного Тинга стану я, лорд Адриан из клана Эвентри». На каком основании, возмутились бонды, забывшие, что привели сюда Адриана Эвентри как претендента не на главу тинга, а на конунгат. «На том основании, — спокойно ответил Эд, — что моя племянница, Тэсса Эвентри, дочь моего погибшего брата Анастаса, обручена с Квентином Фосиганом и станет его женой в следующее же полнолуние. Она долгие годы была послушницей Гвидре, но ещё не пострижена в монахини. Сейчас ей тринадцать лет».
Было много крика, много шума, много протестов. Почти получив то, ради чего всё затевалось, свободные бонды вспомнили о своей свободе. Эд не мешал им вспоминать о ней — ни в тот день, ни во все последующие, многие дни после него. Им ведь только и оставалось, что вспоминать.
А город смотрел на них в страхе. Весь Бертан смотрел на них в страхе, не ведая, чего ждать от человека, который пришёл сюда когда-то под чужим именем и несколько лет столь ловко дурачил их всех. Теперь, впрочем, они припоминали, что ни простому люду, ни большей части двора он ничего дурного не делал. Кто-то даже вспомнил, как видел его на уличном представлении, высмеивавшем его двусмысленные отношения с конунгом. И этот некто утверждал, что Эд Эфрин на этом представлении смеялся громче всех.
А ещё говорили, что он ратует за снятие запретов Анклава на свободу знания и позволит жрецам лечить людей.
Волновался, перешёптывался, тревожился, дивился Сотелсхейм. Но крови больше не лилось, войско захватчика стояло в гарнизоне и вело себя смирно. А Адриан Эвентри сидел в малом зале за столом, ероша пальцами разлохмаченную косу на своём затылке, и писал письмо человеку, который привёл его сюда, сам того не зная и не желая.
«Приезжай, — писал Эд, — и помоги нам, мне и Квентину. Один я не справлюсь. Да и вдвоём с ним. Мы должны сделать это вместе, все трое. Я прошу тебя, Том, верь мне. А не веришь — так хотя бы послушайся».
И в следующее полнолуние, соединив руку своей племянницы, трепетной маленькой Тэссы, которую он уже видел когда-то в монастыре местры Адели, с рукой бледного и молчаливого Квентина Фосигана, Адриан Эвентри получил ответ на свой зов. Не от богов — боги никогда ему не отвечали. Это и не было нужно, пока отзывались люди.
Тобиас Одвелл, вернувшийся из мёртвых, — это было для начавшего было успокаиваться Бертана будто обухом по голове. Клан Одвелл, уничтоженный кланом Эвентри в кровной вражде, этим же кланом оказался воскрешён. Тобиас Одвелл прибыл в Сотелсхейм один, верхом на непритязательной гнедой кобыле, одетый в серое, и пришёл на Верховный Тинг, заседавший ныне каждый день, потому что дел в послевоенном Сотелсхейме накопилось невпроворот. Никто не узнал его — все удивились, когда Адриан Эвентри замолчал на полуслове, встал со своего места по правую руку от Квентина Фосигана, подошёл к немолодому человеку, стоящему в дверях, и обнял его. И тогда Виго Блейданс сказал:
— О боги, Тобиас! Это ты…
И вот так в тот день Тобиас Одвелл вошёл в дом кровного врага своего клана и преклонил колено перед Квентином Фосиганом, великим конунгом Бертана, и на глазах у потрясённого тинга попросил у него прощения за непокорность и бунт, и конунг, подняв его с колен, расцеловал в обе щеки и простил, и призвал своего первого советника Адриана Эвентри в свидетели этого примирения, которого Бертан ждал пятьдесят лет.
— Я присягаю в верности, — сказал Тобиас Одвелл в полной тишине, под взглядами десятков изумлённых глаз. — Но верность человека человеку — вещь ненадёжная. Я знаю это по себе, потому что я предавал сам и бывал предан. Потому я даю эту присягу не Фосигану, а Сотелсхейму. Я, Тобиас, лорд Одвелл, присягаю трону конунга и всякому, кто займёт этот трон законным путём. И каждый, носящий имя Одвелл, повторит за мной эту присягу.
Никто, кроме Квентина Фосигана, не заметил, что он посмотрел на Адриана, говоря эти слова, и что Адриан чуть заметно кивнул ему с благодарностью, которую не вместили бы никакие слова. И Тобиас Одвелл улыбнулся краем губ, едва заметно, неуверенно, недоверчиво, непонимающе. Когда-то он поверил старшему брату этого мальчика. Теперь мальчик вырос и чем-то походил на Анастаса Эвентри… Взглядом, может быть, и складками в уголках рта. Квентин Фосиган видел этот обмен взглядами, но не сказал ничего. За недели, прошедшие с того дня, когда он ударил Адриана мечом под белым знаменем, все слова уже были сказаны.
И вот так эти трое — мальчик, молодой мужчина и почти старик, трое, которые в ответе за всё, стояли вместе в малом зале Сотелсхейма, глядя друг на друга, и меняли мир. К лучшему ли — им знать было не дано. Это вечная кара Того, Кто в Ответе за всё, — он никогда не знает, к лучшему или к худшему обернётся каждый его шаг на земле.
Впрочем, разве и любой другой, обычный смертный, не благословлённый и не проклятый богами, может об этом знать?
Месяц спустя, за неделю до того, как стало известно, что Тэсса Фосиган собирается подарить своему венценосному мужу первенца, Тобиас Одвелл покинул Сотелсхейм. Ему предстояло многое исправить на севере — и в себе самом. Он чувствовал себя старым, но больше не мёртвым. Это всяко было лучше, чем то, с чем он жил многие годы. Старая женщина, которую он выхаживал последние несколько лет в затерянном среди скал домике, отправилась с ним. Она прожила в Одвелле ещё два года, после чего тихо умерла в кресле перед очагом, вздохнув так, словно с её иссохшего сердца свалился наконец тяжкий груз.
За день до её смерти Адриан Эвентри внёс на Верховный Тинг указ о поголовном прививании людей и скота от чёрной оспы.
Что? Что за «прививание»? Никто и слова-то такого не знал. Местра Адель, ныне член Анклава Гилас (мир с Анклавом стоил Адриану немыслимых взяток и столь же немыслимого расширения землевладений, отданных под монастыри, — в основном за счёт земель клана Одвелл, которыми согласился пожертвовать лорд Томас), объяснила им, что это значит. Мысль о том, чтобы добровольно принять в своё тело заразу, косившую некогда едва ли не каждую семью, была воспринята ничуть не легче, чем можно было надеяться. Однако юный конунг неожиданно поддержал безумный проект своего советника. Кое-кто из бондов, вроде лорда Ролентри, находили, что Эвентри уж слишком влияет на мальчишку. Кто-то возразил, что на это сейчас нет средств, да и народ чересчур взбаламучен недавней войной. Адриан любезно согласился отложить вопрос до будущей весны, когда появится больше средств и волнения успокоятся.
Начало было положено. Алекзайн поняла это и ушла — без той боли, которая уже стала казаться ей вечным проклятьем. Когда это случилось, Тобиас Одвелл, испросив позволения Адриана Эвентри, перевёз прах его тётки Камиллы на землю Одвелла и похоронил её в фамильном склепе, как законную леди Одвелл.
К будущей весне в Сотелсхейм съехалось несколько фарийских лекарей — консультировать жрецов, желавших приобщиться к новейшей медицине. Они успешно приняли роды у жены конунга, после чего много беседовали с главой Верховного Тинга, в котором обнаружили неожиданный интерес и осведомлённость в новейшим средствах лечения моров. Идея, которую он высказал, — та, что описана в знаменитейшем, считавшимся утерянным трактате «Miale Allerum», заинтересовала всех. При условии поддержки властей они согласились попытаться осуществить эту затею.
Через пять лет в Бертан вновь пришла черная оспа — и ушла, не найдя, в кого вонзить свои гнилые зубы. В тот же год Лизабет, сестра конунга, наконец родила своему мужу первенца. Северина Эвентри поспела следом за ней; и как ни ворчала леди Лизабет, возмущённая пусть дальним, но родством с той самой аптекаршей, у которой когда-то покупала яды для своих недругов, но сыновей своих они выкармливали вместе, сидя рядом. К тому времени в волосах Адриана Эвентри начала пробиваться преждевременная седина, но она была почти незаметна, потому что волосы его как были в детстве, так и теперь остались очень светлыми. Каждый новый день доказывал ему, что он обманулся в Квентине. Мальчик понял, кто он, много быстрее, чем когда-то сам Адриан, и принял это гораздо легче. Адриану чудилось даже, что Квентин всегда в той или иной мере догадывался о том, кто он есть, — но лишь теперь стал способен осознать. Было так страшно отдавать этот мир, огромный, рычащий, злобный, наивный и податливый, в руки мальчика, способного убивать из-за ненависти и любви. Но, бойся или нет, есть как есть: мир всегда находится в тех руках, которые не побрезгуют его взять.
Иногда — со временем всё реже — Адриан Эвентри приходил к фамильному склепу Фосиганов, садился на землю у входа в гробницу своей первой жены Магдалены и сидел там, ткнувшись лбом в сцепленные руки. Он не чувствовал облегчения, никогда, до самого конца, чувствовал только вину — и грусть оттого, что не умел её искупить. Порой в ясные дни он поднимал лицо к небу и спрашивал: «Ну, моя богиня? Ты этого хотела от меня? Всё ли я сделал правильно? Теперь ты отпустишь меня наконец? Или я снова тебя подвёл? Гневается ли на меня твоя Светлоликая мать? А на тебя? Ты сама, о Неистовая моя, знала ли, на что меня обрекаешь, или для тебя это было только игрой со смертными и с тем, на что они могут оказаться способны?..
Была ли ты когда-нибудь, или я просто выдумал тебя, чтобы оправдать себя самого?»
Шелестела листва, гладя могильный камень, шумела трава, солнце щурилось сквозь кучившиеся облака. И единственным ответом, который мог получить Адриан, был ветер, срывающий со стеблей отцветшие короны одуванчиков и уносящий их прочь. Неведомо где, неведомо когда и как, они упадут в податливую мягкую землю, прорастут, дадут всходы.
апрель 2006 — май 2007



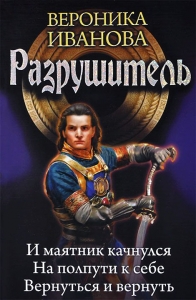
Комментарии к книге «Тебе держать ответ», Юлия Владимировна Остапенко
Всего 0 комментариев