Александр Иванович Сумбатов (Южин) Джентльмен
Комедия в пяти действиях
Действующие лица
Ольга Спиридоновна Рыдлова, глава торгового дома «Рыдлова вдова и Чечков».
Ларион Денисович Рыдлов, ее сын, лет 30.
Любовь Денисовна Рыдлова, ее младшая дочь.
Василий Ефимович Чечков, двоюродный брат Ольги Спиридоновны, лет 50, компаньон фирмы.
Сергей Павлович Боженко, помещик заложенных имений, служит в Москве в частном банке директором, лет 45.
Эмма Леопольдовна, урожденная графиня Остергаузен, его жена, молодая женщина.
Граф Фридрих Николаевич Остергаузен, ее дальний родственник, лет 35, владелец небольшого майората в Прибалтийском крае.
Андрей Константинович Остужев, литератор, лет под 40.
Вадим Петрович Гореев, учитель физики и естественной истории, журналист, приват-доцент университета.
Екатерина Вадимовна (Кэтт), его дочь, воспитанная мисс Уилькс.
Евгения Фоминична Уилькс, ее тетка, бывшая гувернантка Рыдловых, друг их дома, собственница фабрики перчаток и магазина изящных вещей и парфюмерии, лет 50, но очень сохранившаяся, англичанка по происхождению, родившаяся в России и прожившая всю жизнь в Москве.
Егор Егорович Лебедынцев, бывший спортсмен, занимается газетной работой.
Франческо Сакарди, тенор итальянской оперы.
Василий, лакей Рыдловых.
Гости, лакеи.
Действие происходит в наше время в Москве.
Первое, второе, третье и пятое — у Рыдловых, четвертое — у Гореева.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Сцена представляет зимний сад в доме Рыдловых. Правая стена вся уставлена тропическими растениями, на авансцене род беседки из пальм и кактусов. Несколько впереди, на правом плане, дверь. Средняя стена в глубине состоит из четырех или пяти арок, затворяющихся стеклянными дверями из цветных стекол. Промежутки между дверями заполнены цветущими растениями. Левая сторона — сплошной сад. Между третьим и четвертым планом и в глубине расположены карточные столы. На авансцене слева низенький стол, на нем два бочонка с устрицами, тарелки, устричные вилки, шабли, шампанское, стаканы и фужеры. За задней занавесью видна освещенная зала с множеством гостей. Слышна очень слабо бальная музыка. За одним из столов играют. Кое-когда проходят гости — дамы и мужчины. Сад освещен мягким электрическим светом. Садовые изящные кресла, столики и диваны.
Явление первое
Боженко, граф Остергаузен и Лебедынцев сидят около бочонка с устрицами и едят их, запивая шампанским.
Боженко. Что и говорить! Красавица! И за что этакому олуху лезет в рот такое счастье?
Остергаузен. Московская черта: есть хозяйские устрицы и ругать хозяина.
Лебедынцев. Давно сказано: русский человек склонен к злословию.
Остергаузен. Следует мягче относиться к людям, в руках коих столь важное преимущество, как капитал. Человек, преследующий в жизни определенную цель, не может быть столь опрометчив и легкомыслен.
Боженко. Нет поглядите, пожалуйста! Идет себе немец по жизненному пути мерным шагом, преследует какую-то цель да по пути раздает наставления. (Горячо.) Ну какая у тебя-то цель, скажи, сделай милость?
Остергаузен. Поддержать свою фамилию.
Боженко. Что?
Остергаузен. Поддержать свою фамилию. Она была богатая, и надо, чтобы она опять стала богатая.
Боженко. Что ж это за жизненная цель такая — богатство? И богат я был и беден — все одно и то же.
Лебедынцев. Ты при мне этого не говори. Ты никогда, Сергей Павлович, не был беден. У тебя сначала были большие имения, потом частная служба с окладом в 12 тысяч, это не бедность. А вот я, понимаешь… ну! (Глотает устрицы.) Знаешь, после того как судебный пристав выселил меня из моей конюшни…
Остергаузен. Зачем из конюшни? Разве вы жили в конюшне?
Лебедынцев. Жил-с, лучшие дни в моей жизни. Я в эту конюшню поместил два рязанских, одно тульское имение да последнюю подмосковную; наконец продал дом на Поварской и полконюшни, а в другую половину переселился сам. Так мы и жили, дружно, любовно: Пигмалион, Пик-Покет, Непобедимая I, Непобедимая II, тренер, жокей и я. Но… тут входит опекун.
Остергаузен. Какой опекун?
Лебедынцев. Судебный пристав. Занавес опускается. (Махнул рукой.)
Остергаузен. Да, это очень тяжело — после таких увлечений жить литературным трудом.
Лебедынцев. Собачья жизнь. Одна у меня надежда — самому газету издавать. Давайте вместе.
Остергаузен (очень спокойно). Ничего не выйдет.
Лебедынцев. Почему?
Остергаузен. Денег нет.
Лебедынцев. Да разве я предлагаю издавать на наши деньги? Вот еще! А зачем же наш Ларя-голубчик? Уж он в литературу давно порывается. Написал повесть психологического жанра и напечатал под псевдонимом «маркиз Вольдир» — Рыдлов наоборот. В каком-то иллюстрированном журнале помещен даже его собственный портрет и автограф. «Maркиз Вольдир, писатель». Рожа у него изображена в рембрандовском освещении, но — увы! — все как будто лоснится. Мы ему поручим какой-нибудь отдел.
Боженко. Ему? Кто же станет читать его статьи? Он хотя и побывал в разных подозрительных университетах, но на челе его высоком не отразилось ничего. Его смешное не смешит, печальное не печалит.
Остергаузен. Так ему можно поручить театральный отдел.
Лебедынцев. Вот разве что театральный. Вероятно, он будет очень скоро сам играть роль дон Бартоло в комедии из семейной жизни.
Боженко. Ну, она не из таких.
Лебедынцев. Я плохо знаком с родными молодой. Почему это Гореевы и Уилькс в родстве? Что тут общего — русская и английская фамилии?
Боженко (прихлебывая из стакана). Ты ведь знаком с Гореевым.
Лебедынцев. Лично нет, но постоянно читаю его статьи в газетах, знаю его по думской деятельности… Знаю, что он учитель и приват-доцент…
Боженко. Много он пережил на своем веку. И журнал издавал, и писал, и учительствовал, и теперь много работает. Он сам про себя говорил мне, что он в жизни только и делал, что падал и поднимался. Лет тридцать назад женился он на сестре нашей Евгении Фоминичны Уилькс. Обе сестры были гувернантками: старшая, ныне здравствующая Евгения Фоминична, уже тогда, кажется, пестовала Ларьку Рыдлова, затем и «цель жизни» вашего сиятельства…
Остергаузен. Пока ты можешь шутить, но когда я женюсь, ты уже не будешь мочь шутить.
Боженко. Воспитала будущую графиню Остергаузен, нашла денежных друзей и отлично повела магазин перчаток, английских духов и… свадебную контору под шумок, а сестра ее по страстной взаимной любви вышла за Вадима Петровича, родила ему Кэтт, да тут же и умерла. Вот тут уж Вадим Петрович рухнул, попросту говоря запил, как все мы, русские люди. К счастью, ненадолго. Но этого срока было достаточно, чтобы Евгения Фоминична овладела Кэтт и перевезла ее к себе. Отец сначала и думать о ней забыл, заперся, и лет пять нигде его не было видно, а потом, когда оправился, да и она подросла, сунулся было к ней, но уже было поздно. Девочка звала тетку мамой, а к папе была вполне равнодушна. (Выпивая залпом стакан.) Вырастила красавицу, да вот и выдала замуж.
Остергаузен. А где теперь Остужев?
Лебедынцев (с любопытством глядя на графа). Э-э, ваше сиятельство, как же это так неосторожно? В доме повешенного — да о веревке.
Боженко. Вздор! вздор! Как тебе не стыдно, Егор Егорович!
Лебедынцев. Чего же стыдиться? Роман не роман, а небольшой очерк, так, строчек на двести, все-таки был.
Боженко (желчно). Послушай, Егор Егорович, мы в ее доме…
Лебедынцев. Да она еще и переночевать здесь не успела.
Боженко. Это все равно. Может быть, и было начало увлечения с ее стороны…
Остергаузен. Виноват, это все излишне. Я только спросил, где теперь Остужев и знает ли об этом бракосочетании. Больше я ничего не спросил…
Лебедынцев. Что знает, — это будьте уверены. Я думаю, одни его знакомые дамы послали ему добрую дюжину печатных приглашений. (Достает.) Вот таких. Он в Париже. Я читал недавно его фельетон.
Боженко. Это все мисс тетушка устроила! Будет он ей благодарен.
Лебедынцев. Уилькс-то? О, дама проницательная. Таскала-таскала племянницу по ситцевым балам, все партии искала.
Боженко (горячо). Ну, уж я тебя прошу!
Лебедынцев. Да разве я что-нибудь говорю? С тетенькой и с девицами хорошего круга, пикниками. А роман захлопнули на первой же главе. Будьте покойны. Вдова Рыдлова — фирма солидная: ей лежалого не сбудешь.
Из глубины входит Василий Ефимович Чечков.
Явление второе
Чечков. Избрали благую часть? Где, думаю, умные люди, которые не задыхаются? Надо их отыскать. Прямо сюда… (Присаживается.) Благодать, благодать. Хе… (Вынимает портсигар и тщательно выбирает сигару, когда обрезал ее и собирается закурить, Лебедынцев берет ее у него из рук.) Позвольте, батенька, я вам другую… такой сорт, что вы все пальчики оближете… (Ищет в портсигаре.) Вот… вот…
Лебедынцев. Я держусь того правила, что ни один умный человек не даст хорошей сигары другу, а выкурит ее сам. (Закуривает. Чечков поморщился.) Хороша! Merci.
Чечков. За глупость поплатился. Обмуслить бы сначала!..
Боженко. Знаете, Василий Ефимович, о чем мы сейчас толковали?
Чечков. О племяннике, да… о новой богоданной племяннице.
Боженко. Конечно, но, кроме того, у нас родилась мысль…
Чечков (тревожно). Мысли ведь как рождаются у умных людей? Как поросята, по дюжине сразу.
Боженко. Газету думаем издавать.
Чечков. Не забудьте меня подписчиком.
Боженко. На широких началах…
Чечков. Деньги нужны, большие деньги необходимы.
Остергаузен. Именно.
Чечков. Вот, вот… именно большие деньги нужны. А где их взять?
Лебедынцев. А вы не дадите?
Чечков. Вы меня сколько лет знаете?
Лебедынцев. Лет двадцать.
Чечков. Давал я вам когда-нибудь деньги?
Лебедынцев. Нет.
Чечков. Вот видите. (Поглядывая на всех троих.) Любимые мои, дорогие вы мои, умные мои, золотые… Зачем вы меня, старика, обижаете? Неужели глупее меня не найдется?
Остергаузен. О! у вас ума целая… (затрудняясь) палата, но разве газета, и именно теперь, в хороших руках…
Чечков. В хороших руках и рожь на обухе вырастет.
Остергаузен. Нет, это невозможно, чтобы рожь выросла иначе, как на земле, но газета в хороших руках может быть выгодным помещением капитала и дать блестящее общественное положение.
Чечков. Куда мне на старости лет… Мне пора о гробике подумать… О гробике, о гробике… Ох! Да, голубчики вы мои, разве в деньгах дело? Голова была бы, голова… А уж у вас — славу богу… сияют головки-то, светятся…
Лебедынцев. Одна голова и осталась.
Боженко (у карточного стола, вскрывая колоду). Господа, пожалуйте, пять радужных в банк. Рвите на части.
Чечков (посмотрев через пенсне и удостоверившись в наличности денег). Вот этим путем много с меня возьмете. Получите для первого раза половину.
Боженко. А ты, граф, будешь?
Остергаузен. Я никогда не играю в азарт. Я посмотрю.
Лебедынцев. Десять рублей.
Чечков. Поехали.
Играют. Входят Рыдлов и Гореев.
Явление третье
Рыдлов. Сюда пожалуйте, Вадим Петрович, отдохните от суеты!
Гореев. Благодарю. Действительно, я от светской жизни давно отвык. Она меня утомляет.
Рыдлов. Стакан шампанского смею просить?
Гореев. Спасибо, не пью.
Садятся.
Рыдлов. Моя душа полна, Вадим Петрович. Мечта облеклась в реальную действительность. Конец бурной молодости увенчался тихим блаженством.
Гореев. Как это вы кудряво!
Рыдлов. Ах, могу я теперь заговорить стихами — так у меня душа горит. Знаете, Вадим Петрович, сколько мне пришлось вынести борьбы из-за Кэтт? Грубость и предрассудки… Но истинная страсть, как буря, все ниспровергает. (Делает широкий жест. Разбивает бокал.)
Гореев. Вижу, мой милый, вижу.
Рыдлов (подскочившему лакею). Убирайся!
Лакей исчезает.
Наконец, я так смотрю: раз дано слово — конец. Человек прежде всего должен быть джентльмен.
Гореев. Ну, это уже роскошь. Достаточно, если он будет только мен, то есть человек, а остальное — это прилагательное: изящный, благородный.
Рыдлов. Именно! Вот! Изящество и благородство! Вот! Позвольте теперь вас спросить от души: довольны ли вы счастьем вашей дочери?
Гореев. Какой вы странный! Как же не быть довольным, если это действительно счастье?
Рыдлов. A coeur ouvert?
Гореев (после молчания, взглянув на него). А вы не находите, что немедленно после венчания об этом спрашивать несколько поздно?
Рыдлов. Нет, вы меня извините. Это как бы обход. А вы удостойте прямого ответа. Кажется, уж трудно большего желать.
Гореев. Ваш брак — дело рук ее тетки, мой милый. Если бы вам лично было важно мое мнение в этом вопросе, вы могли бы хоть немного сойтись со мною и прежде.
Рыдлов. Искренне вам скажу: был у меня этот порыв к вам, но вы на меня всегда так молчали…
Гореев. Говорить-то нам с вами как-то не о чем было. Что ж я теперь могу сказать? Постарайтесь, чтобы дочь моя вас полюбила…
Рыдлов. Это уж я постарался. Это уж готово.
Гореев (проницательно взглянув на него). Ну, вы еще постарайтесь. Склонность девушки — одно, а любовь жены — другое. Я против вас ничего не имею, но я вас слишком мало знаю…
Рыдлов. Если вас интересуют мои убеждения, позвольте вам поднести мою повесть. Она называется «Бездна». Вещь — я вам прямо скажу — глубокая. В ней я отразил современного человека, который вдохнул семена цивилизации.
Гореев. Это невозможно: вы поперхнетесь, если будете вдыхать семена.
Рыдлов. Там разбирается двойственная натура…
Гореев (вставая). Это очень интересно?
Рыдлов. Очень. Я еще думаю написать продолжение.
Входит мисс Уилькс с Любовью Денисовной.
Явление четвертое
Мисс Уилькс. Граф, бросьте карты. Подите сюда!
Граф подходит к ней.
Отчего вы не танцуете?
Остергаузен. Я в 1884 году имел несчастье повредить себе одно сухожилие, которое мне мешает танцевать.
Мисс Уилькс. И кадриль?
Остергаузен. Нет.
Мисс Уилькс. Идите. Возьмите Любу и идите. Я приду на вас посмотреть — Люба, я приду на вас посмотреть. А потом… (Тихо.) Я буду здесь, вы понимаете, Люба? Он довольно уже думал!
Люба. Что такое? о чем?
Мисс Уилькс. После, после. (Тихо.) Надо это кончить. Он слишком долго готовится.
Люба. Ах, мисс, мне совсем не к спеху. (Отходит, пожимая плечами.) Граф, объясните мне, что такое сухожилие.
Остергаузен. Это так называется жила без крови…
Мисс Уилькс. Люба!
Люба. Что прикажете, Евгения Фоминична!
Мисс Уилькс. Умерьте неуместное любопытство. Круг ваших знаний достаточно полон. Идите.
Остергаузен и Люба уходят.
Ларя! А! Как вы должны быть счастливы в эту минуту!
Рыдлов. Да, я счастлив. Я… я счастлив. Я сейчас только высказывал папаше, как я глубоко счастлив.
Мисс Уилькс. Кому вы этим обязаны? Кому?
Рыдлов. Себе, то есть… вам! Вам, дорогая тетя. (Целует ее руку.)
Мисс Уилькс. Так вознаградите же бедную мать за отнятое у нее сокровище. (Утирает глаза.)
Рыдлов. Вознагражу, будьте покойны. (Подходит к играющим.) Егор Егорович, на пару слов.
Лебедынцев. Чего вам?
Рыдлов. Будет отчет в газете?
Лебедынцев. Не знаю.
Рыдлов. Можно под начальными буквами. Теперь в Петербурге всегда обо всех раутах, балах, свадьбах печатают. А в Париже ни одна фешенебельная свадьба не обходится без отчета. Опишите дом и электрическое освещение. Собственная машина.
Лебедынцев. Гостей перечислять?
Рыдлов. Обязательно. Вы всех заметили? Из Петербурга восемь офицеров. Вот меню ужина. Да чего тут стесняться? Валяйте фамилии.
Лебедынцев. Целиком?
Рыдлов. Целиком. «Ларион Денисович Рыдлов» — так и валяйте. (Уходит.)
Лебедынцев подсаживается опять к карточному столу.
Мисс Уилькс (Горееву). Глядя на вас, можно подумать, что вы хороните, а не венчаете вашу дочь.
Гореев хочет уйти.
Постойте. Чего вы хмуритесь? Кажется, вы должны были бы лобызать мои руки за то, что я сделала для вашей Кэтт.
Гореев. Облобызаю в свое время.
Мисс Уилькс (шутливо хлопает его по плечу веером). Медведь! Я взяла у вас маленький кусочек живого мяса — и вот результат четвертьвекового неустанного труда. Дочь бедного учителя — первая московская миллионерша. И это я создала, я! Я могу гордиться, my dear! (Утирает глаза платком.) И я горжусь своим подвигом, я исполнила безмолвный завет дорогой сестры… Счастьем дочери искуплена загубленная жизнь этой страдалицы!
Гореев. У нас на счастье разные точки зрения, Евгения Фоминична. Вы считаете несчастьем судьбу моей жены, а я пожелал бы Кэтт того счастья, какое знала ее мать… Это было счастье, полное, светлое, человеческое счастье. Оно не было долгим. Я не знаю, впрочем, это ли счастье могло бы удовлетворить вас… и даже Кэтт.
Мисс Уилькс. Мой друг, вы именно химик! Вы думаете как-то наоборот всему свету. Вы не любите вашей дочери.
Гореев (весь съежился. Очень нервно). Нну… Если вы не позволили мне любить мою дочь, то это еще не значит… Вы ее отняли у меня, и вы правы с житейской точки зрения, а я виноват! Я и забросил ее, я и сам дожил до седых волос и не сумел создать себе ни богатства, ни положения, — словом, ничего из того, что, по- вашему, верх человеческого счастья и в чем ваш смысл жизни. Сейчас вам она обязана… Ну, чем обязана, дальше будет видно. Если жизнь ее пойдет по рельсам, я первый склонюсь перед вашей мудростью. Но если… Впрочем, все это впереди. Прощайте. Мы выбрали неудобное время и место для наших счетов, дорогая сестрица. (Уходит.)
Явление пятое
Мисс Уилькс. Ах, безумный! Ах, сумасшедший! Ах… дурак! (Обмахивается веером.) Совсем меня расстроил… Глаза, глаза… И у Кэтт иногда ребенком бывал такой же взгляд.
Входят Остергаузен и Люба. Мисс Уилькс опять уходит за деревья, но туда же направляются и вошедшие, так что мисс Уилькс приходится отступить глубже.
Люба. Merci. Кстати, я давно хотела спросить, вы умеете петь цыганские романсы под балалайку?
Остергаузен. О, теперь это уже не в моде. Пять лет назад это было в большой моде, и я тогда начал учиться, но, пока я успел досконально выучить три романса, эта мода уже прошла.
Люба. Что ж такое, что мода прошла? Я ужасно люблю. Пойдемте, я дам вам гитару, попробуйте спеть.
Остергаузен. Не могу.
Люба. Отчего?
Остергаузен (вздыхает). Оттого, что я мог бы теперь петь только меланхолически.
Люба. Это почему?
Остергаузен (осторожно). Любовь Денисовна! Позвольте мне описать состояние моей души. Я не принадлежу к числу тех индивидуумов, которые истратили огонь своей молодости. Вы знаете «Перчатку» господина Бьернсона?
Люба. Нет. Я беру у мисс Уилькс.
Остергаузен. Нет, это другое произведение, это драматическое. Один молодой человек хочет жениться на одной молодой девице, но она не хочет, чтоб он на ней женился, потому что он падший. Позвольте, Любовь Денисовна… Вы этого пока еще не можете понимать. Но вы поймете потом… Вы имеете красоту и нежную душу, созданную для семейной добродетели. Я имею сердце и древнее имя. Позволите ли вы мне исполнить цель моей жизни и просить вашей руки у достоуважаемой родительницы вашей?
Люба (обрывая лепестки орхидеи, вскидывает на него глаза). Я… не знаю.
Остергаузен. Виноват, я упустил одно обстоятельство. Даже два. Во-первых, я давно люблю вас и ваше присутствие наполняет меня сладостью чистой любви. Во-вторых, я твердо решил не допускать, чтобы на вас женился другой индивидуум.
Люба. Как же вы это устроите, интересно?
Остергаузен. У меня в замке, который маленький, но в порядке, есть зал для стрельбы. В нем я допускаю мух. Из десяти выстрелов я убиваю восемь мух, а две улетают. Судьба этих восьми постигнет… Но я вижу смотрящую на нас особу.
Мисс Уилькс (выходя из засады). Ах, какой вы злой, граф. Люба, он вас напугал.
Остергаузен. Нет, я не злой, я решительный. И у меня правило — не допускать соперников.
Мисс Уилькс. Мой ангел, вы дрожите, он вас обидел!.. О, моя прелесть!
Люба (тихо мисс Уилькс). Ах, какой он смешной. Я прысну.
Мисс Уилькс (ей). Тсс… (Громко.) Вы, кажется, посмели надеяться…
Остергаузен. Графы Остергаузены всегда на все смели надеяться. Если нежно любимая мною девица, естественно, смущена, то я могу отложить на полгода… даже на один год окончательное решение. Но я никого не оскорбил, потому что я действовал по всем правилам.
Мисс Уилькс. Идите к maman, Люба, скажите ей все. — Нет, граф, останьтесь… — Идите, мое милое дитя, идите.
Люба идет к среднему выходу, к ней подходит Лебедынцев, расстроенный. Остергаузен в волнении ходит.
Лебедынцев. Проигрался вдребезги. Пойдемте танцевать.
Люба. Ах, не до танцев мне. Знаете, я получила предложение.
Лебедынцев. Да ну? Граф?
Люба (кивает головой). Он самый!
Лебедынцев. Ну и что же?
Люба (пожав плечами). Вот подумаю.
Лебедынцев. Эх, графинечка, что тут думать! Мы все на один образец.
Люба. Нет, он получше вас. У него правила.
Лебедынцев (беря ее под руки). Нечего сказать, есть чему завидовать!
Уходят.
Явление шестое
Мисс Уилькс. Граф, я вам устрою ваше дело. В Любе, несмотря на мое воспитание, есть некоторые черты, обличающие ее происхождение. Но это можно искоренить.
Остергаузен (как бы вырывая у кого-то клок волос). Это можно искоренить.
Мисс Уилькс. Но зато она принесет вам два миллиона. Я вам их дарю, слышите. Вы бедны.
Остергаузен. Нет, я не беден, я ограничен. То есть я ограничен в средствах.
Мисс Уилькс. Все в моей власти. Хотите заключить договор?
Остергаузен (осторожно). Какой?
Мисс Уилькс. У вас есть связи.
Остергаузен. А!.. Понял.
Мисс Уилькс. Моя Кэтт и ее муж…
Остергаузен. Сделаю все от меня зависящее…
Мисс Уилькс. Я и дальше вам буду полезна.
Жмут друг другу руки.
Ах, вот и мать вашего ангела.
Входит Рыдлова.
Явление седьмое
Мисс Уилькс. Ольга Спиридоновна, утомились?
Рыдлова (сияя радостью). Ах, хорошо, хоть каждый день уставать. Ларечка-то как счастлив, даже как будто заговаривается от счастья… Это при его-то уме! Граф, вы бы скушали чего…
Мисс Уилькс. У него нет аппетита. Он влюблен.
Рыдлова. Скажите! В кого же это?
Мисс Уилькс. Да разве вы не замеч…
Остергаузен. Виноват. Я вас попрошу предоставить мне. Ольга Спиридоновна, достоуважаемая! Позвольте мне явиться к вам завтра в три четверти третьего часа дня. Я принужден буду лично изложить вам мои расчеты и надежды на чрезвычайно важное предприятие. (Кланяется и отходит.)
Рыдлова. Что он, взаймы хочет просить?
Мисс Уилькс. Нет, гораздо важнее. Разве вы не заметили? Он в Любочку влюблен, сватается.
Рыдлова. Влюблен? Что вы, голубушка! Разве такие влюбленные бывают? Прокурор прокурором ходит.
Мисс Уилькс. Это очень корректная личность.
Рыдлова. Аккуратный, аккуратный. Ну, а Люба как?
Мисс Уилькс. Расположена.
Рыдлова. Что ж, он солидный человек… Впрочем, надо с Ларечкой посоветоваться. Он ведь глава дома-то, уж теперь и женатый. Да что ж это танцы-то остановились? Евгения Фоминична, душечка, приезжайте ко мне завтра утром, надо же обсудить. Я без вас как без рук, знаете небось…
Мисс Уилькс. Будьте покойны. Я вам отвечаю за счастье ваших детей.
Целуются.
(Проходя мимо Чечкова и Боженко.) Ах, азарт! Видеть не могу.
Уходят.
Остергаузен (по уходе их). Позвольте поставить три рубля.
Боженко. Ты! в баккара?
Остергаузен. Позвольте поставить три рубля. Мне нужно испытать сильные ощущения.
Боженко. Это он либо перед смертью, либо перед свадьбой.
Явление восьмое
Справа из маленькой двери входит Остужев, за ним Василий.
Остужев. Василий, отыщи Эмму Леопольдовну Боженко и передай ей карточку. Скажи, что я буду ее ждать здесь.
Василий. А барину прикажете доложить? Обрадуются.
Остужев. Я его обрадую неожиданно. Ты пока молчи.
Василий. Слушаю-с. (Уходит.)
Остужев (подходит к играющим). Здравствуйте, картежники.
Боженко, Чечков и несколько других игроков. А! Андрюша! Остужев! Когда? Откуда?
Остужев. Сейчас с вокзала. С корабля на бал. Вы тут пол-Москвы без меня перевенчали. Ну, играйте, я вам мешать не буду.
Входит Эмма Леопольдовна.
Остужев. Здравствуйте, Эмма Леопольдовна.
Явление девятое
Эмма Леопольдовна. Наконец хоть один интересный мужчина.
Остужев целует ее руки.
(Остергаузену.) Cousin, вы женитесь?
Остергаузен. Это тайна.
Эмма Леопольдовна. Ну, берегите ее. А ведь недаром я вас вытащила из вашей мызи. (Остужеву.) Пойдемте, волочитесь за мной. Я жена картежника.
Боженко. Сделай милость, Андрей, меня не стесняйся. (Играет.)
Остужев. Ну, вот еще! (Берет под руку Эмму Леопольдовну и ведет ее в беседку.) Обвенчали? Продали?
Эмма Леопольдовна. А вас это укусило? Скажите, из Парижа прискакал! Что-то новое.
Остужев. Когда я получил от вас, добрая душа, известие об этом счастливом браке, во мне поднялся целый хаос. Я почувствовал, что если бы я мог прилететь сюда вовремя, женился бы я, а не он.
Эмма Леопольдовна (изумленная и несколько злая). Даже?
Остужев. Представьте, даже. Я обрадовался этому призраку, что могу еще делать глупости и даже страдать. Ей-богу, я страдал и страдаю сейчас, несмотря на то, что болтаю вздор. Хороша она? Расскажите мне все: как стояла под венцом, как улыбалась, как сияла брильянтами. О нем не распространяйтесь.
Эмма Леопольдовна. Ах, милый, если вы рассчитываете услышать историю об овечке под ножом — вы ошибетесь. Я думаю, это брак по любви.
Остужев. По любви?
Эмма Леопольдовна. Да, да… Она влюблена в дом своего мужа, в его миллионы, во все, что ему принадлежит, только не в него самого. Но это пустяки. Что бы ни любить, лишь бы любить сильно и искренне. А у нее, кажется, это так. Ну-с, как же теперь?
Остужев. Что теперь?
Эмма Леопольдовна. Как — что? Вы недаром же скакали сюда четыре дня? Зачем вас принесло?
Остужев. На это одним словом трудно ответить. До Кельна я думал поспеть раньше свадьбы, взять за ворот маркиза и спустить его с лестницы, к ужасу и отчаянию тетушки Уилькс; от Кельна до Берлина я уже дошел до того, что решил, спустивши его, стать самому вместо него на розовый атлас с ней рядом; но к Варшаве эта картина стала меня несколько устрашать… Я невольно почувствовал желание…
Эмма Леопольдовна. Опоздать?
Остужев. Я даже ловил себя на том, что я упирался ногами в стенку, а спиной в спинку купе, — ей-богу, инстинктивно, думая позадержать поезд… А теперь…
Эмма Леопольдовна. Теперь опять кельнское настроение.
Остужев. Я то, что называется — нервная каналья. Спросите у меня, чего я хочу, и я вам отвечу: ничего изо всего того, что у меня есть; много из того, чего никогда не будет и даже не может быть. Но сейчас я с ума схожу, думать ни о чем не могу, она меня захватила всего. Посмотри, мои руки — лед, я болтаю вздор, а чувствую, что, войди она сюда, у меня забьется сердце, захватит дыхание, как в восемнадцать лет.
Эмма Леопольдовна (зло и колко). Вы могли бы быть деликатнее, мой друг, и избрать в свои поверенные кого-нибудь другого, только не меня.
Остужев (пожимая плечами). А вы могли бы быть добрее, могли известить меня ранее об этой мерзкой продаже. Или вам угодно было отомстить мне? Так за что? Мы в течение целых двух лет нашей любви постепенно убеждались, что мы оба слишком ясно на все глядим, слишком мало в нас этой неуловимой дымки, без которой любовь теряет всю свою прелесть. Вы очень красивы, значит, наш разрыв не мог задеть вашего самолюбия.
Эмма Леопольдовна. Нет, мое самолюбие выше этого. А дымка… может быть, она была важна для вас, а для меня любовь…
Остужев. Верю. Что же, любил я вас долго…
Эмма Леопольдовна. Ну, не особенно, и скорее… из вежливости и от нечего делать.
Остужев (целуя ее руку). Обожаю умных женщин.
Эмма Леопольдовна (отдергивая руку). Ну, без нежностей. Теперь можете целовать ручки Кэтт, а у меня в руках вещь для вас довольно опасная.
Остужев. Какая? Месть? Станьте выше ее, не мстите, а радуйтесь, что меня посетило глубокое чувство. Случись это с вами, я первый поздравил бы вас.
Эмма Леопольдовна (заливается хохотом). Ха-ха-ха… Я говорила, что вы интересны… Сильное чувство… Ха-ха-ха… Вы струсили, когда увидели, что вместо легкого флирта девушка могла вас полюбить, и удрали за границу. И теперь, неужели вы думаете — я верю вашим страданиям? Настоящим? В вашей натуре хватать все, комкать, выжать все соки для своего удовольствия и бросить под тысячью самых тонких психологических предлогов. Вся ваша жизнь — жизнь паразита. Вы всегда жили чужими чувствами, чужими радостями, чужой тоской, мучениями, словом, чужими соками. Месть — это слишком высоко сказано. Мне хотелось насолить вам за вашу бесцеремонную смену страстей и привязанностей. Не все вам философствовать и разбирать с литературной точки зрения, анализировать, что ли — как вы там говорите? — чужие чувства. Помучайтесь-ка сами. За два года ее верности мужу самый отъявленный скептик прозакладывает голову, и эти два года вам нелегко достанутся. Вы, мой друг, наказаны. Вы, друг мой, опасно влюблены.
Остужев. Правда. Отвратительнее всего, что вы говорите правду… (Молча ходит, потом останавливается.) Так два года? Это невозможно.
Эмма Леопольдовна (играя веером). Что такое Кэтт? Я ею очень интересовалась, когда еще ревновала вас, и узнала ее хорошо. В ней много натуры. Она горяча сердцем, холодна по воспитанию, горда и самолюбива. Пока ее сердце молчит. Она готова была полюбить вас, но… Тут много «но».
Остужев. Хоть одно.
Эмма Леопольдовна. Извольте. Первое — вы трус в любви.
Остужев (пожимая плечами). Вам лучше знать.
Эмма Леопольдовна. Второе — вы метафизик. Вы строите все очень тонко, сложно, когда надо просто взять и поцеловать. Вот вам за это и нос, длинный нос. Я этому очень рада.
Остужев. Ну хорошо, я оправдываться не стану. Но это золотое бревно…
Эмма Леопольдовна. Люди часто сильны своею глупостью. И, кроме того, миллионы тупы, грубы, но — величественны.
Остужев. Еще бы! Особенно для женщины. И еще для ростовщика.
Эмма Леопольдовна. Вы взбешены до дерзости. Никогда вы не доставляли мне такого удовольствия. Впрочем, Кэтт вы напрасно обижаете. Разбирали ли вы, тонкий психолог, жизнь и душу девушки до того, как ее выдадут замуж? Не станем говорить вообще, возьмем Кэтт. Она попала чуть не с пеленок в мир вашей золотой Москвы. Любочка Рыдлова с ней растет, играет, учится, потом с ней выезжает, танцует, они inseparables, они окружены десятком-другим таких же золотых девочек. Над ними золотые папаши, мамаши, бабушки, дедушки. Золотом измеряется право на шалости и на прихоти, за золото покупаются или красивые, или знатные, или тоже золотые мужья. Золото воздвигает средневековые замки на Таганке, я говорю рифмами… Чем больше золота, тем больше внимания, чем меньше его, тем больше незаметных капелек того неуловимого оскорбительного предпочтения, которое дают другим… Прибавьте к этому мисс тетушку, послушайте разговоры, нарисуйте себе беднягу отца в сапогах в четыре рубля и в черной паре в тридцать восемь рублей. Этого отца знакомые ее круга не узнают на улице, и… кто знает, может быть, она сама когда-нибудь не посмела узнать. А первый друг, Любочка, или второй друг, Эммочка, — это я — показывают свои приданые брильянты или своих отборных мужей… А тут знаменитый литератор бежит от брака в ответ на начинающуюся любовь… А тут пикники, балы, выезды, театры, весь вихрь богатого безделья, и везде для нее этот ужасный, оскорбительный «второй» план при всей ее красоте, уме и гордости… И вдруг оказывается, что она может получить все за безделицу. Стоит только сделать то, что делают все, — выйти замуж, стать на золотую груду. Надо быть героиней, чтобы ждать при этом беглого литератора и не воспользоваться таким прекрасным случаем отомстить ему за его… обидную нерешительность.
Остужев. Значит, по-вашему, она теперь сияет радостью удовлетворенной гордости, сбывшихся мечтаний, пожалуй, — удачной мести мне?
Эмма Леопольдовна. И будет сиять долго, дорогой друг, и пока не перестанет — много воды утечет. Я рада, я ужасно рада. Это и моя единственная месть.
Входят Люба с Сакарди, за ними несколько молодых людей и барышень и Лебедынцев. Они не видят Эммы Леопольдовны и Остужева.
Явление десятое
Люба. Une toute petite ariette, cher monsieur, mais je vous prie.
Сакарди (показывая на горло рукой, с сильным итальянским акцентом). Je suis enroue, mademoiselle… Ни один нот…
Люба. Ха-ха-ха… По-русски… encore quelques mots.
Сакарди. Я лублу Москва, хорошенкия дама и барышниа.
Голоса. Ravissant! monsieur Sacardi! Vous etes si aimable. Chantez donc, un peu… Pour moi votre fotographie. Ах, божественный!..
Рыдлов (Лебедынцеву). Егор Егорович, пусть он поет. Чего ломается. Получит отдельно, хочет деньгами, хочет кубок ему в бенефис поднесу.
Лебедынцев (ворчит). Уж и то эту прорву по горло засыпали. Illustrissime, signore, uno momento. (Уходит за Сакарди.)
Остергаузен (подойдя к Любе). Любовь Денисовна!
Люба. Что, граф?
Остергаузен (значительно). До свиданья. (Уходит.)
Рыдлов. Где же Кэтт? Люба, ты ее не видала?
Люба. Ах, милый, сам теперь за ней смотри.
Барышни хохочут. Входит Кэтт в белом роскошном платье.
Явление одиннадцатое
Кэтт. Я уговорила Sacardi. Он сейчас будет петь. Ах, какой смешной…
Рыдлов (млея). Кто же устоит?..
Кэтт (протягивая ему руку для поцелуя, но не глядя на него). Не успела я выйти замуж, уж за мною ухаживают. У Сакарди совсем особенные глаза сегодня, совсем не такие… Ужасно смешно. Я убежала от тетиных нотаций… Увидела меня с ним, нахмурила брови и величественно поплыла ко мне.
Рыдлов. Теперь уж не тетенька, а я ваш судья.
Кэтт. И ничего не страшно.
Чечков (подходя). А как сказано: «Жена да убоится…»
Кэтт. И убоюсь, когда будет страшно, а теперь мне пока весело. Какая досада, что теперь не справляют девичников, правда, mesdames?
Барышни (восторженно подвизгивая). Ах, правда, правда!
Люба. Я перед своей свадьбой справлю.
Рыдлов. Какой свадьбой?
Люба. Я, Плюшка, делаю партию получше, чем бедненькая Кэтт. У меня на карете будет коронка с девятью зубчиками, и с вами, почетными гражданами, еще неизвестно, буду ли я кланяться.
Кэтт. Люба! Это что за новости? Решено?
Люба. Чуть руки мне сейчас не оторвал, так и думаю — решено. Пальцы хрустнули. Завтра будет просить моей руки у маменьки. Сегодня, говорит, поздно. Это делается, говорит, по утрам. Правила, душка!
Кэтт. Видите, Ларя…
Из беседки выходит Остужев.
(Вздрогнув, но сейчас же овладев собой, слегка вскрикивает.) А!
Остужев. Не ждали?
Кэтт. Откуда вы? С неба свалились!
Рыдлов (с воплем восторга кидаясь к нему). Друг! Вот, действительно, дорогой подарок! Какое счастье…
Остужев. Ну, поздравляю, маркиз. Вас, Екатерина Вадимовна, тоже прикажете поздравить?
Кэтт. Освобождаю от этой церемонии.
Рыдлов. Друг, а сколько у меня накопилось литературного материала!
Остужев. Вот теперь твой литературный материал. Постарайся в нем разобраться. А теперь вели честь честью шампанского.
Рыдлов. Эй! шампанского!
За сценой пение «La donna е mobile». Люба и барышни кидаются туда.
Эмма Леопольдовна. Вокруг вас, Ларион Денисович, теперь любовь и дружба. Вы счастливы как рыба в воде.
Рыдлов. Именно! Эй, шампанского!
Остужев (Кэтт). La donna е mobile… Правда?
Кэтт (пожав плечами). А хоть бы и правда?
Подают шампанское.
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Маленькая гостиная-будуар у Рыдловых. Три двери. Вся сцена заставлена изящной мебелью последней моды. Прошло полгода с первого действия.
Явление первое
На сцене Кэтт и графиня Люба.
Кэтт (ходит по комнате). И тебе не скучно?
Люба. Пока нет. Меня муж очень интересует: совсем правильный, как часы. Лег — значит спать, улыбнется — значит сейчас меня целовать. Но умен, ужасно умен. Книгу написал, да не то что твой Ларька: выпустил свою «Бездну» и продает по шести гривен. При своем-то богатстве! Мой граф напечатал всего 120 экземпляров, бумага как мрамор и книга называется: «Утренние размышления графа Остергаузена». Только очень важным лицам роздал, всего три экземпляра. Они у него по номерам. Теперь надеется место получить по благотворительной части. Вот хлопот мне будет да церемоний всяких. Прямо съест, ведь он требовательный.
Кэтт. Ого! уже требовательный.
Люба. Да ведь он как-то молча. Огорчится и молчит. Я к нему и так и этак. Молчит и вздыхает. Разве уж на третий день скажет: «Знаешь, я очень страдал!» — Что, милый, чем? — «Я был очень огорчен». И отчитает. Ты как думаешь провести лето?
Кэтт (пожав плечами). Как Ларион Денисович решит.
Люба. Послушай, Кэтт, зачем ты зовешь мужа Ларион Денисович?
Кэтт. А как прикажешь? Ларя? Illarion?
Люба. Нет, ты придумай как-нибудь сама. Ведь это совсем не нужно, чтобы было похоже. Я мужа зову Риц. Правда красиво?
Кэтт (с гримасой). На чей вкус. Но Риц похоже на Фриц, Фриц — Фридрих. А как же мне окрестить мужа?
Люба. Я его звала Плюшка. Он толстый был такой мальчиком, и когда садился, всегда как-то грузно — плюх! Ну вот и Плюшка!
Кэтт. Хорошо. Я ему предложу.
Люба. Нет, ведь для тебя это не годится. Ах, Риц!
Входит граф Остергаузен.
Явление второе
Остергаузен. Здравствуйте, Екатерина Вадимовна. Bonjour, komtesse.
Люба. Bonjour, comte. Как ваше настроение?
Остергаузен. Восхитительно. Я получил приятное известие. Меня представили. (Улыбается.)
Люба, подмигнув Кэтт, поднимает голову.
Люба. Что ж ты? Улыбнулся, а не целуешь?
Остергаузен (внезапно омрачился). Графиня, пора ехать.
Люба. Что с тобой?
Остергаузен (Любе, указывая на Кэтт). Графиня, я надеюсь, вы были у всех, кого я пометил в вашем carnet?
Люба. Кажется.
Остергаузен (еще более унывая). А вы не проверили этого «кажется» по записной книжке? (Кэтт.) Может быть, графиня, по свойственной ей рассеянности пропустила кого-нибудь из ваших соседей. — Дайте мне, дорогой друг, ваш carnet.
Люба. Я его… забыла дома.
Остергаузен, окончательно расстроенный, молча целует руку Кэтт, берет Любу под руку и уходит. Из дверей слева входит Рыдлов.
Явление третье
Рыдлов (берет жену за подбородок и звонко целует в губы). Здравствуй, mon ange. Два часа катался на велосипеде для убавления чемодана. И какая бодрость духа и жажда деятельности от физических упражнений! Прилив новых сил! Кто был у тебя?
Кэтт. Люба с мужем.
Рыдлов. Вот еще сокровище! Чисто свой собственный надгробный монумент. Я Любку знаю, — она на него поглядит-поглядит, да и заведет себе любителя.
Кэтт. Кого?
Рыдлов. Любителя. Ха-ха! Сам словечко пустил: верно и деликатно. И поделом будет графчику! (Подсаживаясь к Кэтт.) Кэтт! ведь правда, в муже должен быть прежде всего огонь, игра характера? По-моему, человек должен быть отзывчив ко всему.
Кэтт. Пожалуй.
Рыдлов. Я в обществе джентльмен, а дома я могу быть натуральным. N'est ce pas?
Кэтт. Да.
Рыдлов. Конечно, все зависит от настроения. Я, например, совершенно иначе смотрю на вещи. Если у меня желудок работает неправильно, я тогда более склонен к сдержанности… Но когда я в цвете сил, я оживлен. А он всегда одинаковый, черт его… Виноват, сорвалось… (Позируя.) В наш нервный век потребности духовной жизни чрезвычайно разнообразны… Кэтт, отчего ты так рассеяна? Ты не разделяешь моих взглядов?
Кэтт (усмехнувшись). Жена должна все разделять с мужем.
Рыдлов. Я тебе вечером прочту начало моей новой повести на эту тему. Я желаю написать серию очерков в смысле анализа современного общества. Ведь от нас, третьего сословия, теперь вся Россия ждет спасения. Ну-ка, мол, вы, миллионщики, обнаружьте ваш духовный капитал. Прежде дворянство давало писателей, а теперь, уж извините, наша очередь. (Загибая пальцы.) Позвольте, во-первых, за нами свежесть натуры. Мы не выродились, как дворяне. Во-вторых, обеспеченность, это тоже важное условие: творить человек может только на свободе. А какая же это свобода, ежели у человека — pardon! — и подметки даже заложены? Наконец, я так свою книгу издам, что одной внешностью всякого ушибу. Вот и выходит, что сливки-то общества теперь мы. Дудки! нас уж не затрешь. Теперь вокруг капитала все скон-цен-три-ровано.
Кэтт. Пожалуй.
Рыдлов (азартно). Нет, не пожалуй, а, уж поверьте, так. Я чувствую в себе честолюбие и обширные планы. Я себя испробовал — и что же оказалось? Я могу быть, и критиком, и музыкантом, и художником, и актером, и журналистом. Почему? Потому что я русский самородок, но смягченный цивилизацией. У меня только в том и затруднение, что меня от одного на другое тянет, потому что я чувствую избыток сил. Котик, раздели со мной мою славу! Прогремим, будь покойна! (Обнимает и целует Кэтт.)
Кэтт. Ради бога, не так свирепо…
Рыдлов. Что это Вадим Петрович пропал? Вот человек, который может меня постигнуть. Послушай, Кэтт, у него, кажется, в кармане-то не густо? Так мы, пожалуйста, скажи ему, чтобы он не стеснялся. Я ему всегда с удовольствием помогу. Я даже, если хочешь, положу ему определенное…
Кэтт (побледнев). Ларион Денисович, кажется, вы очень распустили свой избыток сил.
Рыдлов. Будь покойна, Кэтт! Я это могу сделать чрезвычайно изящно.
Кэтт. Надеюсь, вы ему ничего подобного не скажете?
Рыдлов. Отбрось ложное самолюбие, Кэтт. Ты способна от природы, но жизни не знаешь. А я всю психологию человека прямо насквозь постигаю. Конечно, это уж такой дар от рождения. Этому не научиться. Я видал таких благородных, таких гордых, ну совершенно джентльменов, — а как до денег, так сейчас и кикс. Я тебя не обвиняю, но женщина историческим ходом событий задержана в своем интеллектуальном развитии. А ты, главное, следуй моему влиянию. Я расширю твой горизонт. Жизнь, знаешь, сложная штука. Где ж вам, женщинам, ее понимать — много надо и ума, и работы, и природного этого… Вот чего-то… Вот гения… Вот. Но ты не огорчайся, душка. Я завершу твое образование и подниму тебя до своего уровня, насколько это возможно. Начнем читать. Хоть мои вещи… Ты ведь до сих пор…
Входит лакей.
Лакей. Сергей Павлович Боженко и Егор Егорович Лебедынцев.
Рыдлов. Проси!
Кэтт. Я тебе очень благодарна, мой друг, за твои заботы о моем развитии, только, пожалуйста, исполни мой каприз и не заикайся отцу про деньги. А то, поверь, тебе же будет хуже.
Рыдлов (галантно). Извольте-с Да я ведь много и не собирался.
Входят Лебедынцев и Боженко. Все здороваются.
Явление четвертое
Лебедынцев (здороваясь с Кэтт). Ларион Денисович, попались, батюшка, попались? Читали?
Рыдлов. Что? Где?
Боженко. В двух газетах. Во-первых, в «Ведомостях московской полиции».
Лебедынцев. Приказ по полиции. Оштрафованы на сто рублей за быструю езду. Так прямо и сказано: «Потомственный почетный гражданин Ларион Денисович Рыдлов на сто рублей за быструю езду».
Боженко. А в «Московской почте» изругали. Это уже не за быструю езду, а за «Бездну». Да вот, не угодно ли? (Читает.) «Мы бы прошли молчанием новое произведение одного из литературных Недоносковых, если бы не были возмущены теми необычайными претензиями, с которыми автор не только печатает свои измышления, но еще рассылает их с письмами самого возмутительного содержания. В этом препроводительном — «в кавычках» — послании заявляет надежду, «что наша редакция отметит новую эпоху в истории русского натуралистического и психологического романа». Ну и отмечает!
Рыдлов (красный как рак, сконфуженно поглядывая на жену). Совершенно лишнее читать глупые выходки какого-нибудь репортера.
Лебедынцев. Надо возразить. Этого нельзя так оставлять. Помилуйте! Острить надо всем можно, но ведь должно же быть что-нибудь священное. И что это за критические приемы? (Берет и читает.) «Повесть именуется «Бездна». Заглавие, действительно, подходящее, только не полное. Надо было бы назвать «Бездна глупости», тогда читатель сразу имел бы понятие о новой эпохе «русского романа». Ведь этак ко всему можно придраться. Вот вам новое доказательство, что необходимо иметь собственный орган.
Рыдлов. Да ведь мне, в сущности, наплевать. Кто знает, что Рыдлов и маркиз Вольдир одно и то же.
Лебедынцев. Кто? Да вся Москва. Говорят, четыреста экземпляров затребовано в одни Верхние ряды.
Боженко. А враги — у всех ведь есть враги — так и зовут вас: Волдырь.
Рыдлов. Да ну?!
Лебедынцев. Ей-богу.
Рыдлов. Вот так фунт!
Лебедынцев. Сейчас завтракал в Славянском базаре. Только эту газету и читают. По дружбе я говорю: бросьте вашу нерешительность и приступим к изданию нашего органа.
Боженко. Положим, на приказ полиции не возразишь, но против других газет всегда можно будет отругаться.
Рыдлов (удрученный). Ведь бывают же такие несчастные дни! В двух разом!
Боженко. Не теряйте присутствия духа, друг мой. Екатерина Вадимовна, поддержите в нем присутствие духа.
Кэтт (сдерживая улыбку). Ларион Денисович, стоит ли обращать внимание!
Рыдлов. Разве я за себя грущу? Я знаю, что это зависть, и презираю. Но мне за идею больно. Я в эту идею вложил все силы ума и таланта… Ну, да ладно, покажу я им кузькину…
Лебедынцев и Боженко. Ох!
Рыдлов. Это я в порыве. Виноват.
Кэтт. Кто это такая?
Боженко. Русская Немезида, родственница всех жаждущих мести.
Лебедынцев. И стоят. Есть ли возможность человеку, отмеченному талантом, проявить теперь свои силы? Ну, техник, доктор, адвокат, архитектор — все специалисты, у них арена есть. Но если человек, так сказать, общеобразованный, широкого полета, но… не совсем… мм… готовый для узкой специальности.
Боженко. Верхогляд.
Лебедынцев (кинув сердитый взгляд на Боженко). Дилетант в лучшем смысле этого слова… Как ему обратить на себя внимание? Как ему удовлетворить своей законной жажде славы и общественного влияния? Единственно — путем прессы. Мало ли мы знаем людей, о которых никто и не думал. Так, был человек и порхал, как голубь, по московским стогнам. А теперь — сила! Редактор! Вы вслушайтесь в слово: редактор! Ведь почти так же звучит, как ди-рек-тор? Или рек-тор! Или… все равно! Представитель прессы. Ваш голос в общественном мнении уже будет иметь решающий вес!
Боженко. Вот это несколько грустно!
Лебедынцев (с яростью). Что тебе грустно, скажи, прошу тебя? Что грустно?
Боженко. Что всякий голубь воркует на всю Россию.
Лебедынцев. Так в данном случае это другое! Здесь во главе дела стоит человек, полный идеалов.
Рыдлов. Да что тут размазывать! Валяйте проект! Я теперь в таком настроении, что на все решусь.
Лебедынцев. И держитесь этого настроения! И держитесь!
Рыдлов. Как назвать?
Боженко. Что?
Лебедынцев. Газету. Ну, как ты не понимаешь.
Боженко. Волдырь.
Входит лакей.
Лакей. Василий Ефимович пожаловали. (Распахивает дверь.)
Входит Чечков.
Явление пятое
Чечков. А, милые, золотые мои! Какая чудесная компания! Здравствуй, красавица моя писаная, золото мое ненаглядное. (Целует руки.) Много ручек на своем веку перецеловал — не видал таких! Смерть от этих ручек — и то блаженство. Блаженство, блаженство! Берите сердце-то, берите, мните, ножками топчите. (Лариону Денисовичу.) Здравствуй, ученый, здравствуй, попочка! О чем речь? (Садится.)
Рыдлов. Так, козируем! Дяденька, посидите здесь с женой, у меня дело к Егору Егоровичу.
Чечков. Ах, какой он ловкий, Егор-то Егорович! Ох, какой ловкий! Как у меня сигарочку стянул!
Лебедынцев. За эту сигарочку я вам в карты две радужных заплатил.
Чечков. А как бы вы думали. С меня-то даром разве что получишь? Н-е-ет, шалишь! (Тыча пальцем в племянника.) И он такой же. Кровь одна, одна порода! Будет сколько хочешь говорить, а рубля у него не вытянешь. Знает, плутишка, что ему, по его натуре, выгоднее голову потерять, чем денежки. Потому попочка-то потуда и хорош, покуда в перышках, а так выщиплют, куда попочку девать? В помойку попочку. Кому интерес ощипанного попочку слушать. Всякий скажет: в помойку попочку-то, в помойку. И швырнут попочку.
Рыдлов. К чему эти метафоры, дяденька?
Боженко. Философ Василий Ефимович, просто философ!
Лебедынцев. Ну, извините, Василий Ефимофич, никакой я философии в ваших словах не вижу. Что это за лабазный взгляд на жизнь? Вы всех считаете вашими приказчиками, которые выручку у вас таскают.
Чечков. Милый вы мой, Егор вы мой Егорович! Да как же иначе-то? И приказчику деньги нужны, и мне нужны, и вам нужны. Добывает всякий! Закон судьбы!
Лебедынцев (волнуясь). Я не понимаю, про что вы говорите.
Чечков. Читаю я утром газеты, смотрю — Вольдир. Прочел наоборот — Рыдлов. Поставил еры — вышел Ларя. Приезжаю в амбар — соболезнуют. Я на пролеточку — к одному другу-приятелю, из литераторов. Кто, говорю, расписал племянничка? И что ж бы вы думали, Егор мой друг Егорович, на кого это мне литератор-то указал?
Егор Егорович в беспокойстве.
На вас — прямехонько.
Рыдлов. На кого?
Чечков. На Егора нашего Егоровича. Ведь этакая оказия?
Рыдлов. Егор Егорович! Вы?!
Боженко. Влетел, Егор Егорович!
Рыдлов. Егор Егорович, могу ли я поверить! Ведь вы же у меня еще три экземпляра взяли для вашего семейства!
Лебедынцев (озлобленный). Василий Ефимович, знаете, говорить все можно, но ведь надо доказать. Какая же цель могла быть у меня?
Чечков. Да вы не горячитесь, светик мой ясный! Разве я против вас слово скажу? Да упаси меня господи! Сегодня его, а завтра меня ушибить можете. Что я за неразумный ребенок, что против рожна полезу! Да я лучше от своих слов отступлюсь. Ну, поцелуйте меня, дорогой вы мой, поцелуйте меня, старика. Хотите сигарочку!
Рыдлов. Не верю, Егор Егорович, я не верю. Позвольте вашу руку. Вот! Как два джентльмена.
Лебедынцев (успокоившись, беря сигару, пожимая руку Рыдлову и обнимая Василия Ефимовича). Между нами не может быть недоразумений. И ехидный же вы человек, Василий Ефимович. Ну, ни слова! Ни одного слова больше об этом! Все забыто! Но объясните мне, прошу я вас, уважаемый Василий Ефимович, почему вы против издания газеты Ларионом Денисовичем?
Рыдлов (тихо Лебедынцеву). Егор Егорович, мы с вами о наших делах потолкуем вечером: при дяденьке хоть не говори. Темная личность. В восемь часов я вас жду.
Лебедынцев. Великолепно. До свиданья, значит. Вот, Василий Ефимович, ваш племянник не в вас! Он вдаль глядит. А вы так и погибнете в неизвестности, не сделав ничего на благо общее.
Чечков (внезапно бросив свой обычный тон). Болтай, да не забалтывайся, Егорыч. Я для Москвы сын почтительный и благодарный. В ней, моей матушке, много моих, Василия Ефимовича Чечкова, денег положено: и в церквах, и в больницах, и в школах, и в приютах. И рабочий люд меня знает по многой дельной помощи. Я знаю, чем мне бога за мое богатство благодарить, учить меня нечего. А в чем грешен — грешен: никогда карасем не был, и от меня щуке мудрено поживиться. А уж всякой мелкой рыбешке и подавно. (Возвращаясь к обычному тону.) Так-то, Егор мой Егорович, миленький дружочек. А впрочем, поцелуйте меня, головка моя лучезарная.
Входит Рыдлова.
Явление шестое
Рыдлова. Ну и погода: хоть бы Ницце впору, а всего-то март на исходе. А, братец, вот вы где. Что же сегодня рано из амбара тронулись?
Чечков. По семейным делам, любезнейшая моя сестрица.
Рыдлова. Котик, здравствуй, красотка моя. Уж мне про тебя вся Москва уши прожужжала. Да что вы, говорю, я во сто раз лучше ее была. Хоть ты что хочешь говори — не верят.
Кэтт. Maman, чаю не прикажете?
Рыдлова. Попрошу, ангел мой.
Кэтт звонит. Лакей появляется.
Господа, кому угодно чаю?
Боженко. Я прощусь. Мне уж в Английский обедать пора. (Прощается со всеми.)
Лебедынцев (тихо Рыдлову). Старичок-то наш расфуфырился. Ну да мы в новой газете разберем права этого старого поколения на уважение и благодарность.
Рыдлов. До вечера, друг. Разберем, разберем.
Лебедынцев (прощаясь со всеми). Василий Ефимович, напрасно изволили обидеться. Вот уже со всем моим уважением.
Чечков. А я-то? Батюшка мой, я-то? Да я, может быть, вас, дорогого моего, не то что уважаю, а просто, ну, к стопам вашим. Поцелуйте меня, красавец вы мой…
Целуются.
Лебедынцев (дамам). Честь имею кланяться. (Уходит с Боженко.)
Рыдлова. Слава богу, догадались. Я по делу, Ларя, к тебе. — Сидите, братец, и к вам тоже… И Катя и ты послушай. Вот что, мой голубчик, Ларя. Желаю я, милый ты мой, свои дела ликвидировать и послужить господу богу.
Рыдлов. То есть как именно?
Рыдлова. А вот как: мне скоро шестьдесят. Жизнь я свою прожила, дай бог всякому: и почету, и довольства, и веселости — всего навидалась. Покойнику Денису Ларионовичу была я и женой верной, и другом хорошим, да и — что греха таить — на шашни его смотрела сквозь пальцы. Это я и тебе, Котик, с твоим идолом советую.
Рыдлов (недовольный). Ах, maman, что это за идол? К чему такие сравнения? Что за язык таганский?
Рыдлова. Ну, обижайся еще! Так вот прожила я век и детей, как могла, на ноги поставила. Только я в этом мало понимала — за это уж Евгению Фоминичну буду ежечасно вспоминать в своих грешных молитвах. Такую она мне службу сослужила, ну, одним словом, облагодетельствовала.
Рыдлов. Maman, перейдем к делу. Это мы все знаем.
Чечков (нетерпеливо). Попочка, уйми фонтан. Дай умных людей послушать.
Рыдлова. Только все это было мое дело. Потому для женщины муж и дети все одно, что сама, да даже и больше. И компаньон мною доволен. А?
Чечков молча целует ей руку.
Рыдлова. Два раза за вас, братец, в Ташкент ездила. Потому, где же им, важным таким, по жаре таскаться, помилуйте. У них в клубе коли повар им сладкое мясо пережарит или форточку откроют, так и то на неделю расстроят. Так как же им, помилуйте, в пятьдесят градусов жары хлопок осматривать или сырым бараном питаться. Их и в Нижний-то уж теперь не заманишь, особливо как тут как-то арфисток прекратили.
Чечков (беззвучно смеясь). Ох, помилосердствуйте, сестрица.
Рыдлова. Ну, уж позвольте, не буду вас перед молоденькой дамой срамить. (Серьезно.) Никогда я не хвасталась и теперь не для хвастовства я все это говорю, а я все равно, что отчет даю по делам. Теперь же хочу я о душе помыслить и воздать благодарность создателю моему. А два дела — это уж я твердо знаю — мешать нельзя: либо бог, либо мамон.
Рыдлов. Вы, maman, в монастырь нацелились?
Кэтт. Да постой же, что это в самом деле!
Рыдлова. Ларька, дай поговорить. Ведь я ж тебя слушала, бывало, как ты придешь да по часам о своей «Бездне» мне рассказываешь? А уж видит бог, я в ней ничего не понимала.
Рыдлов. Я думаю, всякий имеет свое убеждение. Я религию признаю, но…
Чечков. Ах, ты, попка, попка!
Рыдлов (рассердясь). Дяденька, я прошу вас эти шутки прекратить! Говорите в таком тоне о ваших клубных друзьях, а мой духовный мир вас не может касаться.
Чечков. Виноват, маркиз.
Рыдлов. Ну, то-то.
Рыдлова. Братец, что же вы уж очень к нему строго. Ну, сядь, Ларечка, сядь. Успокойся. Нет, я не в монастырь хочу, у меня другие планы. Кровь-то во мне еще не вся остыла и скуфья меня не манит. А вот теперь общины много хорошего делают, и детей призревают, и бедным помогают, и учат, и лечат… И подумываю я: коли уж хватило у меня разуму после кончины мужа свои дела органи… органи…
Рыдлов. Организовать.
Рыдлова. Спасибо, Ларя. Так, может, господь пошлет мне просветление и силы и на это дело.
Чечков. Пошлет, сестрица.
Рыдлова (встав). Словом, господа компаньоны, я из дела выхожу, купите вы у меня мои паи. Ежели не обочтете вдовицу, у меня с моими наличными два миллиона собственных наберется. По триста тысяч подарю двум моим дочкам, Любочке и Катечке, чтобы они от мужей-аспидов были хоть немножечко свободны, а уж остальное — мое. Тебе, Ларя, ничего из своей худобы не оставлю. Тебе не надобно.
Рыдлов. Почему же, maman? Позвольте… Это какой же порядок!
Рыдлова. У тебя самого денег куры не клюют, да от дяденьки еще получишь. Не всё, конечно. У холостого-то семейство всегда больше, чем у женатого.
Чечков. Что это вы меня, сестрица, конфузите.
Рыдлова. Да уж ладно. Какая такая фабрика у тебя, греховодник, на Поварской? Лошадей всех туда загонял.
Рыдлов. Однако, maman, за что же вы меня наследства желаете лишить? Что мое, того уж я никому не отдам, но ведь и права наследства…
Рыдлова. Ну, полно. Не завтра же я помирать собираюсь.
Рыдлов. Избави господи, а все-таки предвидеть нельзя. Лучше бы при жизни отделить, я бы уж тогда прямо знал…
Рыдлова. Ну, не клянчи. Ну, выделю я тебя. А теперь вы, господа компаньоны, меня-то решите: как мои паи продавать — вам или на сторону.
Чечков. Сестрица, я все ваши паи беру — только не оставляйте руководительством. Кому ж вести? У Лариона Денисовича ум очень обширный, а нам бы попроще лучше.
Рыдлов. Почему ж вы мне, maman, не хотите продать. Я все же вам сын. Часть в зачет наследства, а остальное я выплачу и даже против дяденьки набавлю. Дело вековое, рыдловское, я его на новых началах поведу.
Чечков. Тогда уж и мои покупай, голубочек мой.
Рыдлов. Ежели уступите.
Чечков. Я бы не предлагал, да одна беда — много их у меня. Пожалуй, сбыть не успею: как пойдет по Москве говор, что Ольга Спиридоновна ушла — вот сейчас они тысячи на две упали, что ты дело повел — на пять, а как газета твоя появится — они и совсем на донышко.
Рыдлов (прищурясь). Чего-с? Ну, это дудки! Да моим паям в год двадцать процентов подъему. Я первым делом все ваши затеи отменю — чайные там, театры ваши, фонари, казармы. Каждый человек должен быть своей партии: либо капиталист, либо рабочий. Я себе на шею сесть не позволю. Французская нация чем сильна? Что она строго охраняет буржуазный режим! Я об этом собираюсь большую книгу написать. Да и директоров подтяну так, что они…
Рыдлова. Пойдемте, братец, сообразим вдвоем. Он ведь добрый, только уж очень начитался…
Рыдлов. Я эти идеи буду строго в своем органе проводить. Maman вот спасения души ищет, а я жизнью желаю себя увековечить.
Рыдлова. Ну, увековечивай, только не очень мудри да помни: я всю жизнь видела — чем ты лучше рабочего человека бережешь, тем тебе же выгоднее.
Рыдлов. Я рассмотрю этот взгляд на практике и в своем органе.
Чечков. Вот тебе мой последний сказ: орган ты свой заводи и играй ты на нем свои новые песенки. Только позволь ты уж мне под эти песенки не плясать: либо ты у меня паи возьми, либо я у тебя. А по миру, ангел ты мой, я с твоей шарманкой ходить не намерен. Да и у людей куска изо рта вырывать не желаю. Пойдем, сестрица, потолкуем вдвоем. Я вам свои планы подробнее изложу.
Уходят.
Рыдлов. Ах, какой мрак! Полнейшее незнакомство с основными законами политико- экономич… (Внезапно бледнеет.) А как бы он маменьку не облапошил. (Быстро уходит.)
По уходе мужа Кэтт подходит к своему письменному столу, смотрит на портрет мужа и молча, со вздохом поворачивает его лицом к стене. Входит Эмма Леопольдовна, очень изящно одета.
Явление седьмое
Эмма Леопольдовна. Милочка, я сейчас с concours hippique. Меня замучили вопросами о тебе: где ты? что ты? как ты? Кое-кто боится, что ты собираешься быть интересной.
Кэтт. Какие глупости!
Эмма Леопольдовна. Ну, глупости или нет, а все так глупят. Что ты в самом деле пропала? Хандрила?
Кэтт. А ты чему радуешься постоянно? Какое такое счастье тебя ждет каждое утро?
Эмма Леопольдовна. Мало ли какое? Я умею, хочу и счастлива.
Кэтт. Что ж, это твой муж тебе помогает?
Эмма Леопольдовна (гримасничая). Пст! Угадала!
Кэтт (очень волнуясь). Какие вы все лгуньи.
Эмма Леопольдовна. Кто все?
Кэтт. Замужние дамы.
Эмма Леопольдовна. И ты, значит?
Кэтт. Пока нет. Мне пока лгать не нужно, потому что я сама не понимаю, что мне надо скрывать, или кем мне надо притворяться. Я пока просто в недоумении: что со мною? Что я делаю? Что чувствую? С кем живу? Что впереди?
Эмма Леопольдовна. Уу! Какая… бездна. Кстати, как твоего мужа сегодня обласкали, читала?
Кэтт (не слушая ее). Конечно, лгуньи. Ну, разве девушкой я могла догадываться, что ты так гримасничаешь, когда заговорят с тобою о муже? Ведь ты всем показывала, что там, в вашем семейном уголке, есть какое-то свое счастье, интимность, интересы, которыми ты не хочешь делиться со всеми, но которые непременно есть, непременно… И даже твой шутливый тон с твоим мужем и его постоянные «Эмма любит», «Эмма сказала», «Эмма хочет» и твои «Сергей да Сергей»… А ведь ни Сергей, ни Эмма ничего не чувствуют вместе, кроме тоски, холода, недоверия… пожалуй, и отвращения.
Эмма Леопольдовна (насмешливо глядя на нее). Так, так…
Кэтт. И вот мы смотрим на вас и думаем: «Ведь не влюблены же они, а как им хорошо! Не роман же у толстого Сергея Павловича с его ненаглядной Эммой, да и ненаглядная Эмма не кинется под поезд, если ее Сергей умрет или изменит, а как они счастливы»… И идешь замуж, думаешь… Ничего не думаешь, а просто идешь, чтобы быть счастливой, как все. А тут-то и мышеловка.
Эмма Леопольдовна (посмеиваясь). Нет, не мышеловка. В Париже как-то вижу я на Champs Elyses балаган. Множество народу, входят с одной стороны, выходят с другой. На балаганчике вывеска: «Здесь показывается круглый дурак». Мне было интересно. Я вошла — и меня любезно подвели к зеркалу. Как ты полагаешь, когда я вышла, сказала я кому-нибудь: «Не входите»? Что с тобою?
Кэтт. Ну, а если бы тебя ввели в тюрьму и продержали там лучшие твои годы, ты сочла бы себя в праве также молчать?
Эмма Леопольдовна. О, голубка, тюрьма, лучшие годы… Was ist das? (Показывая вокруг.) Тюрьма с обстановкой от Шмидта и настоящими гобеленами, с рысаками по семи тысяч каждый, с этакими брильянтами, с возможностью иметь все, делать все, жить как хочешь…
Кэтт. Ах, какая прелесть! Так я живу, как я хочу, по-твоему?
Эмма Леопольдовна. А если нет, то прости меня, ты еще просто глупа.
Кэтт. Может быть. Жить как хочешь! Какая ложь! Человека до свадьбы я всегда видела на известном расстоянии и вдруг он становится моим воздухом, окружает меня со всех сторон, он в моей уборной, он со мной в коляске, везде, везде. Приходит, целует меня в губы, трогает меня, обнимает, спит при мне… В театре сидит за мною в ложе, дышит мне в шею и поднимает мне волосы своим дыханием…. Эта ужасная, возмутительная близость… И это называется жить как хочешь?! Ужасно! Глупо! Ну, так научи меня, ради бога, как мне поумнеть, потому что я не только не живу как хочу, но и перестала понимать, чего я хочу, на что мне сама жизнь.
Эмма Леопольдовна. Учить я не берусь, а кое-чем могу с тобою поделиться. (Закуривает тоненькую папироску.)
Кэтт к ней подсаживается.
Ты когда-нибудь вглядывалась в мои глаза? Я не требую комплиментов, душка. Посмотри хорошенько. Видишь, как они ясно на все смотрят, как они все понимают? Никаких иллюзий! Доведи и себя до этого, так гораздо лучше. Я уже не женщина, а молодой холостяк, достаточно поживший, но далеко еще не изживший всего. Меня волнует музыка, хорошая пьеса в театре, бальные банальности. Я люблю забавлять себя легким флиртом… без решительных шагов. Я люблю в хороший осенний день покататься верхом в парке, назначить свидание красивому драгуну, но сначала всегда свести счеты по дому, заглянуть в детскую и заказать Сергею Павловичу обед по вкусу. Иногда je prends mon conge за границу, и всегда у меня бывает маленький роман, который для меня haute Comedie, а для моего партнера иногда драма, а раз даже и трагедия. Сергей Павлович — мой оброчный крепостной: когда он хорошо платит — и я с ним обращаюсь хорошо. Когда он получает ордена, чины и повышения, я принимаю их всецело за свой счет. Я люблю вас, богатых купчих, потому что у вас прекрасные дома, отличные обеды и ложи на все premier'ы. За границей мне гораздо дешевле ездить в вашей компании, потому что я катаюсь в ваших колясках, сижу в ваших ложах, играю в Монако в доле с вами и, на правах дамы, не плачу за пикники. Эти сбережения дают мне возможность одеваться с таким же вкусом, как одевают вас ваши Татьяны Степановны, но дешевле, так как моя Марья Игнатьевна ездит со мной за dame de compagnie и раньше вас выглядит, какие баллоны на рукавах предстоят к сезону. Я беру каждый день холодные ванны и хожу, по немецкой натуре, по два часа пешком. У меня хорошие лошади, муж директор и прекрасная квартира… Чего же мне еще? Любви? Я могу исхудать от ее восторгов. Меня могут бросить. Я могу плакать. Сергею Павловичу может быть неприятно. Дети могут потом узнать и осудить. К чему все это? Год провести приятно гораздо лучше, чем провести один месяц в счастье и одиннадцать в тоске по счастью. Кроме того, у меня есть красивый, верный, скромный молодой человек. Если он будет вести себя хорошо, я ему, может быть, позволю проводить меня за границу.
Кэтт вскакивает с дивана.
Чего ты испугалась? Должна же я себя вознаградить за правильную жизнь.
Кэтт (ходит в волнении). В самом деле, как просто! А я-то, дура, все думаю, все рвусь к чему-то… Чего лучше!
Эмма Леопольдовна (потянувшись). Ничего лучше быть не может. Поверь моей опытности и
(Встает.)
прощай! Всякие тонкости и порывы, глубокие блаженства и дорогие страдания гораздо приятнее читать у Бурже, чем переживать самой. Где твой муж?
Кэтт. У себя в кабинете с maman и с Василием Ефимовичем.
Эмма Леопольдовна. Ах, с Василием Ефимовичем. Он у вас обедает?
Кэтт. У нас.
Эмма Леопольдовна. Пригласи меня.
Кэтт. Приглашаю.
Эмма Леопольдовна. Merci. (Выходит.)
Кэтт задумчиво идет к письменному столу и достает оттуда письмо. Эмма Леопольдовна в богатой шубке выглядывает из дверей.
Кэтт!
Кэтт сильно вздрагивает и инстинктивно прячет письмо.
Остужев приехал из-за границы. Осунулся и поседел, говорит, от любви к какой-то португалке. Я отвечаю ему: «Ваши португалки все жидовки». Уверяет, что настоящая лиссабонка, страшно добродетельная и что глаза у нее радужные. Привести и его обедать?
Кэтт (резко). Нет.
Эмма Леопольдовна. Просится.
Кэтт. К нам? Кто ж ему мешает? Зачем тебе-то его привозить, скажи пожалуйста? Он большой друг Лари. Может и сам… (Все время очень смущенно.) Ларя будет очень рад.
Эмма Леопольдовна (напевая). Ларя будет очень рад, Ларя рад… Попробуй десять раз подряд сказать: Ларя рад, Раля лад, Papa рат… Фу, как глупо. Прощай! (Уходит.)
Кэтт (оглянувшись, читает письмо). «Зачем я пишу вам? Полгода назад передо мною явился призрак в подвенечном наряде. Он унес мою жизнь. Это были вы, этот призрак смерти. И все-таки я люблю вас, простираю к вам руки, в смертельной тоске и слезах зову вас в мои ужасные бессонные ночи. Люблю вас, люблю вас одну в целом мире и ничего и никого кроме вас не люблю». (Долго молчит.) «Я далеко бежал от вас. Грохот поезда, на который я кинулся прямо с вашего свадебного пира, точно твердил мне: умри, умри, умри… По какому праву, по какому закону совершилась эта продажа? Не говорите мне, что вы шли за него свободно. Это было замаскированное, но гнусное насилие. Его подготовляли с ваших детских лет, отравляли ваше сознание, искажали ваши вкусы, закрыли от вас все небо жизни, оставили только его подвалы, толкали вас в круг внешнего довольства, блеска, покоя, ничтожества, приличий, предрассудков, пошлых торгашеских соображений, опутали вас и — продали. Ищите опоры в вашем долге, в вашей чести, в вашей гордости, но всем этим вы не убьете самого святого права женщины — дарить, а не продавать свою любовь». (Ходит.) «Зачем, зачем я пишу вам? Кругом рай, ночной ветерок с океана веет ароматными волнами в мое окно, луна рассыпала свою серебристую пыль и все кругом дрожит и сверкает вечным счастьем и блеском, и жизнью… а меня тянет за тысячи верст, в грязную, серую, холодную Москву. Там мое солнце. Всякое страдание притупляется временем, кроме этой невыносимой физической боли сердца, этой безумной тоски над оскверненной…»
Рыдлов быстро входит.
Рыдлов. Ура! Андрей вернулся! Вот кстати, так кстати. Именно его мне и не хватало для газеты. Теперь у нас пойдет. Покажу я дяденьке, каков я попочка! — Ты что читаешь? Эге-ге! Послание! Любовное!
Кэтт, оправясь от внезапности его появления, идет к столу и хочет запереть письмо.
Это что? Тайны от супруга? (Берет ее за руку.) Пожалуйте к допросу с вещественными доказательствами.
Кэтт (сверкнув глазами, выпрямляясь). К допросу?
Рыдлов (опешив, оставил руку). А что ж такое? У меня все права, полагаю. Покажи письмо.
Кэтт. Читайте.
Рыдлов (величественно). Жена Цезаря должна быть выше подозрений. Без веры не может быть истинной любви. Тайна частной переписки для джентльмена священная вещь. Сохраните вашу тайну.
Кэтт. Я тайн никаких не хочу. Читайте.
Рыдлов. Ну уж дудки! Дурака я ломать не согласен. Кабы от любителя, небось не показала бы.
Кэтт запирает письмо.
Знаю я вашего брата. (Хочет ее обнять.) Ах, как я дяденьку ловко скатил!
Кэтт (увертываясь от объятий). Скажите, Ларион Денисович, вы во мне очень уверены?
Рыдлов. Нет-с, в себе я уверен. (Красуясь перед зеркалом.) Меня променять еще подумаешь да подумаешь. Я себе цену знаю. Толкуют про породу, а скажите, чем это не порода? Черты лица тонкие. Глаза интеллигентные. Манеры и костюм изящные. И приветливость, и сознание своего достоинства. Где вы найдете в наше время мужчину, чтобы была и чуткость нерва, и психическая тонкость, и красота, и изящество? Один был, и того ты подцепила. (Ложится на кушетку.) Кэтт, поди сюда… поцелуй меня. Отдадимся наслаждениям, как древние римляне, Эвника и Петроний.
Кэтт. Не расположена.
Рыдлов (очень обиделся). Ах, извините! Как вам угодно. Я заискивать не намерен. Не я ищу, меня ищут. (Молчание.) Скажите пожалуйста… (Опять молчание.) От кого письмо?
Кэтт. Я вам предлагала прочесть.
Рыдлов. А я хочу теперь.
Кэтт. Мне лень вставать. Взломайте и прочтите.
Рыдлов. Я не громила. Вот и семейные радости! Я прихожу к своему очагу, расстроенный, усталый, ищу отклика… нежной женской ласки… (Все тише и тише, засыпая.) И вместо всего этого… Фр… фр… Скажите пожалуйста… Очень нужно… (Засыпает.)
Кэтт (встает, подходит и молча глядит на него в упор). Мой муж, мой воздух… Муж, мой муж.
Рыдлов слегка всхрапывает.
Ой!
Лакей (в дверях громогласно). Кушать подано.
Рыдлов (вскочив как очумленный). Что? Кто? Куда?
Лакей (нежно). Кушать готово-с. Эмма Леопольдовна приехали.
Рыдлов. Болван. Приказано тебе во всю глотку докладывать. (Зевает.) Пойдем, Кэтт! (Уходит под руку с женой.)
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Роскошно убранная комната в городском доме Рыдловых с большим пролетом на террасу, от которой ее отделяет венецианская дверь с расписными стеклами. Дверь распахнута на все створы. Виден старый густой сад, освещенный заходящим солнцем. Причудливая разнообразная мебель, разбросанная на сцене так, как указано в плане. Справа и слева двери. По бокам пролета в сад две мраморные статуи. Стены в больших картинах. Бархатный ковер. Люстры и бра. Стоячие электрические лампы под цветными абажурами.
Явление первое
При открытии занавеса на сцене сидят: Гореев, Остужев, Кэтт, Эмма Леопольдовна, Чечков, Лебедынцев, Рыдлов, Остергаузен, Боженко, мисс Уилькс, Сакарди, Люба Остергаузен.(Размещение в конце пьесы.) На мраморном столике кофе и ликеры. Мисс Уилькс работает. Эмма Леопольдовна протянула ноги на маленькую скамеечку и пьет ликер глотками. Чечков один из всех курит сигару. Остужев почти глаз не сводит с побледневшей и похудевшей Кэтт. Люба и Сакарди весело болтают. Боженко вытянулся в кресле и с полузакрытыми глазами потягивает кофе. Остергаузен с номером «Times» в руках. Рыдлов весь погружен в разговор с Лебедынцевым, который хлопает ликеры рюмку за рюмкой и все больше и больше разгорается. Лакеи бесшумно входят и выходят, убирая и подавая кофе, конфеты, фрукты, ликеры.
Остергаузен. Важно — от кого телеграмма?
Рыдлов. Это секрет, но уж поверь мне, с пустяковыми людьми я связываться не стану.
Лебедынцев. Ну-ка, еще раз, что телеграфируют?
Рыдлов (читая). «Разрешение в принципе состоялось. Ожидают кое-каких дополнительных документов».
Остергаузен. Мне подозрительно выражение «в принципе».
Лебедынцев. Эх, граф, вы так всякий экстаз убьете, если будете цепляться за каждое слово. Установим факт — разрешение несомненно.
Рыдлов. Никакого сомнения.
Лебедынцев. Что же нам предстоит? Какая окраска должна быть у нашего «Эхо»?
Гореев. Устойчивая и неподкупная.
Остужев. Талантливая.
Эмма Леопольдовна. Интересная.
Чечков. Выгодная.
Мисс Уилькс. Нравственная.
Боженко. Но не чересчур.
Остергаузен. Серьезная.
Рыдлов. Однако забористая.
Лебедынцев. Вот всего этого вместе мы и должны достигнуть, чтобы иметь такой успех, о котором мечтаем. Но каким путем, господа? Ведь в сущности наша главная цель — завоевательного характера. Новое издание должно покорить всю Москву, заставить ее считаться только с нашим мнением.
Рыдлов. Верно.
Лебедынцев. Затем: кто не с нами, тот против нас. Валяй направо и налево, по другим газетам. Не бойся брани, но принимай на грудь и воздавай сторицею. Кто прав — пусть разбирают потомки.
Рыдлов. Правильно. Именно пусть-ка потомки разберут.
Лебедынцев. Далее: крупные люди угнетают. Значит, их и допускать не следует.
Рыдлов. Очень хорошо развенчать кого-нибудь, знаменитого писателя какого-нибудь. Лучше всего из мертвых. Это всегда производит сенсацию.
Лебедынцев. Ну, на первых порах это опасно. Лучше начать с живых: живой никогда не пользуется такой симпатией, как мертвый.
Рыдлов. С живых так с живых. Это еще больше оживит газету. Но иностранных можно и мертвых. Я до Шиллера давно добираюсь. Кстати, он и в Париже провалился, и Макс Нордау прямо-таки его изругал.
Лебедынцев. Ну, Шиллера можно.
Остужев. Он, пожалуй, сам за себя постоит.
Рыдлов. А ты не хочешь, Андрюша? Так можно другого кого-нибудь…
Боженко. Кстати, их много.
Лебедынцев. Ведь, в сущности, нам нужно только, чтобы нас боялись и знали, что мы спуску не дадим. А потом мы можем опять реабилитировать.
Чечков (достал сигару и подает ее Лебедынцеву). Ей-богу, сам курю только по воскресеньям. Жертвую от избытка чувств. Что твой Вильмессан. Да тут свой, домашний, сто очков вперед ему даст. Одно: не сократят ли в скорости?
Лебедынцев. Зачем же? Мы вглубь забираться не станем, а так, что представлено, то и обгрызем. Конечно, тон газеты будет остроумно-изящный. За это порукой (указывает на окружающих) все порядочные люди. Граф поведет первую страницу: политика и передовица.
Остергаузен. Три принципа лягут в основание моего отдела. Широкая благотворительность, но по участкам и приходам — раз. Исключительно гимнастическое развитие детей до десятилетнего возраста — два. Оздоровление городов путем обязательного разведения скверов и всеобщей канализации — три. В иностранном отделе я предполагаю решить восточный вопрос.
Боженко. Весь?
Остергаузен. Весь. Но в теории. Остального вначале я не буду касаться.
Боженко. Что ж, на первый раз и этого довольно.
Мисс Уилькс. Ах, пора, давно пора. Англии это так надоело, эти затяжки… Мне пишут из Лондона.
Лебедынцев. Кстати, иностранные корреспонденции обо всем. Общий тон должен быть таков: там апельсины зреют, у нас же произрастает одна клюква.
Рыдлов. Стойте, Егор Егорович: мы будем семиты или антисемиты?
Лебедынцев. Мм… Лучше антисемиты. Хлестче.
Чечков. Вот купцов-то пожалейте… не очень…
Лебедынцев. Будем посмотреть! (Затягиваясь сигарой.) На этой же странице будет отдел психологических этюдов легкого жанра. Темы: женщина и мужчина, разные роды любви, анализ тончайших ощущений.
Рыдлов. Это буду я?
Лебедынцев. Это будете вы.
Рыдлов. И уж будьте покойны. Ручаюсь за разнообразие. Любимый отдел будет. (Пьет ликер.)
Мисс Уилькс. Ларя! Надеюсь, не переступите границ.
Лебедынцев. Затем внутренние корреспонденции. Тут желчи, яду побольше. Сергей Павлович на это мастер. Сам был и земцем, и думцем, и сельским хозяином. Пусть только вспомнит окладные листы, элеваторы, грунтовые дороги, всякие собрания, заседания, комиссии, съезды — и вскипит. А если будет остывать, мы ему напомним Общество взаимного поземельного кредита и утраченные им Монрепо.
Боженко (махнув рукой). «Я помню все…» Подогревать не надо.
Остергаузен. Недурно будет сопоставить все это с прибалтийским благоустройством, отдавая последнему преимущество.
Боженко. Ну, уж это, брат, дудки! У вас же хорошо, да вас же еще и хвали!
Лебедынцев. Отдел общественных вопросов. Высокоуважаемый Вадим Петрович придаст ему несколько элегическое настроение, и этим дополнит общую расцветку номера.
Боженко. Совсем радужная бумажка.
Гореев (дрожащим от негодования голосом). Прежде чем ответить вам, я бы желал дослушать этот план хищнического набега.
Мисс Уилькс (Остергаузену). Боже мой! Боже мой! И, кажется, совершенно трезвый. Shocking!
Боженко. Вы его с нами не смешивайте. Он, кроме воды, в рот ничего не берет.
Рыдлов (подходя к жене). Ваш отец не умеет себя держать как джентльмен.
Остужев (быстро Рыдлову). Во-первых, об этом не тебе судить.
Эмма Леопольдовна. Во-вторых, дамам замечаний не делают.
Чечков. Сядь, попочка, в колечко.
Рыдлов с досадой садится и выпивает ликеру.
Лебедынцев. Знаю наизусть все истрепанные возражения наших противников. Затем злобы дня, господа! Тут нужен особенный человек, такой, как я. Я не люблю драпироваться и объявляю свой девиз во всеуслышание: силен только тот, кто надо всем смеется. У нас в Москве зубоскальства больше огня боятся и любят, как душу. Нам некогда разбирать, кто подвернется под руку. Успех — вот и все.
Гореев. Ненадолго.
Мисс Уилькс. Ах, боже мой! Почему же, мой друг? Во всем цивилизованном мире так… Даже называют шестой великой державой.
Лебедынцев (вставая). Прибавьте к нашей программе романы Остужева в фельетонах и хлесткую театральную критику.
Рыдлов. Я и ее беру на себя…
Лебедынцев. И номера газеты покроют всю Москву от Таганки до Дорогомилова, от Замоскворечья до Сокольников. Отвага и смех — вот слова нашего знамени. Пью за него.
Остужев. И пьешь слишком много.
Лебедынцев. Но никогда не напиваюсь, Андрюша. Только голова становится все яснее и яснее.
Рыдлов. Урра!
Общий говор. Многие встают с места.
Гореев (встает взволнованный и бледный. Рукою нервно теребит какую-то безделушку на столе). То, что здесь происходит, есть поругание задач общественности и печати. Я сорок лет служу ей… Я в праве это сказать. Не прикасайтесь к ней… нечистыми руками. Все можно простить журналисту: увлечения, резкости, крайности, ошибки — все, лишь бы в нем была вера и убеждение. У вас нет ничего, кроме жажды успеха и власти…
Рыдлов. Возражайте, Егор Егорович.
Лебедынцев. Старые песни.
Гореев. Вечные песни. Собрались люди, играющие первенствующую роль в современном обществе. Прежде начинали с грошей — у вас для начала миллион. Прежде мы могли говорить с сотнями — вас читают уже сотни тысяч. И что же вы собираетесь говорить им? Во имя чего вы к ним обращаетесь? Во имя своего успеха? Позор! Самое слово «успех» — позор.
Рыдлов. Вот тебе на! Во что же вы после этого веруете, позвольте узнать?
Гореев. Льстить ходячим течениям и низменным инстинктам, потешаться надо всем, что повыше этого, и вот ваш «успех» в ваших руках. Общество запугано напором этих развязных Аттил, наводняющих мир треском и звоном, ругающих, ругающихся, вопиющих, суесловящих. Книга забыта, задавлена, ее некогда читать. Думать некогда и нельзя при этом гаме и свисте. И это общественное мнение? Его-то и нет. Оно-то и порабощено. Ему не оставлено ни одной щелки, в которой оно могло бы себя проявить. Разве этот успех не позор?
Лебедынцев. Это успех стихийной силы. Его болтовней не задержишь.
Гореев. Успех холеры, успех наводнения. Придет день, когда общество проклянет имена тех, кто из публичного слова делал оружие своего успеха и меч борца обращал в продажный клинок бандита.
Лебедынцев. Улита едет, когда еще будет.
Рыдлов. Значит, нам вы предоставляете одно проклятие? Нечего сказать, родственник.
Чечков. Благородно изволите говорить, Вадим Петрович, но не ко времени.
Остергаузен. И неопределенно. Я с трудом могу уловить руководящую нить.
Гореев. Впрочем, говорить, кажется, бесполезно.
Рыдлов. Совершенно верно. Нас не собьешь.
Гореев (опустив голову, съежившись, как бы сконфузившись своего порыва, ищет шляпу). Меня только в вашу компанию не зачисляйте, господа, я вам не гожусь. И напрасно вы меня позвали на этот совет. (Уходит.)
Кэтт (Остужеву). Мне сделалось страшно от этих разговоров. Отец прав: точно мы грабить кого-то собрались.
Рыдлов. Андрюша, ведь ты наш?
Остужев. Я свой, душка, свой собственный.
Евгения Фоминична (глубоко вздохнув). Ах, какой это ужасный характер. Знаете, он непримиримый. Он совсем не понимает, как надо жить.
Лебедынцев (Остужеву). Андрюша, и ты на меня? Почто?
Остужев (раздражительно). Видишь, голубчик мой, я люблю дикие выходки, только когда они хоть мало-мальски оригинальны по замыслу или по выполнению. А от того, когда человек распояшется и расстегнется, до оригинальности еще целая пропасть.
Лебедынцев. Эх вы, лицемеры! Все вы хотите того же, чего и я, только чтобы все это в перчаточках.
Рыдлов. Ведь мы это только в своем кругу говорим откровенно. Но у нас дело будет поставлено совершенно по-джентльменски. (Лебедынцеву.) Мы все, что Вадим Петрович говорил, напечатаем в первом же номере, а между тем далее поведем свою линию.
Эмма Леопольдовна (разражаясь хохотом). Ай да Ларион Денисович!
Кэтт встает и, повернувшись к мужу спиной, опирается на пианино. Остужев прямо против нее, не сводя с нее глаз, незаметно улыбается.
Да вас в министры, непременно в министры.
Чечков. Попочка, да ты это сам? Из своей головы?
Лебедынцев. Будет прок!
Рыдлов (гордясь произведенным впечатлением). Уж если я за что возьмусь, так, будьте покойны, в грязь лицом не ударю. (Косо поглядывает на Эмму Леопольдовну.)
Чечков (тихо Эмме Леопольдовне). Вы, золотая моя, ему, кажется, головку-то завертели. Он то и дело на вас петухом поглядывает да перышками пошевеливает.
Эмма Леопольдовна. А вас это тревожит?
Чечков. Года мои такие. Надо зорко глядеть.
Эмма Леопольдовна. Успокойтесь. Он не моего романа.
Чечков. Я ведь Отелло. Вы меня бойтесь.
Лебедынцев (говоривший с Рыдловым). Там пой-распевай, а у меня впереди светло. Сперва успех, а потом можно и физиономию усвоить. До свидания, друг. Хлопот теперь у меня много. Times is money, не правда ли, мисс Уилькс?
Мисс Уилькс. О yes.
Лебедынцев. И потому общий поклон, господа. (Рыдлову.) За деньгами заеду завтра утром. (Уходит.)
Рыдлов (подходя к Чечкову и Эмме Леопольдовне). О чем шепчетесь, Эмма Леопольдовна, с дяденькой?
Эмма Леопольдовна. О путешествии.
Чечков (тревожно). Охота разговаривать.
Рыдлов. Куда?
Эмма Леопольдовна. Странное и приятное совпадение: меня Сергей Павлович гонит на осень из Москвы — я здесь в октябре дурнею, а он человек со вкусом. Кроме того, у меня портится характер, и я его в это время ревную. Правда, Serge?
Боженко (говоря с Остергаузеном и не слушая, о чем идет речь). Правда, Эмма. (Остергаузен.) Так я говорю, что газета все-таки должна держать общество в ежовых рукавицах…
Эмма Леопольдовна. Я еду в Биарриц.
Рыдлов (вскрикнув). С дяденькой?
Чечков. Ох, попочка, как ты орешь! (Встает.)
Эмма Леопольдовна. Однако, где Любочка?
Остергаузен, внезапно встревоженный, начинает рассеянно слушать, поглядывая на балкон.
Она все сидела вот тут с синьором Сакарди, да и пропала… Вероятно, слушает где-нибудь в саду его чудные mezzo-voce.
Остергаузен внезапно решительно и быстро уходит в сад.
Рыдлов (хихикая). Забрало немца за сердце!
Эмма Леопольдовна. Сергей Павлович, ты в клуб?
Боженко. Нет, домой. Надо отчет просмотреть. (Берет шляпу и целует руку Кэтт.) До свиданья, Екатерина Вадимовна. (Пожимая руку Остужеву.) Хорошо ваш отец и думает и чувствует, только зачем нашим зверям апельсины? Бисер мечет… (Вздыхает.) И я когда-то верил, и я когда-то пылал полуночной лампадой. А к чему все это привело? Нет, с волками жить — по-волчьи выть… До свиданья. (Уходит.)
Чечков. Пройдемтесь по саду, Эмма Леопольдовна. Надо немного освежиться от литературных споров.
Рыдлов. Пройдемтесь.
Чечков (с неудовольствием). Кажется, я на тебя уж насмотрелся, голубчик мой.
Эмма Леопольдовна. Он о литературе говорить не будет, Василий Ефимович. Я ему запрещу.
Рыдлов. Пойдемте искать Любку с мужем и тенором. Хи! Забавная будет интермедия.
Чечков. Ах, попка, какой злорадный! Ах, какой…
Эмма Леопольдовна. Ничего, Василий Ефимович. Говорят, чему посмеешься, тому и послужишь.
Уходят в сад.
Явление второе
Мисс Уилькс, искоса поглядывая на оставшихся Кэтт и Остужева, продолжает работать. Весь разговор между ними вполголоса. Темнеет.
Остужев (продолжая разговор). Я жил во всех слоях общества, во всех городах Европы — везде одно, Екатерина Вадимовна. Люди скучны и гнусны до отвращения. Если б вы знали, каким детским порывом показалась мне вспышка вашего отца. Так ребенок бьет ручонкой угол дубового стола, о который ушибся. Дуб торчит себе острым углом, и смешон тот, кто по нем колотит.
Кэтт. Что же делать?
Остужев. Смеяться и наблюдать.
Кэтт. Хорошо смеяться тому, кто не прикован к этой дубовой жизни.
Остужев. Ах, вы полагаете, я не прикован? Крепче вашего, Екатерина Вадимовна. Я вам даже сознаюсь: оторви меня кто-нибудь от ваших Лебедынцевых, Остергаузенов, вашего мужа, ото всех этих людей, которые за последнее время вылезли вперед, шумят, пишут, представляют общество, и, хотя ничего не делают, зато судят и рядят обо всем, — и я заскучаю смертельно, отчаянно. Привычка многих лет. Но главное, вы с ними…
Кэтт (опустив голову). И вы, хотя скучаете, но все-таки меньше… чуточку?
Остужев (говорил сидя. Теперь встает и опирается с другой стороны пианино). Я вас люблю без памяти.
Кетт (отшатнувшись). Все то же?
Остужев. Все то же.
Кэтт. Я просила вас не говорить мне об этом. Если бы вы знали, как мне обидно, до слез обидно…
Остужев. Обидно?
Кэтт. Если бы это была правда, кто мешал вам сказать мне это раньше, чем я вышла за другого?
Остужев. А я мог это предвидеть?
Кэтт (в упор глядя на него). Знаете, Остужев, вы во мне ошибаетесь. У меня в характере застенчивость… и сдержанность… Их многие принимают за глупость. Кроме того, я горда. Я мало чему поверю из всего того, что вы мне хотите сказать.
Остужев. Ошибаетесь. Я ни в чем уверять вас не буду… я выдал вам себя с головой. Когда я уехал…
Кэтт (порывисто). Не надо! Ничего этого не надо. Никаких описаний, рассказов, никаких психологий, как говорит Эмма. Я знаю, что знаю…
Остужев. Сердитесь, ради бога, не прощайте меня, не слушайте моих оправданий… Сердитесь на меня… Да и какие тут оправдания? Если человек мог получить все, что есть в мире дорогого и прекрасного, и не сумел получить, — какие тут оправдания? Он казни стоит.
Кэтт (пожимая плечами). Как-то вы странно говорите…
Остужев (глухим шепотом, очень быстро). Ни того, что я говорю, ни как я говорю, я не знаю. Знаю одно: все слова, какие мне приходят на ум, бледны и жалки в сравнении с тем, что я чувствую. Не любите меня, если хотите, я не требую ничего… Мне бы только быть подле вас.
Кэтт (заслушалась, опустила голову на руки. Потом поднимает глаза на Остужева и долго глядит на него молча).
Мисс Уилькс кашляет и с шумом встает.
Кэтт. Слушайте, Остужев. (Голос ее прерывается. Она говорит быстро, уверенно, захлебываясь словами.) Я не умею обманывать и лгать. Это выше моих сил. Между нами ничего быть не может… никогда. Слышите, никогда! Я честная и буду честной. Останемся добрыми друзьями.
Мисс Уилькс (подходя к ним). О чем такой горячий разговор?
Остужев (раздражительно). О счастливых браках, многоуважаемая Евгения Фоминична, о тех браках, которые устраиваются попечительными родительницами с головокружительной быстротой американской костоломки.
Мисс Уилькс. Где же это?
Остужев. Главным образом в больших торговых центрах, в Лондоне и Москве преимущественно. Вообще всюду, где квакерская мораль и двойная бухгалтерия идут рука об руку. (Уходит в сад.)
Мисс Уилькс. Кэтт, он с ума сошел?
Кэтт. Вероятно, тетя. Все, кто хочет жить не по-вашему, должны отправляться в желтый дом.
Мисс Уилькс. Большей частью.
Кэтт (нервно ломая руки). Вы моя благодетельница, — я это от вас тысячу раз слышала. Вырастили, выкормили, воспитали, выдали замуж… Дайте мне расцеловать ваши руки. (В голосе слышна истерика.)
Мисс Уилькс (покойно). Целуй, мое дитя.
Кэтт (целуя руки). Благодарю, благодарю… Что мне еще сделать? Я не придумаю.
Мисс Уилькс. Успокоиться. У тебя в саду гости. Могут войти каждую минуту.
Кэтт. И выйдет скандал. Боже, как мы всего этого боимся! Можешь умирать, но втихомолку, чтоб ни крику, ни шуму. А если боишься с ума сойти ото всего, что вокруг меня и во мне самой? (С криком.) Как же вас благодарить за это, моя дорогая, моя любимая мать?
Мисс Уилькс (сурово). Отцовские черты! Недурно. Наследственные черты знаменитого русского барства, бестолку страстного, без выдержки, без принципов, с одними порывами. Очень мило видеть, когда это проявляется в молодой женщине. Это грациозно, это изящно!
Кэтт. Грация, изящество… Они всю мою жизнь изломали… Вы мне дали богатство, положение, все… Ну и довольно, ваша щедрость дошла до расточительности, оставьте мне хоть душу-то мою…
Мисс Уилькс. И ты ее отдашь господину Остужеву?
Кэтт. Кому захочу.
Мисс Уилькс. Кэтт!
Кэтт. Только не за деньги, а даром, вольно… Потому что не все можно продавать.
Мисс Уилькс. «Продавать»? Я тебя продала? Чем же я воспользовалась от этой продажи?
Кэтт. Ах, если б воспользовалась. Тогда это имело бы хоть какой-нибудь смысл. Нет, вы не продали меня, вы меня заставили продать себя.
Мисс Уилькс. Заставила?
Кэтт. Да, заставили. Не насильно, нет, вы для этого слишком умны. Но недаром у вас такая слава превосходной воспитательницы. Чего же превосходнее, помилуйте? Воспитать так, чтобы я ни думать не могла иначе, чем вы, ни чувствовать, ни поступать… Я должна видеть только то, что вы мне показывали, идти, куда вы вели, жить только тем, чем вы приказывали, искать своего счастья там, где вы его для меня придумали… И вот я нашла… счастье. Ха-ха-ха! Вот оно…
Мисс Уилькс. Ты капризная, взбалмошная женщина, и больше ничего. Чего ты еще ищешь? Ларя любит тебя без памяти, и он муж…
Кэтт. Идеальный. Только не для меня.
Мисс Уилькс. Ах, какой стыд, какой стыд!
Кэтт. Ужасный. Но что ж мне делать? Ну, maman, вы меня научили, как выйти замуж, научите, теперь, как мне жить, замужем! То есть жить честно! Или ваш долг исполнен — я обвенчана и остальное вас не касается?
Мисс Уилькс. Ты меня не послушаешься, а я бы тебя научила.
Кэтт. Послушаюсь… Только научите. Я на краю пропасти, я упаду, я упаду. Поддержите меня.
Мисс Уилькс. Перестань принимать Остужева.
Кэтт. Его принимает муж.
Мисс Уилькс. Уезжай с мужем, вели уехать Остужеву, сделай все, что можешь, но заглуши в себе преступное чувство. Никакое счастье не покроет позора. Про тебя и про него уже говорят. Береги себя.
Кэтт (с ужасом). Говорят?
Мисс Уилькс (обнимая ее). Мне было больно слышать твои упреки, дитя мое, но сейчас ты меня утешила… Утешила вот этим страхом перед тем, что говорят. Все сокровище женщины — ее доброе имя. Посмотри на меня: я никогда не любила ни одного мужчины. Я была очень красивая девушка, в меня влюблялись, но мне было все равно. Я хотела остаться независимой, чистой и самостоятельной. Если б мне представилась такая партия, как тебе, я бы вышла замуж и постаралась сделать из своего мужа крупное лицо. Но я не горюю и о том, что этого не случилось. Страсть, любовь, луна, роман — это глупо… это смешно… это даже унизительно. Предоставь это Любе с ее итальянцем.
Кэтт. Как?!..
Мисс Уилькс (кивнув головой). Так. Нравится тебе это? Стоит этот позор того счастья, которое тебе даст твой Остужев?
Кэтт (схватившись за голову). Я с ума сойду. Я не могу вам не верить… Но вы какая-то другая, чем я… У вас все так умно, так верно… А правды я в ваших словах не чувствую.
Мисс Уилькс (усмехаясь). Почувствуешь со временем, Кэтт.
Кэтт. И вот вы так прожили… И вам не жаль своей жизни?
Мисс Уилькс. Мне — жаль?.. Да я горжусь…
Кэтт (сжав голову руками, ходит из угла в угол). Позор, гордость… Все это сочинено, все это придумано, все эти слова только для того, чтобы мешать жить… жить…
Мисс Уилькс (всплеснув руками). Кэтт!
Кэтт. Любить, кого любишь, — позор, принадлежать тому, кто противен, — гордость… Правда — стыд, ложь — обязанность. А вся правда в том, что я продалась, и продалась на всю жизнь. И теперь одно из двух: или рассчитаться честно всей жизнью, всем счастьем, или обесчестить себя.
Мисс Уилькс (радостно). Да, да… Или обесчестить.
Кэтт (с нервным смехом). А если я выберу последнее?
Мисс Уилькс. Ты убьешь меня.
Кэтт (остановившись, сильно сжимает голову руками). Пусть же он бережет меня. Это он должен сделать.
Мисс Уилькс. Кто?
Кэтт. Мой муж. Вы мне все твердите: «он любит тебя», «он любит тебя»… Пусть же он любит. Я заставлю себя в нем видеть все, что он захочет: ум, красоту, душу, талант — все, только пусть он любит меня. (Идет.)
Мисс Уилькс. Кэтт, еще одно слово.
Кэтт (останавливается). Что?
Мисс Уилькс. Я всегда гордилась твоей ровностью, спокойствием, даже холодностью… Это был признак хорошего тона… А теперь ты даже молчишь как-то нервно.
Кэтт. Я не понимаю, к чему вы это говорите.
Мисс Уилькс. Если б я этого не замечала, я бы совершенно не обратила внимания на твое… на твой интерес этим господином. Это так естественно! У вас литературный дом — это очень изящно. Ничего нет странного, что писатель, довольно известный, увлечен… Ну и ты… Твое образование известно всем… Я допускаю даже легкий флирт… или там какие-нибудь неуловимые отношения… ну и прекрасно, только зачем все так серьезно?
Кэтт. Флирт? Да что же вы, в самом деле не видите, что мне не до игры, не до шуток… Что я… (Падает на кресло. Долгое молчание.) Нет, мы друг друга никогда не поймем. (Встает и быстро уходит.)
Мисс Уилькс. Как это все глупо! Отцовская кровь!
Из сада быстро входит Сакарди.
Явление третье
Сакарди. Madame, j'ai l'honneur… Je suis tres enroue… (Уходит.)
Мисс Уилькс (пораженная). Что еще произошло?
Входит Люба, ее с самым удрученным видом ведет под руку Остергаузен. Мисс Уилькс отступает за пианино.
Люба. Я не понимаю, Риц, что такое? Что такое? Чего ты так огорчился?
Остергаузен. Графиня, я прошу вас отложить все объяснения до возвращения в наш дом.
Люба. Я тут дома, я у брата… Дома ты опять станешь допекать всякими нотациями, а уже они у меня вот где сидят.
Остергаузен. Графиня, я убедительно прошу вас отложить все разъяснения до возвращения в наш дом.
Люба (вырвав руку). А я не согласна.
Остергаузен. О! Не согласны?!
Люба. Да ты, пожалуйста, меня не пугай! У меня свое состояние, а ты мне до смерти надоел. Пилит, пилит. Этого нельзя, то не принято, графиня да графиня… Чисто гувернантка. Пристаешь хуже этой дуры Уилькс.
Мисс Уилькс (взволнованная). Ах!
Люба. Говори прямо, сколько тебе отступного за развод?
Остергаузен. Графиня, я убедительно прошу…
Люба. Назови меня еще раз графиней, я на весь дом истерику закачу. Скажите, с человеком поговорить нельзя!.. Чего ты предстал передо мной, как тень Макбета?
Остергаузен. Банко, а не Макбета.
Люба. У меня свой характер есть. И ежели мне приятно с человеком поговорить по душе, так это еще ровно ничего не значит. Мне твое карканье-то с утра надоедает, а он тенором говорит. Ему полторы тысячи за выход платят, а я своим состоянием всякого могу осчастливить.
Остергаузен (прикрикнув). Но я муж! Вы это слово понимаете? Я вас в бараний рог согну за такие разговоры. Вы носите мое древнее имя…
Люба (рассвирепев). Меня в бараний рог?! Да я тебя с голоду уморю… Немец ощипанный. Не смей возвращаться в мой дом! Сухарь этакий!
Остергаузен пораженный садится на стул. Входят Эмма Леопольдовна, Чечков и Рыдлов, весело разговаривая.
Явление четвертое
Эмма Леопольдовна. Вот они где! Мы вас по всему саду ищем, ищем, а они, как новобрачные, сумерничают вдвоем.
Рыдлов. Где же синьор Сакарди?
Люба (обычным тоном, любезно, несколько рассеянно). Я его не видала. Риц, ты не видал Сакарди? Надо попросить его что-нибудь спеть.
Мисс Уилькс (выходя как будто из дверей). Он вас искал проститься. И, должно быть, уехал.
Люба (нажав пуговку электрического звонка). Риц, вели подать нашу карету. Я с Кэтт прощусь и уеду. Дяденька, у меня с вами разговоры есть деловые. Я вас в своей карете довезу.
Чечков. А граф как же?
Люба. Ах, мало ли извозчиков. (Сквозь зубы.) Не велика птица.
Чечков. Зачем же его сиятельству на извозчике. Прошу в моей коляске, граф.
Люба (очень грациозно со всеми прощаясь). До свиданья, прощайте. (Уходит с Чечковым.)
Мисс Уилькс. Граф, завезите меня к Ольге Спиридоновне в общину. Я своим лошадям велела только к десяти быть. (Тихо ему.) Мне надо с вами поговорить.
Остергаузен (шипя). И мне с вами. Вы воспитали фурию.
Мисс Уилькс (улыбаясь). Я сегодня во всем виновата. Но я дам вам добрый совет. До свидания. (Уходит с графом.)
Явление пятое
Эмма Леопольдовна. Остужев тоже уехал?
Рыдлов. Нет, курит в саду. Злющий-презлющий.
Эмма Леопольдовна. Отчего?
Рыдлов (глубокомысленно). Очень сложная натура — совсем фин-де-сиекль. Может быть, у него в душе зарождается какой-нибудь замысел.
Эмма Леопольдовна (прищурив глаза). А-а! Ли-те-ра-турный?
Рыдлов. Литературный. Я по себе знаю. Когда я писал «Бездну», я штук сорок сигар в день курил. Я даже жабу схватил от куренья.
Эмма Леопольдовна. Ну, он не схватит! Да что с вами? Вы очень возбуждены. У вас тоже литературный замысел?
Рыдлов. Есть, но это не от него.
Эмма Леопольдовна. А от чего?
Рыдлов. От дяденьки. Вы не знаете, какой он подлец.
Эмма Леопольдовна. Ох, что вы!
Рыдлов. Он стар-стар, а ловко себя сохранил. Вы думаете, я не вижу, как он около вас мурлычет?!
Эмма Леопольдовна (задорно). Немножко дерзко с вашей стороны этому удивляться.
Рыдлов. У него на Поварской одно семейство, а на Земляном валу — другое. У него даже дни распределены так: постные — на Поварской, у немки, — знаете, всегда на скачках будто с папашей сидит в ложе, рыжая, и зовут ее Эклетея Ивановна, а папаша просто для виду. А скоромные дни — у вдовы подпоручика, Варвары Андреевны, трое детей от первого брака.
Эмма Леопольдовна (заливаясь хохотом). А по воскресеньям где он бывает?
Рыдлов. В балете. Самый безнравственный старик. Никаких идеалов, а только что бы где подцепить. По утрам Вольтера читает. А что в Париже выкидывает — ужас! Тип растления нравов.
Эмма Леопольдовна. Да мне-то какое дело до этого?
Рыдлов. Он теперь все к вам присматривается.
Эмма Леопольдовна. Вы полагаете, меня так же легко поместить на… Таганке или на Ордынке для ровного счета?
Рыдлов. Ну, я ему тогда…
Эмма Леопольдовна (насторожив уши). Ого-го! Это что значит?
Рыдлов. Эмма Леопольдовна, в силах ли вы понять человека, который живет двойной жизнью?
Эмма Леопольдовна (с любопытством глядя на него). Я очень понятливая. Распространяйтесь дальше.
Рыдлов. Что ж тут распространяться? Пустите дяденьку побоку. Позвольте я с вами в Биарриц поеду.
Эмма Леопольдовна (улыбаясь). Ах, негодяй! Как вы смеете?
Рыдлов (хватая ее руки). Давно борюсь, Эмма Леопольдовна.
Входит Кэтт и останавливается.
Несчастлив в семейной жизни. Жена меня не понимает, у нее грубая натура. А вы… Знаете, есть индийское предание: две половинки груши ищут одна другую…
Кэтт (с широко раскрытыми глазами от изумления). Постойте, Ларион Денисович, я здесь.
Эмма Леопольдовна (неудержно хохочет). Кэтт, получай… Ха-ха-ха… Свою половину груши. (Целует ее и уходит.)
Явление шестое
Кэтт смотрит на смущенного, но бодрящегося Рыдлова и заливается смехом.
Рыдлов (обескураженный). Однако чему же вы смеетесь? Успокойтесь… у вас может сделаться истерика…
Кэтт хохочет.
Мимолетное увлечение, что ж тут особенного? Ах, как это странно, ты все хохочешь… Пойми, в сложных натурах воображение одно, а настоящая любовь — другое…
Кэтт машет руками, не может говорить от смеха. Рыдлов обижен.
Однако что ж тут смешного, когда в тебе должна клокотать ревность?
Кэтт. Уйди! Ради бога уйди… У меня духу не хватит. (Хохочет.)
Рыдлов (сердясь все больше и больше). Однако уж это… черт знает что такое!
Кэтт. А я-то… мучаюсь… а все это… как просто… (Еле переводя дух.) Не обижайся… я над собой…
Рыдлов (окончательно рассердясь). Ну, когда вы успокоитесь, я вам все объясню. (Уходя.) Ни малейшей тонкости. (Уходит и хлопает дверью.)
Явление седьмое
Остужев (вошел несколько раньше, мрачный). Что это вас так развеселило?
Кэтт. Случалось вам когда-нибудь пугаться?
Остужев (подумав). Нет.
Кэтт. А мне случалось — на даче в саду, ночью. Идешь по аллее, и впереди что-то чернеет громадное, фантастическое… Я в привидения не верю, но боюсь: сердце бьется, дух замирает, сзади точно кто-то гонится… И вот пересилишь себя, бывало, подойдешь — и что же?
Остужев. Куст?
Кэтт. Или водовозная бочка.
Остужев (все мрачный). Мораль?
Кэтт. Не верь своим фантазиям. Знай, что в жизни все гораздо проще, чем в воображении. А главное — сперва вглядись, а потом уж пугайся.
Остужев (несколько удивленный). Какая вы разговорчивая сегодня.
Кэтт. Подойдите ближе и сядьте тут.
Остужев. Если это привилегия доброй дружбы — я отказываюсь наотрез.
Кэтт. От дружбы?
Остужев. Представьте — осмеливаюсь. Или вы полагаете, за каждую подачку я должен вертеть хвостом и визжать от радости, как легавая собака?
Кэтт. Дайте мне посмотреть на вас. Я никогда на это не решалась, разве украдкой. Может быть, и вы окажетесь…
Остужев (со страхом). Водовозной бочкой?
Кэтт. Чем-нибудь в этом роде.
Остужев. Екатерина Вадимовна, мне не до шуток, не до игры в слова. Я вас люблю, слышите вы? Неужели вы, ни по вашей ледяной натуре, ни по всему, что в вас с таким старанием воспитывала ваша maman, не можете этого понять? Я вас безумно люблю. Вы скажете — поздно, я вам отвечу — зато сильно. Вот я теперь гляжу на вас и слов не нахожу… Я вижу ваши глаза, слышу ваш голос… И в этом голосе, в этом взгляде мне чуется что-то новое, что-то такое… о чем я во сне грезить не смел… Кэтт… Кэтт… что случилось? Скажите мне…
Кэтт. Что же могло случиться с «ледяной» натурой? С воспитанницей мисс Уилькс! Я не понимаю любви, не правда ли? Ее понимают только те мужчины, которые любят каждый день… как каждый день обедают… Любят сегодня все, что интереснее вчерашнего?.. И никогда не могут любить того, что надо любить долго? Или те женщины, которые идут на все уступки, лишь бы только их любили?
Остужев. А… как же… вы… вы… как понимаете?..
Кэтт (смутясь). Нет, я этого рассказывать не могу, мне кажется, если бы я полюбила, я бы и отдала любимому человеку все, что есть во мне… и сама бы взяла себе все, что…
Остужев (схватывая ее руки). Бери, требуй, повелевай…
Кэтт (стараясь прийти в себя, глядит на него взволнованным, любящим взглядом). Но что же… Что можно сделать? Теперь? Ведь я чужая жена… Ведь, кроме мужа… мой отец… моя мать… сколько еще людей… мне близких… Ведь это позор…
Остужев. Ничего нет позорнее, как лгать своим чувством, Кэтт. Скажите мне, умоляю вас, есть ли между вами и им что-нибудь общее, что-нибудь? Ну, общего нет — есть у вас уважение к нему? Ну, уважения нет — можете вы хоть серьезно относиться к нему?
Кэтт (усмехнувшись). Нн… нет.
Остужев. Так из-за чего же? Бросьте ваши шелки и брильянты, пойдем на вольный воздух. Ведь тут задохнуться можно.
Кэтт. Зачем же раньше… Я уже не та, какой была тогда. Какое это было бы гордое, спокойное счастье… Свадьба… Я вам должна быть за нее благодарна.
Остужев (взволнованным взглядом глядит на нее. Оба молчат). Пусть ваши упреки справедливы, пусть я виноват в ней… Но я был бы так же виноват, если б нечаянно убил вас. Вы перенесите то, что я испытал бы тогда, — и вы поймете, что было со мной.
Кэтт (поднявшись с места, кладет ему обе руки на плечи и долго молча смотрит на него). Я мало стою, может быть, но я себя дорого ценю. (С тихой, глубокой страстью.) Ты не знаешь, как я тебя люблю.
Остужев (бледный, со слезами на глазах). Повтори… еще… еще раз…
Кэтт. Час назад еще мне казалось, что я нужна мужу. Каков бы он ни был, я шла за него добровольно, и за мой ложный шаг я не имела права заставлять платиться другого, хотя бы мне это стоило всей жизни… больше, чем жизни. Теперь я свободна, я своя. Я ему не нужна. Я твоя теперь. Я — твоя… (Целует его).
Остужев. Кэтт… Моя Кэтт…
Кэтт. Постой… прежде всего, не надо никакой лжи… все разом… (Звонит.) Все кончить разом…
Входит лакей.
Попросите сюда Лариона Денисовича.
Лакей. Слушаю-с. (Уходит.)
Кэтт. Как меня утомила эта вечная ложь… Вон отсюда… навсегда… Боже мой, я верить не могу этому счастью… Ведь я задохнуться могла.
Входит Рыдлов.
Явление восьмое
Рыдлов. Прошел ваш неуместный хохот? Одумалась? То-то! Как не понять, что это был просто… порыв, ну, каприз художественной натуры. Надо привыкать, мой друг, быть женой писателя… Это не шут… Ах, Андрей, и ты здесь… Ну, вот ты тоже писатель, скажи, пожалуйста…
Кэтт (перебивая его). Совсем не в том дело… Я… я просила вас прийти…
Рыдлов (успокоительно). Не волнуйся, не волнуйся, Кэтт, не надо теряться. Главное — самообладание…
Кэтт. Я… не могу больше с вами жить.
Рыдлов (Остужеву). Ну вот, не угодно ли! До чего доводит ревность!
Кэтт. Не ревность, а ложь, на которой у нас все было построено, и наша свадьба, и вся наша жизнь. Мы оба лгали друг другу по своей ли, по чужой ли воле — все равно. Пора это кончить… Я не люблю вас… я никогда вас не любила…
Рыдлов (встревоженный). Что за чушь!
Кэтт. Я уезжаю к отцу… Я ухожу из вашего дома сейчас же… навсегда… Мы друг другу всегда были чужими по всему, по всему… Ни одной нитки, ни одной безделушки я от вас не возьму… Ничего мне не надо… Только, ради всего святого, кончим невыносимую… ненужную… эту лживую связь. Вернем друг другу свободу… Я не могу с вами жить… (Дрожит всем телом.)
Рыдлов (сконфуженно поглядывая на Остужева). Однако этот обмен мыслей лучше бы tete-a-tete.
Кэтт. Я не хочу обмана… не хочу… он меня измучил вконец… Я люблю другого…
Рыдлов. Не может быть!! Кого?!
Кэтт (с трудом). Его…
Рыдлов (пораженный). Ух ты, боже мой! (Застывает.)
Кэтт. Делайте со мной что хотите… Только без объяснений, без… Прощайте. (Хочет идти.)
Рыдлов (опомнясь). Стойте… Как же это так, позвольте… Вдруг зовут… и… и… вдруг… раз, два, три — и «люблю другого»… и вдруг уходит… Позвольте объясниться…
Кэтт (нервно). Зачем? О чем?
Рыдлов (почти бессознательно). Вообще… (Разводя руками.) Как муж… и вдруг… Поверьте, я могу вполне понимать страсть… и конечно… Но ведь и мои права… Нет, я не хочу… Я… я не пущу… (Все больше и больше разгораясь.) Не пущу и не пущу…
Кэтт (выпрямляясь). Насильно?!
Рыдлов. Да уж как бы там ни было… Не желаю я, чтобы по Москве звон пошел… Один дяденька засмеет… Извините-с, я не колпак…
Остужев. Но вы все-таки джентльмен…
Рыдлов (в ярости). Убирайся ты ко всем чертям, Андрей Константинович! Этакую подлость против меня выкинул да еще с джентльменством лезет. Тут всякое изящество лопнет! Что я джентльмен — так и жену надо у меня уводить? Какого дьявола я стану церемониться, ежели я во всех своих правах! Литература тут один подвох, а главное — чтобы человека оскандалить! Не пущу, не пущу… Судом верну… вида не дам… всю полицию на ноги поставлю… Не пущу! Не пущу! (Хватает руки Кэтт.)
Кэтт (вырвав руку, с гордо поднятой головой проходит мимо него. Остужеву, протягивая руку). Андрей Константинович, жду вас завтра у отца. (Идет.)
Рыдлов (кидаясь за ней). Стойте…
Кэтт оборачивается, в упор глядит на него. Он отступает. Кэтт уходит.
Явление девятое
Рыдлов (хватаясь за голову). Батюшки мои, что я наделал!
Остужев. Ничего особенного. Поступили по завету предков, но нельзя сказать, чтобы очень изящно. Главное — полиция. Ни в одном романе не знаю примера, чтобы герой в вашем положении кричал караул.
Рыдлов. Ах ты пропасть. Мало ли что сорвется с языка в такую минуту! Но как ты со мной подло поступил, Андрей, просто на совесть… Вот уж удружил. Ну, хоть бы я подозревал, уж я бы тогда приготовился… А как же это… вдруг зовут и вдруг… Растерялся… Что ж было делать?
Остужев. Мало ли что! Убить обоих.
Рыдлов. Ты серьезно?
Остужев. Совершенно серьезно. По крайней мере — одного из нас.
Рыдлов. А теперь…
Остужев. Теперь уж момент пропущен. Или уж надо было быть джентльменом до конца и ни под каким видом не вспоминать о городовых. А то это, извини меня, не маркизом, а лабазом пахнет.
Рыдлов (в отчаянии). Пропустил момент! Шарахнуть бы тебя чем ни попадя…
Остужев. У тебя теперь из литературных выходов остался один.
Рыдлов. Ну?
Остужев. Дуэль со мной. По старой дружбе, я, пожалуй, к твоим услугам. (Идет.)
Рыдлов. Андрей!
Остужев. Что!
Рыдлов. Не будь ты хоть раз в жизни подлым… не говори никому…
Остужев. Про что?
Рыдлов. Да вот… про полицию.
Остужев. Изволь. (Уходит.)
Рыдлов (звонит). Просто податься некуда… И тоска забирает…
Входит лакей.
Скачи к маменьке в общину. Скажи: прошу немедленно пожаловать… скажи — в доме несчастье…
Лакей. А ежели спросят — какое…
Рыдлов. Убью!
Лакей убегает.
Пропустил момент! (В отчаянии падает на диван.)
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Скромный кабинет в квартире Вадима Петровича Гореева. В глубине окно, перед ним письменный стол боком к публике. Слева от него кабинетное деревянное кресло, напротив через стол — соломенный венский стул. Такой же против окна. Справа на авансцене кожаный диван, два кресла, стол, книжный шкаф. Слева большой шкаф с химическими и физическими приборами. Две двери: левая — входная, правая — в столовую.
Явление первое
Гореев за столом работает. Справа входит Кэтт в гладком сереньком платье, гладко причесанная.
Кэтт (очень бодро и весело). Папа, здравствуй!
Гореев (сняв очки). Здравствуй, Котик, здравствуй, беглянка.
Кэтт (целуя отца). Merci за приют. Случилось совершенно как в сказке Андерсена: ночь, тишина, сидит старый король. Вдруг стук в ворота.
Гореев. Король надевает халат и колпак, отворяет двери и перед ним — фея.
Кэтт. Второе merci за комплимент. У меня и в мыслях не было феи — скорее красные башмачки.
Гореев. Ой, ой, ой! Это чересчур. Лучше сядь и разъясни мне загадку. Как ни велика честь бедному учителю принимать первую московскую миллионершу, а все-таки не мешает знать причину такого неожиданного визита. Вчера на мой вопрос ты ответила: завтра, все скажу завтра. Завтра наступило.
Кэтт. Я больше не миллионерша, и слава богу. Вот весь ответ. И если бы ты знал, как я этим счастлива.
Гореев (опускает голову на грудь. Потом, после паузы, поднимает ее. Глядя ей в глаза). Вокруг ваших миллионов и жизнь какая-то для меня непонятная; всего вернее, даже не жизнь, а процесс приобретения и траты на почве постоянного самоублажения. Видишь, я старый теоретик, привыкший считаться с общими законами и формулами, и у меня сложилась очень определенная формула жизни: имеет право жить только тот, кто работает для других. Кто пробует уйти в себя, будь он хоть архимиллионер, тот рано или поздно окажется неспособным к жизни. Ты ушла от этой неизбежной и роковой развязки.
Кэтт. Ушла, папа, навсегда, навсегда.
Гореев (ходит). Я не спрашиваю у тебя, что тебя так внезапно побудило это сделать — особенно после вашего вчерашнего совета нечестивых. (Разгорячась.) Это ужасно, ужасно. Я ушел положительно потрясенный… Ну, все есть у людей — вавилонская роскошь, весь мир к их услугам. Поезда переносят их бесполезные тела из одного края света в другой, телеграфы и телефоны разносят по миру их мысли и желания, для них ткут, строят, пашут, сеют, думают, пишут, учатся, изобретают — все для их удобства, комфорта, удовольствия. Но и этого им мало. Нужно еще посягнуть на священнейшее достояние человечества — надо общественную мысль, публичное слово сделать средством своего успеха… Ведь это кощунство… Стоило ли бороться за право свободного слова, раз оно будет служить этим позорным, этим унизительным целям?!
Кэтт (вставши). Папа, не в упрек… нет. Скажи мне, как ты мог — раз ты так думал и видел — как ты мог не удержать меня?..
Гореев (грустно, почти со слезами). Виноват, виноват без оправдания, Катя. Мои взгляды до такой степени расходились с общепринятыми понятиями, что я сплошь да рядом сомневался в своей правоте и, глядя на жизнь в ее необъятном течении, спрашивал себя: за что я негодую? Что позорного в том, как живет это общество? Кто дал мне право осуждать их на основании личного убеждения, когда много среди них и добрых и честных? Кто, наконец, позволяет мне подчинить молодую, полную сил жизнь моим теоретическим выводам, моим отвлеченным мнениям? И я не счел себя вправе мешать тебе жить, как все, отрывать тебя от блестящего и яркого мира и вести тебя на тяжелую дорогу личного труда и лишений. Но правда сильней практических соображений. Она проникла в твое молодое сознание и дала тебе те силы, каких не было у меня.
Кэтт (несколько смущенно). Видишь ли, папа… Я ушла от мужа, потому что я не могла его полюбить, как ни старалась… Я поняла, что люблю, и люблю давно, другого.
Гореев (вздрогнул и побледнел). Как?! другого?
Кэтт (твердо, глядя ему в глаза). Да.
Гореев. И… что же?.. Ты считаешь себя вправе разорвать связь с прежним, не ради бессмысленности этого прежнего, а ради… ради личного чувства?
Кэтт (помолчав). Вчера еще я не считала, сегодня — да.
Гореев. Что же случилось?
Кэтт. Я увидела, что я свободна, что для моего мужа я — только одна из его дорогих прихотей, что я стою на одной доске с его домом, его картинами, его экипажами и всем тем, за что он платит для своего удобства, удовольствия или прихоти. Я сама не имела для него никакой цены, а особенно с тех пор, как я (краснея) поступила в его владение. Положим, я могу быть ему только благодарна: он мне вернул возможность и полное право жить и… и — что же скрываться? — любить.
Гореев. Кого?
Кэтт. Остужева.
Гореев (опустив голову на руки, садится). Так… Так…
Кэтт. Что ты хочешь сказать, папа?
Гореев. Катя моя дорогая, то, что я могу сказать, жестоко и резко. Когда эгоизму служат люди грубые, люди глупые, наконец, люди злые — он еще не так ужасен. Но когда драгоценнейшие дары господни — ум и талант — уходят на то же, когда все сильное и светлое в человеке подавляется интересами его личности… тогда… тогда…
Кэтт (пошатнувшись, хватается за край стола и с ужасом смотрит на отца). Я… я тебя не понимаю…
Гореев. Послушай, Катя: вся жизнь, весь талант Остужева ушли на то, чтобы волновать и себя и других картинами тончайших страстей, изысканнейшей любви, если только можно эти чувства назвать любовью. Для этих картин он делает фоном все: природу, идеи, вечные духовные запросы человечества, важнейшие задачи своего века. Это ненасытный сладострастник мысли. Его личная жизнь — ряд экспериментов над собой и другими. Ни верности, ни силы его любовь не знает. В ней одно только нервное напряжение, неудержимое стремление испытать то или другое ощущение, и в этом стремлении он не видит ничего, не думает ни о чем ни о ком… А потом…
Кэтт. Потом?! Что потом?!!
Гореев. А потом сладкое разочарование, утомление, эстетическое переживание прошедших минут, талантливая и, конечно, очень искренняя, написанная кровью и нервами повесть и — успех. А для нее? А? Катя? Что для нее?
Кэтт глядит на него, бледная и дрожащая.
Я знаю его, Катя. Он был моим учеником — и любимым… На этом самом стуле он в лучшие минуты своей жизни рыдал предо мною, каялся, уходил просветленный — и пропадал на целые годы. А я читал в это время его талантливые вещи и видел, что все эти искренние слезы, рыдания и взрывы отчаяния и непреклонные решения — все это только материал для блестящих страниц, что он, служа себе, себе одному, думая, что весь мир в нем одном, платил за свое самоуслаждение слезами и нервами, как твой муж платил наличными деньгами.
Кэтт (вставая). Не верю… нет, постой… Я верю, что это было… но не теперь. Папа, если теперь… что же будет со мной?
Сильный звонок.
Гореев. Я скажу тебе это, Катя, в свое время. Раз ты в такую минуту пришла ко мне, я беру на себя ответственность отца за свою дочь.
В дверях слева показывается Люба, за ней Остергаузен весь в черном. Гореев кланяется и уходит направо.
Явление второе
Люба (подбегая к Кэтт). Фу, какая у вас лестница скверная. Кэтт, милочка, что же это?
Кэтт. Что, Люба?
Люба. Ты бросила Ларьку? Ты просто с ума сошла.
Кэтт (пожимая плечами). Может быть.
Люба. Зачем же это было делать? Кэтт, голубчик, я расплачусь… Что ж это такое? Мало ли глупых мужей, не всех же бросать. Умная женщина всегда сумеет устроить все без всякого скандала. У меня, знаешь, сердце оборвалось… Ведь тебя никуда принимать не будут.
Кэтт (нервно). Я ни к кому и не собираюсь ходить, моя милая.
Люба. Тогда надо уехать за границу, а на это нужны большие деньги, милочка. Откуда ж ты их возьмешь? Ларька скуп, как черт. Он только на словах джентльмен да джентльмен, а за сто рублей удавится.
Кэтт (усмехаясь). Если бы он был щедр, как царь, я и то от него ничего не взяла бы.
Люба (разводя руками, садится в кресло). Ну, уж я ничего не понимаю.
Остергаузен. Виноват, графиня. Позвольте мне сказать несколько слов. Екатерина Вадимовна, дорогая моя сес… свояченица! Вы, конечно, понимаете, что если бы я не считал вашего поступка необдуманным — заметьте, только необдуманным, я настаиваю на этом эпитете, то я не привез бы к вам мою жену.
Люба. Я сама бы приехала.
Остергаузен (вздохнув). Но вы только одну ночь провели не под кровом вашего супруга, и то в доме вашего достопочтенного родителя. Тлетворные семена растления нравов вас еще не могли коснуться. Графиня и я первые — я настаиваю на этом — первые протягиваем вам якорь спасения.
Кэтт (возмущенная). Кто вас просит читать мне проповеди, граф? Кто вам дает право касаться моей жизни и моих поступков?
Остергаузен (выпрямляясь). Долг!..
Кэтт. Я вам совсем чужая, я не прошу вас ни спасать, ни руководить, ни протягивать мне ваши якоря. Кто вы для меня? Муж, отец, брат?..
Остергаузен (величественно). Добродетель есть цель моей жизни. Я отпечатал в ста двадцати экземплярах мои размышления по поводу укореняющейся в XIX веке безнравственности… на веленевой бумаге. Я раздаю их бесплатно только тем лицам, которые, будучи одного со мной положения в обществе, стремятся уклониться от истинного пути. «Утренние размышления о добродетели графа Остергаузена» — вот. (Указывая на книжку.) Первый экземпляр я подарил моей жене. Не правда ли, графиня?
Люба. Правда-то правда, только мне-то зачем? Я никогда не уклонялась…
Остергаузен. В предупреждение. Второй экземпляр одному моему другу, имевшему гибельную привычку изменять своей жене и пить коньяк винными стаканами…
Кэтт (невольно смеясь). И третий мне?
Остергаузен. Нет, вам восьмой. До вас было пять печальных случаев, кроме исчисленного. Возьмите.
Люба. Возьми, Кэтт, положи куда-нибудь.
Остергаузен. Обратите внимание на восьмое и четырнадцатое утро. Именно четырнадцатое утро помогло нам с графиней вчера по отъезде из дома вашего мужа избегнуть страшных последствий некоторой необдуманности. (Косясь на Любу.) Одного из нас. В нем описано, какие последствия ожидают лицо женского пола за нарушение супружеского очага.
Люба. Ах, Кэтт, в самом деле ты прочти, что там написано. Ужас что такое! Все законы выписаны, по которым сажают в монастырь, по этапу пересылают… ужас, ужас… История рассказана, как у одной высокородной дамы от этого сделалась самая страшная болезнь…
Остергаузен. Она сошла с ума от упреков совести.
Люба (отводя Кэтт). Знаешь, он мне вчера так надоел, что я прямо ему сказала — разведемся. Что ж мне-то? Капитал-то мой, не правда ли? Да уж очень он меня запугал. И про общество, и про закон, и про совесть. Я всего, конечно, не помню, только так страшно, так страшно, что просто ужас! Вот я и рассчитала так: не разводиться, а все-таки устроить себя посвободнее, чтобы он у меня над душой постоянно не торчал. Мы с ним теперь отлично уговорились, и я ему за это двенадцать тысяч в год прибавила. Вдруг приезжает Ларька и рассказывает, что ты уехала с Остужевым…
Кэтт. Только об этом?
Люба. Ну, думаю, пропала моя Кэтт. Ведь писатель все равно, что тенор… то есть вообще певец или актер, а с ними, говорят, хуже всего. Разревелась, как дура, и к мужу: так и так, говорю, Кэтт уехала с Остужевым к отцу. Он сейчас взял свои размышления, и вот видишь… Кэтт, голубушка, вернись к брату… Милочка, умоляю тебя… (Плачет.) Мне тебя так жаль, так жаль… Ни мужа, ни денег, один только любовник… ну что хорошего?
Кэтт. Люба, никакого у меня любовника нет и не будет, слышишь ты? Я могу быть только женою того человека, которого я полюблю. Можете обо мне говорить и думать, что хотите, — мне все равно, я от вашего общества ушла навсегда. Но я здесь в доме моего отца и считаю себя гораздо честнее и лучше, чем в доме мужа, которому меня продали.
Люба. Об одном прошу тебя — поговори с Рицем. Он тебя так напугает, что ты все свои литературные глупости бросишь. А я сейчас поеду и Ларьку пришлю, заставлю ножки твои целовать, чтобы только ты к нему вернулась, потому что где ему, дураку, такую умницу да красавицу найти? А там забери его в руки и делай что хочешь, только не бросай совсем. (Быстро целует ее. Тихо мужу.) Попугай ее хорошенько. Я к брату еду. Дождись меня или возьми извозчика. (Бежит к дверям.) Сейчас Лариона пришлю.
Кэтт (быстро ей вслед). Люба, я не приму.
Люба. У вас без доклада. (Уходит.)
Явление третье
Остергаузен (по уходе жены весь изменяется; глаза прищурены, улыбается во весь рот. Развязно подходит к Кэтт, целует ее руку и садится). Нет, моя прелестнейшая сестрица, я вас пугать не желаю. Вы видите перед собою истинного друга, прелестнейшая сестрица… позвольте еще раз напечатлеть поцелуй. (Целует руку Кэтт.)
Кэтт (вскрикнув, отнимает ее). Что это значит?
Остергаузен. О, вы меня не бойтесь. Я иногда снимаю свою светскую маску. Я могу быть заразительно весел, если этому способствуют обстоятельства.
Кэтт. Мне не нужно вашего веселья.
Остергаузен. Пока вы были в обществе, я никогда не смел… Но теперь, если ваше странное увлечение писателем пройдет, а это скоро случится… и вам будет нужен друг со средствами, умеющий наслаждаться втайне…
Сильный звонок.
Кэтт. Вон отсюда…
В дверях показывается Эмма Леопольдовна.
Остергаузен (мгновенно изменившись). Одумайтесь, бедная сестра. Еще не все потеряно. (Проходя мимо сестры.) Я не желал бы видеть тебя здесь, Эмма, хотя, быть может, спасение еще возможно. (Уходит.)
Явление четвертое
Эмма Леопольдовна. Кэтт, что это за решительный шаг? Кто мог этого ждать!
Кэтт (все еще взволнованная). Твой кузен — форменный негодяй, Эмма.
Эмма Леопольдовна. Пожалуй, даже хуже. Но ты… ты…
Кэтт. Голубчик мой, я на все уже ответила Любе. Вы, порядочные женщины, носите высоко ваши головки и не кланяйтесь мне на улице. Освобождаю. Но больше я ничего не могу для вас сделать. Я не хочу слушать ни ваших соболезнований, ни признаний ваших мужей, ни советов ваших стариков. Я принадлежу теперь себе одной.
Эмма Леопольдовна (смеясь, с сильным оттенком нервности). Ты полагаешь? Именно теперь-то ты и принадлежишь всей Москве, душка. Сейчас один из московских jeune homme'ов, которого я по фамилии-то не твердо знаю, вскочил прямо на подножку моей коляски, когда я садилась в нее у кондитерской. Смотрю, у него от радости в зобу дыханье сперло, что может сообщить мне такую новость. Заорал на весь Кузнецкий: молодая Рыдлова убежала с Остужевым!
Кэтт (очень взволнованная). Какое дело?..
Эмма Леопольдовна. Не знаю, не знаю… Только все кричат. Я, впрочем, тебя защищала.
Кэтт. Ты… ты меня…
Эмма Леопольдовна. Я объявила jeune homme'у: «Кэтт поехала к больному отцу, и Остужев тут ни при чем. А чтобы вы не смели говорить всяких гадостей про порядочных женщин, потрудитесь забыть мой адрес». Он так и слетел в лужу. Мои вороные взяли с места и окатили jeune homme'а жидкой грязью из-под моих шин. Видишь, какой я неизменный друг.
Кэтт. Благодарю, но этого совсем не нужно.
Эмма Леопольдовна. Нужно, Кэтт, очень нужно. Когда ты вернешься к мужу?
Кэтт. Никогда этого не будет.
Эмма Леопольдовна (не обращая внимания). Только тогда ты оценишь мое участие.
Кэтт (твердо). Я не знаю, кто распустил по городу такие подробные вести.
Эмма Леопольдовна. Как кто? Сам!
Кэтт. Кто?
Эмма Леопольдовна. Супруг твой. Он сегодня в восьмом часу поднял моего мужа и сообщил ему все, что у вас вчера вышло, и, кажется, жаловался на то, что ты поступила против всех правил, по каким это бывает в романах. Впрочем, на нем лица не было. Чуть не плакал, хватался за волосы и таращил глаза, как моська. Ну, что же нам делать? Давай обсуждать. Во-первых, твоего папу упросить лечь в постель и пролежать дней пять. Позовем к нему всех наших ходовых докторов, чтобы они рассказали по городу, как ты три ночи не спала у постели больного отца. Во- вторых, Остужеву велим немедленно убраться из Москвы куда ему угодно: в Самарканд, в Лисабон, на Северный полюс, куда хочет. Он сгоряча заварил очень серьезную кашу и рад будет расхлебать ее так легко.
Кэтт. Что?!
Эмма Леопольдовна. Надо, словом, заглушить этот пошлый скандал.
Кэтт. Пошлый скандал?
Эмма Леопольдовна. Ну, мне некогда выбирать выражения. Надо спасать тебя от Остужева и от тебя самой, от твоей горячей неуравновешенной натуры, от глупости твоего мужа.
Кэтт (подняв голову, с горящими глазами подходит к Эмме Леопольдовне и берет ее руку). Моим мужем будет… Андрей. Поняла ты? И никто больше. Уезжай сейчас же, прошу тебя. Мне больно… мне неприятно… мне противно видеть всех вас, прежних… Вы точно опять тянете меня в ваш омут. Я теперь живу внутри себя так, как никогда не жила. Во мне счастье, свобода, жизнь… Я не та, какой я была. Я стала человеком и сумею это сберечь. Пошлый скандал? Ваша жизнь — сплошной скандал, ложь, маска. У меня будет другая жизнь, и я вас в нее не пущу. Уезжай!
Эмма Леопольдовна (резко меняя тон, серьезно, очень нервно). И творцом этой другой жизни будет знаменитый Андрей. Ты уверена в нем?
Кэтт (с исказившимся от внутреннего страдания лицом). Как… как в себе самой.
Эмма Леопольдовна (все злее и злее). Или даже как я в нем была уверена.
Кэтт, отшатнувшись, смотрит на нее помертвевшим взглядом.
Эмма Леопольдовна. Трудно было не верить, когда он, бледный как смерть, безумными глазами смотрел в мои глаза, ползал у моих ног, говорил мне, как пошла моя жизнь, как мою поэтическую натуру, мою красоту, мой ум отдали людям грубым и низменным.
Кэтт стонет.
Эмма Леопольдовна. Когда он страдал за меня… И он не лгал ни одной минуты. Он жил всей своей душой, всеми нервами, всем существом и страдал, и молил, и обещал… И я ему верила, и он себе верил… мне эта вера обошлась дорого… Я потеряла веру во все… а ему… нет, он не лгал… Он видел во мне то, что хотел видеть, и за своим призраком просто не разглядел, не мог разглядеть другого, живого существа. Этот призрак бледнел, тускнел, наконец, испарился — и он с удивлением, таким же искренним, как и его восторги и страдания, никак не мог понять, что это за фигура такая я сама, я, любящая, ожидающая… Чего? Он ничего не обещал мне, он никогда не знал меня, он знал то, что он создал вокруг меня своим воображением. Вот твой Андрей, твоя новая жизнь.
Звонок.
Да вот и не он ли сам? Я буду рада его видеть… Его шаги… нервные, быстрые… прежние… Он…
Быстро входит Остужев. Остужев останавливается как вкопанный.
Явление пятое
Эмма Леопольдовна. Чего вы окоченели, мой друг? Я не бранила вас. Я поверяла Кэтт «стоны измученного сердца», я умоляла ее вернуть мне вас… тебя, мой Андрей. Но, оказывается, у нее уже готов целый дворец, и ты… ты — волшебник. Аладин выстроил его в одну ночь.
Остужев. Что за бессмыслица? Кэтт, что с вами?
Эмма Леопольдовна. Я все-таки, Кэтт, советую тебе попросить отца заболеть хоть на три дня. (Уходит.)
Остужев. И вы всему поверили?
Кэтт. Нет, ничему, ничему, ни одному слову. Отцу не верю, не только ей.
Остужев (целуя ее руки). Благодарю! благодарю!
Кэтт. Мне жить нельзя, если я стану верить чему-нибудь, кому-нибудь, кроме тебя. Я твоя, слышишь, твоя на всю жизнь… На всю жизнь.
Остужев (сажает ее на диван, целует ее руки). Кэтт!
Кэтт. Помолчим немного… Мне хочется тишины… Пойми меня… Я устала и говорить и слушать. Мне хочется молчать и глядеть на тебя… и думать о том, что будет, когда мы кончим с прошлым навсегда, обвенчаемся и уедем.
Остужев. Обвенч…
Кэтт. Муж не откажет вернуть мне свободу… я ничего больше не прошу у него, и я ему не дорога совсем.
Остужев. Кэтт… Я женат.
Кэтт вздрогнула всем телом и встала. Молча глядит на него. Он стоит, опустив глаза, бледный.
Остужев. Моя жена — моя свобода. Она мне развода не даст. Как я люблю тебя сейчас, вот в эту минуту — ты понять не можешь. И именно поэтому я лгать тебе не могу и не хочу. Я твой, весь, всей силой души, всеми нервами, всем существом — теперь. Что будет завтра, я обещать не могу. Будь моим другом, моей любовью, жизнью моей, только не женой.
Кэтт беззвучно опускается на пол как подкошенная; голова закинута на сиденье кресла. Глаза закрыты.
Остужев (кидаясь к ней). Кэтт… Прости меня… Кэтт, пойми… Я… Она умерла, Кэтт…
Кэтт (слабым движением руки, удерживает его). Нет… молчите…
Он поднимает ее и усаживает в кресло. Долгое молчание. Кэтт старается прийти в себя. Волосы ее растрепались, руки дрожат, она с глубоким страданием глядит на Остужева, стоящего перед ней на коленях. Слезы текут по ее лицу.
Остужев. Не гляди так… Скажи что-нибудь… Приказывай. Я сделаю все, что хочешь. Я готов на все…
Кэтт (едва говоря). Нет, Андрей… Нет. Ничего не надо…
Остужев. Я с ума сойду… Не гляди так.
Кэтт. Зачем ты меня разбудил — я бы жила там… Спала бы всю жизнь… (Молчание.) Зачем же было будить меня?
Остужев. Кэтт, ты меня не поняла. Ведь я не забавы искал, я сам страдаю… и люблю тебя больше, в тысячу раз больше, чем ты можешь думать… Но… Кэтт, Кэтт! Я только тогда человек, когда я свободен, когда я никому не закрепощен, никому и ничему, ни любви, ни долгу, ни обязанности… Это мои смертельные враги с первой минуты моего существования. Только на свободе я могу творить, мыслить, отдаваться безраздельно тому, что мною владеет в данную минуту. Только свободно я могу любить беззаветно, забывая себя и все, все. (Ломая руки.) Как мне тебе объяснить?
Кэтт. Не надо… Я понимаю… (Опустив голову.) Понимаю…
Остужев. Вот ты страдаешь, ты думаешь: он меня не любит, он не может любить… Он меня губит, лжет, он хочет только владеть мною… Нет, нет. Кэтт, клянусь тебе, меньше всего в моей любви этой пошлой, материальной страсти… ты вся бесконечно дорога мне; не принуждай же меня мечту, грезу мою заключать в буржуазную квартирку с рабочим кабинетом мужа, с миленьким будуарчиком жены.
Кэтт (встала). Хорошо, довольно — я поняла… поняла… нельзя же объяснять так беспощадно…
Остужев. Уедем за границу, Кэтт, отдадимся всей чарующей прелести природы, жизни, искусства… Там дни, годы пройдут незаметно… не будем заглядывать вперед, не будем давать друг другу векселей на срок… Только так можно жить.
Кэтт. Вам. А мне? Греза… мечта… (Смеется.) А странная моя судьба, Остужев. Я всем нужна, все меня любят — и maman, и муж, а уж вы — без памяти, но каждому я нужна по-своему, для него… Одной как дочь, которую можно продать, другому как красивая жена для прихоти и оскорбительных ласк… Вам для мечтаний и грез… И никто меня не спросит, чем же я хочу быть? Я сама? Или уж женская доля такая — служить каждому по его вкусу?
Остужев (хватает ее за руку). Кэтт, я не хочу, чтобы ты так говорила… это неправда… Я сказал тебе все не для обмана… Я правду сказал… ничем я не рисовался… Начнем развод с твоим мужем… Я готов… (С трудом.) Обвенчаемся.
Кэтт (побледнев отступает). Лучше смерть, чем такое счастье через силу.
Остужев (с искаженным от страдания лицом). Это не то, не то…
Кэтт. Уезжайте…
Остужев. Не могу.
Кэтт (с криком). Уезжайте сейчас… Будь вы в самом деле женаты, я стала бы вашей любовницей… но этой женой… (Закрывая лицо руками.) Как я презираю… Я ненавижу себя… Уезжайте…
Остужев. Я уеду только с тобой.
Кэтт. Андрей Константинович, умоляю вас, уезжайте… Я должна остаться одна… должна, я напишу вам… вся моя жизнь спуталась… Я боюсь с ума сойти. Вы видите — я сама не своя… Ну… если… если вы в самом деле любите меня… оставьте меня одну… (Обессиленная опускается на стул, склонясь к столу всей тяжестью.)
Остужев (в мучительной нерешимости идет к двери. Оборачивается). Кэтт!
Кэтт (поднимает голову и умоляющим взглядом смотрит на него. Еле выговаривая). Уйдите…
Остужев уходит. Кэтт роняет голову на руки.
Явление шестое
Кэтт (по уходе Остужева остается в том же положении. Плечи ее вздрагивают от рыданий. Потом встает и растерянно смотрит вокруг). Что же мне… куда… зачем живу?.. (Быстро идет к шкапчику с препаратами, открывает его и нервно перебирает пузырьки и банки.) Нет ли лекарства… посильнее… поскорее…
Входит Гореев.
Вот! (Старается открыть пузырек.)
Гореев. Катя!
Кэтт (роняет склянку и с отчаянным рыданием кидается к отцу). Спаси меня, отец, спаси меня…
Гореев. Катя!.. Катя моя… Спаси тебя бог… Что ты задумала…
Кэтт. Куда же мне… я одна… я никому… я себе самой не нужна… я игрушка… игрушку и надо разбить…
Гореев. Кому нужна? Молодая жизнь, сила, сердце — и все это игрушка? И никому это не нужно? Да кого ты знаешь, Катя! твоих счастливцев, твой изживший, гнилой мир. Да разве им свет кончается?.. Посмотри в окно… Сколько людей, отягченных работой, вечным трудом, задавленных нуждой, темнотой… Вот куда иди, полная любви, знания, беззаветной готовности отдать им все, что ты хотела отдать своим пресыщенным, избалованным, извращенным людям… Вот где ты нужна, где нужны все, в ком есть живая душа… Вот твое спасение… Вот твое счастье…
Кэтт. Я… что я могу сделать? К чему я готова?
Гореев. Ты бросила семью. Для чего? Чтобы создать себе новую. Не удалось — яд! Катя, Катя! Какое малодушие! Какой позор! Ты вышла замуж. Любя, не любя — вышла. Кто бы ни был твой муж — скажи, что ты сделала, чтобы он стал другим? Что ты внесла в свой новый дом, кроме твоей красоты?
Кэтт. Ничего…
Гореев. Ты была богата. Что ты сделала для тех, у кого куска нет?
Кэтт дрожит всем телом.
У твоего мужа тысячи рабочих, тысячи семейств в его власти. Облегчила ты им их трудовую жизнь? Подумала о них, об их семьях, об их детях? Дала ли хоть каплю радости за свою роскошь, которую они тебе дали? Помогла их женам? Смягчила сердце твоего мужа? Или только свое горе близко, свое счастье нужно, а до других и дела нет?
Кэтт. Папа, что ты со мной делаешь?!
Гореев. За что же ты ждешь себе счастья, Катя? И в чем оно может для тебя быть? В ласках Остужева? В позоре… смены мужчин?
Кэтт. О! (Закрывает руками лицо.)
Гореев. Узнала ты, кого полюбила? Что связало вас? Что привлекло друг к другу? Ты скажешь — любовь? Неправда! Ты даже не заглянула в душу этого человека, ты не знала его… Разве это любовь? Это простое волнение нервов и крови, жажда счастья без малейших прав на него. И вот развязка — яд!
Кэтт. Что мне делать… Папа, что мне делать?
Гореев. Задумайся, борись с собой, ищи истины и смысла жизни — и найдешь. В себе самой найдешь, и сама жизнь укажет. Никто другой тебя не научит.
Звонок.
Кэтт. Я не могу никого видеть…
Входит Рыдлова в темном платье монастырского образца.
Явление седьмое
Рыдлова. Катя… что ты надумала… я к тебе… ангел мой… (Садится и плачет.)
Кэтт растерянная прижимается к отцу.
(Прерывающимся голосом.) Я ушам не поверила… Ну, знаю я… глуп он, Ларька… Так забери его в руки… наставь его на ум-разум… Ведь все мы несли эту муку с мужьями: кто от злости мужниной, кто от глупости, кто от измены… А что же это было бы, кабы мы терпеть не умели?
Гореев (тихо). Слышишь, Катя?!
Рыдлова. Вернись, голубчик, Катечка, вернись. Он ко мне приехал, всякий вздор молол, правда… а все-таки, видела я, мучается… Сердце надорвалось… Ах, Котик, Котик… Что это за женщины пошли? Мне, бывало, мужа-то, чем он виноватее да злее бывал, еще жальчее было…
Гореев (тихо). Катя, слышишь?
Рыдлова. Ну, не к нему, ко мне вернись… Я знаю, долго этой вашей шалой жизнью не проживешь… Пойдем ко мне… У меня в общине дела много… А за делом тоска пропадает. Хоть бы себя ты пожалела. На что ты им нужна, трубадурам-то этим? На забаву, на то, было б кому им свои арии распевать… Не губи ты себя и меня… Ох, господи, от страха, от стыда, от горя у меня в голове помутилось…
Гореев. Катя… Катя… Вот тебе… вот… сама жизнь указала…
Кэтт. Жизнь? Что ж… Надо жить как-нибудь… Все равно, тут все изломано… И больно, и стыдно теперь… а впереди… что впереди… что впереди? Ночь, вечная ночь…
Гореев. Вечная ночь только в могиле, Катя… Жизнь — это свет. Иди в жизнь, уйди от своего горя, живи за других, исполняй, что жизнь тебе прикажет… и ночь незаметно пройдет… утро разгорится…
Рыдлова. Детей бог пошлет — ими жить будешь…
Кэтт (дрожа всем телом). Не знаю, не знаю, точно все ломается во мне… Надвигается что-то новое… Сил моих… нет… (Падает к ногам Ольги Спиридоновны, глухо рыдая.)
Рыдлова. Плачь, детка моя, плачь… из женских горьких слез много хорошего выросло… Поплачем вместе, подумаем да помолимся… Бог вразумит.
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
Декорация второго действия.
Явление первое
Чечков сидит направо, Рыдлов ходит из угла в угол.
Рыдлов. Странно, дяденька, сосете вашу сигару и совершенно равнодушны к моему несчастью. Даже как будто очень довольны. А между прочим, у меня такое настроение, которое бывает перед самоубийством.
Чечков. Что ж, жизнь моя, как тебе угодно. Только бы не при мне.
Рыдлов. Вопиющий эгоизм! Ну, наконец, ведь тут честь фамилии.
Чечков. Какой?
Рыдлов. Нашей, Рыдловых.
Чечков. А я, дорогой мой, Чечков.
Рыдлов звонит. Входит лакей.
Рыдлов. Никто не приезжал?
Лакей. Никак нет-с.
Рыдлов. Если кто-нибудь приедет — проси.
Лакей. Слушаю-с. (Уходит.)
Чечков молча курит.
Рыдлов. Дяденька!
Чечков. Ну!
Рыдлов. Посоветуйте.
Чечков. Насчет чего?
Рыдлов. Странный вопрос. Насчет жены.
Чечков. Мой совет — сиди смирно.
Рыдлов. То есть в каком смысле?
Чечков. В самом обыкновенном. Коли уж не хватило ума удержать, так не мечись, как угорелая кошка. Ты всю Москву взбудоражил. А что случилось? Только то, что твоя жена у родного отца переночевала.
Рыдлов. Если бы вы умели понимать сложные душевные эмоции, дяденька, вы бы знали, что в такие минуты необходим друг.
Чечков. Так ведь не восемьсот же друзей, мой ангел.
Рыдлов. Зачем восемьсот? Я только ближайшим. И потом ведь это трагическое положение, как вы не понимаете? Я лишился не только жены, но и друга. Ах, какая ирония судьбы! Положим, писатель должен пережить все…
Чечков. Вот он и переживает на твой счет.
Рыдлов. Я про себя говорю.
Чечков. Ах, да-а! Ну, переживай, переживай.
Рыдлов. Я собираюсь к ней съездить. Свидание между нами необходимо. Я уж три раза мимо ихней квартиры проезжал и в окно смотрел. Тоска берет. Но я предполагаю выдержать характер.
Чечков. Выдерживай, пока она к Остужеву не переедет.
Рыдлов (вскочив с места, бессмысленно смотрит на Чечкова. Тот курит. Молчание). Да бросьте вы вашу соску, дяденька. То есть беспримерное положение. Хоть ты тут удавись.
Чечков. Да ты чего хочешь-то?
Рыдлов. Чтоб она опять вернулась.
Чечков. Зачем?
Рыдлов. Как — зачем?
Чечков. Тоскуешь по ней?
Рыдлов (с неподдельной грустью). Тоскую… В ней мало утонченности, это правда, но уж очень я привык… Должно быть, успел не на шутку влюбиться. Особенно как подумаю, что она чужая, а не моя… Или что ушла совсем… Согласитесь, дядюшка, великолепная женщина. Просто хоть погибай. Но должна же она раскаяться.
Чечков. Фью!
Рыдлов. Почему фью! Русская женщина всегда грешит, а потом кается. Это неизбежно, и вся литература это отметила. А кроме того, она сделала это со зла, из мести и ревности… Мотив совершенно достаточный для ограниченной натуры. Увидела, как я вчера объяснился с Эм…
Чечков (подняв брови). С кем?
Рыдлов (путаясь). С этой мм… м…
Чечков. Да ты не мычи! С Эммой Леопольдовной?
Рыдлов. Ах, вовсе нет!
Чечков. Ну, нет так нет. (Курит.) Так ты объяснялся, а жена должна раскаиваться?
Влетает Люба.
Явление второе
Люба. Ларя, поезжай к Кэтт.
Рыдлов. Эй! Коляску! А примет?
Люба. Ты не докладывайся. Кажется, примет. Я ее так напугала, что она даже затряслась. И Риц там теперь ее пугает, читает ей, кажется, свое четырнадцатое утро.
Чечков. Душеспасительная книга. С удовольствием читаю каждый раз, как в Париж еду.
Люба. Для чего это вам-то?
Чечков (усмехаясь). От грешных мыслей отвлекает. И развлечение в дороге. Спасибо его сиятельству за подарочек.
Рыдлов (ходивший по комнате). Стой! Надо ли ехать?
Люба. И как можно скорее.
Рыдлов. Ты, Люба, всегда трепыхаешься. Тут надо тонко обсудить и не пропустить момент. Ежели она до того перепугана, что даже трясется, значит, сама первая приедет.
Чечков (с нежностью). А ты, Ларион Денисович, не совсем того… Смекалка у тебя есть. Эх, кабы не полез ты в эту литературу, хороший бы из тебя купец вышел. Не продешевил бы в товаре.
Рыдлов. Ну, прошу вас… Купец! Здесь не в том дело, а в знании человеческой души. Теперь я — господин положения, и уж я ее приведу к одному знаменателю.
Люба. Ах, как ты глуп, Ларька. Вовсе она не так напугана, чтобы первой. Пожалуйста, ты много о себе не воображай.
Рыдлов. Вот две чашки весов: одна — я, другая — Остужев. Что на моей стороне? Во-первых, я муж. Во-вторых, капиталист. В-третьих, она передо мной виновата. В- четвертых, я литератор не хуже его, и, кроме того, в своей газете я его всегда могу обесславить и с грязью смешать. Начну каждый день его ругать, и ей буду посылать номера. Не может она этого не понимать. Что же, спрашивается, на его чашке? Пух! И, значит, придет и еще наплачется. Так. (Садится.)
Люба. Так-то так, только он умнее тебя.
Рыдлов. Ты чего не понимаешь, молчи уж лучше. Тоже об уме разговаривает.
Люба. Да уж увез ее у тебя из-под толстого носа.
Рыдлов. Позволь тебя спросить, если бы твой граф на твоих глазах изъяснился бы в любви другой, как бы ты поступила?
Люба. Он? Он не может.
Рыдлов. Душа коротка, запросов духовных нет. Ну, а если бы?
Люба. Правду сказать — от души бы обрадовалась.
Рыдлов (щелкнув языком). Вот то-то. Потому, что ты в него не влюблена. А она влюблена в меня, ну со злости и кинулась на шею первому встречному.
Люба. Да ты разве…
Рыдлов (самодовольно). Да-с, разве. Извините, chere comtesse, таких, как я, сами не бросают. Я всегда первый сумею рога наклеить. А теперь уж мы ее подождем. Да-с! Поговорим. Да-с!
Входит Лебедынцев.
Явление третье
Лебедынцев (очень расстроенный). Ужасное известие…
Рыдлов (самодовольно). Пустяки, Егор Егорович. (Отводя его в сторону.) Сейчас приедет прощенья просить. Оказывается, одно недоразумение. К отцу поехала от ревности… меня приревновала…
Лебедынцев. Ах, не в том дело. Не разрешили.
Рыдлов. Кого?
Лебедынцев. Не кого, а газету.
Рыдлов (всплеснув руками). Быть не может.
Лебедынцев. Вот телеграмма! Сергей Павлович из банка с нарочным прислал.
Рыдлов (читает). «Ходатайство отклонено. Подробности письмом». А я семь тысяч авансами роздал.
Лебедынцев. Бросайте все, поезжайте, умоляйте, хлопочите…
Чечков. Пристукнули? Ах, ах, ах!.. Вот не вовремя-то!.. Вот уж с твоей чашки одна гирька-то и свалилась.
Лебедынцев (с глубоким отчаянием). Что ж мне теперь… Я от корреспонденции в Петербурге отказался, на мое место взяли другого. Ведь у меня восемь человек на шее. Я за четыре фельетона в месяц 200 рублей получал… Что ж теперь?..
Чечков. Рано отказались, друг мой Егор Егорович! Синица-то…
Лебедынцев (огрызнувшись). Хорошо вам шутить с набитыми карманами… А как тут шесть человек детей обуй, одень, накорми да воспитай… (Садится, запустив пальцы в волосы.) Эх, не жизнь, а мотанье!.. Пропасть бы куда-нибудь! И кой черт… Что ж мне теперь?
Чечков. Я вас устрою, Егор мой друг Егорович. Человек вы смышленый, и языками владеете, и тертый калач, только в Москве замотались… Дельце у меня начинается в Париже: парчовой магазин открываю, хотите — три тысячи вам на первое время в год положу. Развернете дело — прибавлю. Только… не при кассе, Егор мой Егорович, а для внешних сношений…
Лебедынцев (вглядываясь в него). Под купецкую лапу? Что ж, видно, все там будем. Благодарю. А жаль изданьица. Всю Москву бы завоевали.
Рыдлов. Верить не хочу! Что ж это за наказанье! Вся слава…
Лебедынцев. Дым, Ларион Денисович. Прикажете к вам в контору, Василий Ефимович?
Чечков. Завтра утром явись, голубчик мой. Получишь инструкции.
Лебедынцев. И аванс?
Чечков. Авансы вот он раздает, а у меня это иначе называется.
Лебедынцев (почтительно кланяясь). До свиданья, Василий Ефимович.
Чечков. Прощай, голубчик мой…
Лебедынцев. До свиданья, графиня.
Люба кивает головой, перелистывая альбом.
Гм… (Протягивая руку.) Ларион Денисович! Будете в Париже…
Рыдлов. Я вам тогда сообщу, если вы мне понадобитесь.
Лебедынцев (вздрогнув, как от оплеухи). Ну-с, позвольте вам выразить, Иларион Денисович, мое глубочайшее…
Рыдлов. Я, любезный, тут ни при чем. Благодарите дяденьку.
Лебедынцев…мое глубочайшее презрение…
Рыдлов. Но, но, но!
Лебедынцев. К вам, почтеннейший Василий Ефимович, оно не относится. Уж очень вы последовательны, и от вашей неумолимой логики только попискивать можно. Какое уж тут презрение, если человек спокойно ходит по тебе, как по ровному, с глубочайшим сознанием своего права. Покоряюсь, Василий Ефимович, покоряюсь, и хотя не испытываю к вам нежных чувств, но трепещу, подавлен и немею. (Кланяется.)
Чечков. Спасибо, голубчик. А чувств ведь я не требую. Ты не дама.
Лебедынцев. Но вот господин литератор, сложная натура, этот джентльмен внутреннего приготовления есть не что иное, как…
Рыдлов (быстро). Не произносите этого слова.
Чечков. Отчего же?
Лебедынцев. Из уважения к даме — извольте. Теперь dixi et animam levavi. Пожалуете место — не откажусь. Все равно нужда глотку сдавила. Не я первый, не я последний согнусь перед вами. А откажете — еще лучше. Выйду я тогда благородный протестант и сильно поднимусь в собственных глазах. Вашему сиятельству! (Уходит.)
Явление четвертое
Рыдлов. Действительно, со всякой шушерой свяжешься — какое тут разрешение. И с чего это вы, дяденька, вздумали благодетельствовать разным проходимцам?
Чечков. Думал тебе, попочка, удовольствие доставить. Ты же с ним нянчился, на первое место сажал. Помнишь, про «Бездну»-то как он тебя… А я его все-таки возьму. Зубаст и пригодится.
Рыдлов. Дяденька, только, пожалуйста, вы ему теперь строго-настрого писать запретите. Пригрозите ему, что как он кого-нибудь из нашей фамилии заденет, так сейчас его вон. Может писать, даже в иностранных газетах, но чтобы отдавал должное…
Чечков. Я его, дружочек мой, для того и нанял, чтобы тебя в струне держать. Как что — сейчас предписание: раскатай маркиза на обе корки. Уж очень ты распространился, особенно как сестрица удалилась…
Рыдлов. Что ж это жена не едет? Любка, да она точно перепугалась или просто так?
Люба. Вот сейчас граф должен быть.
Рыдлов. Надо характер выдержать.
Входит мисс Уилькс.
Явление пятое
Мисс Уилькс. Ларя, это правда?
Рыдлов. Увы!
Мисс Уилькс. Как это могло случиться? Так внезапно.
Рыдлов. Ревность и недостаток воспитания. Чего же ждать?
Mисс Уилькс. Недостаток воспитания у вас, мой милый. (Грозно.) Где моя дочь?
Рыдлов (спустив тон). У своего папеньки!
Мисс Уилькс. Что же значит эта пошлая сплетня?! Говорят, вы ездите по городу и бог весть что рассказываете. Жалуетесь на свою судьбу, когда вам следует жаловаться только на свою непроходимую глупость.
Чечков. Позвольте ручку, досточтимая Евгения Фоминична.
Мисс Уилькс. Здравствуйте. Ах, Люба! Подите сюда. Как вы могли допустить вашего брата…
Люба. Что ж я могу, Евгения Фоминична? Я ему говорю, поезжай, попроси прощенья, ты ее мизинца не стоишь, а он хочет какой-то характер выдерживать.
Мисс Уилькс (презрительно). Характер? Откуда он у него?
Рыдлов. А откуда бы ни был, а есть.
Мисс Уилькс (Чечкову). Он называет это характером. (Рыдлову.) О какой вы ревности говорили? К кому? Кого?
Рыдлов. Меня.
Мисс Уилькс. Ничего не понимаю. При чем же тут Остужев?
Рыдлов. Орудие мести.
Мисс Уилькс. Он бог знает что говорит.
Входит Остергаузен.
Явление шестое
Рыдлов (идет к нему). Ну, что?
Остергаузен (молча поздоровался со всеми, сел. Снимает перчатки). Она погибла безвозвратно.
Люба ахает.
Рыдлов. Вот так история! Не приедет?
Мисс Уилькс. Что за вздор?
Чечков. Вы от нее теперь?
Остергаузен. Нет. Я проехался по бульвару, дабы освежиться от удручающего душу впечатления. Она меня… выгнала вон. (Кротко улыбается.)
Люба (сквозь зубы). Чересчур насел, значит.
Рыдлов. Спрашивала она про меня?
Остергаузен. Ни одного слова.
Рыдлов. Значит, самому надо ехать.
Люба. Говорю тебе, проси у нее прощенья.
Рыдлов. Ну что ж, и попрошу… Евгения Фоминична, поедемте вместе. Ведь вы почти мать. И черт его принес сюда на мою голову! Его вы там не видали?
Остергаузен. Нет.
Рыдлов. И когда уезжали, там поблизости его не было?
Остергаузен. Едва ли можно ожидать встретить его там… днем…
Рыдлов. Ну, значит, надо ехать. (Звонит.)
Входит лакей.
Что ж, болван, лошади готовы?
Лакей. Подавать прикажете?
Рыдлов. Подавать!
Лакей уходит.
Остергаузен. Может быть, Эмма Леопольдовна что-нибудь устроит. Она сидит у нее.
Рыдлов (растерянно). Значит, надо подождать.
Мисс Уилькс. Да чего же ждать?
Чечков. Он вчера объяснился в любви Эмме Леопольдовне, а жена его и застала. Ему теперь, голубчику, неудобно встречаться с ними вместе…
Люба. Ах, так ты… Скажите на милость, туда же…
Мисс Уилькс. Как! Вы же оскорбили вашу жену и вы же смеете распускать про нее такие слухи? И эти ханжи (указывает на графа) говорят о какой-то погибели?! Я не дам моей дочери вам на посмеяние! (Грозно наступая.) Извольте ехать со мной немедленно, иначе я сумею с вами справиться, несмотря на ваши миллионы.
Рыдлов (окончательно потерянный). Ехать — так ехать…
Чечков (закуривая). Сказал попугай, когда его кошка потащила из клетки.
Входит лакей.
Лакей. Ларион Денисович, Ольга Спиридоновна изволили с барыней подъехать. (Общее движение.)
Рыдлов (смутно понимая). Проси сюда. (Садится.)
Люба. Господи, как страшно!
Остергаузен (тревожно озираясь, встает). Мне кажется, при этом радостном событии могут присутствовать лишь ближайшие родные. (Рыдлову.) Не забудьте передать мое глубочайшее почтение дорогой свояч… сестре, и позвольте верить, что моя книга несколько споспешествовала упрочению мира. Я пройду боковым подъездом. (Делает общий поклон и уходит.)
Общее молчание. Чечков исподтишка следит за Рыдловым. Евгения Фоминична садится на диван.
Евгения Фоминична (севши). Ничего не произошло, вы понимаете? Не надо ни сцен, ни объяснений. Все очень просто и как следует.
Люба. Ух как интересно!
Входят Рыдлова и Кэтт. Кэтт очень бледна.
Явление седьмое
Мисс Уилькс (вставая). Здравствуйте, милая Ольга Спиридоновна. Ну, что, Кэтт, папе лучше?
Чечков (подходя к ручкам дам). Слышали, что поправляется. От души рад, Екатерина Вадимовна. Сегодня же навещу. Сто лет вас, сестрица, не имел счастья видеть. Завтра уезжаю за границу, позволите к вам заехать проститься?
Рыдлова (целуя Любу, которая к ней подошла). Вот что, милые мои. У Кати есть дело к мужу. Мы тут лишние. Пойдемте на мою прежнюю половину, а ты, Люба, вели нам чаю. (Уходит с мисс Уилькс и Чечковым.)
Люба (проходя мимо Кэтт, шепотом). Не стесняйся с ним, Кэтт. Он только характер выдерживает. (Уходит.)
Явление восьмое
Кэтт (после паузы). Ларион Денисович, хотите ли вы, чтобы я вернулась в ваш дом?
Рыдлов встает, молчит.
Кэтт. Распоряжайтесь моей жизнью по вашей воле. Мне ничего не надо… Я должна сделать все, чтобы честно… Нет, не то… Скажите мне, что мне прикажете делать — оставаться у вас или уйти к отцу? Я исполню… Если вы любите другую…
Рыдлов. Нет, это я так…
Кэтт. Мой долг быть при вас. Я забыла его. Судьба мне напомнила и… наказала меня. Делайте со мной что хотите!
Рыдлов. Конечно! Все забыто. Это было недоразумение. Поверьте, я могу понять тонкие изгибы… Ну, да что тут толковать. Поцелуй меня и кончено.
Кэтт (умоляющим взглядом глядит на него). Ларион Денисович, об одном умоляю вас — дайте мне к вам привыкнуть… Я была чужая вам, мне страшно… мне ново… Но клянусь вам, что я все силы, все… Только не теперь… Дайте мне… хоть немного забыть…
Рыдлов. Кому ты говоришь, Кэтт? Я все вижу, все понимаю. Мы все устроим на новых началах, и будет еще интереснее. А теперь я тебя прощаю. Maman, дяденька, Евгения Фоминична, подите сюда! Я ее простил.
Входят Рыдлова, мисс Уилькс, Люба, Чечков.
Явление девятое
Мисс Уилькс (идет к Кэтт). Что за «простил»! Мою Кэтт не в чем прощать, она не может быть ни в чем виновата.
Кэтт (тихо). Отойдите от меня… Я не вынесу. Все мне сделали много зла, но вам одной я его не забуду…
Мисс Уилькс (громко). Нервы, Кэтт, ах эти нервы! Но я с тобой согласна — пусть муж будет всегда прав. Все равно они никогда в своей вине не сознаются.
Люба. Мы их и не спросим. Кэтт, забери скорее Плюшку под башмак, ему же лучше будет.
Чечков. Что ж я не вижу нашей милой Эммы Леопольдовны?
Рыдлов (тихо ему). Дяденька, это бестактно, помолчите.
Рыдлова (обнимая Кэтт). Пойдем, Котик, к тебе. Тебе отдохнуть надо.
Кэтт (тихо ей). Помогите мне, когда будет тяжело.
Рыдлова. Не бойся, дочка моя дорогая. Я твою душу постигла. (Идут.)
Чечков (Рыдлову). Поздравляю со счастливым окончанием.
Рыдлов (с достоинством). Дяденька, знайте одно: все пойдет хорошо, но надо, чтобы человек имел характер и был прежде всего джентльмен.


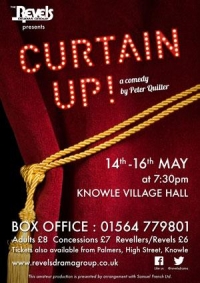

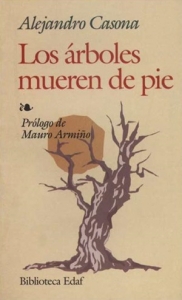
Комментарии к книге «Джентльмен», Александр Иванович Сумбатов-Южин
Всего 0 комментариев