Гюго Виктор Париж
I. Грядущее
В двадцатом веке будет существовать необычайная нация. Эта нация будет великой, что не помешает ей быть свободной. Она будет знаменитой, богатой, мыслящей, мирной и дружественной по отношению к остальному человечеству. Она будет спокойной и рассудительной, словно старшая сестра. Ей покажется удивительной та слава, которой пользуются ныне конические снаряды, и она с трудом постигнет разницу между генералом и мясником: пурпурный мундир одного мало чем будет отличаться для нес от окровавленного фартука другого. Какая-нибудь битва между итальянцами и немцами, англичанами и русскими, пруссаками и французами будет для нее тем же, чем является для нас битва между пикардийцами и бургундцами. Расточительную трату человеческой крови она сочтет бесполезной. Восторг, вызываемый огромными цифрами убитых, встретит с ее стороны весьма умеренное одобрение. Она пожмет плечами при слове "война", как мы - при слове "инквизиция". На поле битвы при Садове она взглянет с тем же видом, с каким мы стали бы смотреть на аутодафе в Севилье. Ей покажутся бессмысленными и эти колебания стрелки весов военной удачи, неизменно и зловеще уравновешивающей каждую победу поражением, и вечная расплата за Аустерлиц ценой Ватерлоо. Она будет испытывать примерно такое же уважение ко всякому "авторитету", какое мы испытываем к правоверию; преследование книги будет казаться ей тем же, чем нам показалось бы дело о ереси; гонения на писателей она будет допускать не больше, чем мы допускаем гонения на астрономов, и, не видя ничего общего между Беранже и Галилеем, кроме их заточения, она одинаково не сможет представить себе ни Беранже в тюремной камере, ни Галилея в темнице. Для нее Eppur si muove[1] будет не предметом страха, а источником радости. Она будет обладать высшей справедливостью доброты. Всякая жестокость вызовет у нее чувство стыда и возмущения. Вид эшафота ее оскорбит. У этой нации казни и кары растают и исчезнут с ростом просвещения, как тает лед под лучами восходящего солнца. Застою предпочтут движение. Никто никому не будет ставить преград. На смену рекам-границам придут реки-артерии. Взорвать мост будет так же невозможно, как и отрубить голову. Пушечный порох станет порохом для бурения, а селитра, с помощью которой ныне сокрушают человеческие жизни, будет применяться, чтобы сокрушать горы. Никого не станут интересовать преимущества пули цилиндрической над круглой пулей, кремня над фитилем, пистона над кремнем и патрона над пистоном. Люди будут равнодушны к замечательным тринадцатифутовым чугунным кулевринам, окованным стальными обручами и стреляющим по выбору как полыми, так и литыми ядрами. Они не будут испытывать благодарности ни к Шасспо, превзошедшему Дрейзе, ни к Боннену, превзошедшему Шасспо. А то, что в девятнадцатом веке Европа пожертвовала населением целой столицы - семьюстами восемьюдесятью пятью тысячами человек - ради того, чтобы разрушить небольшой город Севастополь,покажется им событием хотя и примечательным, но весьма странным. Эта нация больше оценит туннель в Альпах, чем зарядный картуз Армстронга. В своем крайнем невежестве она даже не будет знать, что в 1866 году была отлита пушка весом в двадцать три тонны, названная Big Will[2]. Забудутся и другие красоты и роскошества наших дней; так, например, у этих людей не будет уже бюджетов, подобных бюджету современной Франции, достигающему ежегодно размеров золотой пирамиды десяти квадратных футов в основании и тридцати футов высоты. А такой бедный островок, как Джерси, не раз подумает, прежде чем позволит себе прихоть,- какой сделал это 6 августа 1866 года,- повесить человека[3], чья виселица обходится в две тысячи восемьсот франков. Люди перестанут бросать деньги на подобные излишества. Законодательство этой нации будет точным воспроизведением скрижалей естественного права. Под влиянием этой нации-зачинательницы необъятные девственные просторы Америки, Азии, Африки и Австралии будут предоставлены несущим цивилизацию эмигрантам; те восемьсот тысяч быков, что ежегодно сжигаются в Южной Америке при производстве кож, будут съедаться; люди поймут, что если по одну сторону Атлантического океана имеются быки, то по другую его сторону имеются голодные рты. Под воздействием этой нации длинные вереницы обездоленных потянутся к неизведанным пространствам и разольются величественным потоком по богатым и тучным землям; люди будут устремляться в Калифорнии и Тасмании не за золотом - грубой и призрачной приманкой нынешнего дня,- а в поисках земли; эти голодные и разутые, эти достойные уважения страждущие спутники нашей недальновидной роскоши и нашего эгоистического благоденствия, вопреки Мальтусу, найдут себе пропитание под одним и тем же солнцем; из города-матери, ставшего тесным, вылетят людские рои и понастроят свои ульи на всех континентах; этому благотворному расселению, вероятно, будет способствовать и разрешение назревающих ныне проблем: разумно руководимое передвижение по воздуху, небо с его воздушными кораблями - все это будет со всех сторон вливать жизнь в этот огромный муравейник тружеников; земной шар станет для человека его собственным домом, и ничто в этом доме не будет пропадать даром; так, например, Корриентес, эта гигантская, самой природой созданная водонапорная машина, эта разветвленная сеть рек и потоков, эта огромная, уже совершенно готовая система каналов, Корриентес, чьи воды, ныне пересекаемые вплавь лишь стадами бизонов, несут стволы деревьев,- создаст и будет питать сотни городов; всякий, кто захочет, получит на девственных землях кров, пашню, достаток, богатство, и все это при одном только условии - распространить идею родины на всю вселенную и считать себя гражданином и пахарем мира; таким образом, собственность, это великое право человека, эта высшая свобода, это господство духа над материей, эта верховная власть, недоступная животному, отнюдь не будет уничтожена, а демократизируется и станет всеобщей. Исчезнут все препоны: не будет больше ни поборов у мостов, ни пошлин у городских ворот, ни таможен на границах, ни перешейков между океанами, ни предрассудков в умах. Словно рой трудолюбивых пчел, зажужжит повсюду пробужденная к жизни пытливая инициатива. Нация, находящаяся в центре этого движения, откуда оно лучами разойдется на все материки будет среди остальных наций тем же, чем является ныне образцовая ферма среди хуторов. Она будет более чем нацией - она будет цивилизацией; она будет лучше, чем цивилизация,- она будет всеобщей семьей. Единый язык, единая монета, единая система мер, единый меридиан, единый свод законов; обращение бумажных денег в его высшей форме; ценные бумаги с купонами, превращающие в рантье любого, у кого есть в кармане жилета двадцать франков; неисчислимо выросший доход как результат уничтожения паразитизма; отсутствие праздных с оружием в руках; отмена гигантских расходов на оборону границ, благодаря чему в кармане у населения останутся четыре миллиарда, затрачиваемые ежегодно на регулярные армии; возвращение в сельское хозяйство, в промышленность и торговлю четырех миллионов молодых тружеников, которых с почетом приносят в жертву солдатскому мундиру; повсеместная перековка мечей и оков на орала; воцарение над людьми величественной восьмигрудой богини мира; никакой эксплуатации, ни малых великими, ни великих малыми, и сознание каждым достоинств и полезности каждого; идея служения друг другу, очищенная от идеи принуждения; равенство, возникающее на основе всеобщего бесплатного и обязательного обучения; осушительный канал там, где была сточная канава; обучение вместо наказания; тюрьма, превращенная в школу; конец невежества, этого крайнего предела нищеты; не умеющий читать - столь же редкое явление, как и слепорожденный; понимание истины jus contra legem[4]; растворение политики в науке; низведение противоречий к их простейшей форме, и как следствие упрощение самих событий; упразднение всего того, что искусственно и что ложно; законом станет неоспоримое, единственным авторитетом - наука. Правительство, чья деятельность ограничивается одной лишь важной задачей - заботой о путях сообщения, в которой главное - передвижение людей и их безопасность. Государство, заявляющее о себе лишь для того, чтобы безвозмездно предложить проект и дать образец. Ничем не стесненная конкуренция человеческой мысли при наличии одного типического вида, характеризующего уровень прогресса. Нигде никаких пут, повсюду приближение к единому образцу. Все по единому типу: школа, мастерская, склад, лавка, ферма, театр, общественное мнение и. наряду со всем этим,- свобода. Свобода человеческого сердца, охраняемая в той же мере, что и свобода человеческого разума, ибо любить так же священно, как и мыслить. Широкая поступь толпы - Идеи, возглавленной духом - Легионом. Обмен, возросший в десять раз и влекущий за собой возросшие во сто крат производство и потребление; чудо умножения хлебов, ставшее явью; воды, укрощенные плотинами, что предотвратит наводнения, и изобилующие рыбой, что удешевит жизнь; промышленность, порождающая новую промышленность, рабочие руки, призывающие новые рабочие руки, сделанная работа, предполагающая множество предстоящих, беспрерывное возобновление, рожденное постоянным завершением, и повсюду ежечасно волшебное возрождение голов священного чудовища - труда, отрубленных оплодотворяющим топором процесса. Взамен войны - соревнование. Мятежное устремление умов навстречу грядущему дню. Нетерпеливость добра, порицающего медлительность и робость. Исчезновение всякого другого повода для гнева. Народ, вторгающийся в недра ночи и добывающий там на благо человечеству огромные запасы света. Вот какова будет эта нация.
Столицей этой нации будет Париж, но она не будет называться Францией; она будет называться Европой.
Европой будет называться она в двадцатом веке, а в последующие века, еще более преображенная, она будет называться Человечеством.
Человечество будущего, нация окончательная, уже сейчас смутно вырисовывается взорам мыслителей, вглядывающихся в туманную даль; но девятнадцатый век присутствует пока лишь при формировании Европы.
Величественное видение. В утробном развитии народов, так же как и в утробном развитии всех живых, существ, бывает возвышенный час высокого прозрения. Тайна позволяет созерцать себя. В настоящий момент нашему взору предстает царственный процесс развития плода во чреве цивилизации. Европа, Единая Европа созревает там. Народ, которому предстоит стать преображенной Францией, находится в разгаре своего становления. И эта уже сейчас ясно различимая форма грядущего таится в оплодотворенном чреве прогресса. Та нация, которая будет, уже трепещет в современной Европе, словно крылатое существо в пресмыкающейся личинке. В будущем веке она расправит свои крылья, из которых одно - свобода, другое - человеческая воля.
Континент, населенный братьями,- таково будущее. Это огромное счастье неминуемо, перед этим надо склониться.
У Европы еще нет своего народа, но уже есть свой город. Столица народа, пока не существующего, уже существует. Это кажется чудом, но это - закон. Зародыш нации подобен зародышу человека, и таинственное формирование эмбриона, которое одновременно и прорастание и жизнь, всегда начинается с головы.
II. Минувшее
1
Есть на земном шаре долины, склоны холмов, места слияния рек, имеющие свое особое назначение. Они сочетаются, чтобы создать народ. Бывают такие места там нет людей, но вас влечет туда. Первый же пришедший остается там. Порой из одной хижины, словно из личинки, развивается город.
Мыслитель отмечает места этого таинственного зарождения. Здесь возникнет варварство, а здесь - человечность. Здесь-Карфаген, там - Иерусалим. Бывает город-чудовище, так же как и город-чудо.
Карфаген порожден морем, Иерусалим - горой. Иногда ландшафт величественен, иногда ничтожен. Но это не значит, что город не будет рожден.
Взгляните на эту местность. Что скажете вы о ней? Самая обычная. Здесь и там заросли кустарника. Но внимание! В этих кустах - кокон, в котором лежит личинка города.
Этот зародыш поселения выращивается климатом. Равнина ему мать, река кормилица. Это поселение оказывается жизнеспособным, оно увеличивается, оно растет. В определенный час оно становится Парижем.
Сюда стекается человечество. Здесь бурлит вихрь столетий. События наслаиваются на события. Перед нами разверзаются мрачные глубины прошлого.
Перед тобой Париж, и тебя охватывает раздумье: как возникла эта столица столиц?
У этого города есть своя неприятная особенность. Тому, кто обладает им, он дарит весь мир.
Если обладание достигнуто ценой преступления, то он отдает этот мир во власть преступления.
2
Париж подобен бездонному колодцу.
Его история, микрокосм всеобщей истории, порой пугает мыслителя.
Эта история, более чем любая другая, служит образцом и примером. Местные события имеют здесь всемирное значение. Эта история шаг за шагом утверждает прогресс. Все, что существует в других местах, имеется и здесь. Выделяя главное, она подводит итог. В ней преломлено все и все отражено. Все предстает в ней уменьшенным и одновременно преувеличенным. Нет зрелища более захватывающего.
История Парижа, если раскапывать ее, как раскапывали бы Геркуланум, заставляет вас непрерывно возобновлять работу. В ней есть и пласты наносной земли, и ячейки, подобные могилам, высеченным в скалах, и спирали лабиринта. Докопаться в этих развалинах до конца кажется невозможным. За расчищенным подземельем открывается другое - загроможденное. Под первым этажом здания обнаруживается склеп, ниже - пещера, еще глубже - место погребения, под ним бездна. Бездна - это неведомая нам жизнь кельтов. Раскопать все не так-то просто.. Жиль Коррозе пробовал сделать это с помощью легенд; Малэнгр и Пьер Бонфон - с помощью традиции; Дю Брэль, Жермен Брис, Соваль, Бекийэ, Пиганьоль де Ла Форс - эрудицией; Юрто и Мариньи - методом; Жалльо - критическим подходом; Фелибьен, Лобино и Лебеф - ортодоксальностью; Дюлор - философией; и каждый пообломал там свое орудие.
Возьмите планы Парижа разных эпох его существования. Наложите их один на другой, взяв за центр Собор богоматери. Рассмотрите пятнадцатый век по плану Сен-Виктора, шестнадцатый - по плану, вытканному на гобелене, семнадцатый - по плану Бюлле, восемнадцатый - по планам Гомбуста, Русселя, Дени Тьерри, Лагрива, Брете, Вернике, девятнадцатый - по современному плану,- впечатление, производимое ростом города, поистине ужасает.
Вам кажется, будто вы смотрите в подзорную трубу на стремительное приближение светила, становящегося все больше и больше.
3
У того, кто вглядывается в историю Парижа до самого ее дна, начинает кружиться голова. Нет ничего более причудливого, более трагичного, более величественного. Для Цезаря это город, платящий дань; для Юлиана - загородная вилла; для Карла Великого - школа, куда он созывает ученых Германии и певчих Италии и которую папа Лев III называл Soror bona[5] (Сорбонна; да не взыщет с нас за подобное объяснение Робер Сорбон); для Гуго Капета это родовое поместье; для Людовика VI - пристань, где взимают пошлину; для Филиппа-Августа - крепость; для Людовика Святого - часовня; для Людовика Сварливого - лобное место; для Карла V - библиотека; для Людовика XI - книгопечатня; для Франциска I - таверна; Париж, академия для Ришелье, был для Людовика XIV местом заседаний парламента, на которые он являлся лично, чтобы заставить принять свой указ, а также местом, где вершился суд над отравителями; для Бонапарта Париж - великое перепутье войн. Начало истории Парижа соприкасается с закатом Рима. Мраморная статуя некоей римской матроны, умершей в Лютеции, покоилась двадцать столетий в старой парижской земле, как Юлия Альпинула в Авакше; ее нашли при раскопках улицы Монтолон. Боэций, этот муж совета, умерший во время, пытки, когда палач так перетянул ему веревкой голову, что у него глаза выскочили из орбит, называл Париж "городом Юлия". Тиберий, так сказать, положил первый камень Собора богоматери: он счел это место удобным для храма и воздвиг там алтарь в честь бога Церенноса и быка Эзуса. На горе святой Женевьевы поклонялись Меркурию; на острове Лувье - Изиде, на улице де ла Барийри - Аполлону, а там, где ныне Тюильри,- Каракалле. Каракалла - тот самый император, который ударами кинжала превратил в бога своего брата Гету, сказав: "Divus sit, clum non vivus"[6]. Продавцы воды, называвшиеся паутами, на пятнадцать столетий опередили Самаритянку. На улице Сен-Жан-де-Бове была этрусская гончарная мастерская, на улице Фоссе-Сен-Виктор - арена для боя гладиаторов, там, где Термы,- акведук, идущий из Рэнжи через Аркей, а по улице Сен-Жак проходила римская дорога с ответвлениями на Иври, Гренель, Севр и гору Сетар. Египет был представлен в Лютеции не только Изидой; согласно преданию, в наносном грунте Сены был найден живой крокодил, чучело которого еще в шестнадцатом веке можно было видеть подвешенным к потолку в большом зале Дворца Правосудия. Вокруг Сен-Ландри раскинулась сеть улиц романских времен, где имели хождение монеты короля свевов Рихерия, с вычеканенным на них изображением Гонория. Набережная Морфондю прикрывает собой илистый берег, где некогда отпечатывались следы босых ног короля Франции Хлотаря, того самого, что жил в бревенчатом замке, перегороженном бычьими шкурами, иные из которых, только что содранные, походили на пурпур. Там, где теперь улица Генего, Эрхиноальд, майордом Нормандии, и Флаохат, майордом Бургундии, совещались с Зигебертом II, к шляпе которого, совсем как у дикарских царьков в наши дни, были прибиты две монеты: квинарий вандалов и золотой триен вестготов. В алтарную абсиду церкви Сен-Жан-ле-Рон была вделана широкая плита с высеченным на ней по-латыни капитулярием шестого века: "Подозреваемый в воровстве да будет схвачен; благородный да будет судим; простолюдин да будет тут же повешен. Loco pendatur"[7]. Там, где находятся сейчас покои архиепископа, был некогда камень, воздвигнутый в память умерщвления тех девяти тысяч болгарских семейств, что бежали в Баварию в 631 году. В зарослях вереска на том месте, где ныне находится Биржа, герольды объявили о начале войны между Людовиком Толстым и домом де Куси. Людовик Толстый, давший во Франции убежище пяти изгнанным папам - Урбану II, Пасхалию II, Геласию II, Каликсту II и Иннокентию II, только что закончил тогда победоносную войну против барона де Монморанси и барона де Пюизе. В римскую усыпальницу, находившуюся приблизительно там, где позднее во Дворце Правосудия была построена зала, названная Rue de Paris[8], привезли из Компьена первый в Европе орган, дар Константина Копронима Пипину Короткому; услышав звуки этого органа, одна женщина умерла от потрясения. Каорсинцев, которых в наши дни назвали бы биржевыми игроками, секли розгами на рыночной площади перед столбом Septem sunt[9], поставленным в честь Пифагора-музыканта; название Septem оправдывалось шестью другими именами, начертанными на оборотной стороне столба: Птоломей-астроном, Платон-богослов, Евклид-геометр, Архимед-механик, Аристотель-философ и Никомах-арифметик. Именно здесь, в Париже, зародилась цивилизация, именно здесь квестор константинопольский, Орибазий из Пергама, сократил и объяснил труды Галена; именно здесь были основаны купеческая ганза, прообраз немецкой, и судейское сословие, прообраз английского; именно здесь "по просьбе воинов" Людовик IX выстроил церковь святой Екатерины и другие церкви; именно здесь собрание баронов и епископов стало парламентом и именно здесь Карл Великий капитулярием об аббатстве Сен-Жермен-де-Пре запретил духовенству убивать людей. Во времена Петра Ломбардского сюда приехал учиться Целестин II. На улице Фуарра жил школяр Данте Алигьери. Здесь, на улице Басс-дез-Юрсен Абеляр встречался с Элоизой. Германские императоры ненавидели Париж как "очаг злого огня", а Оттон II, этот мясник, которого называли "бледной смертью сарацинов", Pallida mors Sarracenorum, ударом копья надолго оставляет след на воротах парижского Сите. Другой враг, английский король, разбил свой лагерь в Вожирарском предместье.
4
Париж вырос среди войн и голода. Карл Лысый давал норманнам, предавшим огню церкви святой Женевьевы и святого Петра, а также половину парижского Сите, семь тысяч серебряных ливров, чтобы выкупить то, что уцелело от огня. Париж представлял собой плот Медузы; там голод дошел до предела; в 975 году парижане бросали жребий, кому быть съеденным. Настоятели аббатства Сен-Жермен-де-Пре и аббатства Сен-Мартэн-де-Шан, укрывшиеся за зубчатыми стенами своих монастырей, нападали друг на друга, затевая уличные бои, ибо право междоусобных войн просуществовало вплоть до 1257 года. В 1255 году Людовик Святой учредил во Франции инквизицию; ядовитая плесень прижилась. С тех пор в Париже нет числа гонениям: в 1253 году - на банкиров; в 1311 году на бегардов, еретиков и менял; в 1323 году - на францисканцев и чернокнижников; в 1372 году - на тюрлюпенов; затем - на лиц, обвиненных в божбе, на патеринцев и реформатов. В ответ на это вспыхивают мятежи. Школяры, жаки, майотены, кабошьены, тюшены первыми показывают пример сопротивления, которому последуют и священники во времена Лиги и принцы крови во времена Фронды; в 1588 году появится первая баррикада, и народ, получивший в дар от Филиппа-Августа покров из плит известняка, называемый парижской мостовой, найдет этим плитам должное применение. Вместе с восстаниями множатся и казни; и - хвала науке и письменности! - в этом нагромождении трупов, позорных столбов и виселиц зарождаются и растут коллежи: Лизье, Бургонь, лез Экоссе, Мармутье, Шосе, Юбан, Аве-Мария, Миньон, Отен, Камбре, школа мэтра Клемана, школа кардинала Лемуана, де Ту, Реймс, Кокерель, де ла Марш, Сеэз, ле Ман, Буасси, ла Мерси, Клермон, ле Грассен, давший Буало, лицей Людовика Великого, давший Вольтера; и рядом с коллежами - больницы, эти страшные убежища, эти подобия римских цирковых арен, где людей пожирают не звери, а эпидемии. Многообразие эпидемий, порожденных многообразием источников заразы, неслыханно; это и священный огонь, и чума, и огневица, и адская болезнь, и черная лихорадка; от этих болезней люди сходят с ума, ими болеют даже короли; так, Карл VI заболевает горячкой. Налоги были столь непомерными, что люди старались заболеть проказой, лишь бы от них избавиться. Вот почему слова "шелудивый" и "скаредный" стали синонимами. Проникните в эту легенду, углубитесь в нее, побродите по ней. Все в этом городе, давно чреватом революцией, имеет свой особый смысл. Первый попавшийся дом может рассказать о многом. Недра Парижа - тайник: в них скрыта история. Если бы сточные канавы стали поразговорчивее, сколько они могли бы поведать нам! Заставьте-ка тряпичника Шодрюк-Дюкло разрыть мусорную свалку столетий у тумбы Равальяка! Какой бы грязной и мутной ни была история, местами она делается прозрачной, всмотритесь в нее. Все, что уже мертво само по себе, еще живо как урок. А главное, не отбирайте: созерцайте все, что попадется вам на глаза.
5
Под современным Парижем проступают очертания древнего Парижа, подобно тому как старый текст проступает между строк нового. Уберите со стрелки Сите статую Генриха IV, и вы обнаружите костер Жака Моле. Именно здесь, в Париже, на площади замка де Поршерон, перед особняком Кок, под сенью орифламмы, поднятой графом де Вексен, поверенным аббатства Сен-Дени, Иоанн II сразу же после своего миропомазания, состоявшегося 24 сентября, н казни графа де Гюин, состоявшейся 24 ноября, был прозван "Добрым" по требованию шести епископов пэров Франции. Во дворце Сен-Поль Изабелла Баварская ела острые приправы корбейские луковицы, эшалоты из Этампа и чеснок из Грапделюса - и шутила с каким-нибудь английским принцем крови по поводу отцовских прав своего супруга Карла VI на ее сына Карла VII. Это здесь, на мосту Менял, 23 августа 1553 года был оглашён парламентский эдикт, запрещавший биться об заклад насчет того, мальчика или девочку родит беременная женщина. В зале нижнего этажа дворца Шатле при Франциске I, отце литературы, чинили допрос с пристрастием книгопечатникам, обвиненным в ереси. По улице Pas-de-la-Mule[10], в 1560 году почти каждый вечер проезжал верхом на муле первый президент парижского парламента Жиль ле Мэстр, в сопровождении своей жены, ехавшей в тележке, и служанки на ослице; он ездил смотреть, как будут вешать тех, кого он осудил утром. В башне Монтгомери, неподалеку от жилья дворцового привратника, имевшего право получать ежедневно двух кур, а также золу и головни из королевского камина, находилась ниже уровня Сены та самая темница, что звалась Мышеловкой, потому что мыши загрызали там узников насмерть. Был и перекресток, прозванный вначале Trahoir[11], потому что там, как говорят, лошади волочили привязанную к их хвостам восьмидесятилетнюю Брунегильду; позднее этот перекресток назвали Arbre-Sec[12], из-за сухого дерева, то есть виселицы, которая постоянно там находилась; почти у самого основания помоста, в нескольких шагах от заведения банщика, где в шестнадцатом веке происходили самые веселые оргии тогдашней знати, цветочницы предлагали прохожим букеты и фрукты, распевая при этом:
Вот шиповник, свеж на славу,
Винный уксус на приправу[13].
У ворот Сент-Оноре кардинал де Бурбон, этот черновой набросок Карла X, и герцог де Гиз впервые в истории вышли прогуляться в сопровождении собственной стражи - событие, от которого сразу поседела половина усов короля Наваррского. Выходя из церкви святой Марии Египетской, где он совершал молитвы, Генрих III вытащил из-под щенят, висевших в круглой корзинке у него на шее, и передал канцлеру Шиверни указ, согласно которому у парижских горожан отнималось дворянское звание, дарованное им Карлом V. Перед фонтаном святого Павла, на улице Сент-Антуан, представители суда и счетной палаты подрались во время похорон кардинала де Бирага, не поделив мест. Вот здесь находилась некогда большая палата, где заседала "французская магистратура"- длинные бороды в шестнадцатом веке и пышные парики - в семнадцатом, а там - калитка Лувра, откуда поутру выходили черные или серые мушкетеры, которым время от времени приходилось призывать к порядку эти бороды и парики. Известно, что порой они бывали непокорными. Так, например, в 1644 году непокорность парламента дошла до того, что он согласился увеличить налог, который назывался принудительным и был обязателен для всей Франции, исключая парламент. Долгое время парижским улицам была свойственна некоторая терпимость к ворам и летучим мышам; до Людовика XI не было полиции, до Ла Рени - уличных фонарей. В 1677 году Двор Чудес сохранял еще свои готические лохмотья рядом с придворными каруселями Людовика XIV. Эта древняя парижская земля содержит целые залежи событий, нравов, законов, обычаев; здесь все - руда для философа. Приходите и смотрите. Вот на этом месте был свиной рынок; а там, в чугунном чане, именем всех этих государей, которые среди прочих хитроумных проделок с монетами изобрели черный турский ливр, а в четырнадцатом веке в течение пяти десятилетий сумели подточить банкротствами народное достояние,- прием, использованный позднее при Людовике XV; там именем Филиппа I, объявившего серебром какие-то медные монеты, именем Людовика VI и Людовика VII, принудивших всех французов, исключая жителей Компьена, принимать каждое су за ливр, именем Филиппа Красивого, чеканившего анжуйские золотые сомнительного достоинства, прозванные длинношерстыми и короткошерстыми овцами, как символ стрижки народа; там именем Филиппа Валуа, подделавшего флорин с изображением святого Георгия, именем короля Иоанна, возведшего в достоинство золотых дукатов кружки кожи с серебряным гвоздиком посредине, именем Карла VII, золотившего и серебрившего лиары, которые он называл "золотыми приветами" и "серебряшками", именем Людовика XI, издавшего декрет о том, что монеты достоинством в одно денье стоят три денье, именем Генриха II, пустившего в обращение золотые "Генрихи" из свинца,- там в течение пяти столетий варили в кипятке фальшивомонетчиков.
6
В центре того, что тогда, в отличие от Старого города, называли просто Городом, находился Мобюэ (Дурной дым) - место, где поджаривали на зеленых ветвях, облитых смолой, множество евреев в наказание за их антропомансию и, как говорит советник де л'Анкр, "за их достойную удивления жестокость по отношению к христианам, за их образ жизни, за их богопротивную синагогу, за их мерзость и смрад". Чуть поодаль любитель старины найдет тот угол улицы Гро-Шекс, где сжигали колдунов перед раззолоченным и раскрашенным барельефом, который приписывался Никола Фламелю и на котором изображен пылающий метеор величиной с мельничный жернов, упавший в Эгос-Потамосе в ночь, когда родился Сократ; Диоген Аполлонийский, законодатель Малой Азии, назвал этот метеор "каменной звездой". Дальше - перекресток Боде, где, по словам Гагена, при звуках труб и рогов объявили приказ об истреблении прокаженных во всем королевстве за то, что они будто бы отравляли водоемы и реки, бросая туда привязанные к камням тряпки, пропитанные настоем из трав, крови и "человеческой воды". Оглашались и другие приказы. Так, перед замком Гран-Шатле, после эпидемий, войн и голодных лет, появлялись шесть герольдов французской короны, одетых в белый бархат и далматики, расшитые королевскими лилиями, с жезлами в руках, дабы успокоить народ и сообщить ему, что король благоволит продолжать сбор налога. А совсем на северо-восток, на месте той знаменитой площади, что звалась Королевской при монархии и при Вогезской республике, находилась уютная королевская резиденция де Туриель, где разделял ложе с Людовиком XI Филипп де Комин, что несколько нарушает его суровый облик историка: ведь трудно представить себе Тацита в одной постели с Тиберием. Филипп де Комин, бывший сенешалем Пуатье, был одновременно сеньором Шайо и распространял свои владения на всю Вишневую Рощу, вплоть до городского сточного рва, что составляло семь ленных наделов, расположенных позади Квадратной башни; сверх того он обладал правом чинить низший и средний суд, имел свою мэрию и своего пристава. Все это, к счастью, не мешает ему быть одним из основоположников французского языка.
7
Перед лицом этой истории Парижа приходится поминутно восклицать, подобно Джону Говарду, восклицавшему по поводу других бедствий: "И незначительные события здесь значительны!" Иногда в этой истории можно усмотреть двоякий смысл, иногда тройной, а иногда никакого. Вот тогда-то она и не дает уму покоя. Кажется, что она оборачивается иронией. Она выдвигает вперед то преступление, то нелепость, а подчас что-то такое, что не является ни нелепостью, ни преступлением и что все-таки принадлежит мраку. Среди этих загадок кажется, будто слышишь позади себя тихий смех сфинкса. Повсюду противоположность и сходство, похожие на логику случая. В доме № 14 по улице Бетизи умирает Колиньи и рождается Софи Арну. Так внезапно сближаются две характерные черты прошлого: кровавый фанатизм и циничная игривость. Парижский рынок, свидетель рождения театра (при Людовике XI), видит и рождение Мольера.
В год, когда умирает Тюренн, расцветает мадам де Ментенон,- странная замена; именно Париж дает Версалю г-жу Скаррон, французскую королеву, кроткую до предательства, благочестивую до свирепости, целомудренную до расчета, добродетельную до порока. На улице Маре Расин пишет "Баязета" и "Британника", в той самой комнате, где пятьдесят лет спустя герцогиня Бульонская в свою очередь создает трагедию, отравив Адриенну Лекуврер. В доме No 23 по улице Пети-Лион, в красивом дворце эпохи Возрождения, от которого сохранился остаток стены, бок о бок с толстой Сен-Жильской башней, на винтовой лестнице которой Иоанн Неустрашимый беседовал со своим палачом Капелюшем между ударом кинжала на улице Барбетт и ударом шпаги на улице Монтеро,- разыгрывались комедии Мариво. Довольно близко друг от друга распахиваются два трагических окна: из одного Карл IX расстреливал парижан, из другого кидали деньги в толпу, чтобы отвлечь ее от похорон Мольера. Что нужно было толпе от мертвого Мольера? Отдать ему последний долг? Нет, надругаться над ним. Народу бросили несколько монет, и те, кто пришел с полными грязи руками, ушли, получив плату. О, страшный выкуп за славные останки! Уже в наши дни была разрушена башенка, в окне которой дофин Карл, дрожа перед разгневанным Парижем, надел на себя алую шапочку Этьена Марселя, за триста тридцать лет до того, как Людовик XVI надел на себя красный колпак. Сен-Жанская аркада была свидетельницей малого "десятого августа"- 10 августа 1652 года, которое было генеральной репетицией великого; гудел большой колокол Собора Парижской богоматери, стреляли из мушкетов. Это событие вошло в историю под названием мятежа бумажных голов. В августе же,- летний зной располагает к анархии,- а именно 23 августа 1658 года, на набережной de la Vallee[14], называвшейся в старину le Val-Misere[15], разгорелась битва монахов-августинцев с парламентскими стражниками; в те времена духовенство любило встречать приказы магистратуры ружейными выстрелами, считая правосудие посягательством на свои права; между монастырем и стрелками завязалась серьезная перестрелка вблизи Нового Моста; на шум прибежал Лафонтен, крича: "Пошли смотреть, как будут убивать августинцев!" Неподалеку от коллежа Форте, где заседал Совет Шестнадцати, расположен монастырь Кордельеров, из которого вышел Марат. Вандомская площадь, прежде чем служить Наполеону, уже служила Лоу. В Вандомском дворце был небольшой камин из белого мрамора, знаменитый тем, что Кампистрон сжег в нем множество прошений сосланных на каторгу гугенотов; этот Кампистрон был одновременно генеральным секретарем по делам каторги, кавалером ордена Сант-Яго и командором ордена Химены в Испании и маркизом Пенангским в Италии - звания, по праву заслуженные этим поэтом, который разжалобил двор и город историей о Тиридате, противившемся супружеству Эриникии с Абрадатом. Мрачная набережная de la Feraille[16], видавшая столько судебных злодеяний и являвшаяся одновременно набережной des Racoleurs[17], дала такие народные типы веселых служак, как Лараме, Лавиолетт, Вадебонкер и, наконец, Фанфан-Тюльпан, с таким очарованием и блеском выведенный в наши дни на сцене Полем Мерисом. Где-то на чердаке Лувра от Теофраста Ренодо родилось газетное дело; на этот раз мышь родила гору. В одном из других помещений того же Лувра процветала Французская Академия, лишь один-единственный раз добавившая к числу своих сорока кресел еще одно кресло - для Пеллиссона - и лишь однажды надевшая траур - по Вуатюру. Мраморная доска с золотыми буквами, установленная на одном из угловых зданий рынка дез Инносан, долгое время привлекала внимание парижан к трем славным событиям 1685 года: прибытию сиамского посольства, приезду генуэзского дожа в Версаль и отмене Нантского эдикта. У стены здания, называемого Валь-де-Грас, была брошена облатка святых даров, из-за чего сожгли заживо трех человек. Дата: 1688. Ровно шестью годами позже рождается Вольтер. Давно было пора.
8
Еще сорок лет тому назад в ризнице церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа показывали темнокрасный стул, на котором была помечена дата: 1722; на нем восседал кардинал-архиепископ города Каморе в тот день, когда г-н Клинье, королевский судья реймсского аббатства Сен-Реми, и г-да де Ромен, де Сент-Катрин и Годо, кавалеры ордена Святого Сосуда, пришли "к его высокопреосвященству за приказаниями о короновании его величества". Высокопреосвященством был Дюбуа, величеством - Людовик XV. В этом хранилище мебели был и другой стул с подлокотниками, принадлежавший регенту, герцогу Орлеанскому. В этом кресле герцог Орлеанский сидел в тот день, когда он разговаривал с графом де Шароле. Г-н де Шароле только что вернулся с охоты, где подстрелил нескольких фазанов в лесу и одного нотариуса в деревне. Регент сказал ему: "Ступайте прочь; вы знатный дворянин, и я не прикажу отрубить голову ни графу де Шароле, убившему прохожего, ни прохожему, который убьет графа де Шароле". Этой фразой воспользовались дважды. Впоследствии сочли уместным приписать ее Людовику XV, произведенному в звание Возлюбленного. На улице Баттуар у маршала Саксонского был сераль, который сопровождал его в походах; в обозе тянулись переполненные колымаги, прозванные уланами "фургонами для маршальских жен". Сколько диковинных событий, нагроможденных с непоследовательностью, свойственной самой жизни, из которых вы вольны черпать пищу для размышлений! За одну и ту же неделю некая женщина, г-жа де Шомон, наживает на миссисипских акциях сто двадцать семь миллионов; сорок кресел Французской Академии отсылаются в Камбре для заседания конгресса, уступившего Англии Гибралтар, а сквозь главные ворота Бастилии, приотворившиеся в полночь, можно увидеть, как в первом дворе при свете факелов казнят неизвестного, чье имя и преступление никто никогда так и не узнал. С книгами расправлялись двояким образом: парламент сжигал их, церковный капитул разрывал их по листкам. Сжигали их на главной лестнице Дворца Правосудия, рвали их на улице Шануанесс. Говорят, как раз на этой улице среди груды приговоренных книг были обнаружены послания Плиния, изданные впоследствии Альдо Мануцием; нашел их монах Жоконд, строитель каменных мостов, которого Саннадзаро называл Pontifex[18]. А ступени главной лестницы Дворца Правосудия за неимением писателей, "поджариваемых на костре", могли любоваться, как сжигают творения. Стоя внизу этой лестницы, Буэнден сказал Ламеттри: "Вас преследуют потому, что вы атеист янсенистского толка; я же оставлен в покое, ибо у меня хватает здравого смысла быть атеистом молинистского толка". Кроме того, в отношении книг действовали и сорбоннские постановления. Сорбонна, скорей скуфья, нежели величественный купол, господствовала над тем хаотическим скоплением коллежей, каким был в ту пору университет; старый Гез де Бальзак, ссорясь с преподобным Голю, назвал Сорбонну страной латыни; и это прозвище за ней осталось. Благодаря положению, занимаемому ею в схоластической науке, Сорбонна обладала правом нравственной юрисдикции. Сорбонна заставила папу Иоанна XXII отказаться от его теории блаженного видения; Сорбонна объявила хину "преступной корой", по каковой причине парламент запретил хине исцелять; Сорбонна, после разгрома Чивиты-ди-Кастелло, осудила папу Сикста IV и признала правоту Антония Кампани, того епископа, который "был рожден крестьянкой под лавром" и которому Германия "так здорово" пришлась не по вкусу, говорит его биограф, что, обернувшись к ней с альпийских вершин на своем обратном пути в Италию, сей достопочтенный прелат...[19] возгласил: "Aspice nudatas, barbara terre, nates"[20].
9
Дом № 20 в предместье Берси принадлежал когда-то Прево де Бомону, заживо погребенному в одной из каменных могил башни Бертодьер за то, что он выдал тайну Голодного пакта. Совсем рядом - другой таинственный дом, так называемый Двор преступлений. Что это такое, никому не известно. Перед дверью дома парижского прево, где на резных и раскрашенных деревянных щитах были изображены Эней, Сципион, Карл Великий, Эспландиан и Баярд, признанные "цветом рыцарства и верности", судебный пристав, с жезлом в руке, 30 августа 1766 года огласил эдикт, повелевавший дворянам отныне носить шпагу длиной не более 33 дюймов и "с острием в виде козьей ножки". Париж изобиловал предательски длинными и острыми шпагами. Их носили самым прекрасным образом. Отсюда эдикт. Понадобились и другие ограничения; в том самом 1750 году, когда в Бельвю убранство одной комнаты для дофина обошлось в миллион восемьсот тысяч франков, был сокращен, из соображений экономического порядка, хлебный рацион заключенных; изнуренные голодом, они взбунтовались. По ним палили через решетки, и многие из них были убиты, в том числе две женщины в крепости Фор-л'Эвек. Один из членов Французской Академии обладал ужасающей любознательностью; это был Ла Кондамин; он воспевал в галантных стихах Клоризу, подобно Жанти-Бернару, и исследовал океан, подобно Васко де Гама. В промежутках же между четверостишием и бурей он взбирался на эшафот, чтобы получше наблюдать казни. Однажды во время четвертования он стоял на самом помосте. Осужденный, перетянутый железными обручами, смотрел на него блуждающим взором. "Этот господин - любитель",- сказал палач. Таковы были нравы. Происходило это на Гревской площади в тот день, когда Людовик XV убил Дамьена.
10
Стоит ли продолжать? Если было бы позволено цитировать самого себя, то автор этих строк сказал бы здесь: "Я пропускаю многое и не менее интересное". Прибавьте к этому нагромождению страданий непомерные расходы по содержанию Версаля, этого страшного двора, все незаконно взимавшиеся налоги - крайнее средство, к которому прибегали правители семнадцатого века, впоследствии уступившее место биржевому ажиотажу - средству правителей восемнадцатого столетия; и этого безобразного Конти, уродующего щелчками лицо девушки, виновной лишь в том, что она была хороша собой; и этого шевалье де Бульона, оскопляющего некоего простолюдина за то, что последнего звали Лекок[21]; и другого шевалье, одного из Роганов, избивающего палками Вольтера... Что за страшная бездна это прошлое! Зловещий спуск в преисподнюю! Сам Данте не сразу решился бы на него. Вот где подлинные катакомбы Парижа. История не знает более мрачного подземелья. Нет лабиринта ужаснее этого склепа старых деяний, где кроются корни стольких живучих предрассудков, здравствующих еще и поныне. Впрочем, этого прошлого уже нет, но труп его есть; и тот, кто роется в недрах старого Парижа, наталкивается на него. Но слово "труп" говорит слишком мало. Здесь гораздо уместней было бы множественное число. Мертвые заблуждения и бедствия являют собой как бы груду костей. Эти заблуждения и бедствия до краев заполняют собой подземелье, которое называют анналами Парижа. Здесь собраны все предрассудки, все изуверства, все религиозные россказни, все узаконенные вымыслы, все древности, признанные священными: правила, уложения, обычаи, догмы,- и, насколько может проникнуть взор в этот мрак, вы видите зловещий оскал всех этих черепов. Увы! Те злополучные люди, которые нагромождают лихоимства и несправедливости, забывают или же не знают, что всему ведется счет. И деяния тиранов, и тайные королевские приказы об аресте, и священность воли короля, и Венсенский замок, и мрачная темница Тампль, где Жак Моле призывал короля Франции предстать пред божьим судом, и Монфоконская виселица, на которой был повешен ее строитель Ангерран де Мариньи, и Бастилия, куда был заточен Гуго Обрио, ее зодчий, и темницы, напоминающие колодцы, и тюремные камеры, напоминающие свинцовые тюрьмы Венеции, и теснящиеся башни - одни для молитв, другие для заточения, и этот похоронный звон, и гул набата, что несся двенадцать столетий со всех колоколен, и виселицы, и пытки на дыбе, и сладострастие, и нагая Диана в Лувре, и застенки, и торжественные речи коленопреклоненных должностных лиц, и раболепствование перед этикетом, дошедшим в своей утонченности до мучительности пыток, и этот догмат: "все для короля", и все эти нелепости, позор, низости, вырождение мужества, конфискации, преследования, злодеяния,- всему этому тайно велся счет из века в век, и в один прекрасный день оказалось, что весь этот мрак прошлого имеет свой итог - 1789.
III. Главенство Парижа
1
1789. Вот уже скоро столетие, как эта цифра беспокоит мысль человечества. В ней - все явления современности.
Даты, выраженные такой цифрой, требуют расплаты.
Платите же.
И не пытайтесь плутовать с этими властными цифрами. Для тех, кто избегает их, они увеличиваются; и вместо цифры 89 перед должником вдруг вырастает цифра 93.
Для чего мы только что напомнили все эти факты и еще столько других, выхваченных наудачу из этого волнующего вороха воспоминаний? Потому, что они объясняют.
У них есть исток - деспотизм, у них есть устье - демократия.
Без них и без их итога - Восемьдесят девятого года главенство Парижа остается загадкой. В самом деле, подумайте. У Рима больше величия, у Трира больше старины, у Венеции больше красоты, у Неаполя больше прелести, у Лондона больше богатства. Что же есть у Парижа? Революция.
Париж - это город-ось, вокруг которой в один прекрасный день повернулась история.
У Палермо - Этна, у Парижа - мысль. Константинополь ближе к солнцу, Париж ближе к цивилизации. В Афинах воздвигли Парфенон, а в Париже разрушили Бастилию.
Жорж Санд где-то великолепно говорит о жизни тех, кто жил до нас. У городов, так же как и у людей, есть свое прошлое бытие, в котором как бы постепенно раскрывается предназначенная им судьба. Париж друидов, Париж римлян, Париж Каролингов, Париж феодальный, Париж монархический, Париж просветителей, Париж революционный,- как длительно восхождение из мрака, но как ослепителен свет!
"После нас хоть потоп!" - изрекает последний из султанов; и в самом деле, при Людовике XV уже ясно чувствуется, что наступает некий предел,- столь ужасающе ничтожно все вокруг. Историю конца восемнадцатого века можно изучать только с помощью микроскопа. Мы видим, как копошатся какие-то карлики, и только: д'Эгюйон, маршал Ришелье, Морепа, Калонн, Верженн, Бриенн, Монморен; и вдруг то, что можно было бы назвать задней стенкой, внезапно раздвигается и появляются неведомые гиганты: и вот перед нами Мирабо, человек-молния, и вот Дантон, человек-гром, и события становятся достойными бога.
Кажется, будто здесь и начинается история Франции.
2
Известно, что такое центр парусности судна; это то место пересечения, загадочное даже для самого кораблестроителя, та точка, где слагаются силы, действующие на паруса. Париж - центр парусности цивилизации. Силы, рассеянные по всему миру, сходятся в этой единственной точке; именно на нее устремляется вся сила ветра. Разобщенные в бесконечности поиски одиночек соединяются здесь и образуют свою равнодействующую. Эта равнодействующая рождает мощный порыв, который толкает то к бездне, то к неведомым созвездьям. И человечество тянется на буксире. Внимать в раздумье этому глухому шуму всеобщего движения вперед, этому ропоту стремительно несущихся бурь, этому шуму снастей, этим стенаниям страждущих душ, следить за этими надутыми ветром парусами, за этими усилиями борющихся со стихией людей, за бегом корабля, вышедшего на правильный путь,какой экстаз сравнится с подобной мечтой. Париж - это то место земного шара, где слышнее всего, как трепещут незримые и необъятные паруса прогресса.
Париж трудится для великого всемирного содружества.
Отсюда всеобщее и повсеместное признание Парижа людьми всех рас, в любом поселении, во всех лабораториях мысли, науки и промышленности, во всех столицах, во всех захолустьях.
Париж помогает массам познать самих себя. Эти массы, которые Цицерон называет plebs[22], Виссарион - canaglia[23], Уолпол - mob[24], де Местр - чернью и которые являются не чем иным, как сырьем нации,- в Париже ощущают себя Народом. Они одновременно и туман и свет. Это туманность, которая, конденсируясь, станет звездой.
Париж - это конденсатор.
3
Хотите отдать себе отчет в том, что же такое этот город? Сделайте тогда странную вещь. Заставьте Францию вступить в борьбу с ее столицей. И тут же возникает вопрос: кто же дочь? кто мать? Сомнение, полное пафоса. Мыслитель попадает в тупик.
Оба этих колосса в своем споре доходят до драки. Кто же из них виноват в этом бесчинстве?
Было ли когда-нибудь видано подобное? Да. И это почти нормально. Париж идет вперед один, а за ним, против собственной воли и возмущаясь, следует Франция; в дальнейшем она успокаивается и рукоплещет; это одна из форм нашей национальной жизни. Проезжает дилижанс с флагом; он едет из Парижа. Но флаг уже не флаг, а пламя, и, словно порох, вспыхивает тянущаяся за ним вереница людей.
Всегда изъявлять свою волю - таков удел Парижа. Вам кажется, что он спит. Нет, его воля бодрствует. Вот о чем не всегда подозревают преходящие правительства. Париж всегда что-нибудь замышляет, У него терпение солнца, исподволь лелеющего плод. Облака проплывают над ним, а он остается прежним. В один прекрасный день все свершено. Париж приказывает событиям совершиться. И Франция вынуждена повиноваться.
Вот почему в Париже нет муниципального совета. Эти трепетные токи от Парижа-центра к Франции-периферии и обратно, эта борьба, подобная колебанию тяготений, эта смена отпора и согласия, эти вспышки гнева нации против города и вслед за тем примирения - все это точно показывает, что Париж, этот мозг, есть нечто большее, чем мозг народа. Движется вся Франция, толчок исходит из Парижа. В день, когда история, ставшая ныне столь лучезарной, оценит по достоинству это исключительное обстоятельство, все ясно увидят, как свершаются мировые потрясения, первые шаги прогресса, уловки, которыми реакция прикрывает свою косность, и каким образом человечество раскалывается на авангард и арьергард так, что первый уже принадлежит Вашингтону, а второй все еще Цезарю.
Посмотрите через лупу революции на эту вековую и плодотворную борьбу нации и города, и вот что вам даст это увеличение: с одной стороны - Конвент, с другой - Коммуна. Поединок титанов.
Не будем страшиться слов. Конвент воплощает явление устойчивое: Народ, а Коммуна - явление преходящее: Чернь. Но здесь у черни, этой исполинской силы, есть права. Она - Нищета, н ей от роду пятнадцать веков. Достойная эвменида. Царственная фурия. На голове у этой медузы змеи, но у нее седые волосы.
У Коммуны - права, а Конвент прав. В этом и есть величие. С одной стороны - Чернь, но преображенная; с другой - Народ, но в новом облике. И у этих двух враждующих начал одна любовь - человечество; столкнувшись, они порождают равнодействующую - Братство. Таково богатство, расточаемое, нашей революцией.
У революций потребность в свободе - это их цель, и потребность во власти это их средство. Но когда схватка началась, власть может стать диктатурой, а свобода - анархией. Отсюда возникают с мрачной неизбежностью перемежающиеся припадки деспотизма: припадки диктаторства, припадки анархии. Удивительное качание маятника.
Порицайте, если хотите, но вы порицаете стихию. Перед вами - законы статики, а вы сердитесь на них. Сила обстоятельств определяется суммой А + В, и колебания маятника не слишком-то считаются с вашим неудовольствием.
Этот двойной припадок деспотизма - деспотизм народного собрания и деспотизм толпы; это неслыханное сражение между эмпирическим образом действия и результатом, данным лишь как бы в наброске; этот непередаваемый антагонизм цели и средства с необыкновенным величием воплощен в Конвенте и в Коммуне. Они делают зримой философию истории.
Французский Конвент и Коммуна Парижа - слагаемые резолюции. Это две величины, две цифры. Это то А + В, о котором мы только что говорили. Цифры не опровергают одна другую, они умножаются. В химии то, что борется, соединяется. То же и в революции.
Здесь грядущее как бы раздваивается, мы видим у него два лика: в Конвенте больше от цивилизации, а в Коммуне больше от революции. Насильственные меры, которые Коммуна применяет по отношению к Конвенту, подобны благотворным мукам деторождения.
Новое человечество - это что-нибудь да значит. Так не будем же спорить о том, кому мы этим обязаны.
Перед лицом истории Революция - это заря, занявшаяся в свой час: Конвент одна из форм необходимости, а Коммуна - другая; два черных величественных силуэта вырисовываются на горизонте; и в этих вызывающих головокружение сумерках, где за пеленой мрака таится столько света, не знаешь, на ком из двух колоссов остановить взгляд.
Один из них - Левиафан, другой - Бегемот.
4
Бесспорно, что французская революция - это начало. Nescio quid majus nascitur "Iliade"[25].
Вдумайтесь в это слово. "Рождение". Оно соответствует слову "Освобождение". Сказать: мать освободилась от бремени - это все равно, что сказать: ребенок родился. Сказать: Франция свободна - все равно, что сказать: человеческая душа достигла зрелости. Подлинное рождение - это возмужалость. Четырнадцатого июля 1789 года час возмужалости пробил.
Кто совершил 14 июля?
Париж. Огромная государственная тюрьма в Париже была символом всеобщего рабства.
Всегда держать Париж как бы в оковах - такова во все времена была задняя мысль монархов. Стеснять того, кто нас стесняет,- такова политика. В центре Бастилия, по окраинам - крепостные валы; что ж, так царствовать можно. Обнести стенами Париж было идеалом. Незыблемый покой за стенами; Парижу пытались навязать монашеский образ жизни. Отсюда - тысяча предосторожностей против роста этого города и множество крепостных стен с башнями и запертыми воротами. Сперва римские валы с прильнувшим к ним близ Сен-Мерри домом аббата Сугерия, потом стена Людовика VII, потом стена Филиппа-Августа, потом стена короля Иоанна, потом стена Карла V, потом таможенная стена 1786 года, потом эскарп и контрэскарп наших дней. Монархия только тем и занималась, что воздвигала вокруг города стены, а философия - тем, что их разрушала. Каким образом? Просто-напросто излучением мысли. Нет силы могущественнее. Луч сильнее любой стены.
Обнести Париж стеной - выход из положения; умалить значение Парижа было бы другим выходом. Те, кому он страшен, подумали об этом. Почему бы немного не обескровить этот чудовищный и чудесный город? И пытались. Генеральные штаты охотно созывали в Блуа; Бурж провозглашался столицей; время от времени короли отсылали парламент в Понтуаз; Версаль служил отдушиной. Уже в наши дни предлагали перевести Политехническую школу в Орлеан, медицинский факультет - в Тур, юридический - в Руан, сюда - Академию, туда - кассационный суд и т. д. Таким путем думали расколоть Париж; но расколоть брильянт - это то же, что разбить его на мелкие кусочки. Вместо одного большого Парижа получалось двадцать маленьких. Чудесный способ обратить тридцать миллионов в тридцать тысяч франков. Спросите ювелира, что он думает о том, чтобы раздробить брильянт "Регент".
Одно роковое, если хотите - жестокое, событие расстроило все эти замыслы.
Хотя всякое сопоставление фактов материальной жизни с фактами духовной жизни может быть лишь приблизительным, все же можно считать, что в известных случаях материальный рост является мерилом роста духовного. Первоначально весь Париж помещается на острове Богоматери; затем птенец пробивает клювом скорлупу: он перебрасывает мост; потом, при Филиппе-Августе, он занимает площадь в семьсот арпанов и приводит в восторг Вильгельма Бретонца; позднее, при Людовике XI, его окружность составляет три четверти лье, и он вызывает восхищение Филиппа де Комина; в семнадцатом веке он уже насчитывал четыреста тринадцать улиц и своим видом ослепил Фелибьена. В восемнадцатом веке он совершил революцию и ударил в набат: тогда в нем было шестьсот шестьдесят тысяч жителей. Сейчас их у него - миллион восемьсот тысяч. Это более мощная рука, которая может раскачивать еще более мощный колокол.
Набат наших дней - это набат мира, это широкий, радостный звон труда, призывающий нации показать все лучшее, что ими создано.
5
В грядущем всегда есть доля современности; в наших детях всегда есть нечто от нас самих. Цивилизация проходит через различные фазы, всегда испытывая влияние фазы предыдущей. В наши дни во все, что есть, и во все, что будет, входит частица Французской революции. И нет ни одного события в жизни человечества, которое так или иначе не испытало бы этого влияния. Словно что-то давит на вас сверху, и кажется, будто грядущее спешит и ускоряет шаг. Неизбежность - это всегда спешка; европейский союз как предвестье союза общечеловеческого - такова великая неизбежность современности; угроза, которая не пугает. Правда, видя, как формируются повсюду ландверы, можно подумать, будто готовится нечто совсем противоположное; но это противоположное рассеется как дым. Для того, кто наблюдает с вершины, в тучах, застилающих горизонт, больше лучей, чем гроз. Все важнейшие явления нашего времени - явления мирные. Пресса, пар, электрический телеграф, метрическая система мер, свободный обмен - все это не что иное, как своеобразный катализатор великого процесса растворения наций в человечестве. Казалось бы, все железные дороги бегут в самых разнообразных направлениях - Петербург, Мадрид, Неаполь, Берлин, Вена, Лондон,- но все они ведут в одно место: Мир. И в день, когда поднимется в небо первый воздушный корабль, будет похоронена последняя тирания.
Слово "Братство", брошенное в глубины человечества сперва с высоты Голгофы, а затем с высот Восемьдесят девятого года, прозвучало не втуне. Чего хочет Революция, того хочет Бог. Когда человеческая душа достигает совершеннолетия, проясняется человеческая совесть. Эта совесть негодует против того самоуправства, что именуется войной. Особенно против захватнических войн, тех, что содержат откровенное признание в собственной алчности и разбое; они осуждаются всем честным человечеством. Совершенно очевидно, что вновь пустить в ход военные доспехи более невозможно; арсеналы пусты, мертвы великаны прежних дней. Цезаризм, милитаризм - для подобных древностей существуют музеи. Аббат де Сен-Пьер, слывший в свое время безумцем, ныне признан мудрецом. Что до нас, то мы совершенно согласны с ним и без особого труда представляем себе, что люди в конце концов должны будут возлюбить друг друга. Жить в мире - разве это так уж бессмысленно? Нам кажется, что вполне можно вообразить себе такое время, когда при словах: "чистота", "быстрота", "точность", "безотказная служба" - отнюдь не будут думать о пушке, заряжающейся через казенную часть, и когда игольчатое ружье перестанет считаться образцом всех добродетелей.
6
Итак, некоторое вторжение настоящего в будущее необходимо; мы настаиваем на этом. В том, что существует, всегда содержится неясный набросок того, что будет; его дает нам Париж. Для того чтобы набросок этот стал ярче, чтобы осветить его с обеих сторон, мы и показали прошедшее в сопоставлении с будущим. Плод радует глаз, но переверните дерево и обнажите его корни. Исторический очерк, который мы только что бегло набросали, можно варьировать и переделывать, но от этого не изменится ни смысл, ни результат. Перемена положения не меняет самое тело.
Обратитесь к архивам,- но только не к архивам империи, ибо понятие архивы империи относится лишь к двум периодам: с 1804 по 1814 год и с 1852 по 1867 год, и вне этих дат оно не имеет никакого смысла,- обратитесь к архивам Франции и переройте их до основания; и каков бы ни был метод раскопок, лишь бы они производились добросовестно, перед вами всегда предстанет та же неподкупная история.
Принимайте эту историю такой, какова она есть, ужаснитесь ей в той мере, в какой она того заслуживает, но при условии, что в конце концов вы ею станете восхищаться. В ней первое слово - Король, последнее - Народ. Восхищение как окончательный вывод - именно это и характерно для мыслителя. Он взвешивает, изучает, сравнивает; он проникает в самую глубину, он судит; потом - если он сторонник относительного, он придет в восхищение, если сторонник абсолютного станет преклоняться. Почему? Потому, что в относительном он увидит прогресс; потому, что в абсолютном он увидит идеал. Перед лицом прогресса - закона, управляющего событиями, и идеала - закона, управляющего умами, философ испытывает благоговение. Только глупцы свистят, когда представление окончено.
Преклонимся же перед народами-искателями и будем любить их. Они подобны Эмпедоклам, после которых остается одна сандалия, и Христофорам Колумбам, после которых остается целый мир. На свой страх и риск совершают они во тьме свой великий труд. Руки их часто в грязи: им приходится разгребать наощупь. Попрекнете ли вы их за их рваное рабочее платье? О, черная неблагодарность невежд!
В истории человечества искателем является иногда человек, иногда нация. В том случае, когда это нация, работа длится не часы, а столетия; удары ее заступа непрерывно бьют по извечной преграде. Это вторжение в глубины и есть жизненно необходимое, ни на минуту не прекращающееся дело человечества. Искатели, и люди и народы, спускаются в эти глубины, погружаются в них, вязнут, подчас исчезают навсегда. Их влечет к себе какой-то брезжущий свет. Страшная пропасть может поглотить их, но на дне ее виднеется божественная и нагая Истина.
Париж не погиб в этой пропасти.
Напротив.
Он вышел из недр Девяносто третьего года, неся на челе своем огненный знак грядущего.
7
Начиная с исторических времен на земле всегда существовало то, что называют городом. Urbs[26] как бы подводит итог orbis[27]. Необходимо место, выполняющее функцию мозга.
Необходим мыслящий центр, орган воли, свободы и инициативы, центр, действующий, когда человечество бодрствует, и мечтающий, когда человечество спит.
Вселенная без города - это словно тело без головы. Нельзя представить себе безглавую цивилизацию.
Необходим город, гражданами которого были бы все.
Человечеству нужен всеобщий ориентир.
Будем же придерживаться только того, что совершенно ясно, и не станем углубляться во мрак веков на поиски таинственных городов - Гура в Азии и Паленке в Америке: три города, четко вырисовывающиеся в свете истории, являются такими органами человеческой мысли - Иерусалим, Афины, Рим. Три города, где бьется пульс истории.
Идеал - это три луча: Истинное, Прекрасное, Великое. От каждого из этих трех городов исходит один из этих лучей. Вместе они и есть свет.
Иерусалим излучает Истинное. Там великим страдальцем были произнесены великие слова: Свобода, Равенство, Братство. Афины излучают Прекрасное, Рим Великое.
Эти три города - ступени человеческого восхождения. Они сделали свое дело В наши дни от Иерусалима осталось только место казни - Голгофа; от Афин разваляны, Парфенон; от Рима - призрак, Римская империя.
Умерли ли эти города? Нет. Разбитое яйцо означает не смерть яйца, а жизнь птицы. Над своей разбитой скорлупой - Римом, Афинами, Иерусалимом - парит освобожденная Идея. Над Римом - Могущество, над Афинами - Искусство, над Иерусалимом - Свобода. Великое, Прекрасное, Истинное!
К тому же эти города не умерли: они живут в жизни Парижа. Париж - есть их сумма. Он их поглотил в себе. Одной из своих сторон он воскрешает Рим, другой - Афины, третьей - Иерусалим. Из крика того, кто был распят на Голгофе, он извлек Декларацию прав человека.
Этот логарифм трех цивилизаций, выраженных единой формулой, это проникновение Афин в Рим и Иерусалима в Афины, эта возвышенная тератология прогресса, стремящегося к идеалу, порождает чудовище и создает шедевр: Париж.
Было свое распятие и в этом городе. Здесь восемнадцать веков, перед лицом великого распятого, перед лицом Бога, являющегося для нас Человеком, истекал кровью - и мы только что сосчитали капли этой крови - другой великий распятый: Народ.
Париж, очаг революционных откровений, это - Иерусалим человечества.
IV. Назначение Парижа
1
Назначение Парижа - распространение идей. Бросать миру истины неисчерпаемой пригоршней - в этом его долг, и он выполняет его. Выполнять свой долг - великое право.
Париж - сеятель. Где он сеет? Во мраке. Что он сеет? Искры. Все, что вспыхивает то здесь, то там и искрится в рассеянных по земле умах,- это дело Парижа. Прекрасен пожар прогресса,- его раздувает Париж. Ни на минуту не прекращается эта работа. Париж подбрасывает горючее: суеверия, фанатизм, ненависть, глупость, предрассудки. Весь этот мрак вспыхивает пламенем, оно взмывает вверх и благодаря Парижу, разжигающему величественный костер, становится светом, озаряющим умы. Вот уже три века победно шествует Париж в сияющем расцвете разума, распространяя цивилизацию во все концы мира и расточая людям свободную мысль; в шестнадцатом веке он делает это устами Рабле,- что нам до тонзуры! - в семнадцатом веке - устами Мольера,- что нам до переодевания и маски! - в восемнадцатом веке - устами Вольтера,- что нам до изгнания!
Рабле, Мольер и Вольтер, эта троица разума, да простят нам подобное сравнение, Рабле - Отец, Мольер - Сын, Вольтер - Дух Святой, этот тройной взрыв смеха, галльского - в шестнадцатом веке, человеческого - в семнадцатом, всемирного - в восемнадцатом,- это и есть Париж.
Впрочем, прибавьте сюда и Дантона.
Париж выполняет роль нервного центра земли. Если он содрогнется, вздрагивают все.
Он отвечает за все, и в то же время он беззаботен. И этим своим недостатком он как бы усложняет собственное величие.
Он слишком часто довольствуется чувством радостной веселости: в глазах историка это веселость афинян, в глазах поэта - олимпийцев.
Часто такая веселость бывает ошибкой. Иногда это и сила.
Она приходит на помощь разуму.
Нам, философам, нельзя не принять к сведению, что сейчас, когда прячущаяся в кулисах война готова снова выйти на сцену, Париж высмеивает войну. Грубый голос войны вызывает у него смех. Прекрасное начало. То - смех предместий, но ведь предместья Парижа - это и есть Париж. Теперь, когда капральский дух перестал быть французской доблестью и стал доблестью тевтонской, Париж ничего не имеет против того, чтобы посмеяться над ним. Это здоровый смех. Мы увидим, к чему он приведет. В "Крохах истории", живой и сильной книге, можно прочитать следующее: "Однажды Генрих VIII разлюбил свою жену; отсюда - новая религия". Точно так же можно будет сказать когда-нибудь: "Однажды Париж разлюбил солдата; отсюда - исцеление".
Дух военщины - это абсолютизм. Это Нарваэц. Это Бисмарк. Деспотизм парадокс. Неограниченная власть монарха-полководца оскорбляет хороший вкус.
"Освистать это!"- говорит Париж. И вынимает из кармана ключ. Ключ Бастилии.
2
Париж в свое время окунули в здравый смысл, тот Стикс, через который не могут переправиться тени прошлого. Поэтому Париж и неуязвим.
Как и всякая толпа, он увлекается. Но потом, перед самым апофеозом, среди звуков благодарственных молитв, кантат и фанфар, на него вдруг нападает смех.
И это грозит испортить апофеоз.
Прусский король велик. На монетах у него лавровый венок, на голове - тоже. Это почти Цезарь. Еще немного - и он станет императором Германии. А Париж возьмет и усмехнется. Это ужасно.
Что тут поделаешь?
Нет спору, мундиры прусского короля прекрасны; но вам не заставить Париж любоваться галунами иностранца.
Мало ли есть вещей, которые могли бы быть или хотели бы осуществиться; но смех Парижа препятствует этому.
Устои прошлых дней, укрытые за зубчатыми стенами и вооруженные,- право престолонаследия, божья милость, вековые привилегии и т. п. - пали перед этой "гримасой смеха", как называет ее Жозеф де Местр.
Тирания - Иерихон, чьи башни рушатся от звуков этого смеха.
Земные владыки, на которых обрушивала свои проклятья черная месса, низвергались какой-нибудь песенкой, распеваемой в предместье. Отлучение от церкви было способом уничтожить человека, высмеять его в уличных куплетах другой, не менее страшный способ.
Веселость Парижа действенна, ибо, исходя из самого сердца народа, она уходят корнями в трагические глубины.
Отныне, как уже было сказано, urbi et orbi[28] относится к Парижу. Таинственное перемещение духовной власти.
На смену балкону Квиринала приходит тот ящик с отделениями, который называется типографской кассой. Из этих ячеек вылетают пчелы, двадцать пять крылатых букв алфавита. Приведем одну лишь деталь: только за 1864 год Франция экспортировала книг на восемнадцать миллионов двести тридцать тысяч франков. Семь восьмых этих книг издает Париж.
Ключи апостола Петра - обескураживающий намек на то, что двери рая чаще заперты, чем открыты,- заменены неумолчным призывом к добру, который обращают к народам великие души, и если у собора святого Петра в Риме более грандиозный купол, то Пантеон воплощает более возвышенную мысль. Пантеон, где покоятся великие люди и творившие добро герои, возносит над городом свое сияние, лучистое сияние усыпальницы-звезды.
Дополняет Париж и венчает его то, что это город литературы.
Очаг разума не может не быть и очагом искусства. Париж излучает свет в двух направлениях: с одной стороны на реальную жизнь, с другой - на жизнь идеальную. Почему этот город влюблен в прекрасное? Потому, что он влюблен в истинное. И вот здесь-то появляется во всей своей несостоятельности то детски наивное разделение на форму и содержание, которое в течение тридцати лет питало собой ложную школу критики. В совершенном искусстве содержание и форма, мысль и образ тождественны. Истина - это белый свет; преломляясь сквозь удивительную среду, имя которой - поэт, она, продолжая быть светом, становится цветом. Сила гения в том, что он - подобие призмы. Истина, продолжая быть реальностью, превращается в воображение. Высокая поэзия - это солнечный спектр человеческого разума.
3
Париж - это не обычный город, это некое правительство. "...Кто б ни был ты, вот твой хозяин..." Ручаюсь, вы не станете носить другой шляпы, кроме парижской. Бант той женщины, что проходит мимо вас, повелевает. То, как этот бант завязан,- закон для всех стран. Мальчишка с Блэкфрайерса подражает парижскому гамену с улицы Гренета. По сей день идеалом мадридской манолы остается парижская гризетка. Кайе, белый, человек побывавший в Тимбукту, уверяет, что он видел на хижине одного негра в Багамедри надпись: "По парижскому образцу". У Парижа бывают свои капризы, своя безвкусица, свои обманы зрения; однажды он поставил Лафона выше Тальма, а Веллингтона выше Наполеона. И когда он заблуждается - тем хуже для здравого смысла во всем мире. Компас сошел с ума. Несколько мгновений прогресс пробирается ощупью.
Власть, идущая в одном направлении, общественное мнение - в другом; невежественное правительство - над просвещенным народом; это встречается, и даже в Париже. Париж относится к этому как к дождю: назавтра он сушится на солнце.
В Париже находится кузница славы. Париж - отправная точка успеха. Кто не танцевал, не пел, не проповедовал и не говорил перед Парижем, тот не танцевал, не пел, не проповедовал и не говорил вообще; Париж дает пальму первенства, и он же придирчиво оспаривает ее. Этот город, раздающий славу, подчас бывает скуп. Его суду подлежат таланты, умы, гении, но Париж зачастую и подолгу не признает самых великих и упорствует в этом. Кто ждал признания дольше, чем Мольер?[29] Но, заметим кстати, пусть художник и поэт не слишком жаждут признания. Быть предметом жарких споров - это значит проходить через испытание. Полезно, чтобы споры о вас закончились еще при вашей жизни. Иначе непризнанье, которое минует вас, пока вы живы, вы изведаете позднее. Со смертью значение тех, кто не вызывал никаких споров, убывает, а значение тех, кого оспаривали, возрастает. Потомки всегда хотят сами пересмотреть все то, что было прославлено.
Париж - будем на этом настаивать - это своего рода правительство. У правительства этого нет ни судей, ни жандармов, ни солдат, ни послов; но оно всепроникающе, то есть всемогуще. Капля за каплей падает оно на человечество и долбит его. Париж существует и царит вне всего того, что официально признано; он - сверху и снизу авторитетов, он над ними и под ними. Его книги, газеты, театр, его промышленность, его искусство, наука, философия, его косность, являющаяся частью его науки, его моды, являющиеся частью его философии, его хорошие и дурные стороны, его добро и зло - все это будоражит народы и ведет их за собой. Вам легче остановить нашествие саранчи, чем нашествие мод, нравов, изящества, иронии, увлечений. Все это проникает повсюду и действует неотразимо. Все эти вещи, а это и есть Париж, подобны невидимым глазу грызунам. Они скрыто действуют во всех социальных и политических сооружениях, столь еще устойчивых и крепких на вид, подтачивают и подрывают их, щадя только фасад, остающийся неприкосновенным. Это брожение парижских идей, этот ужасающий dry-rot[30] как бы выедает сердцевину у этого здания - признанных авторитетов - и вкладывает туда нечто неведомое, позволяя ему простоять до того дня, когда оно рассыплется в прах. Эта тайная работа Парижа происходит даже в странах иерархических, как Великобритания, или в деспотических странах, как Россия. Реформа в Англии - результат нашего всеобщего голосования. И это хорошо. Настоящее, каким бы прочным оно ни казалось и каким бы высокомерным оно ни выглядело, поражено неизлечимым недугом - грядущим. Пробуждаясь, каждое утро человечество бежит смотреть на противоположную стену домов. Париж вывешивает здесь объявление об очередном зрелище, в ожидании того дня, когда он объявит о революции. Что мы увидим сегодня? Скриба. А завтра? Лафайета.
Когда Париж недоволен, он надевает маску. Какую маску? Маску для бал-маскарада. В часы, когда другие надели бы траур, он ставит в тупик наблюдателя. Вместо савана он надевает домино. Песни, бубенчики, маскарады, все жеманство вырождения, бесконечные увеселительные огни, причудливая музыка, упадок, преподнесенный так, что его и не узнать, цветы повсюду. Веселое превращение. Об этом стоит поразмыслить.
4
Некий ныне покойный генеральный прокурор, человек весьма благонамеренный, ужасно рассердился на Париж. Свое недовольство парижанами он излил в памфлетах против парижанок. Обвинительные заключения этого сановника, который, кажется, был членом Академии, простирались даже на дамские туалеты. Смерть застигла его преждевременно, ибо сей суровый официальный обвинитель, закончив свои злобные выпады против излишней ширины юбок, вероятно перешел бы ко второму вопросу излишней растяжимости совести; и, исчерпав свой порыв благородного негодования против избытка драгоценностей на женщине, он стал бы нам говорить о впечатлении, которое на него производит избыток присяг, приносимых мужчиной.
Не всякому дано быть Катоном.
Есть и другие старики; вот уже лет пятнадцать-шестнадцать как, по тем или иным причинам, они живут в уединенье, далеко от Парижа, и не видят никаких других нарядов, кроме утреннего наряда зари, встающей из-за моря; они более снисходительны. Они любят города, где всегда таится внезапное. Впрочем, в городах, где есть что-то от женщины, есть что-то и от героя. Излишества в нарядах имеют в сущности тот же источник, что и излишества храбрости. Берегитесь: возможно, эта томность только выжидает своего часа. Ведь известны случаи, когда люди изнеженные вдруг становились мужественными. Был город более доблестный, чем Спарта; то был Сибарис. Представьте себе на миг, что надо защищать свою родину, что на границе раздается барабанная дробь, и вы увидите. Был ли когда-нибудь более безумный день, чем восемнадцатый век? Но наступает вечер, и вот перед нами Конвент, звучат слова: "Отечество в опасности", первый встречный вырастает в гиганта, Руже де Лиль слагает песнь, ее претворяет в жизнь Бара, перед нами Франция четырнадцати армий. А теперь можете считать недостатки и произносить свои обвинительные речи против Парижа. Грозите ему кулаком. Почему бы и не погрозить? Ведь воскликнул же Бурхаав, изучавший лихорадку: "Как много дурного можно сказать про солнце!"
В трех словах и предельно четко: Париж не отступает.
Впрочем, он бывает непоследовательным, порой преступно непоследовательным. Так, он волновался из-за Польши, но не волнуется из-за Ирландии; он волновался из-за Италии, но не волнуется из-за Румынии, хотя это та же Италия, он волновался из-за Греции, но не волнуется из-за Крита, хотя это та же Греция. Сорок лет тому назад его взволновал Псара; сегодня Аркадион оставляет его равнодушным. А между тем - это одно и то же правое дело, тот же героизм; но время не то. И у Парижа - увы! - бывают часы, когда его клонит ко сну: Quandoque bonus dormitat[31]. Иногда у этого гиганта нет другого занятия, как забытье сна.
Ее надо любить, ее надо жалеть, ей надо все прощать, этой столице, легкомысленной, суетной, поющей, пляшущей, размалеванной, убранной цветами, опасной, столице, которая, как мы уже говорили, дарует власть тому, кто ею владеет, за которую император Максимилиан, предок Карла V, отдал бы всю свою империю, а жирондисты заплатили бы своей кровью и которая досталась Генриху IV ценой обедни. Ее завтрашний день всегда хорош. Безумие Парижа, перебродив, оказывается мудростью.
5
Но, скажут нам, а новейший Париж, Париж последних пятнадцати лет, этот ночной гул, эти маскарады и вакханалии, Париж, говоря о котором часто применяют слово "упадок",- что вы думаете о нем? - Что мы о нем думаем? Мы не верим, что он существует. Да и есть ли такой Париж вообще? А если он и есть, то относится к истинному Парижу, Парижу прошлого и будущего, как лист к дереву. И даже меньше того. Как опухоль к организму. Разве вы станете судить о дубе по растущей на нем омеле? Разве вы станете судить о Цицероне по его бородавке?
Последние ночные тени ничего не значат перед величием занимающейся зари. Мы отрицаем упадок, но не отрицаем реакцию. Реакция напоминает упадок; и все же не надо их смешивать: упадок неизлечим, а реакция - явление временное. Мы не отрицаем того, что в наши дни свирепствует реакция. Мы охотно признаем, что реакция существует,- пусть даже неистовая, а следовательно, и бессильная; это она выступает почти повсюду против всего революционного и демократического, против движения умов, порожденного Восемьдесят девятым годом, против всех идей, за которыми - жизнь и будущее. Эта реакция, так бесстрашно разоблаченная гордым и сильным красноречием Эжена Пелльтана, искрящимся философским весельем Пьера Верона, проникновенной и глубокой иронией Анри Рошфора, Огюстом Вилльмо, Мишле, Луи Ульбахом и благородным негодованием почти всех демократически настроенных писателей, пытается плыть наперекор всем течениям революции, течению литературному, как и течению политическому, течению философскому, как и течению общественному, течению идей, как и течению фактов; она понимает прогресс навыворот и хочет повернуть вспять движение нынешнего века. Нас это мало беспокоит. Эта плесень умов поверхностна; основа общественной мысли не задета; и как бы ни были велики усилия реакции, общее направление эпохи от того отнюдь не меняется. Больна лишь минута, но не век.
Все, что есть реакционного, хотело бы повернуть к прошлому, к политическому прошлому абсолютизма, к прошлому монархической литературы, к восстановлению божественного права как принципа и классического вкуса как догмы. Напрасный труд, Это попятное течение, созданное искусственной запрудой, с ней и исчезнет. Эта реакция, вызывающая насмешку у мыслителей, продлится ровно столько, сколько длится любая реакция: пока для нее не наступит час отлива. А ведь обратное движение столь же вечно, столь же абсолютно и неизбежно для принципов, как и отлив для океанов. Не будем на этом останавливаться. Ни слова об империи упадка.
В своей основе наш век честен и велик. Мы заявляем: после французской революции никакая язва не может быть опасной для народа. Благодаря повсюду проникающему влиянию Франции, благодаря нашему общественному идеалу, покорившему ныне все умы от полюса и до полюса,- благодаря этой чудодейственной вакцине,- Америка излечивается от рабства, Россия от крепостного права, Рим от фанатизма, верования от бессмыслицы, законы от варварства. Самое великое в революции - это то, что в любой вещи она убивает ее болезнетворное начало. Смотрите. Сумейте установить если и не преобладающее явление, то хотя бы основную тенденцию. Это - воспитание без гнета, обучение без педантства, порядок без деспотизма, исправление без судебного преследования, "я" без эгоизма, конкуренция без борьбы, свобода без одиночества, человек без зверства, истина без кривотолков. Бог без библии. Что есть французская революция? Повсеместное оздоровление. Была чума - прошлое. Пламя истребило заразу.
6
Порочить Париж, хулить его, высмеивать, презирать - не так уж трудно. Ничего нет проще, как свысока говорить о колоссах. В этом даже есть что-то детское. Для такой цели существуют готовые фразы. Остерегайтесь избитых приемов, а то получится совсем как в школьном обучении: живых поэтов сравнивают с Клавдианом, Луканом и Стацием. Это не ново. Чекки говорил, что Данте - не более как Стаций; для Скюдери Корнель был не более как Клавдианом; для Грина Шекспир - это не более как Лукан и Гонгора. Плохо приходится Данте, Корнелю и Шекспиру! Такие приемы критики, вошедшие в учебники риторики, стары; но что до того? Ими пользуются и поныне. Так и Париж не более как Гоморра. Содом - это вариант Жозефа де Местра.
Париж вызывает ненависть, значит любовь к нему является долгом. За что его ненавидят? За то, что он очаг, жизнь, труд, созревание, превращение, горнило, возрождение. За то, что Париж - великолепная противоположность всему тому, что царит ныне: суевериям, застою, скепсису, темноте, движению вспять, ханжеству, лжи. В эпоху, когда силлабусы предписывают неподвижность, необходимо помочь роду человеческому и доказать, что движение существует. Париж это доказывает. Каким образом? Тем, что он - Париж.
Быть Парижем - значит двигаться вперед. Сегодня, когда реакция ополчается против всего прогрессивного, обличаемого и властью папских посланий, и божественным правом, и "хорошим вкусом", и сакраментальным magister dixit[32], и рутиной, и традицией, и т. д.; когда все прошлое - фанатизм, схоластика, неоспоримые авторитеты - открыто восстает против могучего девятнадцатого века, сына революции и отца свободы,- именно сегодня полезно, необходимо, справедливо воздать должное Парижу. Признать Париж - значит подтвердить, вопреки всем очевидностям, принимаемым на веру чернью, что всеобщее движение к свободе неудержимо продолжается. Сейчас вся темная клика старых предрассудков и старых режимов торжествует победу и считает, что Париж в беде, подобно тому как дикари во время затмения думают, что солнце в опасности.
Утверждение Парижа и есть цель настоящей книги. Это утверждение - здесь, на страницах, которые вы читаете в эту минуту. Утверждение демократии, утверждение мира, утверждение века. Однако нужны и кое-какие оговорки. Утверждение существует лишь при условии, что оно одновременно является и отрицанием. Стало быть, эти страницы должны что-то отрицать. Это да, говорящее нет.
Впрочем, набросав эти листки, мы налагаем на эту книгу не больше обязательств, чем она налагает их на нас. И если есть в ней что-нибудь незначительное, так это мы сами. Здание, воздвигнутое легионом ослепительных умов,- вот что такое эта книга. Если к плеяде имен, объединенных тут, прибавить и другие блистательные имена, отсутствующие по разным причинам, книга стала бы самим Парижем. Что до нас, то, как тому и следует быть, мы только на пороге. Нет нас в городе, нет нас и в книге. Мы за их пределами. Книга существует вне нас, а мы вне ее. Смиренное и суровое одиночество... Мы принимаем его.
V. Провозглашение мира
1
"Добро пожаловать!" - скажем мы Европе. Пусть она войдет сюда как в родной свой дом. Пусть вступит во владение тем Парижем, который принадлежит ей и которому принадлежит она. Пусть ничто не стесняет ее, пусть дышит она полной грудью в этом городе, ставшем достоянием всех и для всех открытом, городе, которому дана привилегия свершать акты всеевропейского значения! Именно отсюда исходили все высокие порывы гения девятнадцатого века; именно здесь в течение тридцати шести свободных лет происходил вселенский собор умов, величественное зрелище наших дней; здесь поднимались, обсуждались и решались в духе свободы все великие вопросы нашей эпохи: право личности - основа и отправная точка общественного права, право на труд, право женщины, право ребенка, уничтожение невежества, уничтожение нищеты, уничтожение меча во всех его формах, неприкосновенность человеческой жизни.
Подобно тому как величественные ледники, хранящие суровую чистоту, едва заметным, но неодолимым движением сдвигают со своего пути громадные валуны, так и Париж отбросил прочь все нечистоты - и свалку, и бойни, и смертную казнь. Париж в той мере, в какой это зависело от него, уничтожил смертную казнь, тревожившую общественную совесть, которая чувствовала в этой каре вмешательство в область неведомого. Он понял, что изгнать эшафот из города значит в определенный момент уничтожить эшафот вообще, и гильотину выставили за дверь. Таким образом, он меньше всего был повинен в недавнем самоубийстве, которое было осуществлено при посредстве палача; оно произошло после того, как сын-чудовище[33] потребовал привлечь отца к судебной ответственности и общество дало свое согласие. Несмотря на то, что тюрьма Ла Рокетт находится по эту сторону городских стен, она - вне города. Можно повесить в Лондоне - нельзя гильотинировать в Париже. Как нет больше Бастилии, так нет более и Гревской площади. И если бы вздумали вновь воздвигнуть гильотину перед городской ратушей, то восстали бы камни. Убить человека в этом центре гуманности уже невозможно. Предзнаменование решающее, оно вселяет в нас уверенность. Остается сделать последний шаг: объявить вне закона то, что находится вне города. И этот шаг будет сделан. Мудрость законодателя заключается в том, чтобы следовать за философом, и то, что берет начало в умах, неизбежно завершается в своде законов. Законы - это продолжение нравов. Давайте же вести счет фактам по мере того, как они возникают. Уже сейчас, когда на городских площадях Франции свершается смертная казнь, войскам запрещено смотреть на эшафот; людям, призванным охранять, не к лицу смотреть на то, как убивают, и солдатам дается приказ: повернуться к закону спиной. И это, по правде говоря, означает казнь гильотины. Следует воздать хвалу всякой власти, которая этого пожелала.
В сущности власть эта - Париж.
Париж - зажженный факел. У зажженного факела есть воля.
После Восемьдесят девятого года, революции политической, Париж совершил 1830 год, революцию литературную; он привел в равновесие две области: область прикладного разума и область чистого разума; он внедрил в умы демократию, уже внедренную в государстве; уничтожил там - злоупотребления, здесь - рутину; он преобразовал французский вкус в общеевропейский: заменил искусство, угождающее публике, искусством, воспитывающим народ. Этот народ, народ Парижа, уже сейчас вдумчив и далеко видит. Возьмите то маленькое существо, которое зовется парижским гаменом: чем он занимается во время революции? Он не трогает железную дорогу, но уничтожает таможенные заставы инстинкт этого ребенка освещает путь всей политической экономии. Именно в Париже разрабатывается банковский вопрос и сосредоточено то широкое и плодотворное кооперативное движение, которое, признавая правоту предвидений Луи Блана, великого социалиста 1848 года, сплавляет воедино рабочего и капиталиста, объединяет отрасли промышленности, не стесняя свободы уравнивает результат и затраченное усилие и разрешает во взаимосвязи обе проблемы: богатства и труда. Предрассудки и заблуждения - это искривления, которые следует выпрямить; тот ортопедический аппарат, который был задуман Рамо, увеличен Рабле, пересмотрен Монтенем, исправлен Монтескье, усовершенствован Вольтером, дополнен Дидро, закончен Конституцией Второго года, находится в Париже. Париж - это школа: школа цивилизации, школа роста, школа разума и справедливости. Пусть народы придут закалить свою душу в этом водовороте жизни! Пусть придут они преклониться перед этой ратушей - матерью всеобщего избирательного права, перед этой Академией, которая в скором времени преобразится и станет рассадником бесплатного и обязательного обучения, этим Лувром, откуда придет равенство, этим Марсовым полем, откуда придет братство. Повсюду куются армии: Париж - кузница идей.
Все это внушает добрые надежды! Париж - город, где могущество достигается благодаря согласию, завоевание благодаря бескорыстию, господство благодаря восхождению, победа благодаря мягкости, справедливость благодаря состраданию, ослепляющий свет благодаря науке. Из обсерватории философия видит бога лучше, чем религия с высоты Собора Парижской богоматери. В этом городе, чья судьба предопределена, везде различаешь еще слабые, но уже отчетливые очертания прогресса; Париж, главный город Европы, уже не эскиз, и подобно тому как в наполовину изваянной глиняной глыбе мы видим оттиск пальца Микеланджело, так и во всех революциях, медленно вырисовывающих окончательную форму этого города, ясно различим отпечаток идеала.
Париж являет собой истинное чудо: это уже существующая столица еще не существующей федерации, это город, таящий в себе размах целого континента. Отсюда то высокое волнение, которое возникает при виде этого города - сердца человечества.
Города - это каменные библии. В Париже нет ни одного купола, ни одной крыши, ни одного камня мостовой, которые не говорили бы о союзе и единстве, не давали бы урока, примера или совета. Пусть же придут сюда народы; пусть по этому букварю гробниц, памятников и трофеев научатся они читать слово "мир" и разучатся ненавидеть. Пусть они доверятся ему: Париж успел показать себя. Из Лютеции стать Парижем - есть ли символ великолепнее! Быв грязью, стать духом.
2
Год 1866-й был годом столкновений народов, год 1867-й станет годом их дружеского свидания.
Свидания - это откровения. Там, где встреча, там договоренность, притяжение, соприкосновение, полезный и плодотворный контакт, пробуждение инициативы, средоточие сходящихся линий, выправление отклонившегося от цели, слияние противоречий в единстве; таковы огромные преимущества встреч. После них неизбежно наступает просветление. Указатель на перекрестке тропинок выводит заблудившегося из лесу, слияние рек подсказывает, где быть поселению, конъюнкция планет разъясняет астрономию. Что такое всемирная выставка? Это страны мира в гостях друг у друга. Они съезжаются побеседовать; обмениваются идеалами. Внешне - сопоставляются и сравниваются изделия, по существу же - это сличение утопий. Всякое изделие первоначально было химерой. Видите это пшеничное зерно? Для тех, кто питался желудями, оно казалось бессмыслицей.
У каждого народа есть свое представление о будущем, которое кажется другому чистейшей фантазией; если такие фантазии сплавить или наложить одна на другую, то перед пристальным взором мыслителя предстанет смутный и далекий образ действительности. Но то, что кажется миражем, суть явления. Так в призраке уже есть контуры живого существа, в идолопоклонстве - очертания истинного бога.
Тот, кто мечтает, предтеча того, кто мыслит. То, что предстоит осуществить,- это глыба, которую надо обтесать; первыми начинают ее обтесывать мечтатели. Эта начальная работа всегда кажется безрассудством. Первая фаза возможного - это невозможное. Какое количество безумия заключено в том, что уже является фактом. Сгустите все мечтания - и вы получите действительность. Величественная конденсация утопии подобна космической конденсации, когда газообразное делается жидким, а из жидкого твердым. В определенный момент утопия становится пригодной к обработке; вот тогда-то из рук философии она переходит в руки государственного мужа, ибо государственный муж - мастер, завершающий изделие. Нет ничего, что не начиналось бы с мечты. Возьмите факт, алгебраически самый положительный, проследите его из века в век, и в конечном счете вы натолкнетесь на пророка. Что за фантаст Дени Папен! Можно ли представить себе котел, преобразующий мир? И как умеет Академия наук время от времени образумливать всех этих изобретателей! Они всегда неправы сегодня и правы завтра. А ведь для множества химерических мечтаний "завтра" уже настало; в этом и состоит сегодня общественное богатство и всеобщее процветание. То, за что в прошлом веке вас поместили бы в Шарантон, в 1867 году занимает почетное место во Дворце международной выставки. Все отрасли промышленности наших дней - это вчерашние утопии. Пойдите посмотрите. Фотография, телеграф, аппарат Морзе, использовавший систему условных знаков, аппарат Юза, применивший обычный алфавит, аппарат Козелли, передающий в несколько минут за две тысячи лье то, что написано вами, трансатлантический кабель, артезианское бурение, которое будет применяться для добывания огня, как оно применялось для добывания воды, сверлильные машины, паровой двигатель на железных дорогах, в сельском хозяйстве, на кораблях, винт в океане в ожидании винта в атмосфере что же все это? Мечта, сконденсированная до того, что она становится реальностью. Недостижимое, ставшее повседневным. Так продолжайте же вы, педанты, отрицать, а вы, провидцы, идти вперед.
Встреча наций, подобная встрече 1867 года, это великий мирный договор. В ней замечательно то, что она подавляет как сама очевидность, что она повсюду и внезапно уничтожает препятствия и приводит в движение все в той или иной степени заторможенные шестерни божественного механизма цивилизации. Всемирная выставка в Париже, да еще в 1867 году, решительно, повсеместно и одновременно ломает и разбивает в щепы все палки, вставляемые в ее колеса. Мы говорим все, и мы не отказываемся ни от одного из мечтаний, заключенных в этом всеобъемлющем слове, в котором один только слог. Близок грядущий свет - в этом великая надежда всей нашей жизни. Скорей же, спешите зажечься от всепоглощающего пожара прогресса! Пусть, словно пряди волос на ветру, полыхают на груде вашего черного угля языки животворного пламени. Народы, живите.
3
Этому Дворцу выставки явно будет не хватать того, что придало бы ему еще более высокий смысл,- четырех колоссальных статуй, которые должны были бы стоять по углам; то были бы четыре воплощения идеального: Гомер, представляющий Грецию, Данте, представляющий Италию, Шекспир, представляющий Англию, Бетховен, представляющий Германию; а у входа - статуя пятого колосса: протягивающий руку ко всему человечеству Вольтер, олицетворяющий не гений Франции, а всемирный разум.
Что же до самой выставки 1867 года, того, как она осуществлена,- не нам об этом судить. Она - то, что она есть. Мы полагаем, что она великолепна; но с нас достаточно уже самой идеи. А какова идея и какой путь она прошла - об этом скажут цифры. В 1800 году на первой всемирной выставке было двести участников; в 1867 году - их сорок две тысячи двести семнадцать.
Всякая всемирная выставка как бы подводит итоги цивилизации. Это - своего рода личное засвидетельствование. Каждый народ предъявляет свой "послужной список". Итак, что же им сделано? Человечество приходит сюда познакомиться с самим собой. Выставка - это своеобразное nosce te ipsum[34].
Париж распахивает свои двери. Народы стекаются сюда, притягиваемые этим гигантским магнитом. Сюда спешат все части света: Америка, Африка, Азия, Океания,- все они здесь, а вместе с ними и Высокая Порта и Небесная Империя, эти метафоры, являющиеся государствами, эти славные имена, за которыми скрывается варварство. Лишь бы понравиться вам, о афиняне! - таков был клич древности; лишь бы понравиться вам, о парижане! - таков клич современности. Каждый привозит образчик своего труда. И даже Китай, считавший себя Срединной страной, начинает в этом сомневаться и выходит за свои пределы. Он противопоставит свое творческое воображение нашему, своих изваянных чудовищ нашим поискам идеала красоты, а нашей скульптуре из мрамора и бронзы - свою как бы застывшую в корчах великолепную скульптуру из нефрита и слоновой кости, глубокое и трагическое искусство, где чудятся пытки. Япония приезжает со своим фарфором, Непал - с кашемировыми шалями, а караиб привозит кастет. Почему бы и не привезти его? Выставляете же вы ваши чудовищные пушки.
Заметим в скобках: смерть на выставку допущена. Она входит под видом пушки, но не входит под видом гильотины. В этом - своя щепетильность.
Был предложен очень хороший эшафот, но его отвергли.
Отметим эти причуды благопристойности. О стыдливости не спорят.
Как бы то ни было, кастеты и пушки окажутся в невыгодном положении. Орудия смерти являются здесь омрачающим пятном. Им стыдно - и это заметно. Выставка, апофеоз для всех прочих орудий, для них - позорный столб. Не будем на этом и останавливаться. Перед нами жизнь во всех ее разновидностях, и каждый народ показывает здесь свою жизнь. Миллионы рук, которые пожимают одна другую в великой руке Франции,- вот что такое выставка!
Как же постарели завоеватели! Где теперь континентальная блокада?
Подчеркнем особо эти столь знаменательные проявления демократизма! Как бы широко ни раскрылись двери для демонстрации прогресса, этого всегда будет мало. Нечего опасаться слова "слишком", перечисляя те вселяющие в нас надежду истины, которые ведут нас к согласию. Где единство, там единение. Каждый человек - это человек-Брат, человек Свободный, человек Равный.
Путь народов не зависит от пути правительств.
Решающий симптом. На всемирную выставку, повторим это еще раз, съезжается не только Европа, не только группа цивилизованных народов, не только Англия со своей позолоченной пирамидой шестидесяти футов высоты, показывающей количество добываемого в Австралии золота, Пруссия с ее храмом мира и гротом из каменной соли, Россия с ее древними византийскими изделиями из золота, Крым с его шерстью, Финляндия с ее льном, Швеция с ее сталью, Норвегия с ее мехами, Бельгия с ее кружевами, Канада с ее ценной древесиной, Нью-Йорк с его антрацитом, глыба которого весит восемь тысяч фунтов, Бразилия с ее энтомологическими и орнитологическими сокровищами, порожденными солнцем, кроме них съезжаются, сбегаются, спешат сюда древний фанатический Тибет, Колькар, Траванкур, Бхопал, Дрангудра, Пунвах, Чхаттарпур, Аттипур, Гундул, Ристлом; это джам из Норвангхура, низам из Хайдарабада, као из Руска, такур из Морви; это вся семья будущих наций, находящихся под гнетом азиатских деспотов магараджей, джагердаров, бегумш. Здесь есть все, вплоть до бочонка золотого песка, присланного из Бонни безобразным негритянским царьком, живущим во дворце, построенном из человеческих костей. Заметим мимоходом, эта деталь вызвала ужас: ведь наш Лувр выстроен из камней. Допустим, что это так.
У Египта нет ничего, кроме его мумии, и он извлекает се на свет. Это кладбище выставляет напоказ все свои шедевры - порфировые саркофаги, гробницы из красного гранита, раскрашенные и раззолоченные футляры для трупов, тем обильнее разукрашенные, чем глубже они должны быть погребены. Современница дендерского зодиака, корова Хатор, спускается со своего базальтового пьедестала и приходит сюда. Рамзес, Хефрем, Атета, царица Амменизида прибывают по железной дороге; сюда приезжает древняя деревянная статуя, называемая арабами Шейх-эль-Белед и изображающая неизвестное божество,- она приносит древней Лютеции привет от праматери Изиды из древних Фив. Как зовут тебя, Лютеция? Меня зовут Париж. А вас как зовут, Фивы? Меня зовут Дайр-аль-Бахри. Скорбная констатация: два города единой расы потеряли один за другим собственный облик, один - в цивилизации, другой - в варварстве. Различие между ушедшим вперед и отставшим.
4
Итак, съезжаются все народы...
Да, что сделано - сделано, от него уже не отречешься. Всемирная выставка и не отказывается от своих слов. Напрасно короли готовятся к войне, порадуем их и не раз им напомним: будущее не в ненависти, а в согласии; это не гул орудий, а бег локомотива. Вселенная идет к миру, это неизбежно. Ничто не может помешать этому. Мы видим уже сейчас, как наступает охлаждение к темляку, киверу, литаврам, ко всем этим смертоносным изделиям жестяников, к кровавому тщеславию.
Наша планета, уменьшаясь благодаря железным дорогам и электрическим проводам, все более и более оказывается под властью идей мира. Пусть сопротивляются сколько угодно: настали другие времена. Старый режим борется впустую. Хотя прошлое - уже мертвец, оно проявляет все большую изобретательность; оно старается вовсю, изыскивает всяческие средства, каждый день придумывает оно все новые хитроумные и превосходные орудия смерти. Ему за это, пожалуй, дадут почетный крест, но это - самое большее, чего оно добьется. Люди начинают видеть все яснее; они понемногу теряют охоту убивать друг друга. Ничто не в силах одолеть подобное движение умов. Ухабы цивилизации бросают народы то в одну, то в другую сторону, но на этот раз человечество окончательно поворачивает в сторону добра. Быть может, его еще ожидают одно или два испытания, но они будут последними. Неудержимый ветер грядущего несет нам мир. Что устоит перед этим ураганом братства и радости? Союз! союз! провозглашает бесконечность. И под этим дыханием невидимого любовь пробивается из-под земли, подобно траве. Попробуйте-ка восстать против этой зеленой весны мира! Попробуйте победить революцию! Попробуйте победить не только двадцатый век, век грядущий, но и восемнадцатый - век прошедший. Напрасные мечты! Огромные стальные ядра ценою в тысячу франков каждое, извергаемые пушками-титанами, сфабрикованными в Пруссии гигантским молотом Круппа весом в сто тысяч фунтов и стоимостью в три миллиона, угрожают прогрессу не более, чем мыльные пузыри, которые ротик ребенка выдувает через соломинку.
5
Почему вы хотите заставить нас поверить в выходцев с того света? Вы думаете, мы не знаем, что война мертва? Она умерла в тот самый день, когда Иисус сказал: "Возлюбите друг друга!" - и с тех пор она жила на земле лишь жизнью призрака. Правда, после того, как нас покинул Иисус, ночь продлилась еще почти два тысячелетия; ночью для призраков раздолье, и война могла бродить в ее мраке. Но наступил восемнадцатый век; утренней звездой его был Вольтер, Революция - рассветом; а сейчас солнце в самом зените. Война укрылась в склепе. Нечисть не покидает склепов в полдень. Так пусть же войне остается ее могила, а нам - наш солнечный свет.
Спрячь свои знамена, война. А если нет, то ты, нищета, покажи свое рубище. И давайте сравним ваши лохмотья. Имя этим - Слава, имя тем - Голод, Проституция, Развалины, Чума. Одно порождает другое. Довольно.
Разве это вы нападаете, немцы? Или мы? Кто же виноват? Ведь allemands[35] это значит all Men[36] - все вы люди. Мы любим вас. Мы ваши сограждане по городу, чье имя Философия, вы - наши соотечественники по отчизне, чье имя Свобода. Мы, европейцы Парижа,- та же семья, что и вы, европейцы Берлина и Вены. Франция - значит Освобождение[37], Германия - значит Братство[38]. Мыслимо ли представить себе первое слово великой формулы демократии, сражающееся с ее последним словом.
Массы - сила; после Восемьдесят девятого года они стали также и волей. Отсюда всеобщее избирательное право. Что такое война? Это самоубийство масс. Поставьте же на голосование вопрос об этом самоубийстве! Народ, ставший соучастником самоубийства,- вот зрелище, которое являет собою война, и нет ничего прискорбнее его. В нем обнаженно предстает уродливая механика сил, отведенных от их прямой цели и обращенных против самих себя. Война - двулика; мы только что показали одно ее лицо: нищету - это ее результат; теперь покажем другое: невежество - это ее причина. О, это поистине две трагические болезни! Кто излечит от них, усилит сиянье солнца.
Удел невежества - терпеть. Силы еще не познали самих себя. Заметили ли вы, какие большие и кроткие глаза у быка? Эти глаза слепы. Пусть же, оставаясь кроткими, они прозреют. Сила должна познать себя. Иначе она страшна. Она кончает тем, что начинает совершать преступления, она, чей долг препятствовать им. Так больше активности, пусть никто не будет пассивным, в этом - секрет цивилизации. Пассивные силы, что за нелепое сочетание слов! Отсюда - убийства. Распростертый труп, с его устремленным в небо мертвым взором, явно обвиняет. Кого? Вас, меня, нас всех; не только того, кто совершал убийство, но и того, кто не помешал ему.
Пусть же уйдут призраки! Пусть исчезнут гидры! Нет, даже во время канонады мы продолжаем не верить в войну. Этот дым - всего лишь дым. Мы верим лишь в согласие людей, единственно возможную точку, где сходятся всевозможные направления человеческого духа, единственный центр той сети дорог, что зовут цивилизацией. Мы верим только в жизнь, в справедливость, в освобождение, мы верим в молоко кормящих матерей, в детские колыбели, в улыбку отца, в небо, полное звезд. И даже те застывшие и окровавленные, что остались лежать на поле битвы, даже они утверждают великий принцип братства, вызывая угрызения у царей и являясь укором для народов; всякая попранная мысль - священна. И знаете ли, что завещают живым мертвецы, эти умиротворенные тени? Мир.
6
Долой оружие! Союз. Слияние. Единство!
Для чего приходят в Париж все те народы, которые мы только что перечислили? Они приходят во Францию. Перелить кровь можно в вены человека, перелить свет - в вены наций. Они приходят сюда, чтобы слиться с цивилизацией. Они приходят, чтобы понять. Ведь дикарям свойственна та же жажда, варварам та же любовь. Эти глаза, уставшие от мрака, приходят, чтобы узреть истину. Далекая заря Прав Человека забрезжила на их темном горизонте. Пламенный отсвет французской революции дошел и до них. Самые отсталые, самые темные, те, кому приходится хуже всего на мрачных отрогах варварства, увидели этот отблеск и услышали эхо. Они знают, что есть город-солнце; они знают, что существует народ-мироносец, родной дом демократии, нация, раскрывающая объятия навстречу любому, кто является ее братом или хочет быть им, и предлагающая разоружение как конечный вывод из всех войн. Они наводняют собой Францию, Франция же распространяется на весь мир. Эти народы ощутили едва заметные колебания почвы, отзвуки глубоких потрясений французской земли. Все ближе и ближе слышались им отголоски нашей борьбы, наших волнений, наших книг. Они как бы тайными узами соединены с французской мыслью. Читают ли они Монтеня, Паскаля, Мольера, Дидро? Нет. Но они дышат ими. Чудесное и волнующее сердце явление народ, перестающий быть народом и растворяющийся в братстве. О Франция, прощай! Ты слишком велика для того, чтобы оставаться родиной только одного народа. Когда мать становится богиней, она уже принадлежит не только ребенку. Еще одно мгновение - и ты исчезнешь, чтобы предстать нам преображенной. Ты так велика, что вот-вот перестанешь существовать. Ты не будешь более Францией, ты будешь Человечеством; ты не будешь более нацией, ты будешь вездесущностью. Тебе суждено полностью раствориться в сиянье, и нет в мире ничего величественнее, чем это уже сейчас видимое взору стирание твоих границ. Смирись со своею безмерностью. Прощай, Народ! Привет тебе, Человек! Покорись своей неизбежной и высокой судьбе, о Родина моя, расширяй свои пределы и, подобно тому как Афины стали Грецией, как Рим стал христианством, ты, Франция, стань Человечеством.
Отвиль-Хауз, май 1867
Примечания
1
1. А все-таки она вертится (итал.).
(обратно)2
2. Могучая воля (англ.).
(обратно)3
3. Брэдли. По-видимому, теперь убедились в том, что он был невиновен. (Прим. авт.).
(обратно)4
4. Право - против закона (лат.).
(обратно)5
5. Добрая сестра (лат.).
(обратно)6
6. После смерти он станет богом (лат.).
(обратно)7
7. Да будет повешен на месте преступления (лат.)
(обратно)8
8. Парижская улица (франц.).
(обратно)9
9. Их семеро (лат.).
(обратно)10
10. Шаги мула (франц.).
(обратно)11
11. Волокуша (старофранц.).
(обратно)12
12. Сухое дерево (франц.).
(обратно)13
13. Перевод Ю. Корнеева.
(обратно)14
14. Долина (франц.).
(обратно)15
15. Долина нищеты (франц.).
(обратно)16
16. Старое железо (франц.). Здесь в смысле; оковы.
(обратно)17
17. Вербовщики (франц.).
(обратно)18
18. Hunc tu jure potes dicere Pontificem. (Прим. авт.) Теперь ты можешь по праву называться Понтифексом (лат.). Здесь игра слов: Pontifex имеет два значения - мостостроитель и жрец.
(обратно)19
19. Мы здесь пропускаем одну строку. (Прим. авт.)
(обратно)20
20. Смотри, земля варваров, на обнаженный... (лат.)
(обратно)21
21. Le coq - петух (франц.).
(обратно)22
22. Чернь (лат.).
(обратно)23
23. Сброд (итал.).
(обратно)24
24. Толпа (англ.).
(обратно)25
25. Я не знаю, было ли создано что-нибудь более высокое, чем "Илиада" (лат.).
(обратно)26
26. Город (лат.).
(обратно)27
27. Мир (лат.).
(обратно)28
28. Городу и всему миру (лат.).
(обратно)29
29. Покуда навсегда Мольера не сокрыла
Ценою долгих просьб добытая могила,
Творения его, столь славные сейчас,
Болтливые глупцы порочили не раз.
В одежде герцога, в наряде баронессы
Невежество и спесь шли на премьеру пьесы
И понося шедевр насмешливой хулой,
В прекраснейших местах качали головой...
(Буало) (Прим. авт.). Перевод Ю. Корнеева.
(обратно)30
30. Сухая гниль древесины (англ.). Здесь в смысле: моральное разложение.
(обратно)31
31. Порой и Гомеру случается спать (латинская поговорка).
(обратно)32
32. Учитель сказал (лат.).
(обратно)33
33. Лемэр. (Прим. авт.)
(обратно)34
34. Познай самого себя (лат.).
(обратно)35
35. Немцы (франц.).
(обратно)36
36. Все люди (англ.).
(обратно)37
37. Здесь игра слов: по-французски слова "France" (Франция) и "affranchissement" (освобождение) имеют один корень.
(обратно)38
38. Гюго сближает здесь древнее французское название Германии "Germanie" с современным французским прилагательным "germain" (двоюродный) - от латинского "germanus" (брат).
(обратно)

![Лифт [= Кухонный лифт]](https://www.4italka.su/images/articles/489659/primary-medium.jpg)
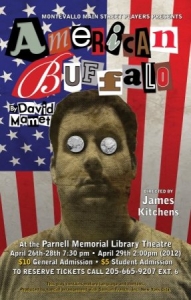



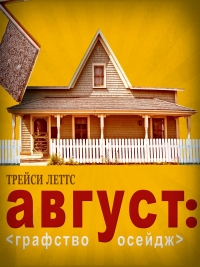

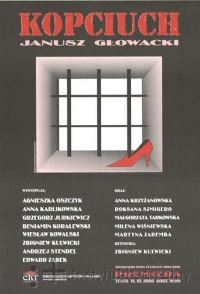


Комментарии к книге «Париж», Виктор Гюго
Всего 0 комментариев