Дэвид Хэйр Залив в Ницце
The Bay at Nice by David Hare (1986)
Перевод с английского Ольги Буховой © (2009)
Посвящается Блэр
Действующие лица:
Валентина Норовицкая
Софья Епилёва
Помощник директора музея
Петр Линьков
Действие происходит в Ленинграде в 1956 году.
Просторная комната с потолком, украшенным позолотой, и прекрасным паркетным полом. На задней стене висит огромное полотно Герена «Ирида и Морфей» — ослепительная нагая богиня, сидящая на облаке над спящим богом сна Морфеем. На всей обстановке видны следы обветшания и запущенности. Комната практически пуста, за исключением нескольких столов, отодвинутых в заднюю часть комнаты, и нескольких плюшевых стульев, красных с позолотой. На одном из стульев сидит Валентина Норовицкая. Это энергичная женщина лет 60 — точнее сказать трудно. Она одета в черное. Ее дочь Софья стоит в самом дальнем конце комнаты и выглядывает в главную дверь. Ей за 30; она одета намного проще, чем ее мать: на ней пальто, гладкая юбка и джемпер.
Валентина. Не бросай меня тут одну, я старая женщина.
Софья. Никакая ты не старая.
Валентина неодобрительно оглядывает комнату.
Валентина. Просто кладбище какое-то! …Я не собираюсь идти общаться с этими старыми идиотами.
Софья. Но они именно этого ждут от тебя.
Валентина. Чепуха! Лучше я тут одна посижу.
Софья все еще нетерпеливо выглядывает в коридор.
Софья. Боюсь, мы обидели директора.
Валентина. Ну почему же «мы»? Это я его обидела. Ты обратила внимание? Он одет в какие-то обноски…
Софья. Он всего лишь хотел показать тебе новую пристройку.
Валентина. Зачем? Он оскорбляет эти стены уже тем, что развешивает на них весь этот соцреализм. Водовороты грязи! По мне уж лучше смотреть на голые стены. Они хотя бы чисто выкрашены… Однако я устала вертеть головой по сторонам: «Посмотрите сюда, взгляните на это!..» (Улыбается, предвкушая историю, которую собирается рассказать). Знаешь, Пикассо жил в невероятно уродливом доме. Это был особняк в готическом стиле, с башенками, который принадлежал одному миллионеру, нажившему огромное состояние на шампанском. Все друзья поражались: как ты можешь жить в таком месте? На что Пикассо отвечал: «Вы все — заложники вкуса. А настоящим художникам нравится всё. Такого понятия, как уродство, попросту не существует». Он пинал стены ногой, обутой в сандалию — у него, кстати, были невероятно маленькие ноги — и добавлял: «Стены прочные. Чего вам еще?»
Софья. Если воспользоваться этим же аргументом, то, раз в мире все прекрасно, это относится и к соцреализму.
Валентина. Соня, прошу тебя! Ты же ничего в этом не понимаешь. Так что не надо рассуждать на эту тему. Особенно в присутствии посторонних. А то просто неловко бывает. (Валентина поднимается и идет через всю комнату). Что за чепуху они собираются мне показать?
Софья. Они думают, это Матисс.
Молчание. Валентина никак не реагирует на последнюю реплику.
Валентина. Ты что-то давно не заходила.
Софья. Занята была.
Валентина. Понятно.
Софья. Очень много работы. И еще дети. К концу дня у меня ни на что сил не остается. Я уже сказала начальству: как женщину, меня это просто возмущает.
Валентина. «Как женщину»?
Софья. Вот именно.
Валентина. И что же это значит?
Софья. Понимаешь…
Валентина. Что это за мода появилась называть людей «женщинами»? Теперь везде то и дело слышишь: «как женщина» то, «как женщина» это. В моей молодости было намного проще: каждый мог быть просто «человеком». И еще все теперь говорят «от лица». «От лица советских женщин…»
Софья. Я только хотела сказать, что у меня семья. И еще я работаю. Вот и все. А в школе меня просто эксплуатируют.
Валентина. Они тебя за дуру держат. Знают, что ты не умеешь говорить «нет».
Софья через всю сцену смотрит ей в спину, пытаясь угадать ее настроение.
Софья. К тебе кто-нибудь заходит?
Валентина. Никто. Ну, конечно, Трояновские. Господи, что за люди! Трояновская хочет открыть «салон». Я ей говорю, что она опоздала: все художники умерли, все поэты — нытики. А драматурги — хуже всех. Они меня так утомляют. У них люди только и делают, что носятся по сцене — туда-сюда. Это очень выматывает. В их историях минутная стрелка крутится, как сумасшедшая. Но при этом часовая стоит на месте! (Улыбается). А Трояновская мне сказала: «Раз не осталось стоящих художников, мы всегда можем просто говорить о философии». Нет уж, покорно благодарю!
Софья. Да, она любит разные «идеи».
Валентина. Конечно, они же евреи. (Пожимает плечами). Вот ты мне скажи, с кем мне видеться? Назови хоть одного человека в Ленинграде, на которого не жалко час потратить. Хотя бы час.
Софья. А мне со всеми нравится общаться. В каждом человеке можно найти что-то интересное.
Валентина недоверчиво смотрит на нее.
Валентина. Правда?
Софья. Давай я тебе чаю принесу.
Валентина. Куда этот человек подевался?
Софья. Ты его напугала.
Валентина. Что? Настолько, что он передумал мне картину показывать?
Софья. Пойду посмотрю.
Валентина. Нет, останься. Я хочу с тобой поговорить.
Софья остается, но Валентина не делает попытки начать разговор.
Софья. Близняшки тебе привет передавали.
Валентина. Сколько им уже?
Софья. Восемь.
Валентина. Тогда ты точно меня обманываешь. Ни один восьмилетний ребенок не станет по доброй воле передавать привет взрослым. Или они притворяются. Но с чего бы это твоим детям притворяться?
Софья. Я им сказала, что увижу тебя, и намекнула…
Валентина. А-а, тогда понятно.
Софья …чтобы они тебе передали привет.
Валентина. Вот теперь все встало на свои места. Ты из них этот привет вытянула. Как признание.
Софья. Если тебе так больше нравится.
Валентина. А Гриша… как он?
Софья. Гриша на работе. Собирался сегодня прийти.
Валентина. Но…?
Софья. Но он работает. И вообще искусство его не интересует.
Валентина. Я знаю.
Пауза. Софья смотрит в сторону, словно хочет что-то сказать, но не решается.
Где же картина?
Софья. Сейчас принесут. Она у них в хранилище, в подвале.
Валентина. Ты ее видела?
Софья. Нет еще.
Валентина. А что там на ней?
Софья. Окно. Море. Кусок стены.
Валентина. Уже похоже на подделку.
Софья. Они надеются, что ты сможешь это определить.
Валентина. Как? Я не все его работы знаю. И никто не знает. Он вставал каждое утро, ставил мольберт и начинал писать. Если к полудню он оставался собой доволен, то подписывал картину. А если нет — просто выбрасывал ее на помойку и на следующее утро начинал заново. Матисса часто сравнивали с щеголем, который бросает в корзину с грязным бельем белые галстуки, один за другим, пока у него не получится завязать удачный узел. (Улыбается). Да, Матисс был транжир!
Софья. Значит, какая-то работа могла затеряться?
Валентина. Конечно. А если подлинность подтвердится, то какая судьба ее ожидает? (Она с презрением отворачивается). Ее повесят на стену в этом ужасном здании. И государство станет ею хвастаться. А народ будет на нее тупо глазеть и гадать, что бы она означала. Или говорить: «А мне не нравится». Я слышала, теперь на Западе люди удостаивают картины взглядом, только если тут же в зале накрыт стол а-ля фуршет. По-моему, этим все сказано: вот во что превратилось искусство! (Улыбается). Да, тут я солидарна с Григорием: кому нужны все эти кулуарные сплетни и ажиотаж?
Софья. Нет, ты совсем не так поняла: он не любит саму живопись.
Валентина. Это потому что ты ей занимаешься?
Софья сердито смотрит на нее.
Софья. Пойду поищу директора.
Валентина. До меня дошли слухи. Даже до меня, хотя я ни с кем не общаюсь, только с Трояновскими. Они — мой единственный и не самый надежный источник информации о том, что происходит в мире. В их интерпретации все выглядит так, что хуже некуда. И тем не менее. Я слышала, как ты себя ведешь с Гришей.
Софья. Мама, я не хочу сейчас об этом говорить.
Валентина. Почему?
Софья. Скоро узнаешь. Я все тебе расскажу.
Валентина. Когда же?
Софья. Когда ты сможешь внимательно меня выслушать.
Валентина. Ты что же, выбираешь подходящий момент?
Софья. Нет.
Валентина. Вот ты вся в этом: все делаешь только по настроению.
Софья. Да нет же! Просто я слишком хорошо тебя знаю.
Валентина. Ты думаешь, отношения строятся на сиюминутной прихоти. Но ты ошибаешься: в отношениях главное — выдержка.
Софья. Пожалуйста, мама, не надо меня воспитывать! (Она покраснела от усилия, заставляя себя произнести эти слова). Если мы будем говорить, то давай говорить как равные.
Валентина смотрит на нее с неожиданной любовью и теплотой.
Валентина. Сонечка, милая, я же вижу, что вся твоя храбрость уже улетучилась! Иди ко мне, расскажи, в чем дело.
Софья стоит дрожа, но не двигается с места; Валентина ждет ее, раскрыв руки для объятия.
Софья. Нет, я не подойду! Я так стараюсь быть сильной в разговоре с тобой!
Валентина. Ты что, собираешься речь произносить?
Софья. Пожалуй, да.
Валентина. Ну, начинай.
Софья. Сейчас?
Валентина. Конечно.
Следует очень напряженная пауза.
Софья. Нет, не могу.
Валентина. Почему?
Софья. Я даже заранее репетировала, а сейчас духу не хватает. Я еще никому этого не говорила.
Валентина. Однако все уже знают.
Софья не двигается.
Софья. Я работаю. Я здравомыслящий, честный человек. Весь день в школе. Как ты сама сказала, постоянно делаю что-то за других, остаюсь допоздна после уроков. Потом стою в бесконечных очередях. Воспитываю детей. Никого не обижаю. И тем не менее, любая мысль, которая может прийти мне в голову — всего лишь мысль! — это уже преступление. Все только и ждут случая, чтобы меня осудить. (Она поворачивается и неожиданно бросается в противоположный конец комнаты). Нет, не могу! Это слишком жестоко!
Ее переполняют эмоции. Она стоит отвернувшись. Ее мать не оборачивается. В наступившей тишине входит Помощник директора с картиной в руках; картина повернута к нему лицом. Ему около 35 лет. На нем синий костюм. Он явно нервничает.
Помощник. Вот картина.
Валентина. Где?
Помощник. Вот, здесь, у меня, Валентина Сергеевна. (Он протягивает к ней картину, все еще стоя в дальнем конце комнаты. У него несколько озадаченный вид).
Валентина. Так поставьте ее.
Помощник. Куда?
Валентина. Да хоть туда.
Она указывает на стоящий в отдалении стул. Помощник прислоняет картину лицом к спинке стула.
Помощник. Вы на нее взглянете?
Валентина. Да, чуть позже. Я сейчас с дочерью разговариваю.
Софья. Извините, пожалуйста. Как невежливо получилось. (Она приходит в себя и, видя его замешательство, идет к нему через сцену, чтобы поздороваться за руку.) Софья Епилева.
Помощник. Тимофеев. Помощник директора.
Валентина. Не сомневаюсь, что вас послал ваш начальник. Сам побоялся прийти.
Помощник. Что, простите?
Валентина. Если он такой робкий, то к чему было вообще меня вызывать? Зачем я ему понадобилась? У вас же есть свои эксперты.
Помощник. Конечно, есть. По всем направлениям.
Валентина. И что они говорят?
Помощник. Тут возникла небольшая проблема. (Он нервно поглядывает на Софью, словно недоволен тем, что при разговоре присутствуют обе женщины). Как бы это сказать? Наметились некоторые разногласия. Наши ученые привыкли работать с более старыми полотнами.
Валентина. Да, я понимаю.
Помощник. Мы хорошо разбираемся в хронологии пигментов, владеем радиоуглеродным методом, рентгеновской кристаллографией, пользуемся «мокрой» химией. Все эти методы просто незаменимы, когда полотно достаточно старое. Потому что подделки, как правило, выявляются при установлении возраста картины.
Валентина. Конечно. А Матисс — слишком недавняя история.
Помощник. Совершенно верно. (Улыбается, по-прежнему нервничая). Именно это мы — то есть руководство музея — и сказали экспертам. Я имею в виду, не нашим, а министерским.
Валентина. Понятно.
Наступает пауза, во время которой Помощник пытается определить, поняла ли Валентина суть проблемы. Затем он быстро продолжает:
Помощник. Они нам очень помогают, это все очень уважаемые специалисты. Конечно, их возможностям тоже есть предел. Но они, например, уже установили, что если полотно и было подделано, то довольно давно. И почти наверняка во Франции. Это они могут совершенно определенно сказать: где и когда. Очень полезная информация. Но в данном случае, как нам кажется, надо еще установить кто.
Валентина. А это уже в большей степени касается стиля. Вы это хотите сказать?
Помощник. Нет-нет… то есть, не совсем… (Теперь он улыбается более уверенно). У нас есть косвенные доказательства. Ведь можно предугадать ход мыслей тех, кто занимается подделками. Естественно, мы не спешим с выводами… Но Матисс умер совсем недавно, всего два года назад. И если бы кто-то попытался — как бы это сказать? — прощупать обстановку, то сейчас был бы просто идеальный момент. Подделок обычно бывает несколько, целые циклы.
Валентина. И это была бы первая.
Помощник. Именно. (Он смотрит на Софью). Ведь эти жулики обычно просто не могут устоять перед соблазном. Когда им что-то начинает удаваться, они уже не в состоянии остановиться.
Валентина. Чем не слишком отличаются от самих художников. Конечно, за исключением самых великих.
Помощник. Врен-Люка подделывал рукописи от имени Юлия Цезаря, апостола Павла и Жанны д’Арк. Такое невероятное разнообразие! Но, к счастью для нас, это единичный случай.
Валентина. А что говорят искусствоведы?
Помощник. Да, несколько искусствоведов картину уже видели.
Валентина. И что же?
Помощник безнадежно качает головой.
Помощник. С ними всегда одно и то же: бесконечные прилагательные, эпитеты. И все очень субъективно: «Сверхдекоративно». «Излишне пластично». «Чересчур холодно». «Недостаточно текуче». Для одного человека это значит одно, а для другого — совершенно другое. (Он делает паузу). Поэтому мы решили пригласить человека, лично знавшего художника.
Валентина пожимает плечами в ответ на последние слова.
Валентина. Очень многие были знакомы с ним лично. Кажется, он даже сам бывал в этом музее.
Помощник. Да, насколько мне известно. Перед войной. Для нас это была большая честь.
Валентина. Так что же с картиной?
Помощник. Считается, что вы чувствуете его настроение.
Валентина. И эксперты разделяют это мнение?
Помощник. Честно говоря, не совсем…
Валентина улыбается, видя, что оказалась права.
Профессор Сатаев был категорически против того, чтобы вас приглашать. Он утверждает, что сам уже установил подлинность картины. Научными методами.
Валентина. (Иронично). Тогда в чем дело?
Помощник. Но если он ошибается, то возникла бы крайне неловкая ситуация.
Валентина. Для кого неловкая?
Небольшая пауза.
Для кого?
Помощник нервно смотрит на Софью.
Вы хотите сказать, для начальства?
Помощник. Возможно. Да. Для всех.
Валентина. И тогда решили позвать добрую волшебницу.
Валентина улыбается. Софья смотрит на Помощника. Она чувствует себя неловко.
Помощник. Как вам известно, сам Матисс был несколько одержим этой же проблемой. Он ходил и проверял, что продается за его подписью. По иронии судьбы, те письма, что он писал для подтверждения подлинности картин, теперь сами стоят громадных денег. Продаются по три тысячи рублей. Мы думаем, некоторые из них уже были подделаны. (Улыбается). Все эти махинации уже совершенно вышли из-под контроля!
Валентина. Он пришел бы в ужас.
Софья. (Хмурится). Так что вы в конце концов решили?
Помощник. Вы понимаете, существуют разные методы анализа. Но по своей природе это все анализы на отрицание. Мы можем установить, если это не Матисс. Не его период, не его краски, не его техника письма и так далее. И если все эти исследования дают отрицательный результат, мы вынуждены признать, что работа подлинная. Так сказать, отсутствие опровержения служит подтверждением. Но никто никогда вам точно не скажет: «Это совершенно определенно он!» Если только… (Он делает паузу).
Софья. Если только что?
Помощник. Если только не найдется кто-то… ну, не знаю… кто-то, кто очень хорошо знал его лично.
Пауза. Кажется, что Валентина безразлична к разговору и думает о чем-то своем.
Софья. Понятно.
Валентина. Моя дочь тоже занимается живописью.
Помощник. Правда? Боюсь, я не знаком с вашими работами.
Софья. Мама преувеличивает. Я всего лишь дилетант.
Валентина. Она даже попыталась нарисовать солнце.
Софья. Мама, ну перестань!
Валентина. Солнце передать невозможно. Сезанн говорил, что солнце можно изобразить, но не воспроизвести. А она вот пытается доказать, что Сезанн ошибался.
Софья. Да, но я это делаю просто для собственного удовольствия.
Валентина. Удовольствия!
Софья. Да, я рисую для себя. И не собираюсь состязаться с великими художниками. Ты считаешь, все хотят быть Сезаннами. А кому это надо?
Валентина. Ты должна стремиться стать Сезанном. А иначе зачем вообще рисовать?
Софья. Просто для удовольствия!
Валентина. Все это чепуха. Живописи надо учиться. Как любому другому делу. Зачем идти напролом и игнорировать то, что было достигнуто другими?
Софья. А я думаю иначе. По-моему, вопрос не в этом.
Валентина. А в чем же?
Софья. Я рисую, просто чтобы… (Она запинается, затем продолжает неуверенно, словно заранее чувствуя, насколько неубедительно прозвучат ее слова)…чтобы показать окружающий нас мир.
Валентина делает жест, подтверждающий ее правоту.
Валентина. Вот поэтому она никогда ничего не добьется! То, чем ты занимаешься, называется «фотография». О Пикассо говорили, что он не умел рисовать деревья. Но они все ошибались. Он рисовал деревья, когда ему было восемь лет. Ему это быстро надоело, и сами деревья его уже мало интересовали. Но он умел передать то, что люди чувствуют, глядя на дерево. А это дорогого стоит. В конце концов, живопись призвана передавать различные оттенки, свойства чувства. Поэтому ты никогда не станешь настоящим художником.
Помощник попеременно смотрит на каждую из женщин, явно испытывая неловкость. Однако Софья остается невозмутимой.
Софья. (Спокойно) Ну, не знаю.
Помощник. Мне трудно судить, я всего лишь ученый. Моя стихия — каталоги.
Софья. Конечно, конечно.
Помощник. А Матисс — это безумно сложная тема. Хотя, честно говоря, я давно не видел его работ. Но они мне нравятся. В сущности, я их очень люблю.
Софья. Тогда женитесь!
Помощник. Простите, что?
Софья. Да нет, это я просто…
Софья и Валентина улыбаются общей шутке.
Это мой сын так говорит. У меня близняшки. И когда дочка говорит, как она любит, например, шоколадный торт, то он ей всегда отвечает: ну, тогда женись! Сын так говорит.
Пауза. Помощник кажется смущенным, чем забавляет обеих женщин.
Помощник. Если…
Валентина. Что…?
Помощник. Нет-нет, просто если…
Софья. Простите. Я глупость сказала.
Валентина. Давайте все же вернемся к теме нашего разговора.
Помощник. Да-да.
Валентина. Откуда взялось это полотно?
Помощник заметно оживляется, переводит взгляд с одной женщины на другую.
Помощник. Оно принадлежала одному графу. Из «бывших».
Валентина. Как интересно!
Помощник. Он уехал из России в девятнадцатом году. Поселился на юге Франции. Он утверждал, что эту картину просто выбросили в гостинице, где жил Матисс.
Валентина. В Ницце?
Помощник. Да. В «Отель Медитеранэ». Он дружил там с управляющим. Картину в прямом смысле выбросили на помойку. Знаю, в это трудно поверить.
Валентина. Ну почему же.
Помощник. Граф никогда не включал ее ни в какие каталоги и даже не оценивал именно из-за того, каким путем она ему досталась. Боялся, что его право на картину может быть оспорено.
Валентина. А как она к вам в музей попала?
Помощник. По завещанию! Граф умер в этом году. Кстати, от какой-то болезни, которая до сих пор наблюдалась только у лошадей. Как выяснилось, какой-то лошадиный грипп. Врачи говорили, единичный случай.
Валентина. Какой кошмар!
Помощник. Однако он действительно довольно тесно общался с лошадьми — готовил их к скачкам. Вот чем он во Франции все это время занимался… Пока все остальные здесь, так сказать, жили-поживали, граф лошадей разводил на Лазурном берегу!
Пауза.
Валентина. Понятно.
Помощник. Конечно, самое интригующее во всей этой истории — это почему он после всех этих лет эмиграции вдруг решил завещать такую ценную картину нашему музею?
Валентина. И это вам кажется непонятным?
Помощник. Совершенно непостижимым. А вам?
Валентина. А мне — нет. (Говорит неожиданно очень тихо). Вы не жили за границей.
Помощник. Нет, но…
Валентина. А я какое-то время жила в Париже. Очень, очень давно. Еще до революции.
Помощник. Да, я слышал.
Валентина. Жизнь вдали от дома может быть порой просто невыносимой. Уж вы мне поверьте.
Помощник. Да, не сомневаюсь.
Валентина. И каждому из нас необходимо прийти к душевной гармонии.
Помощник. Вы хотите сказать, что таким образом граф нашел свою гармонию? Проявив щедрость?
Софья. Конечно. Если только не подсунул вам фальшивку.
Женщины улыбаются. Помощник выглядит растерянным.
Валентина. Да, именно это я и имела в виду.
Софья. Я только не понимаю юридической стороны дела. Если граф украл картину.
Помощник. «Украл»? Я бы не бросался такими словами.
Софья. Ну, «подобрал».
Помощник. Он ее «приобрел».
Софья. Законным путем?
Помощник. Ну что вы, в самом деле! (Неожиданно приходит в возбуждение). Помимо всего прочего, с тех пор прошло столько времени. И вообще все искусство — это так или иначе награбленная добыча. Кому оно должно принадлежать? Я, конечно, не должен так говорить, но в этих вопросах редко кто действует по справедливости. Если бы мы поинтересовались, каким способом было приобретено все, что здесь висит… тут остались бы голые стены!
Софья. Мама как раз недавно говорила, что такой вариант ей бы больше понравился.
Валентина. Так что же там изображено?
Помощник делает движение в сторону картины, намереваясь взять ее в руки.
Нет, вы просто словами скажите.
Помощник. Ну, это похоже на эскиз — я, конечно, не строго научно выражаюсь…
Валентина. Да-да, я понимаю.
Помощник. Это как будто генеральная репетиция. Перед всем тем, что последует дальше. Только меня смущает, что на переднем плане пусто. Ни женщины. Ни скрипки. Ни стула. (Пожимает плечами.) Просто стена. Пара занавесок, обои. Открытые окна. Море. (Неожиданно наступает тишина. Помощник опять пожимает плечами). Это или копия — или начало чего-то.
Валентина. Да, возможно. (Замолкает, затем говорит очень убежденно, словно декламируя стихотворение). Он работал. А потом выбрасывал картины на свалку. (Встает со стула и идет к дальнему краю комнаты, откуда обращается к Помощнику). Принесите мне, пожалуйста, чаю.
Помощник. Да, конечно. Я оставлю вас. Наедине с картиной.
Он смотрит некоторое время на Софью, но та не двигается с места.
Я вам буду очень признателен, и, думаю, директор тоже, если вы отнесетесь к этому заданию с должной деликатностью. Не следует обижать наших ученых мужей.
Помощник улыбается и выходит. Женщины не двигаются.
Валентина. Что за бездарь!
Софья. Да уж.
Валентина. Ему же совершенно наплевать на эту картину.
Софья. Тебе нужно время, чтобы подумать?
Валентина. Нет. Я уже знаю.
Пауза. Валентина погружена в свои мысли, Софья наблюдает за ней.
Ну, давай, произноси свою речь.
Софья. Что?
Валентина. Я готова.
Софья. Что — прямо сейчас?
Валентина. Ну да. Разве ты не за этим пришла?
Софья. Вовсе нет. Просто захотела прийти вместе с тобой. Мне было интересно.
Валентина. Ты хочешь уйти от Григория.
Софья какое-то время в нерешительности.
Софья. Откуда ты знаешь?
Валентина. Потому что ты этого хотела с самой свадьбы.
Софья. Неправда!
Валентина. Тогда что еще это может быть? В тебе появилась какая-то новая непреклонность. Воля. Я же вижу. Ты стала решительной. Я очень хорошо чувствую твое настроение.
Софья. Сначала я хочу тебе что-то сказать.
Валентина. Только не надо лгать мне. Или увиливать. Я и так вижу, ты уже все для себя решила. Разве не так?
Софья не отвечает.
Соня, умоляю тебя, давай поговорим по-человечески.
Софья. Хорошо.
Наступает пауза. Валентина сидит очень тихо.
Валентина. Теперь я вижу — я уверена: ты встретила другого мужчину.
Софья опускает голову.
Софья. Да.
Валентина. Ты влюблена.
Софья. Я теперь думаю о любви все меньше и меньше. Какое отношение имеет ко всему этому любовь? Важна не любовь, а то, какой ты становишься рядом с другим человеком. (Софья поворачивается и идет в дальний угол комнаты.) Когда я с Григорием, то всем сразу понятно, что он — солидный человек. Образцовый госслужащий. Рядом с ним я — не более чем женщина, которой необычайно повезло в жизни и которая день и ночь должна отстаивать свое право на эту удачу — быть замужем за таким достойным человеком. Такая у меня роль. В браке у каждого своя роль. Один сильный — другой слабый. Один быстрый — другой медлительный. Один уравновешенный — у другого ветер в голове. Все предопределено почти с самой первой встречи. Этого не замечаешь, принимаешь как должное. Тебе кажется, что ты — это ты. Обычная, неизменная. Но на самом деле это уже не ты. Нет, теперь ты — это роль, которая тебе отведена рядом с другим человеком. И которая не имеет ничего общего с тем, кто ты на самом деле.
Валентина. Совсем ничего?
Софья. Рядом с Гришей я нескладная, неинтересная, недалекая; мне все время нужно что-то доказывать. Он во всем задает тон. Ему-то, конечно, ничего не нужно никому доказывать: в тридцать семь он уже директор школы, на хорошем счету в партии. И в шкафу у него всегда все ровно стопочками разложено! У меня, как правило, тоже. Но «как правило» — это не то же самое, что «всегда», правда? На это самое «как правило» требуется большое усилие воли. Все, что я делаю… вернее, все, чем я могу быть — это лишь незначительный, ненужный штрих к блистательному Гришиному портрету. Григорий и Софья. После десяти лет совместной жизни у каждого из нас своя роль. В то время как с этим… другим… мужчиной я неожиданно становлюсь совершенно новым человеком.
Пауза.
Валентина. Как я поняла из твоих слов, он не столь безупречен, как…
Софья. Не надо все так упрощать!
Валентина. Птица невысокого полета, так ведь?
Софья. Нет!
Валентина. Значит, ты нашла себе посредственность, чтобы сравнение было в твою пользу. Ты это хочешь сказать?
Софья. Да вовсе нет!
Валентина. Ну, что, я угадала? (Валентина неожиданно задает вопрос с особой настойчивостью. Ждет, но не получает ответа, и смеется). Чем он хоть занимается, этот твой безымянный «другой мужчина»?
Софья. Он работает в Управлении канализации.
Валентина. Я же говорила!
Софья раскраснелась от негодования. Она грозит матери пальцем.
Софья. Мама, если ты мне помешаешь, я тебя никогда не прощу!
Валентина. Я помешаю? А я-то что могу сделать?
Софья. Если ты не поддержишь меня.
Валентина. Не поддержу тебя?
Софья. Ну, да.
Валентина. Я? Сидя в пустой комнате, куда ты практически не заглядываешь?
Софья. Неправда, я к тебе захожу.
Валентина. Не часто. И, случись что, не думаю, что ты станешь скучать по этим нечастым визитам.
Софья все еще возмущена.
Софья. Тебе ведь Гриша даже не нравится.
Валентина. Ну…
Софья. Это правда, мама. И никогда не нравился, с самого начала. Ты говорила, он самодовольный пижон.
Валентина. При чем тут я? Тебе не меня нужно бояться. Если ты до сих пор этого не поняла, тебе нужно посмотреть в глаза своей совести — твоим детям.
Софья. Ты считаешь, я не думаю о них? Мама, это так тяжело! Но у меня есть право на собственную жизнь.
Валентина отворачивается с улыбкой.
Валентина. Ах, право!
Софья. Не сомневаюсь, что огромным усилием воли наш брак можно было бы спасти. Если очень постараться, то мы могли бы вместе дожить до старости. Но я помню, ты как-то раз сказала: на свете нет ничего такого, чего стоило бы добиваться усилием воли.
Валентина. Это я так сказала?
Софья смотрит на нее, затем отходит, качая головой.
Софья. И все равно, это было бы ошибкой. В конце концов, существуют же какие-то принципы.
Валентина. Вот как?
Софья. Да!
Валентина. Ты все еще веришь в принципы?
Софья. Конечно. А как же иначе? Ведь каждый человек имеет право свободно строить свою личную жизнь, как захочет.
Валентина удивленно поднимает брови.
Валентина. Господи, какие у тебя удобные принципы!
Софья. Извини, мама, но я действительно в это верю.
Валентина. До чего же удобно! Просто не верится. Принципы! Которые по чистой случайности совпадают именно с тем, чего ты так страстно желаешь. Какое везение! Лучше и быть не может. Ну, давай, уходи к этому мужчине. И назови это «правом на личную жизнь». «Я должна быть сама собой, я должна делать то, что мне хочется»… (Улыбается). Я все это уже слышала раньше. На бульварах. В кафе. Там, в Париже. Эти слова у меня ассоциируются с оцинкованными столиками и шипением пива в кружках. И все вокруг толковали о своих правах. «Я должна иметь возможность реализовать себя». Но я иначе это называла: это были не принципы, а обычный эгоизм.
Софья. Мама, ну как ты можешь мне такое говорить?
Валентина. Очень просто. Мужчины — друзья твоего отца — говорили мне эти самые слова, притом много раз. Когда я узнала, что беременна, они говорили: «Избавься от ребенка. Подумай о себе, у тебя должна быть личная жизнь. А ребенок станет обузой. Ты имеешь право на счастье. Продолжай заниматься живописью и реализуй свой талант!» Так что самим фактом своего существования ты обязана тому, что я не сделала выбор в пользу моей «личной жизни».
Софья. Да, но это другое дело…
Валентина. Совсем не другое. Просто я тогда решила вести себя по-взрослому. Приносить жертвы, делать то, что нужно, отдавать себя другим, порой напрочь забывать о себе, иногда быть жесткой — да-да, вот как сейчас я вынуждена быть жесткой с тобой…
Софья. До чего же ты любишь эту свою «жесткость»! Послушать тебя, так это самое главное человеческое качество.
Валентина отворачивается, но Софья не отступает.
По крайней мере, здесь моей вины нет. Сама виновата. Ты любишь ответственность? Вот она, пожалуйста. Ты разрушила свою жизнь собственными руками. Никого не спросившись. (Она отворачивается). И я не позволю, чтобы ты и мою жизнь исковеркала.
В открытых дверях появился Петр Линьков. Ему за 60; он лыс, одет в простой синий плащ, в руках держит шляпу. Он стоит с извиняющимся видом.
Петр. Извините, пожалуйста.
Софья. О господи!
Петр. Я не помешал?
Софья. Нет-нет, входи.
Валентина. Пожалуйста, уйдите! Кто это?
Софья. Это он.
Валентина. Что значит «он»?
Валентина в изумлении от возраста и внешнего вида Петра.
Софья. Это Петр Васильевич.
Валентина. Какой еще Петр Васильевич?
Софья. Ну, тот самый Петр Васильевич! Мама, проснись, наконец! Это Петя — ну, «безымянный мужчина».
Валентина. Это он?
Софья. Да.
Петр. Вы о чем?
Софья. Боже мой, ну сколько еще тебе объяснять?
Петр. То есть, как это «безымянный»?
Софья. Подожди.
Валентина. Это вы в Управлении Канализации работаете?
Петр. То есть, я…
Софья. Оставь его в покое. Ты прекрасно знаешь, кто он. Петя, не надо ничего отвечать.
Петр. Да я и не успел.
Софья. Не поддавайся на ее уловки. Она очень хорошо умеет говорить так, что любые слова звучат как оскорбление.
Петр. Как скажешь.
Валентина. Какие слова?
Софья. «Канализация»!
Валентина. Разве я что-то не так сказала? У меня и в мыслях не было…
Софья резко оборачивается к матери; в ней чувствуется новая, неожиданная сила.
Софья. Все эти мелкие людишки, кого ты считаешь ниже себя, смешны и нелепы не по своей воле. Да-да. Мы ведем нелепое существование, занимаемся нелепыми, совсем не интеллигентными делами. Например, нам приходится зарабатывать себе на жизнь в организациях с нелепыми названиями. «Я из Управления по уборке мостовых города Урюпинска». «А я из Департамента по озеленению Красноперекопска». Но такая у нас работа. Так мы зарабатываем себе на жизнь, мама, и нам приходится работать в местах с невообразимыми названиями, бок о бок с немыслимыми людьми. Вот хоть взять нашу математичку. Для меня просто пытка работать с ней, обедать с ней, наблюдать, как ее немытые космы попадают в суп. Я с большей радостью поселилась бы у сточной канавы! Но что поделаешь, приходится так жить, у нас нет выбора. Мы копошимся в реальном мире, как умеем, потому что нам не дано целыми днями сидеть и размышлять о высоком искусстве.
Валентина резко оборачивается к Петру.
Валентина. А с вами она тоже такая?
Софья. Не отвечай ничего!
Валентина. Так как, Петр Васильевич?
Петр. Такая — какая?
Валентина. Ершистая.
Петр. Вроде нет…
Софья. Может быть, вас все же представить друг другу?
Валентина. Не обязательно.
Петр. Да, конечно. Очень приятно познакомиться.
Софья. Петр Васильевич Линьков. А это — моя мама, Валентина Сергеевна.
Петр. Давно пора было встретиться.
Валентина. У меня такое ощущение, будто я вас давно знаю. Вы женаты?
Софья. Не рассказывай ничего.
Петр. Я был женат.
Пауза. Потом Петр чувствует себя вынужденным чем-то ее заполнить
Она замечательная женщина.
Валентина. Нисколько не сомневаюсь. Особенно теперь, когда вы от нее избавились. Вообще в Ленинграде очень много пожилых мужчин, превозносящих своих жен. От которых они уже ушли. Когда в России мужчина хвалит свою жену, значит, она уже бывшая.
Софья. Петя ушел от нее шесть лет назад.
Валентина. Петя ушел?
Петр. Семь.
Валентина. Ну, раз семь, то это на целый год лучше. Каждый год на вес золота. Чем больше срок давности, тем солиднее, правда?
Петр. Мы официально разведены.
Валентина. Молодцы. Это ведь непросто.
Софья. Развод — вполне осуществимое дело.
Валентина. Да уж.
Пауза. Никто не двигается с места.
Софья. Мама, развод можно получить.
Валентина. Конечно.
Валентина смотрит на дочь спокойно, с видом человека, неожиданно получившего подтверждение своей правоте.
Петр Васильевич, я вас совсем не знаю. Единственное, что я вижу — это что вы добрый и порядочный человек. Не сомневаюсь, что вы действительно добились официального развода. И еще я совершенно уверена… готова поспорить на что угодно… вы ведь не член партии?
Пауза.
Петр. Нет.
Валентина слегка кивает головой, будто в подтверждение своей догадки. Софья переводит глаза с одного на другого, затем спокойно говорит:
Софья. Мама, я ведь тоже не в партии.
Валентина смотрит на дочь не двигаясь.
Я уже написала в газету. Чтобы они напечатали объявление о разводе.
Валентина. А Григорий знает?
Софья. Нет.
Валентина. Тогда твое объявление ничего не стоит. Когда ты его отправила?
Софья не отвечает.
Петр. Неделю назад.
Валентина. И сколько времени на это потребуется?
Петр. Чтобы объявлению дали ход, придется ждать месяцев девять. В Ленинграде сейчас так, по крайней мере. А некоторые ждали и год.
Валентина. Девять месяцев, чтобы приняли объявление?
Петр. Именно. Если только…
Валентина. Если что?
Софья(заканчивает за Петра)… если дело не ускорить. Есть способы.
Валентина. Что? Уж не задумали ли вы уехать из Ленинграда?
Петр и Софья переглядываются.
Софья. Нет…
Петр. Мы…
Софья. Ну, есть города… Мы узнавали, есть места… недалеко, под Ленинградом… Там очередь на публикацию в местной газете поменьше. И к тому же места под объявления отводится больше. Может, месяц придется ждать или два. Но для этого нужна прописка. Нужно там жить. Но… об этом и речи быть не может, Петя не может уйти с работы.
Петр(улыбается). Куда же без денег!
Софья. И я тоже не могу бросить работу. И детей забрать.
Валентина. Ну, здесь-то твое объявление точно никто не напечатает. Сначала у Гриши спросят.
Софья. По закону этого не требуется.
Валентина. Его мнение обязательно спросят. А он не согласится на публикацию. Не говоря уже о передаче дела в суд, ведь без этого не обойтись.
Софья. Неважно. Все равно у меня есть право.
Валентина неожиданно сердится.
Валентина. Может, хватит о правах рассуждать? Право у нее есть! О чем ты? Это пустой звук. Стань уже взрослым человеком и просто делай то, что должна. Без этого детского лепета о правах.
Софья смотрит на Петра в поисках поддержки.
Софья. Мама, есть разные способы. Можно как-то ускорить.
Валентина. Не знаю, я ни о чем подобном не слышала.
Софья. Ты могла бы поговорить с Григорием.
Валентина. Ты хочешь, чтобы я поговорила с Григорием?
Софья. Да.
Валентина. Так ты сюда пришла меня об этом просить?
Софья. Если бы ты ему сказала, что видела меня… и что ты поняла, как сильно я переживаю. А знаешь, какой главный критерий при разводе? Очень простой: необходимость.
Пауза.
Мама, мне необходимо быть свободной!
Валентина слегка улыбается.
Валентина. Гриша не свободен. Ты не свободна. Девочка моя, ты прожила на свете тридцать шесть лет! Ну как можно быть такой наивной?
Софья. Разве это наивность?
Валентина. Конечно. Свободы не существует.
Софья. Неужели? А я слышала другое.
Валентина. Где? Где ты эту свободу видела?
Софья. Я всегда слышала… и от тебя тоже… как в Париже…
Валентина. Не смеши меня!
Софья. Как ты жила там…
Валентина. Соня, мне было семнадцать лет!
Софья. И сколько у тебя было любовников? (Оборачивается к Петру, ища поддержки.) Мама сама рассказывала….
Петр. Да будет тебе!
Софья. Это в то время как она там якобы училась рисованию!
Валентина. То был Париж! (Она делает паузу, словно тем самым охраняя свои воспоминания). В Париже все по-другому.
Софья. Конечно, как же я сразу не догадалась! Ведь Париж — это единственное место, где людям разрешено быть счастливыми! (Она выжидает минуту. Затем продолжает спокойно.) Или это просто тебе так удобнее?
Молчание. Софья выжидает. Но Валентина кажется не более чем удивленной.
Валентина. Значит, ты считаешь, что счастье — в свободе?
Софья не отвечает.
Ты думаешь, это одно и то же? А вы как думаете, Петр Васильевич?
Петр. Затрудняюсь вам ответить… Знаете, мне нелегко живется. Половина зарплаты уходит бывшей жене. Сыновья уже взрослые, оба работают на бутылочной фабрике. Один молодец, не жалуюсь. А вот второй родился слегка заторможенный. Вот я о нем и думаю постоянно. Почти каждый день. Даже каждый час. (Грустно улыбается) Я не спец по свободе.
Валентина. По крайней мере, вы мудрее ее.
Петр нервно смотрит на Софью.
Петр. Я только знаю, что мне не слишком везло в жизни. Вот мне скоро шестьдесят три стукнет. И что? Честно говоря, мне даже особо рисковать ничем в жизни не довелось. В общем, кроме Сони у меня ничего нет. То есть… мне грех жаловаться, я живу один, у меня комната неплохая; еще я гулять люблю, хожу в парк — встречаюсь с коллекционерами… Я авиамоделями увлекаюсь…
Софья. Ты бы видела, мама, какие у него чудесные модели!
Петр. Да нет, обыкновенные… Но без Сони мне и жить незачем. (Опять смотрит на Софью.)
Валентина. А раньше это вам в голову не приходило?
Петр. То есть как?
Валентина. До того, как вы с ней познакомились.
Петр. Нет, наверное. Вряд ли. С чего бы? Но теперь я твердо знаю.
Валентина. Вот вам и любовь! Ведь до встречи с ней вы были счастливы.
Петр. Счастлив? Нет.
Валентина. Но вы же тогда не говорили «мне жить незачем». (Она неожиданно говорит громче.) Да вы прямо как дедушка Стравинского!
Петр. Что-то я не понимаю.
Валентина. Дедушка Стравинского умер, пытаясь перелезть через садовую изгородь, когда спешил на свидание к даме своего сердца! Ему тогда было сто одиннадцать лет.
Петр улыбается. Валентина смеется. Только Софье не смешно.
Софья. Мама, не надо так о Петре Васильевиче!
Валентина. А что такого…? (Неожиданно начинает двигаться по комнате и опять решительно переходит в атаку.) Ну, допустим, у вас все получится. А вдруг она вами просто пользуется, чтобы развод получить?
Софья. Да я бы никогда в жизни…!
Валентина. Что тогда?
Петр. Вы что имеете в виду?
Валентина. Любовь — это боль. Разве я не права?
Петр недоверчиво смотрит на нее, опасаясь подвоха.
Петр. Не совсем.
Валентина. Вы на себя посмотрите. Вы же стоите как на пытке! Переминаетесь с ноги на ногу…
Петр. Я…
Валентина. Все время украдкой на нее смотрите, проверяете, одобряет ли она то, что вы говорите. Постоянно думаете, как Соне понравится то или это. Мне всегда бывает смешно, когда в романах двое любящих соединяются в конце повествования. Занавес! Наконец-то они падают в объятия друг друга. Читатель рукоплещет. А на самом деле книги должны с этого начинаться. (Улыбается) Это же сплошная фантазия, что любовь решает все проблемы. Любовь больно ранит. Она будто кожу с тебя сдирает! Вы не согласны?
Петр. Да, отчасти.
Валентина. Неожиданно все, каждая мелочь, приобретает огромный смысл. Не приведи господь! Все время быть начеку, улавливать каждую малейшую деталь, каждый оттенок чьих-то чувств. Это так унизительно! Да я бы ни за какие деньги…! А потом что? Что там, в будущем? Что вас ждет? Два года по судам ходить? Два года взглядов украдкой и терзаний, все ли в порядке? Не надоело ли ей? Люблю ли я ее? А она меня? И что же в результате? Вы неожиданно поймете, что спокойной жизни у вас никогда не будет. И не надейтесь. Если это действительно любовь. Как это похоже на агонию! Уж поверьте мне. В общем, как в картах: то ли повезет, то ли нет… И вот ради этого — этого! — надо послать все к черту. Мужа, работу, детей. Да, Гришу тоже — ведь это разрушит и его жизнь. Все ставится на кон ради прихоти двух бездомных голодранцев. (Наклоняется вперед). И ведь в итоге — никакой гарантии. Никакой! (Встает, окончательно доказав свою правоту). Люди должны держаться друг за друга. Держаться за то, что имеют. За то, что знакомо. В этом — проявление настоящего характера.
Софья. Ты правда так считаешь?
Валентина. Конечно. Но теперь люди предпочитают сдаваться без боя.
Софья улыбается, как будто все только что сказанное ее не касается.
Ты из всего делаешь драму. А я просто принимаю все, как есть, и живу дальше. Потому что я знаю жизнь. И знаю, какой она никогда не будет!
Петр удивлен спокойствием Софьи. Тем временем Валентина начинает нападать на Петра.
А вы — просто старый, плешивый идеалист! Да-да, старый и плешивый! И рубашка на вас не по возрасту. И брюки нелепые. Нет ничего хуже мужчины, который не умеет стариться с достоинством. (Садится в стороне, истощив всю свою агрессию). Мне, кажется, обещали чаю. (Неожиданно переходит на крик, как будто не знает, что еще сказать). Мне чаю обещали!
Петр. Я принесу.
Софья. Нет, я сама схожу.
Она выходит, улыбаясь. Петр остается стоять рядом с картиной. Валентина по-прежнему сидит на месте.
Валентина. Она хорошая девочка. Никогда никого не обидит. Просто она слабая. И еще бог не дал ей таланта. Знаете, ее отец был солдатом. Я была с ним знакома всего три недели. Он утверждал, что где-то шла война. А я ничего такого и не слышала. Потом он сказал, что его батальон отправляют на фронт. Я, конечно, никогда никакого батальона в глаза не видела. По его словам, Франция воевала где-то в Абиссинии. Но я не проверяла. А вы не знаете, была такая война?
Петр. Не знаю, никогда не слышал.
Валентина. Вот видите. А теперь уже трудно что-либо выяснить.
Петр. Это было в Париже?
Валентина. Да, в Париже. Париж и Ленинград — это все, что я видела в своей жизни.
Петр выдерживает паузу.
Петр. Вы, наверное, с разными знаменитостями встречались.
Валентина. Ну что вы. Ничего такого не было. Да мне это было и неинтересно. Хотя однажды меня позвали на вечеринку, где должен был быть Форд Мэдокс Форд.
Петр. Это писатель? Ну, вот видите!
Валентина. Я о нем слышала только потому, что говорили, будто из всех современных писателей он моется реже всех. Поэтому я не пошла. (Она качает головой). Никто не понимает. Даже малейшего представления не имеет, как нам жилось. Мы были очень бедны. Ничего не могли себе позволить. Да, в нашей школе собралась занятная публика! Все как один без гроша. Венгры, один китаец, несколько американцев. Хотя нет, у американцев деньги водились, но больше ни у кого. Один мальчик даже собрался подработать натурщиком, хотя сам был одним из нас. Но ему очень деньги были нужны, вот он и решил, почему бы не попробовать? Мы и так целыми днями видели перед собой обнаженных мужчин и женщин. Он говорил: «Вы же из-за них не смущаетесь. Люди приходят, снимают одежду — и все. А я почему не могу? Дайте мне заработать!» Но мы устроили собрание, мы были категорически против. Это было бы словно какую-то черту переступить. (Она глубоко задумывается; пауза.) Обнаженный незнакомец — это одно дело. А один из нас — совсем другое. Это было бы неправильно.
Петр уважительно выжидает.
Петр. Это была художественная школа?
Валентина. Школа живописи при монастыре Cвятого Сердца Христова. На бульваре Инвалидов.
Петр. А кто у вас преподавал?
Валентина. Человек, говоривший, что хочет превратить своих агнцев во львов.
Петр. Это кто же?
Валентина. Анри Матисс.
Пауза.
Петр. Матисс?
Валентина. Да.
Петр. Вы имеете в виду — тот Матисс?
Валентина. Я так и сказала — Матисс.
Петр. Да, да, я понял.
Валентина. А почему вы так удивились? Вы что, его поклонник?
Петр. Только подумать, он был тогда жив! И был вашим учителем! Звучит просто невероятно.
Валентина. И, тем не менее, это факт.
Петр. Я не знал, что он преподавал.
Валентина. Всего три года.
Петр. А потом?
Она оборачивается и смотрит на него.
Валентина. А потом перестал.
Петр на мгновение опускает глаза.
Петр. То есть… ну, вы ведь понимаете, я же не разбираюсь. Искусство и все такое. Но я видел несколько его картин. Он что, решил, что преподавать живопись бессмысленно?
Валентина. Откуда же мне знать? Он учил нас правилам, в которые сам верил. Не тем, что были в эпоху Возрождения, — он был категорически против них. И Леонардо он не любил из-за всех этих его пропорций и измерений. Он говорил, что именно тогда в живописи все пошло «не так». Когда все стали просто одержимы пропорциями и тем, как что устроено. Но ведь это совсем неважно. Мы не станем лучше видеть благодаря циркулю. (Улыбается). Конечно, правила всегда были, и Матисс придерживался классических правил — этого-то никто так и не понял. В современной живописи ему не нравилось, когда особо выделялась какая-то одна деталь: нос, или нога, или грудь. Он ненавидел такое искажение форм и говорил, что всегда надо стараться передавать объект полностью. Запоминать свое первое впечатление и придерживаться его. Находить равновесие между природой и собственным взглядом. И не позволять своему видению объекта разрушать его гармонию. Что бы он ни делал — все имело свой особый смысл. Но, откровенно говоря, этого никто не замечал, к сожалению. В Париже стены были исписаны обличительными лозунгами: «Матисс — хуже абсента!» «Матисс сводит людей с ума!» А при личной встрече он оказывался похож на немецкого школьного учителя в маленьких очечках в золотой оправе.
Петр. Я видел его рисунки, где он сам себя рисовал. Мне понравилось, как он в зеркале отражается, когда рисует голую модель.
Валентина. Да, они очень забавны.
Пауза.
А его работа с цветом?..У него такие поразительные цвета. Говорят: а почему тут лицо синее? Модерн, наверное. Но это не так. Каждый цвет зависит от того, что находится рядом. Один тон — это просто цвет. А два тона — это уже аккорд, гамма; это — жизнь. (Ненадолго отворачивается, погруженная в свои мысли). То же самое с человеческим телом. Ни одна линия не существует сама по себе. Объем можно создать только из совокупности линий. Матисс говорил, что на человека нужно смотреть глазами архитектора. Ноги — это мост. Руки — будто жернова из глины. Предплечья — канаты; их можно так же завязывать и перекручивать. Когда рисуешь голову, никогда не забывать про уши. Все части должны быть подогнаны друг к другу. Они все очень разные, но только из их совокупности создается целостная картина. Дерево похоже на человеческое тело. А тело — на храм. (Улыбается). У него всегда были очень красивые натурщицы. Порой он работал с одной и той же по несколько лет. Никто не умел рисовать тело лучше него! Линии женского живота… укромные уголки… несколько завитков… Да, он умел заставить думать о постели! И в то же время, по его собственным словам, во время работы он раздевал и одевал женщин так, будто просто переставлял цветы в вазе.
Пауза.
Он очень любил ездить в горы. Говорил, что когда устает, то только там ему удается отдыхать по-настоящему — потому что горы невозможно рисовать! Даже одну гору нельзя нарисовать. Масштаб всегда будет неверным.
Петр. Интересно.
Валентина смотрит на него и неожиданно возвращается к ответу на его изначальный вопрос.
Валентина. А что касается преподавания, то конечно, он это делал очень вдохновенно. Но это было, как если бы Шекспир начал учить писательству. Матисс давал тебе идею. А потом ты сам брал кисть и оставался лицом к лицу со своим талантом.
Петр. И что, наступало разочарование?
Валентина. Не всегда. Только… как бы это выразить? Тут дело в другом. Говорить легко. А уж Матисс-то умел говорить! Но передать свою гениальность — это совсем другое.
Петр хмурится.
Петр. Вас это не угнетало?
Валентина. Нет. Я продолжала рисовать, хотя отдавала себе отчет в своих возможностях. Я продолжала рисовать усилием воли.
Петр. Усилием воли?
Валентина. Да.
Петр. Как странно.
Валентина. Что странно?
Петр. Вчера вечером Соня выразилась этими же самыми словами: «усилием воли».
Валентина. Да, она и мне так сказала. (Смотрит на него какое-то время). Матисс преподавал несколько лет, а потом отправился путешествовать. В Италию, Алжир, Танжер… К тому времени он был уже очень знаменит. Даже подарил одну из своих картин Пикассо. А друзья Пикассо, которые все были злобными идиотами, использовали ее как мишень для метания дротиков. Но это неважно. Матисс уже создал себе имя. Купил дом под Парижем, в Кламаре. Над ним смеялись из-за огромной ванной комнаты на первом этаже. Говорили, это все оттого, что он слишком много общается с американцами. Зациклился на личной гигиене! Но это было все неправда. Матисс и так всегда был очень опрятным. (Улыбается). Я бывала в том доме несколько раз. Мадам Матисс обычно готовила сама. Она подавала лучшего в Европе тушеного зайца! А к нему вино — Рансио, похожее на Мадеру. Прекрасное вино, хотя и тяжелое. Никогда с тех пор его не пила.
Петр. Я такого не знаю.
Валентина. Много лет спустя он оказался в Берлине на выставке своих работ. Там его ожидал лавровый венок совершенно неимоверных размеров с надписью «Анри Матиссу, дорогому мэтру…» или что-то там еще. Он тогда спросил: «Почему вы мне дарите этот венок? Я же еще не умер». А его жена оторвала листочек, попробовала на вкус и сказала: «Зато из него выйдет отличный суп!»
Пауза.
Петр. Да, смешно.
Валентина. Все складывается в единую картину. Как бы вам объяснить… Я не поддерживала с ним связи. По-моему, никто из наших с ним с тех пор не общался. Он просто выпал из наших жизней. И, тем не менее, когда бы я ни слышала историй о нем, все совпадает! Все это очень «про него».
Петр. Да, судя по вашим рассказам, так и есть.
Валентина. Я видела его фотографии, когда он умирал. Он рисовал на стенах кистью, привязанной к длинной палке — был слишком слаб, чтобы оторвать голову от подушек. И я знала этого человека пятьдесят лет назад! (Улыбается). В своей жизни он отказался всего лишь от одной маленькой — совсем ничтожной! — детали. От любви. Он говорил мне, что слишком для этого занят. То есть, чтобы по-настоящему задуматься о любви. Познать ее. Он говорил, у него на это нет времени.
Петр. По-моему, это очень странно.
Валентина. Однажды американская журналистка спросила, сколько у него детей. Он сказал — четверо. А как их зовут? «Давайте посмотрим», ответил он. «Маргарита, потом Жан и еще Пьер». Потом вдруг сказал: «Нет, у меня же трое детей».
Петр. Но разве это не…
Валентина. Что?
Петр. Это же простая черствость!
Валентина. А по-моему, это замечательно!
Петр. Почему?
Валентина. Он знал, что для него в жизни главное.
Петр улыбается.
Петр. Это как-то не по-людски.
Валентина. Нет, он любил свою семью. Он нарисовал их лица над своей кроватью. Он жаловался, что плохо спал по ночам, но ему всегда становилось легче, когда он представлял лица внуков. И тогда он нарисовал их на потолке. Говорил, что так ему «менее одиноко».
Петр. Интересно, а им каково было от этой его отстраненности?
Валентина. Какое это имеет значение?…Маргариту пытали гестаповцы — она была участницей Сопротивления. Когда она вернулась домой, он потом не мог рисовать две недели. Бросил картину, над которой тогда работал. Боль дочери была его болью. Он страдал. Но он не стал впускать в себя эту муку — просто не позволил себе. И потом продолжал рисовать, как ни в чем не бывало.
Пауза.
Петр. А вы?
Валентина. Что я?
Петр. Вы были такая же дисциплинированная?
Валентина. Ну что вы, нет. Я растратила свое время. Меня хватало только на любовь и ничего больше. По крайней мере, так было вплоть до двадцатых годов.
Петр. Соня говорила… (Запинается).
Валентина. Что говорила?
Петр. Она говорила, что… вы почему-то решили вернуться домой.
Валентина. Да, верно. (Выжидает). А что еще она говорила?
Петр. Больше ничего, просто… она говорила, что вам не обязательно было возвращаться.
Валентина. Да, правда. Это было мое собственное решение.
Пауза. Петр выжидает.
Я не слишком хорошо знала Матисса. Но я его понимала, я чувствовала то, что называют его «почерком». Мне очень нравится это выражение. Вы знаете, что это значит?
Петр. Нет.
Валентина. Это специальный термин. Его невозможно определить. Это даже не манера, это нечто более емкое. Как дух.
Она смотрит на Петра какое-то время. Возвращается Софья. Она молча входит с чайником и чашками на подносе и проходит вокруг сцены.
Софья. А вот и чай.
Валентина. Как хорошо! Спасибо.
Софья. Все куда-то запропастились. Музей закрыт.
Валентина. Закрыт?
Софья. На улице уже темно.
Валентина. Я и не заметила. А куда ты дела помощника директора?
Софья. Я просила его подождать. (Протягивает матери чашку с чаем).
Валентина. Спасибо. Ты, я вижу, Петру Васильевичу обо мне рассказывала.
Софья. Да нет, не особенно. (Петру). Хочешь чаю?
Петр. Нет, спасибо.
Софья. У нас с Петей всегда так мало времени. (Ласково ему улыбается). Мы встречаемся в кафе подальше от дома. Большую часть времени обсуждаем, как и где мы встретимся в следующий раз. А потом — в следующий, и в следующий, и так далее.
Валентина. Должно быть, это так утомительно!
Софья. Говорят, в Китае, если хочешь учиться у определенного профессора, нужно каждый день ходить к нему под дверь и проситься в ученики. И каждый день в течение года, или двух, или трех он будет захлопывать дверь у тебя перед носом. А потом в один прекрасный день вдруг согласится. Просто он так проверяет твою выдержку, чтобы узнать, как сильно ты хочешь учиться.
Валентина. Господи, как это сентиментально!
Софья. Но это правда.
Валентина. Нисколько не сомневаюсь. (В ее голосе опять появляются жесткие нотки). А между тем жизнь проходит мимо.
Софья смотрит на Петра.
Софья. Так что вы решили?
Петр. Что решили?
Софья. Ну, вы оба.
Петр. А… (тянет)… про что решили?
Софья. Петя, прошу тебя!
Петр. Ах да, конечно!
Софья. Я просто спрашиваю, поможет ли нам моя мама.
Петр. Не знаю, она не сказала.
Валентина улыбается про себя.
Мы до этого еще не дошли. Честно говоря, мы только об искусстве разговаривали.
Софья. О господи!
Петр. Ну, прости.
Софья. Нет, в самом деле, я же просила тебя…
Петр. Так вышло. Виноват!
Валентина. Так ты ему задание давала?
Петр. Я просто отвлекся, вот и все.
Валентина. И о чем же он должен был меня просить?
Софья(Валентине). Ни о чем. Это наше дело. (Петру). Нет, так невозможно! Я что, все сама должна делать? (Тут же сожалеет о своих словах). Прости, пожалуйста!
Петр. Ничего…
Софья. Прости, я совсем не хотела тебе нагрубить.
Петр. Да вовсе ты мне не нагрубила. Честное слово.
Софья. Петенька, прости, у меня просто вырвалось.
Петр. Сам виноват.
Валентина. Очень любопытно! Очевидно, так будет выглядеть ваша семейная жизнь? Ну-ну, бог в помощь! Мне кажется, вам обоим будет куда легче жить поодиночке.
Софья. Очень может быть. (Поворачивается к Петру). А ты как думаешь?
Петр. Нет, я так не думаю. Потому что для меня наша встреча — это колоссальное событие! Наконец в моей жизни хоть что-то происходит. Даже если потом будет, как вы говорите, невероятно тяжело. Я и не подозревал, что способен на такие чувства. (Нервно улыбается). Начнем с того, что я ревную. Конечно, это нелогично. Я ревную к прошлому, к той жизни, которой Соня жила задолго до нашего знакомства. И чем дальше — тем хуже. Даже сама мысль… когда я думаю, какая она была маленькая — совсем девчонка, в коротком клетчатом платьице, как ходила по улице в школу, с ранцем… когда представляю себе ее восьмилетней девочкой, мое сердце наполняется такой ужасной тоской. Таким чувством утраты! Знаю, это полная бессмыслица, ни в какие ворота не лезет. Мой мозг кипит, я вообще ничего не соображаю. Но видения той девочки, которой я и не знал, имеют надо мной такую силу, так больно меня ранят — со мной никогда ничего подобного не происходило. (С отчаянием смотрит на Валентину). Ну что я могу поделать? Только оставить ее.
Софья. Нет.
Петр. Просто взять и сказать себе: вот и все? Ты увидел зарницу. А теперь иди домой и дальше клей в одиночестве свои модели. (Пожимает плечами). Хотя, по большому счету, я не могу сказать, что счастлив. Я испытываю то, что в учебниках называют «состоянием крайнего возбуждения». Как бы я хотел быть сильнее! Как хотел бы, чтобы она не причиняла мне эти страдания! (Пауза). Но думаю, я должен идти вперед.
Молчание. Софья смотрит на Петра какое-то время.
Валентина. Ну, я не знаю. А почему вы должны?
Петр. Как почему?
Валентина. Ну да, почему?
Софья. Мама, ведь он только что все сказал!
Валентина. Да, но эти его чувства приведут к определенным последствиям. Для Григория, для детей.
Петр. Я очень люблю ее детей.
Софья. Они будут с нами жить.
Валентина. Правда? А когда ты им собираешься сказать, что уходишь от их отца?
Софья не отвечает.
Соня, что ты молчишь?
Софья. Я уже им сказала.
Валентина. Что?
Софья. Ну да, уже сказала.
Валентина. Зачем же ты это сделала?
Софья. Мне казалось, так будет честнее.
Валентина. Только не надо врать!
Петр. Соня…
Софья. К тому же…
Петр. (Обращается к Валентине) Я ничего не знал.
Валентина. Скажи правду, зачем ты это сделала?
Софья. По разным причинам.
Валентина. Например?
Пауза.
Софья. Теперь нет пути назад.
Петр с тревогой смотрит на нее через сцену. Валентина понимающе кивает головой.
Валентина. Ну конечно. А что Гриша? Гриша там был?
Софья. Нет, его не было дома. Я им сказала сегодня утром. Сейчас он, наверное, уже дома.
Валентина. Ты сказала детям, даже не поговорив с ним!
Софья. Мама, я же пыталась много раз. Он всегда говорит «нет». А дети все равно рано или поздно узнают.
Валентина. Не могу поверить! Ты все рассказала детям, даже не спросив, что обо всем этом думает твой муж.
Софья. Он никогда не даст согласия на развод. Он твердит, что «я в плену упадочнической фантазии». Что «мной руководит мораль Запада». Мама, он совершенно безумен!
Валентина. Тебе будет трудно удержать любовь детей. Они никогда тебе этого не простят.
Софья категорично трясет головой, придя в сильное возбуждение.
Софья. Хорошо, сейчас я пойду домой и все ему расскажу. Скажу: «Гриша, теперь наши дети тоже знают то, что мы оба прекрасно знаем». Пойми же, я им сегодня все рассказала, потому что если бы я этого не сделала, то ничто так и не изменилось бы. Ну, что я опять не так сделала? (Неожиданно переходит на крик). Мама, не надо так на меня смотреть!
Валентина. А что дети на это сказали?
Софья. Ну…
Валентина. Скажи мне.
Софья. А ты как думаешь? Конечно, все это невероятно тяжело.
Валентина. И все-таки?
Софья. На это нужно время, может быть, годы.
Валентина. Нет, что они сегодня тебе сказали?
Софья делает паузу.
Софья. Коля спокойно воспринял. Сразу пошел обратно играть. А Саша сказала, чтобы я уходила.
Валентина. Господи, ей же только восемь!
Софья. Мама, ну не мучай ты меня!
Валентина оборачивается к Петру.
Валентина. Что, вы шокированы?
Петр. Нет. (Неуверенно замолкает). Конечно, нет. Когда-то это нужно было сделать.
Валентина. Нет ничего страшнее слабых людей, когда они пытаются быть сильными! Они так сильно стараются.
Петр. Вы несправедливы.
Валентина. Ах, вот оно что. А вы тоже так поступили бы на ее месте?
Петр. Я — не Соня. Я столько не страдал в жизни.
Валентина. А как это она страдала? От чего, интересно, она страдает сейчас? Будьте так любезны, мне очень интересно узнать.
Петр. Но…
Валентина. Чем она так отличается от всех остальных, живущих в нашей стране? На что она жалуется? Что она несвободна? Мне она так заявила. Ну, а кто свободен? Вы мне скажите. Что, я свободна?
Софья. Нет, нет, мама. Но ты же сама всегда меня ругаешь за то, что я иду у всех на поводу… (Поворачивается к Петру). Она всегда мне так говорит. Что я пассивная, что я посредственная, что я слишком быстро на все соглашаюсь…
Валентина. Я так говорю?
Софья. Вот и сегодня тоже. Ты мне говорила, что люди используют меня. А теперь, когда я пытаюсь настоять на своем, ты начинаешь меня оскорблять.
Валентина. Да! Потому что из этого все равно ничего не выйдет! Потому что это не в твоем характере.
Софья. Ты так считаешь?
Валентина. Это у тебя так, временный порыв. Тебе совершенно не свойственно доводить начатое дело до конца.
Пауза. Софья смотрит на мать, как будто до нее только что доходит смысл возражений Валентины. Потом говорит с подлинным интересом:
Софья. Ты только этого боишься?
Валентина. Да, именно этого. У тебя ничего не получится. И ты останешься с разбитым сердцем!
Софья. Это все, чего ты боишься?
Валентина смотрит на нее уже не так уверенно.
Валентина. И он такой же мямля. Вы меня простите, конечно, но вы же протянете еще лет десять, не больше!
Софья. Спасибо тебе большое, мама. Может, ты еще что-то хочешь сказать?
Софья спокойно смотрит на Петра, которого слова Валентины, похоже, нисколько не смутили.
Петр. Все в порядке, Соня.
Софья. (Валентине.) Может, все же объяснишь, почему ты так реагируешь. (Петру). Полагаю, мама тебе ничего не рассказывала о своей жизни.
Петр. Да нет.
Валентина. Мою жизнь мы не обсуждали.
Софья. Ведь мама тебе не говорила, отчего она со мной так сурова.
Пауза. Обе женщины стоят неподвижно.
Просто тридцать пять лет назад мама сделала выбор.
Валентина. Совершенно верно.
Софья. Я была совсем маленькой. И в двадцать первом году она, так сказать, собственными руками привезла меня сюда. Сюда, из Парижа.
Пауза.
Петр. Понятно.
Он ожидает продолжения рассказа, но обе женщины молчат, опустив глаза. Затем он продолжает:
И что? Я не совсем понял… почему… То есть…
Софья. Давай, смелее. Задавай свой вопрос. Пожалуйста.
Петр. Ну, мне казалось… то есть вопрос, естественно, возникает… Вы не жалеете об этом?
Валентина. Не знаю, что вам ответить. Бывают моменты, когда все идет «наперекосяк».
Софья улыбается.
Я была довольно беспутной молодой особой — наверное, так будет правильнее всего сказать. Кочевала из постели в постель, из студии в студию, много курила, и единственное, что меня в жизни волновало — это отращивать волосы или делать стрижку. Потом у меня родился ребенок. Тогда мне все было нипочем, я была как мать Горького, которая шла маршем с крестьянами и отошла на пятнадцать минут, чтобы родить на меже! А потом побежала догонять своих товарищей. И я была такая же. Родила мою Сонечку в крошечной квартире в Марэ, и под рукой у меня было всего два кувшина горячей воды и приятель-гомосексуалист, который и принял ее. А потом я задумалась: и это — всё? Бесцельно слоняться без дела… когда все мысли лишь о себе самой… Это и есть — даже не знаю, каким словом это лучше назвать — это и есть свобода? Рождение ребенка все изменило. Мне стало казаться, что жизнь в Париже лишена всякого смысла. Пустое потакание собственным капризам. Теперь же у меня была русская дочь. И я должна была вернуться домой. (Откидывается на спинку). Художник в России! О, тогда, когда я вернулась, здесь все было возможно, все пути были открыты. (Улыбается). А теперь… Я уже семнадцать лет не выставлялась! (Пожимает плечами.) У нас устраивают выставки зарубежных художников самых разных направлений, но вот нам, русским, разрешено работать только в одном стиле. Но это не мой стиль! Вот и все.
Все по-прежнему молчат.
Софья. Моя мама не выносит тех, кто жалуется на жизнь.
Петр. А вы никогда не думали… вы, наверное, могли бы уехать отсюда?
Валентина. Вы хотите сказать — эмигрировать?
Петр. Да.
Валентина. Это всегда казалось мне трусостью. Сдаваться — это трусость. В конечном итоге все сводится к такому выбору. (Неожиданно указывает на картину, стоящую на стуле в другом конце комнаты). Вот картина, которую, как нам говорят, оставил в своем завещании какой-то аристократ. И его последней волей было отправить это полотно домой, в Россию. А он ведь уехал аж в девятнадцатом году! (Смеется).
Петр. Я не знаю, не мне судить, я об этом никогда не думал — да и к чему мне? Но вам, с вашим прошлым…
Валентина. Нет, конечно, нет. Я прожила несчастливую жизнь, это я могу вам твердо сказать. Но если бы я поступила трусливо, то тоже была бы несчастлива. (Качает головой.) Наша жизнь определяется тем, чего нет, тем, что не происходит, теми местами, где нас не может быть. А мы постоянно думаем о себе. Я! Я — то, я — это! Я так решила. Бесконечное я, я, я все под себя подминает, все собой затмевает. Какая самодраматизация! Жизнь превращается в крестовый поход, в котором мы противопоставляем себя всей России! С одной стороны — огромная страна, многие тысячи километров. А с другой — Я подумала и Я почувствовала… Неравный поединок. Такое самовыпячивание казалось мне неправомерным. И надуманным. И даже рискованным. …А потом сидеть пить вино или разводить лошадей и все равно мечтать очутиться где-то в другом месте! (Пауза). Я никогда не была коммунисткой. И я знаю, что у нас тут происходило все эти годы. Я и теперь не коммунистка — с чего бы? Но я сделала свой выбор.
Петр. И он оказался правильным?
Валентина. Понятия не имею.
Молчание.
Софья. Петя, пожалуйста, оставь нас с мамой.
Петр. Что? А-а, конечно, пожалуйста.
Софья. Петя! Ну, я прошу тебя. Нам с ней надо поговорить.
Петр. Хорошо, хорошо. (Выглядит расстроенным). Что, сейчас?
Софья. Да, сейчас.
Он все не уходит.
Петр. Когда я тебя увижу?
Софья. Что?
Петр. Когда мы увидимся? Мы же не договорились.
Софья. Ах да, конечно.
Петр. Ну и когда мы…?
Софья. Это обязательно сейчас делать?
Петр. Да, лучше сейчас.
Софья. Прости, я плохо соображаю. Сам решай.
Петр. Через три дня — ты сможешь?
Софья. В пятницу? Да, хорошо. Как обычно, в обед.
Петр. Тогда через три дня.
Софья. Да.
Петр. Все, тогда увидимся. И все обсудим. Валентина Сергеевна, для меня это была большая честь… (Идет через сцену к Валентине)
Валентина. И мне было приятно с вами познакомиться.
Петр. Честно говоря, я боялся сюда идти. Не вас боялся, а просто я очень волнуюсь. Я так хочу, чтобы она была счастлива!
Валентина. В этом нет никаких сомнений.
Он опять задерживается.
Петр. Так значит, через три дня увидимся.
Софья. Да.
Петр. Тогда я пошел. (Быстро выходит, не глядя на Софью).
Валентина. Что-то прохладно.
Софья. Да.
Валентина. Так внезапно похолодало.
Софья. Думаю, просто отключили отопление.
Валентина. Ты только представь, во сколько, наверное, обходится обогрев искусства! Чтобы держать его тепленьким для народа! (Смотрит через сцену на Софью.) Скажи, тебе деньги нужны?
Софья. Да, конечно.
Валентина. Так я и думала. Твой Петр Васильевич просто невероятно смущался. Я догадалась, что ты ему велела попросить у меня денег.
Софья. Да, это правда.
Валентина. Он для этого слишком порядочный. Так бы и остался тут стоять целую вечность.
Софья улыбается.
Сколько тебе нужно?
Софья. Две тысячи.
Валентина. И когда?
Софья. Ну, сначала будут разговоры-уговоры, потом объявление в газете, потом дело пойдет в народный суд, и потом уже понадобятся деньги — для райсуда. Но я подумала: как-то нелепо все это затевать, если в итоге я не смогу заплатить.
Валентина. Тебе надо было спросить меня сегодня утром, до разговора с детьми. Но тебе и в голову не пришло, что я могу отказать.
Она смотрит на Софью, которая ничего не отвечает.
Скажи, пожалуйста, с чего бы мне давать тебе деньги, если я не одобряю твоей затеи?
Молчание. Софья просто сидит и смотрит на нее. Валентина отворачивается.
Тебе просто не повезло. Неудачный исторический момент. В двадцатые годы это было очень просто.
Софья. Да, я слышала.
Валентина. В начале Советской власти не нужно было даже согласия мужа. Можно было попросить развод, просто отправив по почте открытку и три рубля. Приближалась революция полов! Надо сказать, у меня уже тогда были сомнения на этот счет.
Обе женщины улыбаются.
Какое-то время у меня был ухажер. Или лучше сказать, я очень старалась его заполучить. Еще один солдат. Как и вам, нам было некуда пойти. После Парижа нравы в России казались мне просто смехотворными. Потому что уже тогда все вокруг возмущались, если кто-то открыто выказывал свои чувства. Не одобряли! И вот нам пришло в голову, что на вокзалах можно открыто обниматься, потому там все время кто-то с кем-то прощается. Мы стали ходить на вокзал и притворяться, что кто-то из нас уезжает, и вволю обнимались на платформе. Мы попрощались тысячи раз! А поезда один за другим уходили без нас. Пока в один прекрасный день к нам не подошел работник вокзала и не сказал: «Ну что, не надоело еще на поезда глазеть?» (Умолкает, погруженная в мысли). Что у вас впереди? Маленькая комната на окраине. Безденежье. Дети тебя возненавидят за то, что ты увезешь их от отца, от благополучия, к которому они привыкли. От человека с положением, который вписывается в систему. Человека, которому здесь хорошо.
Софья. Да, возможно.
Валентина. А ты подумала, как на нем отразится развод? Он же член партии!
Софья. Конечно, я знаю. Но если я этого не сделаю, то сама себя не смогу уважать.
Валентина смеется.
Валентина. Я тебя умоляю! «Себя уважать»! Кому до тебя есть дело? Не обманывайся на свой счет. Ты просто частное лицо. Никого не интересуют твои любовные приключения где-то в маленькой квартирке. Но вот Григорий — другое дело, он многим рискует. Может потерять положение, влияние, друзей. К нему станут относиться с недоверием. А это уже начало конца.
Софья сурово смотрит на мать.
Софья. Ну и что. Я больше не могу быть замужем за партией. (Качает головой). А насчет себя я всегда знала… я же работаю с молодежью, я «носитель идей» — при моей профессии у меня никаких перспектив, если я не подам заявление в партию. Так что недалек тот час, когда мне предложат принять окончательное решение. (Она на минуту умолкает). А так этот момент никогда не наступит.
Валентина. Да, ты права, наверное…
Софья. По-моему, в наше время надо просто затаиться и тихо проживать свою жизнь.
Валентина. И поэтому ты выбрала Петра Васильевича.
Софья. Да.
Валентина. Потому что он никчемный, пассивный человек без каких-либо амбиций. Я же вижу. И тебе импонирует его пассивность.
Софья. Для меня в этом его главное достоинство! Что же тут плохого? Особенно после Гриши. Я очень рада, что Петя никуда не лезет.
Валентина. Согласна, в этом есть что-то привлекательное. Но всему же есть предел.
Софья. А ты считаешь, Петя чересчур пассивен?
Валентина. Да он же совершенно безнадежен! (Улыбается). У всех есть какие-то мечты. О том, как все могло бы быть иначе. Мы все мечтаем о чем-то другом. Для тебя — это Петр Васильевич. Ты видишь в нем свое спасение, уход от действительности. Только что будет, когда он станет твоей реальностью, а не избавлением от нее? Твоей жизнью?
Софья. Не знаю.
Валентина. А ты задумывалась…
Софья. Я обо всем задумывалась.
Валентина. Да может, ты его возненавидишь, как сейчас Гришу!
Софья. Нет, что ты.
Валентина. Все, что сейчас тебе кажется таким привлекательным: эти его манеры, то, как он шляпу мнет в руках, его мягкость — когда это станет твоей жизнью, то на поверку может оказаться невыносимым.
Софья. Может быть, не знаю. И никто не знает.
Валентина улыбается.
Валентина. Сейчас у нас все живут только будущим. Или прошлым. Никто не хочет слышать о настоящем. А куда нам девать то, что здесь, сейчас? Ах, Париж! Ах, Петя! Что угодно, лишь бы не то, что имеешь. (Поворачивается к Софье). Когда-то у меня была подруга, которая была влюблена в скрипача. Он был женат, поэтому они могли встречаться только урывками. Она его просто боготворила, ходила на все его концерты в течение трех лет. Дошло до того, что он уже не мог играть, если ее не было в зале. Кстати, впоследствии она мне призналась, что скрипичный репертуар ей показался ужасно ограниченным! Так вот, жена того человека неожиданно умерла, и он тут же к ней примчался сказать, что они, наконец, свободны. И что же? Они продержались всего неделю. Он стал ей уже не нужен. (Пауза). По-моему, это самая грустная из всех известных мне историй.
Валентина пристально смотрит на дочь, и Софья выдерживает ее взгляд.
Скажи, что ты чувствуешь, когда он говорит, что готов за тебя жизнь отдать? Что ты для него — это вопрос жизни и смерти?
Софья. Я…
Валентина. Ты разделяешь эти его чувства?
Софья с минуту колеблется.
Софья. Нет. Но мы разные люди. Я просто люблю его. Люблю за то, какой он есть.
Валентина. А тебе не хотелось бы, чтоб он тебя любил не так безысходно?
Софья. Он меня любит, как умеет.
Валентина. И ты считаешь, это хорошо?
Софья. Ну мама, что ты хочешь, чтобы я сказала? Он очень добр ко мне. Он никогда в жизни не сделает мне подлости. Рядом с ним я всегда отдыхаю. Да, мы не во всем совпадаем. Прежде всего — в том, насколько нуждаемся друг в друге. Но что в этом страшного? Ведь если бы все каждый раз говорили: «Это для меня недостаточно идеально» — то ничего бы никогда не происходило.
Валентина. Да, в этом ты права.
Пауза.
Софья. А какая альтернатива? Я знаю, что ты сейчас думаешь. Но если следовать твоей логике, то что, мы всегда должны все принимать, как есть?
Валентина. Я приняла.
Софья. Знаю. Но почему я должна?
Валентина оборачивается и смотрит на нее, ничего не отвечая.
Мама, ты дашь мне денег?
Валентина. Дам, конечно. (Смеется). У меня, правда, их нет…
Софья. Что?
Валентина. Ну откуда у меня две тысячи рублей? Ты что, смеешься?
Софья. Но я предполагала…
Валентина. Ну да, конечно, я веду себя, словно я богачка. По-моему, это просто хороший тон! А ты и не догадывалась?
Софья. Нет.
Валентина. Ты сама посуди, какая у меня была жизнь? Откуда у меня такие деньги могут водиться?
Софья начинает смеяться.
Софья. Я-то думала, ты просто скупая!
Валентина. Я? Скупая? Да я нищая!
Софья. О господи! Просто не могу в это поверить. А я-то еще нервничала…
Валентина. И правильно делала! Но не переживай из-за денег. Я что-нибудь придумаю. Я квартиру могу обменять с доплатой.
Софья. Не смеши меня!
Валентина. А что? Квартира для меня ничего не значит. Господи, да если ко всему прочему мне еще и деньгами нельзя сорить — это уж совсем грустно!
Софья. Нет, мама, об этом даже речи быть не может…
Валентина. Нет, я так решила. Тебе назло, чтоб тебе стыдно стало.
Софья. Ну, хорошо, там видно будет. (Пауза). Значит, ты на моей стороне? Думаешь, я правильно поступаю?
Валентина. Детка, не существует ничего «правильного». И пока ты этого не поймешь, ты не сможешь найти успокоения. (Она встает, решительно идет через всю комнату.) Я поговорю с Гришей. Нет, не ради тебя, не для того, чтобы тебе помочь. Но в интересах детей я постараюсь его уговорить не чинить тебе препятствий, чтобы в районном суде все прошло быстрее. Он же боится женщин! Как и все деспоты.
Софья хочет что-то сказать, но Валентина ее быстро перебивает.
Не проси меня больше ни о чем. Это все, что я могу для тебя сделать. Теперь иди, пожалуйста. Но этот человек, с которым ты хочешь связать свою жизнь, — он же совсем старик, на грани маразма. Да-да, маразма!
Софья. Ну что ты такое говоришь, мама!
Валентина. Ты не будешь счастлива. И вообще, хорошо, если до сорока лет дотянешь!
Софья. Вот и прекрасно. Я рада, что ты довольна. (Улыбается. Видно, что она тронута реакцией матери.) (Улыбается, тронутая реакцией матери)
Валентина. С чего мне быть довольной?
Софья. Ну, иди сюда.
Валентина. Не надо, не надо…
Софья. Мама, ну, пожалуйста! Обними меня!
Валентина. Не глупи.
Софья стоит, раскрыв объятия. Валентина не двигается с места. Тогда Софья идет через сцену и сама ее обнимает. Потом берет руку матери в свои руки.
Софья. Ну, мама, мама!
Валентина борется со слезами. Софья успокаивает ее.
Валентина. Тебе пора. Поцелуй от меня детей. Скажи, чтобы навестили меня.
Софья. Конечно, мама.
Валентина. И как бы ты ни поступила, на этот раз тебе придется смириться с последствиями.
Софья. Знаю. Этому я научилась от тебя.
Она смотрит на мать. Потом поворачивается и выходит из комнаты. Наступает тишина. Через какое-то время Валентина идет через сцену к стулу и берет в руки прислоненную к нему картину. Она держит ее на вытянутых руках несколько секунд. Потом без какой-либо видимой реакции ставит картину обратно. Идет через сцену и останавливается, все еще одна. Ее глаза начинают наполняться слезами. Молча входит Помощник директора и почтительно остается стоять у двери.
Валентина. А, вот и вы.
Помощник. Да.
Валентина. Я не слышала, как вы вошли.
Помощник. Вам удалось взглянуть на картину?
Валентина. Да, я ее осмотрела.
Пауза.
Это Матисс.
Ни один из них не двигается.
И это совершенно определенно не начало цикла.
Помощник. Что, простите?
Валентина. Ну, вы же сами говорили… Помните, вы заметили, что на переднем плане пусто… вы еще высказали предположение, что это могло быть началом чего-то. Например, цикла картин. Что позже он добавил женщину. Или скрипку. Но это не так, а как раз наоборот. Он убрал женщину. Он стремился освободиться от всего лишнего.
Помощник. А-а, вот оно что. Ну да. Это как раз совпадает с нашими научными результатами.
Валентина. Да, все правильно. Так что вы могли сэкономить деньги.
Помощник стоит, озадаченный ее тоном.
Помощник. Может, вы хотите еще раз на нее взглянуть?
Валентина. Нет. …Он сказал, что ему наконец-то не требовалось модели. Или даже красок. Он сам был там. Просто был там, в той комнате, и его присутствия было достаточно.
Помощник делает движение, словно собираясь поднять картину со стула.
Здесь ключ ко всему — это свет, пробивающийся сквозь ставни. Никто другой не умел этого делать. Так передавать рассеянный солнечный свет. Солнце было ему подвластно! Он говорил, это все благодаря ставням. Они были его волшебной палочкой.
Помощник. Да, я вижу, что вы имеете в виду.
Она поворачивается и смотрит на него.
Валентина. А вы, конечно, член партии?
Помощник. Что, простите?
Валентина. Вы в партии состоите? Вписываетесь в систему?
Помощник. А, вот вы о чем.
Валентина. Можете не отвечать. Я и так знаю. Вижу так же ясно, как если бы вы были картиной. (Она поднимает перед собой руку до уровня глаз и приглядывается к нему, словно оценивая). Да, вне всяких сомнений. Вы — вписываетесь.
Помощник. А как же иначе? При моей работе это совершенно необходимо. То есть, я хочу сказать, я и сам хотел. Чтобы добиться какого-то роста… И это полотно тоже сослужит мне хорошую службу!
Валентина. Ну, значит, Матисс поработал не зря. (Берет пальто). Мне пора. (Перед тем, как уйти, в задумчивости останавливается). Знаете, однажды он был на почте где-то в Пикардии, ждал звонка по телефону. Он взял со стола телеграфный бланк и начал автоматически рисовать женскую голову. И потом в течение всего разговора продолжал водить карандашом по бумаге. А когда, наконец, посмотрел на свой набросок, то оказалось, что он нарисовал портрет матери. Его рука двигалась автоматически, мозг даже не подключался. Позже он говорил, что этот рисунок оказался намного достовернее и прекраснее всего, что он когда-либо создавал усилием воли. (Стоит еще какое-то время, потом поворачивается, чтобы уйти).
Помощник. Подождите, я вам машину вызову.
Валентина. Не стоит. Тут трамвайная остановка в двух шагах, я доеду прямо до дома.
Валентина выходит. Помощник остается еще некоторое время, глядя на картину. Свет на заднем плане меркнет, и всю сцену заполняет вид на залив в Ницце: распахнутые створки окна, балкон, море и небо.
Помощник оборачивается и смотрит на открытую дверь.
Конец
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
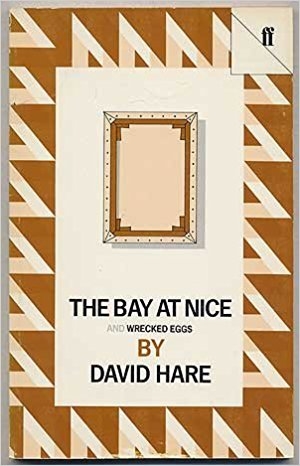

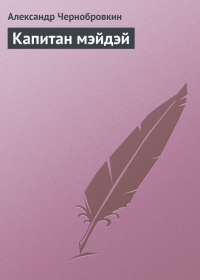

Комментарии к книге «Залив в Ницце», Дэвид Хэйр
Всего 0 комментариев