Новые страдания юного В
Ульрих Пленцдорф
повесть
Перевод с немецкого А. КАРЕЛЬСКОГО
Сообщение в «Берлинер цайтунг» от 26 декабря:
Вечером 24 декабря в летней постройке на территории лагеря «Детский рай II» в районе Лихтенберг народная полиция обнаружила тело семнадцатилетнего Эдгара В. Как показало следствие, Эдгар В., проживавший последнее время без прописки в подлежащем сносу строении, стал жертвой неосторожного обращения с электрическим током.
Извещение в «Берлинер цайтунг» от 30 декабря:
В результате несчастного случая 24 декабря оборвалась жизнь нашего младшего товарища
Эдгара Вибо.
Мы скорбим о безвременно ушедшемI
Дирекция народного предприятия РСУ, Берлин.
Цеховой комитет профсоюза.
Комитет ССНМ.
Извещения в «Фольксвахт» (Франкфурт-на-Одере) от 31 декабря:
Трагический несчастный случай безвременно вырвал из наших рядов незабвенного друга и товарища
Эдгара Вибо.
Дирекция коммунального народного предприятия «Гидравлика»,
Миттенберг.
Профучилище.
Комитет ССНМ.
24 декабря с. г. в результате трагического несчастного случая погиб мой дорогой сын
Эдгар Вибо.
Память его для меня незабвенна.
Эльза Вибо.
— Когда ты в последний раз видела его?
— В конце сентября. Вечером — перед тем как он… ушел.
— И с тех пор ты даже не подумала объявить розыск?!
— Ну знаешь, не тебе упрекать меня! Не тебе! Человек, который все эти годы проявлял заботу о сыне только через почту…
— Извини, пожалуйста, но, по-моему, ты сама так захотела! Куда уж мне было, при моем образе жизни!
— Все иронизируешь!.. Может быть, то, что я не сообщила в полицию, было единственным правильным моим поступком. Правда, в конечном счете и это оказалось неправильным… Но тогда у меня просто руки опустились — такой удар! Он поставил меня в ужасное положение — ив училище, и на заводе. Сын заведующей, лучший ученик — у него средняя оценка была четыре и девять десятых — вдруг оказался хулиганом! Бросает учебу! Бежит из дому! Сам понимаешь… А потом — довольно скоро и регулярно — стали приходить известия от него. Не мне. Где уж. Его дружку Вилли. Магнитофонные пленки. Текст странный. Декламация какая-то. Потом этот Вилли все-таки дал мне их прослушать — ему в конце концов тоже стало не по себе. О том, что Эдгар скрывается в Берлине, он сначала не хотел мне говорить. А из пленок ничего нельзя было понять. Правда, ясно было, что Эдгар здоров, даже работает — все-таки не лодырничал! Позже речь пошла о какой-то девчонке, но тут скоро все расстроилось. Замуж вышла! Пока он был здесь при мне, он и знать не знал ни о каких девчонках… Но это же еще не повод, чтобы поднимать на ноги полицию!
Стоп, стоп! Это все, конечно, буза. Я очень даже знал о девчонках — еще как! С четырнадцати лет. Теперь-то можно сказать. Бывало, все треплются, треплются, а тебе ничего не понятно. Ну, я и решил все сам разузнать. Я такой вот. Ее звали Сильвия. Года на три старше меня. Я ее за час обломал. По-моему, темп неплохой для моего возраста. Если вдобавок учесть, что мой шарм тогда еще не отшлифовался — волевой подбородок и все такое. Я это говорю не для того, чтобы пофорсить, а чтобы вы знали все как есть, ясно? Через год старушка взялась меня просвещать. Ох, с каким скрипом все шло. А я, идиот, прямо за живот готов был хвататься, но, как всегда, лапки кверху. Свинство, конечно.
— Что значит — оказался хулиганом?!
— Он сломал своему мастеру-воспитателю палец на ноге.
— Палец на ноге?
— Швырнул ему под ноги болванку. Тяжелую такую железную болванку. Меня просто как по голове ударили. Сам понимаешь…
— Просто так вот и швырнул?
— Меня при этом не было, но Флемминг — наш мастер-воспитатель, человек пожилой, опытный, всеми уважаемый, — мастер Флемминг рассказал, что дело было так: приходит он утром в мастерскую, раздает им задание — вот как раз эти болванки, для опиловки. Ребята все опиливают, но при проверке он видит, что сосед Эдгара, Вилли, не сам опилил свою болванку, а подсунул готовую, с автомата. На производстве эти болванки, конечно, автоматически опиливаются. Мальчишка раздобыл себе готовую и показывает мастеру. Работа, разумеется, идеальная, до сотой доли миллиметра. Мастер говорит: «Эта болванка с автомата». А Вилли ему: «С какого автомата?» Флемминг говорит: «С автомата во втором цехе». А Вилли на это: «Ах, там есть автомат?! Но откуда же мне знать, мастер Флемминг? Во втором цехе мы были в последний раз, когда только начинали ученье, и подумали тогда, что там у вас инкубатор». Это и был для Эдгара сигнал — ясно, они обо всем уже заранее сговорились. «Положим, — говорит, — там есть автомат. Допустим. Но тогда чего же мы, спрашивается, эти болванки напильником драим? На третьем-то году!»
Ну и сказал. Верно. Только сразу, из черепка. Ни о чем мы не сговаривались. О том, что Вилли с ребятами задумали, я знал, но ввязываться не хотел — как всегда.
— Флемминг спрашивает: «Что я вам сказал, когда вы только пришли ко мне? Я сказал: вот вам кусок железа. Когда сделаете из него часы — значит, баста, выучились. Не раньше и не позже». Это у него присказка такая.
А Эдгар ему: «Но часовщиками мы уже тогда не собирались становиться».
Это я уже давно собирался Флеммингу сказать. Ладно бы его идиотская присказка, но он и во всем такой был. Прямо как из средневековья — мануфактурный период! Я еще долго держался.
— И после этого Эдгар грохнул болванку ему на ноги, да с такой силой, что перебил палец. Для меня это было как гром среди ясного неба. Я просто поверить не могла.
Все верно. Кроме двух пустячков. Во-первых, болванку я не грохал. Ни к чему было. Эти болванки одним своим весом не то что дохлый палец, слону хребет перешибут. Просто выронишь — и готово. Что я и сделал. А во-вторых, я выронил ее не после этого; сначала Флемминг еще одну фразочку сказал — выдал мне, значит: «От тебя я этого меньше всего ожидал, Вибау!»
Это уж был финиш. Тут я и выронил болванку. Вы только послушайте, как это звучит: Эдгар Вибау! Так нет же: Эдгар Вибо! Ни одна собака ведь не говорит «Ренау» вместо «Рено»! По-моему, каждый человек имеет право требовать, чтобы его имя не корежили. Если кому на это чихать — пожалуйста, его дело. А мне вот не чихать! Это уж не первый год так было. Мать-то привыкла, что ее все время называли Вибау. Она, видите ли, полагала, что это больше на немецкий лад, что ее от этого не убудет и вообще всех своих успехов в жизни и на производстве она добилась под именем Вибау. Ну, а отростку уж и подавно сам бог велел зваться Вибау! А чем плохо Вибо? Ведь не Гитлер же, не Гиммлер! Вот это уж был бы финиш! А Вибо? Старая гугенотская фамилия, ну и что? Конечно, все это еще не повод, чтобы грохать старому крабу железяку на клешню. Это было свинство, что и говорить. И мне сразу стало ясно, что теперь уж никто и не заикнется насчет обучения и всего такого, теперь только и будут долбить про железяку и клешню. А со мной вот иногда бывает такое — вдруг прямо в жар тебя бросит, в глазах темно, — и тут обязательно что-нибудь выкинешь, а потом сам не помнишь, что на тебя нашло. Это все, наверно, моя гугенотская кровь. А может, у меня давление высокое. Гугенотская кровь напирает.
— Ты считаешь, что Эдгар просто испугался последствий и потому сбежал?
— Конечно. А что же еще?
Я вот что скажу. Дожидаться развязки этой истории я, конечно, не жаждал. «А что скажет сам Эдгар Вибау (!) перед лицом товарищей о своем поведении по отношению к мастеру Флеммингу?» Финиш, братцы! Да я бы скорее сам себе клешню откусил, только бы не канючить: «Я осознал… Я обещаю… Больше не повторится…» и все такое! Вот не лежит у меня душа к самокритике — я имею в виду: к публичной. Унизительно это как-то. Не знаю, понятно ли я говорю. По-моему, надо уважать гордость в человеке. Вот и с примерами этими. То и дело пристают к тебе, с кого бы ты хотел брать пример, в неделю по три сочинения об этом пишешь. Допустим, у меня есть такой пример, но не обязательно же мне об этом на весь свет трубить. Один раз я написал: «Высший пример для меня — Эдгар Вибо. Я хотел бы стать таким, каким когда-нибудь станет он. Не больше». То есть я хотел так написать. А потом, парни, передумал. Хотя в худшем случае мое сочинение оставили бы без отметки. Ни один ведь учитель не решался поставить мне плохую отметку.
— И больше ничего не было?
— Ты, конечно, имеешь в виду какую-нибудь ссору? Но мы с ним никогда не ссорились. Хотя нет — однажды он со злости так рванулся вниз по лестнице, что чуть не загремел по ступенькам. Куда-то я не хотела его брать с собой. Эта ссора произошла, когда ему было пять лет — если ты это имеешь в виду. Впрочем, наверно, все-таки я во всем виновата!
Вот уж мура так мура! Тут никто не виноват — один я. И точка, ясно? Эдгар Вибо бросил учебу и удрал из дому, пот ом у что он уже давно так решил. Он подрабатывал в Берлине маляром, жил как хотел, нашел себе Шарлотту и чуть не совершил гениального открытия, потому что он так хотел!
А что я при этом гробанулся — вот это, конечно, жаль. Не повезло. Но чтобы вас утешить, скажу: не много чего я и почувствовал. 380 вольт — это вам не шутка, братцы. Раз — и конец. А вообще тут у нас не заведено, чтобы жалеть. Мы все здесь знаем, что нам светит. Что мы перестанем быть, когда вы перестанете думать о нас. Мои-то шансы тут, видать, на нуле. Молод больно был.
— Здравствуй. Моя фамилия Вибо.
— Очень приятно. Линднер, Вилли.
Вилли, салют! При жизни ты был моим лучшим приятелем, так окажи мне последнюю услугу, не начинай хоть ты раздирать себе грудь или что там еще, скулить про вину и все такое. Держись, Вилли.
— Я слышал, что есть пленки от Эдгара, которые он наговорил? Они сохранились? Я хочу сказать: можно мне их прослушать?
— Да. Можно.
Магнитофонные пленки: [1]
Рассказать тебе по порядку /вильгельм/ как я встретился /как я познакомился с прелестнейшим из созданий/ будет нелегко /я доволен/ я счастлив /ангел/ что она за совершенство /почему она совершенна/ этого не умею объяснить/ довольно /если скажу! что она овладела всеми силами моей души/ конец.
нет /я не обманываю себя/ я читаю в черных ее глазах участие ко мне и к моей судьбе /она мне свята/ вожделения немы при ней/ конец жених здесь /вильгельм/ по счастью я не был при встрече /ударом бы больше моему разбитому сердцу/ конец
его расположением ко мне я /кажется/ обязан больше лотте /нежели его симпатии/ насчет этого женщины весьма тонки /и они правы/ согласить двух обожателей/ дело очень трудное /но если удастся /выгода всегда на их стороне/ конец
теперь /вильгельм/ перенесу все /вот была ночь/ я более не увижу ее /теперь я готов /жду утра/ алчу воздуха/ и с восходом солнца кони о друзья мои /отчего поток гения так редко выступает из берегов /чтоб потрясти вашу изумленную душу/ вон два друга /два приятеля расположились направо и налево/ вдоль реки/ их огороды /садики/ цветнички так разрослись /и вы хотите/любезные друзья/ чтобы два счастливца не обеспечили себя громоотводами и плотинами /все это/ вильгельм/ притупляет язык /уходишь в себя/ и находишь целый мир/ конец
а чьему краснобайству я этим хомутом обязан /кто мне о деятельности уши прожужжал /вы же/мои милые /хороша деятельность/ я подал в отставку /подсласти/ рассиропь и поднеси это матушке/ конец
— Вы что-нибудь понимаете?
— Нет. Ничего…
Еще бы. Такое вряд ли кто поймет. Я это все по той допотопной книжонке шпарил. Карманного издания. Далее заголовка не знаю. Обложка приказала долго жить — в сортире за Биллиной берлогой. Вся штуковина в таком стиле — загнуться можно.
— Я думал, может, это код какой-нибудь.
— Вряд ли, слишком умно для кода. И чтобы выдумано было, не похоже.
— Эд — он всегда был такой. Он еще и не то выдумывал. Целые шлягеры. И слова и музыку! Не было такого инструмента, чтобы он через два дня не научился на нем играть. Ну или через неделю. Он делал счетные машины из картона — они и сейчас функционируют. Но чаще всего мы вместе рисовали.
— Эдгар рисовал?.. Что же это были за картины?
— Мы рисовали всегда на листах двадцать второго формата.
— Я хочу сказать: на какие сюжеты? И можно ли посмотреть эти картины?
— Нет. Он их все забрал с собой. А сюжеты — какие там сюжеты! Мы сплошь абстрактно рисовали. Одна картина называлась «Физика». Другая — «Химия». Или: «Мозг математика». Вот только его мать была против. Хотела, чтобы он «приобрел приличную профессию». Эд здорово психовал, если вас это интересует. Но особенно он лез в бутылку, когда она — я имею в виду мать — прятала открытки от его предка… я хочу сказать— от его отца… то есть… от вас. Такое часто бывало. Вот тогда он жутко психовал.
Это точно. Вот уж чего терпеть не могу. В конце концов, есть тайна переписки или нет? А открытки были мне адресованы — черным по белому. Господину Эдгару Вибо, рубаке-гугеноту. Всякому идиоту было ясно, что меня оберегают от родителя — этого прохиндея, который всю жизнь только и думал, где бы за галстук заложить да с бабой переспать. Черный человек из Миттенберга. Тоже мне — художник! Никто, видите ли, не понимал его картин. Было бы что понимать.
— И вы считаете, что Эдгар потому и сбежал?
— Не знаю… Во всяком случае, хоть все и думают, что Эд сбежал из-за истории с Флеммингом, но это все ерунда. Зачем он так сделал — я, правда, и сам не знаю. Ему всегда везло. По всем предметам любому сто очков вперед даст, и без зубрежки. Если что — старался никогда не ввязываться. Ребята даже злились. Говорили: маменькин сынок. Конечно, не при всех. С Эдом шутки плохи — враз бы им показал. Или просто бы не расслышал. Вот, например, с этими мини-юбками. Девчонки из нашего класса повадились в мини-юбках в мастерскую ходить — на уроки. Чтобы мастерам было на что поглядеть. Те уж тыщу раз приказы издавали: запретить. Так нас доняли, что однажды мы — все ребята как один — явились на урок в мини-юбках. Вот был суперцирк! А Эд не захотел. Да это было и не по нем. Наверно, думал: вот идиоты.
Не совсем так. Я очень даже за короткие юбки. Вот утром выползешь из своего логова, смурной, заспанный, а увидишь такую юбочку в окне и сразу оживешь. Вообще, по-моему, пусть каждый одевается во что хочет. А цирк этот был — высший класс. Я только потому не стал встревать, чтобы мать не расстраивалась. Вот где я и в самом деле был дурак дураком — вечно боялся, как бы она не расстроилась. Меня вообще приучили ходить по струнке — не дай бог кого-нибудь расстроишь. Так вот и жил: то нельзя, это нельзя. Гроб. Не знаю, понятно ли я говорю. Зато теперь, может быть, вам ясно, почему я им всем сказал — привет! Сколько можно людям глаза мозолить: вот вам, видите ли, живое доказательство того, что парня можно чудесно воспитать и без отца. Так ведь оно было. Однажды мне пришла в голову идиотская мысль: а что, если я вдруг в один прекрасный день концы отдам? Скажем, черная оспа или еще какая-нибудь гнусь. Да если тогда спросить: а что я от жизни имел? Отвязаться от этой мысли не мог — так и стояла колом в башке.
— Вообще, я-то считаю, Эд убежал потому, что хотел стать художником. Вот и все! А эти идиоты в Берлине не приняли его в художественное училище.
— Почему?
— Эд сказал: «Бездарь я. Никакой фантазии». Он здорово психовал.
Еще бы! Хотя, конечно, это факт: все мои произведения дерьмо, что и говорить. Ведь почему мы только абстрактные картины и рисовали? Потому что я, идиот, в жизни бы не нарисовал ничего стоящего, чтобы потом можно было узнать: хоть паршивую дворнягу какую-нибудь. С этим рисованием я уж точно был идиот идиотом. Хотя вообще цирк получился что надо. Вваливаюсь я в это училище и прямиком к профессору в кабинет. Бац ему листочки на стол — избранные произведения, будьте любезны. Он сначала спросил: «И как долго вы этим занимаетесь?»
Я: «Не знаю. Довольно долго». А сам на него даже не смотрю. Он: «У вас есть какая-нибудь профессия?»
Я: «Нет, насколько мне известно. А зачем?»
Вот тут-то ему самое время и было вышвырнуть меня за дверь, как щенка! Но старичок был крепыш! Такого не прошибешь!
Он: «Здесь есть какой-нибудь порядок? Который лист первый, который последний?» Имелась в виду моя экспозиция у него на столе.
Я: «Ранние вещи — слева». Ранние вещи! Братцы! Загнуться можно! Это я ему здорово врезал. Под самый дых.
Он: «Сколько же вам лет?»
Старика и в самом деле было не прошибить!
Я промямлил: «Девятнадцать».
Не знаю, поверил он или нет.
Он: «У вас есть фантазия. Это бесспорно, совершенно бесспорно. И рисовать вы умеете. Если б у вас была профессия, я бы сказал —* чертежник».
Я начал собирать свои листочки.
Он: «Я ведь могу и ошибаться. Оставьте у нас свои рисунки дня на два — на три. Ум хорошо, а два-три, как известно, лучше».
Я складывал свои листочки. Железно. Не было более непризнанного гения, чем я.
— И все-таки вы остались в Берлине?
— Эд остался. Я — нет. Не мог просто. Но его сам уговаривал.
По идее я был прав, это имело смысл. В конце концов, уж где-
где, а в Берлине можно как-нибудь перебиться и со временем сделать себе имя. Но я не то чтобы говорил ему: оставайся. С Эдом такой номер не прошел бы. У нас в Берлине садовый домик был — мы раньше жили в Берлине, пока отца не перевели сюда. Продать его так и не удалось, там вот-вот собирались новые дома строить. А ключ я на всякий случай приберег. Хибара была еще в полном порядке. Но как только он ее приметил, я давай его отговаривать. Крыша, говорю, худая. Плед с тахты сперли. Из мебели одна рухлядь осталась, как обычно бывает. И что хибару вот-вот сносить будут из-за этих новостроек. Вижу, Эд клюнул. Как я и рассчитывал. Вещи свои раскладывает. Да какие там вещи! Кроме картин, там и не было ничего — только то, что на Нем: куртка из дерюги — он ее сам себе сшил, медной проволокой, — и старые джинсы.
Еще бы не джинсы! Представляете себе жизнь без джинсов? Самые благородные штаны на свете! Плевал я на все синтетические шмотки из «Юмо»[2] — барахло оно и есть барахло. Джинсы я ни на что на свете не променяю — ну, если не считать самого смака. И, может, музыки. Только не какого-нибудь там Гендельсона Бахольди, а настоящей музыки, парни! Бахольди или другие там — они, конечно, тоже ничего, но за печенки не хватают. А говорю я про настоящие джинсы, само собой. Сейчас настрочили всякого барахла и все джинсами называют. Тогда уж лучше нагишом ходить. Например, с молнией впереди — это уже не джинсы. Вообще настоящие джинсы бывают только одного фасона. Кто носит настоящие джинсы, тот меня поймет. Хотя, конечно, если кто носит настоящие джинсы, это еще не значит, что он и толк в них знает. Джинсы надо с толком носить. А то натянут и сами не понимают, что у них на ляжках. Терпеть не могу, когда какой-нибудь двадцатипятилетний хрыч втиснет свои окорока в джинсы, да еще на талии стянет. Это уж финиш. Джинсы — набедренные штаны! Это значит, они должны быть узкими и держаться просто за счет трения, иначе они у тебя с бедер сползут. И тут, конечно, нельзя, чтобы бедра были толстые, а уж толстый зад и подавно — тогда они просто в застежке не сойдутся.
В двадцать пять лет этого уже не понять. Это все равно что у тебя партийный значок, а ты дома жену колотишь. Вообще, джинсы — это весь человек, а не просто штаны. Я даже иногда думал: нельзя жить дольше семнадцати, ну, восемнадцати лет. Потом начинается работа, или учеба, или армия, и с человеком уже не договоришься. Во всяком случае, я таких не встречал. Не знаю, понятно ли я говорю.
В общем, тогда вот люди и напяливают джинсы, хоть они им как корове седло. А вот зато когда человек на пенсию ушел и джинсы надевает — с животиком, с подтяжками, — это опять здорово. Тут ничего не скажешь. Но я таких не встречал — одного Зарембу. Заремба был старикан что надо. Вот ему бы пошли джинсы, если б он захотел, и ни одна собака ничего бы не сказала.
— Эд хотел даже, чтобы и я остался. Говорит — не пропадем.
Но я не рассчитывал остаться, да и не мог. Эд мог, а я нет. Я и хотел, но не мог. Тогда Эд сказал: «Дома передай, что я жив-здоров — и точка». Это последнее, что я от него услышал. И я уехал домой.
Молодец, старик. Так держать! Ты парень что надо. Хвалю. Если б я составлял завещание, я бы тебя единственным наследником сделал. Должно быть, я тебя недооценивал. Как ты мне про эту берлогу внушил, это было здорово. По-честному. А вот я не совсем честно уговаривал тебя остаться. То есть вообще-то честно. Мы бы с тобой ужились. Но все-таки не совсем честно. Понимаешь, я ведь ни разу в своей жизни не был по-настоящему один. И вдруг — такой шанс! Потому я и не совсем честно тебя уговаривал. Надеюсь, ты ничего не заметил. А если заметил — забудь, старик. Когда ты уехал, у меня чудно как-то стало на душе. Сначала я подумал, совсем автоматически: завалюсь-ка спать. Самое время. А потом только до меня начало доходить: ведь теперь я могу делать что хочу. Никто уже не будет встревать. Даже руки перед едой могу не мыть, если не захочу. Наверно, поесть надо, но я уж не так вроде и голоден. В общем, первым делом я расшвырял кругом в художественном беспорядке свое барахло. Носки, конечно, на стол. Это был самый гвоздь. Потом взял микрофон, включил маг и начал одну из своих частных передач: «Дамы и господа! Старички и старушки! Праведники и грешники! Расслабьтесь! Шуганите младших сестренок и братишек в кино! Заприте предков в чуланы! Перед вами снова выступает ваш несравненный, неистощимый Эдди!»
Тут я выдал свой шлягер «Синие джинсы». Сделал я его три года назад и шлифовал от раза к разу:
Oh, Bluejeans White Jeans? — No Black Jeans? — No Blue Jeans, oh Oh, Bluejeans, jeah Oh, Bluejeans Old Jeans? — No New Jeans? — No Blue Jeans, oh Oh, Bluejeans, jeah[3]Представляете, парни? Все в таком сочном звуке, на подъеме - ну, в общем, в его стиле. Говорят сейчас — вот, мол, помер. Чушь. Сэчмо [4] не так-то легко загнать в могилу, как и самый джаз. По-моему, на этот раз я сам себя переплюнул. А когда кончил, у меня было такое чувство, что я Робинзон Крузо и Сэчмо зараз. Робинзон Сэчмо. Потом я — вот тоже идиот! — развесил свои избранные произведения по стенкам. Пускай все знают: здесь живет непризнанный гений Эдгар Вибо. Ну и идиот, скажу я вам! Но я в самом деле здорово завелся. Только вот не знал, с чего начать. Собственно, я хотел перво-наперво поехать в город, прошвырнуться по Берлину — ночная жизнь и все такое. Или пойти в музей истории гугенотов. Кажется, я уже говорил, что по отцовской линии я из гугенотов. И я сильно рассчитывал, что найду в Берлине какие-нибудь следы фамилии Вибо. По-моему, я, идиот, надеялся на дворянское происхождение. Эдгар де Вибо и все такое. Но потом сообразил, что в это время вряд ли хоть один музей открыт. Да и где он, не знал.
В общем, я себя в темпе проанализировал и установил, что мне, собственно, больше всего охота читать — прямо чтобы до утра. Потом продрыхнуть до обеда, а там уж держись, Берлин. Я вообще решил так устроиться: до обеда спать, а с обеда до полуночи жить. Все равно я до обеда сонный как муха. Только вот загвоздка — взбодриться нечем. Я имею в виду не гашиш или что там еще. Не опиум. Вообще-то я не против гашиша. Правда, я ни разу не пробовал. Но у меня, идиота, наверно, хватило бы моих идиотских мозгов на то, чтобы попробовать, если б я его где-нибудь раздобыл. Просто из любопытства. Один раз мы со старичком Вилли целых полгода собирали и сушили банановые корки. Говорят, это все равно что гашиш. Но меня нисколько не проняло, только вся пасть склеилась. Мы улеглись на ковер, включили маг и закурили эти самые корки. Лежим — ничего. Тогда я закатил глаза, задергался, захохотал и начал нести всякую муру, будто меня до самых печенок проняло. Вилли это увидел и тоже начал, но я уверен, что и у него ничего не было. Больше я ни разу не связывался с этими банановыми корками и вообще со всяким таким дерьмом. Когда я говорю «взбодриться», я имею в виду — почитать. Надеюсь, вы не подумали, что я приволок с собой книжки? Даже две свои самые любимые не взял. Решил — прошлую жизнь нечего за собой тащить. Я их обе почти наизусть знал, от корки до корки. Вообще насчет книжек я считал так: все книжки все равно не прочесть, даже самые хорошие. Потому и сконцентрировался исключительно на двух. По-моему, в каждой отдельной книжке почти все остальные уже есть. Не знаю, понятно ли я говорю. Я хочу сказать: для того чтобы написать книжку, надо ведь сначала тысячи других прочесть. Я только так это себе и представляю. Ну, скажем, тысячи три. А каждую из них написал человек, который сам три тысячи прочел. Никто не может сказать, сколько всего книжек на свете. Но даже и по этому простому подсчету их выходит вон сколько миллиардов, да еще помножить на два. По-моему, вполне хватит. А мои две любимые книжки были такие: одна — «Робинзон Крузо». Небось сейчас кто-нибудь оскалится. Я бы, конечно, в жизни не сознался. Но теперь… А другая — этого Сэлинджера. Она мне по чистой случайности в лапы попала. Никто про нее и не знал. Я хочу сказать: никто мне ее не советовал, и все такое. И очень хорошо. Я бы тогда и не прикоснулся к ней. Уж сколько раз я обжигался на рекомендованных книжках. Вот такой я чокнутый — мне всякая рекомендованная книжка казалась мурой, даже если она и была хорошая. А с этой — я до сих пор прямо холодею, как подумаю, что она могла мне и не попасться. Этот Сэлинджер — старик что надо. Как он там по этому промозглому Нью-Йорку слоняется и домой идти не хочет, потому что из школы удрал, а они его там все равно хотели вытурить. Прямо за печенки хватает. Если б у меня адрес был, я бы точно ему написал — пускай к нам приезжает. Мы ведь с ним, должно быть, одногодки. Миттенберг по сравнению с Нью-Йорком, конечно, дыра, но у нас он бы здорово отдохнул. Прежде всего, мы устранили бы эти его идиотские сексуальные проблемы. Они, пожалуй, единственное, чего я в Сэлинджере так и не мог понять. Легко, конечно, говорить, когда у тебя никогда этих проблем не было. Могу только сказать: каждый, у кого такие трудности, пускай заведет себе девчонку. Верный способ. Не хочу сказать: какую попало. Это — нет. Но вот если заметишь, что она смеется над тем же, что и ты, это, парни, уж самый верный признак. В Миттенберге я бы Сэлинджеру по крайней мере двух нашел таких, чтоб смеялись над тем же, что и он. А если нет — мы бы с ним уж как-нибудь их воспитали.
При желании я мог бы завалиться и всю книжку зараз всухую прочесть. И Робинзона тоже. Я хочу сказать: про себя, в черепке. Дома у меня был такой метод, когда я не хотел, чтобы старушка Вибау опять расстраивалась. Но теперь с этим уже не надо было считаться. Я прочесал всю Виллину берлогу, чтива искал. Как бы не так! Старики его, видать, здорово прибарахлились под старость. Всю старую мебель из четырехкомнатной квартиры тут свалили, ничего не взяли. Но хоть бы одну паршивую книжонку оставили, хоть бы газеты лоскуток. Ни единой бумажки. Даже на кухне, в этом гробу. Полный гарнитур — и ни одной книжки. Видать, просто расстаться со своими книжками не могли. Тут мне приспичило. Вышел в сад — темно, как на погосте. Пока нашел сортир, чуть кумпол себе не пробил: то об коленку, то об деревья. Вообще-то я только отлить хотел, но, как всегда, сразу и все кишки закопошились. Всю жизнь я из-за этого страдал, так и не мог по отдельности. Только захочешь отлить — сразу и на насест надо. Каждый раз. А бумаги нет, старики! Я обшарил весь сортир, как лунатик. Вот тогда-то мне этот бестселлер и подвернулся. Разобрать, конечно, ничего нельзя было — темно. Ну, я и пустил в ход сначала обложку, потом титульный лист, а потом последние страницы — там обычно послесловия стоят, которых все равно ни одна собака не читает. А в берлоге, при свете, убедился, что очень четко сработал. Но сначала я устроил себе минуту молчания. Как-никак, только что с последним грузом из Миттенберга распрощался. Через две страницы я этим детективом в стенку запустил. Читать невозможно, братцы! При всем желании. А через пять минут гляжу — он снова у меня в лапах. Раз уж я решил читать до утра, значит, решил. Я вот такой. Через три часа до последней точки дочитал.
Ну, скажу я вам, мужики! Этот тип в книжке — его Вертером звали — в конце пулю себе в лоб пустил. Раз — и отвалился. Продырявил себе арбуз, потому что не получил бабу, какую хотел. И уж так сам себя жалеет. Если он не круглый идиот, то должен был бы заметить, что она-то, эта Шарлотта его, только и ждала, чтобы он з а дело взялся! Я хочу сказать: если я с девчонкой один в комнате и знаю, что раньше чем через полчаса ни одна собака не войдет, да я уж на все рискну, парни! Может, конечно, затрещину на этом заработаю — ну и что? Все лучше, чем шанс прошляпить. А кроме того, затрещину тебе дадут самое большее в двух случаях из десяти. Точно вам говорю. А этот Вертер сто раз был с ней один на один. Когда в парке все гулял. А он что? Смотрит себе, как она замуж выходит. А потом щелк — и готов. Это уж финиш.
Вот кого мне по-настоящему жалко было, так это ее. Осталась теперь со своим тюфяком-мужем. Хоть бы об этом-то Вертер подумал. И потом: положим, к ней и вправду было не подъехать. Так уж из-за этого сразу себя и щелкать? У него же лошадь была! Рванул в леса — и привет. Лесов этих тогда еще было навалом. А друзей-приятелей он бы себе сколько хочешь нашел, голову даю на отсечение. Томаса Мюнцера того же или еще кого. А тут все из пальца высосано. Чушь одна. А стиль! Куда ни плюнь, все душа, и сердце, и блаженство, и слезы. Неужели хоть кто-нибудь так говорил, даже пускай и триста лет назад? Весь агрегат из сплошных писем от этого чокнутого Вертера к своему дружку домой. И небось сочинитель рассчитывал, что это жутко оригинально или, наоборот, естественно. Ему бы моего Сэлинджера почитать. Вот где правда-то, старики! Все как в жизни.
Мой вам совет, парни: если достанете, прочтите. Как увидите, стоит у кого-нибудь, зажмите и не отдавайте! Скажите, что затеряли. Выложите пять марок — ну и что? И не глядите, что заголовок такой. Заголовок, пожалуй, и точно не фонтан. А может, его перевели плохо — не знаю, но все равно. Или хоть фильм посмотрите. То есть я не знаю, есть ли такой фильм. У меня с этой книжкой было как с Робинзоном. Так и видишь перед собой каждый кадр. Не знаю, понятно ли это вам. Все до того ясно себе представляешь, будто в кино видел, а потом выясняется, что и фильма-то такого нет. Но если, скажем, фильма по Сэлинджеру нет, то я бы любому режиссеру советовал поставить. Успех считай что в кармане. Я, правда, не знаю, пошел ли бы сам его смотреть. Наверно, побоялся бы, что мой собственный фильм угробят. Я вообще не большой любитель кино. Ну разве что Чаплин или всякие дурацкие комедии, где эти болваны в котелках без конца лупят друг друга чем попало. А на другие даже и не ходил. Или еще «Зеленые тернии» с Сиднеем Пуатье [5] — может, кто-нибудь видел. Этот я бы каждый день мог смотреть. Я, конечно, не говорю о программных фильмах — в помощь изучающим историю. Туда надо было ходить. Они в учебном плане стояли. Впрочем, я на них ходил с интересом. Просидишь час — и пожалуйста, все знаешь; а то бы тысячу и одну ночь читал учебник истории. По-моему, это очень практичный метод. Я бы с удовольствием потолковал с теми, кто делает такие фильмы. Сказал бы им: «Молодцы, ребята. Валяйте и дальше так». По-моему, таких людей надо поощрять. Они столько времени экономят! Одного киношника я знал, но он не был режиссером, он сценарии писал, и, кажется, не для исторических фильмов. Он только ухмыльнулся, когда выслушал мое мнение. Я не сумел втолковать ему, что говорю всерьез. А познакомились мы с ним, когда нас из училища откомандировали в поход на фильм, к которому он сценарий состряпал. В заключение — «беседа с создателями фильма». Но не для всех, кто хотел, а только для отличников учебы, для образцовых — в качестве поощрения. Все представление, надо вам сказать, устраивалось во время уроков. А кто в первых рядах? Эдгар Вибо, этот интеллигентный, образованный, дисциплинированный мальчик. Наша гордость, наш передовик! Ну, конечно, и другие передовички, с других курсов — по два рыла на курс.
Фильм был из современной жизни. Рассказывать там особенно нечего. По доброй воле я бы ни за что на него не пошел — разве только из-за того, что музыку к нему делали эти ребята из ансамбля «М. С.». Они. наверно, просто хотели в кино пробраться. А фильм был про одного парня такого, он пришел со стройки и решил начать новую жизнь. До этого с ним не все в порядке было, я имею в виду — политически, и даже стройка не помогла. А погорел он за нанесение телесного повреждения: он там пенсионера одного двинул за то, что тот к нему из-за музыки приставал — слишком шумная, крикливая и все такое. Сразу после стройки он попал в больницу — с желтухой кажется; во всяком случае, к нему не пускали никого. Да у него никого и не было. Но в больнице, в его палате, нашелся один такой агитатор — ну, в общем, воспитывал всех. Я как все это увидел, сразу понял, что будет дальше. Этот агитатор, конечно, станет на него капать, пока тот все не осознает и не вольется благополучно в коллектив. Так оно и было. Он попал в передовую бригаду с передовым бригадиром, познакомился с передовой студенткой; ее родители, правда, сначала были против, но потом тоже не захотели отставать, когда поняли, каким он стал передовым, и под конец он даже в армию пошел. Не знаю, видал ли кто из вас этот передовой фильм, парни. Единственное, что меня там заинтересовало, кроме музыки, это был брат главного героя. Тот его везде за собой таскал, чтобы тоже к коллективу приобщить. Они все время потом этого агитатора разыскивали. Ну как тут не прослезиться? А брат очень даже охотно за ним таскался: во-первых, ему просто приятно было по свету пошататься, а потом, видать, передовая студентка была ему не просто так, да и он ей тоже. В одном месте я даже подумал: еще одно слово — и она готова, стоит ему только захотеть. Во всяком случае, с этого момента она мне вдруг стала намного симпатичней. Он таскался за братом туда-сюда, но на агитацию не очень-то поддавался. Он клоуном в цирке хотел стать. Вбил себе это в башку, и все. Они ему говорили, что он просто лодырничает, вместо того чтобы приобрести приличную профессию. Приличную профессию, парни! Уж я-то это знал. А он в цирк потому и рвался, что свет хотел посмотреть, хоть немножко. Ну и что? Я очень хорошо его понимал. Что в этом плохого? По-моему, большинство людей хотят свет посмотреть. А кто уверяет, что нет, тот просто врет. Я сразу выключался, когда кто-нибудь начинал заливать насчет того, что Миттенберг — это и есть весь белый свет. Вот и братец этот тоже был такой.
Постепенно мне стало интересно, а кто всю эту историю сварганил. Я все время наблюдал за сценаристом, когда мы потом сидели в учительской и по очереди рассказывали, какой мы посмотрели замечательный фильм и как многому в нем можно научиться. Сначала высказались все присутствующие учителя и мастера — насчет того, чему он должен был нас научить, потом мы — насчет того, чему мы научились. А сценарист за все время слова не проронил. И вид у него был такой, будто весь этот цирк с нами, образцовыми мальчиками, ему до фитиля. Потом создателя фильма повели по всем нашим мастерским и все такое. Тут мы с Вилли воспользовались случаем и насели на этого типа. Просто прилипли и оттерли его потихонечку от других. Мне сначала даже показалось, что он нам за это очень благодарен. Тогда-то я и сказал ему свое настоящее мнение. Сказал, что фильм, в котором люди только и знают, что учатся и перевоспитываются, сплошное занудство. Каждый сразу видит, чему он должен учиться, а ни одна собака не хочет, проучившись целый день, еще и вечером в кино учиться, в кино отдыхать ходят. Он сказал, что тоже так считает, но иначе нельзя было. Тогда я ему и посоветовал не соваться в это дело, а лучше взяться за исторические фильмы; там уж каждый с самого начала знает, что они не для отдыха. Тут он заспешил, чтобы догнать своих приятелей, которым Флемминг расписывал наше передовое обучение. Мы не стали его задерживать. У меня все равно было такое чувство, что у него что-то в печенках сидит, то ли из-за нынешнего дня, то ли вообще. Жалко только, что у меня его адреса не осталось. Может, он был из Берлина, тогда бы я к нему сходил, уж тут бы он у меня не отвертелся.
— Семья Шмидтов в этом доме живет?
— А кого вам нужно?
— Фрау Шмидт.
— Это я. Вам повезло.
— Да. Моя фамилия Вибо. Отец Эдгара.
— Как вы меня нашли?
— Это было не так просто.
— Я хочу сказать: как вы узнали обо мне?
— Из магнитофонных пленок. Эдгар посылал магнитофонные пленки в Миттенберг — вместо писем.
— Я ничего этого не знала. И там есть про меня?
— Очень мало. Что вас зовут Шарлотта и что вы замужем. И что у вас черные глаза.
Спокойно, Шерли. Я ничего не сказал. Ни слова.
— Какая Шарлотта? Это я, что ли, Шарлотта?!
— Не знаю. Но что же вы плачете? Не надо плакать.
Не надо реветь, Шерли. Буза все это. Из-за чего тут реветь? А имя я из той самой книжки взял.
— Извините меня, пожалуйста! Эдгар был такой идиот! Такой беспросветный, твердолобый идиот! С ним ничего нельзя было поделать. Извините, пожалуйста!
Это точно. Я был идиот. Ох и идиот же я был! Только перестань реветь. По-моему, никто даже и представить себе не может, какой я был идиот.
— Я, собственно, хотел спросить, не сохранился ли у вас портрет, который он нарисовал.
— Да Эдгар вообще не умел рисовать! Это еще один его идиотский заскок. Каждому это было ясно, но ему ведь попробуй докажи. А скажешь ему прямо, он, бывало, сразу понесет такое, что ничего понять невозможно. Может, он и сам не соображал, что несет.
Вот такой ты мне больше всего нравилась, Шерли, когда так вот заводилась. Но насчет того, что каждому сразу было ясно, будто я рисовать не умел, это не совсем верно. Я хочу сказать — кому-то, может, это и было ясно, но я здорово умел делать вид, что кое-что все-таки соображаю. Это самое верное дело, парни. Главное не в том, чтобы что-то уметь, а в том, чтобы делать вид, что умеешь. Тогда все в порядке. Во всяком случае, в живописи, в искусстве и всей этой муре. Вот, скажем, клещи хороши, когда они зажимают. А картина? Да ни одна собака на самом деле не знает, хорошая та вон картина или нет.
— Это началось с самого первого дня. В нашем детсаду на том участке была, как мы говорим, прогулочная площадка — ну, песочница, качели и все такое. Летом мы почти целые дни на ней проводили, если погода была хорошая. Сейчас-то там все снесли. Детишки каждый раз сломя голову мчались к песочнице, к качелям или в кустарник. Кусты, правда, были уже на соседнем участке, но и он тоже практически был наш. Забора не существовало, и там давно уже не появлялось ни души. Весь квартал ведь собирались сносить. И вдруг вижу — из домика выходит человек, парень, заросший такой, нечесаный, обтрепанный. Я сразу позвала детей к себе.
Это был я. Спросонок, старики. Ох и смурной я был! Глаза никак не продеру. Шлепаю в сортир, потом оттуда к колонке. Но не могу вдруг мыться водой из колонки, и все тут. Будь передо мной озеро — сразу бы вниз головой. А вода из колонки прямо смерть для меня.
Не знаю, понятно ли вам. Просто я недоспал. Шерлины горлопаны меня разбудили.
— И это был Эдгар?
— Это был Эдгар. Я тут же запретила детям ходить на тот участок. Но знаете — дети! Через пять минут смотрю — ни одного нет. Зову их и вижу: они опять там, с Эдгаром. Эдгар сидит перед своей избушкой, с кистями, красками, а они за его спиной — притихли как мышки.
Это точно. Я, правда, никогда особенно не любил детей. Вообще-то я ничего против детей не имею, но особенно никогда их не любил. Они как пристанут, так угробить человека могут — меня, во всяком случае. Или, наверно, мужчин вообще. Вот вы слыхали хоть об одном воспитателе детского сада? Но я терпеть не мог, когда человека сразу считали чуть ли не бандитом, если у него волосы длинные, брюки без складочек, встает не в пять утра, не несется сломя голову к колонке, чтобы совершить холодное обтирание, и не знает, какую зарплату будет получать в пятьдесят лет. В общем, я вытащил свои краски, уселся за берлогой и стал намечать карандашом перспективу, как художнику полагается. Не прошло и пяти минут, как Шерлины недоростки выстроились за моей спиной в полном составе.
— И что же он рисовал?
— Да ничего. Черточки-палочки. Детишки тоже стали спрашивать. Эдгар говорит: «Да вот посмотрим. Может быть, дерево?» Они сразу: «А почему — может быть? Ты сам, что ли, не знаешь, что рисуешь?» А Эдгар: «Все зависит от того, что с утра у художника в голове. Откуда ему знать? Художнику сначала нужно разрисоваться, руку размять, иначе захочет он, скажем, нарисовать дерево, а оно выйдет слишком одеревенелым». Ребята сразу развеселились. Эдгар здорово умел обращаться с детьми. Но рисовать он не умел, я это сразу поняла. Я немножко в этом разбираюсь.
Стоп, стоп, Шерли! Они-то развеселились, но шутка с деревом была твоя. Я еще подумал: вот так всегда. Ты просто развлекаешься, а тут приходят эти воспитательницы и дают серьезное объяснение. Тогда я повернулся и посмотрел на тебя. Меня как автобусом шибануло. Я тебя недооценил. Это же была чистая ирония! Наверно, в тот самый момент все и началось, не знаю, как уж это назвать, — ну вот как перетягивание каната. Каждый старается перетянуть другого за черту. Шерли хотела во что бы то ни стало доказать мне, что рисовать я не умею, что я просто большой ребенок, жизни не знаю и, стало быть, мне надо помочь. А я хотел доказать ей обратное. Что я непризнанный гений, что прекрасно знаю жизнь и обойдусь без чужой помощи, но главное, что я давно уже не ребенок, а совсем даже наоборот. Кроме того, я с самого начала понял — я должен ее заполучить. Обломать — само собой, но еще и заполучить. Не знаю, понятно ли я говорю, мужики.
— Вы хотите сказать, что он не умел рисовать с натуры? Или копировать?
— Он вообще не умел рисовать. А зачем так фиглярничал, тоже ясно: чтоб его считали непризнанным гением. Только вот для чего ему это надо было, я так и не поняла. Прямо заскок какой-то. Однажды я надумала привести его к нам в детсад и попросить разрисовать стену. Портить там все равно было нечего, дом вот-вот должны были снести. Заведующая не возражала. Я думала, Эдгар увильнет. Но он пришел. Я просто не учла, что он такой хитрюга. Извините, но он в самом деле был хитрюга! Он рассовал детишкам в руки все кисти, какие у нас были, чтобы они вместе с ним рисовали. А им, конечно, того и надо. Я сразу поняла, чем все кончится. Через полчаса на стене была изумительная фреска. А Эдгар в ней ни штриха не сделал или почти ни штриха.
Все было на высшем уровне, как я и думал. Я знал, что ничем не рискую. Дети, конечно, приставалы жуткие, но рисовать они умеют — загнуться можно. Если уж мне хотелось картины посмотреть, я скорее в детский сад шел, чем в какой-нибудь дохлый музей. А кроме того, они все равно любят стенки замусоливать. Няньки-гувернантки чуть в штанишки от восторга не наделали: «Ах, какая прелесть! Как наши крошки рисуют!» Мне, впрочем, тоже понравилось. Дети в самом деле рисовать умеют — загнуться можно. А Шерли и крыть нечем было. Тут ей велели покормить меня обедом. Может, они заметили, что Шерли мне была не просто так. Да и надо было идиотками быть, чтобы не заметить. Я к Шерли так и прилип. Не то чтобы глаз с нее не спускал и все такое. Это нет. Да и не такие уж сногсшибательные гляделки на моей гугенотской физии. Так, свинячьи щелки. А у Шерли — прожектора! Но зато у меня карие. Карие глаза — это уже кое-что, старики.
Вернулся я в свой колхоз, и тут-то меня осенило. Наверно, это была самая гениальная идея в моей жизни. Во всяком случае, цирк вышел что надо. Уж точно наповал. Дело было так: схватился я нечаянно за эту книжонку, боевик этот, и сам не заметил, как в нее влип. Времени у меня было полно, и тут-то меня и осенила идея. Я рванулся в свое стойло, включил маг и просигналил Вилли: «Рассказать тебе по порядку, Вильгельм, как я встретился, как я познакомился с прелестнейшим из созданий, будет нелегко. Я доволен, я счастлив… Ангел!.. Что она за совершенство, почему она совершенна — этого не умею объяснить; довольно, если скажу, что она овладела всеми силами моей души».
Это все слово в слово из той книжки. И имя «Вильгельм» тоже оттуда. Оно-то меня и натолкнуло на идею. Я тут же отволок пленку на почту. Все равно я был перед стариком Вилли в долгу. Жалко только, что не мог видеть, как старичок опрокинулся. А он уж точно опрокинулся. У него наверняка глаза из орбит вылезли. Он теперь где стоял, там и сел.
— А можно мне посмотреть эту… стенную роспись?
— Нет, к сожалению. Того дома уже больше нет. Мы теперь в новом здании. У меня, правда, есть портрет, Эдгар рисовал. Но там и смотреть-то нечего. Силуэт. Я же говорю: его было не подловить! Это случилось на другой день. Я пришла к нему — мыхотели заплатить ему гонорар. Тут меня осенило: дай, думаю, закажу ему свой портрет. На этот раз помощников никаких. Мы ведь были одни. И что же он нарисовал? Этот самый силуэт. В конце концов, так каждый может. Но в его домишке я и другие картины увидела. Описать их невозможно. Кавардак какой-то. Это, наверно, считалось у него абстрактной живописью. Но на самом деле это была просто мазня, честное слово. Да и вообще у него в избушке был жуткий кавардак: не то чтобы грязь, а именно кавардак, запущено до ужаса.
Давай, давай, Шерли. Так держать! Кавардак, мазня, запущено — все, что хочешь. Когда Шерли вдруг вошла, меня, парни, как автобусом шибануло. Хорошо еще, что дело к полудню шло и я малость очухался после сна. Но с деньгами я сразу все сообразил. Гонорар! Это были ее собственные деньги и, кроме того, предлог. Все-таки я как-то ее заинтриговал.
Для начала я поломался. «За что? — спрашиваю. — Я же пальцем не шевельнул». А Шерли: «Ну все-таки! Без вашего руководства ничего бы не было». Тут я прямо ей и врезал: «Это же ваши собственные деньги. Гонорар!» Но она нашлась: «Ну и что? Мне их потом выплатят. Надо сначала все оформить. А я подумала, что вам они кстати».
У меня, правда, еще были деньги, но и эти, конечно, пришлись бы кстати. Деньги всегда кстати, старики. И все-таки я их не взял. Сразу усек, что это значило. Это значило, что она меня считает бродягой и все такое. Нет, уж этого удовольствия я ей не доставлю! И тут ей, собственно, пора было и уходить. Но Шерли была не из таких. Так просто от нее не отделаешься. Башка у нее была по меньшей мере такая же упрямая, как и у меня. Или голова. О дамах надо, кажется, говорить «голова».
А кроме того, я все это время давал ей понять, что она мне совсем не просто так. То есть прямо я ей этого не говорил. Я, собственно, вообще ничего не говорил. Но, по-моему, она это заметила. И выложила тогда мне эту свою идею с портретом. Вроде бы в шутку. Но я не такой уж дурак, мужики. Шерли, может, все умела, но в актрисы она не годилась. Это ей просто не шло. Секунды на три я совсем было скис, но тут-то меня и осенила идея со свечой. Я усадил Шерли на этот колченогий чурбан, табуретку мою, затемнил окна в своей берлоге, пришпилил лист бумаги на стену и стал вертеть ее голову перед свечой. Я мог бы, конечно, вертеть и эту коптилку, но не такой я идиот. Я взял ее подбородок в ладони и начал вертеть голову туда-сюда. Шерли, правда, сглотнула как-то странно, но держалась стойко. А я знай свое: художник и модель. Считается, что эротика тут ни при чем. Вот уж буза так буза. Может, это художники сочинили, чтобы от них модели не драпали. У меня, во всяком случае, эротика была в этот момент очень даже при чем, да и у Шерли, по-моему, тоже. Но деваться-то ей некуда! Она только глаз с меня не сводила. Прожектора свои.
А я чувствую: вот-вот я на все рискну! Но потом вдруг мысленно себя проанализировал и понял, что я вовсе не хочу всего. То есть хотеть-то я хотел, но не сразу. Не знаю, понятно ли это вам. Но я на первый раз решил обождать. А кроме того, скорее всего дело бы кончилось затрещиной. Это уж точно. Тогда еще без затрещины бы не обошлось. В общем, я взял себя в руки и начал рисовать этот ее силуэт. А когда кончил, она сразу: «Ах, дайте его мне! Для моего жениха. Он сейчас в армии».
Если вы сейчас подумали, что этот жених сшиб меня наповал или все такое, то вы ошиблись. Жених еще далеко не муж. Но, во всяком случае, Шерли поняла, в чем дело. Ведь она это имела в виду! И она начала принимать меня всерьез. Знаю я эти штучки. Когда начинается всерьез, сразу объявляются женихи. Силуэта я, конечно, не отдал. Промямлил что-то насчет того, что он еще сыроват, жизни мало… Как будто можно было жизнь там изобразить. Уж из-за одного того, что глаз на силуэте нет. А глаза у Шерли были — ну прожектора и прожектора, или я уже это говорил? Да я и хотел оставить его себе — покрыть лаком и оставить. Шерли здорово разозлилась. Встала и прямо мне выдала: «Вы просто голову мне морочите, уж не знаю только зачем. И вовсе вы не из Берлина, это сразу видно. И работы у вас настоящей нет. Рисованием своим вы и подавно ничего не зарабатываете, а уж чем еще, не знаю». Ух и подзавелась она!
Но я тоже носом не чертил. Секундочку подумал и отпечатал ей вот что: «Род человеческий вообще вещь довольно однообразная. Большую часть времени они употребляют на заработку хлеба, а остальная небольшая доля свободы их так пугает, что они делают все, чтобы избавиться от нее».
Шерли молчала. Наверно, ни слова не поняла. Еще бы, при таком-то стиле! Я это, конечно, из книжки той отбарабанил. Не помню уж, говорил ли я, что мне здорово запоминались цитаты из книжек. Я прямо страдал из-за этого. Правда, иногда это бывало очень кстати — в школе, например. Ведь всякий учитель рад слышать текст, который ему знаком по книжке. И я его понимаю. Ему тогда и проверять ничего не надо — не то что когда своими словами говорят. И все бывали довольны.
— Вы с ним повздорили? Или я ошибаюсь?
— Да нет, не повздорили. Но я ему прямо в глаза сказала, что считаю его бездельником. Даже чуть не решила, что он вообще подозрительный тип. Ведь брал же он откуда-то деньги? Извините, пожалуйста! Это, конечно, была чепуха. Но в нем действительно невозможно было разобраться!
— А он? Эдгар?
— А Эдгар сделал то, что всегда делал в таких случаях, только в тот день для меня это впервые было: он понес какую-то чушь. Иначе я и назвать это не могу. Запомнить это было невозможно — такой бред. Не то чтобы без всякого смысла, но уж очень заумно. Это у него не от себя было. Я уж иногда думаю: может, из Библии? А он этим просто ошарашить хотел, вот и все.
Наверно, с Шерли я этот цирк не должен был себе позволять. А все-таки физиономия у нее была — миллион отвалишь.
Первым делом она меня спросила: «А сколько тебе, собственно, лет?» Тебе! Она сказала: тебе! И так она всегда стала говорить с этого дня, когда хотела дать мне понять, что она, собственно, могла бы быть моей матерью. А сама-то в лучшем случае была года на два старше. Я сказал: «Три тысячи семьсот шестьдесят семь — или, постойте: шестьдесят шесть? Нынешний год я что-то все даты путаю». Тут она повернулась и ушла. Сознаюсь, меня этот вопрос каждый раз прямо выворачивает. Даже если спрашивает женщина, которая мне не просто так. В таких случаях я волей-неволей вынужден врать. Не виноват же человек в том, сколько ему лет. А если он тем более в своем духовном развитии далеко перескочил за свои семнадцать, то кретин он будет, если правду станет говорить, — вот тогда уж его никто не примет всерьез. Если ты хочешь в кино, а там только с восемнадцати пускают, не станешь же ты перед входом и не заорешь во всю пасть: «А мне только семнадцать!» Между прочим, я в общем-то довольно часто таскался в кино. Это все же лучше, чем сидеть с мамашей Вибау дома перед теликом.
Как только Шерли ушла, я первым делом заложил новую кассету и сообщил Вилли: «Нет, я не обманываю себя; я читаю в черных ее глазах участие ко мне и к моей судьбе!.. Она мне свята. Вожделения немы при ней».
Братцы! Загнуться можно! А главное, про вожделения-то каково!
То есть, конечно, это была не такая уж и мура. Я только к языку этому никак не мог привыкнуть. Она мне свята! Эх, интересно бы теперь посмотреть на Виллину физиономию!
Тут меня на музыку потянуло. Я заложил кассету со всеми записями этого септета «М. С.» и начал двигаться в такт. Сначала медленно.
Я знал, что времени у меня полно. Пленка была минут на пятьдесят.
У меня почти все эти ребята целиком записаны. Играют они — обалдеть можно! Танцевать я не очень хорошо умел — на людях, во всяком случае. То есть раза в три лучше других я уж как-нибудь умел, но по-настоящему заводился только в своих четырех стенках. А в клубах мне эти вечные перерывы на нервы действовали. Только разгонишься — и вот тебе перерыв. С ума сойти можно. Такую музыку без перерывов надо играть, пускай хоть с двумя группами, чтобы одна другую сменяла. А то человек и подзавестись не успевает. Вот негры это понимают. Вернее, африканцы. Сейчас надо говорить: африканцы. Только вот где такую вторую группу найдешь, как тот септет? Скажите спасибо, что эти-то парни есть. Особенно органист. Я думаю, они его не иначе как в какой-нибудь духовной семинарии откопали — еретиком там, наверно, был. Я прямо в лепешку расшибся, чтобы все их записи достать. Ух и играют они — наповал. Каких-нибудь пятнадцать минут, и я завелся, старики! Второй раз за такой короткий срок. А обычно мне это удавалось в лучшем случае раз в году. И тут я понял, что для меня самое время рвануть в город. Хотя бы уже из-за одной Шерли. Ну и на взводе я был, парни! Не знаю, понятно ли вам. Если б мог, всех бы вас к себе пригласил. У меня не меньше как на триста шестьдесят минут музыки на пленках. И, по-моему, я был очень способный к танцам. Эдгар Вибо, чародей ритма, король бита и соула! Я и дробь отбивать умел. На одни свои спортивные башмаки даже подковы присобачил. Ох и здорово громыхали! А если б моих пленок не хватило, мы бы пошли в «Стрелочника» или еще лучше в «Мелодию» — там и эти парни из септета играют, и Петровский, и старичок Ленц, по очереди. Каждый понедельник. Или вы, может, думаете, я не знал, где в Берлине настоящую музыку искать? Через неделю знал! Вряд ли, пожалуй, найдется что в Берлине, чего бы я не ухватил. Музыка меня так прямо и понесла. Не знаю, понятно ли я говорю. Я ведь просто изголодался, братцы! Думаю, от Миттенберга километров на двести в радиусе не найти было ни одного приличного ансамбля, чтобы он в музыке толк понимал. Старик Ленц и Уши Брюнинг! Эта как только начнет петь — ну просто за печенки хватает. Я думаю, она ничуть не хуже Эллы Фицджеральд или какой другой. Она все со мной делать могла: как встанет, как наставит свои фары и начнет постепенно подстраиваться под ансамбль — ну наповал! А как они с шефом без единого взгляда друг друга понимали, это же только при полном родстве душ возможно! А как она взглядом его благодарила, когда вступала, — я просто чуть не выл каждый раз. Он все ее выдерживал, выдерживал, пока она уже просто больше не могла, а потом давал ей
вступить, и она благодарила его улыбкой — у меня так все и заходилось, старики! С Ленцем, наоборот, все бывало совсем по-другому. В общем, эта «Мелодия» — там был рай для меня, настоящий рай. По-моему, я в то время вряд ли чем другим и жил — только на одной музыке да на молоке. Правда, поначалу у меня с этой «Мелодией» проблема была — волосы очень короткие. Я там как белая ворона ходил. Примерному мальчику ведь не полагалось иметь длинных волос — ни на глазах, ни на затылке. Не знаю, представляете ли вы себе, как я из-за этого страдал. Когда видел у других такие гривы, прямо выворачивался весь — в душе, конечно. А вообще-то я всем говорил, что мне на длинные волосы наплевать, — когда каждая собака их носит, никакой смелости не надо. Хоть на самом деле к длинным волосам вечно цеплялись. Уже при поступлении в мастерскую. Одни эти физиономии, когда тебе втолковывали, что в мастерской, или еще где, длинные волосы не разрешаются — по технике безопасности. Или, мол, пожалуйста, надевай что-нибудь на голову для страховки — сеточку, как у женщин, — и ходи тогда как клейменый, будто в наказание. Я думаю, вы даже и представить себе не можете, какое это было удовольствие для таких, как Флемминг. Большинство ребят напяливали на себя какую-нибудь повязочку, а при всяком удобном случае снимали. Но только снимут — Флемминг тут как тут. Он, видите ли, ничего не имеет против длинных грив, но в мастерской… к сожалению… и все такое. Я, бывало, как увижу эту его ухмылку, весь захожусь. Не знаю, как это и назвать, когда к людям вечно цепляются из-за длинных волос. Хотел бы я знать, чем они кому мешают? Ух и злился я тогда на этого Флемминга! Особенно когда он добавлял: «Вот посмотрите на Эдгара. Он всегда выглядит прилично». Прилично!
Кто-то мне рассказывал историю, тоже вот про такого примерного мальчика, средняя годовая — чуть не выше пятерки, сын замечательных родителей, только друзей у него не было. А в их округе орудовала банда одна: скамейки в парках опрокидывали, окна били и все такое. Ни одна собака поймать не могла. Вожак хитрюга был, не дремал. Но в один более или менее прекрасный день их все-таки засекли, схватили его. Волосы у парня — до плеч. Ну конечно, еще бы — как и у всех таких! Да только это парик у него был, а на самом-то деле он оказался тем пай-мальчиком. Однажды осточертело ему это все, он и достал себе парик.
Я в Берлине поначалу часто думал, не раздобыть ли себе тоже парик — для «Мелодии». Но, во-первых, парики на дороге не валяются, достань поди, а, во-вторых, волосы у меня растут, как собаки. Хотите верьте, хотите нет — в день сантиметра на два отрастают. Стоило недели две не стричься — и у меня уже была вполне сносная грива.
— Вы, стало быть, после этого часто видали его?
— Да ведь никуда не денешься. Мы же фактически соседи были. А после этой истории с настенной росписью детишки за ним по пятам ходили! Что я могла поделать? Он так умел обходиться с детьми, как мужчинам редко удается, то есть я хочу сказать — мальчишкам. А кроме того, я думаю, дети очень хорошо понимают, кто с ними любит возиться, а кто нет.
Это точно. Шерлины недоростки так ко мне и прилипли. Уж такие они. Им только палец протяни — и они готовы. Я-то это знал. Они, наверно, думают, что тебе это одно удовольствие. Но я все-таки поддался и терпел, как овца. Во-первых, Шерли считала, что я здорово умею с детьми обходиться — такой, знаете ли, потешник. А я уж не хотел ее разочаровывать. Представляете: я — и потешник! Во-вторых, недоростки были для меня единственным шансом ошиваться около Шерли. Что бы я ни делал, в колхоз мой ее было не затащить, а уж в берлогу и подавно. Она знала почему, я тоже знал. Вот и торчал целыми днями на этой прогулочной площадке. Вертел карусель — или как эта мура с четырьмя корзинками называется, — индейца представлял. Апотом сообразил, как от них отвязаться можно, если захочешь. Минут на десять, по крайней мере. Я делил их на две команды и организовывал сражение. К этому времени подоспел и первый ответ от Вилли. Бедняга Вилли! Для него это было слишком. Этого он не перенес. На пленке был такой текст: «Салют, Эд! Это не дело. Сообщи мне новый код. Книгу, страницу, строчку. Конец. Как с вариантом три?»
Сообщи мне новый код! Я чуть концы не отдал. Это было для него слишком. Конечно, я тоже не очень честно играл, сознаюсь. Обычно мы друг друга с полуслова понимали. Но это уж было чересчур. Новый код. Я прямо чуть за пятку себя не укусил. Когда бывало настроение, мы могли, например, часами выдавать друг другу идиотские поговорки: «Да, да, у батона всегда два края. — Конечно. Но если не вытирать утром посуду, она будет мокрой. — Болван — еще не значит идиот. — От работы ноги всегда в тепле». И все такое. Но это для старичка было слишком. Слыхали б вы его голос, братцы! Он уже отказывался понимать этот мир. А под вариантом три имелось в виду, работаю ли я и все такое. Он, видать, решил, что я с голоду помираю. Шерли тоже так думала. Все время эту волынку заводила.
Вообще-то я был не против работы. Я так считал: если я работаю, то работаю, а уж если бродяжу, то бродяжу. Ведь полагался же мне отпуск? Не подумайте только, что я вечно собирался торчать в своей берлоге и все такое. Сначала, может, и думаешь, что проживешь. Но всякий мало-мальски интеллигентный человек знает, что это ненадолго. Потом, парни, просто сатанеешь. Все время собственную физиономию видеть — это уж верная гарантия, что скоро осатанеешь. Пропадает интерес, и все. Ни удовольствия, ничего. Для этого товарищи нужны и работа нужна. Мне во всяком случае. Просто я еще не созрел для этого. Пока все шло нормально. Да и времени у меня на работу не было. Я от Шерли отрываться не хотел. Шерли была мне не просто так — но это я, кажется, уже говорил. В таком случае надо не отрываться. Как сейчас вижу: сижу я около нее на этой прогулочной площадке, недоростки кругом играют, а Шерли вяжет. Идиллия, братцы! Не хватало только еще голову ей на колени положить. Комплексов-то у меня тут никаких не было, а один раз я даже это дело и провернул. Ощущение в затылке недурное, скажу я вам. Но с того дня она стала таскать с собой вязанье и вечно шуровала спицами. Придет после обеда со своими недоростками, сядет, а спицы вперед. Я всегда уже был тут как тут. У Шерли была такая манера садиться — ну, просто обалдеть можно. Юбки у нее, видать, все широкие были, и, прежде чем сесть, она брала юбку сзади за подол, приподымала и усаживалась на свои штанишки. Очень четко все проделывала. Поэтому я всегда был тут как тут, когда она появлялась. Не лишать же себя такого удовольствия! И я каждый раз следил, чтобы скамейка сухая была. Не знаю, замечала ли она это. Но что я глаз с нее не спускал, когда она садилась, это уж она точно знала. Вы мне не рассказывайте. Все они такие. Прекрасно знают, что на них смотрят, и все же так делают.
А как она при этом каждый раз свои прожектора вниз опускала — это, мужики, тоже кое-чего стоит, скажу я вам. Обычно-то она прямо в глаза тебе смотрела. Но тут она свои прожектора вниз направляла. По-моему, ее взгляд самую малость серебром отливал. Оттого, наверно, и казалось, что она все время смотрит на тебя. Может, кто-нибудь видал портреты такие: висят на стене и все на тебя смотрят, в какой угол ни стань. А фокус тут простой — художник рисует глаза так, чтобы оптические оси были параллельными. В жизни, конечно, такого никогда не бывает. Вообще ведь настоящих параллельных линий не существует. Не скажу, что мне это неприятно было. Нет. Просто ты никогда не знал, всерьез она тебя принимает или издевается над тобой. Вот это меня прямо из себя выводило.
Я уже, по-моему, говорил, что практически я все равно что в штате у них состоял. Не хватало только начать забор красить. Игрушки чинить, карусель крутить — это уж и так в сервис входило. Еще воздушные шары надувать. В тот день — должно быть праздник какой-то у них был — я уже шаров этих с миллион надул, а на миллион первом в глазах у меня потемнело, я бряк — и с копыт долой. Просто с копыт долой, и все тут. Четыре минуты под водой мог держаться, три дня голодать мог, полдня музыки не слушать, то есть настоящей музыки, конечно. А тут шмякнулся, и все. Когда очухался, голова моя у Шерли на коленях лежала. Я это сразу усек. Она расстегнула мне рубашку и массировала грудь. Я уткнулся башкой как можно крепче в ее живот и молчу, не дышу. Вот только я, как идиот, щекотки боюсь. Пришлось, стало быть, встать. Недоростки, конечно, стоят в кружок. Шерли вся бледная. И сразу же налетела: «Если уж ты есть хочешь, так и надо есть, понял?» Я напомнил: «Это же просто от шаров». А Шерли: «Если нечего есть, пойти купить надо, ясно?»
Я ухмыльнулся. Мне очень понятно было, почему она так на меня налетела. До смерти обрадовалась, что я жив. Всякий мало-мальски интеллигентный человек это сразу мог заметить. Она прямо испепеляла меня своими прожекторами, старики. А я чуть снова концы не отдал. Вот только недоростков бы в этот момент на луну запустить.
Шерли: «А если денег нет, надо на работу устраиваться». Я на это: «Кто не ест, тот не работает».
Такие шутки я считал очень остроумными. После этого я поднялся, рванул в свой колхоз, там и было-то всего шага два, и выдрал с корнем первый салатный куст, какой в лапы попался. По-моему, я еще не говорил, что однажды для смеха вытряхнул в саду все пакетики с семенами, какие валялись в Виллиной хибарке. Первым взошел салат. Салат и редиска. Вот я и начал запихивать салат себе в зубы. Песок скрипел жутко, но я хотел только выдавить из себя вот что: «Как уже одно сознание, что сочувствуешь радостям простого человека, душу веселит! Огородник поставил себе на стол кочан цветной капусты — и только? Нет: все ранние зорьки, свежие росы, весь разгул знойного дня, когда он ходил за ней… ростом, цветом ее любовался — вот что он разом ставит на стол!»
Это я, конечно, опять шпарил из Вертера! По-моему, во мне еще никогда столько шарму не было, как в тот день.
А Шерли просто сказала: «Чудак ты!»
До этого она ни разу так не говорила. Она всегда чуть не на стенку лезла, когда я с этим Вертером начинал. И я тут же решил: вот он, твой шанс опять пристроить башку у нее на коленях, и голову на отсечение даю — сошло бы, если бы этот идиотский боевик не вывалился вдруг у меня из рубахи. Я как-то привык носить его под рубахой, не знаю даже сам почему.
Шерли тут же его сцапала. Заглянула в него, но читать не стала. Я здорово скис. Хорош я буду, если она все сообразит. Она спросила, что это. Я промямлил: «Бумага… Туалетная». В ту же секунду бестселлер опять был у меня в лапах. Я засунул его обратно. Думаю, что руки у меня при этом слегка дрожали. С тех пор я уж не выносил его из хибарки, братцы. Потом опять начал крылом чертить и все такое, но тут на прогулочную площадку вкатилась заведующая. Я сначала подумал, она что-нибудь имеет против меня как драгоценного гостя. Но меня она даже и не заметила. Вытаращилась только на Шерли как-то странно. А потом и говорит: «Кончай на сегодня. Я за тебя доработаю». Шерли ничего не поняла. А заведующая: «Там Дитер ждет».
Шерли сначала сделалась белее стенки, а потом краской пошла. Взглянула на меня, будто на уголовника какого-нибудь, и как ветром ее сдуло.
Я стоял баран бараном. А заведующая пояснила: «Дитер — ее жених».
Он в тот день из армии вернулся — с почетом демобилизовался и все такое. Спрашивается только, почему Шерли этого не знала. В таких случаях ведь письма получают. А потом я вспомнил этот ее взгляд — как на уголовника глянула. Стало быть, это я виноват! Я, Эдгар Вибо, чудак, лодырь, гений-неудачник! Это, выходит, из-за меня она не встретила своего Дитера на вокзале с цветочками и все такое. Меня как по кумполу рубанули. По-моему, я уже говорил, что я ничего был парень. Не без шарма. И что на женщин здорово действовал, вообще на всего ихнего брата. Я имею в виду — интеллектуально или как это называется. Сильвия была на три года старше меня, но какая она женщина! Не знаю, понятно ли я говорю. Сильвия по уровню не дотягивала до меня. Она в общем-то ничего была, но по уровню до меня не дотягивала. Шерли была первая настоящая женщина, с которой я имел дело. Я далее не ожидал, что сразу так влипну. Ну прямо финиш, мужики. Наверно, это потому, что я все время около нее ошивался.
В общем, собрался я кое-как с силами и поковылял в свою хибару, то есть хотел поковылять. Но прежде я еще Дитера увидел. Он шел ей навстречу. Галстук, воротничок белый, чемодан — знаете, есть такие идиотские чемоданы, вроде портфеля, — духовое ружье в чехле и, конечно, букет. Лет так двадцати пяти — я имею в виду Дитера этого. Довольно долго служил, стало быть. Глядишь, до генерала достарался или около того.
Я подождал — поцелуются или нет. Но они скрылись из виду.
В хибарке я рванулся к микрофону. Это уж надо обязательно сообщить старичку Вилли. Через секунду и текст был как по заказу: «Жених здесь, Вильгельм… По счастью, я не был при встрече: ударом бы больше моему разбитому сердцу».
— Если с живописью ничего не вышло, то чем же он, собственно, жил?
— Да что он мог? В лучшем случае на какие-нибудь подсобные работы годился. Но мы бы это заметили, я и мой муж. То есть тогда мы с ним еще не были женаты. Мы знали друг друга давно, с детства. Потом он долго был в армии. Я их познакомила с Эдгаром. Дитер — это мой муж — последнее время в армии начальником внутренней службы был. Не знаю, говорит ли это вам что-нибудь. Во всяком случае, там ему постоянно приходилось иметь дело с ребятами такого возраста. Я думала, он хоть немножко повлияет на Эдгара. И они в общем-то неплохо ладили. Мы один раз были у Эдгара, и Эдгар иногда заходил к нам. Но ведь с Эдгаром говорить было бесполезно. Просто бесполезно. Дитер проявлял ангельское терпение, может быть даже большее, чем надо, не знаю. Но с Эдгаром бесполезно было говорить.
Это точно. Они заявились вдвоем. Вместе со своим Дитером Шерли опять решилась зайти в мою берлогу. Несколько дней ее не было на прогулочной площадке. Недоростки-то, конечно, гуляли, а она кет.
А потом вот объявилась у меня с Дитером. Звала на «ты». Это мы знаем: хотела дать понять Дитеру, что я для нее всего лишь безобидный чудак. Я тут лее кулаки к груди, стойку принял. Конечно, не на самом деле. Внутренне. Я, кажется, еще не говорил, что с четырнадцати лет боксом в клубе занимался. Это была моя единственная радость в Миттенберге, если не считать, конечно, старика Вилли. Правда, я не знал, каков этот Дитер на ринге. На первый взгляд он был довольно хлипкий, но я уже научился тому, что противника нельзя оценивать по первому взгляду. А вот что он Шерли совсем не подходил, это я сразу понял. Он бы ей в папаши годился — не по возрасту, конечно, а вообще. Выступал он важно, что твой Бисмарк. Сделал стойку перед моими избранными сочинениями. Может быть, Шерли его из-за этого первым делом и притащила. Она все-таки еще до конца не была уверена: а вдруг я и на самом деле непризнанный гений? Но от своего Дитера она так и не отрывалась. А я стою — кулаки наизготовку. Дитер старался довольно долго. Я уж подумал было, что он так ничего и не выдаст. Но это у него манера была такая. Наверно, он в жизни еще не ляпнул ни одной глупости, не обдумав ее трижды, а то и четырежды. А тут он вот что выдал: «Я бы сказал, что ему не помешало бы в будущем побольше ориентироваться на реальную жизнь, например на жизнь строителей. Она же у него прямо перед глазами, вот за этой дверью. А потом — в живописи, как и везде, есть определенные правила, которые просто надо знать: перспектива, пропорции, передний план, задний план».
Точка. Я посмотрел на Шерли. Посмотрел на этого героя. Меня так и подмывало заорать во всю глотку: «Пошел ты!..» Этот тип ведь всерьез говорил, совершенно всерьез! Сначала я подумал было: иронизирует. Ничего подобного — он всерьез!
Можно было, конечно, еще немножко повозить его носом по рингу, но я решил сразу применить свое самое мощное оружие. Секундочку подумал и отпечатал вот что: «В пользу усилий и правил искусства можно сказать столько же, сколько и в пользу приличий общежития. Художник, руководимый правилами, не даст ничего слишком грубого, отвратительного, как из человека, воспитанного в духе законов и общественных требований, не выйдет никогда несносный сосед или злодей на славу; но зато, что бы ни говорили, всякое правило притупляет чувство естественное и стесняет живые проявления природы».
Этот Вертер иногда действительно полезные вещи из пальца высасывал! Я сразу увидел, что теперь могу и опустить кулаки. Герой наш лежал на лопатках. Шерли его, наверно, ко многому подготовила, но это для него было слишком. Он, правда, сделал вид, будто имеет дело с бедным психом, которого ни в коем случае нельзя заводить, но мне-то все было ясно. Любой мало-мальски понимающий тренер теперь снял бы его с ринга. За явным преимуществом противника. Шерли сразу и собралась уходить. Но у Дитера еще кое-что было про запас: «С другой стороны, это у него получается довольно оригинально. И декоративно очень».
Не знаю, что он при этом думал. Может быть, решил, что это он меня нокаутировал, и хотел теперь подсластить пилюлю! Тюфяк несчастный! Мне его даже жалко стало. Пускай, думаю, убирается подобру-поздорову. И тут, как назло, ему на глаза тот силуэт попался, который я в свое время с Шерли делал. Шерли сразу: «Это я тебе хотела сюрприз приготовить. А он мне его не отдал. Сказал: еще не кончен. Только я вижу, он с тех пор даже и не прикасался к нему».
А Дитер: «Я же тебя теперь имею в натуре».
Ясно? И он, наверно, думал, что мило пошутил. Изящно так, как мастодонт. Душка Дитер.
После этого они смотали удочки. Шерли все время так и висла у него на хребте. То есть не на самом деле. А прожекторами своими. Просто чтобы я чувствовал. Но с меня, братцы, как с гуся вода.
Не подумайте только, что я на этого Дитера так насел, потому что он из армии вернулся. Я ничего против армии не имел. Конечно, я был пацифистом, особенно как представишь себе эти неизбежные восемнадцать месяцев. Тут я прямо-таки пацифистом был! Но уж зато фотографии из Вьетнама и все такое спокойно видеть не мог — у меня сразу от злости в глазах темнело. В эту минуту приди только кто-нибудь, скажи — и я бы на всю жизнь записался в солдаты. Слово даю.
Насчет Дитера я вот еще что хочу сказать: может, он и ничего был. В конце концов, не каждому же быть таким идиотом, как я. И может быть, для Шерли он был как раз то, что надо. Но не стоило без толку ломать себе над этим голову. Мой вам совет, старики: в такой ситуации не ломайте себе голову. Когда выходишь на противника, нечего ломать голову над тем, какой он симпатичный парень и все такое. Это к добру не приведет.
Я схватил микрофон и сообщил Вилли последние известия: «Его расположением ко мне я, кажется, обязан больше Лотте, нежели его симпатии. Насчет этого женщины весьма тонки — и они правы. Согласить двух обожателей — дело очень трудное; но если удастся, выгода всегда на их стороне».
Постепенно я привыкал к этому Вертеру! Но мне надо было поспешить за ними. Я знал, что главное в такой ситуации — не отпускать! Первый раунд, может, и за тобой, но все равно главное — не отпускать. Поэтому я одним махом нагнал их и просто пристроился рядышком. «Я вас провожу» — и все в таком духе. Шерли висела на Дитере. Другую руку она, не долго думая, просунула в мою. Я чуть концы не отдал. Мне сразу пришел на ум мой приятель Вертер. Старичок Вер-тер — он-то на этом деле собаку съел. А Дитер — ни звука.
Так мы и прибыли в Дитерову берлогу. В старом доме. Комнатка и кухня. Такой вылизанной комнаты я еще никогда не видел. Мама Вибау не нарадовалась бы. Уютная такая — как зал ожидания на станции Миттенберг. Только тот, по крайней мере, ни один черт сроду не вылизывал. Это еще куда ни шло. А тут — не знаю, приходилось ли вам бывать в таких комнатах; вид у них — будто они используются только сутки в году, да и то начальником санинспекции. Но замечательней всего, что Шерли вдруг абсолютно то же самое подумала. Она сказала: «Тут все будет по-другому. Вот только дай нам пожениться, верно?»
Я начал что-то вроде осмотра интерьера. Сначала занялся картинами на стенках. Одна — занюханная репродукция «Подсолнухов» старичка Ван Гога. Я ничего не имел против старика Ван Гога и его подсолнухов. Но когда картину начинают вешать чуть ли не в каждом сортире, меня просто выворачивает. В лучшем случае ее становится жалко до омерзения. Меня до конца жизни от таких картин тошнило. Вторая была в выдвижной рамочке. Про нее я и говорить не буду. Кто ее знает, тот меня поймет. Вот уж точно рвотный порошок — эта роскошная парочка на пляже. И вообще: выдвижная рамка. Если мне приспичит все на свете картины посмотреть, я пойду в музей. А если какая-то картина меня за печенки хватает, я ее в трех экземплярах в комнате повешу, чтобы с любого места видно было. Но уж эти выдвижные рамки — последнее дело: люди будто обязались ровно двенадцать картин в год посмотреть.
А Шерли вдруг и говорит: «Эти репродукции у него еще со школы».
При этом я ведь еще даже ни разу пасти не раскрыл! И не стонал, и глаз не закатывал — ничего. Я оглянулся: а что Дитер? Я бы сказал, герой стоял в своем углу с опущенными кулаками и не рыпался. Может, конечно, до него еще не дошло, что второй раунд уже был в самом разгаре. Шерли то и дело за него извинялась, а он даже и не рыпался. Во всяком случае, я-то свое дело знал, старики. Я прямо перешел к его книжкам. Книжек — не продохнуть. Все под стеклом. Все строго по размерам. Я так и обмяк. Всегда — как увижу такое, так сразу и обмякну. Что я насчет книжек думаю, я уже, кажется, говорил. У него чего там только не было. И уж конечно, все, что положено. Целые полки Маркса, Энгельса, Ленина. Ленин, Маркс, Энгельс — это все хорошо. И коммунизм, и уничтожение эксплуатации во всем мире — разве это плохо? Тут я — за. Я против другого… Вот, например, что книжки по габаритам на полке расставляют. Тут каждый из нас будет против. Но это разве против коммунизма? Да какой мало-мальски интеллигентный человек в наше время будет против коммунизма? Но вот это самое другое — тут будешь против. А потом — чтобы быть «за», особой смелости не надо. А каждому охота свое мужество показать. Вот он и делает вид, что против. Все очень просто.
А Шерли и говорит: «Дитер будет изучать германистику. Ему столько наверстывать надо. Другие-то, кто в армии был не так долго, давно уже доцентами стали».
Я опять на Дитера гляжу: что он? Уж сейчас-то я бы на его месте точно ринулся в атаку — самое время. А он как стоял опустив кулаки, так и стоит. Хорошенькая ситуация. До меня постепенно начало доходить, что если я так и дальше буду продолжать, а Шерли не перестанет за него извиняться, — быть грозе.
Собственно, в комнате больше ничего и не было — еще только его пневматическая пушка. Над кроватью висела. Я небрежно снял ее — без спроса — и начал вертеть туда-сюда. Навел мушку на эту парочку пляжную, на Дитера, на Шерли. Когда очередь до Шерли дошла, Дитер наконец-то задвигался. Схватил ствол и отвел в сторону.
Я спросил: «Заряжено?»
А Дитер: «Нет, но все равно. Всякое бывает».
Мне такие дедушкины афоризмы — хоть стой, хоть падай. Но я все-таки сдержался. Только приставил дуло к виску и щелкнул курком. Это его доконало: «Ружье — это тебе не игрушка! Уж на-столько-то котелок у тебя должен варить!» И как рванет пушку у меня из рук!
А я тут же свою тяжелую артиллерию в бой, старичка Вертера: «Друг мой! Человек — всегда человек, и капля данного нам рассудка — капля в море, когда бушует страсть и грань человеческая трещит. После когда-нибудь поговорим».
Старичок Вертер — он вот такой. Ему чтобы грань человеческая — и не меньше. Но Дитера я зато уложил наповал. Он имел глупость задуматься. Шерли-то вообще уже меня не слушала. А он имел глупость задуматься. Теперь я, собственно, мог и идти. Но тут Шерли начала: «Я быстренько что-нибудь соберу нам пожевать, хорошо?»
А Дитер: «Как хочешь. Только у меня дела еще есть».
Здорово он завелся. Сел за свой стол — и нос в книжки. А к нам — спиной.
Шерли: «У него через три дня вступительные экзамены».
Уж такой, видно, у Шерли день был невезучий. Как понесло, так и не могла остановиться. А я все стою у них там, как дурак. И тут Дитера прорвало. Он сказал ледяным тоном: «Ты ему остальное про меня можешь по дороге дорассказать».
Шерли побледнела как мел. Он же попросту нас обоих вышвыривал. В хорошенькую историю я ее втравил — и еще радовался, идиот. Шерли белее стенки стоит — а я, идиот, радуюсь. И тогда я пошел. Но Шерли выскочила за мной следом.
На улице я тоже додумался — взял и обнял ее за плечи. Шерли как пырнет меня кулаком в ребра, как окрысится: «Ты что, совсем чокнулся, да?» И галопом от меня.
Она от меня галопом, а у меня такой кавардак в голове — натощак не разберешься. Я, конечно, понимал, что пока мне дали от ворот поворот. А в то же время как будто хмельной какой был. Во всяком случае, не помню, как я очутился у своей берлоги. Стою, а в лапах кассета с пленкой — от старичка Вилли. Стало быть, я еще и на почту заглянул. Может, парни, с вами бывало такое.
«Дорогой Эдгар. Не знаю, где ты сейчас. Но если ты уже хочешь вернуться, то ключ под ковриком. Я ни о чем не буду тебя спрашивать. И с этого дня можешь возвращаться домой вечерами, когда захочешь. А если хочешь закончить обучение на каком-нибудь другом заводе — пожалуйста. Главное, чтобы ты работал, а не лодырничал».
Я где стоял, там и сел. Говорила мама Вибау.
Потом пошел Вилли: «Эдди, салют. Я просто не мог отбрыкаться от твоей матери. Просто не мог. Ты ее здорово срезал. Она даже хотела дать мне денег, чтобы я тебе послал. А насчет работы — может, над этим и стоит подумать. Вспомни Ван Гога и кого там еще. Чего они только не делали — лишь бы рисовать. Конец».
Я выслушал все это и сразу сообразил, что тут из старичка Вертера подойдет: «Теперь, Вильгельм, перенесу все. Вот была ночь!.. Я более не увижу ее. Теперь я готов; жду утра, алчу воздуха — и с восходом солнца кони…»
Вот идиотство — пленка кончилась. А другой у меня нет. Надо бы стереть кусочек музыки, но жалко. Выползать из берлоги за новой пленкой тоже неохота. Тут я себя в темпе проанализировал и установил, что во всем этом колхозе для меня уже никакого интереса нет. В Миттенберг я, конечно, не думал возвращаться. Еще чего. Но здесь тоже — пропал интерес, и все.
— Но ведь когда-то Эдгар все-таки начал работать — на стройке этой. В РСУ.
— Да, конечно. Я его тогда просто потеряла из виду. У меня было столько своих хлопот. Свадьба, знаете. Потом Дитер учебу начал. Германистика. Поначалу ему это нелегко давалось. Я стала работать по полдня, чтобы ему на первых порах легче было. Потом мы с нашим детсадом перебрались на новое место: старое здание снесли, тут строительство началось. Прогулочную площадку — рядом с Эдгаровым участком — тоже снесли. Нам надо было бы просто пойти в полицию и сказать, что в садовом домике живет человек без разрешения. Не знаю, помогло ли бы это ему.
Во всяком случае, тогда ничего такого бы не случилось.
— Можно мне еще спросить вас? Эдгар… вам нравился?
— Как нравился? Эдгару еще и восемнадцати не было, а мне уже за двадцать. И у меня был Дитер. Вот и все. Что вы имеете в виду?
Верно, Шерли, не надо все говорить. К чему? Я в жизни зря не трепался. Даже тебе не все говорил, Шерли. Да и нельзя все сказать. Если кто все говорит, его уже, наверно, и за человека считать нельзя.
— Вы можете не отвечать, если не хотите.
— Конечно, он мне нравился. Он такой смешной был. И трогательный. Заводной такой… я…
Ну, только не реветь, Шерли. Окажи мне эту услугу, не реви. Какой уж я такой особый был. Так, идиот просто, чудак, трепло, и больше ничего. Стоит ли из-за этого реветь. Серьезно.
— Здравствуйте! Я хотел бы видеть товарища Берлинера.
— Это я.
— Моя фамилия Вибо.
— Вы имеете какое-нибудь отношение к Вибо? Эдгару Вибо, который у нас работал?
— Да. Отец.
Адди! Гигант мысли! Привет! Ты был моим лучшим врагом — с самого первого дня. Я тебя заводил где только мог, а ты надо мной изгилялся как только мог. Но сейчас, когда все уже позади, я сознаюсь: ты был крепыш! Герой что надо! Наши бессмертные души стоили одна другой. Просто у тебя мозговые извилины попрямее были, чем у меня.
— Да, трагическая с ним вышла история. Нас это поначалу здорово срезало. Сейчас-то нам многое стало ясней. Эдгар был настоящий человек. Примерный товарищ.
Адди, ты разочаровываешь меня! Я думал, ты герой. Думал, уж кто-кто, а ты-то не будешь разводить такую муру о человеке, который концы отдал. Я — и настоящий человек! Вот Шиллер, Гёте, кто там еще, — вот они, может, и были настоящими людьми. Вот они — примерные товарищи. Или Заремба. Я и так, бывало, прямо из себя выходил каждый раз, когда над покойником эту муру начинали разводить. Примерный товарищ. Хотел бы я знать, кто первый до этого додумался.
— Мы, к сожалению, с самого начала отнеслись к Эдгару не так, как надо. Что верно, то верно. Мы его недооценили, и прежде всего я, как бригадир. Я сразу решил, что он трепач, бездельник, который на нашем хребте просто хочет денег подзаработать.
Конечно, хотел денег подзаработать! А что? Когда человеку не на что больше даже пленок купить, надо же ему подзаработать. А куда ему в таких случаях идти? На стройку. Лозунг: «Коль не титан ты мысли бойкой — твой путь на транспорт иль на стройку». На транспорт мне опасно было идти. Там наверняка потребовали бы паспорт, прописку и все такое. Значит — стройка. На стройку всех берут. Это я знал. Но я здорово скис, когда попал к Адди и к Зарембе — в эту их шарагу. Они старые берлоги берлинские ремонтировали — гроб за гробом, подряд. А Адди первым делом выдал: «Когда входишь, здороваться надо!»
Таких я видал. Знаю. Попробуй спросить такого про Сэлинджера или еще кого. Ничего не услышишь, слово даю. Решит, что это учебник какой-то, который он недочитал.
Может, все было бы по-другому, если бы Адди в тот день хоть пофилонил или еще что. А тут я, конечно, сразу на дыбы. Может, и нервишки у меня тогда начали пошаливать — из-за этой истории с Шерли. Она все-таки меня больше сбила, чем я думал.
Вторым делом Адди выдал мне один из этих валиков и спросил, держал ли я его когда-нибудь в руках. А эти штуки каждый первоклассник знает. Ну и, конечно, я попросту не удостоил его ответа. Тогда он вручил мне кисть и послал к Зарембе — оконные рамы грунтовать. Все, конечно, уставились на меня, ждут, что будет. Но у меня сразу от печенок отлегло, как только я Зарембу увидел. Так сказать, любовь с первого взгляда. Я сразу понял, что старик — жук что надо. Зарембе было за семьдесят. Он давно бы уже мог на пенсии сидеть, а он тут еще скрипел. И не то чтобы на затычках. Он, бывало, зажмет стремянку промеж колен и прямо тебе твистует с ней вдоль стенок — а после хоть бы что. Даже не вспотеет ни капельки. Правда, он и во-обще-то был кожа да кости да еще мускулы. Откуда уж тут поту взяться. Один из его номеров был, когда кто-нибудь бросал ему раскрытый ножик на бицепс. Тот отскакивал как мячик. Или он изображал звонаря из собора Парижской богоматери. Вынет, бывало, глаз — у него один глаз стеклянный был, — скособочится и пошел хромать. Мы просто по полу катались. А стеклянный глаз он в Испании заработал. То есть сделали-то ему его в Филадельфии. Кроме того, у него еще кусочка мизинца не хватало и двух ребер. Но зубы зато до сих пор все были свои и обе руки, а грудь — вся в татуировке. Не то что там бабы жирные, сердца и все такое или якоря. Нет, сплошь знамена, звезды, серп и молот и даже кусочек кремлевской стены — тоже наколол. Сам-то он был из Богемии или еще откуда-то. Но вот от чего вы совсем уж загнетесь, мужики, — так это, что он еще с бабами дело имел. Хотите верьте, хотите нет, но это факт. Заремба заведовал нашим автофургоном — подметал там, убирал и все такое. И ключ всегда при себе держал. «Мерседес» наш был — рыдван что надо. Две лежанки, чистота, шик-блеск. Один раз — стемнело уже — пробираюсь я к этому нашему фургону. До тех пор я ничего даже и не подозревал, а сейчас мне по вполне определенной причине надо было за фургончик зайти. Тут-то я и услышал, как он там с бабой управляется. Судя по смеху, очень даже ничего бабенка была. Не подумайте только, что я из-за всего этого прямо сразу и на шею Зарембе бросился. Нет-нет. Уже хотя бы потому, что он первым делом спросил, как у меня с профсоюзом. Он взносы собирал. А для меня это сразу — финиш. Если бы на месте Зарембы другой был, я бы тут же — налево кругом и привет. А тут я просто сунул ему молча мой билет. Он его взял, да так прямо и вклюнулся в него. Наверно, просто хотел выяснить, что я за тип. А я, конечно, в Берлине взносов не платил. Он тут же, как фокусник, извлек эту свою умопомрачительную коробочку из жести — плати, значит. А я вам не фокусник. Мне даже пленки не на что было купить. Может, он это как раз и хотел проверить.
В общем, я, не долго думая, начал грунтовать. Краска по стеклу — ручьем. Дома я тысячу раз рамы красил. Но тут я по-другому просто не мог. Если бы они все не уставились на меня и не ждали, что будет, я бы сдал им самое аккуратное окно на свете. Ну, может, не такое, как у Зарембы. Заремба был просто автомат. Но такое же аккуратное, как у всех других, я бы сделал, и уж не хуже, чем Адди. А тут еще Адди явно начал психовать. Он просто потому не сразу взорвался, что Заремба рядом был. А Зарембу не так-то просто из себя вывести — это я сразу усек. Он на меня даже не глядел. В конце концов Адди не выдержал и взорвался: «Я бы на твоем месте все окно замазал!»
Что я сделал, парни, вам, по-моему, ясно: взял и начал замазывать все окно. Я думал, Адди с лестницы сковырнется. Но потом сам чуть не сковырнулся с лестницы — я имею в виду, сковырнулся бы, если б стоял на ней. Прямо рядом со мной Заремба вдруг запел! У меня просто челюсть отвисла. Заремба затрубил, а остальные тут же подхватили. И не какой-нибудь там шлягер, а одну из этих вот песен — кажется, «Марш социалистов»[6] другие-то в таких песнях часто только один первый куплет и знают, а эта братва весь текст отгрохала.
Вот это была команда, скажу я вам! У меня чуть кисть из клешней не выпала. А у Зарембы, оказывается, приемчик такой был, чтобы Адди осаживать, когда тот зарвется. До меня это только со второго раза дошло. Какую-то зачуханную кухню мы ремонтировали. Стены все потрескались, и мне было велено заделать их гипсом. Как сказал Адди: «С гипсом приходилось иметь дело? Тогда посмотри вот на эту стенку». Все исключительно в таком стиле.
Ну взял я ведро и начал разводить гипс. Не знаю, как вам, парни, а мне уже приходилось так портачить: сначала воды перелью, а потом гипса переложу — и так без конца. Вот и сейчас: гляжу — ведро почти до краев, а тут уж, будь ты мастак из мастаков, каша эта все равно раньше срока окаменеет. Я, конечно, здорово скис, но тут мне и помощь подоспела.
Нервишки у Адди очень скоро сдали. Он рявкнул: «Я бы на твоем месте сразу налил ведро до краев». Это все, что ему в голову пришло. Я, конечно, среагировал буквально и ухнул весь оставшийся гипс в ведро. И почти в ту же секунду Заремба запел. А ведь он нас даже видеть не мог — из сортира или где еще он там в это время сидел. Но он как будто нюхом чуял, что у нас делается. А запел он опять один из своих маршей — на этот раз про партизан, — и опять вся команда подтянула. Он, видать, их здорово выдрессировал. Адди сразу прикусил язык и послал меня в комнаты — полы подметать после грунтовки. Я-то на его месте, наверно, всю эту парашу с гипсом мне бы на кумпол опрокинул. Но Адди совладал с собой. Тут только до меня дошло, чего это они каждый раз такую спевку устраивают. Я быстренько отвалил, но мне стало жутко интересно: а если и я вот так же начну — что Заремба будет делать? Запоет или нет? И еще я успел услышать, как Заремба пригромыхал к Адди в кухню и налетел на него: «А ты поспокойней, малыш. Поспокойней. Н-на?»
Адди ему: «Ты лучше скажи, чего этому типу тут надо? Он же просто хочет на нашем хребте денег подзаработать, пижон этот, — больше ничего».
А Заремба: «Н-на?.. Пижон?»
Я уже, кажется, говорил, что он был из Богемии. Оттуда, наверно, и это «н-на?». Он его чуть ли не через каждое слово втыкал. И этим своим «н-на?» умел больше сказать, чем другие романами целыми. Скажет «н-на?» и наклонит голову набок — это значит: а ты, друг, все-таки подумай над этим еще раз. Скажет «н-на?» и поднимет вверх свои мохнатые брови — значит: нет, друг любезный, этого не скажи! А если еще сощурит при этом свои щелки, все уже знают: сейчас выдаст звонаря Парижской богоматери. Не знаю, правда или нет, но кто-то мне рассказывал, что он сразу после сорок пятого года три недели в Берлине верховным судьей был или вроде того и приговоры выносил очень чудные, но зато — наповал.
«Н-на? Сталоть, господин подсудимый, вы всегда сочувствовали коммунистам?» В таком вот стиле. «Сталоть» — это тоже еще одно его словечко. Я себе весь черепок изломал, пока не допер, что «сталоть» — значит «стало быть». Да, Заремба — это был жук, скажу я вам.
Не знаю, то ли ему петь надоело, то ли он просто понял, что нам с Адди ни за что не ужиться, — во всяком случае, очень скоро он сам начал давать мне задания. Первое задание было — побелить в каком-то клозете панель, вернее, то, что над панелью, и потолок. Оставил он меня одного, а я развел потрясную голубую жижу и начал валиком разукрашивать стенки и потолок — знаете, в стиле «поп». Получилось что-то вроде эскизов для развязок на автостраде. Все голубое-голубое. Я еще не отделался, как слышу: за спиной выстроились Заремба и вся остальная команда. Они, чувствую, так пасти и раскрыли, Адди шире всех, — ждали, что Заремба мне устроит. А он просто сказал: «Н-на?»
Такого протяжного «н-на?» я от него еще не слыхал. Кроме того, он еще и голову набок наклонил, и брови мохнатые поднял, и щелки свои прищурил. Я прямо готов был за пятку себя укусить. До сих пор горжусь этим новым вариантом его «н-на?».
— Ну, конечно, вел он себя очень непонятно. Ничего не скажешь. Но как раз это и должно было заставить нас приглядеться к нему получше. Прежде всего это касается меня. А я вместо этого прогнал его, и тут даже Заремба ничего не мог сделать. Пожалуй, Заремба единственный из нас понял, на что Эдгар был способен. А я вот заартачился, как баран. Особенно когда началась эта история с нашим БКР — бескапельным растворителем. Мы уже раньше конструировали всякие такие штуки, но тут задумали сами себя переплюнуть: наш пульверизатор должен был распылять любую краску без этого, знаете, тумана из маленьких капелек, который образуется при работе с механизмами такого рода. Если бы удалось — это было бы изобретение на уровне мировых стандартов. К сожалению, как раз тогда у нас дело застопорилось. Мы в конце концов даже пригласили специалистов, но и они только руками развели. И в этой ситуации заявляется Эдгар да еще замечания делает. Тут-то, к сожалению, я и не выдержал. Я не хочу оправдываться. Просто я не мог совладать с собой.
Послушай, Адди, ну хоть сейчас окажи услугу — заткнись. На что я был способен — я тебе точно скажу: ни на что. А уж с этим БКР и подавно. Твоя идея со сжатым воздухом и полой форсункой гроша ломаного не стоит, но и моя — с гидравликой — тоже не лучше была. Так чего зря трепаться. Да, конечно, я на гидравлику здорово рассчитывал, — собственно, я об этом сразу подумал, как только эту их штуковину увидал. Она под фургоном валялась, я раза три — не меньше — об нее спотыкался и все присматривался к ней. Но я скорее бы язык себе откусил, чем кого-нибудь спросил, что это за агрегат и все такое. А уж Адди спрашивать — ни за что. Но в один прекрасный день Заремба сам мне все выложил. По-моему, этот жук меня насквозь видел.
«Не видал еще такого, н-на? Где тебе. Это — мировой стандарт. Распыляет краски всех видов в воздухе, на воде и на суше. За три часа успевает столько наделать, сколько три маляра за день не успеют, н-на? Действует без капельного тумана и тем самым дает сто очков вперед всем таким агрегатам на мировом рынке — и американским, сталоть. Разумеется, когда функционирует, н-на?»
Высказался, стряхнул пыль с агрегата, повздыхал, потом добавил еще: «Это не первое наше изобретение, но самое лучшее, н-на?».
Ясное дело, он хотел Адди и его команду подколоть: они тем временем нас с тылу окружили. Видать, эта штуковина уже давненько тут без дела валялась и функционировать не хотела. Как заработает, так напустит капельного туману, и все.
Я и говорю; «Вот ее машина никогда не заменит» — и торжественно поднимаю свою малярную кисть. Меня между тем опять к малярным работам допустили.
Адди сразу в бутылку: «Послушай-ка, приятель. Все это прекрасно. Не знаю, какой у тебя заскок, но заскок определенно есть. Мне-то плевать. Но мы тут — одна бригада, и не такая уж плохая, а ты теперь вошел в нее, и хочешь не хочешь, придется тебе тянуть общую лямку. И не думай, что ты первый такой. Мы еще и не таких обламывали. Спроси Ионаса. Во всяком случае, хотел бы я посмотреть на того, кто нас попробует стянуть в отстающие».
Высказался, развернулся на каблуках — и шагом марш вперед, вся команда за ним в затылок. А я, честно говоря, только половину и понял. В конце концов, про машину я вполне безобидно сказал. У меня в запасе не то еще было. Старичок Вертер, например. Я в темпе проанализировал ситуацию и установил, что нащупал у Адди самую слабую точку — этот распылитель.
А Заремба — ох и жук! — говорит: «Ты должен его понять, н-на? Это ведь его идея — с распылителем. Трогать ее — боже упаси. Тут — или бешеный триумф, или уж такой провал, н-на? Первый его провал!»
А я на это: «Положительно, он аккуратнейший дурак, какие только могут быть на свете. «Шаг», говорит, «за шагом!» — и щепетилен, как старая кумушка. Всегда в разладе с собой, он не уживается ни с кем».
Наконец-то старичок Вертер мне опять на подмогу подоспел. Заремба растопырил свои щелки, а потом проворчал: «Н-на? Этого не скажи!»
Он был первый, кого этот древневерхненемецкий стиль не сковырнул с копыт. Да мне было бы и жалко. Правда, я сознаюсь, что выбрал для него более или менее нормальное место. Не знаю, понятно ли вам, парни. А через несколько дней грянул гром. Адди со своей командой поставил распылитель во дворе одной из этих старых берлог и подключил к сети. Пришли два эксперта из какой-то специальной шараги — с целым ящиком форсунок всех калибров. Чтобы все испробовать. Генеральное представление! Народу набралось — плюнуть некуда. Всякие там печники, каменщики — в общем, все, кто только ошивался в этих берлогах. Ни одна форсунка не сработала. То вылетала водяная струя в руку толщиной, то капельный туман стоял, как от дождевальной установки. Эксперты с самого начала были настроены не очень-то оптимистически, но перепробовали все форсунки подряд. А Адди ни в какую не хотел отступаться. Адди был крепыш, что и говорить. Пока не выхватил форсунку самого маленького калибра. А та, бедняжка, попросту давления не выдержала. Шланг лопнул, как кишка дохлая, и в радиусе метров десяти все сразу оказались желтыми, что твои китайцы. Особенно Адди. Успех был колоссальный — публика животы надорвала.
Эксперты высказались: «Плюньте на все это дело. У нас то же самое было — а мы чего только не пробовали! Тут ничего не придумаешь. Проблема технически не разрешима — на сегодняшний день, во всяком случае. Дело не в форсунках».
Вот тут-то я взвел курок и спустил своего Вертера: «Род человеческий вообще вещь довольно однообразная. Большую часть времени они употребляют на заработку хлеба, а остальная небольшая доля свободы их так пугает, что они делают все, чтобы избавиться от нее».
Эксперты, наверно, подумали, что я вроде бы как домашний клоун в бригаде. Во всяком случае, они осклабились. Но бригада вся, во главе с Адди, медленно двинулась на меня. Они еще вытирали желтые помои со своих физиономий. Я сразу — кулаки наизготовку: на крайний случай. Но ничего особенного не произошло. Адди просто выдавил из себя: «Пошел вон! Пошел вон, иначе я ни за что не отвечаю!»
Лица его я так как следует и не рассмотрел. У меня самого еще все глаза были замазаны. Но голос у него был такой, будто он вот-вот разревется. Адди было за двадцать. Не знаю, когда я в последний раз ревел. Во всяком случае, давненько дело было. Может, потому-то я и пошел сразу, как он велел. И, может, я и в самом деле перегнул палку. Надеюсь, вы меня за это не посчитаете трусом, старики. Боксеру все равно нельзя обороняться всерьез. Ударишь по-глупому — и сразу тебе дисквалификация. А кроме того, и Заремба был тут, и он тоже сказал: «Убирайся, парень. Сейчас это лучше всего!» Так пока и закончились мои гастроли в малярной труппе Адди и его компании.
Кстати, погода была в тот день омерзительная. Я убрался в свой колхоз и первым делом отрапортовал Вилли на новой пленке: «А чьему краснобайству я этим хомутом обязан? Кто мне о деятельности уши прожужжал? Вы же, мои милые! Хороша деятельность!.. Я подал в отставку… Подсласти, рассиропь и поднеси это матушке. Конец». По-моему, я попал в самую точку.
— Я его попросту вышвырнул! Нет, не то чтобы мы вообще чужих не терпели. Вот Ионас, например, — он к нам со стройки пришел. Но к нам, конечно, много и таких приходит, кто ничего не умеет, да по большей части и не хочет уметь. Думаете, легко сколотить бригаду, с которой хоть что-то сделать можно?
— Да нет, что вы, зачем же оправдываться! Наверно, Эдгар и в самом деле был просто сумасбродом, оболтусом, самонадеянным, неуживчивым мальчишкой, с вечными заскоками…
— Ну нет, не скажите! Неуживчивым он, собственно, никогда не был — у нас, во всяком случае. А сумасброд?.. Ну, да вам-то лучше знать!
— Откуда же мне знать? Я его не видел с тех пор, как ему исполнилось пять лет!
— Ах, этого я не знал! Но… постойте! Ведь он к вам ходил. Он же был у вас!
Адди! Заткнись!
— Все еще расписывал потом, какое у вас ателье, как там здорово— окна на север, картин навалом, кругом кавардак такой…
Адди! Да заткнись же ты!
— Извините. Это я не от Эдгара узнал. От Зарембы.
— Когда же это было?
Погодите… Да вскоре после того, как мы его прогнали. В конце октября.
— У меня никто не был.
К сожалению, был. Не знаю даже, зачем я туда поперся, но это факт. Жил он в одной из этих гармошек, отделанных плиткой, — их сейчас в Берлине натыкали, куда ни плюнь. Адрес-то его у меня был, но я не знал, что он живет в такой роскошной коробке. У него там была однокомнатная квартирка. Окна на север — все точно. Может, думаете, я был такой идиот, что сразу представился? «Здравствуй, папочка, я Эдгар», — вот в таком стиле? Ну уж нет. Я надел свои малярные шмотки, а когда он открыл, просто сказал: «Слесарь. Проверка отопления». Он не очень-то был в восторге, но поверил сразу. Не знаю, что бы я сделал, если бы он не поверил. Плана у меня никакого не было, но я был почти уверен, что все сойдет. Натянул синие штаны — и, пожалуйста, ты уже слесарь по отоплению. Надел допотопную куртку — и вот вам управдом. Кожаная сумка — работник телефонной станции и так далее. Они всему поверят. Ну и что же, их можно понять. Надо только их знать — и все. К тому же у меня и молоток с собой был. Я и давай постукивать по батарее в ванной. Он стоит в дверях и смотрит. А мне просто время нужно было, чтобы привыкнуть к нему. Не знаю, понятно ли вам, старики. Знать, что у тебя есть отец, а потом увидеть его — это абсолютно не одно и то же! На вид ему было лет тридцать или вроде того. Я просто обалдел. Я же понятия о нем не имел. Я-то всегда думал, ему по меньшей мере пятьдесят! Не знаю, с чего я это взял. В общем, стоит он и смотрит — в халате и джинсах. Джинсы — с иголочки. Я это сразу усек. Надо вам сказать, в это время в Берлине вдруг появились настоящие джинсы. С чего — непонятно. Но появились. Тогда опять вот-вот какие-то перемены ожидались. Прошел такой треп — во всяком случае, в определенных кругах. А продавали их где-то на задворках — знали, конечно, что ни один универмаг в Берлине не вместит народных масс, которые рванутся за джинсами. Один раз так оно, между прочим, и было. Надеюсь, вы понимаете, что я при этом не дремал. И еще к а к не дремал! Так рано я еще в жизни не вставал — только чтобы вовремя на посту быть. Я себе ведь клешню откусил бы, если б джинсы прошляпил. Выстроились мы у входа — тысячи три гвардия! — и ждем открытия. Даже представить себе невозможно, как плотно мы стояли. В тот день, между прочим, первый снег выпал, но мерзнуть ни один из нас не мерз, слово даю. Кое-кто транзистор прихватил. Настроение как перед рождеством: вот-вот дверь распахнется, и дед-мороз с подарками выйдет— если кто, конечно, верит в деда-мороза. Все здорово на подъеме были. Я прямо чуть не выдал свой шлягер про синие джинсы, когда дверь распахнулась и начался этот цирк. За дверьми стояли четыре рослых продавца. Их смели, как пушинки, и вся орава— к джинсам. Только зря старались. Они не настоящие выбросили. Правда, похожие как две капли, но все же не настоящие. Зато уж хэппенинг получился первый класс. Лучше всех, наверно, были две бабуси с периферии, — они тоже там перед входом толкались. Хотели, наверно, своим сыночкам в какой-нибудь зачуханный Доннерветтер настоящие джинсы привезти. Но когда публика начала заводиться все больше и больше, бабуси вдруг струхнули. Решили сматываться, пока целы, бедняжки. Шансов на это у них никаких не было, даже если бы я или кто другой им помочь захотел. Пришлось им вместе с нами воевать— хочешь не хочешь. Надеюсь, они хоть живыми выбрались.
Во всяком случае, папаша мой, стало быть, в тот день тоже где-то там сражался. Я себе очень хорошо это представил, пока он стоял в дверях ванной и меня сторожил. А почему он сторожил — я это, между прочим, тоже сразу усек. На веревочке, в ванной пара дамских чулок висела. Наверняка у него в комнате баба была, а я там-то как раз и хотел оглядеться, прежде чем ему представиться. Я и говорю: «Тут все о'кей! Посмотрим в комнате».
Он: «Там все нормально».
Я: «Прекрасно. Но это последний осмотр в году».
Тут он сдался. Пошли мы в комнату. В кровати лежала дамочка. А рядом с кроватью раскладушка стояла, — это он, видать, на ней ночь коротал. Дамочка мне сразу понравилась. Что-то в ней от Шерли было. Не могу сказать что, но было. Может, манера эта — все время на тебя смотреть. Навести прожектора и не отрываться. Я сразу даже представил себе, как мы бы втроем жили. Кровать бы пошире купили, а я бы кемарил на старой или, пожалуйста, в коридоре на раскладушке. Утром я бы за булочками ходил и кофе варил, и мы бы втроем у ее кровати завтракали. Вечерами я бы таскал их в «Мелодию», а при случае, глядишь, и одну ее, и мы бы с ней флиртовали слегка — но скромно, как друзья-приятели.
В общем, я сразу зачертил крылом: «Пардон, мадам! Всего лишь проверка отопления! Секундочку — и все готово!» В таком стиле.
И — к батарее. Отстукал молоточком морзянку на трубах, прислушался к эху — в общем, как положено. А сам при этом глазами — по комнате. Не много там чего было. Стеллаж с книгами, телевизор — предпоследняя модель. Ни одной картинки на стенах.
Дамочка мне сигаретку предложила. Я сказал: «Не курю, спасибо. Курение — основная помеха для коммуникации». В общем, такой интеллигентный молодой рабочий парень.
Потом я спросил этого папашу: «Вы, я вижу, не большой любитель живописи?»
Он так и вытаращился на меня.
А я свое: «Ну вот, стенки. Tabula rasa. Нашему брату где только не приходится бывать. И везде картины — и такие и этакие. А у вас… Но зато у вас есть другие привлекательные вещи».
И тут дама наша улыбнулась. Она сразу поняла. Да, наверно, и не трудно было понять. Мы только секунду одну друг на друга посмотрели. И я подумал: вот она — единственное, что в этой комнате тоску не нагоняет. На остальное хоть бы не глядел. Эти стенки голые… Наверно, тем только и можно объяснить, что я начал вдруг болтать без умолку, как идиот: «Оно и верно, конечно. Я всегда говорю: если уж картины, то только собственного изготовления. А их, конечно, на собственные стены не вешают. Скромность и все такое. Кстати, можно вопрос: дети у вас есть? Дети, скажу я вам, так рисуют — обалдеть можно. Сразу прямо на стенку вешай — и уж краснеть не придется…»
Не знаю, чего уж я там еще наворотил. По-моему, я перестал молоть языком, только когда очутился на лестничной площадке, дверь за мной захлопнулась, и я осознал, что даже не заикнулся, кто я такой и вообще. Но у меня просто духу не хватило позвонить еще раз и все ему сказать. Не знаю, понятно ли вам, старики.
После этого я убрался в свою берлогу, как всегда. Хотел поставить музыку, подразмяться — и поставил, и попробовал подвигаться, но на этот раз все было не то. Тогда я уже очень хорошо себя знал, чтобы понять, что со мной на этот раз что-то не то. Я себя в темпе проанализировал и установил, что мне нужно сейчас же начать конструировать свой распылитель. Свой БКР. Как — я еще не знал. Знал только, что он должен выглядеть совершенно по-другому, чем у Адди. Правда, я понимал, что это будет не просто — настоящих инструментов нет и все такое. Но не в моих правилах было пугаться трудностей. Ясно было также, что все должно делаться в строжайшей тайне. А потом, когда он работать начнет — распылитель мой, — я небрежно так, как лорд, заявлюсь в их компанию. Не знаю, понятно ли вам, старики. Во всяком случае, я в тот же день, как идиот, начал рыскать по обезлюдевшему участку — всякие подходящие предметы искать. Вы себе даже представить не можете, чего только на таком участке не валяется. Можно сказать: все, абсолютно все, слово даю, — только не то, что надо. Но как бы там ни было, я сволок в кучу все, что хоть как-то могло пригодиться. Решил: первым делом — материал. Вот это и был первый камень на мою могилу, парни. Первый гвоздь в мой гроб.
— Я бы сказал, мы его довольно быстро вернули назад в бригаду. Правда, тут была больше инициатива Зарембы. Но и тогда в принципе уже было поздно. К тому времени Эдгар уже начал сооружать свой БКР. И Заремба, между прочим, этого тоже не знал. Мы разыскали его в том домишке. Но что он там свой распылитель сооружал — этого ничего не было видно. А заглянуть на кухню нам, к сожалению, и в голову не пришло.
А хоть бы и пришло, фига с два бы вышло. Она заперта была. Я бы туда ни одну собаку не впустил. Даже Шерли, наверно, не впустил бы. Только я разошелся — сижу кумекаю над своим распылителем, — вдруг смотрю: над заборчиком плешь чья-то возникает с волосиками пожухлыми — Заремба! Я тут же, братцы, кухню на замок. Бросаюсь на тахту и начинаю кашлять. Не то чтобы болен был или что-нибудь такое — во всяком случае, не всерьез. Кашель-то у меня и вправду был. Наверно, подхватил его, когда по участку рыскал. Может, конечно, уже и топить надо было начинать. Но кашель я бы мог и прекратить. Просто привык кашлять — мне это нравилось. Здорово все-таки: Эдгар Вибо, непризнанный гений, за самоотверженной работой над своим последним изобретением, легкие наполовину разъедены, но он не сдается. Ну и идиот, скажу я вам! Но эта мысль меня подстегивала. Не знаю, понятно ли вам, старики. В общем, раскашлялся я, а бригада уже в двери ко мне ломится. То есть не ломится. Они тихонечко так вошли. Первым Адди, за ним Заремба. Наверно, это старик его первым вытолкнул. Бедняги, видать, и вправду думали, что я у них на совести и все такое. Из-за того, что они меня шуганули. А тут я еще с жутким кашлем на тахте! Вы представить не можете, как здорово у меня этот кашель получался. Да еще я ноги высунул из-под замызганного пледа, будто он мне короток.
Заремба — сразу: «Эге! Раньше-то вроде получше кашлял, н-на?» И поворачивается к Адди: выдавай, значит, спич. Адди огляделся сначала, будто за что ухватиться искал, потом начал: «Что я хотел сказать… Я иной раз, может, и перехватывал… Есть у меня такое… В будущем нам обоим надо это иметь в виду. А с распылителем конец. Проехало, и точка».
Тяжело ему было. Я почти растрогался. Вот только говорить не мог — кашель. Ионас — это который исправился — докончил: «Мы так подумали: может, ты будешь на полах специализироваться. Тут и валиком 1а можно. А по субботам мы в кегли играем».
Остальная команда тем временем, конечно, вся подтянулась. Они буквально стекались в мою берлогу— один, потом другой, третий — кап… кап… кап… По-моему, Заремба или Адди поначалу их выставили на посты по всем четырем углам — на тот случай, если бы я вдруг улетучиться захотел. Я прямо чуть животики не надорвал. Собрались это они и начали осматривать мой вернисаж. Вижу— успех будь здоров. С этого момента они все меня за такого, знаете, малость чокнутого стали считать, к которому лучше и не подступаться. Все, кроме Зарембы. Старичок свое мнение составил, голову даю на отсечение. А потом смотрю — ходит по моей берлоге, принюхивается, как учуял что. На ручку от кухонной двери нажал. Но тут осечка вышла — как я уже сказал, дверь была заперта. А я на все его иезуитские вопросы— например, не собираюсь ли я тут зимовать, — даже ответить как следует не мог. Этот кашель меня и вправду скрутил. В самые неподходящие моменты кашляю, как идиот. Вошел в роль — дальше некуда. Заремба — ну жук! — собрался меня сразу же к врачу отправлять. Тут я совсем было скис. Потом нашелся: кашель этот на меня каждую осень находит, штука совершенно безобидная. Аллергия. Сенной насморк или как его. Единичный случай. Загадка для науки. Тут Заремба от меня и отстал. Но кашель с того дня как рукой сняло, пропал, исчез, так только — случайные рецидивы иногда. К врачу! Этого мне только не хватало. Насчет врачей я вот что скажу: в гробу я их всех видал. Я один-единственный раз был у врача — сам пошел, какая-то парша у меня на ногах выступила. Не прошло и получаса, как я уже лежал у него на столе: он всадил мне по два укола в каждый палец, а потом ногти с них содрал. Уже одно это было черт знает что. Но когда он отделался, он шуганул меня в палату — на своих двоих, парни, хотите верьте, хотите нет! У меня кровь из бинтов перла, как у идиота. А ему даже и в голову не пришло отправить меня в кресле или еще там как. С тех пор у меня о врачах твердое мнение.
Во всяком случае, с этого дня Адди с меня чуть пылинки не сдувал. Картины, а потом еще этот единственный в мире кашель. Наверно, я в то время мог распоясаться, как хотел, Но я умел владеть собой. Мне вовсе не светило еще раз иметь честь приветствовать их в своем колхозе. Еще, глядишь, про мой пульверизатор пронюхают. Я ведь, идиот, все время воображал, как с этим пульверизатором на белом коне к ним нагряну. Почти во всем себе отказывал. Например, даже ни разу свой пистолет системы Вертера не пустил в ход. Усердно накатывал полы валиком, а вечерами даже иногда вместе с ними на кегельбан ходил. Сидел там как на угольях, пока они играли, и про себя думал: «Вибо-то — как мы его здорово к коллективу приобщили!» Ну прямо тебе Миттенберг. А дома мой распылитель ждет не дождется.
Примерно тогда же я совершенно случайно наткнулся на этот музей истории гугенотов. Я уж совсем было и плюнул на него. Поначалу на улицах всех подряд о нем спрашивал — устроил такой всенародный опрос: вы не знаете, где находится музей истории гугенотов? Толку никакого. Ни одна собака в Берлине не знала. Большинство, наверно, принимало меня за идиота или за туриста. И вдруг я прямо носом в него ткнулся. Он в полуразбомбленной церквушке ютился. Церквушка меня заинтересовала, потому что это была первая настоящая послевоенная руина, какую я видел. В Миттенберге-то ни одного выстрела не сделали! Генерал Брусилов или еще какой-то там генерал чуть не забыл его взять. А на единственной целой двери церквушки висела табличка: «Музей истории гугенотов». Под ней другая: «Закрыто на ремонт». В другое время меня бы эта вторая табличка не остановила. В конце концов я сам — гугенот, попробуйте-ка меня выставить. Наоборот, шеф мне бы скорее всего на шею бросился: настоящий, живой потомок гугенотов! Насколько мне было известно, мы уже вымирали. Но не знаю уж почему, только посмотрел я на эту табличку, повернулся и ушел. Тут же я в темпе себя проанализировал и установил, что мне просто до фитиля, благородных я кровей или нет и чем там другие гугеноты занимались. Наверно, мне даже было плевать, гугенот я, или мормон[7], или еще кто. Не знаю почему, но мне все это уже было до фитиля.
Зато в это самое время мне пришла в голову другая идиотская мысль — написать Шерли.
С того дня я практически больше ее не видел. Мне ясно было, что она давно уже со своим Дитером помирилась и что мои шансы после всего этого на нуле. А все-таки она не выходила у меня из головы. Не знаю, понятно ли вам, мужики. И, конечно, про кого я первого подумал? Про старичка Вертера. Он же без просыпу строчил письма своей Шарлотте. И искать долго не пришлось — сразу нашел что надо:
«Если б вы меня видели, моя добрая, в городском омуте! Дух сохнет… Ни часу отдыха обиженной душе: так пусто, пусто все!»
Я это накалякал на обороте меню в забегаловке при кегельбане. Но так и не отослал. Понимал, что с Вертером мне и подавно не на что у нее рассчитывать. Этот номер уже не пройдет. Только вот другого ничего в голову не приходило. Не мог же я просто так взять и завалиться к ней. А в один прекрасный вечер гляжу — в моем почтовом ящике конверт лежит. Я еще издали его увидел. Почту я ведь только до востребования получал. И марки на конверте не было. А внутри — открытка. От Шерли. «Ты еще жив? Заглянул бы к нам. Мы давно поженились».
Значит, Шерли сама ко мне приходила! Парни! Я чуть копыта не откинул. Прямо коленки подкосились. Без шуток. Мурашки по спине пошли. Все бросил и — прямиком к ним. Через каких-нибудь восемь минут я был перед Дитеровой дверью. Просто решил, что они теперь вместе живут у него. Так оно и было. Открыла Шерли. Сначала она уставилась на меня, как на привидение. У меня было такое чувство, будто я не очень кстати пришел. То есть вообще-то кстати — я это тоже почувствовал, — но все-таки не совсем. Может, она просто не рассчитывала, что я приду сразу же после того, как она в моем колхозе побывала. Во всяком случае, она позвала меня в комнату. У них была только одна комната. В комнате сидел Дитер. Сидел за своим письменным столом, точь-в-точь как несколько недель назад. Стол стоял у окна, а он сидел за ним спиной к комнате. Это вполне понятно. Когда у тебя всего одна комната и тебе в ней еще работать приходится, то надо как-то изолироваться. Дитер это делал спиной. Спина ему практически служила стенкой.
Шарлотта сказала: «Оглянись-ка!»
Дитер оглянулся, и, к счастью, меня осенило: «Я хотел только спросить: у вас шведского ключа нет?»
Я просто печенками почуял: Дитеру лучше не знать, что это Шерли меня пригласила. Я и ступил-то в комнату на один шаг, не дальше.
И представляете, парни, Шерли спросила: «Есть у нас шведский ключ?»
Я судорожно за какую-то долю секунды проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что Шерли подыгрывает мне в этой истории со шведским ключом. И опять у меня по спине мурашки прошли.
Дитер спросил: «Зачем тебе шведский ключ? Труба лопнула?»
А я: «Да можно сказать — так».
Между прочим, шведский ключ мне и в самом деле был нужен. Для распылителя. Правда, в сарае на участке я что-то вроде этой штуковины откопал, но уж такую ржавую железяку, что ею разве что дырку в коленке можно было просадить. Тут мы подали друг другу лапы, и Дитер сказал: «Ну-у?»
Прямо тебе дяденька добрый. Не хватало только довеска: «…молодой человек? Как мы — образумились с тех пор или все еще блажь в голове?» Обычно я от такой манеры сразу в бутылку лез и тут был тоже около того. Но я взял себя в руки, смирненько так вылез из бутылки — пожалуйста вам: послушный, рассудительный, повзрослевший мальчик, как и во все последние дни. Сама скромность. Не знаю, можете ли вы себе представить: я — и сама скромность, старики. И все оттого, что я, идиот, думал, у меня такой козырь в запасе — распылитель мой. Собственно, уж и не знаю, что я тогда вообще думал. Просто я был на сто процентов уверен, что моя идея с гидравликой абсолютно верна, и уже заранее, как великий изобретатель, скромно переживал свой успех. Эдгар Вибо, одаренный, гениальный, обаятельный юноша и все же такой скромный. Знаете, как об этих рекордсменах-чемпионах говорят. Ну, скажете, не идиот? А кроме того, я, конечно, сразу увидел, что Шерли вся краской пошла. То есть я этого не увидел. Все это время я просто не решался посмотреть на нее. Иначе бы я, наверно, уж не знаю до какого идиотства допер. Но я это почувствовал. Может, в этот момент сбывалась ее самая заветная мечта — что мы с Дитером станем хорошими друзьями. До этого она все еще стояла за мной в дверях. А тут сразу забегала, собралась чай ставить, мне — садись и все такое. Комнату было не узнать. Ее не просто отремонтировали — в ней совершенно все стало но-другому. Я не имею в виду мебель. Собственно, новыми в ней были только картинки на стенах, лампы, гардины и всякие финтифлюшки — их, видать, Шерли в хозяйство принесла, приданое ее. И мне вдруг захотелось там жить. Не потому, что там все было одно к одному подобрано: кресла к ковру, ковер к гардинам, гардины к обоям, обои к креслам, — от этого меня как раз всегда чуть не выворачивало. Нет. А вот, например, картинки — они все были из садика, недоростки рисовали. Дети рисовать умеют — загнуться можно; это я, по-моему, уже говорил. На одной картинке, как я понимаю, снежная баба была. Только красной тушью. Похоже на Чарли Чаплина, когда у него все сперли. Я бы сказал, прямо за печенки хватает. Рядом пушка Дитерова висела. Все книжки вдруг стали выглядеть так, будто их кто-то все время перечитывает. Так прямо и захотелось приткнуться куда-нибудь в угол и начать их читать, все подряд. Я пошел бродить по комнате, все разглядывать и обо всем трепаться. Нахваливал все, как чокнутый. Мой вам совет, мужики: если кого из вас девчонка или там женщина интересует, первым делом хвалите ее. У меня-то это просто уже в сервис входило. Конечно, не то чтобы грубо, напролом — нет. А так вот, например, как тогда у Шерли в комнате. Не говоря уже о том, что мне там честно понравилось, я еще и видел, конечно, как Шерли то краснела, то бледнела. Вполне допускаю, что Дитер-то до сих пор вообще ни на одно слово обо всем этом не расщедрился. И очень похоже было на него, когда он вскоре опять от нас изолировался. Сел и погрузился в работу. Шерли как увидела это, тоже сразу села и мне велела сесть. А я опять чуть не с копыт долой. Манера садиться у нее все та же осталась — и с юбкой и все такое. Просто не могу вам описать, парни, что со мной творилось. Потом она сделала мне знак выйти из комнаты, а за дверью пояснила: «Ты должен его понять. Он абсолютно от всего отстал за время службы в армии. И на курсе он самый старший. По-моему, он даже и не уверен, стоит ли ему вообще заниматься литературой». Это все — шепотом. Потом спросила меня: «Ну, а ты? Как твои делишки?»
Я почти автоматически начал кашлять — очень деликатно, разумеется.
Шерли сразу: «Надеюсь, ты не собираешься там зимовать?»
Я: «Да вряд ли».
Кашель все-таки меня здорово выручал.
Потом она спросила: «А ты работаешь?»
Я: «Конечно. На стройке».
А сам прямо наслаждаюсь эффектом от своих слов. Шерли была из тех, кого смело можно спрашивать, верят ли они в «доброе начало в человеке», — они, нисколько не смутившись и не покраснев, ответят: «Да». И в тот раз она, наверно, подумала, что вот во мне доброе начало все же восторжествовало, и может быть благодаря тому, что она в свое время прямо сказала мне в лицо все, что думала.
Когда мне раньше случалось прочесть в какой-нибудь книжке, что кто-то вдруг где-то оказывался и сам не знал, как он туда попал — вроде бы себя не помнил, — я по большей части тут же выключался. Считал, что это совершенная чушь. А в тот вечер я очутился перед своей хибаркой и в самом деле не знал, как туда попал. Будто продремал всю дорогу. Я сразу включил маг. Сначала хотел до рассвета танцевать, но потом, как сумасшедший, набросился на свой распылитель. В тот вечер я был как никогда уверен, что нахожусь на правильном пути. Жаль только, что я на самом деле не взял у Шерли шведский ключ. Об этом, конечно, потом уже и речи не было. А мой ни к черту не годился. Но зато у меня был повод снова заявиться к Шерли, что я и сделал на другой день после обеда. Дитера не было дома. Шерли пыталась присобачить балдахин к одной из своих ламп. А он не держался. Она стояла на стремянке — точно такой же, как у нас на стройке. Старичок Заремба еще на таких твистовал. Я тоже вскарабкался на этого козла, и мы начали вместе прилаживать этот идиотский балдахин. Шерли держала, а я завинчивал. Но вот хотите верьте, хотите нет, парни, — руки у меня дрожали. Не могу завинтить шуруп, и все тут. Оно и понятно: все-таки так близко от меня Шерли еще никогда не была. Но это бы еще ничего. Но она свои прожектора с меня не спускала. Дело дошло до того, что Шерли стала завинчивать, а я держал. Для шурупа это, во всяком случае, был лучший выход. Завинтился наконец. А у нас с Шерли руки затекли. Может, с вами бывало такое — когда целый час руки держишь вверх. Кто потолки белит или гардины вешает, те-то знают. Мы хором застонали, начали массировать друг другу руки — все на стремянке. Потом я стал рассказывать про Зарембу, как он на стремянке чуть не твистовал, во всяком случае разгуливал на ней по комнате, и тут мы ухватили друг друга за руки и тоже поковыляли на стремянке через комнату. Раза три чуть не загремели. Но мы задались целью добраться до двери, не слезая с лестницы, и добрались-таки. Это я ее уговорил. Вот что здорово — Шерли можно было на такие вещи уговорить. Девяносто девять девчонок из ста сразу бы струсили или поверещали-поверещали, а потом все равно бы спрыгнули. А Шерли нет. Когда мы добалансировали до двери, та раскрылась — и на пороге вырос Дитер. Мы сразу прыг-скок. Шерли его спрашивает: «Есть хочешь?»
А я: «Ну, я пойду. Я просто за шведским ключом приходил».
Я вдруг перепугался до смерти, что он на моих глазах обхватит Шерли, а то еще и поцелует и все такое. Не знаю, парни, чем бы все тогда кончилось. Но Дитер об этом даже и не думал. Он со своей папкой — прямым курсом к письменному столу. Или он вообще не целовал Шерли, когда возвращался, или сдержался на этот раз — из-за меня. Мне сразу старичок Вертер в голову пришел, как он своему Вильгельму писал: «Он честен — он ни разу не поцеловал при мне Лотту. Бог награди его».
Мне, правда, непонятно было, при чем тут честность, но все остальное было понятно. В жизни бы никогда не подумал, что этот Вертер станет для меня вдруг таким понятным. А вообще-то он бы и не успел поцеловать Шерли, если бы даже захотел. Она враз испарилась на кухню. Я понимал, что мне надо уходить. Но все-таки остался. Поставил стремянку на место. Пошел слоняться вдоль стенок. Хорошо бы разговор с Дитером затеять, но, хоть убей, ничего в башку не лезет. Вдруг у меня в лапах эта пушка его очутилась. Дитер — ни звука. А Шерли появилась с бутербродиками для него и сразу выпалила: «Мужчины, у меня предложение. Пошли потом на железнодорожную насыпь постреляем, а? Ты давно хотел меня научить».
Дитер буркнул: «Сейчас уже темно, какая там стрельба».
Он был против. Он рвался к столу. Что еще за детские игрушки. И с этой стремянкой тоже. Но Шерли уставила на него свои прожектора и не спускает. Тогда он сдался.
Но вот на чем он вконец погорел — он на насыпи просто нас игнорировал. Стреляли мы в табличку «Стоянка машин запрещена»— это я ее раздобыл. То есть стреляла Шерли. Дитер пытался только изображать командира — указывал цель и все такое, — а я стоял рядом с Шерли и технику ее корректировал. А получилось все так потому, что Дитеру просто в голову не приходило побеспокоиться о Шерли. Он, так сказать, предоставил детишкам забавляться как знают. Может, он просто думал о времени, которое он на это угробит. Я, собственно, его даже понимал, но все-таки Шерли мне жутко было жалко. Я и начал показывать ей, как приклад к плечу приставлять, ноги под правильным углом ставить, и что цель надо накрывать мушкой, и выдох при этом делать — в общем, урок военного дела. Как правильно ставить мушку, как курок тянуть и все такое. Шерли стреляла и стреляла, я ее то и дело трогал, а она все сносила, пока не заметила, наконец, что с Дитером творится, — а может быть, пока не пожелала заметить. Тут она остановилась. Между прочим, насчет того, что стало слишком темно, Дитер был прав. Но ему пришлось пообещать ей в следующее воскресенье куда-нибудь выбраться, все равно куда, главное за город. Обо мне речи не было — во всяком случае, прямо. Шерли все очень ловко провернула — она сказала: «…мы обязательно выберемся за город».
Тут понимай как хочешь. А может, я просто все себе вообразил, идиот. Может, она и в самом деле про меня не думала. Может, всего, что случилось потом, и не произошло бы, если б я, идиот, не вообразил себе, что Шерли и меня пригласила. Но я ни о чем не жалею. Слышите, парни, — ни о чем!
В следующее воскресенье я, конечно, был тут как тут. Мы сидели с Шерли на тахте. На улице — дождь, как с цепи сорвался. Дитер сидел за письменным столом и занимался, а мы ждали, когда он кончит. Шерли уже плащ надела и все такое. Она нисколько не удивилась, ничего, когда я позвонил. Значит, все было, как я и думал. А может, она и удивилась, но просто виду не подала. На этот раз Дитер п и-с а л. На машинке печатал. Двумя пальцами. Из головы. Сочинение, подумал я. Так оно, наверно, и было. Причем я сразу увидел: заело у него. Мне-то это знакомо. Он печатал примерно в полчаса по букве. Этим, по-моему, уже все сказано. Шерли в конце концов не выдержала: «Послушай, может, не стоит так уж вымучивать?»
Дитер на это ни слова. А я все время, не отрываясь, на ноги его глазел. Он их закрутил вокруг ножек стула и носками зацепился. Не знаю, может, у него привычка такая была. Но мне, собственно, с самого начала было ясно, что он не поедет.
Шерли опять начала: «Ну пошли! Брось ты все это, пускай отлежится. Потом знаешь как пойдет».
Она не сердилась, ничего. Пока ничего. Я бы сказал, она очень бережно с ним обращалась — прямо медсестра.
А Дитер и говорит: «На лодке — в такую погоду!»
Не помню уж, говорил ли я, что Шерли задумала лодку напрокат взять.
Шерли на это сразу: «Хорошо, не на лодке, так на пароходе». Вообще-то говоря, Дитер был прав. Идея бредовая — на лодке в такую погоду. Он снова застучал. А Шерли: «Ну, не на пароходе, так хоть прогуляемся просто по нашему кварталу».
Ока сделала последнее предложение, и для Дитера это уж точно был последний шанс. Но он даже ухом не повел.
Шерли: «Можно подумать, что мы сахарные».
По-моему, именно в этот момент ее терпение и лопнуло. А Дитер спокойно так говорит: «Ну вот и поезжайте, чего же вы».
Шерли: «Ты же твердо обещал».
Дитер: «Я и говорю: поезжайте!»
Тут Шерли взорвалась: «И поедем!»
Я поднялся и вышел. Что будет дальше, каждому ясно. И я тут уж абсолютно не к месту.
Я хочу сказать: я вышел из комнаты. Мне, конечно, вообще надо было уйти. Я понимаю. Но я просто не мог. Начал слоняться по кухне. И вдруг опять вспомнил старичка Вертера, как он писал:
«Нет такого грошового дела, которое не занимало бы его больше, чем это сокровище, эта чудная жена!.. Это пресыщение, равнодушие — не больше!»
Конечно, Дитер никакой не чинуша, да и Шерли сокровищем не назовешь. Пресыщение — тоже не тот случай. Дитер, правда, получал повышенную стипендию — из-за службы в армии. Но наш брат маляр наверняка втрое больше своей мазней зарабатывал. Мне трудно сказать, в чем тут дело. Собственно говоря, к Дитеру и придраться было не за что. Но ясно было только, что он уже сто лет не выходил с Шерли из своей берлоги. Это было совершенно ясно. Не успел я все это прикинуть, как Шерли пулей вылетела из комнаты. Я не зря говорю «пулей», старики! А мне она просто сказала: «Пошли!»
Я, конечно, тут же — к вашим услугам.
Она говорит: «Подожди!»
Жду. Она схватила с вешалки серую скатку и сунула мне в руки. Эту попону, конечно, Дитер из армии приволок. Воняет бензином, сыром и мусором горелым — о резине уж я не говорю.
Она спрашивает: «Моторкой умеешь править?»
Я: «Не очень».
В другое время я бы сказал: «Ясно, могу». Но я уже так вжился в роль примерного мальчика, что просто правду брякнул.
А Шерли: «Что?» И смотрит на меня, будто не поняла.
Я тогда сразу: «Ясно, могу».
Три секунды — и мы были на воде. Я хочу сказать: добирались-то мы наверняка час или около того. Но у меня с Шерли вот уже второй раз так было, когда я просто не знал, как вдруг где-то очутился. Прямо как в кино. Раз — и ты уже в другом месте. Правда, тогда у меня и времени не было во всем разбираться. В этой идиотской моторке оказалось довольно много л. с. Она рванулась, как угорелая, наискосок через Шпрее, а на том берегу, вижу — стена бетонная, завода какого-то. Я еле-еле успел вовремя завернуть. Это вместо того, чтобы просто газ убрать, идиот. Мы бы, конечно, в два счета пошли ко дну, и от моторки бы даже винтика не осталось. Эти моторки ведь срываются сразу, как только заведешь. Ни тебе сцепления, ничего. Я посмотрел на Шерли. Та — ни звука. Представляю, что было со старичком, у которого мы лодку брали. Языка, наверно, лишился. Я только видел, как он стоит там на своих мостках. Уж я не говорю, как Шерли у него эту лодку выклянчивала — тоже была история, скажу я вам. Вы, может, подумаете, что я струсил. Комплексы и все такое. Это нет. Но я все-таки чуть назад не завернул, когда мы к этой молодежной прокатной станции пришли. Сырость кругом, как в потоп. На воде ни одной лодки. Еще бы. Устроили прогулочку — рождество на носу. И шарага вся забаррикадирована. Но Шерли все же разыскала дырку в заборе, дозвонилась до старичка и прямо в лепешку перед ним расшиблась, пока он не выдал нам эту трещотку из своего сарая. Я бы в жизни не поверил, что такое возможно. Старичок, наверно, тоже. Но в тот день Шерли, по-моему, всего могла добиться. Она просто закусила удила. Она любого бы на что угодно уломала.
Когда мы стартовали, она тоже заползла под попону. Дождь все хлестал, как очумелый. Два-три градуса пониже — и гулять бы нам вместо дождя под бураном. Вы, может, уже не помните этот прошлогодний декабрь. В посудине нашей наверняка была слякоть и холодина жуткий, но я ни черта не соображал. Не знаю, понятно ли вам. Шерли обхватила меня сзади рукой, а голову на плечо положила. Я думал, тут же концы отдам. Лодку я, правда, тем временем кое-как обратал. Не знаю, есть ли на воде правила движения. По-моему, кто-то говорил мне, что есть. Но на всей этой занудной бесконечной Шпрее в тот день ни одной лодки, ни одного парохода не болталось. Я рванул шнур до отказа. Нос сразу на дыбы. Лодка-то наша, между прочим, ничего была. Может, этот старичок лодочник сам на ней катался. Я начал выделывать всякие виражи. Главным образом в левую сторону, потому что тогда Шерли здорово так ко мне прижимало. А она ни черта не имела против. Потом она сама начала управлять. Один раз мы на миллиметр от мостового быка проскочили. Шерли — ни звука. Лицо у нее все еще такое же было, как в тот момент, когда она от Дитера пулей вылетела.
До того времени я не знал, что город можно со спины видеть. Берлин со стороны Шпрее — это Берлин со спины. Заводские дворы, склады. Даже интересно.
Сначала я думал, дождь нам всю лодку затопит. Но ничего, обошлось. Зато сами мы промокли до ниточки, несмотря на рогожку. От этого дождя просто было не спастись. Мы так промокли, что нам давно уже было на все наплевать. С таким же успехом мы могли бы искупаться во всех шмотках. Не знаю, бывало ли с вами такое, старики. До того промокнешь, что тебе на все наплевать.
Наконец, сараи по берегам кончились. Пошли дачи, виллы всякие. Потом надо было заворачивать — или налево, или направо. Я, конечно, предпочел налево. Просто надеялся, что мы уж как-нибудь выберемся с этого озера. Я хочу сказать: другим путем. Всю жизнь я терпеть не мог возвращаться тем же путем, каким шел. Это не суеверие и все такое. Нет. Просто не любил, и все. Может, потому, что скука смертельная. По-моему, это у меня был еще один заскок. Вот как с распылителем этим. Когда мы с шиком пронеслись мимо какого-то островка, Шерли заерзала. Стало быть, захотела куда-то. Я ее понимал. Когда дождик, всегда так бывает. Я стал высматривать, где бы пристать к берегу через камыши. На наше счастье, таких мест было полно. Больше их, чем камышей. А дождь все лил как из лоханки. Мы выпрыгнули на берег. Шерли тут же улетучилась. Когда она вернулась, мы опять забрались под попону и скрючились на траве. Мокро, как в луже. И еще дождевые черви кругом. Помню, мне даже смешно как-то стало: на острове — и дождевые черви. Впрочем, вполне возможно, что это был всего лишь полуостров. Я так и не узнал после. Тут Шерли и говорит: «Хочешь, я тебя поцелую?»
Парни! Я чуть концы не отдал. Чувствую — дрожу всем телом. Я прекрасно понимал, что Шерли все еще злится на Дитера, забыть не может. Но я ее все-таки поцеловал. Лицо у нее пахло свежестью, как холст, выбеленный ветром. А рот холодный, как ледышка, — от этого чертова дождя, наверно. И я ее просто больше не отпустил. Она раскрыла прожектора свои, но я ее больше не отпустил. И она на самом деле насквозь промокла, до косточек — и плечи, и ноги, и все.
В какой-то книжке я читал, как один негр, то есть африканец, приехал в Европу и как ему впервые в жизни досталась белая женщина. Он, помню, запел при этом — какую-то свою песню с родины. Я тогда сразу выключился. Наверно, это была одна из моих самых больших ошибок в жизни — сразу выключаться, когда я чего-нибудь не знал. Потому что с Шерли я сам мог бы запеть. Не знаю, бывало ли с вами такое, мужики. Я просто пропал.
Потом мы тем же путем возвращались в Берлин. Шерли ничего не говорила, только вдруг начала безумно торопиться. Я не мог понять почему. Думал, просто продрогла. Предложил ей опять укрыться под скаткой, но она отказалась без всяких объяснений. И даже не дотронулась до скатки, когда я ей всю ее отдал. Вообще на всем обратном пути она ни слова не проронила. Я почувствовал себя жутким преступником. Начал было опять виражи вырисовывать, но сразу понял, что она против. Торопится — и все. А тут у нас еще бензин кончился. Кое-как мы дошлепали до ближайшего моста. Я хотел сбегать к колонке за бензином, а Шерли чтобы подождала. Но она выскочила из лодки. Я не мог ее удержать. Выскочила, взбежала по мокрым железным ступенькам наверх — и поминай как звали. Не знаю, почему я не бросился за ней. В кино, знаете, часто бывают такие места: она хочет убежать, а он хочет ее удержать, она — дверь настежь, и только ее и видели, а он стоит в дверях и зовет. Я раньше в таких местах сразу выключался. Чушь форменная: три шага — и он бы ее догнал. А тут я сам сидел и смотрел, как Шерли убегает. Меня через два дня крышка ждала, а я, идиот, сидел и смотрел, как она убегает, и думал только, что придется теперь с лодкой одному назад пилить. Не знаю, приходилось ли вам уже когда-нибудь задумываться насчет смерти и всего такого. О том, что однажды тебя просто не будет, раз — и привет, точка, крышка, причем навек. Одно время я часто об этом думал, а потом плюнул и перестал. Не мог себе представить, как это все будет, — в гробу, например. Мне только все чушь какая-то в голову лезла. Вроде того, что лежу я в гробу, темь кругом непроглядная, а у меня вдруг спина начинает жутко чесаться, и если я ее сейчас не почешу, просто подохну. Но в гробу тесно так, что рукой не пошевельнуть. Если с вами бывало такое, то вы знаете, что уже от одного этого чуть не сдохнуть можно. Но ведь в таком случае я, стало быть, только казался мертвецом! Дальше этого я не шел. Не могу себе дальше ничего представить, и все. Может, если кто дальше зайдет, тот уже наполовину мертвец, а я, по-моему, бессмертным себя считал, идиот. В общем, мой вам совет, мужики: лучше не думать ни о чем. Мой вам совет: если от вас девчонка убегает, которая вам не просто так, — не сидите как чурбаны и не думайте ни о паршивой лодке, ни о чем.
Во всяком случае, лодочник наш уже готов был речную милицию всполошить, когда я наконец пришлепал туда. Но он чуть не заплакал от счастья, что лохань его к нему вернулась. Ну, думаю, старичку этот день тоже запомнится. Сначала я приготовился к тому, что он устроит мне жуткую головомойку. Я уже и стойку принял. Настроение у меня как раз подходящее было. Того типа у бензоколонки я так обложил, что у него челюсть отвисла. Он не хотел мне канистру давать. Он был из тех, знаете: а-кто-мне-заплатит-если-канистра-пропадет? С такими просто жить невозможно.
Дома я повесил свои мокрые тряпки на гвоздик. Что дальше делать, не знаю. Просто не знаю, что дальше делать. Никогда мне так муторно не было. Поставил своих молодцов из «М. С.». Вихлялся, пока пар не пошел, — часа два, наверно, — но дальше все равно не знаю, что делать. Попробовал заснуть. Ворочался-ворочался часа три на своем клоповнике. А когда проснулся, вижу — третья мировая война началась! Танковая атака или еще хлеще. Я кувырком с тахты — и к двери. А прямиком на меня — крокодил такой с гусеницами и стальной мордой. Бульдозер. Сто пятьдесят л. с. По-моему, я заорал, как идиот. Он остановился в каком-нибудь метре от меня и заткнул свою глотку, мотор свой. А тип этот, водитель, слезает с сиденья. В следующую секунду он без всякого предупреждения врезал мне прямой удар правой — так что я метра на два в берлогу отлетел. Я сразу — кувырок назад. Так быстрее всего на ноги вскочишь. А голову для ответной атаки втянул.
Я бы ему такой хук левой всадил, что он бы копыта откинул. По-моему, я еще не говорил, что я самый настоящий левша. Это, наверно, было единственное, от чего меня мамаша Вибау не могла отучить. Чего только она не делала — и я, идиот, вместе с ней. Пока заикаться не начал и кровать мочить. Тут врачи сказали: хватит. С тех пор я опять писал левой, перестал заикаться и снова просох. Единственный результат — что я потом правой вполне прилично управлялся, намного приличней, чем другие, к примеру, левой. Но левая у меня всегда была впереди. Только танкист этот вовсе и не собирался кулаки подымать. Он вдруг стал белый как мел и так и плюхнулся на землю. А потом говорит: «Еще секунда, я бы из тебя кашу сделал и сам за решетку сел. А у меня трое детей… Ты что, рехнулся, что ли, жить тут?»
Он, стало быть, бормашиной своей участок расчищал для новостроек. Наверно, я здорово скис. Промямлил только: «Я через несколько дней уеду».
Что мне стало совершенно ясно в ту ночь — это то, что мне в Берлине больше делать нечего. Без Шерли нечего мне тут делать. К этому ведь все сводилось, как ни крути. Правда, начала, конечно, она: я тебя поцелую и все такое. Но постепенно до меня начало доходить, что я все-таки перехватил. Как мужчина, я не должен был терять голову.
Он говорит: «Еще три дня. А потом чтоб духу твоего тут не было, понял?»
И снова оседлал свой танк. Я и сам, еще раньше, решил как можно скорее добить распылитель, но три дня — это уж в обрез. Я не хотел перед самым концом рисковать и потому решил не филонить. Заремба ведь наверняка через сутки объявится и все пронюхает. Или Адди. Как-никак, а я был триумфом его идейно-воспитательной работы. Я хотел доделать распылитель, шваркнуть его Адди на стол, а потом смотать удочки в Миттенберг, даже, может, училище закончить. Вот до чего я дошел. Не знаю, понятно ли вам, старики. А может, у меня просто муторно на душе было из-за рождества. Я, правда, не такой уж был любитель всяких рождественских слюней: «Тихая, святая ночь»[8] елочки, прянички. Но все-таки муторно как-то было. Наверно, поэтому я сразу пошел на почту поглядеть, нет ли чего-нибудь от Вилли. Обычно я ходил туда только после работы.
У меня внутри так и екнуло, когда я увидел в ящике письмо от Вилли со штемпелем «Срочное». Разорвал конверт — и где стоял, там и сел. Самое важное в письме было вот что: «Делай со мной что хочешь, но я больше не мог. Я сказал твоей матери, где ты. Так что не удивляйся, если она заявится».
Письмо шло два дня. Я знал, что мне делать. Я тут же пулей назад. Если бы она выехала из Миттенберга утренним поездом, то была бы уже здесь, считая и время на дорогу от вокзала. Значит, я еще имел шанс — до вечернего поезда. Я накупил охапку пакетов с молоком— молоком проще всего наесться — и заперся в своей берлоге. Окна все завесил. А на двери снаружи записочку прикрепил: «Скоро вернусь».
На всякий случай. И на тот тоже, если еще один идиотский бульдозер раскатится, подумал я. И сразу набросился на распылитель. Я вкалывал как одержимый, идиот.
— В понедельник, за день до рождества, он не явился на работу. Мы не очень на него разозлились. День был прекрасный, и его можно было бы хорошо использовать, но годовой план мы давно уже выполнили и перевыполнили. А кроме того, Эдгар в первый раз прогулял — с тех пор как мы его снова взяли к себе в бригаду.
Это-то мне и помогло — или уж не знаю, как тут сказать. И это, если прикинуть, единственный из моих расчетов, который оправдался. Например, я уже не понимаю, почему я был так уверен в своем распылителе. Но я на самом деле был уверен, как никогда. Эта идея с гидравлическим давлением — логичней я даже и представить себе не могу. Ведь капельный туман от сжатого воздуха получался. Обеспечь нужное давление без посредства воздуха — и машина готова. Самое идиотство во всем этом — что мне просто не хватало времени изготовить форсунку нужного размера. Значит, надо ждать конца рабочего дня, лучше всего дотемна, а потом спереть ее у Адди. Его распылитель валялся, списанный, под нашим фургоном. Следующая проблема — обеспечить необходимую мощность для обоих цилиндров. К счастью, мне удалось раздобыть электромотор на целых две л. с. Пришлось еще снижать ток. Не знаю, представляете ли вы себе, что могут натворить две л. с., если их с цепи спустить. И, может, кто-нибудь из вас думает, что это все игрушки были. Хобби. Так вот это — чистейшая чушь. Заремба верно сказал: удайся эта штука, она стала бы настоящим триумфом — ив техническом и в экономическом смысле. Вот примерно как в свое время передняя передача у автомобилей, если кому это понятно. И даже, пожалуй, ступенькой выше. Тут ты сразу прославился бы — во всяком случае, в профессиональном мире. И уж так мне хотелось шваркнуть ее Адди на стол и сказать: «Вот нажми на эту кнопочку».
У него бы, я думаю, челюсть отвисла. А потом я бы уладил все с Шерли — и привет. Когда я говорю «шваркнул на стол», я, конечно, не имею в виду буквально. Для этого агрегатик великоват получался. Постепенно из него выходило что-то вроде клозетного насоса с ветряным приводом. Хоть я насобирал всего, что мне надо было, но все не очень-то одно к другому подходило. Я просто вынужден был начать грубо работать. Иначе бы я до старости не кончил. Больше всего мне недоставало электрической дрели. Кроме того, мотор был, конечно, на триста восемьдесят вольт. Я думаю, от токарного станка старого образца. А в берлоге моей двести двадцать — значит, надо было еще как-то напряжение повышать. Я молил бога, чтобы мой трансформатор в порядке оказался — его я тоже на какой-то свалке откопал. Измерительного прибора у меня никакого не было — еще один гвоздь в мой гроб, старики. А раздобыть что-нибудь уже время не позволяло. Да измерительные приборы на дороге и не валяются, это не то что пара-другая ржавых амортизаторов. Они, впрочем, тоже не очень-то валялись, и не такие уж они были ржавые, но раздобыть их все-таки можно было, если постараться. Без амортизаторов я бы совсем погорел. Корпус, конечно, надо было попрочнее для такого давления. Но тут я мог на худой конец форсунку рассверлить. Струя бы толще стала, но я все равно с Масляной краски собирался начать. Часам к двенадцати мне уже позарез форсунка понадобилась — подогнать ее и все такое. Я отправился на стройку — чуть не по-пластунски полз. Я не считал, что все уже закончил и что машина так сразу и заработает. Но зато у меня впереди была целая ночь для устранения неполадок. Я несколько успокоился. Мамаша Вибау все равно теперь заявится не раньше следующего вечера. Дала мне все-таки еще один шанс. На стройке темно, как в гробу. Я нырнул под наш фургон и начал откручивать накидную гайку. А инструмент у меня для этого — один пшик: шведский ключ, да и тот весь разболтанный. И еще гайка эта идиотская— ну прямо как приросла. Я чуть наизнанку не вывернулся, пока ее расшатывал. Тут только я услыхал, что в фургоне Заремба. С бабой опять. Я вам уже говорил. Наверно, я их спугнул. Во всяком случае, когда я выполз из-под фургона, он стоял передо мной: «Н-на?»
Стоит прямо передо мной и смотрит. Правда, он стоял на свету — включил в фургоне свет. А в руках у него этот скребок наш. Я-то подумал тогда, что он просто от света щурится. Но на самом деле у него в щелках эта его ухмылка была. На таком расстоянии он просто не мог меня не заметить. Я, правда, замер и не шевелился. Мой вам совет: в таких случаях просто замереть и не шевелиться. Насколько я понимаю, Заремба был последним, кто меня видел и кто совершенно ясно понимал, что происходит.
На всем обратном пути я ни одной собаки не встретил. Весело, как в Миттенберге. Вообще Берлин после восьми — что твой Миттенберг. Все вклюнутся в телевизоры, и конец. А если и есть десяток-другой пижончиков, так они или в парках жмутся, или в кино, или тренируются — спортсмены. Ни собаки кругом.
Часам к двум ночи форсунка была прилажена. Я засадил в агрегат примерно половину всей масляной краски. Потом еще раз проверил соединение. Вообще весь агрегат еще раз осмотрел. Как он примерно выглядел, я уже говорил. С элементарной технической точки зрения он был, конечно, просто черт знает что. Но мне был важен принцип. По-моему, это и была моя последняя мысль, прежде чем я нажал на кнопку. Я ведь, идиот, в самом деле отодрал кнопку дверного звонка в моей берлоге. Я мог бы взять любой нормальный выключатель. Но я отодрал кнопку звонка, только чтобы потом сказать Адди: «Вот нажми на эту кнопку».
Ну, скажете, братцы, не идиот? Последнее, что я помню, — что стало вдруг очень светло и что я уже не мог оторвать руку от кнопки. Больше ничего не помню. Наверняка так могло быть только оттого, что вся моя гидравлическая система с места не стронулась. Поэтому напряжение, конечно, страшно поднялось, и если уж тут ты коснулся рукой, то тебя уже не отпустит. Вот и все. Салют, старики!
— Когда Эдгар и во вторник не пришел, мы отправились к нему. На. участке была народная полиция. Когда мы сказали, кто мы, они рассказали нам, что произошло. И что в больницу нет смысла идти. Нас как громом ударило. Потом они разрешили нам войти в домишко. Первое, что я увидел, — все стены заляпаны масляной краской, особенно на кухне. Краска еще влажная была. Та же самая, какой мы кухонные панели красили. Пахло этой краской и горелой изоляцией. Кухонный стол опрокинут. Все стекла перебиты. На полу — пережженный электромотор, искореженные трубки, куски садового рукава. Мы сказали полицейским все, что знали, но объяснить ничего не могли. Заремба еще сказал, откуда Эдгар к нам пришел. И… и все.
В тот день мы уже не работали. Я всех отпустил домой. Один Заремба не ушел. Он вытащил наш старый распылитель из-под фургона. Осмотрел его и показывает мне. А там форсунки нет. Мы сразу назад на участок, где Эдгар жил. Форсунку нашли на кухне, рядом с обломком старой газопроводной трубы. Я подобрал все, что там валялось, до мелочей. И то, что было к столу привинчено. Дома я все отчистил от краски. После рождества попытался восстановить всю систему. Вместо головоломки. Ничего не вышло. Может, просто не сохранилось половины составных частей — прежде всего баллона для сжатого газа или хотя бы чего-нибудь подобного. Я собирался было опять заглянуть в домишко, но его уже сровняли с землей.
Я думаю, оно и лучше, что все так кончилось. Такого провала я все равно бы не пережил. Во всяком случае, я уже почти совсем дошел до того, что начал понимать старичка Вертера, когда он не мог больше, и все. Не то чтобы я готов был добровольно отвалиться. Повеситься на первом попавшемся крючке или еще там что — это нет. Ни за что в жизни. Но в Миттенберг я бы на самом деле не вернулся. Не знаю, понятно ли вам. Это, наверно, был мой самый большой недостаток: всю жизнь я слаб на расправу был. Просто не умел переносить удары. Я, идиот, всегда хотел быть только победителем.
— И все-таки Эдгаров аппарат не дает мне покоя. Не могу отвязаться от мысли, что Эдгар тут нащупал какую-то совершенно сногсшибательную идею. Такая не каждый день в голову приходит. Во всяком случае, это не заскок. Никакой не заскок.
— А картины? Как вы думаете, можно ли разыскать хоть одну?
— Картины? Да о них уже никто и не думал. Их все краской залило. Скорее всего, их тоже сровняли с землей.
— Вы не могли бы мне описать хоть одну?
— Я в этом ничего не понимаю. Я всего лишь простой маляр. А вот Заремба считал, что они — от неплохих родителей. Да это и понятно — при таком отце.
— Я не художник. И никогда не был художником. Я физик, занимаюсь статикой. Я не видел Эдгара с тех пор, как ему исполнилось пять лет. Я ничего не знал о нем — и теперь не знаю. Шерли, этот домишко, которого уже нет, картины, которых уже нет, — и эта машина…
— Больше я вам ничего не могу рассказать. Да, мы, конечно, не должны были оставлять его одного мастерить. Не знаю, какой просчет он допустил. Судя по тому, что говорят врачи, тут было что-то с током.
***
Итак, «Новые страдания юного В.» Ульриха Пленцдорфа дочитаны. Надо полагать — с интересом. Перевернута последняя страница, но об истории, характере и судьбе Эдгара Вибо продолжаешь еще долго думать. Ловишь себя на том, что Эдгар остался в памяти не только как литературный персонаж, но как живой человек, юноша многообещавший, стремительно менявшийся, увы, мало успевший.
Пленцдорф не случайно назвал свою повесть «Новые страдания юного В.». И название, которое прямо указывает на источник, и то, как часто цитируется в повести гётевский «Вертер», выражают мысль автора: внутренние психологические проблемы этого современного молодого человека — несмотря на то, что он бредит техникой, о которой Вертер и не слыхивал, увлекается музыкой, которую Вертер посчитал бы какофонией, изъясняется на языке, которого тот попросту не понял бы, — не менее сложны и остры, чем в свое время проблемы Вертера.
Однако тут есть существенное отличие. Эдгар В. в противоположность Вертеру не помышляет о самоубийстве. Он не находится в непримиримом конфликте с окружающим. В его голове много путаницы, а ему кажется, что он во всем может разобраться сам, в одиночку. До поры до времени он не думает о своей ответственности перед матерью, которая, пусть ошибаясь в чем-то, одна растила и воспитывала его, перед школой, где он учился, шире — перед обществом, потому что семнадцатилетний человек, конечно, уже несет такую ответственность.
Но он меняется, и когда погибает, то погибает на важном рубеже жизни, уже готовый избавиться от ощущения своей непонятости, отказаться от добровольного одиночества.
Мы говорим о нем сейчас как о живом человеке, но это литературный образ, созданный писателем Пленцдорфом, который отнюдь не приукрашивает, но и не упрощает своего героя.
Да, на многое, что его окружает, Эдгар смотрел с иронией. Но отнюдь не на основы жизни нового общества. Для него они — несомненная данность, вне которой он себя не мыслит. Для него неприемлемы мещанство, громкие фразы и доктринерские назидания. Разумеется, он далеко не идеальный герой, но это еще очень молодой человек, который проходит путь трудного внутреннего развития, не ограничиваясь поисками внешне оригинального поведения, взрослея и меняясь в главном — в отношении к труду, любви, искусству. Можно не сомневаться — если бы этот путь продолжился, все напускное слетело бы с него, как шелуха. Так слетела с него циническая бравада, когда он по-настоящему полюбил.
Повесть Пленцдорфа призывает (хотя прямо в ней это никак не декларируется) не судить о людях, особенно молодых, лишь по их внешним проявлениям, не стричь всех под одну гребенку. Это, между прочим, хорошо выражено в том, как постепенно меняется отношение строительной бригады к Эдгару. Вот рабочие приходят в его заброшенную дачку, видят на стенах его странноватые картины. В отличие от Шерли, которая, не задумываясь, решает, что Эдгар рисует так, потому что не умеет рисовать «правильно», товарищи Эдгара по бригаде не торопятся давать оценки и делать выводы. Эдгар не вызывает у них ни осуждения, ни отталкивания, они не высказывают поспешных приговоров, на которые так щедр обыватель, когда видит человека необычного, тем более странноватого. Напротив, он интересен товарищам по бригаде, они стремятся понять, что же такое этот Эдгар Вибо.
Год назад в ГДР имя Пленцдорфа и имя его героя были у всех на устах. «Интересно»— такие отзывы о «Новых страданиях юного В.» в Берлине, Дрездене, Ростоке, Иене я слышал не раз. Не только от тех, кому это произведение понравилось безоговорочно, но и от тех, кто увидел в нем как немалые достоинства, так и серьезные недостатки.
Вот что сказал Франц Фюман, отвечая журналу «Вельтбюне» на вопрос, какое произведение он считает «книгой (1972) года»: «С величайшим удовольствием, сопереживая, прочитал я «Новые страдания юного В.» и громко, во всеуслышание говорю этому произведению: да!» Примечательное суждение! И потому, что оно принадлежит авторитетному мастеру, и потому, что мастер этот сам много размышляет о воспитании детей, подростков, юношей не только в годы своего собственного детства, но и в совершенно иных исторических условиях — «здесь и сейчас».
Одна из важных сторон произведения Пленцдорфа — его обжигающая актуальность. Дело не в точно услышанных особенностях языка Эдгара Вибо, не в приметах моды и быта, а в более существенном — в его размышлениях и исканиях.
Если нашим читателям, которым сейчас тридцать — сорок лет, «Новые страдания юного В.» напомнят некоторые произведения советской молодежной прозы конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, то читатели старшего поколения, быть может, вспомнят «Дневник Кости Рябцева» и «Исход Никпетожа» Николая Огнева. По духу и стилю работа Пленцдорфа близка книгам Николая Огнева — при всех отличиях страны, среды, времени, языка. Эта близость — во внимательном, пристальном, не раздраженном, но и не умиленном, серьезном и доброжелательном, трезвом и критическом изучении молодого человека, его волнений и проблем, его еще неустоявшегося, бродящего характера.
У читателей, вероятно, возникнут вопросы об авторе и о судьбе его работы. До «Новых страданий…» имя Ульриха Пленцдорфа было незнакомо не только нам, но, пожалуй, и немецким читателям.
Пленцдорф живет в Берлине. Ему тридцать девять лет. Он — профессиональный киносценарист. «Новые страдания юного В.» первоначально предназначались для кино, но экранизированы не были. Как литературный сценарий работа Пленцдорфа напечатана в начале прошлого года на страницах «толстого» литературного журнала «Зинн унд форм» — органа Немецкой академии искусств, солидного академического издания. О номере, в котором были опубликованы «Новые страдания юного В.», сразу же заговорили. Два драматических театра — в Галле и Потсдаме — осуществили инсценировку этого произведения. Обе постановки, особенно работа театра в Галле, показанная на берлинских гастролях, имели большой успех. Так сценарий Пленцдорфа обрел жизнь и на сценических подмостках.
Затем «Новые страдания юного В.» стали репетировать еще несколько театров, среди них одновременно два берлинских — случай не столь уж частый. Издательство «Хинсторф» в Ростоке опубликовало произведение Пленцдорфа отдельной книгой. Она отличается от журнального варианта некоторыми дополнениями, которые не меняют ни концепции автора, ни сюжета, но развивают отдельные эпизоды и дополняют характеристики. Произведение Ульриха Пленцдорфа удостоено премии имени Генриха Манна.
Работе Пленцдорфа присущи признаки трех литературных жанров — повести, киносценария, пьесы. От прозы в нем — подробное исследование человеческой души, раскрывающейся в повествовании от первого лица. От киносценария — композиция, построенная на «наплывах» и перебивках, использующая приемы киномонтажа. На воображаемом киноэкране вспыхивает название «Новые страдания юного В.» и сразу заставляет вспомнить гётевские «Страдания молодого Вертера», подумать, что сейчас перед нами развернется действие, соотнесенное с повестью Гёте или противопоставленное ей. А вслед за этим на том же воображаемом экране — быстро сменяющиеся титры, извещения о смерти Эдгара Вибо В них есть недоговоренность, словно те, кто подписал их, хотя и знают официальную версию гибели героя, не исключают и другой трагической возможности — самоубийства.
Уж не детективное ли расследование загадочной смерти будет перед нами?
Исчезли траурные извещения, зазвучал напряженный, нервный диалог. Его участники по именам не названы, но из их вопросов и ответов видно: говорят отец и мать погибшего. Отец хочет понять, что произошло с сыном, которого он не видел с тех пор, как много лет назад расстался с его матерью. Эдгар однажды сам разыскал его, но не назвался, и отец даже не узнал сына. Объяснения матери не удовлетворяют отца, и он начинает разыскивать людей, с которыми его сын встречался в последние месяцы, недели и дни жизни. Диалоги отца и тех, кто знал сына, больше всего напоминают пьесу.
Ответы, невольно неполные и неточные, комментирует сам погибший, объясняя загадочное и непонятное в своей истории, как бы воскресая, чтобы воссоздать всю свою жизнь. Этим приемом, нередким в современной драматургии, Пленцдорф владеет мастерски.
Элементы повести, сценария, пьесы соединены не механически, они являют собой естественный сплав — потому так затруднительно однозначное жанровое определение того, что написал Пленцдорф. Для простоты называем это повестью.
Повесть об Эдгаре Вибо вызвала не только большой интерес и положительные оценки, но и резкое неприятие. Едва она появилась в свет на страницах «Зинн унд форм», как известный юрист и литератор профессор доктор Ф. К. Кауль написал главному редактору журнала профессору В. Гирнусу резкое письмо по поводу этой публикации.
У Кауля вызвала возмущение сама мысль, что вообще возможны параллели между героем Гёте и беспризорничающим юнцом… Считая Эдгара «ни в коей мере не типичным для нашей молодежи», критик отказывает автору в праве заниматься подобным персонажем, упрекает писателя и журнал в том, что в повести нет социально-политического противовеса Эдгару.
Журнал «Зинн унд форм» опубликовал это письмо и провел его широкое обсуждение. Оно проходило в стенах редакции и на страницах журнала (№№ 1–4 за 1973 год). Это была одна из самых интересных литературных дискуссий последнего времени в ГДР. Ее участникам было предложено несколько вопросов, которые, как мне кажется, представляют интерес не только для споров о данном произведении.
«В чем причины необычного успеха работы У. Пленцдорфа? Умаляется ли произведение Гёте тем, как Пленцдорф в своем тексте обращается к нему? Какую роль играет это обращение к гётевскому «Вертеру» в художественном построении повести Пленцдорфа?
Обязано ли искусство изображать только «типичные» для молодежи ГДР образы (понимая под ними одни лишь образцовые характеры)? Означает ли художественное воплощение молодого человека с «нарушенным поведением» (так назвал Эдгара в своем письме доктор Кауль. — С. Л.) неизбежное отрицание или умаление положительного идеала?
Должен ли в художественном произведении социально-политический «противовес» воплощаться в фигуре второго, образцового героя? Что отличает художественное произведение от документального отчета об уголовном происшествии?»
В обсуждении приняли участие писатели, литературоведы и критики, театральные деятели, среди них действительные члены Немецкой академии искусств, затем оно было продолжено опубликованными в журнале письмами литераторов и читателей. Вступительное слово сделал заведующий одной из литературных кафедр Берлинского университета им. Гумбольдта профессор Роберт Вайман. Он главным образом рассматривал соотношение между гётевским Вертером и юным В. — героем Пленцдорфа и определил это соотношение короткой и точной формулой: «Классический текст как развернутая метафора», показав, что цитирование гётевского текста и параллели к его сюжету представляют собой охватывающее всю повесть огромное метафорическое уподобление, в свете которого полнее раскрываются не столько внешние, заметные с первого взгляда черты героя, сколько его глубокие внутренние качества. Сама обстоятельность и серьезность литературоведческого подхода показывают, что для ученого повесть Пленцдорфа представляется произведением, заслуживающим научного исследования.
Участники обсуждения говорили о том, что повесть Пленцдорфа интересна не только для юных — воспитуемых, но и для взрослых — воспитателей.
Резюмировать все обсуждение можно словами одной из участниц — Эльке Хиршман. «Это честная книга, книга, которая вызывает «если» и «но», «однако» и «несмотря», и, вероятно, именно в этом состоит ее обаяние, ее сила, ее убедительность».
А что думают по этому поводу сверстники Эдгара Вибо?
Осенью прошлого года редакция журнала «Нойе дойче литератур» пригласила несколько молодых людей — рабочего-строителя, школьницу, двух студенток, чтобы они высказали свое мнение о «Новых страданиях юного В.». Речь шла главным образом о впечатлении от спектакля, но была затронута и его литературная основа. Я присутствовал на этом обсуждении и записал его на магнитофонную пленку. Включая теперь запись, слышу интонацию обсуждения — живую, веселую, раскованную… Молодых участников не смутили сложные вопросы, которые поставили перед ними старшие — члены редакционной коллегии журнала.
Вот вкратце что они говорили.
…Обычно в театре думаешь: пусть меня развлекают, пусть мне что-нибудь изобразят. Но здесь мы все сопереживали, самим хотелось принять участие в происходящем… Затронуты многие важные проблемы жизни молодежи… Молодость всегда переживает период «бури и натиска»… Конечно, образ Эдгара сильно заострен, но что-то от его характера есть во многих других молодых людях… То, что делает Эдгар, конечно, не всегда правильно, но он действует, а каждому хочется действовать самому… У нас на стройке среди учеников нередко сталкиваешься со сходными проблемами, например, когда вручную приходится делать то, что гораздо лучше может сделать машина. Встречаются и сходные конфликты между мастерами и учениками. Но зато есть и такие люди, как Заремба, который понял Эдгара… Эдгар вызывает симпатию, несмотря на свои ошибки… Он еще не знает правильного пути, но он ищет. Гем и интересна эта пьеса, что она заставляет задуматься о многом…
…Да, характер и судьба Эдгара не типичны для современной молодежи ГДР, но разве мы не встречаем в жизни юношей и девушек с трудными характерами и нетипичными судьбами? И разве можем отмахнуться от них? На кого мы их тогда оставим? Кому отдадим?
И разве достаточно, говоря об Эдгаре, сказать только, что он «нетипичный» или даже «отрицательный»? Почему же мы тогда так сочувствуем ему? Может быть, потому, что он очень меняется и в конце своего короткого пути совсем не такой, как в начале?
Молодой строительный рабочий находит в Эдгаре немало отрицательных черт: «У нас на комбинате есть молодые люди, похожие на Эдгара… В конфликтной комиссии, в которой я состою, нам приходится разбираться с подобными случаями, а они иногда граничат с асоциальным поведением». Никто из молодых участников обсуждения не собирается подражать Эдгару, но каждый готов размышлять о нем, готов принять его в свою среду и протянуть руку помощи.
Молодым понравилось, как естественно слились в этой вещи темы любви и дружбы, созидательного труда в коллективе, освоения классического наследия. О наследии, как таковом, они, правда, не говорили, но единодушно признались, что им и их сверстникам и в голову бы не пришло прочитать или перечитать роман Гёте «Страдания молодого Вертера», если бы не Эдгар Вибо. Впрочем, о том, как часто люди с пиететом величают Гёте «князем всех поэтов» и как редко, чтобы не сказать никогда, не читают его, говорили и старшие участники дискуссии, а сам Пленцдорф на обсуждении в «Зинн унд форм» признался, что прочитал «Вертера», будучи уже совсем взрослым, причем читал первый раз почти с тем же чувством, что и Эдгар Вибо.
В том же номере «Нойе дойче литератур», где напечатана беседа с молодыми людьми, опубликована и статья главного редактора Вернера Нойберта, который куда более критически относится к произведению Пленцдорфа, но отмечает важность и остроту затронутых в нем проблем. Вот вывод, который завершает его большую полемическую статью: «Это бесспорно сигнал о реально существующей проблеме и изображение этой проблемы. Пусть один Эдгар Вибо по воле своего создателя умер, но он погиб лишь для того, чтобы обратить наше внимание, что еще многие Вибо живут! И наша задача — завоевать их для жизни в социалистическом обществе и ради него!»
Материалы обсуждения «Новых страданий юного В.», включая статьи и рецензии, уже превышают объем самого произведения.
Означает ли то, как много сказано и написано в ГДР по поводу сценария-пьесы-повести Пленцдорфа, что нам нечего к этому добавить?
Нет, кое-что, пожалуй, есть. Участники обсуждения вспоминали, что любимой книгой Эдгара был роман американского писателя Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Сославшись на него, автор смело обнажил прием, сам показал, что его влияние отразилось на языке и стиле повести. Но почти никто не вспомнил другую любимую книгу Эдгара — «Робинзона Крузо» Д. Дефо. Между тем, мне кажется, что эта принципиальная связь куда важнее, чем стилистическая близость к Сэлинджеру.
Современная робинзонада — героем и жертвой которой становится современный юноша — несет в себе все черты трагикомедии, одного из самых высоких и сложных жанров искусства. Почему же комедии? «Необитаемый остров» — заброшенный садовый участок посреди строящегося нового района большого современного города— герой повести Пленцдорфа отыскивает для себя сам. Не грозные людоеды нарушают его уединение, а звонкоголосые питомцы соседнего детского сада. Попугай и Библия были спутниками Робинзона. Магнитофон и «Вертер» — постоянные спутники Эдгара Вибо. Но когда он, уже окончательно поняв, что сохранять одиночество не только невозможно, но и не нужно, решает все-таки остаться на своем «необитаемом острове», покуда сам, в одиночку, втайне от своих новых друзей и товарищей не закончит свое «великое изобретение», — комедия робинзонады превращается в трагедию.
Трагическая вина Эдгара — нежелание покончить с искусственным одиночеством тогда, когда ему уже ясна неизбежность этого шага, губит его. Только в свете гибели Эдгара становится зримой глубина его трагической ошибки и ошибок всех тех, кто понял его, когда было слишком поздно.
Автор повести широко употребляет слова, словечки и выражения так называемого «молодежного жаргона». Перед переводчиком стояла нелегкая задача передать не только отдельные обороты, но и весь стилистический строй, характерный для огромного монолога главного героя. Особенности его стиля хорошо охарактеризовал профессор Р. Вайман: «Язык этот стремителен и груб, скуп на чувства, трезв и образен. В нем… быстрота и небрежность жестов и мимики, которыми юность сопровождает речь. Слова обретают вес в физических действиях: они то напрягают и пружинят мускулы, то разболтанно шаркают ногами, они вылетают из-под гривы волос то грубо обрубленными, то невнятно прошептанными… Все подмечено точно и выражено метко».
Когда в произведении художественной литературы появляется молодежное арго, это часто вызывает у читателей и критиков повышенно эмоциональную, порою даже нервную реакцию, вызванную боязнью, что примеру литературных героев последуют читатели и зрители, засоряя язык. История языка свидетельствует, что молодежное (студенческое, школьное) арго существовало всегда, а опыт показывает, что вскоре после того, как арготизмы переходят на страницы литературных произведений и становятся достоянием читателя, они выходят из моды у молодежи и почти исчезают из ее языка.
Думается, что произведение Пленцдорфа, которое привлекло к себе такое внимание и вызвало столько споров в ГДР, не оставит равнодушными и читателей «Иностранной литературы».
СЕРГЕИ ЛЬВОВ
Примечания
1
Здесь и далее цитаты из романа Гёте «Страдания молодого Вертера» даются в переводе А. Струговщикова по изданию, 1892 г., СПБ.
(обратно)2
«Юмо» (Jumo) — сокр. от «Junge Mode» («Молодежная мода») — название фирменных магазинов молодежной одежды в ГДР.
(обратно)3
О, синие джинсы! Белые? — Нет! Черные? — Нет! Синие джинсы, о-о, Синие джинсы, и-йя! О, синие джинсы! Старые? — Нет! Новые? — Нет! Синие джинсы, о-о, Синие джинсы, и-йя!(Англ.).
(обратно)4
Сэчмо — прозвище известного американского джазового певца Луи Армстронга (1900–1971).
(обратно)5
Сидней Пуатье — известный современный американский киноактер-негр.
(обратно)6
«Марш социалистов», написанный немецким поэтом-социалистом Максом Кеге-лем в 1891 году и положенный на музыку Карлом Граммом, стал одной из популярных немецких рабочих песен.
(обратно)7
Мормоны — религиозная секта в Америке.
(обратно)8
Старинная немецкая рождественская песня.
(обратно)


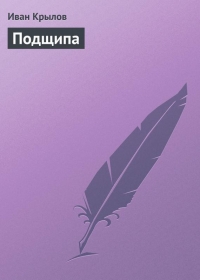




Комментарии к книге «Новые страдания юного В.», Ульрих Пленцдорф
Всего 0 комментариев