Вольтер Орлеанская девственница Магомет Философские повести
Перевод с французского
Редактор перевода Э. Линецкая
Вольтер
В 1785 году правительство Франции, крайне нуждаясь в деньгах, обратилось за помощью к церкви. Министр финансов Калон просил в качестве безвозмездного дара двадцать миллионов ливров. Епископы согласились дать восемнадцать, но с непременным условием: власти должны запретить издание полного собрания сочинений Вольтера, которое предпринимал в это время Бомарше. Такое решение правительства состоялось, и на стенах парижских домов, а на дверях дома Бомарше даже в двух экземплярах, был расклеен текст постановления Государственного совета от 3 июня 1785 года.
Чуть позднее в России генерал-прокурор Самойлов конфисковал в Тамбове собрание «вредных и наполненных развращением» сочинений французского автора, которые печатал в своем имении помещик Рахманинов на собственные средства и в собственном переводе на русский язык. Но образованная публика в России знакомилась с Вольтером по рукописным спискам. В 1793 году митрополит Евгений сокрушенно сообщал: «Любезное наше отечество доныне предохранялось еще от самой вреднейшей части Вольтерова яда, и мы в скромной нашей литературе не видим еще самых возмутительных и нечестивейших Вольтеровых книг; но, может быть, от сего предохранены только книжные лавки, между тем как сокровенными путями повсюду разливается вся его зараза, ибо письменный Вольтер становится у нас известен столь же, как и печатный».
В 1812 году французский офицер Анри Бейль (мы его знаем ныне как писателя Стендаля) находил повсюду в дворянских особняках Москвы сочинения своего соотечественника. Покидая вместе с армией Наполеона пылающий город, он прихватил с собой один томик, но, устыдившись, выронил его в снег.
Поколение Стендаля, очарованное романтизмом Шатобриана и Байрона, несколько охладело к насмешливому скептицизму Вольтера. Его заслонила скорбная фигура Жан-Жака Руссо. Но Вольтера читали. Романтически настроенная аристократка, мечтающая о готических башнях средневековья, Матильда де ля Моль («Красное и черное») украдкой берет из библиотеки отца томик Вольтера. Стендаль не случайно ввел эту историческую деталь в свой роман: в период Реставрации Вольтера издавали во Франции больше чем когда-либо (за годы 1817–1824 — двенадцать изданий, 1 598 000 экземпляров).
Последнее легко понять, если представить себе тогдашнюю духовную жизнь Франции. Возрождение средневековой религиозности в самых ее примитивных формах стало идеологической программой вернувшихся из эмиграции Бурбонов. Появились всевозможные мистические и религиозные сообщества. В дворянских гостиных вошли в моду спиритические сеансы. Особенно отличался в этом отношении салон проживавшей в Париже русской аристократки госпожи Свечиной, приятельницы Александра I, тоже впавшего к тому времени в мистицизм.
В оппозиционных кругах, наоборот, повысился интерес к Вольтеру. Его отрезвляющая ирония снова, как перед революцией 1789–1793 годов, понадобилась прогрессивным силам общества и сыграла немалую роль в идейной подготовке теперь уже революции 1830 года, окончательно изгнавшей Бурбонов.
Однако век Вольтера — это XVIII век. Тогда он безраздельно властвовал над умами. Вокруг него возникали страсти. Его обожали или ненавидели.
Бомарше, совсем еще молодой, писал, обращаясь к здравствовавшему тогда Вольтеру:
Твои божественные строки Под шум и свист газетной склоки Огню пытаются предать…«Ничто из того, что писал Вольтер, не ускользнуло от нас, — свидетельствовал Жан-Жак Руссо. — Мое пристрастие к его творениям вызывало во мне желание научиться писать изящно и стараться подражать прекрасному слогу этого автора, от которого я был в восхищении».
Однако как ни был талантлив Вольтер, ему не удалось бы ни на минуту занять внимание своих современников, если бы он не говорил о вещах, волновавших в его время всех.
В феодальной Франции сложилась нетерпимая обстановка. Старый порядок вещей час от часу становился нелепее и губительнее для нации. Иногда хлеба, производимого в стране, хватало только на четыре-пять месяцев. Через каждые три года наступал голод, хлебные бунты потрясали страну; в 1750 году восставшие ремесленники парижских предместий призывали сжечь в Версале королевский дворец. Зависимый от сеньора крестьянин не хотел больше трудиться на полях: после налогов, поборов, податей, прямых и косвенных, у него ничего не оставалось, и он бежал из деревни, находил себе какой-нибудь заработок или становился нищим. Дворяне — вельможи, оставив свои пустующие замки, парки и огромные охотничьи заповедники, жили при королевском дворе, заполняя свой досуг дворцовыми сплетнями, интригами и мелочными претензиями. У короля было десять дворцов. На их содержание тратилась четвертая часть государственного дохода. Денег требовали фаворитки, придворные, многочисленная королевская родня, — а государственная казна была пуста.
В стране насчитывалось четыре тысячи монастырей, шестьдесят тысяч монахов и монахинь, шесть тысяч священников, столько же церквей и часовен. Два привилегированных сословия — духовенство и дворянство владели почти половиной национальных земель, самых лучших. На этих землях стояли дворцы и замки, а в них была роскошная мебель, картины, мрамор и огромная прислуга — и все это требовало денег, денег, денег. Между тем то, что могло усилить приток этих денег, иначе говоря, материальное производство страны велось из рук вон плохо. «Третье сословие» — купцы, владельцы мануфактур, то есть богатевшая и набиравшая силу буржуазия, — было сковано в своей инициативе, ограничено в деятельности полным политическим бесправием. Государственная система сословной монархии устарела и мешала развитию производительных сил. Назревала буржуазная революция конца XVIII века.
Европейские монархи впоследствии считали Вольтера главным ее виновником, для них его имя стало самым ненавистным; русский царь Николай I вообще слышать его не мог. Однако они преувеличивали. Не Вольтер и не его соратники породили революцию, а логика исторического развития. Экономические, социальные, политические и культурные условия жизни французского общества XVIII века не могли обойтись без коренной ломки. Вольтер это почувствовал раньше других и вместе с лучшими умами Франции содействовал идеологической подготовке революционного взрыва.
Вольтера и его соратников назвали просветителями, а XVIII век — веком Просвещения, Нести в массы свет знаний и разума — так мыслили себе они сами свою миссию. Но их просветительство было особое. Они несли знания, политически окрашенные. Поэзия, музыка, живопись, науки, философия для них существовали лишь постольку, поскольку могли способствовать политической активности людей: все должно было бить в одну цель — наносить удары неразумному порядку вещей, убеждать людей, что необходимо перестроить жизнь на основе «добра, свободы и справедливости». Не вина, а беда просветителей, что, мечтая о разумном и счастливом мире, они, сами того не сознавая, расчищали дорогу буржуазному обществу, принесшему людям новые несчастья и новое порабощение.
Именно желанием просветить умы была порождена знаменитая Энциклопедия, главным редактором которой был Дидро. На протяжении трех десятилетий (1751–1780 гг.) ее создавали все просветители, это было их общее детище — «великий памятник нации», как назвал ее Вольтер. Потому писателей Просвещения часто называют также энциклопедистами.
Вождем французских просветителей по праву считается Вольтер, хотя молодые таланты часто выпархивали из-под его крыла и устремлялись вперед. В августе 1754 года Мельхиор Гримм, один из авторов, воспитанных Вольтером, справедливо оценил роль своего учителя в европейском просветительном движении:
«Если интерес к философии в наш век более широк среди народа, чем в любой иной век, то этим мы обязаны не нашим Монтескье, Бюффонам, Дидро, Даламберам, сочинениям г-на де Мопертюи, а только г-ну де Вольтеру, который, наполнив философией свои пьесы и все остальные свои произведения, привил публике вкус к философии и научил огромное множество людей понимать ее достоинства и искать ее в сочинениях других авторов».
Поскольку просветительская идеология, которую Мельхиор Гримм расширительно именует «философией», сыграла в исторической судьбе Франции особую, чрезвычайную роль, необходимо указать на главные идейно-политические принципы, с которыми выступили Вольтер и его соратники.
Просветители начали с требования свободы мысли, слова, печати. Душительницей свободной мысли была церковь, насаждавшая невежество, суеверия и предрассудки. Потому так неистово и ненавидел ее Вольтер. Его фраза: «Раздавите гадину!» — стала крылатой. «Осмельтесь мыслить самостоятельно», — обращался он к своим соотечественникам, восставая против церковной догмы.
В политической программе просветителей ключевым было слово «закон». От него как бы лучами расходились знакомые нам, часто довольно туманные по смыслу, но всегда ярко расцвеченные и притягательные слова: Свобода, Равенство и Братство.
«Свободу» просветители понимали как добровольное подчинение закону. «Равенство» тоже имело для них гражданский смысл, — оно понималось как равенство всех людей — от пастуха до короля — перед законом. В дворянско-монархической Франции это означало прежде всего требование ликвидации всех сословных привилегий и неограниченной королевской власти. Напомним, что юридический статут Франции еще незыблемо покоился на полном произволе монарха. Это было выражено в горделивом изречении короля Людовика XIV: «Государство — это я!» Что касается третьего слова — «братство», то оно осталось лишь эмоциональным украшением политической программы просветителей.
При соблюдении ключевого принципа программы, а именно законности, формы государственной власти уже не имели для просветителей принципиального значения. «Лучшее правительство то, при котором подчиняются только законам», — писал Вольтер в «Философском словаре».
Просветители в большинстве своем были приверженцами «просвещенной монархии». Все свои надежды они возлагали на личность государя, полагая, что «добрый» и «мудрый» король, монарх-философ способен произвести в обществе все необходимые перемены. Отсюда их наивная податливость на ласки лукавых венценосцев. «Дидро, Даламбер и я воздвигаем вам алтари», — писал Вольтер Екатерине II.
Революция конца XVIII века после ряда потрясений юридически утвердила просветительский «закон» в качестве высшего государственного принципа. Он лег в основу всех буржуазных конституций, — увы, это не принесло людям того благоденствия, о котором мечтали просветители.
Вопрос о социальном, имущественном неравенстве внес в ряды просветителей известное смятение и раскол: самые сдержанные позиции занял Вольтер, весьма радикальные — Жан-Жак Руссо.
Вольтер не допускал мысли, что когда-нибудь социальное равенство станет фактом. «Это и наиболее естественная, но и наиболее химерическая идея». «На нашей несчастной планете люди, живущие в обществе, не могут не разделяться на два класса — на богатых, которые распоряжаются, и бедных, которые служат» («Философский словарь»). Признавая моральную неприглядность стяжательства, Вольтер (он сокрушенно разводил при этом руками, ссылаясь на несовершенство человеческой натуры) видел в тяге к богатству определенный стимул общественного прогресса.
Словно предвосхищая свой будущий спор с Руссо (в пятидесятые годы XVIII столетия Руссо выступит с резкими нападками на цивилизацию, которая, по его мнению, разрушила патриархальный мир «естественного человека», введя право частной собственности), Вольтер в поэме «Светский человек» (1736) писал: «Наши предки жили в неведении понятий «мое» и «твое». Откуда им было знать это? Они были наги. А когда ничего нет, то нечего и делить. Но хорошо ли это?.. Отец мой, не прикидывайтесь простачком, не называйте нищету добродетелью».
Весь узел противоречий в просветительном движении и самой французской буржуазной революции конца XVIII века сосредоточивался именно здесь, в этом коренном разногласии. Спор Вольтера и Руссо продолжали в годы Революции их последователи Дантон и Робеспьер. Он приобрел трагический оборот и, как известно, стоил жизни как одному, так и другому. Одержав победу над феодализмом, революция утвердила и победу принципа буржуазных частнособственнических отношений.
Франсуа-Мари Аруэ (1694–1778), сын парижского нотариуса, известный миру под литературным именем Вольтер, очень рано начал беспокоить парижские власти дерзкими эпиграммами на влиятельных лиц. За стихи, обличавшие принца-регента Филиппа Орлеанского, его одиннадцать месяцев продержали за решетками Бастилии. Но кара не подействовала. Годы, книги, встречи с критически мыслящими людьми, личный жизненный опыт, талант делали свое дело. Зрелый Вольтер — это первый поэт Франции, первый драматург и к тому же историк, философ, великий насмешник, непримиримый противник церкви, фанатизма, догматического мышления, — в конце концов властитель дум своего века, «умов и моды вождь» (Пушкин). Работоспособность его колоссальна. Он проявил себя во всех областях литературного творчества, нарушая устоявшиеся каноны, заявляя при этом, что «все жанры хороши, кроме скучного». «Он наводнил Европу прелестными безделками, в которых философия заговорила общедоступным и шутливым языком», — писал о нем Пушкин. Коронованные особы ухаживают за Вольтером. Правда, Людовик XV ненавидит его и побаивается, но папа Бенедикт XIV шлет ему лестное послание, Екатерина II вступает с ним в длительную переписку, Фридрих II, король Пруссии, осыпает его милостями. Однако Вольтер всегда начеку. И не без основания. Один из его читателей, почти мальчик, девятнадцатилетний Де ла Бар, в 1766 году казнен за безбожие: уликой послужил найденный у него «Философский словарь» Вольтера.
Пушкин назвал Вольтера «пронырливым и смелым». Характеристика верна. Редкий в его дни решался на отчаянную схватку с предрассудками, укоренившимися веками, с официальной идеологией. Вольтер решился. Он действовал смело, иногда даже дерзко, но и лукаво. «Мечите стрелы, не показывая руки», — поучал он своих соратников. В течение шестидесяти лет, с первого представления трагедии «Эдип» (1718) и до самой смерти, он неутомимо расшатывал духовные основы феодализма, совершая революцию в умах своих современников.
Из необозримого литературного наследия Вольтера в настоящий том вошли поэма «Орлеанская девственница» — «катехизис остроумия», как назвал ее Пушкин, трагедия «Магомет» и пять философских повестей.
В марте 1735 года Вольтер пережил в Париже несколько тревожных минут. Он совершил опрометчивый шаг: прочитал друзьям первые песни своей новой поэмы.
Толки о поэме, которую он писал с 1730 года и держал пока в строжайшей тайне, облетели Париж и дошли до ушей кардинала Флери, а он был всесилен при Людовике XV. Надо было немедленно скрываться. И Вольтер уехал в Люневиль, в Лотарингию, чтобы там переждать грозу.
Тем временем маркиза Дю Шатле, его добрая приятельница, исхлопотала для него разрешение поселиться в ее поместье, в Сире, обещав министру — хранителю печати не допускать «предосудительных» публикаций. Министр заявил Вольтеру при встрече, что если хоть строчка его поэмы появится в печати, то — Бастилия, и навсегда! Начальник полиции пытался вразумить поэта: «Сколько бы вы ни писали, господин Вольтер, — вам не удастся уничтожить христианскую религию». Как гласит легенда, Вольтер ответил: «Посмотрим!»
Однако он вовсе не хотел уничтожить религию. Вольтера нельзя назвать атеистом в современном значении этого слова. Он, конечно, отвергал все существовавшие религии с какими бы то ни было персонифицированными богами (Христом, Аллахом или Буддой). Но в идею «верховного разума», неведомой людям высшей силы, правящей миром, верил, то есть был сторонником особой «философской» религии, так называемого деизма, которого придерживались многие просвещенные умы его времени.
Что касается «непросвещенных умов» (народа), то им Вольтер оставлял и Христа, и Аллаха, и Будду. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Если бы бога не было, его надо было бы выдумать». Вольтер полагал, что религия нужна народу в качестве моральной узды. «Несомненно, в интересах общества, чтобы существовало некое божество, которое карает то, что не может быть пресечено человеческим правосудием» («Философский словарь»).
И тем не менее не было в XVIII столетии человека, который бы наносил религиозным убеждениям столь чувствительные удары, как Вольтер. Он никогда не высказывался против христианства прямо и неприкрыто, часто он даже расточал ему похвалы, но какие похвалы! «Языческая религия пролила немного крови, а наша залила ею всю землю. Наша бесспорно единственно добротная, единственно истинная, но, пользуясь ею, мы совершили столько зла…» («Философский словарь»)
«Орлеанская девственница» была, пожалуй, в этом отношении самым дерзким произведением Вольтера.
В Сире стараниями маркизы Дю Шатле поэма была надежно и надолго укрыта от глаз непосвященных. Только через тридцать два года Вольтер осмелится ее напечатать. Однако поэму читали его немногие друзья, читали и переписывали для себя. Один из списков попал в руки авантюристов. В 1755 году кто-то из недоброжелателей Вольтера (подозревают капуцина Мобера) опубликовал поэму во Франкфурте-на-Майне. Вольтер немедленно отказался от авторства. К тому же в тексте было много искажений и скабрезностей дурного тона. Издатели явно хотели нажиться на запрещенном товаре, а заодно и погубить Вольтера. Через год «Девственница» была напечатана еще раз. Издатели приложили к поэме собственные памфлеты против автора, издеваясь над ним. Вопреки ожиданиям, эти их нападки значительно облегчили задачу Вольтера. Теперь он выглядел жертвой мистификации злоумышленников. Но потока было уже не остановить. Поэма вышла в 1757 году в Лондоне с соблазнительными иллюстрациями и, наконец, в 1759 году — в Париже. Ее уже знали все, никто не сомневался в авторстве Вольтера, и в 1762 году поэт напечатал ее сам, посыпав главу пеплом и приготовившись ко всем испытаниям. Но все обошлось благополучно. Люди строгие гневались, беспечные и веселые смеялись. Власти раздумывали о карах, которым можно было бы подвергнуть автора, а время шло…
В 1774 году Вольтер снова вернулся к своей озорной поэме, просмотрел, исправил ее и пустил в свет, теперь уже навсегда расставшись с ней. Это издание и стало каноническим для всех последующих публикаций.
Некоторые современники Вольтера говорили, что поэт, осмеяв Жанну д’Арк, обошелся с ней более жестоко, чем епископ города Бове, который сжег ее когда-то на костре. Вольтер, конечно, смеялся жестоко; он показал Жанну обольщаемую, показал ее в самых двусмысленных и неприличных сценах. Но смеялся он не над Жанной д’Арк, не над тай девушкой из народа, которая, искренне веря в свою патриотическую миссию, ниспосланную ей от бога, повела французов на бой с врагом и бесстрашно взошла на костер, оставив истории свое благородное имя и свой человечески прекрасный облик. В «Опыте о нравах» Вольтер писал о Жанне, что «в героические времена ей поставили бы алтари, какие люди ставят обычно своим освободителям». В «Философском словаре» в статье о Жанне д’Арк он бросил язвительный упрек своим соотечественникам (в списке тех, кто осудил Жанну на сожжение, было сорок четыре французских священника): «Непостижимо, как после стольких ужасов, содеянных нами, мы еще осмеливаемся называть варварами других».
В XVII веке некий Шаплен воспел подвиги «господней избранницы» в поэме «Девственница» (1656). Велеречивая фальшь, официальная тенденциозность, тошнотворная предвзятость этого сочинения наводили тоску даже на тех, кто оплатил, и довольно щедро, усердие поэта.
Религиозное ханжество всегда бесило Вольтера, а здесь он, кроме всего прочего, усмотрел спекуляцию на имени народной героини. И в ответ постному Шаплену, смеясь над сусальной легендой о «господней избраннице», «непорочной деве», насмехаясь над священниками, монахами, епископами, со всеми их святыми, он создал дерзкую, озорную поэму, сдобренную веселым шутовством и рискованными сценами.
Строгие люди говорили, что скабрезности, какими полна поэма, могут причинить непоправимый ущерб морали. Веселые люди им отвечали, что шутка никогда не приносит зла, что серьезные идеи могут жить не только в жестких рамках силлогизма, но и в радостно-игровом каламбуре, в смеющемся стихе, в изысканной остроте, в намеке и нескромной сценке интимного свойства. Шутливая поэма Вольтера ничуть не поколебала авторитета народной героини Франции, не причинила ущерба морали, но она поколебала авторитет церкви, нанесла ощутимый ущерб догматическому мышлению.
Французские аристократы XVIII века любили тешить себя вольными картинами любви. Утонченный и галантный эротизм искусства «рококо» был в моде. Просветители, осуждая вкусы вельмож, тем не менее сами поддались всеобщему увлечению. Даже Дидро, прославлявший добродетельного Греза и осуждавший Буше, живописцев-современников, написал отнюдь не скромный роман «Нескромные сокровища» (1748).
Поэма Вольтера влилась в тот же поток, да и задумана она была на ужине у величайшего нескромника и вертопраха герцога де Ришелье, товарища Вольтера по коллежу.
Со свойственной ему иронией Вольтер не раз говорил, что пусть уж лучше владыки мира ищут наслаждений в любви, чем гоняются за бранной славой, гибельной для народов. В «Орлеанской девственнице» он не без умысла противопоставляет французского короля Карла VII английскому принцу Бедфорду. Первый утопает в негах любви… Вольтер в десятках шутливых стихов описывает пиршества стола и ложа, которым предается король с прекрасной Агнесой Сорель. Человеческая слабость Карла более понятна, более простительна, чем бесчеловечная сила воинственного англичанина, который, гонимый бесом честолюбия, «всегда верхом, всегда вооружен… кровь проливает, присуждает к платам, мать с дочерью шлет на позор солдатам» и, как «хищный волк», «кровавыми зубами рвет стада». Беда лишь в том, что король Карл — «пастух», а пастуху надлежит радеть о своем стаде и не давать его на растерзание кровавым хищникам. Карл забыл об этом, живя «средь неги и приятства».
Вольтера нельзя заподозрить в непатриотичности. Он горячо сочувствовал бедам Франции эпохи Столетней войны, страданиям народа. Среди шуток, насмешек и дурачеств поэмы он нет-нет да и попридержит свою буйную фантазию, чтобы горестно и по-серьезному сказать о бедствиях народа:
Дочь смерти, беспощадная война, Разбой, который мы зовем геройством, Благодаря твоим ужасным свойствам Земля в слезах, в крови, разорена.В предисловии к поэме Вольтер указал на поэтическую традицию, которой следовал. Тут и «героикомическая» поэма «Война мышей и лягушек», которую древние греки приписывали Гомеру, и романы римских авторов Петрония и Апулея, и шутливые рыцарские поэмы итальянцев Пульчи, Боярдо, Ариосто, и сочинения соотечественников Вольтера — Рабле и Лафонтена. Конечно, все эти авторитеты названы лишь для того, чтобы оправдать традицией те вольности, которые автор «Девственницы» позволил себе в поэме: «в нашей «Девственнице» найдется гораздо меньше дерзостей и вольностей, чем у всех великих итальянцев, писавших в этом роде». Произведение Вольтера — лишь частично пародия на героическую эпопею; в большей своей части она скорее приближается к шутливой рыцарской поэме эпохи Возрождения, прежде всего — к Ариосто. Вольтеру созвучен изящный эротизм автора «Неистового Роланда» и его поэтическая картинность.
Характеры героев Вольтера выдержаны довольно строго: Карл слабоволен и сластолюбив, как правитель — весьма ничтожен; Агнеса наивна, хоть и не без лукавства; Ла Тримуйль прост и трусоват; его возлюбленная Доротея мила, искренна, простодушна и глубоко предана возлюбленному; Дюнуа пылок, восторжен и смел; Жанна — по-крестьянски грубовата и беспредельно наивна. Она и внешне обрисована вразрез с дворянским идеалом хрупкой красоты — смугла, крепко сложена, во рту тридцать два белоснежных зуба и «рот до ушей». Попы, монахи, инквизиторы, святые воины-разбойники очерчены в поэме резко сатирическим пером. Песнь седьмая (история злоключений Доротеи) совсем гонит улыбку с лица читателя; здесь уж не до комизма, история мрачнотрагедийна. Дружба, возникшая между французом Ла Тримуйлем и англичанином д’Аронделем, символизирует в поэме бессмысленность вражды между народами. Война, война! Не от королей ли она? «Счастливцы, чей удел — спокойный труд».
Словом, для умов, склонных к размышлениям над большими проблемами общественной жизни, в поэме найдется немало пищи.
В 1745 году Вольтер послал в Рим папе Бенедикту XIV свою трагедию «Фанатизм, или Пророк Магомет», которая была поставлена еще в 1741 году в Лилле и в 1742 году в Париже. Вольтер лукавил: его трагедия по видимости обличала зло ислама, но в действительности бросала вызов всем церквам и пророкам (как увидим, автор метил и дальше).
Кардинал Флери, первый министр Франции, глубокий старик, любезный собеседник и непреклонный реакционер, нашел в пьесе несколько мест, «недостаточно отточенных» и выразил желание, чтобы автор довел произведение до высшего совершенства (в лукавстве министр не уступал Вольтеру). Вот тогда-то и понадобился папа: к нему, главе «подлинной религии», был отправлен пакет с пьесой, клеймящей религию «ложную и варварскую».
Бенедикт XIV, двести пятьдесят четвертый по счету папа, уроженец Болоньи, в миру Просперо Ламбертини, любил искусство, писал сам, благоволил к художникам, довольно недоброжелательно глядел на слишком усердных служителей церкви, фанатиков и маньяков; он вел весьма светский образ жизни, что приводило в смущение его духовных слуг и очень нравилось философам; Мельхиор Гримм отзывался о нем как о самом «непогрешимом» из пап, — словом, это был папа в духе скептического XVIII века.
Бенедикт XIV ответил Вольтеру любезным письмом, награждая его апостолическим благословением, и сообщил, что он прочитал «превосходную» трагедию с большим удовольствием. Папа прислал Вольтеру и медаль со своим портретом: пухлое, со вздернутым носом лицо, вид до смешного простодушный.
«Э, да он славный малый и, кажется, знает кое в чем толк», — смеялся Вольтер и друзьям писал, что папская медаль для него ценнее двух епископств.
Его святейшеству не были известны следующие строки автора «Магомета»: «Самый нелепый из всех деспотизмов, самый унизительный для человеческой природы, самый несообразный и самый зловредный — это деспотизм священников; а из всех жреческих владычеств самое преступное — это, без сомнения, владычество священников христианской церкви».
Театр был главной трибуной Вольтера. В течение шестидесяти лет он написал тринадцать трагедий, двенадцать комедий, множество либретто, дивертисментов, а всего — пятьдесят четыре пьесы. Как мастер он уступал Корнелю и Расину, но в XVIII столетии был единственным драматургом, способным достойно продолжать их эстетические традиции.
Свою трагедию Вольтер построил по всем законам классицизма, не споря с веком, разделяя сам господствующие вкусы. В пьесе соблюдены все «три единства», в ней пять актов, сценическое действие сведено до минимума и дан широкий простор речам. В ней господствует высокая патетика, сохранен традиционный александрийский стих. Все это шло от века. Что же касается идей пьесы, то это уж сам Вольтер, это Просвещение, это то, что противоречило традиции, шло вразрез с официальной идеологией, разрушало установившиеся понятия.
Представление о трагедии «Магомет» как о пьесе только антицерковной или антирелигиозной вряд ли правомерно и, во всяком случае, не исчерпывает ее содержания. Трагедия посвящена основателю ислама, но в речах сценических героев нет ни слова о сущности этой религии. В жарких диспутах, которые происходят на сцене, не содержится никаких указаний на различия между старыми и новыми верованиями, зритель остается в полном неведении относительно того, что нового придумал Магомет и каким богам поклонялись жители Мекки и Медины до него. (Однако в сочинении «Опыт о нравах» Вольтер достаточно ясно изложил монотеистическую систему Магомета.)
Лорд Честерфилд, которому Вольтер читал отдельные фрагменты своей пьесы, пришел к выводу, что под видом Магомета в ней изображен Иисус Христос. Это свидетельство важно, ибо исходит от лица, которому автор мог сделать доверительные признания. Однако сама пьеса не дает оснований для такого толкования. Тот образ Христа, какой у нас сложился по евангельским легендам, несхож с героем вольтеровской трагедии. В центре ее — политическая проблема в самой общей форме, типичная для Просвещения проблема правителя и народа.
В сущности, Вольтер ведет в своей трагедии развернутый спор с широко известным политическим писателем, итальянцем Никколо Макиавелли, который в трактате «Государь» (1515) провозгласил, что все средства хороши для достижения власти правителем и ее удержания. Вольтеровский Магомет — персонаж отрицательный — как бы воплощает в себе качества «идеального» государя по программе Макиавелли, но именно это и делает его тираном. Любопытно, что молодой прусский принц (впоследствии король Фридрих II) не без влияния Вольтера взялся за написание трактата «Анти-Макиавелли».
Главное, за что Вольтер осуждает Магомета, — это его глубокое презрение к народу, отношение к массе как к толпе рабов, приносимых в жертву его личному эгоизму и честолюбию. По словам сподвижника Магомета Омара, народ «безропотно склонится пред вождем».
Вольтеровский Магомет — и сам человек из народа. Он бесспорно талантлив. Но он жестокий правитель. Он мог бы быть героем, когда бы не стал чудовищем, когда бы не «растоптал законы», не «извратил нравы». Он холодно, расчетливо вершит свой суд над историей, над судьбами народов, используя, чтобы утвердить свое господство, один из главных аргументов «сильной личности» — насилие. Не случайно эту трагедию Вольтера не любил Наполеон I, проницательно разглядевший в ней неприятные для себя политические аналогии. Но, с другой стороны, некоторые реплики вольтеровской пьесы казались ему лестными. О Магомете говорится:
…Он богом умудрен, Не предкам, а себе обязан славой он И будет на земле властителем единым…По воспоминаниям Талейрана, когда актер произнес эти стихи в 1805 году в Эрфурте при встрече двух императоров. Александра I и Наполеона I, взоры всего зрительного зала обратились на Наполеона.
У Вольтера Магомет не просто основатель новой религии, он основатель нового вида деспотизма, посягающего не только на свободу действий людей, но и на свободу их мыслей. Он строит свою особую философию: а именно, что народ «нуждается в новом боге», в «новой вере», а какая это будет вера, «истинная или ложная», — не имеет значения, главное уловить и поработить души людей.
Отсюда и грандиозное лицемерие Магомета: он сам себя объявляет объектом нового культа. Магомет умеет эксплуатировать святые чувства людей, их естественную тягу к справедливости, благородству, добру. Он использует в корыстных целях их благородное ослепление. Фанатизм — удел душ легковерных и наивных. В пьесе Вольтера показан такой фанатик: это Сеид, по наущению Магомета убивающий родного отца. Порабощенный иллюзией, он становится слепым орудием преступления. В этом образе содержалась такая сила обобщения, что имя Сеида стало во Франции нарицательным.
Религиозный фанатизм служит опорой самодержавной политической власти. В глазах подданных правитель не должен иметь недостатков, он непогрешим, он бог, кумир — это одна из заповедей Макиавелли. И вольтеровский Магомет твердо знает эту науку. При виде умирающей Пальмиры (которую он любил) он на мгновение поддался чувству, но тут же подавляет в себе порыв человечности со словами:
Я должен богом быть — иль власть земная рухнет.И ему удается овладеть толпой и избежать грозившего было разоблачения при помощи нового циничного обмана, лжечуда, которое вновь бросает невежественную массу к его ногам.
Богов среди людей нет; всякое обожествление отдельной личности ведет в конце концов к бесконтрольной ее власти над другими людьми, к тирании, — такова мысль Вольтера. Она красной нитью проходит по всей пьесе, проблематика которой чрезвычайно характерна для эпохи Просвещения XVIII века, когда ставился под вопрос самый принцип абсолютной монархии и подвергалась острой критике ее опора — католическая церковь.
Осенью 1746 года Вольтер скучал в Фонтенебло при дворе короля в качестве «историографа Франции». Должность эту исхлопотала для него его приятельница маркиза Дю Шатле. Коротали время за карточным столом, иных развлечений не находили. Маркиза Дю Шатле имела честь сидеть за одним столом с королевой. В первый же вечер она проиграла все свои наличные деньги. Вольтер из собственных средств ссудил маркизу, но и его деньги немедленно уплыли из рук азартного игрока, каким оказалась всегда увлекавшаяся маркиза.
«Остановитесь, мой друг, это уже безумие», — сдерживал ее Вольтер. Но ничто не действовало. Тогда он решил в качестве стороннего наблюдателя последить за игрой. Сидя рядом с маркизой, он сказал ей по-английски: «Разве вы не видите, что имеете дело с шулерами». Фраза была услышана, понята и соответствующим образом расценена игроками. Вольтер побледнел. Немедленно прошел карточный азарт и у маркизы.
Потихоньку было приказано заложить карету, и «историограф Франции» вместе со своей подругой ночью покинули Фонтенебло.
Путь держали в Со, к герцогине Дюмен. Здесь не станут искать, не захотят ссориться с хозяйкой дома, — герцогиня Дюмен была супругой побочного сына Людовика XIV. Одно время герцога Дюмена даже прочили в короли. Двор в Со был в оппозиции к официальному двору. Впрочем, герцогиня Дюмен давно уже забыла о притязаниях своего застенчивого супруга на трон Франции и окружила себя артистическим миром, наслаждаясь искусством. К Вольтеру здесь была давняя симпатия.
Писатель и маркиза остались в Со надолго. Вольтер даже днем не показывался на глаза. Побаивался погони. Он выбрал себе самый отдаленный уголок во дворце. Окна были завешены и днем, Вольтер работал при свечах. За это время (чуть больше месяца) были написаны философские повести «Задиг» и «Видение Бабука».
Повесть «Задиг, или Судьба» Вольтер посвятил маркизе Помпадур, фаворитке короля. Фимиам, курясь, вырисовывал причудливые арабески лести:
«Прельщение очей, мука сердец, свет разума! Не целую праха от ног ваших, ибо вы почти не ходите, а если и ходите, то по иранским коврам или по розам».
Вольтер резвился и насмешничал, но философская основа повести была вполне серьезна. В пестрых картинах приключений Задига Вольтер изобразил современный ему мир, и прежде всего, конечно, свою родную Францию, где под восточными именами и в восточных костюмах действовали его соотечественники.
Восточные пряности, приправленные галльской солью, были в литературных вкусах эпохи. Востоком увлекалась вся Европа, после того как в 1704 году Антуан Галан опубликовал свои переводы знаменитых арабских сказок и познакомил европейского читателя с пленительной Шахразадой. К «восточному» маскараду прибегали просветители — Монтескье в «Персидских письмах» (1721), Дидро в «Нескромных сокровищах». В галерее сказочных персонажей Вольтера мы узнаем и образованного разночинца, отвергающего сословные привилегии («Разум старее предков»), и обездоленного французского крестьянина с его мечтой о клочке земли («На земле, которая одинаково принадлежит всем людям, судьба ничего не оставила на мою долю»).
Мир несовершенен. Это море зла, море нелепостей. Жизнь постоянно ставит перед Задигом неразрешимые загадки. Он не может разобраться во всей сложности людских отношений: «Мои знания, честность, мужество постоянно приносили мне только несчастья», — раздумывает он о себе. «Он готов был поверить, — пишет Вольтер, — что миром управляет жестокий рок, который угнетает добродетельных людей и покровительствует негодяям». Но ангел Иезрад разъясняет ему загадку мира: «Нет такого зла, которое не порождало бы добро».
— А что произошло бы, — спрашивает Задиг, — если бы вовсе не было зла и в мире царило одно добро?
— Тогда, — отвечает ангел, — этот мир был бы другим миром и связь событий определила бы другой премудрый порядок.
Каков же вывод? Примирение с сущим?
— Жалкий смертный, перестань роптать на того, перед кем ты должен благоговеть! — поучает ангел Иезрад.
— Но… — прерывает его Задиг.
И это «но» повисло в воздухе. Ангел не стал слушать. Ангел улетел. Это «но» осталось, терзая сознание героя, как неразрешимый вопрос о нравственном смысле мира.
Как и все сказки, вольтеровская повесть завершается светлым финалом: Задиг стал царем, мудрым монархом, монархом-философом. «Государство наслаждалось миром, — славой и изобилием. То был лучший век на земле: ею управляли справедливость и любовь». Но какую иронию ощущаем мы в этой просветительской утопии после всех картин бедствий и разочарований, которыми заполнена повесть!
«Задиг» был закончен. Из Парижа тревожных сигналов не поступало. Кажется, все успокоилось. Вольтер и его приятельница маркиза Дю Шатле отбыли в Сире. Здесь царили наука и поэзия. Маркиза переводила сочинения Ньютона; Вольтер читал заезжим гостям сцены из поэм, трагедий, комедий, какие выходили из-под его щедрого пера. Это, кажется, была самая лучшая пора его жизни. Правда, политические противники по-прежнему досаждали пасквилями и клеветой. Вольтер негодовал, проклинал судьбу, но не оставался в долгу, посылая в стан врагов убийственные стрелы своих сарказмов.
Шли годы. Маркиза умерла. Фридрих II звал теперь Вольтера к себе. Испросив у Людовика XV разрешения на выезд, получив холодное: «Куда хотите!» — Вольтер покинул родину и прибыл в резиденцию прусского короля. Почести, ключ камергера, богатые дары и самые преувеличенные хвалы из уст короля ждали его в Сан-Суси. Но сон длился недолго. То, что издали казалось просвещенной монархией, вблизи предстало взору диким и беспощадным деспотизмом.
В письмах из Берлина Вольтер много и охотно говорит об историческом труде своем «Век Людовика XIV», который занимал тогда его главное внимание, жалуется на свои телесные недуги, подсчитывает, что из двадцати зубов, с которыми он прибыл в Пруссию, сохранил лишь шесть, обещает друзьям привезти на родину свой скелет, — но ни слова о маленькой философской повести «Микромегас», которую он написал в 1752 году, ни слова, может быть, потому, что считал повесть пустячком. А между тем этот прелестный «пустячок» до сих пор читают с увлечением.
В наши дни, когда люди уже побывали на Луне, сама тема космического путешествия в произведении, написанном более двухсот лет назад, кажется чуть ли не научным предвидением. Но у повести другая задача. Создавая «Микромегаса», Вольтер меньше всего помышлял о научной фантастике. Жители Сириуса и Сатурна понадобились, ему лишь для «освежения» читательского восприятия, — прием, которым он пользуется почти в каждой своей философской повести. Прием этот, введенный в литературный обиход Монтескье, состоит в том, что обычные вещи ставятся на обозрение «чужих» для данного строя жизни персонажей, не способных судить по устоявшимся критериям. У этих «новичков» особо острое зрение, не ослабленное привычкой и предвзятостью, они сразу замечают отрицательные явления и нелепости, с которыми люди свыклись, смирились и приняли за норму. В повести «Простодушный» нелепости европейской цивилизации выявлены через восприятие дикаря «гурона», в повести «Кандид» — наивного, неискушенного юноши, здесь, в «Микромегасе», — увидены глазами пришельцев из космоса.
Повесть «Микромегас» — философская по преимуществу. Здесь упоминаются имена философов Лейбница, Мальбранша, Паскаля, с которыми не соглашался Вольтер, имена Локка и Ньютона, которых он всячески пропагандировал. Здесь рассуждения о гносеологических проблемах, о системе восприятий, об ощущениях, здесь поставлены нравственно-философские вопросы. Но главная мысль Вольтера сводится к тому, что люди не умеют быть счастливыми, что они ухитрились сделать свой крохотный мир полным зла, страданий и несправедливости. Читатель узнает, что планета наша бесконечно мала в масштабах мироздания, что человек бесконечно мал в масштабах этой бесконечно малой планеты. Ироническое смещение масштабов помогает Вольтеру разрушить незыблемые, казалось бы, средневековые авторитеты, показать мнимость земного величия «сильных мира» и нелепость устоявшихся государственных порядков его времени. Земля — это лишь комочек грязи, маленький муравейник; Средиземное море — болотце, а Великий океан — крохотный прудок. И споры из-за лишнего отрезка этого «комочка грязи» вздорны, смешны; а между тем люди, по воле своих правителей, истребляют друг друга в абсурдных и губительных войнах.
«Мне даже захотелось… тремя ударами каблука раздавить этот муравейник, населенный жалкими убийцами», — говорит разгневанный житель Сириуса. «Не трудитесь. Они сами… трудятся над собственным уничтожением», — отвечает житель Сатурна.
Нелепость положения вещей заключается в том, что люди могли бы жить счастливо, ибо как ни мала наша планета — она прекрасна. Космические пришельцы в восторге от нее, да и от разума человеческих существ. Но беда в том, что человеческое общество плохо устроено и должно быть переделано на основах разума. Люди, «мыслящие атомы», по выражению гиганта Микромегаса, должны бы были «вкушать самые чистые радости» на своей планете, проводить свои дни «в любви и размышлениях», как и подобает истинно разумным существам.
Вольтер бежал из Пруссии. С него довольно было мерзостей, которых он насмотрелся и во дворце короля, и за стенами его. Свои впечатления он описал потом в «Мемуарах», которые побоялся напечатать и даже, по слухам, пытался уничтожить. Вездесущие издатели, однако, не дремали, и книжечка вышла в свет, едва Вольтер умер, и даже в одной из тайных типографий Берлина, под боком у самого Фридриха II.
Отъезд прошел не без осложнений. На границе французского гостя задержали, подвергли домашнему аресту. Биографы писателя, пожалуй, несколько драматизируют этот эпизод. Вольтер лукавил. Он хотел увезти томик стихов Фридриха II, в которых содержались нелестные отзывы о европейских венценосных особах. Фридрих боялся дипломатического скандала.
Покинув в 1753 году пределы прусского государства, Вольтер какое-то время скитался, не находя постоянного пристанища, и наконец обосновался своим домом, купив неподалеку от швейцарской границы (ради безопасности!) замок Ферне. Сюда приезжали гости. Их шумная толпа часто досаждала «фернейскому патриарху». Так теперь стали именовать Вольтера. Он уже скупился на время, а гости отнимали золотые минуты: тратить их понапрасну, когда голова полна самых обширных планов, когда мир требует его постоянного вмешательства, — было жалко. И он скрывался в своей спальне и сказывался больным, но читал, писал, диктовал, отправляя в иной день до тридцати писем во все уголки Европы.
Вся творческая деятельность Вольтера, с самого начала и до конца, имела ярко выраженную политическую направленность. Он был прежде всего общественным деятелем. И, пожалуй, венцом этой деятельности явилось разоблачение им «убийства, совершенного людьми в судейских мантиях» (письмо к д’Аржанталю, 29 августа 1762 г.), — в знаменитом, взбудоражившем всю Европу (благодаря Вольтеру) «деле Каласа», протестанта, зверски казненного 9 марта 1762 года в Тулузе по религиозным мотивам. Нелепость обвинения, жестокость пыток и казни (колесование, сожжение), кликушество, изуверство, разгул фанатических страстей обрели под просветительским пером Вольтера зловещие черты всеобщности — невежества, мракобесия, дикости нравов века. Король вынужден был распорядиться о пересмотре дела. Каласа посмертно оправдали. В 1793 году Конвент постановил воздвигнуть мраморную колонну «Каласу — жертве фанатизма» на месте его казни. «Философия одержала победу!» — торжествовал Вольтер (письмо к д’Аржанталю, 17 марта 1765 г.). Имя Вольтера зазвучало в речи далеких от литературы и философии, «некнижных» людей как имя защитника угнетенных и «бича угнетателей».
«Мир яростно освобождается от глупости. Великая революция в умах заявляет о себе повсеместно», — сообщал Вольтер своим друзьям.
Теперь у берегов Женевского озера, почти свободный, почти независимый, дряхлый телом, юный умом, Вольтер создавал свои художественные шедевры.
В 1758 году он написал лучшую свою философскую повесть «Кандид, или Оптимизм». Здесь снова, как в «Задиге», поднимается вопрос о нравственном смысле мира.
Уместно вспомнить некоторые детали духовной жизни XVII–XVIII веков. Знаменитый астроном Кеплер в 1619 году в сочинении «Гармония миров» установил законы движения планет, — все в мире предстало упорядоченным и целесообразным. Позднее Лейбниц развил учение о мировой гармонии. Добро и зло оказались в его понимании равно необходимыми и как бы уравновешивали друг друга. С этим согласились многие умы, в том числе и Вольтер. В повести «Задиг» мы это видели достаточно ясно.
Но вот в 1755 году землетрясение разрушило город Лиссабон. Погибло более тридцати тысяч его жителей. Вопрос о мировом зле снова стал предметом философских размышлений. От стихийных бедствий в природе мысль переходила к бедствиям социальным. В поэме «О гибели Лиссабона» (1756) Вольтер заявил, что отказывается от признания «мировой гармонии» и от лейбницианского оптимизма. Развенчанию этой теории и посвящена повесть «Кандид, или Оптимизм». («Что такое оптимизм?» — «Увы, — сказал Кандид, — это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо».)
Безносый Панглос, гонимый, избиваемый, терзаемый, едва не повешенный, едва не сожженный, чудом спасшийся и снова бросаемый в море бед, вечный образец слепой и благодушной глупости, проповедует… оптимизм. («Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров!»)
Простодушный и наивный Кандид не решается подвергать сомнению проповедь своего учителя. Он готов верить Панглосу, но: «…мой дорогой Панглос, — сказал ему Кандид, — когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?
— Я всегда был верен своему прежнему убеждению, отвечал Панглос. — В конце концов, я ведь философ…»
Мир фактов ниспроверг и разбил вдребезги теорию Панглоса, причем больше всех пострадал он сам, — но он ведь философ! (Саркастическая усмешка Вольтера.) Однако что же теперь делать? Впасть в отчаяние? Проклясть мир и наполнить вселенную жалобами и стенаниями? — Нет и нет! Мрачный ипохондрик Мартен, проповедующий в повести пессимизм, никак не по душе ни Кандиду, ни автору. Каков же вывод? Вольтер не дает конкретных рекомендаций. Достаточно того, что читатель проникнется идеей несовершенства мира. Что же касается дальнейших перспектив истории, то ведь «человек родился не для покоя», и «надо возделывать наш сад», ибо «работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду».
Отрицая философию Лейбница и английских писателей XVIII века (например, Шефтсбери), оптимизм которых вел к примирению со злом, будто бы «необходимым элементом мировой гармонии», Вольтер был оптимистом в другом смысле, а именно — верил в совершенствование человечества и всех его социальных институтов. Важное место в его повести занимает описание идеального государства Эльдорадо (от испанского el dorado — золотой, счастливый). Вольтер использовал рассказ испанского путешественника Франсиско Ориллана о якобы виденной им в 1541 году между Амазонкой и Ориноко золотоносной стране. В XVI веке этому очень верили. Упоминаемый в повести англичанин Ролей отправился в 1595 году на поиски Эльдорадо и даже доносил королеве Елизавете о будто бы виденных им там чудесах.
Вольтер посмеялся над фантазиями путешественников, но воспользовался легендой об Эльдорадо для своей утопии. Вольтеровское Эльдорадо противопоставлено в повести государству иезуитов в Парагвае (1609–1768). Иезуиты, поработившие индейцев, хвастались, что будто бы установили в Парагвае христианское государство без частной собственности (имущество индейцев было объявлено «собственностью бога»!). «Los padres[1] владеют там всем, а народ ничем», — иронизирует по этому поводу Вольтер. В Эльдорадо же нет монахов, там не «сжигают инакомыслящих», там нет тюрем, там никого не судят, там нет тирании и «все свободны». Вольтер прославил «невинность и благоденствие» жителей Эльдорадо. Однако хвалу «невинности» народа не следует понимать в плане руссоистской идеализации «естественного состояния». Эльдорадо — вполне цивилизованная страна. Там имеется великолепный дворец наук, «наполненный математическими и физическими инструментами».
В Эльдорадо не ценят золота, и потому оно не приносит никому зла; между тем стоило Капдиду вывезти несколько мешков этой «желтой глины» за пределы идеального государства, как оно стало творить свои обычные беды. Для справедливого общества Вольтер не нашел места в реальной действительности XVIII века; утопическое Эльдорадо было прообразом того будущего, о котором мечтали просветители.
Последние повести Вольтера, написанные уже рукою дряхлой, нисколько не указывают на угасание таланта. В «Простодушном» (1769) он ведет полемику с теорией «естественного человека» Жан-Жака Руссо. Вольтера пугал плебейский радикализм Руссо, который отрицал прогресс, так как видел, что в классовом обществе он сопровождается ростом неравенства между людьми и несет все новые бедствия. Еще в 1750 году, когда Руссо прислал Вольтеру свой первый трактат «Рассуждение о науках и искусствах», в котором камня на камне не оставлял от европейской цивилизации и пел хвалу неиспорченному «естественному человеку», «дикарю», Вольтер решительно отмежевался от его идей: «Когда читаешь ваше сочинение, так и хочется встать на четвереньки».
Однако теперь, через двадцать лет, он готов был частично согласиться с Руссо, отвергнув лишь его крайности. В повести Вольтера дикарь Гурон нравственно превосходит цивилизованных европейцев, он честнее и разумнее их. «Я истратил на свое образование пятьдесят лет, но боюсь, что в отношении здравого смысла мне не справиться с этим полудиким ребенком», — размышляет учитель Гурона. Это не означает отказа от цивилизации: в ней много нелепостей, предрассудков, их нужно отбросить, но сохранить ценности культуры. Пройдя курс наук, уже цивилизованный Гурон осознает, что «из животного превратился в человека».
В «Простодушном» нет ни сказочно-декоративного камуфляжа для «опасных» идей, ни сказочно-счастливого конца, как в других повестях Вольтера. Герои ее действуют в реальной обстановке; это Франция времен Вольтера. История любви Гурона и мадемуазель де Сент-Ив, рассказанная несколько сентиментально, во вкусе тех дней, кончается трагически. Девушка гибнет, пожертвовав своей честью ради спасения жениха; в мире, где она живет, нет счастья для честных и бескорыстных людей. Но зло не в цивилизации, не в культуре, не в искусствах и науках, а в безнравственном устройстве общества. «Из худа не бывает добра», — утверждает теперь Вольтер — автор «Простодушного», словно возражая Вольтеру — автору «Задига».
«Царевна Вавилонская», написанная Вольтером в том же 1767 году, возвращает нас в ярко раскрашенный мир сказки. Принцесса Формозанта и прекрасный пастух Амазан, разлученные, совершают странствия из страны в страну в поисках друг друга. Форма странствий избрана для политического обозрения мира. Мы видим здесь своеобразную политическую географию в аллегорических картинах и лицах: государство киммерийцев (Россия), где «мужчина» (Петр I) начал великие преобразования, а «женщина» (Екатерина II) их довершила, где царят искусства, великолепие, слава и утонченность; Альбион (Англия), где герои видят спокойствие, богатство, общее благосостояние, ибо «государи отказались от неограниченной власти»; правда, партии ведут там борьбу «при помощи пера и интриг», но «не дозволяют друг другу осквернять священную сокровищницу законов». Антропокайи («сжигатели людей») олицетворяют собой испанских инквизиторов. Земля, кишащая князьями, фрейлинами и нищими, — Германия. И, наконец, «желтые воды Тибра, зачумленные болота, редкие истощенные обитатели и нищие в старых, дырявых плащах» позволяют узнать Италию, Рим, где царствует «Старец семи холмов» (папа).
Повести Вольтера — это боевая политическая публицистика, это трибуна просветителя-философа; лица, картины, сюжет носят здесь условный характер, все атрибуты повествовательной прозы используются лишь в той мере, в какой они пригодны для пропаганды философских, политических и нравственных идей автора.
Проза Вольтера ярко тенденциозна. Он делал свое дело. Служа всем девяти музам, он ни на минуту не забывал о своей просветительской миссии. Неутомимый и насмешливый, он был неотразим и всесилен. В его шутке таилась опасность, его смех разил, как меч. Европейская аристократия вкушала мед его речей, не всегда ощущая в них привкус яда. Своею высохшей рукой он правил общественным мнением. Владычество Вольтера исключало тиранию предрассудка, догматического понуждения. Это было свободное царство ума, куда допускались все. Здесь дышалось легко, здесь мысль доходила до читателя мгновенно, ибо излагалась она с изящной простотой, самые сложные проблемы обретали ясность и постигаемость. Он не дожил до Революции, но Революция воздала ему должное.
Останки Вольтера, увезенные из Парижа в ночь на 1 июня 1778 года, тайно, в великой спешке (церковные власти запретили официальную церемонию похорон), были торжественно возвращены в столицу и погребены в Пантеоне 11 июля 1791 года.
Вольтер в наши дни — признанный авторитет с почти трехсотлетним стажем. Но он еще не монумент, перед которым равно почтительно и бесстрастно останавливаются все. «И сегодня еще найдется немало добрых душ, которые с удовольствием сожгли бы его», — писал в 1959 году французский журнал «Эроп». Сочинения Вольтера — школа трезвого, здравого мышления. Его сатирическая ирония благотворна. Она осмеивает аффектацию, спекулирующую на благородных чувствах, рассеивает иллюзии и, наконец, чудодейственно разбивает тяжеловесные догмы и предрассудки, которыми отнюдь не беден и наш XX век.
С. АРТАМОНОВ
Орлеанская девственница Перевод под редакцией М. Лозинского
{1}
Предисловие Отца Апулея Ризория Бенедиктинца
{2}
Будем признательны доброй душе, благодаря которой у нас появилась «Девственница». Как известно ученым и как явствует из некоторых черт самого труда, эта героическая и назидательная поэма написана около 1730 года. Из письма 1740 года, напечатанного в собрании мелких произведений одного великого государя, под именем «Философа из Сан-Суси{3}», видно, что некая немецкая принцесса, которой дали на время рукопись только для прочтения, была так восхищена осмотрительностью, с какой автор развил столь скользкую тему, что потратила целый день и целую ночь, заставляя списывать и списывая сама наиболее назидательные места упомянутой рукописи. Этот самый список наконец попал к нам. Обрывки нашей «Девственницы» уже неоднократно появлялись в печати, ценители здоровой литературы всякий раз бывали возмущены, видя, как ужасно она искажена. Одни издатели выпустили ее в пятнадцати песнях{4}, другие в шестнадцати, восемнадцати, двадцати четырех, то разделяя одну песнь на две, то заполняя пропуски такими стихами, от которых отрекся бы возница Вертамона{5}, прямо из кабачка отправлявшийся на поиски приключений[2]{6}{7}.
Итак, вот «Иоанна» во всей своей чистоте. Мы боимся высказать слишком смелое предположение, назвав имя автора, коему приписывают эту эпическую поэму. Достаточно, чтобы читатели могли извлечь назидание из морали, скрытой в аллегориях поэмы. К чему знать, кто автор? Немало есть трудов, которые ученые и мудрые читают с наслаждением, не зная, кто их написал, как, например, «Pervigilium Veneris»[3]{8} — сатира, приписываемая Петронию{9}, и множество других.
Особенно нас утешает, что в нашей «Девственнице» найдется гораздо меньше дерзостей и вольностей, чем у всех великих итальянцев, писавших в этом роде.
Verum enim vero[4], начать с Пульчи, — нам было бы очень досадно, если бы наш скромный автор дошел до тех маленьких вольностей, которые допускает этот флорентиец в своем «Morgante»[5]{10}. Этот Луиджи Пульчи, бывший почтенным каноником, написал свою поэму в середине XV века для синьоры Лукреции Торнабуони, матери Лоренцо Медичи Великолепного; и передают, что «Morgante» пели за столом у этой дамы. Это была вторая эпическая поэма Италии. Ученые много спорили о том, серьезное это сочинение или шуточное.
Те, кто счел ее серьезной, основывались на вступлении к каждой песне, начинающемся стихами из Писания. Вот, например, вступление к первой песне:
In principio era il Verbo appresso a Dio; Ed era Iddio il Verbo, e҆ l Verbo lui. Questo era il principio al parer mio, etc[6].Если первая песнь начинается Евангелием, то последняя кончается «Salve regina»[7], и это оправдывает мнение тех, которые полагали, что автор писал вполне серьезно: ведь в то время театральные пьесы, ставившиеся в Италии, извлекались из «Страстей» или из «Житий святых».
Те же, кто рассматривал «Morgante» как шуточное произведение, обратили внимание лишь на некоторые слишком большие вольности, там допущенные.
Моргайте спрашивает Маргутте, христианин он или магометанин:
E se egli crede in Cristo о in Maometto.
Rispose allor Margutte: A dirtel tosto,
Io non credo più al nero che al azzuro;
Ma nel cappone, о lesso о vuogli arrosto;
. . . . . . . .
Ma sopra tutto nel buon vino ho fede;
E credo che sia salvo chi gli crede.
Or queste son tre virtù cardinale,
La gola, e’l culo, e’l dado, come io t’ho detto[8].
Заметьте, пожалуйста, что Крешимбени{11}, нисколько не затрудняющийся поместить Пульчи в ряду настоящих эпических поэтов, говорит, в его извинение, что это самый скромный и самый умеренный из писателей своего времени: «il più modesto e moderato scrittore». В действительности он был предшественником Боярда и Ариоста{12}. Благодаря ему прославились в Италии Роланды, Рено, Оливье и Дюдоны, и он почти равен Ариосту чистотой языка.
Недавно вышло очень хорошее издание его con licenza de҆ superiori [9]. И, конечно, это не я его выпустил; если бы наша Девственница говорила так же бесстыдно, как этот Маргутте, сын турецкого священника и греческой монахини, я бы поостерегся ее печатать.
В «Иоанне» не найти и таких дерзостей, как у Ариоста, здесь не встретить святого Иоанна, обитающего на Луне и говорящего:
Gli scrittori amo, с fo il debito mio, Che al vostro mondo fui scrittore anch҆ io. . . . . . . . . . E ben convenne ad mio lodato Cristo Rendermi guiderdon di si gran sorte, etc[10].Это заносчиво; и здесь святой Иоанн позволяет себе то, чего ни один святой в «Девственнице» себе никогда не позволил бы. Выходит, что Иисус обязан своей божественностью только первой главе Иоанна и что этот евангелист ему польстил! Подобное утверждение отдает социнианством{13}. Наш сдержанный автор не мог бы впасть в такую крайность.
Также весьма для нас утешительно, что сей скромный автор не подражал ни одному из наших старинных романов, историю которых написали ученый епископ Авраншский Гюэ{14} и компилятор аббат Лангле{15}. Доставьте себе удовольствие прочесть в «Ланселоте с озера»{16} главу под заглавием: «О том, как Ланселот спал с королевой и как она вернулась к сиру де Лагану», и вы увидите, как целомудренен наш автор в сравнении со старыми нашими писателями.
Но quid dicam[11] о чудесной истории Гаргантюа, посвященной кардиналу де Турнону? Известно, что глава «О подтирках»{17} — одна из наиболее скромных в этом произведении.
О произведениях современных мы не говорим; скажем только, что все старые повести, сочиненные в Италии и переложенные в стихи Лафонтеном{18}, также менее нравственны, чем наша «Девственница». В общем, мы желаем всем нашим строгим цензорам тонкие чувства прекрасного Монроза; нашим скромницам, если только они существуют, простодушие Агнесы и нежность Доротеи; нашим воинам — десницу мощной Иоанны; всем иезуитам — нрав доброго духовника Бонифация; всем управителям в хорошо поставленных домах — распорядительность и умение Бонно.
К тому же мы считаем эту книжечку отличным средством против ипохондрии, угнетающей в настоящее время некоторых дам и некоторых аббатов; и если мы окажем обществу хотя бы только эту услугу, мы сочтем, что потратили время не даром.
Песнь первая
Содержание
Нежная любовь Карла VII и Агнесы Сорель. Осада Орлеана англичанами. Явление святого Дениса и пр.
Я не рожден святыню славословить{19}{20}, Мой слабый глас не взыдет до небес, Но должен я вас ныне приготовить К услышанью Иоанниных чудес. Она спасла французские лилеи.{21} В боях ее девической рукой Поражены заморские злодеи. Могучею блистая красотой, Она была под юбкою герой. Я признаюсь, — вечернею порой Милее мне смиренная девица, Послушная, как агнец полевой; Иоанна же была душою львица, Среди трудов и бранных непогод Являлася всех витязей славнее И что всего чудеснее, труднее, Цвет девственный хранила круглый год. О ты, певец сей чудотворной девы{22}{23}{24}, Седой певец, чьи хриплые напевы, Нестройный ум и бестолковый вкус В былые дни бесили нежных муз, Хотел бы ты, о стихотворец хилый, Почтить меня скрыпицею своей, Да не хочу. Отдай ее, мой милый, Кому-нибудь из модных рифмачей{25}{26}{27}. Державный Карл, в расцвете юных дней, В старинном Туре{28} на балах пасхальных (Он был любитель развлечений бальных) Пленился, к счастью для своих земель, Красавицей Агнесою Сорель{29}{30}. Такого чуда не встречали взоры. Вообразите нежный облик Флоры, Стан и осанку молодых дриад, Живую прелесть Анадиомены{31} И Купидона шаловливый взгляд, Персты Арахны{32}, сладкий глас сирены, — В ней было все; пред ней бы в прах легли Герои, мудрецы и короли. Ее узреть, влюбиться, млеть от страсти, Желаний сладких испытать напасти, Глаз не сводить с Агнесы, трепетать И голос, к ней приблизившись, терять, Ей руки жать ласкающей рукою, Дать чувствам течь пылающей рекою, Томиться, в свой черед к себе маня, Понравиться ей — было делом дня. Любовь царей стремительней огня. В любви искусна, думала Агнеса, Что страсть их скроет тайная завеса, Но эту ткань прозрачную всегда Нескромный взор пронижет без труда. Чтоб ни один о них не знал повеса, Король избрал советника Бонно{33}{34}, Чью верность испытал уже давно: Он был носителем большого чина, Который двор, где все освящено, Зовет учтиво другом властелина, А грубые уста простолюдина — Обычно сводней, что весьма срамно. У этого Бонно в глуши укромной Был на Луаре замок — хоть куда. Агнеса тайно подплыла туда, И сам король приехал ночью темной. Их ужин ждал приятный, хоть и скромный; Бонно достал вино из погребов. Как вы ничтожны, пиршества богов! Любовники, смущенные заране, Во власти опьяняющих желаний, В ответ на взгляд бросали жгучий взгляд, Предвестие полуночных услад. Беседа скромная, но без стесненья, Усиливала пламя нетерпенья. Король Агнесу взором пожирал, Нежнейший вздор украдкою шептал И ногу ей ногою прижимал. Окончен пир. Венеции и Лукки Несутся хроматические звуки;{35} С тройным напевом сладкий голос свой Сливают скрипка, флейта и гобой. Слова поют о сказочном герое, Который, в ослепительной мечте Прийтись по сердцу деве-красоте, Забыл о славе и о поле боя. Оркестр был скрыт в укромном уголке, От молодой четы невдалеке. Агнеса, девичьим стыдом томима, Все слышала, никем чужим не зрима. Уже луна вступила в свой зенит; Настала полночь: час любви звенит. В алькове царственно-позолоченном, Не темном и не слишком освещенном, Меж двух простынь, каких теперь не ткут, Красы Агнесы обрели приют. Открыта дверь перед альковом прямо; Алиса, многоопытная дама, Ее не зря забыла притворить. О юноши, способные любить, Поймете вы и сами, без сомненья, Как наш король сгорал от нетерпенья! На пряди ровные его кудрей Уж пролит дивно пахнущий елей. Он входит, с девой он ложится рядом; О, миг, чудесным отданный усладам! Сердца их бьются, то любовь, то стыд Агнесин лоб и жжет и леденит. Проходит стыд, любовь же пребывает. Ее любовник нежный обнимает. Его глаза, что страсть восторгом жжет, Не оторвутся от ее красот. В чьем сердце не проснулася бы нега? Под шеей стройною, белее снега, Две белых груди, круглы и полны, Колышутся, Амуром созданы; Увенчивают их две розы милых. Сосцы-цветы, что отдохнуть не в силах, Зовете руку вы, чтоб вас ласкать, Взор — видеть вас, и рот — вас целовать. Моим читателям служить готовый, Их жадным взглядам я бы показал Нагого тела трепетный овал, — Но дух благопристойности суровый Кисть слишком смелую мою сдержал. Все прелесть в ней и все благоуханье. Восторг, Агнесы пронизавший кровь, Дает ей новое очарованье, Живит ее; сильней румян любовь, И нега красит нежное созданье. Три месяца любовники живут, Ценя свой обольстительный приют. К столу приходят прямо от постели. Там завтрак, чудо поварских изделий, Дарует чувствам прежнюю их мощь; Потом на лов среди полей и рощ Их андалусские уносят кони, И лаю гончих вторит крик погони. По возвращенье в баню их ведут. Духи Аравии, масла, елеи, Чтоб сделать кожу мягче и свежее, Над ними слуги пригоршнями льют. Пришел обед; изысканное мясо Фазана, глухаря или бекаса, В десятках соусов принесено, Ласкает нос, гортань и взгляд равно. А и веселый, искристый и пенный, Токайского янтарь благословенный Щекочет мозг и мыслям придает Огонь, необходимый для острот, Таких же ярких, как напиток пьяный, Что зажигает и живит стаканы. Бонно в ладоши хлопает, хваля Удачные словечки короля. Пищеваренье к ночи их готовит; Рассказывают, шутят и злословят, Под чтение Аленовых стихов{36}; Дивятся на сорбоннских докторов, На попугаев, обезьян, шутов. Подходит ночь; искусные актеры Комедией увеселяют взоры, И, день блаженный завершая вновь, Над нежной парой властвует любовь. Им, завлеченным в сети наслажденья, Как первой ночью, новы упоенья. Всегда довольны, ни один не хмур, Ни ревности, ни скуки, ни бессилья, Ссор не бывает; Время и Амур Вблизи Агнесы позабыли крылья. Карл повторял, обвив ее рукой, Даря подруге жаркое лобзанье: «Агнеса, милая, мое желанье, Весь мир — ничто перед твоей красой, Царить и биться, — что за сумасбродство! Парламент мой отрекся от меня;{37}{38} Британский вождь грозней день ото дня; Но пусть мое он видит превосходство: Он царствует, но ты зато — моя». Такая речь не слишком героична, Но кто вдыхает благовонный мрак В руках любовницы, тому прилично И позабыться, и сказать не так. Пока он жил средь неги и приятства, Как настоятель тучного аббатства, Британский принц{39}{40}, исполнен святотатства, Всегда верхом, всегда вооружен, С мечом, освобожденным из ножон, С копьем склоненным, с поднятым забралом По Франции носился в блеске алом. Он бродит, он летает, ломит он Могучий форт, и крепость, и донжон, Кровь проливает, присуждает к платам, Мать с дочерью шлет на позор к солдатам, Монахинь поруганью предает, У бернардинцев их мускаты пьет, Из золота святых монету бьет И, не стесняясь ни Христа, ни Девы, Господни храмы превращает в хлевы: Так в сельскую овчарню иногда Проникнет хищный волк и без стыда Кровавыми зубами рвет стада В то время, как, улегшись на равнине, Пастух покоится в руках богини, А рядом с ним его могучий пес В остатки от съестного тычет нос. Но с высоты блестящей апогея, От наших взоров скрытый синевой, Добряк Денис{41}{42}, издавний наш святой, Глядит на горе Франции, бледнея, На торжество британского злодея, На скованный Париж, на короля, Что все забыл, с Агнесою дремля. Святой Денис — патрон французских ратей, Каким был Мара для римских городов, Паллада — для афинских мудрецов. Но надобно не смешивать понятий: Один угодник стоит всех богов. «Клянусь, — воскликнул он, — что за мытарство Увидеть падающим государство, Где веры водружал я знамена! Ты, лилия, стихиям отдана; Могу ли Валуа не сострадать я? Не потерплю, чтоб бешеные братья Британского властителя{43} могли Гнать короля с его родной земли. Я, хоть и свят, — прости мне, боже правый, — Не выношу заморской их державы. Мне ведомо, что страшный день придет, И этот прекословящий народ Святые извратит постановленья, Отступится от римского ученья И будет папу жечь из года в год. Так пусть заране месть на них падет: Мои французы мне пребудут верны, А бриттов совратит прельщенье скверны; Рассеем же весь род их лицемерный, Накажем их, надменных искони, За все то зло, что сделают они». Так говорил угодник в рощах рая, Проклятьями молитвы уснащая. И в тот же час, как бы ему в ответ, Там, в Орлеане, собрался совет. Был осажден врагами город славный И изнемог уже в борьбе неравной. Вельможи, ратной доблести полны, Советники — седые болтуны, По-разному неся свои печали, «Что делать?» — поминутно восклицали. Потон, Ла Гир и смелый Дюнуа{44}{45} Враз крикнули надменные слова: «Соратники, вперед, вся кровь — отчизне, Мы дорого продать сумеем жизни». «Господь свидетель! — восклицал Ришмон. — Дотла весь город должен быть сожжен; Пускай ворвавшиеся англичане Найдут лишь дым и пепел в Орлеане». Был грустен Ла Тримуйль: «Ах, злой удел Мне в Пуату родиться повелел! В Милане я оставил Доротею; Здесь, в Орлеане, я в разлуке с нею. В боях пролью я безнадежно кровь, И — ах! — умру, ее не встретив вновь!» А президент Луве{46}, министр монарший{47}, На вид мудрец, с осанкой патриаршей, Сказал: «Должны мы все же до тех пор Просить парламент вынесть приговор Над англичанами, чтоб в этом деле Нас в упущеньях упрекать не смели». Луве, юрист, не знал того, — увы! — Что было достоянием молвы: А то бы он заботился не меньше, Чем о врагах, о милой президентше. Вождь осаждающих, герой Тальбот{48}, Любя ее, любим был в свой черед. Луве не знал; его мужское рвенье Лишь Франции преследует отмщенье. В совете воинов и мудрецов Лились потоки благородных слов, Спасать отчизну слышались призывы; Особенно Ла Гир красноречивый И хорошо, и долго говорил, Но все-таки вопроса не решил. Пока они шумели, в окнах зала Пред ними тень чудесная предстала. Прекрасный призрак с розовым лицом, Поддержан светлым солнечным лучом, С небес отверстых, как стрела, несется, И запах святости в собранье льется. Таинственный пришлец украшен был Ушастой митрой, сверху расщепленной, Позолоченной и посеребренной; Его долматик по ветру парил, Его чело сияло ореолом{49}{50}{51}{52}, Его стихарь блистал шитьем тяжелым, В его руке был посох с завитком, Что был когда-то авгурским жезлом{53}{54}. Он был еще чуть зрим в огне своем, А Ла Тримуйль, святоша, на колени Уже упал, твердя слова молений. Ришмон, в котором сердце как булат, Хулитель и кощунственник исправный, Кричит, что это сатана державный, Которого им посылает ад, Что это будет шуткой презабавной — Узнать, как с Люцифером говорят. А президент Луве летит стрелою, Чтоб отыскать горшок с водой святою. Потон, Ла Гир и Дюнуа стоят, Вперив в пространство изумленный взгляд, Простерлись слуги, трепетом объяты. Видение все ближе, и в палаты Влетает тихо, на луче верхом, И осеняет всех святым крестом. Тут каждый крестится и упадает. Он их с улыбкой кроткой поднимает И молвит: «Не дрожите предо мной; Ведь я Денис{55}{56}, а ремеслом — святой. Я Галлии любимой просветитель, Но я оставил вышнюю обитель, Увидя Карла, внука моего, В стране, где не осталось ничего, Который мирно, позабыв о бое, Две полных груди гладит на покое. И я решил прийти на помощь сам За короля дерущимся бойцам, Кладя предел скорбям многотревожным. Зло исцеляют противоположным. И если Карл для девки захотел Утратить честь и с нею королевство, Я изменить хочу его удел Рукой юницы, сохранившей девство, Коль к небу вы подъемлете главы, Коль христиане и французы вы, Для церкви, короля и государства Вы призваны помочь мне без коварства, Найти гнездо, где может обитать Тот феникс, что я должен отыскать». Так старичок почтенный объяснялся. Когда он кончил, смех кругом раздался. Ришмон, насмешник вечный и шутник, Вскричал: «Клянусь, мой милый духовник, Мне кажется, вы вздумали напрасно Покинуть ваш приют весьма прекрасный, Чтобы отыскивать в стране гуляк Игрушечку, что цените вы так. Спасать посредством девственности крепость Да это вздор, полнейшая нелепость. Притом не видно дев у нас в краю, Зато они кишмя кишат в раю! Свечей церковных в Риме и в Лорете{57} Не более, чем дев в нагорном свете. Но вот во Франции — увы! — их больше нет. В монастырях и то пропал и след. От них стрелки, сеньоры, капитаны Давно освободили наши страны; Подкидышей побольше, чем сирот, Наделал этот воровской народ. Святой Денис, не нужно споров длинных; В других местах ищите дев невинных». Угодник покраснел пред наглецом; Затем, опять на луч вскочив верхом, Как на коня, не говоря ни слова, Пришпоривает и взлетает снова, За безделушкою, милей цветка, Что так нужна ему и так редка. Оставим же его; пока он рыщет Везде, где есть дневным лучам пути, Читатель-друг, желаю вам найти Алмаз любви, которого он ищет!Конец песни первой
Песнь вторая
Содержание
Иоанна, получив снаряжение от святого Дениса, отправляется к Карлу VII в Тур; что она совершила по пути и как ей был дан патент на звание девы.
Блажен возлегший с девою на ложе! Добро ему; но волновать сердца, По-моему, во много раз дороже. Любимым быть — вот счастье мудреца. К чему лишать цветок его венца? Пусть нас Любовь подарит этой розой. Толковники нам исказили прозой Прекрасный текст; когда принять их толк, То с наслажденьем несовместен долг. Я против них готовлю сочиненье, Где изложу искусство из искусств, Как в самом долге черпать наслажденье, Обуздывая треволненья чувств. Святой Денис мое поддержит рвенье. Ко мне склоняясь в горней вышине; Я пел его, и он поможет мне. Но, в ожиданье, должен рассказать я Конец его святого предприятья. Среди Шампанских невысоких гор, Где сто столбов, увенчанных гербами {58}{59}, «Вы в Лотарингии», — вещают сами, Был городок, безвестный до тех пор; Но он стяжал невянущую славу, Затем что спас французскую державу И галльских лилий искупил позор. О Домреми, твои поля и воды На годы да прославятся и годы! Твоих холмов убогих не пестрят Ни апельсин, ни персик, ни мускат, И твоего вина я пить не стану; Но Франции ты подарил Иоанну. Здесь родилась она:{60} кюре-петух, Производивший всюду божьих слуг, За мессой, за столом, в постели рьяный, Когда-то инок, был отцом Иоанны; Стан горничной, дебелой и румяной, Был формою, в которой отлита Британцам памятная красота. В шестнадцать лет при лошадях таверны Ей отыскали заработок верный, И в краткий срок о молодой красе В округе Вокулера знали все{61}. Решительна осанка, но пристойна; Огромные глаза пылают знойно; Зубов блестящих ровно тридцать два; Гордиться ими вправе ротик алый, На строгий вкус не маленький, пожалуй, Но выписанный кистью божества, Волнующий и яркий, как кораллы. Грудь смуглая, но тверже, чем скала, Попу, бойцу и книжнику мила. Жива, ловка, сильна; в одежде чистой, Рукою полною и мускулистой Мешки таскает, в чаши льет вино Сеньору и крестьянину равно И мимоходом оплеухи сыплет, Когда повес нескромная рука Ее за грудь или за бедра щиплет. Смеется, трудится до огонька, Коней впрягает, водит к водопою Иль, их сжимая стройною ногою, Летит резвее римского стрелка{62}{63}. О глубина премудрости верховной! Как ты играешь гордостью греховной Всех величайших, малых пред тобой! Как малый вознесен твоей рукой! Святой Денис, служитель верный твой, По замкам ослепительным не рыщет, Средь вас, о герцогини, он не ищет; Денис спешит, — чудно, но это так, — На поиски невинности в кабак. Он в самый раз явился, чтобы девству Обида не была нанесена. Уже беда грозила королевству. Известно, сколь коварен Сатана; И, опоздай святитель на минутку, Он с Францией сыграл бы злую шутку. Один монах, прозваньем Грибурдон{64}, Покинувший с Шандосом Альбион, Был в это время в том же самом месте, И он решил лишить Иоанну чести. Разведчик, проповедник, духовник, Он был бы первым в воровском собранье. Повсюду он свой нос совать привык; И был к тому ж искусен в тайном знанье{65}. Египетское ведал волшебство, Что некогда хранилось колдунами, Еврейскими седыми мудрецами; Но наши дни утратили его; Век тьмы, когда не помнят ничего! Ему поведала его кабала{66}, Что гибелью Иоанна угрожала Его друзьям, под юбкою своей Нося судьбу обоих королей. И, будучи в союзе с василиском{67}, Поклялся он ни спать, ни пить, ни есть, Поклялся чертом и святым Франциском{68} Бесценный сей палладий{69} приобресть, Над чувствами Иоанны торжествуя; Он восклицал, гнусавя аллилуйя: «И родине и церкви послужу я; Монах и бритт обязан жить, любя Свою страну и, главное, себя». У некоего грубого невежды Явились те же самые надежды, С правами теми же на страстный пыл Уж потому, что конюхом он был; Он предлагал вниманию подруги Страсть грубую и грубые услуги; Случайности ежеминутных встреч Могли бы девушку к нему привлечь, Но стыд ее торжествовал, по счастью, Над проникающею в душу страстью. И Грибурдон опасность увидал: Как книги, он сердца людей читал. Он страшного соперника находит И разговор с ним ласковый заводит: «Могучий витязь, вы, без лишних слов, Изрядней всех вам вверенных ослов И девственницы стоите, конечно; Как вы, я тоже страстью к ней палим. Усилия свои соединим; Я, как и вы, любовник безупречный. Поделим же сей лакомый кусок, Который, если ссориться бесплодно, Из наших рук и ускользнуть бы мог. Когда меня вам к ней свести угодно, Я вызову немедля духа сна; И очи нежные смежит она, Чтоб бдили мы над ней поочередно». Взяв книгу черную, монах скорей Зовет того из сумрачных чертей, Чье имя было некогда Морфей. Сонливый бес гостит сейчас в Париже: Когда поутру модный адвокат Приводит ряд блистательных цитат, — Он с судьями кивает лбом все ниже; А днем внимает проповеди он Учеников в искусстве Массильона{70}, Приемам, взвешенным со всех сторон, Многообразию пустого звона; И вечером в партере крепко спит. Он к колеснице, слыша зов, спешит, И две совы влекут его неслышно По воздуху в молчанье ночи пышной. Закрыв глаза, скривив зевотой рот, Он к ложу девы ощупью бредет И, грудь ей посыпая маком черным, Томит ее дыханием снотворным. Так, уверяли нас, монах Жирар{71}, Младую исповедуя девицу,{72} Сумел вдохнуть в нее любовный жар И похотью воспламенил юницу. Меж тем, желанья грешного полны, Монах и конюх, слуги Сатаны, Стащили с девственницы одеяло; Уж кости, по ее скользя груди, Должны решить, чье место впереди, Кому из них принадлежит начало. Монах взял верх: счастливы колдуны; Его желания распалены, Он прыгнул на Иоанну; но нежданно Денис явился — и встает Иоанна. Как слаб перед святыми грешный люд! Соперники в смятении бегут, И душу им трепещущую жгут И лютый страх, и замысел злодейский. Видали, верно, вы, как полицейский Вступает в дом любви ночной порой: Любовников раздетых юный рой, Постели кинув, прыгает с балкона От мрачных глаз блюстителя закона; Так наши блудники бегут с тоской. Денис стремится усмирить волненье Иоанны, плачущей от возмущенья. Он говорит: «Избрания сосуд, Бог королей твоей рукой невинной Решил отмстить честь Франции старинной И водворить в их островной приют Надменных англичан, народ бесчинный. Бог превращает дуновеньем недр Трепещущий тростник в ливанский кедр, Сметает горы, сушит океаны И воскрешает вымершие страны. От шага твоего родится гром, Повиснет ужас над твоим челом, Ты с огнезарным ангелом победы О дивной славе поведешь беседы. Иди, о темной позабудь судьбе, — Иное уготовано тебе». При этой речи, грозной и прекрасной, Весьма духовной и весьма неясной, Иоанна широко раскрыла рот И думала — что это он плетет? Но благодать сильна: от благодати В ее уме редеет мрак понятий, Как будто там взошло светило дня, И в сердце — пыл священного огня. Она теперь не прежняя служанка, Она — уже герой, она — гражданка. Так мещанин, досель неприхотлив, От богача наследство получив, Дворцом сменяет домик свой смиренный, Свой скромный вид — развязностью надменной; Слепит вельможу блеск его щедрот, И светлостью простак его зовет. Или, скорей, так швейка молодая, Которую природа с юных лет Готовила в бордель или в балет{73}, Которую кормила мать простая Для счастья с мужиком в тиши пустынь, — Когда ее Амур, везде порхая, Кладет под короля, меж двух простынь, Меняется в манерах и в походке, На всех теперь лишь свысока глядит, И в голосе слышны другие нотки, И — впору королеве — ум развит. Решив начать скорее подвиг бранный, Денис во храм отправился с Иоанной, И здесь явилась им средь бела дня (Как нашей Деве это было странно!), Спустившись с неба, дивная броня. Из арсенала крепости небесной Архистратиг великий Михаил Извлек ее десницею чудесной. И тут же рядом шлем Деборы был{74}{75}, Гвоздь, что Сисаре голову пронзил; Булыжник, пущенный пращой Давида В гиганта отвратительного вида, И челюсть та, которую Самсон, Когда возлюбленной был продан он, Разил врагов с неслыханною силой; Клинок Юдифи, дивно заострен, Ужасный дар предательницы милой, Которым небо за себя отмстило, Прервав ее возлюбленного сон. Все это видя, Дева в восхищенье Стальное надевает облаченье, Рукою крепкою схватить спешит Наплечник, наколенник, шлем и щит, Булыжник, челюсть, гвоздь, клинок кровавый, Примеривает все и бредит славой. У героини конь обязан быть; У злого ль конюха его просить? И вдруг осел явился перед нею, Трубя, красуясь, изгибая шею. Уже подседлан он и взнуздан был, Пленяя блеском золотых удил, Копытом в нетерпенье землю роя, Как лучший конь фракийского героя; Сверкали крылья на его спине, На них летал он часто в вышине. Так некогда Пегас в полях небесных Носил на крупе девять дев чудесных{76}, И Гиппогриф, летая на луну, Астольфа мчал{77} в священную страну. Ты хочешь знать, кем был осел тот странный, Подставивший крестец свой для Иоанны?{78} Об этом я потом упомяну, Пока же я тебя предупреждаю, Что тот осел довольно близок к раю. Уже Иоанна на осле верхом, Уже Денис подхвачен вновь лучом И за девицей поспешает следом Приуготовить короля к победам. То иноходью шествует осел, То в небесах несется, как орел. Монах, как прежде, полный сладострастья, Оправившись от своего несчастья, Погонщика, посредством тайных сил, Без промедленья в мула обратил, Верхом садится, шпорит неустанно. Клянется всюду гнаться за Иоанной. Погонщик мулов и отныне мул Под ним рванулся и вперед скакнул; И дух из грубого такого теста Едва заметил перемену места. Иоанна и Денис стремятся в Тур, Где держит короля в цепях Амур. Когда настала ночь, под Орлеаном Пришлось им проезжать британским станом. Британцы, сильно пьющие досель, Храпели, просыпая тяжкий хмель; Прислуга, караул — все было пьяно. Не слышалось ни труб, ни барабана: Тот, поперек пажа разлегшись, спит, А этот нагишом в шатре храпит. И вот святитель, в справедливом гневе, Такую речь нашептывает Деве: «Наверное о Нисе знаешь ты{79}{80}, Который под покровом темноты, Сопутствуем любезным Эвриалом, Уснувших рутулов разил кинжалом. И так же Рес могучий был сражен{81}{82} В ту ночь, когда отважный сын Тидея, Союзником имея Одиссея, Преобразил, не повстречав препон, Спокойный сон троянцев в вечный сон. Ты можешь ту же одержать победу. Пойдешь ли ты по доблестному следу?» Иоанна молвит: «Прекратим беседу; Нет, низкой доблесть стала бы моя, Когда бы спящих убивала я». Так говоря, Иоанна видит рядом Шатер, залитый лунным серебром, Рисующийся восхищенным взглядам По меньшей мере княжеским шатром. У входа — бочки с дорогим вином. Она хватает кубок превеликий, Закусывает жирным пирогом И чокается с дивным стариком За здравие французского владыки. Хозяином шатра был Жан Шандос{83}{84}. Великий воин спал, задравши нос. Иоанна похищает меч у бритта И пышные штаны из аксамита. Так некогда Давид, к его беде Царя Саула встретив{85} кое-где, Не захотел закрыть царевы вежды, А только вырезал кусок одежды И показал вельможам тех сторон, Что мог бы сделать, но не сделал он. Шандосов паж спал тут же безмятежно, Четырнадцатилетний, милый, нежный. Он спал ничком. Была обнажена, Как у Амура, вся его спина. Невдалеке чернильница стояла, Служившая ему, когда, бывало, Поужинав, он песни сочинял Красавицам, чей взор его пленял. И вот рисует Дева, шутки ради, Три лилии на юношеском заде, Для Галлии обет счастливых дней И памятник величья королей. Глаза святого с гордостью следили На заде бритта рост французских лилий, Кто поутру обескуражен был? Шандос, проспавший пиршественный пыл, Когда увидел на паже красивом Три лилии. Во гневе справедливом Он о предательстве заводит речь; Он ищет возле изголовья меч. Напрасно ищет; нет его в помине, Как нет штанов; он, точно лев в пустыне, Кричит, бранится, думая со сна, Что в лагерь забирался Сатана. Стремительно, как солнца луч блестящий, Осел крылатый, Деву уносящий, Всю землю мог бы облететь вокруг! Святой с Иоанной прибыл ко двору. Денису вмиг подсказывает опыт, Что здесь царят насмешки, свист и шепот. Он, вспоминая дерзновенный тон, В котором с ним беседовал Ришмон, Не хочет вновь отдать на посмеянье Епископа святое одеянье. Для этого прибегнул он к игре: Он скромный вид и наименованье Берет Рожера{86}{87}{88}, твердого в добре, Усердного и в битве, и во храме, Советника с правдивыми речами, Любимого, однако, при дворе. «Клянусь Христом, — промолвил он владыке, — Возможно ль, чтоб дремал король великий В цепях Амура средь таких трущоб! Как! Ваши руки чужды состязанью! Ваш лоб, ваш гордый королевский лоб Венчан лишь миртом, розами да тканью! Вы грозных оставляете врагов На троне ваших царственных отцов! В сражении умрите смертью славной Иль сатанинских изничтожьте слуг; Достойны вы носить венец державный, И лавры ожидают ваших рук. Господь, чей дух во мне отвагу будит, Господь, который помогать вам будет, Через меня вещает о судьбе. Решитесь верить и помочь себе: Последуйте за этой девой смелой; То Франции спасительница целой; Ее рукой вернет нам царь царей Законы наши, наших королей. Иоанна с вашей помощью изгонит Врага, который страшен и жесток; Мужчиной станьте; и когда сам рок Вас юной деве подчиниться клонит, По крайней мере, избегайте той, Что в сердце гасит пламень боевой, А, веруя в чудесное спасенье, Спешите вслед за приносящей мщенье». У короля французов в сердце есть Не только томный пламень, но и честь. Суровый голос старого витии Его исторг из сонной летаргии. Так в некий день, средь тверди голубой, Архангел, потрясая мир трубой, Прах оживляя, гробы разверзая, Пробудит смертных к ликованью рая. Карл пробужден, он яростью кипит, В ответ на речь он восклицает: «К бою!» Он увлечен теперь одной войною, Хватает пику и хватает щит. Но тотчас же за первой вспышкой гнева, Которым чувства в нем опьянены, Он хочет знать: таинственная дева — Посланница творца иль Сатаны, И это столь нежданное явленье — Святое чудо или наважденье. К надменной деве обратив вопрос, Он величавым тоном произнес Слова, какими всякая смутится: «Иоанна, слушайте, а вы — девица?» Она в ответ: «Велите, я снесу, Чтоб доктора с очками на носу, Аптекарь, бабка и писец случайный Те женские исследовали тайны; II кто еще знаток по тем делам, Пусть подойдет и пусть посмотрит там». Карл в этой речи, мудрой и смиренной, Ответ увидел боговдохновенный. Он молвил: «Чтоб поверил я вполне, Скорей, не думая, скажите мне, Чем в эту ночь я с милой занимался». Но коротко: «Ничем!» — ответ раздался. Склонился Карл пред божиим перстом И крикнул: «Чудо!» — осенясь крестом. Выходят, меховым кичась убором, Ученые, в руке их Гиппократ{89}, Колпак на голове; они глядят На девушку, открытую их взорам{90} Совсем нагой, и господин декан, Вотще искав какой-нибудь изъян, Вручает миловидной внучке Евы Пергаментный патент на званье девы. Священной гордости горя огнем, Она склоняется пред королем И, внемля свиты радостному кличу, Развертывает славную добычу — Штаны Шандоса, скрытые дотоль. «Позволь мне, — говорит, — о мой король, Вернуть под власть твою, твои законы, Ту Францию, где ныне скорбь и стоны. Клянусь, я превзойду твои мечты: Клянусь тебе моей чудесной силой, Моим мечом и девственностью милой, Что будешь в Реймсе коронован ты{91}; Ты прилетишь грозою к англичанам, Которые стоят под Орлеаном. Иди, взнесись до дивной высоты; Иди, простившись с тихою рекою, И мне дозволь повсюду быть с тобою». Придворные теснятся перед ней, С нее и с неба не сводя очей, Ей хлопают, дивятся, ободряют, Восторгом бурным зову отвечают. И каждый, поднимающий копье, Оруженосцем хочет быть ее. Жизнь за нее отдать согласен каждый, И в то же время каждый одержим Мечтой о славе и палящей жаждой Отнять тот клад, что ею так храним. Все в путь готовы, всякий суетится: Один спешит с любовницей проститься, Тот, отощав, к ростовщику идет, Тот, не платя, свой разрывает счет. В руке Дениса орифламма {92}{93} реет. При этом виде в сердце Карла зреет Высокая надежда. Грозный стяг, Перед которым убегает враг, Иоанна и осел, парящий в небе, Ему бессмертный обещают жребий. Денис хотел, бросая этот кров, Лишить любовников прощальных слов, Чтоб слез они зазря не проливали И времени напрасно не теряли. Агнеса, не подозревая зла, Хоть был и поздний час, еще спала. Счастливый сон, пленительный и лгущий, Ей рисовал восторг, ее бегущий. Ей снилось, что с любовником своим Она любви вкушает наслажденье; Ты обмануло, сладкое виденье: Ее любовник уведен святым. Так иногда в Париже врач бездушный, На жирные блюда кладя запрет, Больному не дает доесть обед, К его прожорливости равнодушный. Добряк Денис, насилу оторвав Монарха от пленительных забав, Бежит скорей к своей овечке милой, К Иоанне, девственнице с львиной силой. Теперь он снова, как и был, святой: Тон набожный, смиренные повадки, Жезл пастыря и перстень золотой, Епископская митра, крест, перчатки. «Служи, — сказал он, — храбро королю И знай, что я тебя навек люблю. Но с лаврами отваги горделивой Сплетай цветы невинности стыдливой. Твои стопы направлю в Орлеан. Когда Тальбот, начальник англичан, Возрадуется сердцем злого зверя, В свое свиданье с президентшей веря, Твоя рука швырнет его во тьму. Но, грех казня, не подражай ему. Отважна будь, но с набожною думой. Теперь прощай; о девственности думай». Она дала торжественный обет, И пастырь возвратился в горний свет.Конец песни второй
Песнь третья
Содержание
Описание дворца Глупости. Сражение под Орлеаном. Агнеса, облачившись в доспехи Иоанны, отправляется к своему возлюбленному, она попадает в плен к англичанам, и стыдливость ее весьма страдает.
Еще не все — быть смелым и спокойным, Встречая смерть в пороховом дыму, И хладнокровно в грохоте нестройном Командовать отряду своему; Везде героев мы нашли бы тьму, И каждый был бы воином достойным. Кто скажет мне, что Франции сыны Искусней и бестрепетней убийцы, Чем дети гордой английской страны? Иль что германцев выше иберийцы{94}? Все били, все бывали сражены. Конде великий был разбит Тюренном{95}{96}, Виллар бежал с позором несомненным{97}{98}, И, Станислава доблестный оплот, Солдат венчанный, шведский Дон-Кихот{99}, Средь смельчаков смельчак необычайный, Не уступил ли северный король Сопернику, презренному дотоль, Победный лавр во глубине Украйны?{100} По-моему, полезнее вождям Уменье очаровывать невежду: Облечь себя в священную одежду И ею ослеплять глаза врагам. Так римляне — мир падал к их ногам — Одолевали при посредстве чуда. В руках у них была пророчеств груда. Юпитер, Марс, Поллукс{101}, весь сонм богов Водили их орла громить врагов. Вакх, в Азию низринувшийся тучей, Надменный Александр{102}, Геракл могучий, Чтоб над врагами властвовать верней, За Зевсовых сходили сыновей: И перед ними чередой смиренной Клонились в прах властители вселенной, На них взирая робко издали. Дениса те примеры увлекли, II он хотел, чтобы его Иоанне Те ж почести воздали англичане, Чтобы Бедфорд и влюбчивый Тальбот, Шандос и весь его безбожный род Поверили, что грозная девица — Карающая божия десница. Чтоб этот смелый план его прошел, Бенедиктинца он себе нашел, Но не из тех, чьи книжные громады Всей Франции обогащают склады, А мелкого, кому и книг не надо, Когда латинский требник он прочел. И брат Лурди{103}, слуга смиренный богу, Снаряжен был в далекую дорогу. На вечно мрачной стороне луны Есть рай, где дураки расселены{104}{105}. Там, на откосах пропасти огромной, Где только Хаос, только Ночь и Ад С начала мироздания царят И силою своей кичатся темной, Находится пещерная страна, Откуда благость солнца не видна, А виден, вместо солнца, свет ужасный, Холодный, лживый, трепетный, неясный, Болотные огни со всех сторон, И чертовщиной воздух населен. Царица Глупость властвует страною: Ребенок старый с бородой седою, Кося и, как Данше, разинув рот{106}{107}, Гремушкой вместо скипетра трясет. Невежество — отец ее законный, А чада, что стоят под сенью тронной, — Упрямство, Гордость, Леность и затем Наивность, доверяющая всем. Ей каждый служит, каждый ей дивится, И мнит она, что истинно царица, Хотя на деле Глупость — только тень Пустышка, погрузившаяся в лень: Ведь Плутня состоит ее министром, Все делается этим другом быстрым, А Глупость слушается целый день. Он ко двору ее приблизил скопы Тех, что умеют делать гороскопы, Чистосердечно лгущих каждый час, И простаков, и жуликов зараз. Алхимиков там повстречаешь тоже, Что ищут золота, а без штанов, И розенкрейцеров{108}, и всех глупцов, Для богословья лезущих из кожи. Посланником в сию страну чудес Лурди был выбран из своих собратий. Когда закрыла ночь чело небес Завесою таинственных заклятий, В рай дураков{109}{110} на легких крыльях сна Его душа была вознесена. Он удивляться не любил некстати И, будучи уже при том дворе, Все думал, что еще в монастыре. Сперва он погрузился в созерцанье Картин, украсивших святое зданье. Какодемон, воздвигший этот храм{111}, Царапал для забавы по стенам Наброски, представляющие верно Все наши сумасбродства, планов тьму, Задуманных и выполненных скверно, Хоть «Вестник»{112} хвалит их не по уму. В необычайнейшем из всех музеев, Среди толпы плутов и ротозеев Шотландец Лоу прежде всех поспел; Король французов новый, он надел Из золотой бумаги диадему И написал на ней свою систему;{113}{114} И не найдете вы руки щедрей В раздаче людям мыльных пузырей: Монах, судья и пьяница отпетый Из алчности несут ему монеты. Какое зрелище! Одна из пар — С достаточным Молиной Эскобар;{115}{116} Хитрец Дусен, приспешник иезуита, Стоит с чудесной буллою раскрытой, Ее творец{117}{118} склоняется над ним. Над буллой той смеялся даже Рим, Но все ж она источник ядовитый Всех наших распрей, наших крикунов И, что еще ужаснее, томов, Отравой полных ереси негодной, Отравой и снотворной и бесплодной. Беллерофонты новые{119} легки, Глаза закрывши, на химерах рыщут, Своих противников повсюду ищут, И, вместо бранных труб, у них свистки; Неистово, кого, не видя сами, Они разят с размаху пузырями. О, сколько, господи, томов больших, Постановлений, объяснений их, Которые ждут новых объяснений! О летописец эллинских сражений, Воспевший также в мудрости своей Сражения лягушек и мышей{120}, Из гроба встань, иди прославить войны, Рожденные той буллой беспокойной! Вот янсенист, судьбы покорный сын, Потерянный для вечной благодати; На знамени — блаженный Августин{121}; Он «за немногих» вышел против рати{122}, И сотня согнутых спешит врагов На спинах сотни маленьких попов. Но полно, полно! Распри, прекратитесь! Дорогу, простофили! Расступитесь! В Медардовом приходе видит взор Могилы бедный и простой забор, Но дух святой свои являет силы Всей Франции из мрака той могилы;{123} За исцеленьем к ней спешит слепой И ощупью идет к себе домой; Приводят к ней несчастного хромого, Он прыгает и вдруг хромает снова; Глухой стоит, не слыша ничего; А простаки кричат про торжество, Про чудо явленное, и ликуют, И доброго Париса гроб целуют{124}{125}{126}, А брат Лурди глядит во все глаза На их толпу и славит небеса, Хохочет глупо, руки поднимая, Дивится, ничего не понимая. А вон и тот святейший трибунал, Где властвуют монах и кардинал, Дружина инквизиторов ученых, Ханжами-сыщиками окруженных. Сидят святые эти доктора В одеждах из совиного пера; Ослиные на голове их уши, И, чтобы взвешивать, как должно, души, Добро и зло, весы у них в руках, И чашки глубоки на тех весах. В одной — богатства, собранные ими, Кровь кающихся чанами большими, А буллы, грамоты и ектеньи Ползут через края второй бадьи. Ученейшая эта ассамблея На бедного взирает Галилея{127}, Который молит, на колени став: Он осужден за то лишь, что был прав. Что за огонь над городом пылает? То на костре священник умирает. Двенадцать шельм справляют торжество: Юрбен Грандье горит за колдовство{128}{129}. И ты, прекрасная Элеонора{130}{131}, Парламент надругался над тобой, Продажная, безграмотная свора Тебя в огонь швырнула золотой, Решив, что ты в союзе с Сатаной. Ах, Глупость, Франции сестра родная! Должны лишь в ад и папу верить мы И повторять, не думая, псалмы! А ты, указ, плод отческой заботы, За Аристотеля и против рвоты!{132}{133} И вы, Жирар, мой милый иезуит{134}, Пускай и вас перо мое почтит. Я вижу вас, девичий исповедник, Святоша нежный, страстный проповедник! Что скажете про набожную страсть Красавицы, попавшей в вашу власть? Я уважаю ваше приключенье; Глубоко человечен ваш рассказ; В природе нет такого преступленья, II столькие грешили больше вас! Но, друг мой, удивлен я без предела, Что Сатана вмешался в ваше дело. Никто из тех, кем вы очернены, Монах и поп, писец и обвинитель, Судья, свидетель, враг и покровитель, Ручаюсь головой, не колдуны. Лурди взирает, как парламент разом Посланья двадцати прелатов жжет И уничтожить весь Лойолин род Повелевает именным указом; А после — сам парламент виноват: Кенель в унынье, а Лойола рад{135}. Париж скорбит о строгости столь редкой И утешает душу опереткой. О Глупость, о беременная мать, Во все века умела ты рождать Гораздо больше смертных, чем Кибела{136} Бессмертных некогда родить умела; И смотришь ты довольно, как их рать В моей отчизне густо закишела; Туп переводчик, толкователь туп, Глуп автор, но читатель столь же глуп. К тебе взываю, Глупость, к силе вечной: Открой мне высших замыслов тайник, Скажи, кто всех безмозглей в бесконечной Толпе отцов тупых и плоских книг, Кто чаще всех ревет с ослами вкупе И жаждет истолочь водицу в ступе? Ага, я знаю, этим знаменит Отец Бертье, почтенный иезуит{137}. Пока Денис, о Франции радея, Подготовлял с той стороны луны Во вред врагам невинные затеи, Иные сцены были здесь видны, В подлунной, где народ еще глупее. Король уже несется в Орлеан, Его знамена треплет ураган, И, рядом с королем скача, Иоанна Твердит ему о Реймсе неустанно. Вы видите ль оруженосцев ряд, Цвет рыцарства, чарующего взгляд? Поднявши копья, войско рвется к бою Вослед за амазонкою святою. Так точно пол мужской, любя добро, Другому полу служит в Фонтевро{138}{139}{140}, Где в женских ручках даже скипетр самый И где мужчин благословляют дамы. Прекрасная Агнеса в этот миг К ушедшему протягивала руки, Не в силах победить избытка муки, И смертный холод в сердце ей проник; Но друг Бонно, всегда во всем искусный, Вернул ее к действительности грустной. Она открыла светлые глаза, И за слезою потекла слеза. Потом, склонясь к Бонно, она шепнула: «Я понимаю все: я предана. Но, ах, на что судьба его толкнула? Такая ль клятва мне была дана, Когда меня он обольщал речами? И неужели я должна ночами Без милого ложиться на кровать В тот самый миг, когда Иоанна эта, Не бриттов, а меня лишая света, Старается меня оклеветать? Как ненавижу тварей я подобных, Солдат под юбкой, дев мужеподобных{141}{142}, Которые, приняв мужскую стать, Утратив то, чем женщины пленяют, И притязая тут и там блистать, Ни тот, ни этот пол не украшают!» Сказав, она краснеет и дрожит От ярости, и сердце в ней болит. Ревнивым пламенем сверкают взоры; Но тут Амур, на все затеи скорый, Внезапно ей внушает хитрый план. С Бонно она стремится в Орлеан, И с ней Алиса, в качестве служанки. Они достигли к вечеру стоянки, Где, скачкой утомленная чуть-чуть, Иоанна захотела отдохнуть. Агнеса ждет, чтоб ночь смежила вежды Всем в доме, и меж тем разузнает, Где спит Иоанна, где ее одежды, Потом во тьме тихонечко идет, Берет штаны Шандоса, надевает Их на себя, тесьмою закрепляет И панцирь амазонки похищает. Сталь твердая, для боя создана, Терзает женственные рамена, И без Бонно упала бы она. Тогда Агнеса шепотом взывает: «Амур, моих желаний господин, Дай мощь твою моей руке дрожащей, Дай не упасть мне под броней блестящей, Чтоб этим тронулся мой властелин. Он хочет деву, годную для боя, — Молю, Агнесу преврати в героя! Я буду с ним; пусть он позволит мне Бок о бок с ним сражаться на войне; И в час, когда помчатся стрелы тучей, Ему грозя кончиной неминучей, Пусть поразят они мои красы, Пусть смерть моя продлит его часы; Пусть он живет счастливым, пусть умру я, В последний миг любимого целуя!» Пока она твердила про свое, Бонно к седлу ей прикрепил копье… А Карл был лишь в трех милях от нее! Агнеса захотела той же ночью Возлюбленного увидать воочью. Стопой неверною, кляня броню, С трудом бедняжка тащится к коню, В седло садится с помраченным взглядом И с расцарапанным штанами задом. Толстяк Бонно на боевом коне Похрапывает тут же в стороне. Амур, боясь всего для девы милой, Посматривает на отъезд уныло. Едва Агнеса путь свой начала, Она услышала из-за угла, Как мчатся кони, как бряцают латы. Шум ближе, ближе; перед ней солдаты, Все в красном; в довершение невзгод То был как раз Шандосов конный взвод. «Кто тут?» — раздалось у опушки леса. В ответ на крик наивная Агнеса Откликнулась, решив, что там король: «Любовь и Франция — вот мой пароль!» При этих двух словах, — а божья сила Узлом крепчайшим их соединила, — Схватили и Агнесу и Бонно, И было их отправить решено К тому Шандосу, что, ужасен с виду, Отмстить поклялся за свою обиду И наказать врагов родной страны, Укравших меч героя и штаны.«Орлеанская девственница»
В тот миг, когда уже освободила Рука дремоты сонные глаза, И зазвучали пташек голоса, И в человеке вновь проснулась сила, Когда желанья, вестники любви, Кипят бурливо в молодой крови, — В тот миг Шандос увидел пред собою Агнесу, что затмила красотою Рассветный луч, горящий в каплях рос. Скажи мне, что ты чувствовал, Шандос, Увидев королеву нимф приветных Перед тобой в твоих штанах заветных? Шандос, любовным пламенем объят, К ней устремляет похотливый взгляд. Дрожит Агнеса, слушая, как воин Ворчит: «Теперь я за штаны спокоен!» Сперва ее он заставляет сесть. «Снимите, — говорит он в нетерпенье, — Тяжелое, чужое снаряженье». И в то же время, предвкушая месть, Ее раскутывает, раздевает. Агнеса, защищаясь, умоляет, С мечтой о Карле, но в чужих руках. Прелестный стыд пылает на щеках. Толстяк Бонно, как утверждает говор, Шандосу послужить пошел как повар; Никто, как он, не мог украсить стол: Он белые колбасы изобрел И Францию прославил перед миром Жиго на углях и угревым сыром. «Сеньор Шандос, что делаете вы? — Агнеса стонет жалобно. — Увы!» «Клянусь, — в ответ он (все клянутся бритты){143}, — Меня обидел вор, в ночи сокрытый. Штаны — мои; и я, ей-богу, рад Свое добро потребовать назад». Так молвить и сорвать с нее одежды — Был миг один; Агнеса, без надежды, Припав в слезах к могучему плечу, Стонала только: «Нет, я не хочу». Но тут раздался шум невероятный, Повсюду слышен крик: «Тревога, в бой!» Труба, предвестник ночи гробовой, Трубит атаку, звук бойцам приятный. Встав поутру, Иоанна не нашла Ни панциря{144}, ни ратного седла, Ни шлема с воткнутым пером орлиным, Ни гульфика, потребного мужчинам;{145}{146} Не думая, она хватает вдруг Вооруженье одного из слуг, Верхом садится на осла, взывая: «Я за тебя отмщу, страна родная!» Сто рыцарей за нею вслед спешат В сопровожденье шестисот солдат. А брат Лурди, заслышав шум тревоги, Оставил вечной Глупости чертоги И опустился между англичан, Согнув под ношей свой дородный стан: Он на себя различный вздор навьючил, Труды монахов и безмозглых чучел. Так нагружен, он прибыл и тотчас Широкий плащ старательно потряс Над бриттами, и лагерь их погряз В святом невежестве, в дремоте жирной, Давно привычных Франции обширной. Так ночью сумрачное божество С чернеющего трона своего Бросает вниз на нас мечты и маки И усыпляет нас в неверном мраке.Конец песни третьей
Песнь четвертая
Содержание
Иоанна и Дюнуа сражаются с англичанами. Что с ними происходит в замке Гермафродита.
Будь я царем, не знал бы я коварства. Я мирно бы народом управлял И каждый день мне вверенное царство Благодеяньем новым одарял. Будь государственным я человеком, Порадовал бы я и там и тут Талантливых людей пристойным чеком; Ведь, правда, стоит этого их труд. Будь я епископ несколько минут, Я постарался б вслед за молинистом Договориться с грубым янсенистом. Но если б я прелестницу любил, Я с нею никогда б не расставался, Чтоб праздником день каждый начинался, Чтоб вечно новым этот праздник был, Поддерживая в ней любовный ныл. Любовники, как горько расставанье! В нем множество опасностей для вас, И можете вы заслужить названье Рогатого на дню по десять раз. Едва Шандос последние завесы Сорвал с дрожащих прелестей Агнесы, Как вдруг Иоанна из рядов в ряды Несется воплощением беды. Непобедимое копье Деборы Пронзило Дильдо грозного, который Уворовал сокровища Клерво И осквернил монахинь Фонтевро. Потом второй удар, такой же ловкий, Сбил Фонкинара, годного к веревке; Хоть он и был на севере рожден, В Гибернии{147}, где снег со всех сторон, Но, словно отпрыск южного народа, Во Франции повесничал три года. Затем погиб и рыцарь Галифакс, И брат его двоюродный Боркас, И Мидарблу, родителя проклявший, И Бартонэй, жену у брата взявший. И каждый, кто с ней рядом мчался в бой, — И рыцарь знатный, и солдат простой, Копьем с десяток англичан пронзает. Смерть мчится сзади, страх опережает: Могло казаться в тот ужасный миг, Что грозный бог сражается за них. В разгаре брани, в пекле битвы шумной Наш брат Лурди взывает, как безумный: «Дрожите, бритты! Девушка она, Святым Денисом вооружена. Да, девушка, и чудеса свершает, Ее рука препятствия не знает; Пади же ниц, грязь английская вся, Ее благословения прося!» Неистовый Тальбот, не зная страха, Приказывает захватить монаха; Его связали, но, мученьям рад, Не устает вопить смиренный брат: «Я мученик; британец гордый, ведай, Что девственность останется с победой!» Наивны люди; в слабых их сердцах Все оставляет след, как в мягкой глине. Всего же легче, кажется, поныне, Ошеломить нас и внушить нам страх! Добряк Лурди своим ужасным криком Гораздо больше напугал солдат, Чем амазонка в наступленье диком И все герои, что за ней летят. Привычка верить чуду без сомнений, Дух заблуждений, головокружений, Видений без начала и конца, Совсем смутил британские сердца. Британцы знали боевые громы, Но были с философией они В те времена не очень-то знакомы, — Встречаешь умных только в наши дни. Шандос, уверенный в удачном бое, Кричит своим: «Британские герои, За мной, направо!» Он сказал, но тут Все повернули влево и бегут. Так некогда в равнине плодородной, Там, где Евфрат струится многоводный, Когда решил людской надменный род Воздвигнуть столп до божиих высот{148}{149}{150}{151}{152}{153}, Бог, этого соседства не желая, В сто языков язык их превратил. Кому была нужна вода простая, Тому сосед известку подносил, И весь народ, осмеян богом сил, Рассеялся, постройку оставляя. Тотчас же осажденный Орлеан Узнал про пораженье англичан: Летит молва на легких крыльях птицы, Повсюду славя доблести девицы. Вы знаете великолепный пыл Французов; он всегда таким же был. Они идут на битву, как на праздник. Бастардов украшенье, Дюнуа{154}, — За Марса приняла б его молва, — За ним Сентрайль, Ла Гир, Ришмон-проказник И Ла Тримуйль спешат из стен в луга И, будто бы преследуя врага, Кричат: «Кому здесь жизнь не дорога?» Но враг их поджидал: за воротами Тальбот, весьма благоразумный вождь, Учтя их возрастающую мощь, Расположился с десятью полками. Он, руки к небу страстно вознося, Амуром и Георгием клялся, Что скоро въедет в город осажденный. Жила мечта в нем, нет, пожалуй, две: Давно пылала страстью потаенной К нему супруга толстого Луве. И гордый воин, смелый и упрямый, Мечтал владеть и городом и дамой. Лишь выступили рыцари, и вот Им на голову падает Тальбот; Они смешались, и борьба идет. Равнины орлеанские, вы были Свидетелями тягостных усилий, Кровь человечья веществом своим Вас унавозила на двести зим. Нет, никогда ни Мальплакэ{155}, ни Зама, Ни сам Фарсал, классическая яма{156}{157}{158}{159}{160}{161}{162}{163}{164}, Все знаменитые места боев Не видели так много мертвецов. И друг о друга копья ударялись И, словно щепки, пополам ломались; Копыта вздыбившихся лошадей Давили обезумевших людей; Снопы огней, рождаясь под мечами, С полуденными спорили лучами; Отрубленные, посреди травы, Катались руки, ноги и главы. С высот небесных ангелы сраженья, Надменный Михаил и тот, другой, Что персов усмирил своей рукой{165}{166}, Склонились вниз, полны благоволенья, И наблюдали этот страшный бой. Архангел в руку взял весы закона{167}{168}, Какими взвешивают в небесах; И вот уже лежат на тех весах Судьба и Франции и Альбиона. Герои наши, взвешенные тут, Не вытянули надобного счета, Их перевесила судьба Тальбота; Так порешил небесный тайный суд. Ришмон, усердно несший ратный труд, Пронзен стрелой от задницы до ляжки; Старик Сентрайль был сильно ранен в пах Куда — Ла Гир, не назову я, ах! Но как мне жаль любовницы-бедняжки! А Ла Тримуйль был загнан в ров с водой И вышел с переломленной рукой. Пришлось вернуться воинам увечным, И лечь в постель понадобилось им. То было карой, посланной предвечным За дерзкую насмешку над святым. Бог и казнит и милует, как хочет: Никто, Кенель{169}, не вступит в спор с тобой И Дюнуа не поражен судьбой, Которую творец безумцам прочит. Тогда как те, оставив страшный бой, В носилках были снесены домой, Свой рок и Девственницу проклиная, Мой Дюнуа, как молния летая, Нигде не ранен, рубит англичан, Сбивает их ряды, как ураган, Дорогу пролагает и нежданно Выходит к месту, где разит Иоанна. Так два потока, ужас пастухов, С вершины гор стремительно слетая, Смешавшеюся яростью валов Сметают прочь богатства урожая: Еще грозней Иоанна с Дюнуа, Соединенные для торжества. Упоены, они так быстро мчались, Так дико с англичанами сражались, Что скоро с войском остальным расстались. Спустилась ночь; Иоанна и герой, Не видя никого перед собой, «За Францию!» — последний раз вскричали И на опушке леса тихо стали. При лунном свете ищут путь назад, Но только даром по лесу кружат; Они клянут обманчивую славу, Измучены и страшно голодны; Не ужинав, ложиться спать в канаву — Дурная привилегия войны. Так судно без руля, в ночи беззвездной, По воле ветра носится над бездной. Пред ними пробежав, какой-то пес Надежду на спасенье им принес; Он приближается, он громко лает, Кивает мордой и хвостом виляет, То побежит вперед, то повернет, Как будто их по-своему зовет: «Идите, господа, вослед за мною, Приятнейший я вам ночлег открою». Герои наши поняли тотчас, Что хочет он, по выраженью глаз; С надеждою пустились вновь в дорогу, О благе Карла помолившись богу, И состязались в лести меж собой, Хваля друг друга за недавний бой. Порою рыцарь сладострастным взглядом Смотрел на девушку, скача с ней рядом; Но ведал он, что от ее цветка Зависит честь французского народа, Что Франция погибла на века, Когда он будет сорван раньше года. Он усмирил желания свои: Он Францию предпочитал любви. Но все ж, когда, попав в ухаб дороги, Святой осел неверно ставил ноги, Воспламенен, но сдержан, Дюнуа Одной рукой поддерживал подругу, А та в ответ, по воле естества, Плечом склонялась на его кольчугу, И головы касалась голова. И вот, пока герои наши мчались, Нередко губы их соприкасались — Конечно, чтобы говорить вблизи Об Англии с их родиной в связи. О Кенигсмарк{170}{171}, в истории прочли мы, Что шведский Карл, воитель нелюдимый, Монархов победитель и любви, К двору не принял прелести твои: Боялся Карл плененным быть тобою; Он мудр был, отступив перед бедою. Но быть с Иоанною и помнить честь, За стол голодным сесть и все ж не есть, — Такой победе мы венок уделим. Был рыцарь схож с Робертом д’Арбрисселем{172}{173}, Святым, который некогда любил, Чтоб с ним в постели две монашки спали, Ласкал округлость двух мясистых талий, Четыре груди — и не согрешил. На утренней заре предстал их взглядам Дворец великолепный с пышным садом, Сияя беломраморной стеной, Дорической и длинной колоннадой, Балконами из яшмы дорогой, Из дивного фарфора балюстрадой. Герои наши, смущены, стоят, Им кажется, что это райский сад. Собака лает, и тотчас же трубы Играют марш, и сорок гайдуков, Все в золоте, на сапогах раструбы, Выходят, принимая пришлецов. Двух молодых пажей услыша зов, Они за ними в помещенье входят; Там в золотые бани их уводят Служанки; и, омытые, потом Едою подкрепившись и вином, Они легли в расшитые постели И до ночи героями храпели. Но надо вам узнать, что господин Такого замка и таких долин Был сыном одного из тех высоких Небесных гениев, что иногда Свое величье духов звездооких Средь смертных забывают без труда. Сошелся этот гений исполинский С монахиней одной бенедиктинской, И родился у них Гермафродит, Великий некромант, волшебник лысый, Сын гения и матери Алисы. Вот год пятнадцатый ему стучит, И дух, покинув горнюю обитель, Ему речет: «Дитя, я твой родитель! Я волю прихожу узнать твою; Проси, что хочешь; все тебе даю». Гермафродит, рожденный похотливым — Он в этом мать с отцом не посрамил, — Сказал: «Я создан, чтобы быть счастливым; В себе я чую всех желаний пыл — Так сделай же, чтоб я их утолил! Мне надо — страсть моя тому причиной — И женщиной в любви быть, и мужчиной, Мужчиной быть, когда пылает день, И женщиной — когда ложится тень». Инкуб{174} сказал: «Исполнено желанье!» И с той поры бесстыдное созданье Двойное получает ликованье. Так собеседник божества Платон{175}{176}, О людях говоря, был убежден, Что первыми из первозданной глины Чудесные явились андрогины; Как существа двуполые, они Питались наслаждением одни. Гермафродит был высшее созданье. Ведь к самому себе питать желанье — Совсем не самый совершенный рок; Блаженней, кто внушить желанье мог Вкусить вдвоем двойное трепетанье. Ему его придворных хор поет, Что он то Афродита, то Эрот: Ему повсюду ищут дев прекрасных, И юношей, и вдов, на все согласных. Но попросить Гермафродит забыл О даре, для него необходимом, Без коего восторг не полным был, О даре… ну, каком? — да быть любимым. И сделал бог, карая колдуна, Его уродливей, чем сатана. Его глаза не ведали победы, Напрасно он устраивал беседы, Балы, концерты, всюду лил духи И даже иногда писал стихи. Но днем, в руках красавицу сжимая, И по ночам, покорно отдавая Возлюбленному женственный свой пыл, Он чувствовал, что он обманут был. Он получал в ответ на все объятья Презрение, обиды и проклятья: Ему являл воочью божий суд, Что власть и мощь блаженства не дают. «Как, — говорил он, — каждая служанка Покоится в возлюбленных руках, У каждого солдата — поселянка, У каждой послушницы есть монах. Лишь я, богач, владыка, гений — ах! — Лишь я лишен в круговороте этом Блаженства, ведомого целым светом!» Он четырьмя стихиями клялся Карать и дев, и юношей коварных, Которым полюбить его нельзя, Чтоб стала окровавленной стезя Сердец жестоких и неблагодарных. По-царски относился он к гостям, И бронзовая Савская царица{177}, Фалестра, македонская девица, Любезные двум царственным сердцам, Таких даров, какие ожидали К нему въезжавших рыцарей и дам, От данников своих не получали. Но если гость в неведенье своем Отказывал ему в благоволенье Или оказывал сопротивленье, Бывал посажен на кол он живьем. Спустился вечер, — господин был дамой, Четыре вестника подходят прямо К красавцу Дюнуа сказать, что он От имени хозяйки приглашен На антресоли в час, когда Иоанна Пойдет за стол под музыку органа. И Дюнуа, весь надушен, вошел В ту комнату, где ждал накрытый стол, Такой же, как у дщери Птолемея{178}, Что, вечным вожделеньем пламенея, Великих римлян милыми звала, И возлежали у ее стола Могучий Цезарь, пьяница Антоний; Такой же, полный яств и благовоний, Как тот, за коим пил со мной монах, Король обжор в пяти монастырях; Такой же, за каким в чертогах вечных, — Когда не лгали нам Орфей, Назон, Гомер, почтенный Гесиод, Платон, — Отец богов, пример мужей беспечных, Вдали Юноны ужинал тайком С Европой иль Семелою вдвоем{179}. На дивный стол принесены корзины Руками благородной Евфрозины И Талии с Аглаей{180} молодой, — Так в небесах трех граций называют; Педанты наши их, увы, не знают; Там вместе с Гебою нектар златой Льет сын царя, поставившего Трою{181}{182}, Который, вознесенный над землей, Утехою был Зевсу потайною. Вот за таким столом Гермафродит С бастардом поздно вечером сидит. Блистает госпожа своим нарядом, На ней алмазы — удивленье взглядам; Вкруг желтой шеи и косматых рук Обвязаны рубины и жемчуг; Еще страшней она была такою. Она бросается на грудь герою, И Дюнуа впервые побледнел. Но даже средь смелейших был он смел И попытался нежностью взаимной Хозяйке отплатить гостеприимной. На безобразие ее смотря, Он думал: «Совершу же подвиг я!» Но не свершил: чудеснейшая доблесть Ей недоступную имеет область. Гермафродит почувствовал печаль, Но все ж ему бастарда стало жаль, И был в душе польщен он, без сомненья, Усильем, явственным для зорких глаз. Им были почтены на этот раз Отвага и похвальные стремленья. «На завтра, — молвил, — можно отложить Реванш. Но примените все уменье, Чтоб страсть преодолела уваженье, И приготовьтесь мужественней быть». Прекрасная предшественница света Уж на востоке в золото одета: А в этот самый миг меняет вид, Мужчиной делаясь, Гермафродит. Тогда, от нового желанья пьяный, Отыскивает он постель Иоанны, Отдергивает занавес и, грудь Рукой бесстыдной силясь ущипнуть, К ней поцелуем приникая страстно, На стыд небесный посягает властно. Чем он страстней, тем более урод. Иоанна, гневом праведным вскипая, Могучую затрещину дает По гнусной образине негодяя. Так видел я не раз в моих полях: На мураве зеленой кобылица, По масти — настоящая тигрица, На мускулистых и тугих ногах, Сбивает неожиданным ляганьем Осла, который был настолько глуп, Что, полный грубым и тупым желаньем, Уже взобрался на любимый круп. Иоанна поспешила, вне сомненья: Просить хозяин вправе уваженья. Стыд под защиту мудрецы берут, Не потерплю я на него гонений; Но если принц, особенно же гений, Становится пред вами на колени, Тогда ему пощечин не дают. И сын Алисы, хоть урод и плут, Досель таких не ведал приключений И никогда избитым не был тут. Вот он кричит; и мигом разный люд, Пажи, прислуга, стражи, все бегут: Один из них клянется, что девица На Дюнуа не стала бы сердиться. О клевета, ужасный яд дворцов, Доносы, ложь и взгляд косой и узкий, И над любовью властен тот же ков, Которым преисполнен двор французский! Гермафродит наш вдвое оскорблен И отомстить немедля хочет он. Он произнес как только мог сердитей: «Друзья, обоих на кол посадите!» Они ему внимают, и тотчас Подготовляться пытка началась. Герои, драгоценные отчизне, Должны погибнуть при начале жизни. Веревкой связан Дюнуа и гол, Готовый сесть на заостренный кол. И сразу же, чтоб угодить тирану, К столбу подводят гордую Иоанну; За прелесть и пощечину ее Ей злое отомстит небытие. Удар кнута терзает плоть бедняжки, Она последней лишена рубашки И отдана мучителям своим. Прекрасный Дюнуа, покорный им, Сбирается в последнюю дорогу И набожно творит молитву богу; Но как найти в глазах его тревогу? Он палачей своих дивил порой; В его лице читалось: вот герой! Когда ж героя взоры различили Чудесную отмстительницу лилий, Готовую сойти в могильный склеп, Непостоянство вспомнил он судеб; И, зная, что ее посадят на кол, Такую благородную в борьбе, Прекрасную такую, он заплакал, Как никогда не плакал о себе. Не менее горда и человечна, Иоанна, страха чуждая, сердечно На рыцаря смотрела своего И сокрушалась только за него; Их юность, тел прекрасных белоснежность В них против воли пробуждали нежность. Такой прекрасный, скромный, нежный пыл Родился лишь у края их могил, В тот миг, как колокольчиком зазвякал, С досадой прежней ревность слив теперь, И подал знак, чтоб их сажали на кол Противный небесам двуполый зверь. Но в тот же миг громоподобный голос, На головах вздымая каждый волос, Раздался: «Погодите их сажать! Постойте!» И решили подождать Злодеи, обнаружив не без страха На ступенях огромного монаха; Веревкою был препоясан он, И в нем легко был узнан Грибурдон. Как гончая, несясь между кустами, Почует вдруг привычными ноздрями Знакомый запах, сквозь лесную сень, Где скрылся убегающий олень, И вот летит вперед на резвых лапах. Не видя дичи, только чуя запах, В погоне перепрыгивает рвы, Назад не поворотит головы; Так тот, кому патрон Франциск Ассизский, Примчался на погонщике верхом Пройденным Девственницею путем, Упорно добиваясь цели низкой. «О, сын Алисы, — так воскликнул он, — Во имя сатанинских всех имен, Во имя духа вашего папаши, Во имя вашей набожной мамаши, Спасите ту, по ком томлюсь, любя. Я за обоих отдаю себя, Когда на рыцаря и на Иоанну Негодованье охватило вас, На место непокорных сам я стану; Кто я такой — вы слышали не раз. Вот, на придачу, мул, весьма пристойный, Примерный скот, меня носить достойный; Он ваш, и я б охотно присягнул, Что скажете вы: по монаху мул. О Дюнуа я толковать не стану, Что проку в нем? Подайте нам Иоанну; За девушку, которой пленены, Не пожалеем мы любой цены». Иоанна слушала слова такие И содрогалась: помыслы святые, И девственность, и слава для нее Дороже сделались, чем бытие. И благодать, святой подарок божий, Прекрасного бастарда ей дороже. Она в слезах молила небеса, Да пронесут они опасность мимо, И, закрывая грустные глаза, Незрячая, желала быть незримой. И Дюнуа был скорбью обуян. «Как, — думал он, — расстриженный болван Возьмет Иоанну, Францию погубит! Судьба волшебников бесчестных любит, Тогда как я, послушный до сих пор, Я потуплял горящий страстью взор!» Услыша вежливое предложенье, Улыбкой отвечал Гермафродит; Готов его принять без возраженья, Уже доволен он и не сердит. «Вы с мулом, — он монаху говорит, — Готовы оба будьте: я прощаю Французов; я их вам предоставляю». Владел монах Иакова жезлом{183}, И перстнем Соломона, и ключом; Он также обладал волшебной тростью, Придуманной египетским жрецом, И помелом, принесшим с дикой злостью Беззубую к царю Саулу гостью{184}, Когда в Эндоре, заклиная тьму, Она призвала мертвеца к нему. Был Грибурдон не хуже по уму: Круг начертав, он взял немного глины, Помазал ею нос своей скотины И произнес слова — источник сил, Которым персов Зороастр учил{185}{186}. Услыша сатанинское наречье, — О, чудеса! О, власть нечеловечья! — На две ноги тотчас поднялся мул, Передними уздечку отстегнул, Густая шерсть сменилась волосами, И шапочка явилась над ушами. Не так ли некогда великий царь{187}{188}{189}{190}, За злобу сердца осужденный богом Быком щипать траву по всем дорогам, Стал человеком наконец, как встарь? Под синим куполом небесной сферы Святой Денис, печален свыше меры, Услышал Девственницы слабый стон; К ней на подмогу устремился б он, Когда бы сам он не был затруднен. Денисовой поездкой оскорблен, Один весьма почтенный небожитель, Святой Георгий, Англии святитель{191}, Открыто возмущался, что Денис Без позволения спустился вниз, Стараясь, как непрошеный воитель. И скоро, слово за слово, они, Разгорячась, дошли до руготни. В характере британского святого Всегда есть след чего-то островного: Пускай душа в раю поселена, Родная всюду скажется страна; Так выговор хранит провинциальный Сановник важный и официальный. Но мне пора, читатель, отдохнуть; Мне предстоит еще немалый путь. Когда-нибудь, но только не сегодня, Я расскажу вам, с помощью господней, К каким событьям это привело, Что сталось с Девой, что произошло На небе, на земле и в преисподней.Конец песни четвертой
Песнь пятая
Содержание
Монах Грибурдон, пытавшийся обесчестить Иоанну, по заслугам попадает в ад. Он рассказывает о своем приключении чертям.
Друзья мои, пора, поверьте мне, Остепениться и зажить вполне, Как истые, прямые христиане! Среди гуляк, рабов своих желаний, Я молодости проводил года В трактирах вечно, в церкви никогда. Мы пьянствовали, ночевали с девкой И провожали пастыря с издевкой. И что же? Смерть, которой не уйти, С косою острой стала на пути Весельчаков, курносая, седая, И лихорадка, вестница хромая, Рассыльная Атропы, Стикса дочь{192}, Терзает их умы и день и ночь; Сиделка иль нотариус свободно Им сообщают: «Вы умрете, да; Скажите же, где вам лежать угодно». И позднее раскаянье тогда Слетает с уст: печальная картина. Ждут помощи блаженного Мартина{193}, Святой Митуш{194}{195} великих благостынь, Поют псалмы, коверкают латынь, Святой водою их кропят, но тщетно: Лукавый притаился незаметно У ног постели, когти распустил. Летит душа, но он ее схватил И увлекает в подземелья ада, Где грешных ждет достойная награда. Читатель мой! Однажды Сатана{196}{197}, Которому принадлежит страна Большая, с населением немалым, Блестящий пир давал своим вассалам. Народ в те дни без счета прибывал, И демоны гостей встречали славно: Какой-то папа, жирный кардинал, Король, что правил Севером недавно, Три интенданта, двадцать черных ряс, Четырнадцать каноников. Богатый Улов, как видите, был в этот раз. И черной сволочи король рогатый В кругу своих придворных и друзей Нектар бесовский пил, весьма довольный, И песенке подтягивал застольной. Вдруг страшный шум раздался у дверей: «Эй, здравствуйте! Вы здесь! Вы к нам, почтенный! Ба! Это Грибурдон, наш неизменный, Наш верный друг! Входите же сюда, Святой отец! Вниманье, господа! Прекрасный Грибурдон, апостол ада, Ученый муж! Таких-то нам и надо! Сын черта, несравненный по уму!» Его целуют, руку жмут ему И быстро увлекают в подземелье, Где слышно пира шумное веселье. Встал Сатана и говорит: «Сынок, Драчун{198}, кого давно оставил бог, Так рано я тебя не ждал; жалею, Что голову свою ты не берег. Духовной Академией моею Ты сделал Францию в короткий срок; В тебе я видел лучшую подмогу. Но спорить нечего с судьбой! Садись Со мною рядом, пей и веселись!» В священном ужасе целует ногу У господина своего монах, Потом глядит с унынием в глазах На пламенем объятое пространство, Где обитают в огненных стенах Смерть, вечные мученья, окаянство, Где восседает зла нечистый дух, Где дремлет прах классического мира, Ум, красота, любовь, наука, лира, — Все, что пленяет глаз и нежит слух, Неисчислимый сонм сынов господних, На радость черту сотворенных встарь! Ведь здесь, читатель, в муках преисподних, Горит тиран и рядом лучший царь. Здесь Антонин и Марк Аврелий{199}, оба Катона, бичевавшие разврат{200}, Кротчайший Тит{201}, всех угнетенных брат, Траян, прославленный{202} еще до гроба, И Сципион, чья пламенная власть Преодолела Карфаген и страсть{203}. Мы видим в этом пекле Цицерона, Гомера и премудрого Платона. За истину принявший смерть Сократ, Солон и Аристид в смоле кипят{204}. Что доблести их, что благодеянья, Раз умерли они без покаянья! Но Грибурдон был крайне удивлен, Когда в большом котле заметил он Святых и королей, которых ране Себе примером чтили христиане. Одним из первых был король Хлодвиг{205}. Я вижу, мой читатель не постиг, Как может статься, что король великий, Который в рай открыл дорогу нам{206}, В аду кромешном оказался сам. Я признаюсь, бесспорно, случай дикий. Но объясняю это без труда: Не может освященная вода Очистить душу легким омовеньем, Когда она погибла навсегда. Хлодвиг же был ходячим преступленьем, Всех кровожадней слыл он меж людьми; Не мог очистить и святой Реми Монарха Франции с душой вампира. Меж этих гордых властелинов мира, Блуждавших в сумраке глухих долин, Был также знаменитый Константин{207}. «Как так? — воскликнул францисканец серый, — Ужель настолько промысел суров, Что основатель церкви, всех богов Языческих преодолевший верой, Последовал за нами в эту тьму?» Но Константин ответствовал ему:{208}{209} «Да, я низвергнул идолов, без счета Моей рукою капищ сожжено. Я богу сил кадил куренья, но О вере истинной моя забота Была лишь лестницей. По ней взошел Я на блестящий кесарский престол, И видел в каждом алтаре ступень я. Я чтил величье, мощь и наслажденья И жертвы приносил им вновь и вновь. Одни интриги, золото и кровь Мне дали власть; она была непрочной; Стремясь ее незыблемо вознесть, Я приказал, чтоб был убит мой тесть. Жестокий, слабосильный и порочный, В кровавые утехи погружен, Отравлен страстью, ревностью сожжен, Я предал смерти и жену и сына. Итак, не удивляйся, Грибурдон, Что пред собою видишь Константина!» Но тот дивиться каждый миг готов, Встречая в сумраке ущелий диких Повсюду казуистов, докторов, Прелатов, проповедников великих, Монахов всяческих монастырей, Духовников различных королей, Наставников красавиц горделивых, В земном раю — увы! — таких счастливых! Вдруг он заметил в рясе двух цветов Монашка от себя довольно близко, Так, одного из набожных скотов, С густою гривой, с ряшкою, как миска, И, улыбаясь: «Эй, кто ты таков? — Спросил наш францисканец у монашка. — Наверное, изрядный озорник!»{210} Но тень ответила, вздыхая тяжко: «Увы, я преподобный Доминик»{211}{212}. Услышав это, точно оглушенный, Наш Грибурдон попятился назад. Он стал креститься, крайне пораженный. «Как, — он воскликнул, — вы попали в ад? Святой апостол, божий собеседник, Евангелья бесстрашный проповедник, Ученый муж, которым мир велик, В вертепе черном, словно еретик! Коль так — мне жаль мою земную братью, Обманутую лживой благодатью. Подумать только: за обедней им Велят молиться этаким святым!» Тогда испанец в рясе бело-черной Унылым голосом сказал в ответ: «Мне до людских ошибок дела нет. Их болтовне я не внимаю вздорной. Несчастные, мы изнываем тут, А люди нам акафисты поют. Иному церковь строится до смерти, А здесь его поджаривают черти. Другого же осудит целый свет, А он в раю, где воздыханий нет. Что до меня, то вечные мученья Я по заслугам на себя навлек. На альбигойцев{213} я воздвиг гоненья, А в мир был послан не для разрушенья, И вот горю за то, что сам их жег». О, если б я имел язык железный, Я б говорил, покуда время есть, И не успел бы — подвиг бесполезный — Святых, в аду горящих, перечесть. Когда сынка Ассизского Франциска Вся эта публика довольно близко С судьбою познакомила своей, Они заговорили без затей. «Милейший Грибурдон, скорей, не мучай, Скажи, какой необычайный случай Подстроил так, что в адские края Безвременно сошла душа твоя?» «Извольте, господа, к чему ломаться; Я расскажу престранный случай мой. Вы будете, конечно, удивляться, Но в истине ручаюсь головой: Не лжет мой рот, засыпанный землей! Когда еще я не был в этом месте, Для чести рясы и для вашей чести Любовный подвиг был исполнен мной, Какого не запомнит шар земной. Погонщик мой, соперник содостойный{214}, Великий муж и доблестный осел, Погонщик мой, усердный и спокойный, Мечты Гермафродита превзошел. И я для самки-чудища все знанья Собрал и все способности напряг; И сын Алисы, оценив старанья, Иоанну дал нам, как доверья знак, И Девственница, гордость королевства, Спустя мгновенье потеряла б девство: Погонщик мой обхватывал ей зад, Я крепко заключил ее в объятья; Гермафродит был чрезвычайно рад. Но тут, не знаю, как и передать, я, Разверзлась твердь, и вдруг из синевы (Из царства, где я никогда не буду, Не будете, друзья мои, и вы) Спустилось — как не подивиться чуду! — Известное по пребольшим ушам Животное, с которым Валаам Беседовал{215}, когда всходил на гору. Ужаснейший осел явился взору! Он был оседлан. У луки блестел Палаш с изображением трех лилий. Стремительнее ветра он летел При помощи остроконечных крылий. Иоанна тут воскликнула: «Хвала Творцу: я вижу моего осла!» Услыша эту речь, я содрогнулся. Крылатый зверь, колени преклоня И хвост задрав, пред Дюнуа согнулся, Как будто говоря: «Сядь на меня!». Садится Дюнуа, и тот взлетает, Своими побрякушками звеня, И Дюнуа внезапно на меня, Мечом размахивая, нападает. Мой господин, владыка адских сил, Тебе война подобная знакома; Так на тебя когда-то Михаил Напал по манию владыки грома{216}{217}, Которого ты тяжко оскорбил. Тогда, глубокого исполнен страха, Я к волшебству прибегнул поскорей: Я бросил облик рослого монаха, Надменное лицо с дугой бровей, И принял вид прелестный, безмятежный Красавицы невинной, стройной, нежной. Играла по плечам кудрей волна, И грудь высокая была видна Сквозь легкое прикрытье полотна. Я перенял все женские повадки, Все обаянье юной красоты, Испуга и наивности черты, Которые всегда милы и сладки. Сияньем глаз и прелестью лица Я мог очаровать и мудреца, Смутил бы сердце, будь оно из стали; Так дивно прелести мои блистали. Мой паладин был очарован мной. Я был у края гибели: герой Занес палаш{218} неумолимый свой И руку опустил наполовину. Минута — и мне не было б помину. Но Дюнуа, взглянув, застыл на миг. Кто видел в древности Медузы лик, Тот превращался в равнодушный камень. А рыцаря я так сумел привлечь, Что он почувствовал, напротив, пламень, Вздохнул и выпустил ужасный меч. И, на него взглянув, я понял ясно, Что он влюбился преданно и страстно. Я победил, казалось. Кто б постиг То, что случилось в следующий миг? Погонщик, плотные красы Иоанны Сжимавший крепко, тяжело дыша, Узрев, как я мила и хороша, В меня влюбился, олух окаянный. Увы, не знал я, что способен он Быть утонченной прелестью пленен! О, род людской, о, род непостоянный! И вот, ко мне воспламенившись вдруг, Дурак Иоанну выпустил из рук. Как только та свободу ощутила, Блестящий меч, забытый Дюнуа, Увидев на земле, она схватила И с грозною отвагой занесла; И в миг, когда погонщик мой — о, горе! — Спешил ко мне с желаньями во взоре, Иоанна за косы меня взяла. Ужасный взмах меча — я погибаю И больше ничего с тех пор не знаю Про Дюнуа, погонщика, осла, Гермафродита, Девственницу злую. Пусть все они погибнут на колу! Пусть небо им пошлет судьбу худую, Отправит всех в кипящую смолу!» Так изливал монах свою досаду, Вздыхая горько на потеху аду.Конец песни пятой
Песнь шестая
Содержание
Приключение Агнесы и Монроза. Храм Молвы. Трагическое приключение Доротеи.
Покинем грязное ущелье, ад, Где Грибурдон и Люцифер горят, Раскроем крылья в небесах пошире И поглядим, что происходит в мире. Увы, такой же ад и белый свет, И здесь невинности покою нет. Здесь добродетель топчут лицемеры; Ум, вкус, искусство, славные дела Умчались прочь, в заоблачные сферы; Политика — труслива и подла — Над всем главенствует, все заменяет; Исподтишка святоша направляет Оружье дураков на мудреца; И Выгода, чьей власти нет конца, Чей слух не режет гром сражений гулкий, Разлегшись возле денежной шкатулки, Сильнейшему слабейших продает. О люди! Жалкий и виновный род! К чему все это? Что за наважденье? Вам ведомо распутство, но, увы, Без удовольствия! Познайте вы, Коль так, хоть прелести грехопаденья. И если адский пламень — доля всех, Пусть нас туда приводит сладкий грех. Сорель Агнеса это понимала. Одно поставить можно ей в упрек: Любовь ее сверх меры донимала. Но кто бы оправдать ее не мог? К ней, верю, будет милостивым бог. Святой — и то порою не без пятен; Но кающийся — господу приятен. Спасала Девственница честь свою, И Грибурдон, в кощунстве виноватый, Сказал «прости» земному бытию. В тот миг задумал наш осел крылатый, Который рыцаря столь дивно спас, Невероятнейшую из проказ: Его с Иоанной разлучить. Какая Была причина этому? Любовь, Любовь, неодолимая, слепая, Таинственно волнующая кровь. Когда-нибудь узнаешь, друг читатель, Отважный план священного осла. Он был дитя Аркадии, мечтатель{219}. Итак, ему фантазия пришла Лететь в Ломбардию, и не случайно: Ему Денис внушил все это тайно, Когда он Дюнуа на крыльях нес. Но для чего? — предчувствую вопрос. В душе бастарда и в душе ослиной Денис огонь почувствовал единый, Который рано или поздно мог Разрушить план его, сорвать цветок, И Францию унизить и Иоанну. Он верил, что разлука и года Любовь в сердцах изгладят навсегда. Я упрекать за то его не стану, И вы, надеюсь, тоже, господа. Святитель наш к тому же в этом деле Преследовал еще другие цели. Итак, осел, которому Денис Доверил честь, и рыцарь, взмыв высоко Над берегом Луары, унеслись К верховьям Роны во мгновенье ока, И Дюнуа глядел издалека На Девственницу. Совершенно голой Она шагала, вся в крови. Рука Сжимала яростно булат тяжелый. Напрасно силится Гермафродит Остановить шаги ее святые, Над ней напрасно реют духи злые, — Иоанна их с презрением разит. Так улей иногда в тени ракит Увидит юноша и с удивленьем Любуется диковинным строеньем, Но вдруг жужжащий рой со всех сторон Отважно на зеваку нападает. Крылатой армией облеплен, он Беснуется, танцует, приседает, Но быстро оправляется и вот Всю эту дрянь немилосердно бьет И дерзких побеждает неизменно. Так Девственница гордая надменно Справлялась с легкой армией высот. Погонщик же, дрожащий от испуга, Боясь лишиться головы, взывал: «О Девственница, о моя подруга, Тебе я на конюшне помогал. Яви же милосердье на примере И сохрани мне жизнь, по крайней мере. О, сжалься, сжалься и не убивай!» Иоанна отвечает: «Негодяй, Я милую тебя: меч богоданный Не хочется марать в крови поганой! Но пошевеливайся! Видно, мне Придется ехать на твоей спине. Кудесничество — дело не девичье, Но каково ни есть твое обличье, Ты мне сейчас заменишь лошака. Осел мой улетел за облака. Беру тебя, чтоб не было заминки; Нагнись же», — говорит она, и тот Склоняет лысину, на четвереньки Становится, и вздохи издает, И рысью Девственницу мчит вперед. Взбешенный гений поклялся сурово Французам пакостить по мере сил; Он Англию с досады полюбил И, справедливо рассердясь, дал слово У шутников отбить к проделкам вкус. Чтоб каждый легкомысленный француз Достойное изведал наказанье, Он строить приказал большое зданье, Ловушку, лабиринт, где месть его Поймала бы, потомкам в назиданье, Героев Франции — до одного{220} Но что произошло с Агнесой милой? Вы помните испуг ее, когда Она, полуживая от стыда, Была готова уступить пред силой. Мгновенно выпустив ее из рук, Умчался Жан Шандос на бранный звук. Из затрудненья выпутавшись вдруг, Агнеса тут же начала божиться, Еще недавним страхом смущена, Что впредь такого с нею не случится. И Карлу мысленно клялась она, Что будет одному ему верна, Что с королем своим не разлучится, Что не изменит и умрет скорей. Увы, не следовало клясться ей! В той сутолоке, грохоте, смятенье, Когда врасплох военный лагерь взят, Когда и полководец и солдат — Один бежит, другой спешит в сраженье, Когда сопровождающие стан Мошенники спешат набить карман И крики слышатся сквозь дым зловонный, — Вдруг очутившись вовсе обнаженной, В Шандосов гардероб она идет, Рубашку, туфли и халат берет, Не позабыв и колпака ночного. Все впору ей: она одета снова! На счастье, конь огромный вороной, Шандоса ожидая у палатки, Оседланный, с блестящею уздой, Стоял, и, погруженный в отдых сладкий, Спал конюх-пьяница, держа его, Вокруг не замечая ничего. Агнеса боязлива, как овечка, Но вот уже в ее руках уздечка; Какое-то бревно ей помогло Взобраться на высокое седло, И, шпоры дав, она летит мгновенно, Страшась и радуясь одновременно! Толстяк Бонно брел пеший средь полей И брюхо проклинал свое, а вместе Агнесу, англичан, и королей, И путешествие, и поле чести. В то время паж, по имени Монроз{221}, Которого с собой возил Шандос, Спешил домой, исполнив порученье; Увидев издали все приключенье, Коня, летящего в лесной овраг, Халат Шандоса и ночной колпак, Он все не мог понять, что за причина В таком наряде мчит, как на рожон, Его возлюбленного господина. Испуган юноша и поражен, Летит галопом, крик его отчаян: «О господин! О дорогой хозяин! Куда вы мчитесь? Кто кого сразил? Сдержите же неистовый свой пыл, Постойте! Я умру в разлуке с вами». Так сыпал он тревожными словами, И только ветер крики разносил. Пажом преследуемая Агнеса, Рискуя жизнью, мчится в чащу леса. Она летит как ветер, но туда ж, Еще стремительней, несется паж. Конь спотыкается, и в чаще темной Красавица растерянная томный, Упав на землю, испускает крик. И тотчас же Монроз ее настиг. Над чувствами мгновенно власть утратя, Глядел Монроз, не смея и вздохнуть, На белоснежную, как жемчуг, грудь, Рубашкою прикрытую чуть-чуть, На все, что было видно из-под платья. Ты удивлен был, милый Адонис{222}, Когда любовница, чьей красотою Владели Марс суровый и Анхиз{223}, В лесной глуши явилась пред тобою. Был на Венере не такой наряд, На кудрях не колпак, ручаюсь смело, И с лошади божественное тело, Лишаясь сил, на землю не летело, Не расцарапан был лилейный зад: Но выбрал бы наш Адонис прелестный Венеру иль Агнесу — неизвестно. Была взволнована душа пажа Боязнью, состраданьем и любовью. Он руку ей поцеловал, дрожа. «Увы, — сказал он, — вашему здоровью Не повредило ль это?» И она, Подъемля взор, в котором скорбь видна, Ответствует, томна и смущена: «Преследователь мой, во имя неба, Когда хоть капля милосердья есть В твоей душе — любви моей не требуй. О, пощади! О, сохрани мне честь! Будь избавителем моим, опорой». И, большего не в силах произнестъ, Она, заплакав, опустила взоры, Смущенным сердцем небеса моля Взять под защиту счастье короля. Монроз безмолвно постоял немного, Потом сказал ей с нежной теплотой: «Чудеснейшее из созданий бога, Прелестней вас не видел мир земной! Я — ваш вполне, располагайте мной, Вся жизнь моя, отвага, кровь, именье У ваших ног. Имейте снисхожденье Принять все это. Я служить вам рад, Не ожидая никаких наград. Быть вам слугою — сердцу упоенье!» И склянку с кармелитскою водой Он проливает робкою рукой На прелести оттенка роз и лилий, Что скачка и паденье повредили. Красавица румянцем залилась, Но приняла услуги без опаски. Быть верной королю она клялась, Монрозу в то же время строя глазки. Когда же из бутылки пролилась До капли влага, несшая целенье, Сказал Монроз: «О дивная краса, Отправимтесь в соседнее селенье; Нам не грозит дорогой нападенье, И мы там будем через полчаса. Есть деньги у меня. Для вас из платья, Наверно, что-нибудь смогу достать я, Чтоб не стыдилась наготы своей Красавица, достойная царей». Агнеса соглашается с советом. Монроз был так почтителен при этом И так красив, так чуток ко всему, Что трудно было возразить ему. Повествованья прерывая нити, Мне возразят, пожалуй: «Но, простите, Возможно ли, чтоб ветреный юнец Так нравствен был, что даже под конец Не допустил игривого движенья?» Оставьте, сударь, ваши возраженья. Мой паж влюбился. Дерзостна рука У сладострастья, а любовь робка. Итак, они пошли дорогой вместе, Беседуя о доблести и чести, О пользе верности, вреде измен, О старых книгах, полных нежных сцен. Паж, приближаясь, целовал порою Агнесе руки, замедляя шаг, Но так почтительно и нежно так, Как будто бы он шел с родной сестрою; И все. Желаний целый мир носил Он в сердце, но подачек не просил! Вот наконец они достигли цели. Усталую Агнесу паж ведет В укромный дом. На пуховой постели Меж двух простынь она покой найдет. Монроз бежит и, запыхавшись, всюду Одежду, гребешки, еду, посуду Без устали разыскивает он, Красавицею нежною пленен. О милый мальчик, сам Амур — свидетель, Что, охраняя честь любви своей, Ты проявил такую добродетель, Какую редко сыщешь меж людей. Но в этом доме — отрицать не стану — Жил духовник Шандоса, а смелей В делах любви носящие сутану. Наш негодяй, проведавший уже О путешественнице и паже И зная, что находится так близко Заветное сокровище любви, Не видя в этом приключенье риска, С горящим взором, с пламенем в крови, С душой, исполненной отваги низкой, Ругаясь гнусно, похотлив, как зверь, Вбежал в покой и крепко запер дверь. Но поглядим, читатель мой, теперь, Куда умчался наш осел летучий; Прекрасный Дюнуа, где ныне он? Альпийских гор величественный склон Вершинами пронизывает тучи, И вот утес, для римлян роковой, Где Ганнибал прошел стопой железной{224}. У ног его провал, над головой Холодный свод, то солнечный, то звездный. Там есть дворец из драгоценных плит, Без крыши и дверей, всегда открыт; Внутри же зеркала без искаженья Любого отражают, кто войдет: Старик, дитя, красавица, урод Вернейшее находит отраженье. И множество дорог туда ведет, В страну, где мы себя увидим ясно, Но путешествие весьма опасно Среди непроходимых пропастей. Подчас дойти иному удается, Не замечая гибельных путей, Но все-таки, пока один взберется, Другие сто не соберут костей. Там есть хозяйка, пожилая дама, Болтушка, по прозванию Молва; Она горда, капризна и упряма, Но каждый признает ее права. Пускай мудрец налево и направо Вещает нам, что побрякушка слава, Что в ней он не находит ничего, — Он глуп иль врет: не слушайте его. Итак, Молва на этих склонах горных Живет в кругу блистательных придворных. Ученый, принц, священник и солдат, Отведавшие сладостной отравы, Вокруг нее толпятся и твердят: «Молва, могучая богиня славы, Мы так вас любим! Хоть единый раз Промолвите словечко и про нас!» Для этих обожателей нескромных Молва имеет две трубы огромных: В ее устах находится одна — О славных подвигах гласит она. Другая — в заднице, — прошу прощенья, — Назначенная для оповещенья О тысяче вновь изданных томов, О пачкотне продажных болтунов, О насекомых нашего Парнаса, Блистающих в теченье получаса, Чтобы мгновенно превратиться в прах, О ворохах бумаги истребленной, В коллегиях навек похороненной, О всех бездарностях, о дураках, О гнусных и тупых клеветниках, О Саватье, орудии подлога{225}, Который рад оклеветать и бога, О лицемерной шайке пустомель, Зовущихся Гийон, Фрерон, Бомель{226}.«Орлеанская девственница»
Торгующие смрадом и позором, Они гурьбой преследуют Молву, Заглядывая в очи божеству Подобострастным и тщеславным взором. Но та их гонит плеткою назад, Не дав и заглянуть ей даже в зад{227}. Перенесенным в этот замок-диво Себя узрел ты, славный Дюнуа. О подвигах твоих — и справедливо — Провозгласила первая труба. И сердце застучало горделиво, Когда в те зеркала ты поглядел, Увидев отраженье смелых дел, Картины добродетелей и славы; И не одни геройские забавы Там отражались — гордость юных дней, А многое, что совершить трудней. Обманутые, нищие, сироты, Все обездоленные, чьи заботы Ты приносил к престолу короля, Шептали «Ave», за тебя моля. Пока наш рыцарь, доблестями гордый, Свою историю обозревал, Его осел с величественной мордой Гляделся тоже в глубину зеркал. Но вот раскаты трубного напева Рокочут о другом, и весть слышна: «Сейчас в Милане Доротея-дева По приговору будет сожжена. Ужасный день! Пролей слезу, влюбленный, О красоте ее испепеленной!» Воскликнул рыцарь: «В чем она грешна? Какую ставят ей в вину измену? Добро б дурнушкою была она, Но красоту — приравнивать к полену! Ей-богу, если это не обман, Должно быть, помешался весь Милан». Пока он говорил, труба запела: «О Доротея, бедная сестра, Твое прекрасное погибнет тело, Коль паладин, в котором сердце смело, Тебя не снимет с грозного костра». Услышав это, Дюнуа, во гневе, Решил лететь на помощь юной деве; Вы знаете, как только находил Герой наш случай выказать отвагу, Не рассуждая, он вперед спешил И обнажал за угнетенных шпагу. Он жаждал на осла скорее сесть: «Лети в Милан, куда зовет нас честь». Осел, раскинув крылья, в небе реет; За ним и херувим{228} едва ль поспеет. Вот виден город, где суровый суд Уже творит приготовленья к казни. Для страшного костра дрова несут. Полны жестокосердья и боязни, Стрелки, любители чужой беды, Теснят толпу и строятся в ряды. На площади все окна растворились. Собралась знать. Иные прослезились. С довольным видом, свитой окружен, Архиепископ вышел на балкон. Вот Доротею, бледную, без силы, В одной рубашке, тащат альгвасилы{229}. Отчаянье, смятенье и позор Ей затуманили прекрасный взор, И заливается она слезами, Ужасный столб увидев пред глазами. Ее веревкой прикрутивши тут, Тюремщики уже солому жгут. И восклицает дева молодая: «О мой любимый, даже в этот час В моей душе твой образ не погас!..» Но умолкает, горестно рыдая, Возлюбленное имя повторяя, И падает, безмолвная, без сил. Смертельный цвет ланиты ей покрыл, Но все же вид ее прекрасен был. Боец{230} архиепископа бесчестный, Скот, называвшийся Сакрогоргон, Толпою зрителей проходит тесной, Мечом и наглостью вооружен, И говорит направо и налево: «Клянусь, что еретичка эта дева. Пусть скажет кто-нибудь, что я не прав. Будь он простолюдин иль знатный граф, Но моего отведает он гнева, И я с большой охотой смельчаку Мечом вот этим проломлю башку». Так говоря, идет он, горделиво Напыжась, губы поджимает криво И палашом{231} отточенным грозит. И все дрожат, никто не возразит. Желающего нет подставить шею Под саблю, защищая Доротею. Сакрогоргон, ужасный, как палач, Всех запугал. Был слышен только плач, И своего подбадривал клеврета Прелат надменный, наблюдая это. Над площадью витавший Дюнуа Не мог стерпеть такого хвастовства. А Доротея так была прекрасна В слезах, дрожащая в тенетах зла, Такою трогательною была, Что понял он, что жгут ее напрасно. Он спрыгнул наземь, гнева не тая, И громким голосом сказал: «Вот я Пришел поведать храбростью своею, Что ложно обвинили Доротею. А ты — не что иное, как хвастун, Сообщник низости и гнусный лгун. Но я хочу у Доротеи ране Узнать подробно, в чем ее позор И почему возводят на костер Подобную красавицу в Милане». Он кончил, и восторженный народ Крик радостной надежды издает, Сакрогоргон, от страха умирая, Пытается держаться храбрецом. Прелат надменный, злобы не скрывая, Стоит с перекосившимся лицом. А Дюнуа стал слушать Доротею, Почтительно склоняясь перед нею. Красавица, не поднимая глаз, Вздохнув, печальный повела рассказ. Осел, расположившись на соборе, Внимательно вникал в девичье горе; И был доволен набожный Милан, Что знак господня милосердья дан.Конец песни шестой
Песнь седьмая
Содержание
Как Дюнуа спас Доротею, приговоренную к смерти Инквизицией.
Когда однажды на рассвете дней Я брошен был подругою моей, Так был я опечален, что, признаться, Решил навек от страсти отказаться. Но даже в голову мне не пришло Обиду нанести иль сделать зло, Изменнице доставить огорченье, Неудовольствие или мученье, Стеснять желанья не по мне, друзья. Раз я зову к неверным снисхожденье, То, ясно, к женщинам жестоким я Могу питать одно лишь уваженье. Нельзя терзать преследованьем ту, Чье сердце осаждали вы напрасно. И если молодую красоту Желанье ваше покорить не властно — Не может сердце быть всегда несчастно: Нежнейших уз ищите у другой Иль пейте, это тоже путь благой. Когда б такую мысль внушил создатель Влюбленному прелату одному И красоты столь редкой угнетатель Последовал совету моему! Уж Дюнуа, величественный в гневе, Внушил надежду осужденной деве. Но прежде надо знать, за что она Была к сожженью приговорена. «О сын небес, — потупившись прелестно, Она сказала, — раз своим мечом Меня вы защитили, вам известно, Что обвинить меня нельзя ни в чем!» «Не ангел я — ответил рыцарь, — верьте; Я очень рад, что случай мне помог Избавить вас от столь жестокой смерти, Но ваше сердце видит только бог. Оно, я верю, голубю подобно, Но расскажите обо всем подробно». И отвечает на его вопрос Красавица, не сдерживая слез: «Любовь — причина всей моей печали. Сеньора Ла Тримуйль вы не встречали?» «Он лучший друг мой, — Дюнуа в ответ, — Души смелей и благородней нет. У короля нет воина вернее, У англичан соперника страшнее. Его любить для всех красавиц честь!» «Да, — дева молвит, — это он и есть! Лишь год, как он уехал из Милана. О господин! Он был в меня влюблен. В моей груди горит разлуки рана, Но верю я, что вновь вернется он. Он клятву дал, когда пришел проститься. Я так его люблю! Он возвратится!» «Не сомневайтесь, — Дюнуа сказал. — Кто красоты подобной не оценит? Он слову никогда не изменял, И если поклялся, то не изменит». Она ответила: «Я верю вам. О, день счастливый нашей первой встречи! Как были сладостны моим ушам Его благовоспитанные речи, Иных бесед чудесные предтечи! Его я полюбила без ума, Еще не зная этого сама. Ах! У архиепископа в столовой Произошло все это! Сладкий сон! Он, рыцарь знаменитый и суровый, Сказал, что без ума в меня влюблен. Почувствовав блаженное томленье, Я разом потеряла слух и зренье, Не зная, что за муки сердце ждут! От счастья я простилась с аппетитом! Наутро он пришел ко мне с визитом, Но пробыл только несколько минут, Ушел — и, полная любовным бредом, Моя душа за ним помчалась следом. На следующий день пришел он вновь И вел беседу про свою любовь. Зато на следующий день в награду Похитил он два поцелуя кряду. На следующий день наедине Он обещал, что женится на мне. На следующий день просил так тонко, На следующий сделал мне ребенка. Но что я говорю! Увы! Увы! Я вам открыла весь мой стыд и горе, А я еще не ведаю, кто вы, Узнавший ныне о моем позоре!» Герой ответил скромно: «Дюнуа». Он не хвалил себя самодовольно, Но было имени его довольно. Вскричала дева: «Господу хвала! О, неужели воля провиденья Меня рукою Дюнуа спасла! Сколь ваше явственно происхожденье, Бастард прекрасный, победитель зла! Любовь меня мученью обрекла, — Дитя Любви несет мне исцеленье. Надежда вновь овладевает мной! Так слушайте же дальше, о герой! С возлюбленным я прожила недолго. Его к оружью призвала война, И он покорствует веленью долга. О, Англия, будь проклята она! Я слезы лить была принуждена. Вы понимаете, сеньор достойный, Перенести все это каково? Ах, я изнемогала без него, Чудовищные проклиная войны. Меня лишил всего ужасный рок, Но я не жаловалась, видит бог. Он подарил, со мною расставаясь, Сплетенный из волос его браслет. Я приняла, слезами обливаясь, Из рук любимого его портрет. Оставил он еще письмо большое, Где нежность, в каждом завитке дыша, Свидетельствует, что с его душою Навеки скована моя душа. Он говорит там: «Одержав победу, Без промедленья я в Милан приеду И, послужив, как должно, королю, Женюсь на той, которую люблю!» Но до сих пор он бьется в Орлеане, Разит врагов, наносит им урон. Он верен долгу, но моих страданий, Моей судьбы, увы, не знает он. Когда б он видел, как меня карает Любовь! Нет, хорошо, что он не знает. Итак, уехал он на долгий срок, А я уединилась в уголок, Который был от города далек. Вдали от света, посреди просторов, Переносила я разлуки гнет, Томленье сердца, тяготу забот И прятала от любопытных взоров И слезы горькие, и свой живот. Но я, увы, племянница родная Архиепископа. О, доля злая!» Тут слезы начали сильнее течь Из глаз ее, и, горестно рыдая, Так Доротея продолжала речь: «В уединенье рощ, под солнцем юга, Я плод своей любви произвела И, утешаясь им, ждала я друга. Как вдруг архиепископу пришла Фантазия узнать, как поживает Его племянница в глуши полей. Дворец он для деревни оставляет И… там пленяется красой моей. О красота, подарок злобных фей, Зачем пронзила ты, к моей досаде, Опаснейшей стрелою сердце дяди! Он объяснился. Я пыталась тут О долге говорить, о чести, сане, О незаконности его желаний И святости родства. Напрасный труд! Он, оскорбляя церковь и природу, Мне не давал решительно проходу И возражений слушать не желал. Ах, заблуждаясь, он предполагал, Что, сохранив сердечную свободу, Я никого на свете не люблю, Он был уверен, что я уступлю Его мольбам, его заботам скучным, Желаниям упорным и докучным. Но ах! когда однажды в сотый раз Я пробегала дорогие строки И лились слезы у меня из глаз, Меня настиг мой опекун жестокий. Враждебною рукою он схватил Листок, что мне дороже жизни был, И, прочитав его, увидел ясно, Что я люблю, что я любима страстно. Тогда, отравлен ревностью и зол, Он сам себя в упрямстве превзошел. Он окружил меня продажной дворней; Ему сказали про мое дитя. Другой отстал бы. Но, напротив, мстя, Архиепископ стал еще упорней И, превосходством пользуясь своим, Сказал: «Уж не со мною ли одним Вы щепетильны? Ласки вертопраха, Обманщика вам не внушали страха, Вы до сих пор тоскуете по ним. Так перестаньте же сопротивляться, Примите незаслуженную честь. Я вас люблю! Вы мне должны отдаться Сейчас же, или вас постигнет месть». Я, вся в слезах, ему упала в ноги, Напоминая о родстве и боге, Но в этом виде, к горю моему, Еще сильней понравилась ему. Он повалил меня, срывая платье. Принуждена была на помощь звать я. Тогда, любовь на ненависть сменя, — О, тяжелее нету оскорбленья! — Он бьет рукою по лицу меня. Вбегают люди. Дядя без смущенья Свои удваивает преступленья. Он молвит: «Христиане, вот моя Племянница, отныне дщерь злодейства; Ее от церкви отлучаю я И с нею плод ее прелюбодейства. Да покарает господа рука Отродье подлого еретика! Их проклинаю я, служитель бога. Пусть Инквизиция их судит строго». То не были слова пустых угроз. Едва успев в Милане очутиться, Он тотчас Инквизиции донес. И вот мой дом — унылая темница, Где пленнице, безмолвной от стыда, Терзанья — пища, реки слез — вода; Подземная тюрьма черна, уныла, Обитель смерти, для живых могила! Через четыре дня на белый свет Меня выводят, но — о, доля злая! — Затем лишь, чтоб на плахе, в двадцать лет, Сожженная безвинно, умерла я. Вот ложе смерти для моей тоски! Здесь, здесь, без вашей мстительной руки И жизнь и честь мою бы схоронили! Я знаю, что нашлись бы смельчаки, Которые меня бы защитили; Но смелость их поработил прелат, — Все перед церковью они дрожат. Ах, итальянец обречен бессилью, Затем, что устрашен епатрахилью{232}{233}. Француз же не боится ничего, Он нападет на папу самого». Герой, задетый за живое девой, Исполнен жалости глубокой к ней, К архиепископу исполнен гнева, Решил дать волю доблести своей, В победе скорой убежденный твердо, Как вдруг заметил, что, подкравшись гордо, Не спереди, а сзади, что солдат Отважно в тыл ему напасть хотят. Какой-то черный чин с душой чернильной Гнусавил, словно пел псалом умильный: «Во имя церкви объявляем мы, Да радуются верные умы Во славу бога: по распоряженью Его преосвященства, решено С ослом его проклятым заодно Богоотступника предать сожжепыо. Как еретик и чернокнижник, он Да будет вместе с грешницей сожжен». Бузирис{234} хитрый в образе прелата, Страшась, что приближается расплата, Ты свой прием обычный применил: В согласье с Инквизицией ты был, И ждал вердикт суровый супостата, Который вздумал бы сорвать покров С твоих неописуемых грехов. Немедля отвратительная свора, Святейшей Инквизиции опора, Идет на Дюнуа, построясь в ряд, Шаг делая вперед, а два назад. Горланят, топчутся, творят молитву. Сакрогоргон, дрожа, ведет их в битву. Он щелкает зубами и орет: «Смелей! Хватайте колдуна! Вперед!» За ними вслед, блистая стихарями, Плетутся дьяконы с пономарями: Один с кропилом{235} и с крестом другой, Они своей соленою водой Кропят смиренно верующих братью, Отца лукавства предают проклятью; И, все еще взволнованный, прелат Им шлет благословение стократ. Чтоб доказать, что он не сын геенны, Великий Дюнуа спешит извлечь Могучею рукой громадный меч, Другою четки, инструмент священный, Являемый порукой несомненной, Что он ничем не связан с духом зла. «Ко мне!» — зовет он своего осла. Тот подлетает, и герой, проворно Вскочив на зверя, сыплет, точно зерна, В толпу врагов удары без числа. Здесь изувечен стерну{236} или шея, Тот, поражен в атлант{237}, упал, немея; Кто челюсть потерял, кто глаз, кто нос, Кто еле-еле голову унес И удирает, бормоча молитвы, Кто удаляется навек во тьму. И, вторя господину своему, Осел в сумятице кровавой битвы Не устает лягать, топтать, кусать Мошенников испуганную рать. Сакрогоргон утратил облик бравый И пятится, бледнея, как мертвец, Но вот настигнут он, и меч кровавый, Войдя в лобок{238}, выходит сквозь крестец{239}. Он падает, и весь народ, сияя, Кричит: «Виват! Издох Сакрогоргон!» Еще в предсмертных корчах бился он И сердце трепетало, замирая, Когда герой сказал ему: «Подлец, Тебя ждет ад; признайся наконец, Что твой архиепископ — плут, негодник, Предатель в митре, низкий греховодник, Что Доротея, чести образец, Любовницей и католичкой верной Всегда была, а сам ты — олух скверный!» «Да, храбрый рыцарь! — отвечает он. — Да, олух я, вы совершенно правы. В том доказательство ваш меч кровавый». Сказавши это, испускает стон И умирает злой Сакрогоргон. В тот самый миг, когда, покинув тело, Душа злодея к дьяволу летела, На городскую площадь въехал смело Оруженосец с шлемом золотым{240}. В ливреях ярко-желтых перед ним Шли два гонца. И стало всем понятно, Что близится какой-то рыцарь знатный. Обрадована и изумлена Была, увидев это, Доротея. «Ах, боже мой! — воскликнула она. — Ужели радость свыше мне дана? Ужели он? Ужели не во сне я?» В Милане любопытны стар и млад; Все устремили на прибывших взгляд. Читатель дорогой, мы с вами тоже На этот ветреный народ похожи: Миланским происшествием умы Уж слишком долго занимали мы! Но разве в этом замысел романа? Подумаем о стенах Орлеана, О добром Карле, о тебе, Иоанна, Которая, прославив слабый пол, За Францию отмщаешь и престол, Которая, без лат и без одежды, Кентавром скачешь, в поле пыль клубя, И возлагаешь большие надежды На всемогущего, чем на себя; И о тебе, святой Денис, предстатель За Галлию, который в этот миг Георгию сплетаешь сеть интриг. Но главное — не позабудь, читатель, Сорель Агнесу. Чары красоты Приятны смертным. Это всем известно. И, будь хоть черный меланхолик ты, Тебе судьба Агнесы интересна. И то сказать, без лести небесам: Ведь если сожигают Доротею И с горней высоты создатель сам Ее спасает, сжалившись над нею, То это — случай, близкий к чудесам. Но если та, чье сердце — ваша плаха, По ком вы слезы точите ручьем, Увлечена молоденьким пажом Или в объятьях грузного монаха, — Такими случаями полон свет: Чудесного, пожалуй, в них и нет. Скажу, что приключенья в этом роде Понятней человеческой природе: Я человек, и в том я вижу честь, Что мне не чужды немощи людские; Я сам ласкал красавиц в дни былые, И у меня, как прежде, сердце есть.Конец песни седьмой
Песнь восьмая
Содержание
Как прекрасный Ла Тримуйль встретил англичанина у храма Лоретской богоматери и что затем случилось с его Доротеей.
Как наш рассказ возвышен и приятен, Как ум и сердце образует он{241}, Как в нем отражены без всяких пятен И доблесть, храбрых рыцарей закон, И право королей, и верность жен! Имеет сходство он с богатым садом, Который доставляет радость взглядам. В нем целомудрие всего видней, Цветок, затмивший все цветы собою, Как лилия, в невинности своей Блистающая дивной белизною. О девы, юноши, прошу я вас, Прочтите сей божественный рассказ. Принадлежит он мудрому Тритему{242}{243}{244}; Ученый пикардиец и аббат Иоанну и Агнесу взял как тему. Как я его ценю, и как я рад, Что явно отдавал он предпочтенье Тебе, полезное, простое чтенье, Пред хламом современных повестей, Которые живут так мало дней, Безвкусный плод фантазии туманной! Правдивая история Иоанны Переживет и зависть и года. Так торжествует истина всегда. Однако об Иоанне д'Арк тебе я, Читатель мой, не расскажу сейчас, Затем что ныне занимают нас Лишь Дюнуа, Тримуйль и Доротея, На то причины веские имея. Мы с полным основаньем знать хотим, Что с ними сталось, как живется им. Вы помните, как, защищая славу Французского монарха, весь в поту, Тримуйль отважный, гордость Пуату, Близ Орлеанских стен попал в канаву. Оруженосцами был наш герой Изгрязной ямы поднят еле-еле, Помятый, с поврежденною рукой, С кровоподтеками на нежном теле. Его хотели в город отнести, Но тут явилась новая забота: Закрыты были в Орлеан пути Усилиями дерзкого Тальбота. Тогда решили, в страхе пред врагом, Тримуйля кружным отнести путем В Тур, город твердый в вере и законе, Покорный христианнейшей короне. Здесь из Венеции заезжий плут Ему довольно ловко руку вправил, Кость лучевую к плечевой{245} приставил. Оруженосцы же понять дают, Что к королю вернуться он не может, Что враг везде теснит нас и тревожит. «Что ж, если так, — наш рыцарь молвил тут, — Раз мне не суждено решать победу, Я хоть к любовнице своей поеду». Итак, превратностям теряя счет, В Ломбардию свершает он поход. Там перед городскими воротами Был окружен и сдавлен наш герои Бесчисленной и глупою толпой, В Милан спешащей, хлопая глазами, Стуча подкованными башмаками. Купцы, крестьяне, дети, всякий сброд, Бенедиктинцы, горожане; в ход Пускают кулаки, всем душно, тесно, Бегут, кричат: «Скорей, пустите нас! Такие зрелища не каждый час!» Тут паладину сделалось известно, Какого празднества так жадно ждет Ломбардский добрый и простой народ. «О Доротея! Страшное известье!» — Кричит он и, пришпорив вдруг коня, Всех опрокидывая и тесня, Несется через людное предместье, Вдоль узких улиц к площади туда, Где бьется благородный Дюнуа, Где растерявшаяся Доротея Глядит, поверить истине не смея. Не мог бы и Тритем картины той Нам передать, со всем своим искусством, Дать имена разнообразным чувствам, Возникшим в сердце девы молодой, Возлюбленного встретившей, как в сказке. Какие кисти, ах, какие краски Живописать могли бы этот вид, Где все смешалось: боль былых обид, И исчезающая безнадежность, И радость, и смущение, и стыд И где растет, все поглощая, нежность? Освобожденная от козней зла, Она лишь слезы сладкие лила В его руках, а рыцарь благородный От счастья целовал поочередно То Дюнуа, то деву, то осла. Прекрасный пол, по окнам и балконам. Рукоплескал, сочувствуя влюбленным; Монахи убегали прочь. Вдали Костра полуразрушенного балки Имели вид необычайно жалкий. С его развалин медленно сошли Красавица и Дюнуа. Он видом Соперничать бы мог с самим Алкидом, Который, победив в стране могил Тройного пса, тройную Эвмениду, Алкесту мужу гордо возвратил{246}, Ревнуя, но не подавая виду. Была домой в носилках снесена Красавица. За ней скакали следом Два рыцаря, привыкшие к победам. Наутро благородный Дюнуа, Прекрасную чету застав в кровати, Сказал: «Мне кажется, здесь лишний я! Не буду нарушать часы объятий. Пора мне бросить этот край; меня Зовут мой повелитель и Иоанна; Я к ним вернусь. Я знаю, постоянно Тоскует Дева о своем осле. Денис, заботливый к родной земле, Явился мне сегодняшнею ночью. Поверьте мне, я зрел его воочью. Божественного зверя он мне дал, Чтоб дам и королей я защищал: Теперь он требует меня обратно. Я Доротее послужил. И мной Располагает ныне Карл Седьмой. Вкушайте же плоды любви приятной. В моей руке нуждается престол. Не терпит время, ждет меня осел». «Я на коне последую за вами», — Любезный Ла Тримуйль сказал в ответ. И Доротея говорит: «Мой свет, Я тоже еду — знаете вы сами, Уж я давно хочу утешить взор, Увидеть пышный королевский двор, Агнесу, отличенную владыкой, Иоанну, славную душой великой. Вы — мой спаситель, вы — любовь моя, За вами я последую хоть в битву. Но на костре, когда читала я Марии-деве тайную молитву, Я ей дала торжественный обет Паломницей отправиться в Лорет, Коль уцелею случаем чудесным. Святая дева, услыхав меня, Вас ниспослала на осле небесном, И спасена была я из огня. Я вновь живу: обет свершить должна я, А то меня накажет пресвятая». «Мне по сердцу такая речь, — в ответ Ей молвил добрый Ла Триймуль. — Обет, По-моему, свершить необходимо. Позвольте вас сопровождать. Лорет Давно уж ждет меня как пилигрима. Летите, благородный Дюнуа, Полями звездными к стенам Блуа. Нагоним мы чрез месяц вас, не боле. А вы, сударыня, господней воле Покорная, направьте путь в Лорет. Достойный вас даю и я обет: Доказывать везде, во всяком месте, Кому угодно, шпагой и копьем, Что вы пример являете во всем Любой замужней и любой невесте, Как высший образ красоты и чести». Она зарделась. Между тем осел Ногою топнул, крыльями повел И, быстро исчезая с небосклона, Мчит Дюнуа туда, где плещет Рона. Цель Ла Тримуйля — славная Анкона;{247} Идет он с дамой, с посохом в руках И в страннической шляпе. Божий страх Их речи наполняет, взоры кротки, Висят на их широких поясах Жемчужные и золотые четки. Перебирал их часто паладин, Читая тихо «Ave». Доротея Молилась тоже, глаз поднять не смея, И «я люблю вас» был припев один Молитв, несущихся среди равнин. Они проходят Парму и Модену, Идут в Урбино, видят и Чезену, Открыт им всюду ряд прекрасных зал, Их чествует то князь, то кардинал. Наш паладин, день ото дня вернее, Свершая благородный свой обет, Везде твердил, что в целом мире нет Прекрасней женщины, чем Доротея, И, прекословить рыцарю не смея, Никто не спорил: вежливость всегда Поддерживали эти господа. Но наконец на берегах Музоны, Близ Реканати, в округе Анконы, Блеснул вдруг пилигримам, как звезда, Хранимый небом дом святой мадонны, Обитель благодати и труда; Корсаров эти стены отразили, И некогда их ангелы носили По беспредельным облачным полям, Как бы корабль, плывущий по волнам. В Лорето ангелы остановились{248}{249}{250}{251}, И там же стены сами водрузились. Все, что искусства составляет честь И что великолепного в нем есть, Наместники небес, владыки света, Чтоб отличить святое место это, Рассыпались здесь в щедрости своей. Любовники спешат, сойдя с коней, Колена преклонить в священном страхе И сделать вклад. От них берут монахи Дары на украшение церквей, И пилигримов наших благосклонно Устами их благодарит мадонна. Любовников в харчевне ждет обед. Был за столом ближайший их сосед Какой-то англичанин, злой, надменный, Приехавший сюда издалека И втайне насмехавшийся слегка Над этою обителью священной. Британец истинный, не знал он сам, Зачем скитается. Платил он вдвое, Как за антики, за поддельный хлам И презирал святых и все святое. Он в жизни признавал одну лишь цель — Вредить французам; звался — д'Арондель. Теперь он путешествовал, скучая. Любовница была с ним молодая, В дороге развлекавшая его, Еще надменней друга своего, Еще заносчивей, еще грубее, Но хороша и телом и лицом, Прелестна ночью, нестерпима днем, Порывиста в кровати, за столом, — Во всем она несхожа с Доротеей. Барон прекрасный, гордость Пуату, Сначала ограничился приветом, Затем упомянул про местность ту, Потом сказал о том, как он обетом Себя связал, тому немного дней, Доказывать везде, пред целым светом, Достоинства любовницы своей, А после заявил британцу прямо: «Я верю, благородна ваша дама; Она прекрасна и притом скромпа И, хоть молчит все время, несомненно, Блистательным умом одарена. Но Доротея с нею несравненна. Признайте это; я отдать готов Второе место ей без дальних слов». Британец гордый, с ним сидевший рядом, Тримуйля смерил леденящим взглядом И вымолвил: «Поймете вы иль нет, Что безразличны мне и ваш обет, И то, что ваша милая подруга Из знатного или простого круга? Пусть каждый удовольствуется тем, Что он имеет, не хвалясь ничем. Но так как вы, столь дерзко и столь ложно, Предположили, что хоть раз возможно Перед британцем первенство занять, Я должен вам сейчас же доказать, Что нас, британцев, и в подобном деле Затмить еще французы не успели И что моя любовница лицом, Плечами, грудью, крупом, животом И даже, я сказал бы, чувством чести, Конечно, вашей не чета невесте. А мой король (хоть толку мало в нем) Прикончит вашего одним щелчком, С его мясистой героиней вместе». «Ну, что же! — Ла Тримуйль ответил, встав. — Идем, узнаем, кто из нас не прав. Мне кажется, я защитить сумею Французов, короля и Доротею. Но я намерен, как заведено, Вам предоставить выбрать род дуэли, Верхом иль на ногах — мне все равно, Исполню все, чего б вы не хотели». «Нет, на ногах! — ответил грубый бритт. — Не думаю коню предоставлять я Плоды и труд подобного занятья, И к черту все — нагрудник, панцирь, щит! Не признаю их даже на войне я. Сегодня жарко, и удобней нам Сражаться голыми за наших дам: Наш поединок будет им виднее». «Извольте, сударь! Как угодно вам!» — Француз любезно молвил. Доротея, От страха за любовника бледнея, Была в душе, однако, польщена, Что возбудила этот спор — она; Но страшно ей, как бы суровый бритт Не проколол Тримуйля милой кожи, Которую тайком и не без дрожи Она слезами нежными кропит. А д'Арондель был занят англичанкой. Всегда спокойна, с гордою осанкой, Вовек не проливала слез она; Ей нравились тревога и война, И петушиный бой в ее отчизне Служил ей главным развлеченьем в жизни. Она звалась Юдифь де Розамор, Цвет Кембриджа, честь Бристольских контор{252}. Вот ваши доблестные паладины Готовы к бою посреди равнины, Обрадованы оба, что пришел Час битвы за красавиц и престол. Подняв высоко головы, всем телом Вполоборота встав движеньем смелым, Врагу не уступая ни на шаг, Они скрестили сталь блестящих шпаг. Не наслажденье ль наблюдать за ними, Их взмахи различая, их прыжки, Следить за их движеньями крутыми, За тем, как сыплют искры их клинки! Так созерцал в восторге иногда я На юге где-нибудь, под ясным Псом, Весь горизонт, от края и до края Горящий ослепительным огнем: За молнией другая чередом. Пуатевинцу удалось, не целя, Царапнуть подбородок д'Аронделя, И тотчас же он прыгает назад И ждет атаки. Англичанин гордый, На забияку бросив гневный взгляд, Ему наносит вдруг рукою твердой Удар в бедро; и, нежное, оно Горячей кровью вмиг обагрено. Они, в пылу воинственной забавы, Желали умереть во имя славы Своих любезных, чтоб узнать скорей, Которая прекрасней и милей; Но в это время путь держал в обитель Земель его святейшества грабитель, Искавший отпущения грехов. Носил разбойник имя Мартингера, На преступленье был всегда готов, Но в нем горела истинная вера, И, в покаянье не жалея сил, Быть начисто прощенным он любил. Он на лугу заметил двух красоток, Перебиравших крупный жемчуг четок, Их лошадей, их вьюченных ослов; Увидел их — и с ними был таков. Он англичанку вместе с Доротеей Захватывает, их добро берет И исчезает, молнии быстрее. А поединок между тем идет. Бойцы сражаются, тверды, упрямы, За честь французской и британской дамы. Наш добрый Ла Тримуйль заметил вдруг Любовницы своей исчезновенье. Он быстро озирается вокруг: Его оруженосец через луг Куда-то убегает в отдаленье. Британец тоже замер и стоит. Окаменев, они не знали сами. Что предпринять, и хлопают глазами Друг против друга. «О! — воскликнул бритт, — Нас обокрали, бог меня простит! Сражаясь, мы покрылись только срамом; Бежим скорей на помощь нашим дамам, Сперва освободим их, а потом Единоборство наново начнем». Наш Ла Тримуйль сошелся с ним во мненье, И, как друзья, идут они в смущенье На поиски. Но, сделав два шага, Один кричит: «Ах, шея! Ах, нога!» Другой за лоб хватается рукою; И, не имея более в груди Огня, необходимого герою, Когда готовится он храбро к бою, Оставив пыл и ярость позади, Едва дыша, не в силах двигать ноги, Они упали посреди дороги, И кровь их заалела на песке. Оруженосцы были вдалеке, Идя по следу дерзостного вора. Герои же, без денег, без призора И без одежд, покинуты, одни, Считали, что окончены их дни. Куда-то проходившая старуха, Увидев их, лежащих на пути, И христианского исполнясь духа, В свой дом их приказала отнести, Дала лекарства, привела в сознанье И в прежнее вернула состоянье. Старуху эту все в округе той Считали мудрой, чуть ли не святой: В окрестностях Анконы мы б едва ли Кого-нибудь почтенней увидали, В ком явственней была бы благодать. Не стоило труда ей предсказать И засуху, и дождевую влагу, Она больных умела врачевать И обращала грешников ко благу. Герои наши, ей поведав все, Совета испросили у нее. Задумалась старуха, помолчала, Открыла рот и наконец сказала: «Бог милостив! Любите дам своих, Но дайте мне навеки обещанье Не убивать себя во имя их. Узнать суровейшие испытанья Подругам вашим ныне пробил час; Поверьте, я жалею их и вас. Скорей оденьтесь, на коней садитесь, Смотрите же, в пути не заблудитесь; Мне богом вам поручено сказать: «Чтоб их найти, вам надо их искать». Был восхищен столь бодрыми словами Наш Ла Тримуйль, а бритт, пожав плечами, Задумчиво сказал: «Я верю вам. Мы тотчас же поедем по следам Разбойника. Но только для погони Нужны вооруженье, платье, кони». Она в ответ: «Все это вам дадут». По счастью, некий очутился тут Потомок Исааков и Иуд, Обрезанного люда украшенье, Всегда готовый сделать одолженье. Израильтянин, видя случай их, Деньгами их ссудил, как все евреи, И, как велось еще при Моисее, Из сорока процентов годовых; Нажитой этим способом полушкой Он поделился со святой старушкой.Конец песни восьмой
Песнь девятая
Содержание
Как Ла Тримуйль и д'Арондель нашли своих возлюбленных в Провансе и о странном случае, происшедшем на Благоуханной горе.
Два рыцаря отважных, после боя, Будь то на шпагах или же верхом. С мечом в руке или стальным копьем, В доспехах или голые, — героя Охотно признают один в другом И воздают хвалу с сердечным жаром Бесстрашию врага, его ударам, В особенности, если гнев утих. Но если, после поединка, их Прискорбная случайность посещает И общая невзгода у двоих, Тогда нечастье их объединяет. Печальная судьба — их дружбы мать — Толкает братьями героев стать. Случилось так и здесь: таким союзом Себя связали хмурый бритт с французом. Природа д'Аронделя создала С душой, не знающей добра и зла. Но даже это грубое созданье К Тримуйлю ощутило состраданье; А тот, внезапной дружбой увлечен, Осуществлял природное стремленье: Имел чувствительное сердце он. «Какое, — он промолвил, — утешенье Вниманьем вашим мне даете вы! Я Доротею потерял, увы! Но отыскать ее следы, быть может, Освободить ее, вернуть назад Мне ваша мощная рука поможет. Меня ж опасности не устрашат, Чтоб вам добыть Юдифь, мой милый брат». Два новых друга, движимые страстью, Отправились на поиски. К несчастью, Им на Ливорно указали путь. А Мартингер меж тем решил свернуть Как раз долиной противоположной. Пока неслись они дорогой ложной, Успел он без препятствий и легко Увлечь свою добычу далеко. Уводит пленниц он, немых от горя, В пустынный замок свой на берег моря, Меж Римом и Гаэтой, мрачный склеп, Ужасный, отвратительный вертеп, Где алчность, хитрость и обжорство, Заносчивость хмельная, им под стать, Кровавых распрей и насилий мать, Неудержимость гнусного разгула, В котором нежность и любовь уснула, Все, все соединилось, чтобы дать Образчик верный нравов человека, Который не стеснен ни в чем от века. О чудное подобие творца, Так, значит, вот ты каково с лица! Достигнув замка своего, мерзавец За стол садится между двух красавиц. Не соблюдая правил никаких, Он обжирается и пьет за них, Затем им задает вопрос: «А кстати, Кто будет эту ночь со мной в кровати? Все женщины равно годятся мне: Худа, толста, испанка, англичанка, Магометанка или христианка — Различья их я утоплю в вине!» От этих слов бессовестных краснея, Рыданий не сдержала Доротея, И бурно облака ее очей Льют слезы на точеный носик ей, На подбородок с ямкой небольшою, Что сам Амур ваял своей рукою; Ей скорбь и гибель чудятся кругом. Британка же задумалась, потом На дерзостного вора поглядела И улыбнулась холодно и смело: «Признаюсь, я была б совсем не прочь Добычей вашей стать на эту ночь, На что способна, доказав на деле, Дочь Англии с разбойником в постели». На эту речь достойный Мартингер Сказал, уж будучи немного пьяным: «В делах любви — британки всем пример», — И снова пьет стакан он за стаканом, Ее целует, ест и снова пьет, Ругается, смеется и поет. Рукою дерзкой — я сказать чуть смею — Он треплет то Юдифь, то Доротею. Та плачет; эта, виду не подав, Не покраснев, ни слова не сказав, Все позволяет грубому созданью. Но наконец окончен пир, и вот, Пошатывась и с невнятной бранью, Разбойник наш из-за стола встает, Сверкнув глазами, к выходу идет И, Бахусу воздав даров без меры, Готовится на празднество Венеры. Британке Доротея, вся в слезах, Тогда испуганно сказала: «Ах, Ужель разделите вы с вором ложе? Ужель разбойник заслужил, о боже, Чтоб наслажденье дали вы ему?» «Нет, я готовлюсь вовсе не к тому, — Утешила подруга Доротею, — И постоять за честь свою сумею: Я рыцарю любимому верна. Бог наградил, как знаете вы сами, Меня двумя могучими руками; Недаром я Юдифью названа. Умерьте же напрасную тревогу, Побудьте здесь и помолитесь богу». Она идет, окончив эту речь, В постель хозяина спокойно лечь. Завесой сумрачной ночная дрема Укрыла стены проклятого дома. Разбойники толпою, охмелев, Ушли проспаться, кто в сарай, кто в хлев, И в этот миг, дышать почти не смея, Совсем одна осталась Доротея. Был Мартингер необычайно пьян. Не говоря, не поднимая взгляда, Расслабленный парами винограда, Усталою рукой он обнял стан Красавицы. Но все же, без сомненья, Он жаждал сна сильней, чем наслажденья. Юдифь, в коварной нежности своей, Его заманивает в глубь сетей, Что смерть ему коварно расставляет, И вскоре обессиленный злодей Зевает тяжело и засыпает. У Мартингера был над головой Повешен, по привычке, меч стальной. Британка тотчас же его хватает, Аода, Иаиль припоминает, Юдифь, Дебору, Симона-Петра{253}{254}, От чьей руки ушам не ждать добра{255} И подвиг чей затмится все же ею. Затем, спокойно наклонясь к злодею, Приподнимает медленно она Тяжелую, как камень, от вина Хмельную голову. Нащупав шею, Она с размаху опускает меч И сносит голову с широких плеч. Вином и кровью залиты простыни; У нашей благородной героини На лбу, как и на теле, места нет, Где не виднелся бы кровавый след. Тут прыгает с кровати амазонка И убегает с головой в руках К своей подруге, для которой страх Был нестерпимее, чем для ребенка; И, плача, Доротея говорит: «О, господи! Какой ужасный вид! Какой поступок и какая смелость! Бежим, бежим! Займется скоро свет, И опасаюсь я за нашу целость!» «Прошу вас, тише, — Розамор в ответ, — Еще не все окончено, не скрою, Ободритесь и следуйте за мною». Но бодрости у Доротеи нет. А их любовники далеко были, Искали их и все не находили. Уже и в Геную они пришли И собираются пуститься в море И ждать вестей хоть на морском просторе О тех, чей милый след исчез с земли, Их в нестерпимое повергнув горе. Уносят волны их то к берегам, Где, христиан усердных ободряя, Отец святейший наш, на страх врагам, Смиренно бережет ключи от рая, То ко дворцам Венеции златой, Где правит муж Тефии{256} — дож седой{257}{258}, Или к Неаполю, к долинам лилий, Где рядом с Санназаром спит Вергилий{259}{260}. Несут их боги резвые ветров По темно-голубым хребтам валов К столь знаменитой в древности пучине, Где обитала прежде смерть, а ныне Невозмутимо ровных волн покой Не помнит больше о Харибде злой{261} И где не слышен больше рев унылый Псов, помыкаемых жестокой Сциллой, Где, не кичась уже былою силой, Под Этною гиганты мирно спят:{262} Так землю изменил столетий ряд! Они проходят через Сиракузы, Приветствуют источник Аретузы{263} И заросли густые тростника, Но где, увы, подземная река?{264} И море вновь, и вновь видений смена: Край Августина{265}, берег Карфагена{266}, Безмерно пышный прежде, а теперь Обитель зла, где мусульманин-зверь Объят пороком, жадностью и тьмою. И наконец, ведомые судьбою, Причаливают к Франции они. Там, утопая в сладостной тени, Стоят Марселя древние строенья, Подарок вымершего поколенья{267}{268}. О гордый град, где жил свободный грек, Ты прошлого не возвратишь вовек! Но быть под властию французских лилий, Как знают все, прекраснее стократ. К тому ж твои окрестности укрыли Благословенный и целебный клад. Мария-Магдалина, по преданьям, Служа Амуру в юности своей, Потом исправилась и с содроганьем Оплакивала жизнь минувших дней. Ей сделалась постылой Палестина, Она ушла во Францию и там В ущелий, на скалах Максимина{269}{270} Жестоко бичевалась по ночам. И вся округа с той поры, по слухам, Наполнена волшебным, чудным духом. К священным тем камням спешат припасть Паломники, которых мучит страсть, Которых тяготит Амура власть. Предание гласит, что Магдалина, Уже готовясь к смерти, как-то раз Просила милости у Максимина: «О, если некогда наступит час, Что на мою скалу, к моей пещере Любовники придут служить Венере, Пусть тотчас же погаснет пламень их, Пусть станет стыдно им страстей своих И пусть лишь горестное отвращенье Заменит их любовь и их волненье!» Благочестивый старец внял словам, Что молвила бывалая святая, И с этих пор, ту местность посещая, Мы ненавидим самых милых нам. Сначала ознакомившись с Марселем И чудесам его воздав хвалу, Наш Ла Тримуйль с суровым д'Аронделем Отправились на дивную скалу, Которую зовут Благоуханной И чье могущество, на гибель злу, Монахи прославляют неустанно. Влечет француза набожность туда, Британца ж — любопытство, как всегда. Взойдя наверх, на каменных ступенях Они увидели перед собой Толпу людей, стоящих на коленях. Две путницы там были. У одной Струились слезы, жалость вызывая; Была надменна и горда другая. О, встреча сладостная! Чудный час! Они своих любовниц отыскали! Они от них не отрывают глаз В том месте покаянья и печали. Юдифь рассказывает в двух словах, Как за позор и пережитый страх Ее рука разбойнику отмстила. Она в опасности не позабыла Кошель, набитый туго, захватить, Решив разумно, что не может быть Он нужен Мартингеру в преисподней. Затем, добравшись, с помощью господней, Со смертоносной саблею в руках, До выхода из замка, впопыхах Они с подругой побежали к морю И сели на корабль какой-то вскоре; Без торгу капитану заплатив И тотчас же оставивши залив, Они помчались по Тирренским волнам, И небо, вняв моленьям их безмолвным, Свело счастливиц с рыцарями их Под дивной сенью этих скал святых. О, чудо! О, волшебное явленье! Рассказ Юдифи в силах вызвать был В ее любовнике лишь отвращенье. О, небо! Что за злобное презренье В его душе сменило прежний пыл! Юдифи он не менее претил. А Ла Тримуйль, в чьем сердце Доротея Жила одна, соперниц не имея, Ее находит вдруг совсем дурной И к ней повертывается спиной. Красавица была не в силах тоже На рыцаря взглянуть без мелкой дрожи; И лишь высоко, в роще неземной, Спокойно радовалась Магдалина, Что этим чудесам — она причина. Увы! Была обманута она; Ей, правда, обещали все святые На нескончаемые времена, Что на ее скале, как в чарах сна, Влюбленные разлюбят; но Мария Забыла попросить, чтоб, исцелясь От чувства прежнего, в другую связь Любовники вступить не пожелали. Предвидел то и Максимин едва ли. Поэтому тотчас же обняла Юдифь Тримуйля, не храня приличий, И Доротея сладостной добычей Британцу восхищенному была. Аббат Тритем считал, что, без сомненья, Мария улыбалась с облаков, Подобные увидев измененья. Я оправдать ее вполне готов. Нам добродетель нравится; но все же И к прежнему занятью тянет тоже. Едва спустились вниз со скал святых Герои и красавицы, как сразу К ним возвратился прежний разум их. Вам ведомо по моему рассказу, Что чары действуют лишь в месте том. Тримуйль, припоминая со стыдом, Как он возненавидел Доротею, Ей целовал лицо, и грудь, и шею, И никогда, казалось, ни верней, Ни более покорным не был ей; Она ж от слез не находя покоя, В объятьях дорогого ей героя Ему дарила прежнюю любовь. Юдифь вернулась к д'Аронделю вновь, Не гневаясь и не гордясь нимало, И снова все, как было раньше, стало; И даже Магдалина без труда Грехи им отпустила навсегда. Француз отважный и герой британский, К себе на седла милых посадив, Отправились дорогой Орлеанской; Один и тот же дышит в них порыв: За родину помериться с врагами. Но, как вы понимаете и сами, Они остались добрыми друзьями, И ни красавицы, ни короли Меж ними распрей вызвать ее могли.Конец песни девятой
«Орлеанская девственница»
Песнь десятая
Содержание
Агнеса Сорель, преследуемая духовником Жана Шандоса. Сетования ее любовника и пр. Что случилось с прекрасной Агнесой в некоем монастыре.
Как! Предисловье делать всякий раз Ко всякой песни! Мне мораль постыла; Бесхитростно поведанный рассказ О том, что истинно происходило, Спокойный, без затейливых прикрас, Не блещущий ни юмором, ни сметкой, Вот чем цензуру можно сделать кроткой. Итак, читатель, приглашаю вас Отправиться своей дорогой прямо. Ведь главное картина, а не рама. Карл набожный, придя под Орлеан, Одушевлял бойцов отважных стан, В них жар любви к отчизне разжигая, И все рвались вперед, ему внимая. Он проповедовал им бранный пыл, И вид его надменно-весел был, Но в глубине души, увы, вздыхал он, Своей возлюбленной не забывал он. Ведь то, что он ее покинуть мог, Расстаться с нею хоть на краткий срок, Конечно, было доблестью большою: Простившись с ней, простился он с душою. Вернувшись восвояси и смирив Воинственной отваги опьяненье, Он испытал старинных чувств прилив, Любви благословенное мученье. Амур на смену демону побед Летит, и с ним бороться силы нет. Король, прослушавший не без досады Придворных бестолковые доклады, Спешит уединиться в свой покой И пишет там дрожащею рукой Письмо любви, обеты постоянства. Слезами было залито оно: Чтоб осушить их, не было Бонно. Один осел, из мелкого дворянства, Был отвезти записку снаряжен. Прошло не больше часа и, о горе, С запискою обратно скачет он. Король встревоженный, с тоской во взоре: «Как! Ты вернулся? — задает вопрос. — Мое письмо? Его ты не отвез?» «Мужайтесь, государь! Страшна утрата! Ах! Все погибло: в плен Агнеса взята Увы! Иоанны тоже след пропал». Услыша это грубое признанье, Король упал немедля без сознанья, И только для того он снова встал, Чтоб до конца испить свое страданье, Кто вынести удар подобный мог, Тот не любил глубоко, видит бог. Агнесу Карл любил, и этот случай Его пронзил тоской и злобой жгучей. Хоть общею заботой окружен, Едва не потерял рассудка он; Его отца свела с ума{271} причина Ничтожнее, — он был слабее сына{272}. «Ах! — вскрикнул Карл. — Я уступить готов Все рыцарство мое и духовенство, Иоанну д'Арк, остатки округов, Где признают еще мое главенство! Пускай берут британцы, что хотят, Но пусть мою любовь мне возвратят! Монарх злосчастный, где твое блаженство? Что толку в том, что волосы я рву? Я потерял ее, я в сердце ранен, Ах, может быть, пока я смерть зову, Какой-нибудь бесстыдный англичанин Овладевает, дерзостен и груб, Красой, рожденной для французских губ! Другой лобзанья с уст твоих срывает, Другому светит твой прекрасный взор, Рука другого грудь твою ласкает, Другой… О, небо! О, какой позор! И в этот миг ужасный, может статься, Она не думает сопротивляться. Ах, с темпераментом твоим, дитя, Ты можешь друга позабыть шутя!» Король унылый, неизвестность эту Не в силах вытерпеть, прибег к совету Астрологов, монахов, колдунов, Евреев, сорбоннистов, докторов И всех, кто бродит с книгою по свету{273}{274}. Он говорит им так: «Без лишних слов, Скажите, как дела с моей любезной: По-прежнему ль она в любви верна И обо мне вздыхает ли она; Не смейте лгать; таиться бесполезно». Они советуются, вздор меля, На всех наречьях, думая о плате: Тот изучает руку короля, Тот чертит треугольники в квадрате, Один следит Меркурия полет, Другой псалмы Давида достает, Твердит «аминь», и шепчет, и поет, Иной, чертя круги, взывает к бесу, А тот в стакане изучает дно, Как было в древности заведено, Чтоб приподнять грядущего завесу. Устав потеть, шептать и колдовать, Они свидетельствуют громогласно, Что добрый Карл спокойно может спать: С Агнесою все обстоит прекрасно, Монарху своему она верна, И что благоприятствуют влюбленным Все силы неба, звезды и луна. Извольте верить господам ученым! Шандоса беспощадный духовник Использовал благоприятный миг, И, несмотря на слезы, стоны, крик, Он овладел Агнесой грубой силой. Он счастие неполное постиг, Слепую страсть одну, без ласки милой, Союз без нежности, союз унылый, Которого любовь не признает. Взаимность сладкая — всего дороже! Скажите мне, на самом деле, кто же Приятно время проводил на ложе С любовницей, что горько слезы льет, Царапается, губы не дает? Но этого монах не понимает, Он лошадь непокорную стегает, Нимало не заботясь, каково Красавице в объятьях у него. Влюбленный по уши в свою подругу Паж, побежавший в город поживей, Чтоб оказать избраннице своей Достойную заботу и услугу, Спешит домой. Ах, что он увидал! Пред ним монах, сей изверг беспощадный, Сей похотливец, мерзостный и жадный, Как зверь, свою добычу пожирал. При этом виде паж, кипя отвагой, Напал на сволочь с обнаженной шпагой. Тогда монаха нечестивый пыл Самозащите место уступил. Вскочив с кровати, палку он схватил И на Монроза опустил с размаха. Сцепились два отважные бойца, И запылали яростно сердца, Пажа — любовью, злобою — монаха. Счастливцы, чей удел — спокойный труд, Далеких сел благочестивый люд, Привыкли наблюдать вблизи дубравы, Как волк жестокий с мордою кровавой Зубами шерсть овцы несчастной рвет И кровь своей невинной жертвы пьет. А если добрый пес с зубастой пастью, Сочувствующий ближнего несчастью, Летит к нему стрелой — свирепый волк, Клыками издавая страшный щелк, Овечку полумертвую бросает Лежать беспомощно в траве густой, Спешит к собаке, рвет ее, кусает И с недругом вступает в страшный бой; Израненный, он злобою пылает, Рычит и брызжет пеной и слюной; И всею силой своего сердечка Трепещет за спасителя овечка. Здесь было то же самое: монах Рассвирепевший, с палкою в руках, Дрался с Монрозом, полон зла и яда; И тут же — победителю награда — Агнеса на измятых простынях. Хозяин и хозяйка, дети, слуги, Услышав шум, бросаются в испуге Наверх. Они бегут со всех сторон И гнусного монаха тащат вон. Все за пажа, все против негодяя, Всем по душе отвага молодая. Итак, Монроз свободен и спасен; С красавицей вдвоем остался он. Его соперник, дерзок, хоть сражен, Отправился служить святую мессу. Но как утешить бедную Агнесу? В отчаянье, что увидал Монроз Ее красы в столь недостойном виде, При мысли о позоре, об обиде, Красавица лила потоки слез. Стыдом терзаемая, только смерти Она желала в этот миг, поверьте, И повторяла лишь одно: «Увы, Я вас прошу, меня убейте вы!» «Как? Вас убить? — вскричал Монроз, не в силе Сдержать волненья нежного. — Убить! Да если б даже вы и согрешили, Вы жить должны, чтоб грех ваш искупить. Подумайте, зачем вам жизнь губить. Вы злого ничего не совершили, Агнеса, дорогое божество! Все это грех монаха одного!» Хоть речь его была не слишком ясной, Зато огонь его влюбленных глаз Внушил желанье грешнице прекрасной Земную жизнь не прерывать тотчас. Пришла пора обедать. А печали (По опыту я это знаю, ах!) От века жалким смертным не мешали, Страдая, объедаться на пирах. Вот почему великие поэты, Добряк Вергилий и болтун Гомер, Которых с детства ставят нам в пример, Не упускают случай про банкеты Поговорить среди военных гроз Итак, друзья, Агнеса и Монроз Обедать сели у кровати рядом. Сперва в стыдливой скромности своей Они не подымали и очей, Затем, случайным обменявшись взглядом, Оправились и стали посмелей. Известно каждому, что в цвете лет, Когда нет меры нашему здоровью, Недурно приготовленный обед Воспламеняет страсть. Горячей кровью Пылает сердце, полное любовью, И мозг бутылкою вина согрет. Мы чувствуем приятное томленье, Ах, плоть слаба и сильно искушенье. Монроз влюбленный далее не мог Бороться с дьяволом в тот миг опасный; Упал он на колени и у ног Красавицы молил: «Кумир прекрасный, О, сжальтесь над моей любовью страстной, Не то умру я тотчас, видит бог! Вы не лишите страсть награды милой, Которую злодей похитил силой! Он преступленьем счастлив был. Увы, Ужель не наградите верность вы? Она взывает! Иль вы так черствы?» Был довод недурен, скажу без лести; Красавица признала вес его, Но не сдалась сейчас же оттого, Что наслажденье с соблюденьем чести Для сердца нежного милей всего, И легкое в любви сопротивленье Лишь подливает масло в упоенье. Но наконец Монроз счастливый, ах, Был утвержден в приятнейших правах, Войдя в благословенный рай влюбленных. Что слава Генриха пред этим? Прах! Да, королей свергал он побежденных. Да, Франция сдалась ему, дрожа, Однако сладостней судьба пажа. Но как обманчиво земное счастье! Как быстро рвется наслажденья нить! От чистого потока сладострастья Прекрасный паж едва успел вкусить, Как вдруг отряд британцев подъезжает, Идет наверх, стучится, дверь ломает. Монах проклятый, ты, не кто иной, Так подшутил над нашею четой. Агнеса чувств лишилась от испуга; Хватают бритты и ее и друга; Обоих их к Шандосу поведут. К чему присудит их ужасный суд? Увы! Любовникам придется туго; По опыту уже известно им, Что Жан Шандос бывает очень злым. В глазах у них невольное смущенье, А на душе тревога и волненье, Но щеки вспыхивают ярче роз При мысли о недавнем наслажденье. Ах, что их ждет? Как встретит их Шандос? На счастье их, случилось, что в тумане Дорогою ошиблись англичане, И показалось вдруг до двадцати Французских рыцарей на их пути, Которым об Агнесе и Иоанне Приказ был всюду справки навести. Когда сойдутся носом против носа Два петуха, любовника, барбоса, Иль узрит янсенист издалека Лойолы бритого ученика, Или, ультрамонтанца вдруг завидя{275}, Дитя Кальвина смотрит, ненавидя, Сейчас же начинается игра Когтей иль копий, клюва иль пера. Так точно даром время не теряют Французы и отважною гурьбой, Как соколы, на бриттов нападают, А те, конечно, принимают бой; Удары сыплются, мечи сверкают. Кобыла, что красавицу везла, Подобно всаднице, резва была; Она в пути вертелась и лягала, Прекрасную наездницу трясла; И вдруг как закусила удила: Ее ночная схватка испугала. Агнеса хочет слабою рукой Ее сдержать, но та галопом мчится. Напрасный труд! С неведомой судьбой Красавице придется помириться. В разгаре боя не видал Монроз, Куда Агнесу резвый конь унес. Летит она, как ветер, в туче пыли Без отдыха уже четыре мили. Но утомился конь и свой полет У монастырских задержал ворот. Кругом монастыря был лес тенистый; Река, блиставшая волною чистой, То медленно, то быстро, как стрела, Невдалеке извилисто текла. Поодаль холм зеленый возвышался; Он каждой осенью обогащался Дарами сладкими, что дал нам Ной{276}, Когда, покинув свой сундук большой, Предотвратил народов истребленье И выдумал вина приготовленье, За дни потопа утомлен водой. Кругом Помона с Флорой молодой{277} Разлили всюду нежную усладу, Блаженство обонянью, радость взгляду. Рай прародителей едва ли цвел Роскошнее, чем этот тихий дол; И не было еще полей на свете Прекрасней, чище, сладостней, чем эти. Вдыхая сей целительный эфир, Сердца смятенные позабывали Свои обиды, муки и печали, И роскошь городов, и целый мир. Вздохнув, взглянула нежная Агнеса На монастырь, белевший в чаще леса, На холм зеленый, реку, неба ширь. То был, читатель, женский монастырь. «Ах, наконец-то, — так она сказала, — Мне божия десница указала Молитвы и невинности приют. Увы! Должно быть, воля провиденья Меня сюда послала, чтобы тут Оплакала свои я прегрешенья: Здесь чистые затворницы живут, Не ведая мирского заблужденья, А я известна до сих пор была Лишь тем, что жизнь распутную вела». Агнеса, громко говоря все это, Заметила над воротами крест. Пред символом спасенья дольних мест Она склонилась, верою согрета, И, чувствуя раскаянье в крови, Покаяться в грехах решила честно; Прийти нетрудно к вере от любви: То и другое — сладость, как известно. Игуменья отправилась в Блуа Два дня назад (возможность представлялась Поправить монастырские дела), А здесь ее наместницей осталась Сестра Безонь{278}. Ей все повиновалось. Она, Агнесу увидав, велит Открыть ворота, ласково встречает Несчастную. «Войдите, — говорит, — Какой благой святитель посылает Нам эту гостью? Дивной красотой Блистаете вы, взоры удивляя. Скажите, вы не ангел, не святая, Которую господь нам шлет из рая, К обители смиренной и простой Особенную милость проявляя?» Агнеса скромно отвечает: «Нет, Я та, которыми наполнен свет, Опутана греховной паутиной, И если в рай мне суждено попасть, То там мне место рядом с Магдалиной. Судьбы капризной роковая власть, Господь, а главное — мой конь примчали Меня сюда в тревоге и печали. Грешней, чем я, отыщется едва ли; Но сердцем я не огрубела, нет; Ища добро, я потеряла след, Теперь нашла. Благодаренье богу, Который к вам мне указал дорогу». Ободрила почтенная сестра Агнесу, каявшуюся так мило, И, воспевая прелести добра, Пред нею двери кельи растворила. Там было чисто и освещено, Красиво убрано, цветов полно, Постель мягка и широка. Казалось, Что для любви она предназначалась. Агнеса радовалась от души, Узнав, как сладко каяться в тиши. Поужинав (об этом я ни разу Не умолчу, чтоб не вредить рассказу), Безонь сказала: «Милая сестра, Уже довольно поздно, спать пора. Вы знаете — лукавый, без сомненья, Захочет вас ввести во искушенье;{279} Но против этого есть верный меч: Нам надо на одной кровати лечь; Тогда нечистый вас не испугает. Увидите, как это помогает». Агнеса добрый приняла совет: Они легли в постель и гасят свет. Агнеса, рано радоваться чуду: Судьба тебя преследует повсюду. Читатель! Я не в силах говорить. Сестра Безонь… Но пред таким моментом Нельзя молчать! Я должен все открыть! Сестра Безонь — она была студентом, В наружности которого слились И Геркулес, и нежный Адонис. Лет двадцать он имел, никак не боле, Был свеж, румян, силен и белокур. Игуменью — увы! — в земной юдоли, Как видите, преследовал Амур. Сестра-студент в покое и богатстве Довольно весело жила в аббатстве. Так некогда у Ликомеда жил Переодетый девушкой Ахилл{280} И с Деидамией блаженство пил. Едва в постель успела лечь Агнеса С монашенкой, как тотчас же нашла, Что перемена к лучшему (повеса Взялся за дело) в той произошла. Кричать, сопротивляться — мало толку, Когда овца попала в зубы к волку. Страдать безмолвно, не борясь со злом, Исходом лучшим было, без сомненья, Что размышлять! Да в случае таком И времени-то нет для размышленья. Когда студент (ведь люди устают) Прервал на время свой усердный труд, Прекрасная Агнеса в сокрушенье Так думала об этом приключенье: «Увы! не слышит бог мою мольбу, Как я желала бы остаться честной; Но трудно спорить с истиной известной, Что смертному не победить судьбу».Конец песни десятой
Песнь одиннадцатая
Содержание
Англичане оскверняют монастырь. Сражение святого Георгия, патрона Англии, со святым Денисом, патроном Франции.
Я расскажу вам без затей напрасных, Что утром два затворника прекрасных, Запретной негою утомлены, Лежали рядом, тесно сплетены, И видели счастливейшие сны. Ужасный шум заставил их проснуться. Кругом сверкают факелы войны, Смерть торжествует, стоны раздаются, Повсюду кровь и павшие видны. То конница британцев оголтелых Осилила отряд французов смелых. Французы, оттесненные назад, С мечами наголо летят по лесу; Британцы, их преследуя, кричат: «Умрите иль отдайте нам Агнесу». Но где она? Кто знает, наконец? Старик Колен, пастух, седой мудрец, Сказал им: «Господа, пася овец, Я видел, как вошла в ворота эти Красавица, милее всех на свете». «Агнеса!» — бритты радостно кричат: «Она в монастыре, сомненья нету, Идем, друзья!» Безбожным нет запрету; Перелезают стены, все громят, И волчья стая — посреди ягнят! Бегут, предавшись дикому веселью, Из спальни в спальню и из кельи в келью, В часовню, в погреб, в монастырский сад. Бесстыдники хватают что придется! Сестра Урсула, о сестра Мартон, В очах у вас смятенье, сердце бьется, Вы мечетесь — враги со всех сторон, Бежать хотите, путаетесь в юбке, Но все напрасно, бедные голубки! Вы обнимаете алтарь святой, Слова молитв коверкая с испугу. Но тщетно обращаетесь с мольбой Вы к своему небесному супругу. Господне стадо на его глазах Неистовые нечестивцы, ах, Насилуют на самых алтарях, Не слушая их крик, их лепет детский. Я знаю, что иной читатель светский, Бесстыдный человек, монахинь враг, Плохой шутник, напыщенный дурак, Смеяться станет. Головы пустые, Им все смешно! Но, сестры дорогие, Вам каково, неопытным таким, Стыдливым, целомудренным, простым, Вздыхать и биться, сердцем холодея, В объятьях беспощадного злодея, Снося противных поцелуев грязь! От крови свежепролитой дымясь, Ответствуя на тихий стон проклятьем, Они мешают ненависть с объятьем, Неистовствуют, бога не страшась. Колючи бороды, свирепы руки, Дыханье отвратительно смердит, И жгут тела. Чудовищен их вид, А ласки причиняют только муки. В обители святой они совсем Как демоны, громящие Эдем. Ликуя, злодеянье с наглым взором Невинных упивается позором. Мартон, свершительницей добрых дел, Барклай неумолимый завладел, Шипэнк жестокий и Уортон проклятый Гоняются за кроткою Беатой. Богохуленья, слезы и огонь. Вот в суматохе на сестру Безонь Напали двое, спереди и сзади; Студент напрасно молит о пощаде: То вопиющего в пустыне глас. Настигли хищники в святенном стаде, Агнеса благородная, и вас, И вы своей не избежали доли — Быть грешницей помимо вашей воли. Начальник святотатцев, рослый бритт, Бросается к сопернице Харит. Ему, о дисциплине помня свято, Агнесу уступают два солдата. Святое небо и в разгаре бед Нам иногда ниспосылает свет. В тот час, когда исчадья Альбиона, Невиность попирая и закон, Творили мерзость посреди Сиона, — С высот небесных Франции патрон, Добряк Денис, насильем возмущен И ловко за нос проведя святого Георгия — врага французов злого, Стремительно из рая мчится вон. Луча полдневного он не седлает На этот раз для спуска — оттого, Что тотчас бы заметили его. Он с богом тайны{281} в договор вступает. Загадочное это божество Мошенникам нередко помогает (И это очень жалко), но порой Его услуги ищет и герой; Во храме и дворце — он всюду нужен И с нежными любовниками дружен. Дениса в облако он поместил И незаметно наземь опустил, Святого окружив глубокой тайной, С предосторожностью необычайной. Денис в Блуа окольным шел путем; Святителю Иоанна повстречалась, Которая, на конюхе верхом, Проселочной дорогой пробиралась, Моля усердно, чтоб помог творец Ей отыскать доспехи наконец. Едва Денис заметил в отдаленье Свою избранницу, он ей кричит: «О Девственница, Франции спасенье, Невинных и монархов крепкий щит, Иди! Я долее терпеть не в силе. Иди! И прояви священный гнев. Иди! Пускай спасительница лилий Спасет моих благословенных дев. Вот монастырь! Там зло одолевает: Скорей!» И Девственница поспешает. Святой Денис, ей замени слугу, Погонщика стегает на бегу. И вот Иоанна посреди военных, Которые терзают дам почтенных. Была она без платья. Некий бритт Ее увидел. Гнусный безобразник Подумал, что она пришла на праздник. Ему по вкусу героини вид, И в наготе, его привлекшей взгляды, Он грубо ищет низменной услады. Ему ответом был удар меча В нос! Негодяй упал с лицом багровым, Ругаясь громко непристойным словом, Тем, что, довольно коротко звуча, Таит намек на родственные узы; Его, к несчастью, любят и французы. «Остановитесь, нечисти сыны, Побойтесь бога, дети Сатаны!» — Кричит сурово этим оголтелым Иоанна над его кровавым телом. Но нечестивцы, занятые делом, Не слушают ее призыва. Так побеги молодые жрет лошак И окрика садовников не слышит. Иоанна, разъяренная вдвойне При виде их бесстыдства, гневом пышет И, полная отваги, вся в огне, Летит бесстрашно от спины к спине, От ребер к ребрам и от шеи к шее, Святым копьем разя все горячее. И тот, который только начинал, И тот, который вот уже кончал, Ударом страшным по спине, по ляжке, Повержен — всякий на своей монашке; И, похотью еще напоены, Летят их души в лапы Сатаны. Один Уортон, злодей, могучий телом, Покончивший всех раньше с гнусным делом, Жестокий воин, Исаак Уортон, С монашенки вскочил один лишь он; Схватив оружье и меняя позу, Иоаннину встречает он угрозу. Вы наблюдали бой свирепый весь, Святой Денис, французов покровитель! Почтительно прошу, не подтвердите ль То, что Иоанна совершила здесь. Вскричала удивленная Иоанна: «О мой Денис, мой дорогой святой, Вот мой нагрудник и камзол, как странно! Да ведь на нем и шлем небесный мой! О, что я вижу! Негодяй проклятый Тобой подаренные носит латы!» Все это было верно. Дело в том, Что (вы, читатель, не забыли это) Агнеса их надела и потом Была Шандосом вскоре же раздета. Оруженосец рыцаря Уортон Теперь был в эти латы облечен. Иоанна д'Арк! На удивленье миру Ты занесла десницу из десниц За честь, за королевскую порфиру И за невинность сотни голубиц, Которых твой патрон хранил неважно. Он молча созерцает, как отважно Ты собственные латы сгоряча Разбить готова взмахами меча. В ужасном подземелье Этны дальней Вулкана одноглазые друзья Стучат по искрометной наковальне Куда слабее, чем рука твоя, Когда они, сильны, свирепы, дики, Куют оружье своему владыке. Надменный бритт, закованный в булат, Смущенный, отступает шаг назад, Дивясь тому, как ловко и как метко Его колотит голая брюнетка. Обезоружен этой наготой, Боясь ее коснуться, как святыни, Он держит меч трепещущей рукой И только защищается отныне, Любуясь прелестями героини. Отсутствие Дениса-добряка Меж тем святой Георгий замечает; Он понял тотчас же, что помогает Французам их патрон исподтишка. Законною тревогою объятый, Он озирает горние палаты И наконец, сомнения гоня, Велит подать известного коня{282}. Коня подводят, и, закован в латы, С копьем в руке, святой во весь опор Пускается в неведомый простор, Где сонм шаров светящихся мелькает, Которые мечтательный Рене{283} В тончайшем прахе, в вихревой волне Без устали вращаться заставляет{284}, Несчетных звезд неистовый циклон, Где все покорно воле притяженья Иль, может быть, о фантазер Ньютон, Полету твоего воображенья. Разгневанный Георгий на лету Одолевает эту пустоту И скачет по святителеву следу, Когда Денис уже трубит победу. Так ночью зажигает небосвод Лучами ослепительного света Внезапно налетевшая комета И поражает ужасом народ; Трепещет папа; в горе, поселяне Неурожай предчувствуют заране. Едва святой Георгий вдалеке Узрел Денисов облик, для примера Он грозное копье потряс в руке И произнес, совсем как у Гомера:{285}{286} «Соперник немощный, Денис, Денис, Поддержка нечестивцам и смутьянам, Ты, значит потихоньку сходишь вниз И пакостишь героям англичанам! Начертан ход событий на века: Ни твой осел, ни женская рука Над ним не властны. Бойся ж, бойся мести Тебе, Иоанне и французам вместе! Уже твоя трясучая башка С убогих плеч однажды отлетела; Ее вторично отделить от тела Не постесняется моя рука; Достойный пастырь воровского края, Которому ты милости творишь, Снеси ее еще разок в Париж, Держа в руках и нежно лобызая». Ответил, руки к небесам воздев, Патрон прекрасной Франции смиренно: «Святой Георгий, мой собрат почтенный! Ты все еще не позабыл свой гнев? Давно в раю мы обитаем оба, А в сердце у тебя все та же злоба. Как! Мы, которым ото всех почет, Почиющие в драгоценных раках, Не сеем мира, а, наоборот, Проводим время в бесполезных драках? Зачем упорно хочешь ты войны Взамен спокойствия и тишины? Зачем святителей твоей страны Мутить обитель рая так и тянет? Безбожники британцы! Есть предел Долготерпенью. Гром небесный грянет, И за свершителей ужасных дел Молить всевышнего никто не станет. Ужасен будет грешников удел. Заступник рьяный адовых исчадий, Святитель желчный, я тебя молю, Будь кротче! Не мешай мне, бога ради, Помочь своей стране и королю!» При этой речи, от волненья красный, Георгий вспыхнул яростью ужасной; И, слушая, что говорит француз, Он всей душою рвется в бой опасный, Предполагая, что соперник — трус. Он налетает, взорами сверкая, Как сокол, пташку встретив на пути. Денис, благоразумно отступая И времени напрасно не теряя, Осла крылатого зовет: «Лети, Лети сюда, чтоб жизнь мою спасти». Так говоря, он позабыл, конечно, Что жизнь его не прекратится вечно. Осел наш возвращался в этот миг Из солнечной Италии обратно (Зачем, куда — читателю понятно). Дениса доброго услышав крик, К святителю он быстро подлетает, С лазурной высоты спускаясь вниз. Взобравшись на спину ему, Денис Булат британца павшего хватает И, яростно размахивая им, Вступает в бой с соперником своим. Георгий, обозленный, наступает И делает мечом ужасный взмах Над головой святого. Но сноровка Не помогла. Тот уклонился ловко, И голова осталась на плечах. Вновь всадники несутся друг на друга, Сверкают лезвия, звенит кольчуга. Какая мощь, какая красота! Упоены отвагою своею, Стараются попасть в забрало, в шею, В сиянье, в пах и в прочие места. Оспаривая друг у друга славу, Они победы отдаляли миг, Как вдруг неистовый раздался крик: Осел запел ужасную октаву, Которая все небо потрясла; И Эхо повторило крик осла. Георгий побледнел. Денис смышленый, Использовав момент, удар нанес И отрубает у героя нос{287}. Обрубок катится, окровавленный. Хоть нету носа, но отвага есть; В душе Георгия пылает месть. С проклятием он бога поминает И, яростный удваивая пыл, Заступнику французов отрубает Тот член, что Петр у Малха отрубил. Святой осел пронзительно завыл, И райские чертоги содрогнулись. Небесные ворота распахнулись; Блистательный архангел Гавриил, Своими огнезарными крылами Спокойно рассекая высоту, В пространстве показался над бойцами, Неся в руке лилейной ветку ту, Что веяла когда-то, зеленея, В божественной деснице Моисея, Когда он в море, покидая Нил, Египетское войско утопил. «Что я тут вижу? — закричал сердито Архангел на дерущихся святых. — Как! Слава аналоев золотых, Смиренье, крест — все вами позабыто! Приличны страсти и огонь войны Для тех, что женщинами рождены. Пусть, вечно недовольные собою, Безумцы смертные, земли сыны, С мирскою ратоборствуют судьбою. Но вас зачем сражаться черт понес! Чего вы меж собой не поделили? Блаженство ли наскучило вам, или С ума сошли вы? Боже! Ухо! Нос! Как вы решились, дети совершенства, Позабывая вечное блаженство, Сражаться, крови не щадя своей, Из-за каких-то жалких королей! Довольно! Слушаться меня живей, Иль с раем вам придется распроститься. Я вам приказываю помириться. Вы, господин Денис, берите нос И помолитесь, чтобы он прирос. Георгий-злюка, ухо подберите И поскорей на место водворите». Денис послушный тотчас же спешит Исполнить все, что Гавриил велит. Георгий тоже поднимает ухо С травы. Соперники бормочут глухо «Oremus», умилительный для слуха. Все пристает прекрасно. Все спешит Немедленно принять обычный вид. И нос и ухо прирастают плотно, От ран не остается и следа: Настолько тело жирно и добротно У жительниц небесных, господа! Тут Гавриил начальническим тоном «Теперь поцеловаться!» — говорит. Добряк Денис, не помнящий обид, Охотно, первый, поцелуй дарит. Георгий покоряется со стоном, Клянясь в душе, что после отомстит. Затем архангел следом за собою Велит лететь смирившимся святым В цветущий рай дорогой голубою, Где сладостный нектар готовят им. Вы сомневаетесь, читатель строгий, В моих словах? Я, право, не солгал. У стен, что ток Скамандра{288} омывал, Не раз в боях участвовали боги. И разве не поведал вам Мильтон Про ангелов крылатый легион{289}, Который бился в голубых просторах? Как щепками, швырял горами он И применял, что много хуже, порох. Коль Сатана и Михаил сошлись Когда-то в небесах, чтоб насмерть биться, Тем более Георгий и Денис Могли друг другу в волосы вцепиться. Но если мир на небесах зацвел, То человеческий унылый дол Был, как обычно, преисполнен зол. Благочестивый Карл к Агнесе милой Летел мечтой, страдая с прежней силой. А между тем Иоанна с торжеством Работала блистающим мечом; Ее соперника ждала могила: Она ему то место отрубила, Которым монастырь позорил он; Пошатываясь, Исаак Уортон Роняет меч, проклятье изрыгает И, нераскаявшийся, умирает. Монахинь древних величавый строй, Увидев, что неистовый герой Лежит во прахе, кровию измазан, Воскликнул «Ave», в радости живой. Что, чем грешил злодей, тем и наказан. Сестра Беата, чей девичий стыд Не пощадил неумолимый бритт, Благодарила небо с тихим стоном, Тайком любуясь яростным Уортоном, И причитала сладко, прочим в лад: «Увы! Никто так не был виноват».Конец песни одиннадцатой
Песнь двенадцатая
Содержание
Монроз убивает духовника. Карл находит Агнесу, утешавшуюся с Монрозом в замке Кютандра.
Я поклялся, что сух и точен буду, Мораль и отступленья позабуду, Но бог любви всесилен, и пером Моим он, как ему угодно, водит. Пишу я все, что в голову приходит, Капризным вдохновляем божеством. Красавицы! Девицы, вдовы, жены, Амуром созванные под знамена Заманчивой, но яростной войны, Бывает так, что двое влюблены В одну из вас. Во всем они равны: В талантах, в грации, в любви до гроба. К себе располагают сердце оба: Трепещет грудь, Амур велит любить, И вы не знаете, как поступить. Учителя рассказывают в школах Историю осла (не из веселых).{290} Сему ослу был кем-то принесен Обед в двух мерках и поставлен он На равном расстоянье с двух сторон. Томимый этим искушеньем равно, Осел не знал, какой избрать удел, Стоял, ушами шевеля, не ел И, равновесье сохранив, бесславно От голода, близ пищи, околел. Страшитесь следовать таким примерам, Мои красавицы! Поверьте мне: Шепнув «твоя» обоим кавалерам, Окажетесь вы счастливы вдвойне. Вблизи обители благословенной, Увы, опустошенной и растленной, Где за своих монахинь отомстил Денис рукою Девы вдохновенной, На берегу Луары замок был С боями{291}, башнями, мостом подъемным, С глубоким рвом, который окружал Стоячею водой высокий вал, С величественным парком, дряхлым, темным, Куда полдневный луч не проникал. В прекрасном замке этом был сеньором Барон Кютандр, старик с орлиным взором. Гостеприимно всех встречали там. Барон Кютандр, добряк меж добряками, От сердца радовался всем гостям. Французов, бриттов — всех он звал друзьями; Будь странник босиком иль в сапогах, Принц, турок, женщина или монах — Всех принимал охотно рыцарь старый, Но требовал, чтоб приходили парой. Своей причуды вовсе не тая, Он блюл ее суровее закона И нечета не признавал. Своя Фантазия у каждого барона. Когда попарно гости шли к нему, Все было превосходно, но тому, Кто приходил один, бывало худо: Он голодал и долго ждал, покуда Другой не подкрепит его права, Совместно с ним составив цифру два. Иоанна, облачась в доспехи брани, Бряцавшие на величавом стане, С Агнесою, под вечер, без труда, Ведя беседу, прибыла туда. Монах, не потерявший их следа, Монах, исполнен злобы и нечестья, Подходит к стенам мирного поместья. Как волк, которым бедная овца Была обглодана не до конца, Стуча зубами и сверкая взором, Вокруг овчарни крадется дозором, Так этот англичанин, поп и вор (В душе пылает похоть, алчен взор), Отыскивал, блуждая ночью темной, Добычу, отнятую у него. Звонит, вопит он. Слуги одного Увидев гостя, грузный и огромный Сейчас же поднимают мост подъемный, И духовник Шандоса, поражен, Цепей тяжелых слышит гулкий звон; Подъемный мост на воздух вознесен. При этом зрелище — судите сами, Кто стал божиться? Гнусный духовник. Он бесновался, он махал руками, Хотел кричать, но в горле замер крик. Нередко наблюдаем мы в окошко, Как, пробираясь между черепиц, Пытается из голубятни кошка Достать когтистой лапкой милых птиц. Она глядит свирепо, и с испугу Бедняжки жмутся в глубине друг к другу. Монах еще сильнее был смущен, Когда под деревом заметил он Красавца с золотыми волосами, С отважным взглядом, с черными бровями, С пушком на подбородке, в цвете сил, Блистающего красотою смелой И молодостью, розовой и белой. То был Амур, или, верней, то был Прекрасный паж: Монроз осиротелый Искал предмет своей любви день целый. Блуждая так, он в монастырь попал. Его улыбка всех сестер пленила, Он был ничуть не хуже Гавриила, Который их с небес благословлял. И каждая при взгляде на Монроза Краснела, точно молодая роза, Шепча: «Зачем он не пришел в тот час, Господь, когда насиловали нас!» Все окружили юношу зараз, И вот, узнав, что ищет он Агнесу, Игуменья коня ему дает И провожатого, чтоб он по лесу Напрасно не плутал и без хлопот Доехал до Кютандровых ворот. Монроз спешит и видит, подъезжая, Стоящего у моста негодяя. Тут, злобою и радостью пылая, Кричит он: «А! Так это ты, подлец! Клянусь Шандосом и святою мессой, Нет, более того, клянусь Агнесой, Что будешь ты наказан наконец». Монах отчаянный не отвечает, Рука его от ярости дрожит. Берет он пистолет{292}, курок спускает: Бац! Порох вспыхивает и блестит, Шальная пуля наугад летит, Но направляемый рукой заблудшей — Из выстрелов, конечно, самый худший. Паж метко целится и сразу — хлоп Ужасного монаха в медный лоб, Где подлых замыслов была обитель. Тот падает. Прекрасный победитель, Внезапный сострадания порыв Отзывчивой душою ощутив, «Ах! — произнес. — Умри, по крайней мере, Как человек, в раскаянье и вере. Прочти «Те Deum». Ты собакой жил, Так помолись, чтоб бог тебя простил». «Нет, — отвечал преступник рясоносный, — Прощай, прощай, я к дьяволу иду!» Сказал — и умер. Дух его поносный Умножил первый легион в аду{293}{294}. В то время, как монаха в полном сборе Встречал, вздувая пламя, сонм чертей, Благочестивый Карл, с тоской во взоре, Вздыхая по возлюбленной своей, Гулял верхом, чтоб успокоить горе, Унылый, со своим духовником. Читателю еще он незнаком. Я парой строк сейчас исправлю это И поясню, кто ради этикета Был к королю, как ментор, приближен. Он снисхожденье возводил в закон: Добра и зла неточные мерила Приятно зыблила его рука, Его улыбка смертным говорила, Что ноша добродетели легка. Он отпускал грехи во имя веры, Имел приятный голос и манеры, Все примечал и превосходно льстил, Всегда любезный и на все согласгтый. Аббат монарха Франции прекрасной (Он имя Бонифация носил) Ученейшим доминиканцем был. Прощая слабости людей охотно, Он набожно и сладко говорил: «Как жаль мне вас! Со стороны животной Уязвлены вы. Это доля всех. Любить Агнесу несомненный грех, Но этот грех простится всех скорее. Народ господень, древние евреи, Ему нередко предавались. Сам Отец всех верующих, Авраам, Решил иметь ребенка от Агари{295}, — Его пленил служанки юной взгляд, Недаром возбуждавший ревность в Саре. Иаков на двух сестрах был женат{296}. Все патриархи жили в сладкой смене Различнейших любовных наслаждений. Старик Вооз — и тот решил позвать Старуху Руфь с ним разделить кровать{297}. Натешившись с Вирсавией вначале{298}, Давид великий прожил без печали Душой и телом в избранном серале. И храбрый сын его, известный тем, Что волосы врагам его предали{299}, Раз переведал весь его гарем. Вам ведома и участь Соломона: Он был мудрец, пророк и веры щит, Иеговы{300} опора, меч закона, И волокита был из волокит. Так было с первого грехопаденья. Так есть и будет — это доля всех. Утешьтесь! Юность ищет наслажденья, А старость мудрая замолит грех». «О, — Карл промолвил, — ваша речь прекрасна, Но, к сожаленью, я не Соломон. Он счастлив был, а я скорблю ужасно. Имел любовниц целых триста он{301}, А я одну, и с этой разлучен». По носу слезы потекли, мешая Унылому монарху говорить. Тут видит он, во всю несется прыть Какой-то всадник, реку огибая, Подпрыгивая на седле смешно. Король узнал в нем толстяка Бонно. Вы знаете, наперсник тайны милой Неотразимой обладает силой, Когда терзает нас разлуки гнет. Король, взволнован, как при виде чуда, Кричит ему: «Кой черт тебя несет? Что делает Агнеса? Сам откуда? Где взор ее блестит светлей зари? Скорей же отвечай мне, говори!» Бонно, монаршим не смущен допросом, От точки и до точки рассказал О том, как куртку он переменял, Как поваром вождя британцев стал, Как он удачливо порвал с Шандосом, Когда в бою забыли про него, Чем он обязан хитрости и чуду; Как он красавицу искал повсюду; О том, что знал, наговорил он груду; А, собственно, не знал он ничего: Не знал он рокового приключенья, Монаха страсти, не пропавшей зря, Любви пажа, исполненной почтенья, И мерзости в стенах монастыря. Все злоключения перебирая, Вздыхая, плача и считая дни, Судьбу и злых британцев проклиная, Еще печальней сделались они. Настала ночь. Сияя кротко миру, Медведица направилась к надиру{302}. Задумчивому королю аббат Сказал: «Уж поздно, в это время спят Иль ужинают все без исключенья, Будь то король или монах простой». Карл, горестно поникнув головой, Тая в груди любовные мученья Все из-за той, которую искал, Не отвечая, молча поскакал, И очутились перед замком вскоре Все трое — Карл с аббатом и Бонно. Прах пастыря, погрязшего в позоре, Швырнувши, как негодное бревно, В канаву, паж, задумчивый и томный, Глядел с досадою на мост подъемный, Который разделял его и ту, Чью мысленно ласкал он красоту. Трех всадников увидев в лунном свете, Он сладкую надежду ощутил, Что выручат его сеньоры эти, И выступил вперед, пригож и мил, Скрывая имя и любовный пыл. Как только с ними он заговорил, К себе внушил Монроз расположенье. Он королю понравился. Аббат На нем остановил елейный взгляд И пастырское дал благословенье. Они составили все вместе чет. Мост тотчас опускается, и вот Коней копыта с грохотом суровым Стучат по доскам четырехдюймовым.{303} Толстяк Бонно на кухню поспешил И принялся за ужин у камина. Аббат колена тотчас преклонил И набожно творца благодарил; А Карл, принявший имя дворянина, Почтенного Кютандра отыскал. Барон, с приветом (он еще не спал), Ведет его к роскошному покою. Карл только одиночества желал, Чтоб насладиться нежною тоскою; Он об Агнесе лил потоки слез, Не зная, где искать свою подругу. Осведомленнее был наш Монроз. Он очень ловко расспросил прислугу, Где спит Агнеса, где ее покой, Все осторожным взглядом замечая. Как кошка, что идет, подстерегая Застенчивую мышку, чуть ступая, Неслышною походкой воровской, Глазами блещет, коготки готовит И, жертву увидав, мгновенно ловит, — Так юный паж, к красавице спеша, На цыпочках, едва-едва дыша, Шел ощупью, и наконец завеса Отдернута, и перед ним Агнеса. Быстрей, чем пуля из ружья летит, Быстрее, чем железные опилки Притягивает яростный магнит, Войдя, любовник, молодой и пылкий, Пал на колена пред софой, где спит Его красавица, подобно розе, В непринужденной и прелестной позе. Для размышленья не было ни сил, Ни времени. Огонь их подхватил В одно мгновенье ока. В раскаленных Лобзаньях нежные уста влюбленных Слились. Заволокло желанье взор. Слова любви? Они остались в горле. Их языки друг друга нежно терли, И был красноречив их разговор. О, вздохи нег, безмолвье упоенья, Прелюдия оркестра наслажденья! Но этот сладостный дуэт прервать Пришлось им по причине неизбежной. Агнеса помогла рукою нежной Пажу постылые одежды снять. Век золотой не знал их, безмятежный; Придуманная, чтобы нас стеснять, Противная природе, эта шкура Всего невыносимей для Амура. Кто это, боги! Флора и Зефир? Психея ли божка любви ласкает? Венеру ли твой юный сын, Кинир{304}, В объятьях сжал, позабывая мир, Меж тем как Марс ревнует и вздыхает? Карл, этот Марс французский, уж давно Вздыхает рядом в обществе Бонно. Он ест задумчиво и пьет печально. Старик слуга, болтлив професьонально, Чтоб мрачное высочество{305} развлечь, Никем не прошенный, заводит речь О том, что на дворянской половине Спят двое путешественниц — одна Брюнетка с гордым видом героини, Другая — точно лилия нежна. Карл вздрогнул: «Ах, Агнеса, где ты, где ты?» Он заставляет повторить приметы: Какие волосы, улыбка, цвет Лица и глаз, сложенье, сколько лет. Он узнает своей любви предмет, Ее, жемчужину земных жемчужин, И, убежденный, забывает ужин. «Прощай, Бонно! Я к ней бегу тотчас». Сказал — и улетел, стуча при этом: Король, он редко прибегал к секретам. «Агнеса!» — повторял он столько раз, Что до Агпесы крики долетели. Чета любовников дрожит в постели. Как избежать беды им, вот вопрос. Но был изобретателен Монроз. Он замечает в выступе светлицы Подобие молельни иль божницы, Алтарь миниатюрный, где порой За деньги служит капуцин{306}{307} седой. Пустая ниша в глубине алькова Еще ждала пристойного святого, Закрытая завесой голубой. Что делает Монроз? Быстрее мыши За занавескою в алтарной нише Он быстро прячется и впопыхах, Конечно, забывает о штанах. Король вбегает в спальню, обнимает Свою Агнесу, нежный вздор меля, И, весь в слезах, использовать желает Права любовника и короля. Святой за занавескою, с тоскою Все это видя, испускает стон. Король подходит, трогает рукою И восклицает, крайне удивлен: «Отцы святые! Черт! Я это вскрою!» В нем полуревность, полустрах кипит. Он дергает порывисто и резко — И падает с карниза занавеска. Прекрасный паж, испытывая стыд, Спиною повернулся. Выделяясь, Белело то, что в дни былых побед Могучий Цезарь, вовсе не стесняясь, Вручал тебе, красавец Никомед{308}{309}{310}, За что Великий Грек во время оно Особенно любил Гефестиона{311}{312}{313}, Что Адриан явил средь Пантеона… Герои, сколько слабостей у вас! Читатели, вы помните ль рассказ О том, как, в сердце вражеского стана, Уснувшего Монроза нежный зад Тремя цветами лилии подряд Ночной порой украсила Иоанна И как святой Денис ей помогал? При виде лилий и при виде зада Король смутился и молиться стал, Вообразив, что это козни ада. Агнесу жгут раскаянье и страх, Она теряет чувства, крикнув: «Ах!» Взволнованный король, в порыве муки, Зовет, держа несчастную за руки: «Сюда! Здесь дьявол!» Слыша эти звуки, Встревоженный монах, забыв еду, Спешит помочь попавшему в беду; Испуганный Бонно, пыхтя, несется; Иоанна пробудилась и берется За добрый меч, что в битвах закален, Готовая на бой идти отважно; И только в спальне у себя барон, Не слыша ничего, храпел протяжно.Конец песни двенадцатой
«Орлеанская девственница»
Песнь тринадцатая
Содержание
Выезд из замка Кютандра. Сражение Девы с Жаном Шандосом; странный боевой обычай, коему подчинена и Дева. Видение отца Бонифация. Чудо, спасающее честь Иоанны.
То золотое время года было, Когда в течении своем светило Ночь убавляет, прибавляя к дням, И, улыбаясь благосклонно нам, Плывет по европейским небесам, Не торопясь пересекать экватор. То был твой праздник, о святой Иоанн{314}, Прославленный Иоанн, пустынь оратор. Ты возвестил для всех времен и стран, Что грешникам залог спасенья дан, И я люблю тебя, пророк великий. Другой Иоанн по лунным областям С Астольфом путешествовал и там Вернул рассудок другу Анджелики, Коль верить Ариостовым словам{315}{316}{317}. Иоанн Второй, верни и мне мой разум! Ты своего не отвращал лица От сладостного, дивного певца, Который пестро сотканым рассказом Властителей Феррары веселил{318}; Ему ты строфы вольные простил, Которые тебе он посвятил; Прошу и я о помощи чудесной: Я в ней нуждаюсь. Ведь тебе известно, Что против героических годов, Когда гремела Ариоста лира, У нас гораздо больше дураков. Спаси меня от всех болванов мира, От всех хулителей моих стихов. Порою шутки легкая отрада Сойдет, смеясь, мой труд развеселить, Но я серьезен, если это надо, И только не желаю скучным быть. Води моим пером и в сени вечной Снеси Денису мой привет сердечный. В окошко выглянув, Иоанна д'Арк Увидела, что полон войска парк. Гарцуют рыцари, горды собою, Дам посадив на крупы лошадей; Сто грозных всадников, готовы к бою, Бряцают сталью копий и мечей. На ста щитах кочующей Дианы Дрожащие играют огоньки; Ста шишаков колеблются султаны, И, развеваясь посреди поляны На древках копий, будто мотыльки, По ветру вьются пестрые флажки. Иоанна д'Арк решила, что ворвалась Британцев рать со стороны реки. Но героиня наша ошибалась, — Ошибки в бранном деле не редки, Как, впрочем, и в других делах. Бывало, Впросак и наша Дева попадала Без помощи Денисовой руки. Но нет, не властелины Океана Пришли Кютандр осыпать градом пуль, А Дюнуа вернулся из Милана, Герой, которого ждала Иоанна, И с Дюнуа — прекрасный Ла Тримуйль, Который с нежной Доротеей вместе Так долго странствовал по всем краям, Любовник постоянный, рыцарь чести, Защитник ревностный прекрасных дам. Избегнув мести своего злодея, О родине нисколько не жалея, С ним путешествовала Доротея. Итак, составив четное число, Все это воинство в Кютандр вошло. Иоанна мчится вниз; король решает, Что это бой, и следом поспешает, Палаш блистающий в руке держа И бросив вновь Агнесу и пажа. Был юный паж счастливей без сравненья, Чем тот, кто славой свой украсил трон. Чистосердечно он вознес хваленья Святителю, чье место завял он. Ему пришлось одеться как попало. Одной рукою прикрывая грудь, Красавица другою помогала Счастливцу панталоны натянуть. Ее уста, прекрасные, как роза, Дарили поцелуями Монроза. Рука, полна желанья и стыда, Все время попадала не туда. Спустился в парк, не говоря ни слова, Монроз прекрасный. Господин аббат При виде Адониса молодого Вздохнул печально и потупил взгляд. Меж тем Агнеса привела в порядок Лицо, улыбку, речь и волны складок. Монарха отыскавший своего, Стал Бонифаций уверять его, Что это милость божья, что чудесный Святое место посетил гонец, Что Франции прекрасной наконец Знак явный подан милости небесной, Что англичан отныне ждет беда. Король поверил; верил он всегда. Иоанна подтверждает эти речи: «Нам помощь шлет всевышнего рука; Великий государь, вас ждут войска, Спешите к ним скорей для новой сечи». Тримуйль и благородный Дюнуа Свидетельствуют, что она права. Стоявшая невдалеке, робея, Пред королем склонилась Доротея. Агнеса обняла ее, и вот Из замка выезжает гордый взвод. Смеются часто небеса над нами. Вот и тогда их равнодушный взгляд Следил, как бодро двигался полями Героев и любовников отряд. Прекрасный Карл с Агнесой нежной рядом Дарил возлюбленную пылким взглядом, И, королевской верностью горда, Приветная, похожая на розу, Красавица кивала иногда — Какая слабость! — юному Монрозу. Молитву путников творил аббат, Но очень часто, утомленный ею, Он направлял медоточивый взгляд То на Агнесу, то на Доротею, То на Монроза и на требник вновь. Доспехи в золоте, в груди любовь — Вот Ла Тримуйль! Он гарцевал, ликуя, С прекрасной Доротеею воркуя. Нежна, застенчива и влюблена, Твердила о своей любви она, Украдкою любовника целуя. Он повторял ей, что одну мечту Хранит в душе: окончив подвиг чести, На лоне наслажденья в Пуату Зажить с возлюбленной прекрасной вместе. Иоанна, девственной отваги цвет, Одета в юбку и стальной корсет. В великолепном головном уборе, На благороднейшем осле своем Беседовала важно с королем, Но душу ей, увы, терзало горе. Порой Иоанна испускала стон, Раздумывая с видом невеселым О Дюнуа: ей рисовался он В воспоминаньях совершенно голым. Бонно, едва переводивший дух, Украшен бородою патриарха, Шел, как слуга великого монарха, В хвосте, заботясь о хозяйстве. Двух Ленивых мулов вел он с индюками, Цыплятами, вареньем, пирогами, Вином, отборными окороками. В то время Жан Шандос меж диких скал Исчезнувших любовников искал И показался вдруг на повороте Героям, размышлявшим об Эроте. Порядочная свита с ним была, Но были там лишь грубые вояки, И прелесть женская в ней не цвела, На нежных лицах не пылали маки И на сосках бутоны алых роз. «О, о! — воскликнул грозно Жан Шандос, — У вас, я вижу, две, нет, тридевицы, Французы, род презренный и смешной, А у Шандоса нету ни одной! Без проволочек, я хочу сразиться, Стоит Фортуна за моим плечом. Я вызываю вас. Мы будем биться Попеременно шпагой и копьем! Пускай выходит драться, кто посмеет. Тому, кто в поединке одолеет, Из трех любая пусть принадлежит». Бесстыдством оскорбленный, Карл дрожит От гнева, тотчас за копье берется, Но Дюнуа великий говорит: «Сеньор, позвольте мне за вас бороться». Сказавши это, он летит вперед. Но Ла Тримуйль прекрасный в свой черед Кричит: «Нет, я!» Никто не уступает. Толстяк Бонно им жребий предлагает. Так в героические времена На узелки тянулись имена Героев, доблестной искавших смерти. Так участь избираемых в конверте Таит республиканская страна{319}. И если смею приводить примеры, Достойные неоспоримой веры, Я вам скажу, что и святой Матвей Так утвержден был{320} в должности своей. Дрожит за короля, кряхтит, вздыхает Добряк Бонно и жребий вынимает. С высот сияющих святой Денис Глядит с отеческой улыбкой вниз, Любуясь Девственницею могучей, И направляет бестолковый случай. Он счастлив: узелок Иоанной взят. Ему хотелось, чтобы вновь, без страха, Забыв мечты и гнусного монаха, Она схватила боевой булат. Священною отвагой обуянна, За кустик скромно прячется Иоанна, Чтобы надеть кольчугу, юбку снять, Из рук оруженосца меч принять, И наконец, исполненная гнева, На своего осла садится Дева. Колени сжав, она копьем трясет, Одиннадцати тысяч дев{321} зовет Себе на помощь силу. А Шандосу Нельзя к святым показывать и носу, И, как безбожник, он на бой идет. Бросается к Иоанне Жан проклятый. Их мужество равно, блистает взор; Осел и конь, закованные в латы, Почуяв шпоры, мчат во весь опор. И крепкий лоб, такой же лоб встречая, Рождает в воздухе зловещий треск. Кровь лошади струится, обагряя Разбитого доспеха мрачный блеск. Раздалось эхо страшного удара; Неистовый пронесся крик осла; И, разом выбитые из седла, Лежат герои. Привязав два шара К веревкам одинаковой длины, Пустите их с двух точек полукруга: Они стремятся, ярости полны, С размаху налетают друг на друга, И оба сплющены в единый миг; Их вес и натиск был равновелик. Взволнованы французы, как и бритты. Они страшатся, что бойцы убиты. Спасительница Франции, увы, Как ни храбры, как ни прекрасны вы, Но такова уж женская натура: Сильней Шандосова мускулатура, Устойчивее ноги, крепче кость. Он вскакивает, источая злость. Иоанна тоже хочет встать во гневе, Но помешал ей глупый взбрык осла, И на лопатки, как и должно деве, Иоанна побежденная легла. Шандос решает, что в ужасной схватке Им Дюнуа положен на лопатки Иль там король. Спешит узнать Шандос, Кому он поражение нанес. Снимает шлем и видит смоль волос, Глаза прекрасные. Снимает латы И видит, изумлением объятый: Пред ним две груди, прелестью равны, Разделены, округлы и нежны, На них цветут два алые бутона, Как розы две у тихого затона. Предание гласит, что в этот час Шандос творца прославил в первый раз: «Она моя, надменная Иоанна, Опора Франции досталась мне! Клянусь святым Георгием, желанна Мне Девственница гордая вдвойне. Пускай святой Денис меня осудит: Марс и Амур — моя защита будет». Оруженосец вторил: «Да, милорд, Упрочьте судьбы английского трона. Отец Лурди в уверенности тверд, Что Франция не понесет урона, Пока верней, чем Лациума щит{322}, Вот эта девственность ее хранит, Сулящая отчизне нашей беды. Берите с бою этот стяг победы». «Да, — отвечал британец, — их оплот Теперь становится моим уделом». Иоанна бедная, дрожа всем телом, Обеты всевозможные дает Денису, лишена защиты лучшей. Герой прекрасный, Дюнуа могучий Вздыхает. Что поделать может он, Раз поединка свято чтут закон Все нации? Какой ужасный случай! Копыта врозь, с поникшей головой И уши опустив, с Иоанной рядом Лежит осел; с глубокою тоской Следит он за Шандосом смутным взглядом, Давно питая в сердце тайный пыл К прекрасной девственнице, полной сил, — Строй нежных чувств, которые едва ли Ослы простые на земле знавали. Доминиканец тоже стал дрожать: Его пугает злой британский воин. Он, главное, за Карла неспокоен: Вдруг, чтобы честь отчизны поддержать И дерзкому не дать над ней глумиться, Король с Агнесою соединится, И в те же воды повернут свой руль С прекрасной Доротеей Ла Тримуйль? Он стал под дубом, с горьким сокрушеньем, И предался печальным размышленьям Над действием и над происхожденьем Приятного греха, чье имя блуд. Почтенный брат, уединившись тут, Был осенен таинственным виденьем, Похожим на пророческие сны Иакова, проныры в рукавицах{323}{324}, Нажившего кой-что на чечевицах, Как делают Израиля сыны. Старик Иаков увидал когда-то В вечерний час на берегу Евфрата Баранов, лезших на хребты овец, Которые встречали их покорно. В том, что увидел наш святой отец, Таились мудрости не меньшей зерна. Он видел рыцарства грядущий цвет, Он наблюдал, как баловни побед С роскошными красавицами рядом Их пожирали сладострастным взглядом, И каждого их них (о, козни зла!) Любовь неудержимая влекла. Так в дни весны, когда, с небес слетая, Зефир и Флора дарят жизнь цветам, Разноголосая пернатых стая Любовью тешится по всем кустам; Целуются стрекозы здесь и там, А львы бегут с рыканьем исступленным К своим подругам, страстью истомленным. Он зрит того, чья слава, как лучи, — Франциска Первого, бойца. И что же? С прекрасной Анной{325} тот забыл на ложе Утраченные в Павии мечи{326}. Уводят Карла Пятого от лавров{327} Дочь Фландрии и дочь неверных мавров. Цвет королей! Один на склоне дней Схватил подагру, а другой — скверней. Вокруг Дианы{328}{329} резво вьются смехи, Когда Амур, для сладостной потехи, Ее любовной радует игрой С тобою, Генрих, именем Второй{330}. Клорису для пажа позабывает Девятый Карл{331}, преемник твой пустой{332}{333}, Небеспокоясь, что Париж пылает. Блеск незакатной славы окружает Тебя, о Борджа, Александр Шестой! Ты явлен взору в образах без счета: Здесь — без тиары, как супруг простой, С Веноццой делишь радости Эрота{334}{335}{336}, Немного ниже — с дочерью своей Лукрецией, признанье шепчешь ей. О Лев Десятый, славный Павел Третий!{337} Все короли в любви пред вами дети; И все же вы уступите ему, Великому беарнцу моему{338}; Не столько доблесть в брани и в совете И громкое над Лигой торжество, Как Габриель{339}, прославили его. А дальше — век счастливого владыки, Век пышных празднеств. О, не чудеса ль Твой дивный двор, Людовик наш Великий{340}, Амуром выстроенный твой Версаль, Где были призваны служить любови Все грации, где каждый был влюблен; Цветочным ложем стал твой славный трон, И бог войны напрасно жаждал крови; Амур, ты приводил их к королю, Нетерпеливо шепчущих: «Люблю», — Соперниц — знаменитую доныне Племянницу лукавца Мазарини{341}{342}, Горячую, как солнце, Монтеспан И Лавальер{343}. Всем час блаженства дан. Одна вкушает страстное мгновенье, Другая ожидает наслажденья. О времена Регентства, дни утех{344}, Когда никто уже не ищет славы, А только наслажденья и забавы, Позабывая, что такое грех, Когда беспечного безумья смех Доносится и в сельские дубравы! Из своего роскошного дворца Регент примером зажигал сердца, И в Люксембурге Дафна молодая{345}, Влюбленному призыву отвечая, Звездой двора веселого цвела; Ее вели к постели, обнимая, Амуры с Бахусом из-за стола. Но я смолкаю; нынешние лета Не смею я в стихах живописать. Опасность не хочу я накликать; Дни современные — ковчег завета: И кто его посмеет тронуть, тот, Сраженный небом, замертво падет. Я замолчу. Но если б только смел я, То вас бы, о красавица, воспел я, Вас, поклоненья моего предмет, Любви, красы и благородства цвет, И положил бы в беспредельной вере У ваших ног дань сердца, как Венере. О, если бы Амур и девять муз Мне помогли, воспел бы я союз Любви и славы, но, увы, словами Восторга мне не выразить пред вами. А погрузившийся в святой экстаз Аббат, конечно, зрел тогда и вас. Он взором жадным, но, как прежде, скромным, Светлейшее из зрелищ созерцал, Как двое несравненных, с видом томным, Пьют до конца запретных нег бокал. «Увы, коль все великие на свете Ведут попарно поединки эти, — Воскликнул он, — то разъяренный бритт, Который перед Девою стоит, Свершает промысла закон, не боле. Так подчинимся же господней воле, Аминь, аминь», — он прошептал, и вот Благоговейно продолженья ждет. Но нет, Денис, за Францию предстатель, Не мог позволить, чтобы Жан Шандос Иоанне роковой удар нанес. Вы знаете, конечно, друг читатель, Что будет, если завязать тесьму{346}. То средство страшное и колдовское; Святой не должен прибегать к нему, Когда он может приискать другое. Огонь Шандоса превратился в лед. Он, ничего не сделав, устает; Бессилием внезапным утомленный, На берегу желанья он поблек, Как увядает в засуху цветок, С согнутым стеблем, с головой склоненной, Мечтающий с напрасною тоской О животворной влаге, насмерть ранен. Так усмирен был гордый англичанин Дениса чудотворною рукой. Иоанна быстро покидает бритта, Приходит в чувство и, смеясь над ним, Кричит Шандосу: «Англии защита, Нельзя сказать, что ты непобедим. Господь, услышавший мои молитвы, Лишил тебя меча в начале битвы. Но мы еще поборемся с тобой, И отомщу я поздно или рано. Всех англичан зову сейчас на бой. Прощай до встречи возле Орлеана». Шандос надменный произнес в ответ: «Прощайте; девушка вы или нет, Когда опять мы вступим в бой открытый, Святой Георгий будет мне защитой».Конец песни тринадцатой
Песнь четырнадцатая
Содержание
Как Жан Шандос пытается обольстить набожную Доротею. Сражение Ла Тримуйля с Шандосом. Надменный Шандос побежден Дюнуа.
О наслаждение, о мать природы{347}{348}{349}, Венера, просветившая народы, Ты, чье величье славил Эпикур, Ты, пред которою никто не хмур, Ты, открывающая чудной властью Дорогу к плодовитости и счастью Бессчетной, суетной толпе людей, Которым жизни ты самой милей; Ты, в чьих руках искали миг забвенья И бог небес, и грозный бог сраженья; Ты, чья улыбка разгоняет мрак, Ты, кем в сады обращена пустыня, Когда по ней стремишь неслышный шаг; Спустись с небес, прекрасная богиня, На колеснице из живых цветов, Которую амуры окружают, Уносят крылья нежных голубков, Целующихся между облаков, И легкие зефиры провожают; Приди в наш мир, будь ласковой к нему, Приди; пусть подозрения и ссоры, Отчаянье, и зависть, и раздоры Уйдут навек в ужасный ад, во тьму, В глубокую и вечную тюрьму: Пусть все, что враждовало и боролось, Услышав твой животворящий голос, Восторженно склонится пред тобой: Один закон да будет — только твой. О нежная Венера, будь опорой Монарху нашей Франции, который Опасности предвидит впереди. Дай мир Агнесе на его груди, Умножь их радость, горе услади. О девственной Иоанне не молю я: Она еще не знала поцелуя И власти не изведала твоей; Святой Денис защитой будет ей. Но Ла Тримуйля ты и Доротею Своею милостью благослови, Пусть вечно он не расстается с нею, Вкушая сладкие плоды любви; Пусть мир ее не возмутят до гроба Былых врагов предательство и злоба. А ты, о Комос{350}, награди Бонно Подарком пышным и его достойным: Им перемирие заключено Меж Карлом и Шандосом беспокойным. Он, охраняя честь обеих стран И множа пользу Франции сторицей, Согласье получил от англичан Луару счесть военного границей. Он полн заботы о британцах был, Он знал их вкусы, нравы изучил; Им ростбифы на масле подавали, Плумпудинги{351}{352} и вина предлагали, А более изящные блюда Пошли на стол французам, как всегда: Тончайшие рагу, и соус сладкий, И с красными ногами куропатки. Шандос надменный, кончив пить и есть, Поехал вдоль Луары. Он клянется Раз начатое до конца довесть И с бою взять у Девственницы честь, А в ожиданье за пажа берется. Близ Дюнуа, по-прежнему смела, Иоанна снова место заняла. Король французов, со своим отрядом, С духовником в хвосте, с Агнесой рядом, Поднялся по течению с версту, Избрав для остановки местность ту, Где замедляется волна Луары. Плавучий мост на лодках, очень старый И в дырах весь, годился лишь на слом; В конце его скрывал часовню ельник. Торжественно и важно там отшельник Читал обедню. Мальчик дискантом Монаху помогал в труде святом. Но Карл молиться не повел Агнесу: Он поутру в Кютандре слушал мессу. Лишь Доротея нежная, с тех пор Как испытала ужас и позор И все ж спаслась, благодаря лишь чуду, Не упускала случая повсюду Воспользоваться мессою второй. Она спешит, сойдя с коня, смиренно Три раза окропить себя водой И молится коленопреклоненно, Сложив ладони с кроткою мольбой. Ее заметив вдруг, отшельник хилый Был ослеплен и, тяжело дыша, Забыв воскликнуть: «Господи, помилуй!» — Воскликнул: «Господи, как хороша!» Шандос зашел туда же, без сомненья, Не для молитвы, а для развлеченья. С надменным видом, мимоходом он Красотке делает полупоклон, Разгуливает, свищет без стесненья И наконец становится за ней, Не слушая божественных речей. Несясь к всевышнему духовным взглядом, Моля дать сил сопротивляться злу, Француженка лежала на полу, Лоб опустив к земле и кверху задом. Ее короткой юбки легкий край, Откинувшись, как будто невзначай, Открыл очам Шандоса очерк тайный Двух ножек красоты необычайной. Подобных тем, что, тронут и смущен, Увидел у Дианы Актеон{353}. Тут наш Шандос, забыв богослуженье, Почуял очень светское волненье И, дерзко оскорбляя божий храм, Рукою начинает шарить там, Где было все с атласом белым схоже. Я не намерен, о великий боже, Описывать читателям-друзьям, Краснеющим перед таким вопросом, Что было дальше сделано Шандосом. Но Ла Тримуйль, заметивший, куда Ушла его любовь, его звезда, В часовню за красавицею входит. Куда, куда Амур нас не заводит? Как раз в тот миг священник обращал Лицо назад. Шандос же начинал С красоткой обходиться все смелее, И крик дрожащей, бледной Доротеи, Казалось, слышен был на целый свет. Я славному художнику предмет Подобный дал бы на изображенье, Чтоб он нарисовал всех четверых, Их удивление и лица их. Наш Ла Тримуйль тут закричал в волненье: «Британец дерзкий, рыцарства позор, Как ты решился, богохульный вор, Во храме на такое предприятье?» С надменным видом оправляя платье И к выходу идя, ему Шандос На это предложил такой вопрос: «А вы-то, сударь, здесь при чем? И кто вы?» «Я, — возразил француз, на все готовый, — Ее любовник гордый и суровый, И, знайте, у меня привычка есть Отмщать ее нетронутую честь». «Что ж, если так, ясна мне ваша злоба, — Сказал Шандос — Столкуемся мы оба. Хоть иногда я на спину гляжу, Но все же вам своей не покажу». Француз прекрасный и британец гордый Идут к коням, друзьям бессчетных сеч, Берут рукой неколебимо твердой Из рук оруженосцев щит и меч, Потом, вскочив в седло, не зная страха, Сшибаются друг с другом в вихре праха. Прекрасной Доротеи стон и плач Противников остановить не в силе. Тримуйль, несясь на поединок вскачь, «Отмщу за вас, — успел ей крикнуть, — или Умру». Но он ошибся, потому Что отомстить не удалось ему. Уже он панцирь из блестящей меди Пробил Шандосу в двух иль трех местах И близок был к решительной победе, Как вдруг споткнулся конь его, и, ах, Он падает посередине боя, И смят копытом шлем на лбу героя, И на траву течет густая кровь. Бежит отшельник, увидав несчастье, Вопит «In manus», хочет дать причастье. О Доротея! Бедная любовь! Близ друга распростертая безгласно, Сперва ты крикнуть силилась, напрасно, Но наконец шепнула, чуть дыша: «О мой любимый! Я его убила… Покинь же тело, жалкая душа! Меня часовня эта погубила. Несчастие случилось оттого, Что я на миг оставила его, Любви и Ла Тримуйлю изменила, Чтоб слушать две обедни в день, о, стыд!» Так, плача, Доротея говорит. Шандос доволен был концом сраженья. «Француз прекрасный, храбрых украшенье, А также ты, прекрасная моя, Вас объявляю пленниками я. Обычай наш известен вам, наверно. Агнеса чуть моею не была, Я Девственницу выбил из седла. Но, признаю, свой долг исполнил скверно. Все это наверстаю я сейчас И честь британцев поддержу примерно, А в судьи, Ла Тримуйль, беру я вас». Отшельник, Ла Тримуйль и Доротея, Услышав речь подобную, дрожат. Так в глубине глухих пещер, робея, Пастушка к небесам возводит взгляд. Толпится стадо близ нее без толка, И пес дрожит, увидев рядом волка. Но хоть святая запоздала месть, Не в силах было небо перенесть Грехов Шандоса мерзостный излишек. Он грабил, жег, он лгал во все часы, Насиловал девчонок и мальчишек, И ангел смерти это на весы Все положил, суровый и бесстрастный. На берегу был Дюнуа прекрасный, Он видел поединок вдалеке, Недвижного Тримуйля на песке, Красавицу, безмолвную от страха, Коленопреклоненного монаха И гордого Шандоса на коне: И он летит, как ветер в вышине. В то время был обычай в Альбионе По имени все вещи называть. Уж победителя успел нагнать Наш Дюнуа, уж встретились их кони, Как вдруг непобедимый паладин Отчетливо услышал: «Шлюхин сын!»{354} «Да, я таков! Но это не обида: Таков удел и Вакха и Алкида, Таков был Ромул и Персей таков{355}, Отчизны слава и гроза врагов. Я в честь их буду биться, — то не шутка. Припомни лучше, что рукой ублюдка Отечество покорено твое{356}{357}{358}. О вы, чью мать ласкал властитель грома, Мой меч направьте и мое копье! Докажем, что ублюдкам честь знакома!» Была молитва, может быть, грешна; Но мифы знал прекрасно Дюнуа, Их Библии всегда предпочитая. И вмиг сверкнула пика золотая, И шпоры золоченые, звеня, Вонзились в стройные бока коня. Ударом первым, налетев с откоса, Разбил он многоцветный щит Шандоса И расколол ему на два куска Негнущуюся сталь воротника. Удар наносит храбрый англичанин По панцирю тяжелому копьем, Гремят доспехи, но никто не ранен. Вновь рыцари в порыве боевом, Пылая гневом, чуждые испуга, Отважно налетают друг на друга. Их кони, сбросив грузных седоков, Вдоль зеленью покрытых берегов Пошли пастись спокойно в отдаленье. Как оторвавшиеся от скалы Во время сильного землетрясенья Две страшных глыбы, гулко-тяжелы, Грохочут, падая на дно долины, — Так падают и наши паладины. Ужасным эхом потрясен простор, Трепещет воздух, стонут нимфы гор. Когда Арей{359}, сопутствуемый Страхом, Пылая гневом, кровию покрыт, Спускался с неба, чтобы мощным взмахом Поднять над берегом Скамандра щит, Когда Паллада, не смутясь нимало, Рать ста царей на бой одушевляла, — Была вот так же твердь потрясена; Дрожала преисподней глубина;{360}{361} И сам Плутон, бледнея в царстве теней, Страшился за судьбу своих владений. Подобно волнам, что о берег бьют, Герои наши яростно встают, Мечи свои стремительно хватают, Сталь панцирей друг другу разрубают, Друг друга ранят в грудь, и в пах, и в бровь. Уже течет пурпуровая кровь По шлемам, по разрубленным кольчугам, И, отовсюду собираясь кругом, На битву зрители глядят с испугом, Молчат, не дышат и не сводят глаз. Толпа всегда одушевляет нас; Ее вниманье — возбудитель славы. А поединок, грозный и кровавый, Лишь начал разгораться в этот час. Ахилл и Гектор, гневные без меры, Или теперешние гренадеры, Или голодные и злые львы, Не так горды, не так жестоки вы, Как наши рыцари. Ободрив чувства И к силе присоединив искусство, Француз британца за руку схватил, Ударом метким меч его разбил, Подножку дал — и на траву откоса В мгновенье ока повалил Шандоса. Но, повалив его, упал и сам. И продолжают оба битву там — Француз поверх, а снизу англичанин. Наш Дюнуа, почти совсем не ранен, Великодушья сохраняя вид, Врага давя коленом, говорит: «Сдавайся!» — «Как же, — отвечает бритт, — Вот получи-ка просьбу о пощаде!» И, как-то извловчившись пред концом, Ударил он с большою силой сзади Коротким и отточенным ножом Того, кто заплатил ему добром. Но, встретив крепкие стальные латы, Сломался пополам клинок проклятый. Тут Дюнуа воскликнул: «Если так, Умри, о подлый и бесчестный враг!» И, воздавая дерзкому сторицей, Его мечом ударил под ключицей. Пред смертию британский паладин Пробормотал невнятно: «Шлюхин сын!» Его душа, где обитала злоба, Себе осталась верною до гроба. Его движения, черты лица Еще врагу надменно угрожали, И, повстречавшись с ним в аду, едва ли Не испугался дьявол пришлеца. Так умер, как и жил, суров и странен, Французом побежденный англичанин. Был благороден гордый Дюнуа И не прельстился бранною добычей, Презрев постыдный греческий обычай. Он занят Ла Тримуйлем. Чуть дыша, Тот наблюдал за битвой. Доротея Не смеет верить гибели злодея. Она поддерживает по пути Любовника рукой. А он почти Оправился, он ранен — между нами — Лишь глаз ее прекрасными лучами. Он снова бодр. И радость обрести Спешит опять красавица младая, И к чистому веселью призывая, Уже мелькает на ее устах Улыбка сквозь струящиеся слезы. Так, выступив меж тучек в небесах, Порою солнце озаряет розы. Великий Карл, любовница его, Сама Иоанна — все поочередно Спешат обнять того, кто благородно Умножил славу края своего. И восхищаются все с удивленьем Его отвагой чудной и смиреньем. Искусство чести в нем воплощено: Быть скромным и могучим заодно. Но Девственница не совсем довольна: В душе она завидует, ей больно, Что не ее лилейная рука Сразила низкого еретика, И в памяти ее встает всечасно, Двойным стыдом румяня цвет ланит, Тот час, когда неукротимый бритт Ее поверг на землю — и напрасно.Конец песни четырнадцатой
Песнь пятнадцатая
Содержание
Великое пиршество в Орлеанской ратуше, за которым следует общее наступление. Карл нападает на англичан. Что приключается с прекрасной Агнесой и с ее попутчиками.
О цензоры, я презираю вас, Виднее мне, чем вам, мои пороки. Я бы хотел, чтоб дивный мой рассказ, На золоте начертанные строки, Являл одни лишь подвиги для нас И Карла в Орлеане величаво Венчали Дева, и Любовь, и Слава. Достаточно я утомлен уже Рассказом о Кютандре и паже, О Грибурдоне низком, и порою Мне кажется, что для таких речей Едва ли место в повести моей. Но эти приключения, не скрою, Записаны Тритемовой рукою;{362} Я не выдумываю ничего. И ежели читатель, углубившись В подробности рассказа моего И на создателя их рассердившись, Решит сурово осудить его, Пусть проведет он пемзою{363} по строкам, Которые посвящены порокам. Но истину он все же должен чтить. О Истина, невинная богиня. Когда ж твоя восславится святыня? Ты, призванная вечно нас учить, Зачем в колодце предпочла ты жить? Когда придешь ты нас благословить? Когда писатели в моей отчизне, Забывши ненависть, оставив лесть, Расскажут нам про трудность бранной жизни, Про паладинов подвиги и честь? О, как был осторожен Ариосто, Когда, столь величаво и столь просто, Епископа Турпина{364}{365} в первый раз Он имя ввел в свой сладостный рассказ! Еще не одолев своей тревоги, По Орлеанской ехал Карл дороге, Сопутствуемый свитой золотой, Блиставшей роскошью и красотой. У Дюнуа он спрашивал совета. Таков царей обычай искони: В несчастье обходительны они, Заносчивы в удачливые дни. Агнеса и доминиканец где-то Скакали следом. Королевский взгляд Уж обращался много раз назад, И был рассеян царственный повеса; Когда бастард, отвагою объят, Звал: «В Орлеан», — король шептал: «Агнеса». Счастливый Дюнуа, душою тверд И зоркостью врагам отчизны страшен, Под вечер обнаружил некий форт, Который плохо укрепил Бедфорд, Поблизости от осажденных башен. Он взял его, Карл водворился в нем. Здесь находились английские склады. Бог страшных битв, не знающий пощады, Бог пиршеств, управляющий столом, Наполнить это место были рады — Один снарядами, другой вином. Все принадлежности войны ужасной, Все то, что услаждает пир прекрасный, Здесь были соединены в одно, Как бы для Дюнуа и для Бонно. Весь Орлеан, забыв на день тревогу, Спешил принесть благодаренье богу. Молебствия многоголосный гам{366}, Собравший городскую знать во храм; Обед, где, буйной радостью объяты, Епископ, мэр, монахи и солдаты Вповалку оказались на полу; Огонь, пронзающий ночную мглу И бьющий ввысь сквозь пелену тумана, Народа крик, веселый звон тимпана — Все точно пело громкую хвалу Тому, что Карл, среди французов снова, Подходит к стенам города родного. Но крики радости в единый миг Сменил отчаянья протяжный крик. Повсюду слышится: «Бедфорд! Тревога! На стены! В брешь! Вперед! Нужна подмога!» Пока, хваля весь королевский род, Беспечно пьянствовали горожане, Без шума положили англичане Две толстые сосиски у ворот, Но не телячьи и не кровяные, Бонно придуманные для рагу, А порохом набитые, стальные, Кровь заставляющие стыть в мозгу И гибель приносящие врагу; Снаряд ужасный, мощный, как стихия, И брызжущий средь ночи или дня Клубами Люциферова огня. Фитиль, таящий смерть и разрушенье, Воспламеняется в одно мгновенье — И вдруг летят на тысячу шагов Крюк, створы, подворотня и засова Тальбот надменный через брешь вбегает, Успехом, местью, страстью он пылает. Инициалы госпожи Луве Сияют золотом на синеве Стального шлема. Гордый и упрямый, Он полон был любезной сердцу дамой И средь развалин и недвижных тел Ее ласкать и целовать хотел. Герой суровый, столь привычный к бою, Ведет полки британцев за собою И говорит: «Товарищи, пройдем По городу пожаром и мечом, Напьемся вволю и вином и кровью И насладимся досыта любовью!» Не мог бы, кажется, и Цезарь сам, Умевший доблесть прививать сердцам, Удачней речь держать своим бойцам. На месте, где с протяжным, долгим стоном Завесой дыма землю взрыв застлал, Тянулся каменный, широкий вал, Построенный Ла Гиром и Потоном. Он мог преградой послужить врагам И оказать хоть в первое мгновенье Бедфорду гневному сопротивленье. И вот уже Потон с Ла Гиром там. Тьма удальцов сопутствует героям, Орудия грохочут с перебоем, И леденит сердца команда: «Пли». Лишь черный дым рассеялся вдали, По лестницам, приставленным рядами, Полки британцев движутся волнами, И, меч или копье держа, солдат Торопит верхних, яростью объят. Разумных мер принять не забывали В опасности Ла Гир, как и Потон. Их каждый шаг был взвешен и решен, И все они предвидели и знали. Большие чаны масла и смолы, Отточенные, острые колы, Кос беспощадных лезвия стальные, Как бы эмблемы Смерти роковые, Мушкеты, сыплющие без конца На головы британцев град свинца, Все, что необходимость, и искусство, И ужас, и отчаяния чувство В сражениях пускают в ход умно, Все было в битве употреблено. В канавах, у орудий — всюду бритты, Обварены, изранены, убиты. Так летом под серпами у межи Ложатся на землю колосья ржи. И все же не слабеет наступленье: Чем больше жертв, тем яростнее гнев. Ужасной гидры головы, слетев И отрастая вновь и вновь, в смятенье Не привели тебя, герой Алкид; Так и теперь готов был каждый бритт, Опасности и гибель презирая, Идти вперед за честь родного края. Ты был на стенах, дымом окружен, Цвет Орлеана, пламенный Ришмон. Пять сотен горожан со всех сторон За паладином шли, шатаясь, следом, Еще перегруженные обедом. Еще вино пылало в них огнем, И глас Ришмона прогремел, как гром: «Несчастные! У вас ворот не стало, Но с вами я, — а это ведь не мало!» И с яростью он на врага летит. Уже Тальбот, храня надменный вид, Был на верху стены. Одной рукою Несет он смерть и гибель пред собою, Другой — солдат одушевляет к бою, Крича: «Луве!» — как Стентор{367}{368}. Из окна Луве услышала и польщена, Британцы также все «Луве!» кричали, Хотя причины этому не знали. О, как легко, людской презренный род, Тебе вложить любую глупость в рот! Карл на форту, в унынье погруженный, Британскими войсками окруженный, Не в состоянье сделать ничего. Омрачена тоской душа его. Он говорит: «Ужели я не в силах От гибели спасти французов милых? Они тут собрались встречать меня, Торжественно войти собрался я И вырвать их из рук врагов надменных: И вот теперь мы сами вроде пленных». «Нет, — молвила Иоанна, — пробил срок, Идем сражаться! Покарает рок Британцев под стенами Орлеана. Идем, король! Для вражеского стана Грознее вы, чем тысяча бойцов!» Ей Карл в ответ: «Не надо льстивых слов! Немногого я стою, но, быть может, Мне защитить французов бог поможет». Он мчится на коне в огонь и дым, Белеет орифламма перед ним; За ним несутся Дюнуа с Иоанной, Оруженосцы Карлу в рот глядят, И вся округа полнится осанной: «Король, Монжуа, святой Денис, виват!{369}» Карл, Дюнуа воинственный и Дева Летят на бриттов, бледные от гнева. Так с темных гор, в которых рождена Дунайская и Рейнская волна, Орел, паря широкими крылами, Готовя когти и блестя глазами, Несется к соколу и торжество Над цаплей отнимает у него. Французы наступают очень бойко, Но держатся и англичане стойко: Они как сталь, которая в огне Становится упорною вдвойне. Вы видите ль героев Альбиона И эту рать потомков Клодиона{370}? Отважные и пылкие, на бой Они летят, как ветер грозовой. Сошлись, и вот стоят, друг с другом споря, Как каменный утес под пеной моря. Они, нога к ноге, к виску висок, Плечо к плечу, глаз к глазу, к телу тело, Хулу на бога изрыгают смело И падают без счета на песок. Ах, отчего, потомкам для примера, Гекзаметром не смог я овладеть! Счастливый жребий одного Гомера — О приключеньях и о битвах петь, Описывать удачи, раны, беды, Их прославлять, считать и повторять И Гектора великие победы Победами другими умножать. Успеха в том заключено искусство. И все же я сдержать не в силах чувство, Меня толкающее рассказать, Что довелось Агнесе испытать, Пока наносит Карл врагам удары. Дорогою на берегах Луары Она вела с аббатом разговор, А тот, отеческий склоняя взор, Ей о лукавом говорил, умея Нравоученья спрятать острие Под вымыслом, приятным для нее. Невдалеке Тримуйль и Доротея Вели беседу о любви своей, Мечтая о прекраснейшем из дней, Когда вполне они займутся ей. На их пути природой благодатной Разостлан был ковер травы приятной, Как бархат, гладкий, равный тем лугам, Где Аталанту представляют нам{371}. Пленившись им, поблизости от леса, К любовникам подъехала Агнеса. Ее нагнал аббат. Все вчетвером Держали путь, беседуя о том, Как бог всесилен, как любовь прекрасна, Как козни дьявола узнать опасно. И вдруг все точно обернулись сном, И каждый, зыбкой застилаясь мглою, Скрываться начал тихо под землею, — Конь, всадник, ноги, тело, голова, — И все покрыла мягкая трава; Так в опере поэта-кардинала{372}, Которая в неделю раза два Иль даже три нам уши раздражала, Героев, претерпевших много мук, Глотает ад или, вернее, люк. Монроз, случайно выходя из лесу, Увидел проезжавшую Агнесу И побежал навстречу, чтоб скорей Почтенье засвидетельствовать ей, Но вдруг остановился, столбенея: Агнесы нет, пропала Доротея; Как мрамор бледен, неподвижен, прям, Раскрывши рот, он исчезает сам. Поль Тирконель, заметив издалека Все происшедшее, спешит туда, Но, прискакав на место, волей рока Он тоже тихо тает без следа. Они летят всё вглубь, и напоследок Пред ними возникает сад, каким Не наслаждался сам Людовик, предок Того, кто презираем и любим{373}. А сад вел к замку. Изукрашен чудно, Он сада пышного достоин был. В нем жил… (мне даже выговорить трудно) Гермафродит безжалостный в нем жил. Агнеса, Бонифаций, Доротея! Что с вами станется в гнезде злодея?Конец песни пятнадцатой
«Орлеанская девственница»
Песнь шестнадцатая
Содержание
Как святой Петр успокоил святого Георгия и святого Дениса и как он обещал великую награду тому из них, кто явится с лучшею одою. Смерть прекрасной Розамор.
Разверзнитесь, небесные чертоги! Пернатые, сияющие боги, Вы, охранительной рукой своей Ведущие народы и царей, Вы, что за радугою крыл таите Небесных сфер таинственный предел, Посторониться соблаговолите, Чтобы и я одно из странных дел, Происходящих в небе, разглядел, И любопытство мне мое простите. Молитву эту сочинил аббат Тритем, не я{374}. Мой многогрешный взгляд Подняться не дерзает так высоко Под самое всевидящее око. Георгий и Денис, мрачнее туч, Сидели в небе, заперты на ключ; Помочь своим, хотя бы те их звали, Уже не в силах, находясь горе, Они отчаянно интриговали, Как все, кто обитает при дворе, И беспокоить не переставали По очереди старого Петра. Великий вратарь, — чей наместник в Риме, Объемля судьбы мрежами своими, Хранит ключи от зла и от добра, — Петр им сказал: «Вы знаете, наверно, Друзья мои, как дело было скверно, Когда я Малху ухо отрубил. Был господин в ужасном раздраженье; Он отнял меч мой{375} и меня лишил Навеки прав участвовать в сраженье. Я много осторожнее с тех пор, Но я придумал, как решить ваш спор. Святой Денис, ищите в рощах рая Святых-французов, время не теряя; Георгий соберет со всех сторон Святых, чьей родиной был Альбион. Сочувствующий каждому народу Отряд святых пусть сочиняет оду, Но — чур! — в стихах. Гудара{376} жалок труд. Язык богов один приличен тут. Пусть пиндарическую оду сложат{377}, Где первенство мое, права, дела Превознесла бы должная хвала; Пусть сочинив, на музыку положат: У смертных медленно идут дела С рифмовкою стихов довольно гадких; По части рифм богаче небосвод. Идите, упражняйтесь в звуках сладких; Кто лучше всех стихи напишет, тот Победой увенчает свой народ». Так с высоты сияющего трона Соперникам обоим страж закона Рек лаконично среди райских кущ: Ведь лаконизм лишь избранным присущ. Услышав это, мига не теряя, Георгий и Денис по кущам рая Идут сбирать товарищей своих, Из тех, что образованней других. Святитель, почитаемый в Париже, Немедля усадил меня поближе Святого Фортуната{378}{379}, гимны чьи Монашки распевают голосисто, И пившего кастальские струи{380} Проспера{381}, гордеца и янсениста. Святой Григорий{382} в список был включен, Епископ, славившийся даром барда, Из тех краев, где был Бонно рожден; Не позабыли мудрого Бернарда, Чья сила в антитезе;{383}{384} лучший цвет Был приглашен Денисом на совет, Как повелось с тех пор, что создан свет. Георгий на его приготовленья Глядел с улыбкой злого сожаленья, Однако разыскал и он в раю Британского святого, Августина{385}, И так сказал: «Неважно я пою; Мне с детства нравится одна картина — Летать с мечом в руках в лихом бою: Не рифмы слушать, а сраженья звуки, Пронзая груди и ломая руки. Ты ж стихотворец, честь родной страны В твоих руках. Так обратись же к музам. Один британец на полях войны Не уступает четырем французам. В Бретани, в Пикардии — всюду страх Мы поселяли в этих господах; Всегда мы были первые в боях, И если в славных воинских науках Никто из бриттов не был превзойден, То и в словесности, и в сладких звуках Не осрамится гордый Альбион. Старайся, Августин. Греми на лире. Искусством песен, силою мечей Пусть будет Лондон первый город в мире. Со всех приходов Франции своей Денис собрал бездарных рифмачей; Тебе ль страшиться этакого сброда? Берись за дело, выступай смелей, Яви талант британского народа!» Святитель, опуская очи вниз, Благодарит патрона за доверье. В укромном уголке он и Денис Садятся сочинять. Скрипят их перья. Но вот окончен труд. Как веера, Над троном разукрашенным Петра Архангельские крылья золотые Затмили небо. Ангелы, святые, Все, кто попроще, чтоб услышать суд, Расположившись на ступеньках, ждут. И начал Августин; он воспевает Жестокие преданья старины И славу Моисея; вспоминает, Какие чудеса им свершены: Как пена жаркой крови обагрила Спокойно плещущие волны Нила; Как был ужасен зной пустых полей; Как лозы превращались в страшных змей; Он говорит о днях, ночами ставших, О тучах мошек, на землю упавших, О вопиющих к небесам костях, О детях, у отцовского порога Задушенных с соизволенья бога; О горести египтян; о путях Евреев, выкравших у них посуду{386} И воровству обязанных, как чуду; О странствованье сорок лет повсюду: О тысячах убитых за тельца{387}, А также и за то, что их сердца Пленялись чарой женского лица;{388} И об Аоде, что во время оно Кровь господина пролил в честь закона;{389} О Самуиле, что был сердцем благ И кухонным ножом, во имя блага, На части искромсал царя Агага За то, что не обрезан был Агаг;{390} И о красавице, что шутку злую Сыграла, защищая Ветилую;{391} О том, как Васой был убит Надад{392}, И об Ахаве, сшедшем в тень гробницы За то, что пощажен им Венадад;{393} О том, как сверг царя Иегозавад{394}, Сын Атровада; о делах царицы, Которую так зло казнил Иоад{395}. Рассказ его, быть может, длинноватый, Воспоминаньями был перевит О древности роскошной и богатой, Где солнце плавится, где вспять бежит Морская хлябь и где огонь блестящий Еще владеет сушею дрожащей; Где мор и разрушенья каждый раз, Когда проснется бог нетерпеливый; И тут же шелестящие оливы, И реки молока, отрада глаз, И горы, где танцует каждый атом, Подобно веселящимся телятам. Почтенный автор пел творцам миров, Который угрожал царю халдеев И цепи рабства не снимал с евреев, Но вечно зубы сокрушал у львов, Ужасных змей топтал ногой титана И с Нилом вел беседу, не страшась Ни василиска{396}, ни левиафана{397}. Здесь ода Августина прервалась. Он кончил. Легкий шум неодобренья Пронесся по толпе блаженных. Знак, Не очень лестный для стихотворенья. Тут поднялся его смиренный враг, Всем видом выразив свое смущенье Перед небесным сонмом, восхищенье И трепет перед ним. Потом добряк С улыбкою любезной и приятной Поклон отвесил низкий, троекратно, Судье, советникам и прочим всем И нежным, слабым голосом затем Свое стихотворенье начал внятно: «О Петр, о Петр! Ты, именем Христа Корабль господень по волнам ведущий, Первосвященник мудрый, стерегущий Обители небесной ворота, Царей владыка, пастырь и хранитель, Наставник, кормчий и руководитель, Тебя, о Петр, поют мои уста. Монархов христианнейших опора, Твоей десницей сила их жива; Обереги венцы их от позора: Чисты права их, то — твои права. Наместник твой владычествует в Риме, Распоряжаясь царствами земными, Но и венец, и королевский сан Тобой одним, твоею властью дан. Увы! Парламент наш, сказать обидно, Монарха доброго прогнал бесстыдно, Законного наследства сын лишен, И чужеземец занимает трон. Спаси же Францию, восставь закон, Ключарь господень, возмести урон И Карла утверди на отчем троне». Святой Денис, начав в подобном тоне, Остановился. Он одним глазком Взглянул на слушателей и потом На самого Петра, чтоб догадаться, Годятся похвалы иль не годятся, И скромно опускает очи вниз, Прочтя во взоре: «Продолжай, Денис». И старец продолжает осторожно: «Возлюбленная братия, возможно, Что мой соперник вас очаровал; Он бога мести звонко воспевал, Но бога милосердия пою я: Любовь сильнее злобы. Аллилуйя». Затем Денис, уверенно рифмуя, Приятно рассказал, как пастырь стад Заблудшую овцу привел назад; Как добрый фермер заплатил ленивцу, Негодному работнику, сонливцу, Рабу, не исполнявшему работу, И тем его к раскаянью привлек, И тот наутро, не жалея поту, С усердием исполнил свой урок; Как накормил божественный пророк Пять тысяч человек пятью хлебами; Как, тронутый горячими мольбами, Он, к многогрешной снисходя рабе, Позволил нога отереть себе Косою грешницы, познавшей веру. Он думал об Агнесиной судьбе, Которая к библейскому примеру Прекрасно подходила. В глаз, не в бровь Намек был пущен. Ловкий ход удался, Растроган суд, и прощена любовь. Гул одобренья по рядам раздался, Ко всем сердцам ключ подобрал Денис И получил единогласно приз. Был англичанин в проигрыше чистом; Осмеянный, он скрыться поспешил, Сопровождаем криками и свистом. Так некогда в стенах Парижа был Уничижен педант с лицом Терсита{398}, Чья речь была насмешками покрыта, За то, что он, презренный враг добра, Бесчестил Муз и рыцарей пера. Два agnus'a приняв из рук Петра, Денис на землю спешно шлет с посланцем Судилищем подписанный приказ, Гласящий, чтобы в тот же день и час Француз приял победу над британцем. Гарцующая гордо на коне Иоанна увидала в вышине Обличив осла ее патрона. Так облака в лазури небосклона Порой знакомый очерк создают. Она вскричала радостно и гордо: «Господь за нас! Насильники падут». Смутило чудо грозного Бедфорда. Уже не всемогущ, уже смущен, Растерянно глядит на небо он, Пытаясь прочитать, за что во мраке Георгием покинут Альбион. Британские войска, страшась атаки, Торопятся оставить Орлеан, Теснимые толпою горожан, Крикливой, кое-как вооруженной. Прекрасный Карл, резнёю окруженный, Прокладывает путь сквозь этот сброд, И осаждающие, в свой черед, Осаждены и сжаты отовсюду; Убитых груда падает на груду Во рвах, на бастионах, у ворот. В хаосе ужаса и беспорядка Тотчас нашли себе по вкусу цель Бесстрастие, надменная повадка, Отвага Христофора д'Арондель. Не произнес отважный бритт ни слова; Он на свирепый бой глядел сурово И равнодушно, будто перед ним Кровь не лилась, не расстилался дым. Шла молодая Розамор с ним рядом, В руке лилейной острый меч держа, Забралом, каской, воинским нарядом Напоминая стройного пажа; На солнце искрилась броня стальная, Вились на каске перья попугая; Она бесстрашно шла вперед. С тех пор, Как маленькая ручка Розамор Однажды Мартингеру отрубила В кровати голову, — она любила Сраженья, ей наскучила игла. Палладой смелой иль самой Иоанной Она бок о бок с д'Аронделем шла, Шепча ему чуть слышно: «Мой желанный» Но демон, что на всех влюбленных зол, Немедленно на их дороге свел Ла Гира молодого, и Потона, И бессердечного, как сталь, Ришмона. Невозмутимый д'Аронделя вид Потона дразнит. Он к нему летит, И вот, с ужасным брошено размахом, Копье, пронзая бок, выходит пахом. Кровь льет рекой. Проклятье, слабый стон, Последний вздох — и умирает он. Ни вопля, ни мольбы в тот миг ужасный Не сорвалось с уст Розамор прекрасной. Над дорогим возлюбленным своим В слезах отчаянья она не билась, Коса ее покровом золотым Над трупом храбреца не распустилась. Она вскричала: «Месть!» — и вот, пока Потон стоял, склонившись перед нею И поднимал копье, ее рука, Та, что седую голову злодею Снесла в кровати, в яростной тоске Потона хвать с размаху по руке, Такой могучей и такой виновной. Она глядит с усмешкой хладнокровной, Как пальцы вздрагивают на песке, Как нервы, что под кожею таятся, В последней судороге шевелятся. С тех пор писать уже не мог Потон. Но тут Ла Гир услышал друга стон, И роковой удар наносит он Прекрасной Розамор. Она упала, Открылась грудь, два нежные цветка, Высокий лоб блеснул из-под забрала, Рассыпались ее кудрей шелка, И взор, синеющий ясней сапфира, Свидетельствует ясно, что она Была для наслажденья создана. Тяжелый вздох слетает с уст Ла Гира, Он слезы льет и жалобно твердит: «О, небо, я убийца, срам и стыд! Теперь не рыцарь я — разбойник прямо! Увы, навеки чести я лишен! Подумать только — мной убита дама». Но, как всегда, насмешливый Ришмон И грубый, как всегда, сказал: «Мне странно Глядеть на твой сентиментальный пыл; Ведь англичанка та, что ты убил, И вряд ли девственница, как Иоанна». Пока он эту грубость говорил, Он чувствует, что ранен. Обозленный, Дрожа от гнева, он летит вперед; Британскими войсками окруженный, Он и направо и налево бьет. Ла Гир и он, рубя с ожесточеньем, Как бы уносятся вперед теченьем; Сраженных горы каждый миг растут, Британцы делают из них редут; К нему бросаются герои наши. В кровавой и ужасной этой каше Король сказал: «Мой милый Дюнуа, Скажите мне, скажите, где она?» «Кто?» — Дюнуа спросил. «Она ушла, — Твердил король, — увы, что с нею стало?» «С кем?» — «Нет ее! У замкового вала, Когда мы с вами встретились… Бог мой… Ее сегодня не было со мной…» «Ее найдем мы», — молвила Иоанна. «О боже, сохрани, — король просил, — Агнесу верной мне!» — и наносил Удары англичанам неустанно. Но вскоре ночь, своею пеленой Таинственно окутав шар земной, Остановила гордую забаву Монарха, пожинающего славу. Воинственную прекратив игру, Король узнал, что нынче поутру Видали несколько особ прекрасных, Что выделялась между них одна Улыбкой, белизною рук атласных, Божественной осанкою. Она Легко скакала на седле богатом, Ведя беседу с толстяком аббатом. Оруженосцы с копьями в руках, Сеньоры на арабских скакунах, Которые то прядали, то ржали, Прекрасных амазонок окружали. Отряд великолепный проскакал К дворцу, которого никто не знал, Который оставался неизвестным До той поры всем жителям окрестным, Но роскошью причудливой блистал. «Кто верен мне, тот следует за мною, — При этой вести Карл сказал Бонно. — На поиски поедем мы с зарею. Пусть мне грозит опасность, все равно. Я иль умру, иль отыщу Агнесу». Он спал недолго. И едва в завесу Небесных туч просунул Фосфор{399} нос, Предшественник Авроры нежных роз, Едва еще на небе запрягали Коней для Солнца{400}, как заведено, — Король, Иоанна, Дюнуа, Бонно, Вскочив в седло, немедля поскакали Отыскивать таинственный дворец. Карл молвил: «Только б мы ее сыскали! А англичане подождут, ей-ей: Всего важней соединиться с ней».Конец песни шестнадцатой
Песнь семнадцатая
Содержание
Как Карл VII, Агнеса, Иоанна, Дюнуа, Ла Тримуйль и другие сошли с ума; и как заклинания преподобного отца Бонифация, королевского духовника, вернули им разум.
Как много колдунов на этом свете! Я о колдуньях уж не говорю. Хоть юности я миновал зарю, Желаний цепи, увлечений сети, Но иногда к обману, точно дети, Склоняются и зрелые умы, Особенно, когда наш совратитель — В одеждах пышных мощный повелитель. Он, вознеся, свергает в бездну тьмы, Где горечь пьем и смерть находим мы. Остерегайтесь сталкиваться с силой, Какой владеют эти ведуны. Читатель-друг! Коль чары вам нужны, Пусть это будут чары вашей милой. Гермафродит соорудил дворец, Чтоб, задержав Агнесу в этом месте, Подвергнуть страшной, небывалой мести Дам, рыцарей, ослов, святых, всех вместе, За то, что опозорился вконец Благодаря их святости и чести. Кто в замок очарованный вступал, Своих друзей, тотчас позабывал, Ум, память, чувства, все, чем жизнь прекрасна. Вода, которой поят мертвецов У гибельных летейских берегов, В сравненье с этим — менее опасна. Под портиком величественным здесь, Различных стилей представлявшим смесь, Разгуливал жеманно призрак пышный, С горящим взором, поступью неслышной, Стремительный, порывистый, живой, Украшенный блестящей мишурой. Он весь непостоянство, весь движенье И называется — Воображенье. Не та богиня чудной красоты, Которая с волшебной высоты Рим и Элладу озаряла светом, Свои алмазы и свои цветы Дарившая торжественным поэтам, — Гомеру, вдохновенному слепцу, Вергилию, поэту-мудрецу, Овидию, изгнаннику-певцу, — Но божество, чей здравый смысл хромает И чей девиз: как можно больше ври; К нему немало авторов взывает, Оно напутствует и вдохновляет Сорлена, Лемуана, Скюдери{401}{402} И чепуху струит из полной чаши На оперы и на романы наши; Театр, и суд, и университет — Вымаливают у него совет. Воображенье на руках качало Уродца-болтуна Галиматью; «Глубокий», «серафический»{403}, бывало, Он богословов поучал семью, Толкуя томы непонятных бредней; Нам всем известен труд его последний — «История Марии Алакок»{404}. Жужжащим роем вкруг Воображенья Вились Обман, Двусмысленность, Намек, Навет, и Кривотолк, и Заблужденье, Нелепая Игра дурацких слов, И Вымысел, и Толкованье снов. Так вкруг совы под нежилою крышей Летучие бесшумно вьются мыши. Как бы там ни было, ужасный дом Был сделан так, что, очутившись в нем, Теряет разум человек, покуда Судьба не выведет его оттуда. Агнеса в глубь таинственных палат Едва вошла на радость адским силам, Как тотчас показался ей аббат Не Бонифацием, а Карлом милым, Любимым ею страстно, всей душой. Она твердит: «Мой милый, мой герой, Я счастлива, что вы опять со мной! Не ранены ли вы? Где ваша свита? Что армия британская — разбита? Ах, дайте я кольчугу с вас сниму» Она, в приливе нежности, желает Снять рясу с Бонифация, вздыхает И падает в объятия к нему. С огнем в крови, со взором, полным света, Агнеса ждет на поцелуй ответа. Бедняжка, ты огорчена была, Когда, ища надушенных фиалкой Ланит, столкнулась с рыжею мочалкой, Похожею на бороду козла? Аббат боится, что сейчас погубит Священный целомудрия обет, И убегает. «Он меня не любит!» — Кричит она, спеша ему вослед. Пока они бежали друг за другом, Аббат — крестясь, она — крича: «Постой!» — Был поражен отчаянной мольбой Их слух: то женщина, склонясь с испугом Пред грозным рыцарем, одетым в сталь, Молила о спасенье. Труд бесцельный: Он меч схватил, ему ее не жаль, Сейчас он нанесет удар смертельный, В злодее этом можно ли узнать Тримуйля, рыцаря, столь благородно Готового везде, когда угодно За Доротею жизнь свою отдать? Он хочет Тирконеля наказать, Заклятого врага воображая В своей возлюбленной. Не узнавая Тримуйля, Доротея, в свой черед, На помощь друга верного зовет, Потом твердит в заботе и печали: «Ответьте, умоляю, не встречали Вы господина сердца моего? Он только что был здесь, и нет его. О Ла Тримуйль, о дорогой любовник, Кто нашего несчастия виновник?» Она напрасно это говорит, Тримуйль не понимает слов подруги; Ему мерещится, что гордый бритт Пред ним — с мечом в руках, в стальной кольчуге Вступить в борьбу с врагом стремится он, Меч обнажив, идет на Доротею, Так говоря: «Британец, я сумею Заставить вас понизить дерзкий тон. Наверное, перепились вы пива, Грубьян, — он восклицает горделиво, — Но меч мой вас научит на лету Почтенью к рыцарю из Пуату, Чьи предки славные во время оно Без счету отправляли в мир теней Таких же наглецов из Альбиона, Но только похрабрей и познатней. Что ж вы стоите, не берясь за шпагу, Что ж потеряли вы свою отвагу, Речь гордую и мужественный вид, Британский заяц, английский Терсит? Я знаю вас: в парламенте горланят, А в битве трусят! Обнажай же меч, Иль двести пятьдесят плетей изранят Тебя от жирной задницы до плеч, И медный лоб твой, заяц злополучный, Я меткой заклеймлю собственноручной». Растерянна, едва дыша, бледна; Внимает дева гордому герою. «Не англичанин я, — твердит она, — За что вы так обходитесь со мною? Я ненавистна вам не потому ль, Что мой любовник — славный Ла Тримуйль? О, сжальтесь! Женщина в слезах и муке Целует ваши доблестные руки!» Она напрасно молит: глух и нем, Тримуйль, рассвирепев уже совсем, Схватить за горло хочет Доротею. Но, дамой нагоняемый своею, О них споткнувшись, бедный духовник Вдруг падает и испускает крик; Тримуйль его хватает в диком раже За волосы и падает туда же; С разбега кубарем — печальный вид — Агнеса нежная на них летит; И между ними бьется Доротея, Зовя Тримуйля и кляня злодея. С зарей, как это было решено, Король, сопровояедаемый Бонно И Дюнуа с отважною Иоанной, Поспешно направлялись в замок странный, О, чудеса! О, сила волшебства! Чтоб отыскать скорее след желанный. Едва сошли они с коней, едва За ними двери замка затворились, Все четверо тотчас ума лишились. Так и у нас в Париже доктора Бывают и способны и учены, Пока не настает для них пора Торжественно вступить под сень Сорбонны, Где Путаница и нелепый Спор Устроились удобно с давних пор И мысль разумная звучит как шутка; Толпа ученых входит в этот храм; На вид они не лишены рассудка, Почтение они внушают вам, Все смотрят сановито и прилично, Все по-латыни говорят отлично, Толкуют обо всех и обо всем, И все же — это сумасшедший дом. Карл, опьянен от нежности и счастья, С блестящим взором, в неге сладострастья, С сердцебиеньем и огнем в крови, Твердит на нежном языке любви: «Мой друг, моя Агнеса дорогая, Моя красавица, мой рай земной, Как часто я страдал, тебя теряя, Как счастлив я, что ты опять со мной, Опять в моих объятьях тесно, тесно! О, если б знала ты, как ты прелестна! Но будто пополнела ты слегка, Тебя не может обхватить рука, Не узнаю твой стан: он был так тонок. Какой живот, и бедра, и бока! Агнеса! Это будет наш ребенок, Наш милый сын, любви бесценный плод, Который Францию превознесет. Пусти меня скорее к милой детке, Дай поглядеть, удобно ли ему, Пусть милый плод к родной приникнет ветке, Пусти меня к ребенку моему». Кому, пусть сам читатель отгадает, Прекрасный Карл восторги расточает? Кого в объятиях сжимает он? То был Бонно, пыхтящий, потный, жирный, То был Бонно, который поражен Был, как никто на всей земле обширной. Все в Карле страстью воспламенено; Он шепчет: «Этот миг я не забуду!» И вмиг на человеческую груду Бросает неповинного Бонно. Какие вопли раздались, о Муза, Под тяжестью нечаянного груза! Аббат, слегка опомнившись, вперед Старается просунуть свой живот, Агнесу топчет, давит Доротею; Бонно, вскочив, за ним бежит в аллею. Но Ла Тримуйлю кажется, что ту, Но ком его душа всегда пылает, Его красавицу, его мечту Толстяк бегущий дерзко похищает. Он за Бонно бежит, крича ему: «Отдай ее, иль силой отниму! Стой, подожди!» И бедного детину Со страшной силой ударяет в спину. Бонно прекрасную броню носил, С ней расставаясь лишь в опочивальне; Удар по ней подобен грому был Иль стуку молота по наковальне; Его торопит страх, в глазах темно. Иоанна, видя бедствие Бонно, Бегущего в отчаянном испуге, Иоанна, в шлеме и в стальной кольчуге, Летит к Тримуйлю, и ее рука Выплачивает долг за толстяка. Бастард, прославленный по всей отчизне, Зрит, что опасность угрожает жизни Тримуйля дорогого. Не ему ль В любви и верности клялся Тримуйль? Бастард прекрасный принимает Деву За англичанина, несется к ней И, справедливому отдавшись гневу, Все, что досталось дружеской спине, Спешит Иоанне возвратить вдвойне. Карл благородный, созерцавший это, Своих желаний не терял предмета И, видя, что Агнесу бьют, за меч Хватается, не в силах удержаться. Он хочет за нее костями лечь, Он с целой армией готов сражаться. И кажется ему, что заодно Все, находящиеся воруг Бонно. Он колет Дюнуа куда попало, А тот с размаху бьет его в забрало, Несноснейшую причиняя боль. Когда б он знал, что это был король, Наш рыцарь ужаснулся бы, наверно. И устыдился бы себя безмерно! Бастард и Деву ранит; та его Разит мечом в неистовстве и гневе; Но рыцарь, не страшася ничего, Бросает вызов королю и Деве; Направо и налево, здесь и там, Он их с размаху бьет по головам. Иоанна, Дюнуа, остановитесь! Как будет горько вашему уму Понять впоследствии, с кем бился витязь, Удары Девы сыпала кому! Тримуйль с неостывающей отвагой Дерется с кем попало и порой Иоанны прелести щекочет шпагой. Бонно не занят этою игрой, Гул битвы меньше всех его смущает. Он получает, но не возвращает И со слезами бегает кругом, Опережаемый духовником. Круговоротом бешеная злоба Бурлит широко по всему дворцу, И верные друзья, лицом к лицу, Сражаются, любя друг друга оба, Агнеса стонет, Доротея льет Потоки слез и милого зовет. Тут Бонифаций, полный сокрушенья, Уже уставший призывать творца, Заметил, что на битву с возвышенья Хозяин грозный этого дворца, Гермафродит, обыкновенно хмурый, Глядит, держась от смеха за бока. Мгновенно голова духовника, Где под защитою святой тонзуры Еще остался смысл, озарена Была догадкою, что, без сомненья, Виновник и зачинщик Сатана Неслыханного самоизбиенья. Он вспомнил, что Бонно носил с собой Мускат, гвоздику, перец, соль, левкой{405}, При помощи которых наши деды Различные предотвращали беды. Духовнику был кстати груз такой. Молитвенник при нем был. В тяжкой доле Набрел он на спасительную нить, При помощи молитв и горсти соли Лукавого задумав изловить. Над таинством трудясь, подобно магам, Бормочет он: «Sanctam, Catholicam, Papam, Romam, aquam benedictam»; И, чашу взяв, спешит проворным шагом Врасплох святою окропить водой Отродие Алисы молодой. Едва ли Стикса огненная влага Для грешников губительней была. Волшебник загорелся, как бумага, И вместе с замком, сим жилищем зла, Его заволокла густая мгла. Еще не исцелившись от недуга, Искали рыцари во тьме друг друга. Мгновение спустя обман исчез; Нет больше битв, ошибок, злых чудес, Любовь опять сменила раздраженье, Ничто не затемняло больше глаз, Вернулся, бывший в их распоряженье, Рассудка незначительный запас; Увы, к стыду людей, на нашем свете Нетрудно исчерпать запасы эти. Совсем как напроказившие дети, Смотрели паладины в этот час; Полны смиренья и господня страха, Они поют псалмы у ног монаха. О благородный Карл! О Ла Тримуйль! Я восхищенье ваше опишу ль? Повсюду слышалось: «Моя Агнеса! Мой ангел! Мой король! Моя любовь! Счастливый день! Счастливый миг! Завеса Упала с глаз! Тебя я вижу вновь!» На сто вопросов с этих уст счастливых Слетает сто ответов торопливых, Но чувств не может выразить язык. Отеческие взоры духовник На них бросая, в стороне молился. Бастард к Иоанне нежно наклонился Со скромным выраженьем чувств своих. Тут постоянный спутник страсти их, Осел священный, Франции на славу, Издал громоподобную октаву Всей силой легких. Небо потрясла Октава благородного осла. Качнулись стены замка. Задрожала Земля, и Девственница увидала, Как падают при звуках громовых Сто башен медных, сто дверей стальных. Так было раз уже во время оно, Когда, презрев кровопролитный бой, Евреи укрепленья Иерихона{406} В единый миг разрушили трубой. Теперь чудес подобных не бывает. Мгновенно замок вид переменяет И, созданный неверием и злом, Становится святым монастырем. Салон Гермафродита стал часовней. Опочивальня, прочих мест греховней, Где буйствовал хозяин по ночам, Преобразилась в величавый храм. По мудрому творца определенью, Не изменила местоназначенью Лишь зала пиршеств, и в стенах ее Благословляют пищу и питье. Душою в Реймсе, в стенах Орлеана, Так говорила Дюнуа Иоанна: «Все нам благоприятствует. Заря Любви и славы светит нам отныне; И дьявол посрамлен в своей гордыне, Беспомощною злобою горя». Она ошиблась, это говоря.Конец песни семнадцатой
Песнь восемнадцатая
Содержание
Злоключения Карла и его золотой свиты.
Нет в летописях ни одной страны! Такого мудреца или пророка, Который бы не потерпел жестоко, По прихоти завистливого рока, От происков врагов иль Сатаны. Французского монарха от рожденья Испытывала воля провиденья; Его воспитывали кое-как; Его преследовал Бургундский враг;{407}{408} Отец лишил законного владенья; К суду юнец несчастный призван был{409}{410} Парламентом Парижа близ Гонессы;{411} Британец лилии его носил; Ему порой не удавалось мессы Прослушать; он скитаться и блуждать Привык. Любовница, друг, дядя, мать{412} — Все предали его и все забыли. Агнесою воспользовался бритт; Благодаря нечистой адской силе Искусным волшебством Гермафродит Ему к любимой преградил дорогу. Он в жизни много испытал обид, Но он их вынес, — так угодно богу. Покинув замок, где не так давно Агнеса, паладины и Бонно Коварство Вельзевула испытали, Любовники, беседуя, скакали; По краю леса ехали они, Что назван Орлеанским в наши дни. Еще супруга сонная Тифона{413} Едва мешала краски небосклона, Как вдруг суровой Девственницы взгляд Заметил за деревьями солдат В коротких юбках; на их куртках были Три леопарда{414} средь французских лилий. Король остановил коня. Ему Неясна даль была сквозь полутьму. Сам Дюнуа считал, что дело странно. Агнеса же, едва тая испуг, Шепнула королю: «Бежим, мой друг». Приблизившись, увидела Иоанна Каких-то пленных, по двое, в цепях; Их лица выражали скорбь и страх. «Увы! — она отважно восклицает. — Ведь это рыцари. Священный долг Освободить их нам повелевает. Покажем бриттам, будь их целый полк, Что может Дюнуа, что может Дева!» И, копья наклонив, дрожа от гнева, Они бросаются на часовых. Заметив вид их грозный и надменный, Услышав, как ревет осел священный, Трусливые воители тотчас, Как стая гончих, исчезают с глаз. Иоанна, гордая удачной схваткой, Приветствовала пленных речью краткой: «О рыцари, добыча злых оков, Пред королем-защитником склонитесь, Ему служить достойно поклянитесь, И бросимся совместно на врагов». Но рыцари на это предложенье Не отвечали вовсе. Их смущенье Еще усилилось. Читатель мой, Ты хочешь знать, кто эти люди были, Стоявшие безмолвною толпой? То были жулики. Их присудили, И, право же, заслуженно вполне, Грести на Амфитритиной спине{415}; Узнать легко их по нарядам было. Взглянув на них, король вздохнул уныло, «Увы, — он молвил, — суждено опять Горчайшую печаль мне испытать. Державой нашей англичане правят, Чинят расправу и творят свой суд! Их величают, их в соборах славят, Их властью подданных моих ведут На каторжные страшные работы!..» И государь, исполненный заботы, К молодчику приблизиться решил, Который во главе отряда был. Мерзавец тот смотрел ужасно скверно: Он рыжей бороды давно не брил; Улыбкой рот кривился; лицемерно Двоился взгляд трусливый и косой; Казалось, что всклокоченные брови Какой-то замысел скрывают злой; На лбу его — бесчинство, жажда крови, Презренье правил, свой на все закон; К тому же скрежетал зубами он. Обманщик гнусный, видя властелина, Улыбкой, выражением лица Походит на почтительного сына, Который видит доброго отца. Таков и пес, свирепый и громадный, Охрипнувший от лая, к драке жадный: Хозяина заметив, он юлит, Он самый льстивый принимает вид И кротче агнца ради корки хлеба. Иль так еще противник дерзкий неба, Из ада вырвавшись и спрятав хвост, Является меж нас, любезен, прост, И, как отшельник, соблюдает пост, Чтоб лишь верней смутить ночные грезы Святой сестры Агаты или Розы. Прекрасный Карл, обманутый плутом, Его ободрил ласково. Потом Спросил его, исполненный заботы: «Скажи мне, друг, откуда ты и кто ты, Где родился, как жил, чем промышлял, И кто, сводя с тобой былые счеты, Тебя так беспощадно наказал?» Печально отвечает осужденный: «О мой король, чрезмерно благосклонный! Из Нанта я, зовут меня Фрелон{416}{417}. Я к Иисусу сердцем устремлен; Живал в монастырях, живал и в свете, И в жизни у меня один закон: Чтоб были счастливы и сыты дети. Я отдал добродетели себя. В Париже с пользою работал я, Насмешки едкой в ход пуская плети. Моим издателем был сам Ламбер; Известен я на площади Мобер; Там равный мне нашелся бы едва ли. Безбожники, конечно, обвиняли Меня в различных слабостях; порой Не прочь бывали счеты свесть со мной; Но для меня судья — одна лишь совесть». Растрогала монарха эта повесть. «Утешься и не бойся ничего, — Он говорит ему. — Ответь мне, все ли Из тех, кого в Марсель угнать хотели, Добро, как ты, чтут более всего?» «Любой мое занять достоин место, Бог мне порукой, — отвечал Фрелон. — Из одного мы и того же теста. Сосед мой, например, аббат Койон{418}, Что б там ни говорили, добрый малый, Благоразумный, сдержанный, не шалый, Не забияка и не клеветник. Вот господин Шоме{419}{420}, невзрачный, серый, Но сердцем — благочестия родник; Он рад быть высеченным ради веры. Вон там Гоша{421}{422}. Он в текстах, видит бог, Раввинов лучших посрамить бы мог. Вот тот, в сторонке, — адвокат без дела: Он бросил суд, он божий раб всецело. То Саботье{423}. О, мудрых торжество! О, ум тончайший! О, святой священник! Он предал господина своего, Но ведь немного взял за это денег. Он продался, но это не беда. Он занимался, как и я, писаньем, Печати послужил он с дарованьем, Полезен будет он и вам всегда. В наш век ведь отданы успех и слава Лишь тем из авторов, кто грязен, право! Нас, бескорыстных, зависть оплела. Таков удел всего святого. Эти ль Презренные нас удивят дела? Всегда, везде гонима добродетель, Король! Кто знает это лучше вас?» Внимая звуку слов его столь лестных, Карл увидал еще двух неизвестных, Скрывавших лица, словно бы стыдясь. «Кто это?» — молвил он, с огнем во взоре. Газетчик{424}{425} отвечал: «Сказать не грех, Что это доблестнейшие из всех, Кто собирается пуститься в море. Один из них Фантен{426}, святой аббат. Он любит знатных, он незнатным рад. Он пастырь душ живых. Но все ж толкала Его порой и к умиравшим страсть, Чтоб исповедать их и обокрасть, Другой — Бризе{427}{428}, монахинь попечитель; Он прелестей их тайных не любитель, Предпочитая мудро их казну. Не ставлю это я ему в вину: Он не любил металла, но боялся, Чтоб тот безбожным людям не достался. Последний из ссылаемых в Марсель — Моя опора, добрый Ла Бомель{429}{430}. Из всей моей ватаги лицемерной Он самый подлый, но и самый верный. Рассеян он немного, грех тот есть; Ему порою, меж трудов, случалось В карман чужой, как будто в свой, залезть, Но чье перо с его пером сравнялось! Он знает, сколь для немощных умов Тлетворна истина; он понимает, Что свет ее опасен для глупцов, Что им тупица злоупотребляет, И дал обет сей мудрый человек Ни слова правды не сказать вовек. Я, мой король, ее вещаю смело; Мне дороги и вы, и ваше дело, И я потомкам говорю о том. Но я молю вас: не воздайте злом Нам, клеветой униженным жестоко; Спасите добрых из сетей порока; Освободите, оплатите нас; Клянусь, писать мы будем лишь для вас». Он тут же речь составил; в ней со страстью К единству звал он под законной властью, Клял англичан и утверждал, что в нем Нашел опору королевский дом. Карл, слушая, вздыхал посередине, Глядел на всех, исполненный забот, И тут же объявил, что их отныне Под покровительство свое берет. Прекрасная Агнеса, стоя рядом, Растроганным на всех сияла взглядом. Она была добра: известно нам, Что женщины, служащие Киприде, Чувствительней других к чужой обиде. Она сказала: «Этим молодцам День выдался сегодня очень славный: Они впервые в жизни видят вас И празднуют освобожденья час. Улыбка ваша — счастья признак явный. О, как могли судейские чины Не признавать хозяина страны, С законным государем не считаться! Им судьями не должно называться! Я видела, как эти господа, Блюстители престола и свободы. Тупые и надменные всегда, Забрали королевские доходы, В суд вызвали монарха своего И отняли корону от него. Несчастные, стоящие пред вами, Преследуемы теми же властями; Они вам ближе сыновей родных; Изгнанник вы, — отмстите же за них». Ее слова монарха умилили: В нем чувства добрые всесильны были. Иоанна же, чей дух был не таков, Повесить предложила молодцов, Считая, что давно бы всем Фрелонам Пора болтаться по ветвям зеленым; Но Дюнуа не согласился с ней: Он был благоразумней и умней. «У нас порой в солдатах недостаток, Нам не хватает рук во время схваток; Используем же этих молодцов. Для приступов, осады и боев Нам не нужны писаки и поэты; Их ремесло я изменить готов, Им в руки дав не весла, а мушкеты. Они бумагу пачкали; пускай Теперь идут спасать родимый край!» Король французов был того же мненья. Тут обуял несчастных пленных страх, Все бросились к его ногам, в слезах. Их поместили около строенья. Где Карл, в сопровождении двора, Решил остаться на ночь до утра. Агнеса так была душой добра, Что пир решила им устроить редкий: Бонно им снес монаршие объедки. Карл весело поужинал, потом Лег отдохнуть с Агнесою вдвоем. Проснувшись, оба раскрывают вежды И видят, что исчезли их одежды. Агнеса тщетно ищет их кругом, — Их нет, как и жемчужного браслета, А также королевского портрета. У толстого Бонно из кошелька Похитила какая-то рука Все деньги христианнейшей короны. Ни ложек нет, ни платьев, ни куска Говядины. Койоны и Фрелоны, Минуты лишней не теряя зря, Заботою и рвением горя, Немедля короля освободили Ото всего, чем был он окружен. Им думалось, что мужеству и силе Противна роскошь, как учил Платон. Они ушли, храня монарха сон, И в кабаке добычу поделили; Там ими был написан и трактат Высокохристианский о презренье К земным благам и суете услад. Доказывалось в этом сочиненье, Что все на свете — братья, что должно Наследье божье быть поделено И каждому принадлежать равно. Впоследствии святую книгу эту, По праву полюбившуюся свету, Дополнила ученых справок тьма, Для руководства сердца и ума. Всю свиту королевскую в смущенье Повергло дерзостное похищенье, Но не найти нигде уже вещей. Так некогда приветливый Финей, Фракийский царь, и набожный Эней{431}{432}{433} Чуть было не утратили дыханья От изумленья и негодованья, Заметив, что у них ни крошки нет, Что гарпии пожрали их обед. Агнеса плачет, плачет Доротея, Ничем прикрыться даже не имея, Но вид Бонно, в поту, почти без сил, Их все-таки слегка развеселил. «Ах, боже мой, — кричал он, — неужели У нас украли все, что мы имели! Ах, я не выдержу: нет ни гроша! У короля добрейшая душа, Но вот развязка — посудите сами, Вот плата за беседу с мудрецами». Агнеса, незлобивая душой И скорая всегда на примиренье, Ему в ответ: «Бонно мой дорогой, Не дай господь, чтоб это приключенье Внушило вам отныне отвращенье К науке и словесности родной: Писателей я очень многих знала, Не подлецов и не воров нимало, Любивших бескорыстно короля, Проживших, о подачках не моля, И говоривших прозой и стихами О доблестях, но доблестных делами; Общественное благо — лучший дар За их труды: их наставленье строго, Но полно сладких и отрадных чар; Их любят все, их голос — голос бога; Есть и плуты, но ведь и честных много!» Бонно ей возразил: «Увы! Увы! Пустое дело говорите вы! Пора обедать, а кошель потерян». Его все утешают: всяк уверен, Что в скором времени и без труда Забудется случайная беда. Решили двинуться сию минуту Все в город, к замку, к верному приюту, Где и король, и каждый паладин Найдут постель, еду и много вин. Оделись рыцари во что попало, На дамах тоже платья было мало, И добрались до города гуськом, Одни в чулках, другие босиком.Конец песни восемнадцатой
Песнь девятнадцатая
Содержание
Смерть храброго и нежного Ла Тримуйля и прелестной Доротеи. Суровый Тирконель делается картезианцем.
Из чрева Атропос ты рождена, Дочь смерти, беспощадная война, Разбой, который мы зовем геройством! Благодаря твоим ужасным свойствам Земля в слезах, в крови, разорена. Когда на смертного идут согласно Марс и Амур и рыцаря рука, Что в тайные минуты неги страстной Была так ласкова, нежна, легка, Пронзает грудь уверенно и грубо, Которой для него дороже нет, Грудь, где его пылающие губы Столь трогательный оставляли след; Когда он видит, как тускнеет свет В дышавших преданной любовью взорах, — Такая участь более мрачна, Чем гибель ста солдат, за жизнь которых Монетой звонкой уплатить сполна Успела королевская казна. Вновь получив рассудка дар убогий, Который нам в насмешку дали боги, Король, отрядом окружен своим, Скакал вперед, желаньем битв томим. Они спешили к стенам городским И к замку, чьи хранили укрепленья Доспехов Марсовых обширный склад, Мечей, и пушек, и всего, что ад Нам дал для страшного употребленья. Завидев башни гордые вдали, Они поспешно крупной рысью шли, Горды, самоуверенны, упрямы. Но Ла Тримуйль, который, возле дамы Своей гарцуя, о любви шептал, От спутников нечаянно отстал И сбился тотчас же с пути. В долине, Где звонко плещется источник синий И, возвышаясь вроде пирамид, Строй кипарисов сладостно шумит, Где все полно покоя и прохлады, Есть грот заманчивый, куда Наяды С Сильванами уходят в летний зной. Там ручеек капризною волной Красивые образовал каскады; Повсюду травы пышно разрослись, Желтофиоль, и кашка, и мелис, Жасмин пахучий с ландышем прелестным, Шепча как будто пастухам окрестным Привет и приглашение прилечь. Всем сердцем славный Ла Тримуйль их речь Почувствовал. Зефиры, нежно вея, Любовь, природа, утро, Доротея — Все чаровало душу, слух и взгляд. Любовники сойти с коней спешат, Располагаются на травке рядом И предаются ласкам и усладам. Марс и Венера с высоты небес Достойнее б картины не сыскали; Из чащи нимфы им рукоплескали, И птицы, наполняющие лес, Защебетали слаще и любовней. Но тут же рядом был погост с часовней, Обитель смерти, мертвецов приют; Останки смертные Шандоса тут Погребены лишь накануне были. Над прахом два священника твердили Уныло «De Profundis»[12]. Тирконель Присутствовал во время этой службы Не из-за благочестья, а из дружбы. Одна у них была с Шандосом цель: Распутство, бесшабашная отвага И жалости не ведавшая шпага. Привязанность к Шандосу он питал, Насколько мог быть Тирконель привязан, И, что убийца будет им наказан, Он клятву злобную у гроба дал. В окошко он увидел меж ветвей Пасущихся у грота двух коней. Он направляется туда; со ржаньем Бегут к пещере кони от него, Где, отданные сладостным желаньям, Любовники не видят ничего. Поль Тирконель, чей бессердечный разум Чужого счастия был вечный враг, Окинул их высокомерным глазом И, подойдя к ним, закричал: «Вот как! Так вот какой срамной разгул устроя, Вы память оскорбляете героя! Отбросы жалкого двора, так вот Что делаете вы, когда умрет Британец, полный доблести и силы! Целуетесь вы у его могилы, Пастушеский разыгрывая рай! Ты ль это, гнусный рыцарь, отвечай, Твоею ли рукой британский воин. Которому ты даже недостоин Служить оруженосцем, срам и стыд, Каким-то странным образом убит? Что ж на свою любовницу глядишь ты И ничего в ответ не говоришь ты?» На эту речь Тримуйль сказал в ответ: «Средь подвигов моих — такого нет. Великий Марс всегда распоряжался Судьбою рыцарей и их побед, — Он так судил. С Шандосом я сражался, Но более счастливою рукой Британский рыцарь был смертельно ранен; Хотя сегодня, может быть, и мной Наказан будет дерзкий англичанин». Как ветер крепнущий сперва чуть-чуть Рябит волны серебряную грудь, Растет, бурлит, срывает мачты в воду, Распространяя страх на всю природу, — Так Ла Тримуйль и Тирконель сперва, Готовясь к поединку, говорили Обидные и колкие слова. Без панцирей и шлемов оба были: Тримуйль в пещере бросил кое-как Копье, перчатки, панцирь и шишак — Все, что необходимо для сраженья; Себя удобней чувствовал он так: Помеха в час любви вооруженье! Был Тирконель всегда вооружен, Но шлем свой золотой оставил он В часовне вместе со стальной кольчугой — В сражениях испытанной подругой. Лишь рукояти верного клинка Не выпускает рыцаря рука. Он обнажает меч. Тримуйль мгновенно Бросается к оружью своему; Противника, смотрящего надменно, Готовый наказать, кричит ему, Пылая гневом: «Погоди, дружище, Сейчас отведаешь ты славной пищи, Разбойник, притворившийся ханжой, Чтобы смущать любовников покой!» Вскричал — и устремляется на бритта. Так на фригийских некогда полях В бой с Менелаем Гектор шел открыто{434} У плачущей Елены на глазах{435}{436}. Пещеру, небо, воздух Доротея, Скрывать свои печали не умея, Стенаньем огласила. Как она, Несчастная, была потрясена! Она твердила: «Пламя поцелуя Последнего на мне еще горит! О боже, потерять все, что люблю я! Ах, милый Ла Тримуйль! О гнусный бритт, Пусть грудь мою ваш острый меч пронзит!» Так говоря, со взором, полным муки, Бросается, протягивая руки, Между сражающимися она. Уж грудь Тримуйля, что с такой любовью Она ласкала, вся обагрена Горячею струящеюся кровью (Удара сокрушительного след); Француз отважный на удар в ответ Коварного британца поражает, Но Доротея между них, увы! О небо, о Амур, где были вы! Какой любовник это прочитает, Не оросив слезами грустных строк! Ужель достойнейший любовник мог, Такой любимый и такой влюбленный Убить подругу, гневом ослепленный! Сталь закаленная, орудье зла, Вонзилась в сердце, где любовь жила… То сердце, что всегда открыто было Тримуйлю, пронзено его рукой. Она шатается… Зовет с тоской Тримуйля своего… В ней гаснет сила… Она пытается глаза открыть, Чтоб милый образ дольше сохранить, И, лежа на земле, уже во власти Ужасной смерти, с холодом в крови, Она ему клянется в вечной страсти; Последние слова, слова любви, С коснеющего языка слетели, И кровь застыла в бездыханном теле. Ее несчастный Ла Тримуйль увы, Не слышал ничего. Вкруг головы Его витала смерть. Облитый кровью, Упал он рядом со своей любовью, Своей избранницей, и утопал В ее крови, и этого не знал. Оцепенев, британец беспощадный Стоял в молчании. Он не владел Своими чувствами. Так Атлас хладный{437}, Бесчувственный, суровый и громадный, Скалою стал, навек окаменел. Но жалость, в чьей благословенной власти Смягчать суровые людские страсти, Ему свою явила благодать: Его душа сочувствием согрета; Он начал Доротее помогать, И на ее груди он два портрета Находит: Доротея их везде И в радости хранила и в беде. Изображен великолепный воин Был на одном портрете. Как гроза, Был Ла Тримуйль красив. Его глаза Сияли ясно, словно бирюза. Сказал британец: «Он любви достоин». Но что, о Тирконель, промолвил ты, Увидя на другом свои черты? Глядит он в изумленье и тревоге. Какая неожиданность, о боги! И тотчас вспомнил он, как по дороге В Милан он с юной Карминеттой свел Знакомство и подругу в ней нашел, И как потом, в печальный час разлуки, Прощаясь с ней три месяца спустя, Когда она уже ждала дитя, Ее целуя, положил ей в руки, Написанный Беллини{438}{439}, свой портрет. Искусное произведенье это Узнал он. Мать убитой — Карминетта, А Тирконель — отец, сомненья нет. Он был суровым холодом отмечен. Но не бездушен, не бесчеловечен. Когда таких людей печаль язвит, Когда их постигает боль иль стыд, Они сильней их отдаются власти, Чем человек, что быть рабом привык Любого ощущения иль страсти: Легко сгорает на ветру тростник, Но в горне медь пылает большим жаром. Британец, страшным потрясен ударом, Глядел на дочь, лежавшую у ног, И зарыдал впервые, видит бог, Воспользовавшись тем священным даром, Который в скорби облегчает нас. Он с трупа дочери не сводит глаз, Ее целует он и обнимает, Окрестность жалобами наполняет И, проклиная этот день и час, Без чувства падает. Тримуйль прекрасный Сквозь забытье услышал крик ужасный! Он взор полуоткрыл и в тот же миг Он понял, что навек лишился ласки; Из милой груди он спешит изъять Свой меч и прямо на клинок дамасский Бросается. Булат по рукоять Вошел в него, и кровию своею Несчастный рыцарь залил Доротею. На крик британца собрался народ. Священники, оруженосцы, слуги На это зрелище глядят в испуге; В сердцах бесчувственных растаял лед. О, если бы они не подоспели, Наверно б жизнь угасла в Тирконеле! Немного успокоившийся бритт, Смирив свое волнение и стыд, Тела влюбленных положить велит На копья, связанные, как носилки; И в лагерь королевский скорбный прах Солдаты хмурые несут в слезах. Поль Тирконель, в своих порывах пылкий, Немедля принимал решенья. Вдруг Возненавидел он любовь, природу, И дев, и женщин, и свою свободу; Он на коня садится и без слуг, С потухшим взглядом, мрачный и безмолвный, Спешит уехать, размышлений полный. Спустя немного дней, прибыв в Кале, Плывет он в Англию на корабле; Там облачается суровой схпмой Святого Бруно{440}{441} и, тоской томимый, Над жизнию мирскою ставит крест; Всегда молчит, скоромного не ест; Казалось, смерть одна ему желанна. Однако набожность в нем не жила. Когда король, Агнеса и Иоанна Увидели любовников тела, Недавно столь прекрасных и счастливых, Покрытых кровью и землей сейчас, То слезы градом полились из глаз У нежных жен и мужей горделивых. Троянцев меньший ужас поразил, Когда добычей смерти бледнолицей Стал Гектор и помчал за колесницей Его в знак скромной радости Ахилл{442}, Главу героя волоча средь праха, Топча сраженные тела без страха, В живых рождая трепет и испуг; Тогда, по крайней мере, Андромаха Осталась жить, хотя погиб супруг. Агнеса, горьким плачем заливаясь И к плачущему Карлу прижимаясь, Шептала так: «Быть может, и для нас Когда-нибудь такой наступит час; О, если б жить, вовек не разлучаясь, Душой и телом вечно возле вас!» Заметив, что не умолкают стоны И без конца готовы слезы течь, Иоанна голос грозно-непреклонный Возвысила и начинает речь: «Не слезы здесь нужны, а добрый меч; За них отмстим мы поздно или рано Британской кровью на полях войны. Король, взгляните: стены Орлеана Еще британцами окружены. Взгляните: взрытые недавним боем, Еще дымятся кровию поля, Где полегли французы гордым строем Во имя Франции и короля. Так отдадим скорее долг героям И, нанеся удар британцам злым, За рыцаря и деву отомстим! Король не плакать должен, а сражаться. Агнеса, полно грусти предаваться; Отвагу вы и ненависть к врагу Должны внушать любовнику, который Рожден быть милой родине опорой». Агнеса отвечала: «Не могу».Конец песни девятнадцатой
«Орлеанская девственница»
Песнь двадцатая
Содержание
Как Иоанна впала в странное искушение; нежная дерзость ее осла; доблестное сопротивление Девы.
Весьма нестойки дамы и мужчины; Людские добродетели хрупки: Они сосуды дивные из глины, Чуть тронь — и треснут. Склеить черепки? Но склеенные не прочны кувшины. Заботливо оберегать сосуд, Хранить его от порчи — тщетный труд. Порукой этому — пример Адама, И Лот почтенный, и слепец Самсон, Святой Давид и мудрый Соломон, Любая обольстительная дама — Великолепный перечень имен Из Старого и Нового завета. Я нежный пол не осужу за это. К чему лукавить: сладостны для нас Капризы, выдумки, игра, отказ; Но все-таки иные положенья, Иные вкусы стоят осужденья. Я видел как-то обезьянку, дрянь, Рябую, волосатую… И что же: Красавицы ее ласкала длань, Как будто это купидон пригожий! Осел крылатый, может быть, в сто раз Красивей фата в щегольском мундире, Но все-таки… Красавицы, для вас, Для вас одних, бряцаю я на лире; Послушайте правдивый сей рассказ О том, как обманул осел красивый На миг Иоаннин разум горделивый; Не я, а мудрый и красноречивый Аббат Тритем вам это говорит. В аду, где пламя вечное горит, Ужасный Грибурдон, исполнен гнева На героиню, не забыл того, Как голову пробитую его Однажды палашом срубила Дева. Он мести, богохульствуя, искал. «Великий Вельзевул! — он умолял. — Нельзя ли сделать, чтобы грех нежданный Бесчувственною овладел Иоанной? Ведь это чести для тебя вопрос». Когда он это говорил, принес Внезапный вихорь в ад Гермафродита. На роже мерзостной его следы Еще виднелись от святой воды. Он тоже к мщению взывал открыто. Монах, кудесник и отец всех бед, Сойдясь втроем, устроили совет. Увы, обильны и разнообразны Для женщин выдуманные соблазны! Известно было этой шайке грязной, Что ключ хранит под юбкою своей От осаждаемого Орлеана И от судеб всей Франции Иоанна, Доверенный святым Денисом ей. Что во вселенной дьявола хитрей? Спешит на землю он без промедленья К своим друзьям британцам, чтоб узнать, Сильна ли в Девственнице благодать. В то время, ожидая подкрепленья, Карл с милой, Дева, духовник, Бонно, Бастард, осел, лишь сделалось темно, Вернулись в форт. А городские стены Чинились день и ночь в четыре смены, Чтоб в брешь враги проникнуть не могли. Британцы же пока что отошли. Карл и Бедфорд, британцы и французы Поужинали и ложатся спать. Дрожите, целомудренные Музы, Узнав, о чем хочу я рассказать. И вы, друзья, к повествованью барда Прислушайтесь, полезному для всех, Благодаря Дениса и бастарда За то, что не свершился страшный грех. Вы помните, что обещал я с вами Рассказом поделиться об осле, Святом Пегасе с длинными ушами, Который бился с разными врагами С бастардом иль Иоанною в седле. Вы видели, как в синеве небесной В Ломбардию летел осел чудесный. Вернулся он, но с ревностью в крови. Нося Иоанну, он общеизвестный Почувствовал закон, закон любви, Живительный огонь, дух и пружину Всего живущего, первопричину, Которая в пространстве и волнах Бездушный одухотворяет прах. Для мира скудного во мраке ночи Последние лучи его блестят, Он в небесах был для Пандоры взят{443}, Но с той поры светильник стал короче, Он гаснет. Он не разгорится вновь, И производит в наши дни Природа Одну несовершенную любовь. Вы не найдете на земле народа, Где б сохранился этот чудный свет В великолепии минувших лет. Его искать в подлунной — труд напрасный; Быть может, он в Аркадии прекрасной. Вы, Селадоны в рясе и броне, Все, кто в цветочные запутан сети, Гуляки и степенные вполне Полковники, аббаты, старцы, дети, Во избежание ужасных зол, Ослу не верьте никогда. Осел Был у латинян, золотой, чудесный, Своими превращеньями известный, Но он был человек, и потому За нашим не угнаться и ему. Аббат Тритем, ум сильный и свободный, Ученей вдвое, чем педант Ларше{444}{445}, Историк Девственницы благородной, Испуг сильнейший ощутил в душе, Когда, векам грядущим в назиданье, Излишеств этих начал описанье. Едва пером он действовал. Оно Дрожало, ужасом напоено, И выпало из рук. Успокоенье Нашел он, погрузившись в размышленье О Сатане и о его делах. Всех смертных злобный и преступный враг Понаторелый соблазнитель этот, Один и тот же применяет метод Для уловления людских сердец. Коварный преступления отец, Соперник бога и всего, что свято, Мою праматерь соблазнил когда-то В ее саду{446}{447}. Лукавый этот змей Дал яблоко отравленное ей И даже, уверяют, много хуже С ней поступил по подлости своей, И вечно ловит на приманку ту же Он наших жен и наших дочерей. Тритем достопочтенный понимает, Как слабы мы и как наш враг хитер. Послушайте, как он изображает Осла святого дерзость и позор. Иоанна, вся горя румянцем алым, Здоровым отдыхом освежена, Спокойно нежилась под одеялом, II вспоминала жизнь свою она. Казалось ей: возвысилась так чудно Она своими силами. (Нетрудно В душе тщеславья прорасти зерну.) Денис тотчас же, в справедливом гневе, Решил оставить, в наказанье Деве, Ее с своими чувствами одну: Таким путем гордячка поняла бы, Как женщины в борьбе с природой слабы, Коль силам предоставлены своим, И как необходим, как нужен им Наставник опытный и покровитель. И вот уже к нечистому во власть Она готова навсегда попасть. Воспользовавшись этим, соблазнитель Принялся тотчас за свои дела. Он вездесущ. Вселился он в осла, Смягчил его ужасную октаву, Его рассудок темный изощрил И в тонкости искусства посвятил, Исследованьем коего по праву Овидий и Бернар{448} стяжали славу{449}. Святой осел забыл тотчас же стыд: Из стойла прямо в спальню он спешит, К постели, где, пленившись сладкой ложью, Иоанна сердце слушала свое, И здесь, смиренно опустясь к подножью, Прекрасным стилем стал хвалить ее, Твердя, как героиня горделива, Умна, сильна, а главное — красива. Так в оно время соблазнитель-змей Смутил Праматерь сладостью речей. Известно, что всегда гуляют вместе С искусством нравиться искусство лести. «Что это? — вскрикнула Иоанна д'Арк. — Святой Иоанн, Матвей, Лука и Марк! Ужели это мой осел? Вот чудо! Он говорит, и говорит не худо!» Осел ответил на ее слова: «Но в этом нет чудес и колдовства; Я тот осел, что, волей божества, Воскормлен у седого Валаама, — Он был жрецом языческого храма, А я еврей, и если бы не я, Израиль был бы проклят Валаамом, Что угрожало бы бедой и срамом. Заслуга не забылася моя, И я Еноху отдан был в подарок. Енох бессмертной жизнью обладал. Я стал как он; хозяин приказал, Чтоб злые ножницы жестоких Парок Моих судеб не пресекали нить, И припеваючи я мог бы жить, Когда бы целомудрие хранить Не приказал мне мой хозяин честный, — Вещь, неприятнейшая для осла. Помимо этого во всем была Дана свобода мне. В стране чудесной Я жил, и жизнь моя была легка. Сперва меня томило вожделенье, Но был я осторожней дурака, Героя первого грехопаденья. Умолкла плоть. Я слабостей не знал, Свой темперамент бурный обуздал. Мне в воздержанье помогло немало То, что ослиц там вовсе не бывало. И так я прожил в радостях простых Лет тысячу, приятно холостых. Когда румяный Вакх из рощ Эллады Принес свой тирс и резвые услады В долины Ганга, я носился вскачь И был героя этого трубач; До сей поры индусы вспомнить рады Победы наши, пораженье их. Из всех, кем славны Вакховы отряды, Силен и я{450} — известней остальных{451}. Впоследствии — о чем и не жалею — Я создал знаменитость Апулею{452}{453}{454}. И, наконец, в небесной вышине, Когда Георгий, вечный друг войне, Желая смять французскую лилею, На английском стал ездить скакуне, Когда Мартин, своим плащом известный{455}, Стал на коне красивом гарцевать, Тогда и Франции патрон чудесный Не захотел от прочих отставать. Он счел за лучшее меня избрать; Он подарил мне пару легких крылий, И в небеса вспарил я без усилий. Любим был псом святого Роха я{456}, Дружна со мной Антоньева свинья, Монашества эмблема. Я вращался В прекрасном обществе и, как святой, Нектаром и амброзией питался. Но ах, Иоанна! эта жизнь ничто В сравненье с вами. Ни на что на свете Я прелести не променяю эти. Все райские святые и скоты Не стоят вашей чудной красоты. Носить вас, ваши созерцать черты — Из всех моих обязанностей эта Особенно приятна и мила. Улыбкой вашею душа согрета, Ваш взор ее пронзает, как стрела. С тех пор, как я расстался с небесами, Моя судьба была прекрасна вами. Нет, не покинул райских я лучей: Они из ваших светят мне очей». При речи этой дерзкой и нежданной Гнев справедливый овладел Иоанной. Отдать невинность, полюбив осла, Невинность, что родной страны защита, Которую господня власть спасла От Дюнуа и от Гермафродита, При помощи которой сам Шандос Такое посрамление понес? Но как, однако же, разнообразны Достоинства осла! Как он умен, Как много жил, как много видел он! «Нет… Ни за что… Прочь адские соблазны!» Такие размышленья, точно шквал, Летят в ее душе, друг с другом споря. Так иногда в просторе бурном моря Сшибается со встречным валом вал: Несется бешеный порыв циклона К Бенгалу, к Яве, к берегам Цейлона, Другой же мчится к северу, туда, Где море сковано горами льда; Гонимый волнами, корабль усталый То, к небу вознесен, летит на скалы, То вдруг исчезнет в мрачной бездне вод И снова, как из ада, восстает. Проказник, людям и богам желанный, Которому противиться нельзя, Уже парил с улыбкой над Иоанной, Отравленной стрелою ей грозя. Иоанна д'Арк, терзаема сомненьем, Конечно, втайне польщена была Таинственным и сильным впечатленьем, Произведенным ею на осла. Иоанна протянула руку даже К нему, не размышляя. Но сейчас же Отдергивает, покраснев, как мак; Потом, подумав, начинает так: «О мой осел, ведь я стою на страже Прекрасной Франции: повсюду — враг; Вам строгость нрава моего известна. Оставьте! Ваша нежность неуместна! Я не хочу вас слушать! Это грех!» Осел ответил ей: «Равняет всех Любовь. Пусть — Франция, война, победа; Однако лебедя любила Леда[14], Однако дочь Миноса-старика[15] Всем паладинам предпочла быка, Орел унес, лаская, Ганимеда, И бог морей, во образе коня Филиру пышнокудрую пленя, Был вряд ли обольстительней меня». Он продолжает речь свою. И демон Примеры новые исподтишка Ему внушает; ведь известен всем он Как автор многих выдумок. Пока Лилась пропитанная сладким ядом Речь, славный Дюнуа, дремавший рядом, Прислушивается. И, поражен Таким отменным красноречьем, он Узнать желает, что за Селадон Пробрался в спальню, запертую худо. Он входит и (о волшебство, о чудо!) С ушами поразительной длины Неистового видит кавалера. Так некогда поражена Венера Была в объятьях божества войны, Когда, по приглашению Вулкана, Бессмертные на них глядеть сошлись. Но не была покорена Иоанна, Не отступился от нее Денис, Диавольское он разрушил дело: Собою Девственница овладела. Так задремавший на посту солдат, Услышав выстрелы или набат, Мгновенно просыпается и смело Бросается наперерез врагу, Кафтан застегивая на бегу. Копье Деборы, смоченное кровью, Испытанное на полях войны, Стояло прислоненным к изголовью. Она берет его. Мощь Сатаны Оружием божественным заране Посрамлена. Спасаясь, бес бежит. От яростного рева все дрожит И в Нанте, и в Блуа, и в Орлеане, И вскормленные в Пуату ослы Свой голос тоже подают из мглы. Нечистый убегает, злобы полон; Но на бегу план мести изобрел он. Он в Орлеан, быстрей, чем мышь в траве, Бежит к жилищу самого Луве, И там он входит в тело к президентше. У Сатаны был правильный расчет: Она любила бритта, и не меньше Был в госпожу Луве влюблен Тальбот. И бес за дело принялся. Короче, Внушил он даме с наступленьем ночи Впустить Тальбота и его друзей В ограду Орлеана. Хитрый змей Прекрасно знал, что, ворожа Тальботу, Себе на пользу делает работу.Конец песни двадцатой
«Орлеанская девственница»
Песнь двадцать первая
Содержание
Явленное целомудрие Иоанны. Хитрость Диавола. Свидание, назначенное президентшей Луве великому Тальботу. Услуги, оказанные братом Лурди. Примерное поведение скромной Агнесы. Раскаяние осла. Подвиги Девы. Торжество великого короля Карла VII.
Мои дорогой читатель, верно, знает, Что бог-дитя, который наш покой Совсем не по-ребячески смущает, Имеет два колчана за спиной. Когда стрелу из первого колчана Направит он, то сладостная рана Не ноет, не болит, но, что ни час, Становится опаснее для нас. В другом колчане стрелы — пламень жгучий, Который нас испепелить грозит: Все чувства наши крутит вихрь могучий, Забыто все; лицо огнем горит, Какой-то новой жизнью сердце бьется, Кровь новая по жилам буйно льется, Не слышишь ничего, блуждает взгляд. Кипящей несколько часов подряд Воды в котле нестройное волненье Есть только слабое изображенье Тех бурных чувств, что нас тогда томят. О, недостойнейших лгунов орава, Которых мучила Иоанны слава, О, бывшие всегда во власти зла И истину скрывавшие лукаво, По-вашему, краса всех дев могла Такой любовью полюбить осла? Вы честь ее берете под сомненье{457}{458}, Наносите ей дерзко оскорбленье И, умножая собственный свой срам, Не уважаете прекрасных дам. Не говорите, что Иоанна пала, То повторять одним глупцам пристало, Бессмыслица такая всем ясна. Вы путаете числа, времена, Бесстыдно лжете, не смутясь нимало. Почтительнее к памяти осла! Вам всем не по плечу его дела, Хоть уши вам судьба длинней дала. Ведь если Девственница без смущенья И даже с чувством удовлетворенья Внимала столь неслыханным речам, То это извинительно для дам: Тщеславия безгрешны наслажденья. И чтоб навек прославить наконец Иоанны д'Арк немеркнущий венец, Чтоб доказать, что, овладев собою, Она отбила натиск темных сил, Не поддалась ослу, — я вам открою: Другой любовник у Иоанны был. То Дюнуа; уже давно она Ему душой возвышенной верна. Пускай ослиной речью, столь блестящей, Она была немного польщена, Но случай этот, многих веселящий, Нельзя считать изменой настоящей. История расскажет нам, Что Дюнуа, безжалостный к врагам, Златой стрелой из первого колчана Был поражен Амуром в сердце. Рана Была глубокой, но владел собой И слабостей не ведал наш герой. Он предан был монарху и отчизне; Их честь была ему законом в жизни. Иоанна! Знал он, что тебя своей Он назовет с исходом бранных дней, И срока ждал, уверен, тверд и молод; Так верный пес, одолевая голод, До устали набегавшись окрест, Дичь держит в пасти, но ее не ест. Однако, видя, что осел небесный О страсти Деве говорит прелестной, Решил открыть свою любовь и он. Мудрец порой бывает помрачен. Конечно, было слишком безрассудно Отчизну бросить на алтарь любви. Есть грань страстям. Иоанне было трудно, Еще не потушив огня в крови, Сопротивляться своему герою. Любовь над нею власть брала, не скрою; И лишь в последний миг святой Денис С заоблачных селений грянул вниз И, свет вокруг себя распространяя, На золотом луче слетел из рая, Как в оный день, когда из горних стран Он в первый раз спустился в Орлеан. Ударил в грудь Иоанны луч небесный, Она очнулась, и, что было сил, Кричит: «Остановитесь, друг прелестный! Еще не время, час не наступил, Умерьте ваш неудержимый пыл! Вам одному я верность обещаю, Вам девства своего отдам я цвет, Но вы должны еще родному краю Помочь стереть позор последних лет, Изгнать врага, исполнить дело чести; И мы на лаврах ляжем с вами вместе». Сдержал свои желанья Дюнуа, Услышав столь разумные слова, И обещал им подчиниться свято. Она спешит его поцеловать Подряд раз двадцать или двадцать пять, Как добрая сестра целует брата. Овладевают вновь они собой, И в их сердцах опять царит покой. Денис их видит и, довольный ими, Спешит с предположеньями своими. Был у надменного Тальбота план Тайком проникнуть ночью в Орлеан; Хотел помочь он англичанам бравым, Скорее мужественным, чем лукавым. Ты торжествуешь, бог любви! О, срам! О злой, Амур, ведь ты предать собрался Оплот и славу Франции врагам! То, перед чем британец колебался, То, что Бедфорд и опытность его, То, что рука Тальбота самого Не сделали, ты совершить берешься. Ты губишь нас, дитя, а сам смеешься! И если этот маленький пострел Иоанну ранил с соблюденьем правил, То, острия других, ужасных стрел В грудь нашей президентши он направил. Их мощный и стремительный удар В душе, в крови ее зажег пожар. Вообразите страшную осаду, Кровавый приступ, ужас, равный аду, Усилья эти, этот страшный бой В глубоких рвах, на башнях, под стеной, Когда Тальбот с британскими полками Стоял пред взорванными воротами И, мнилось, на него бросала твердь Огонь, свинец, железо, сталь и смерть. Уже Тальбот, и дерзостный и рьяный, Успел войти в ограду Орлеана И возвышал свой голос громовой: «Сдавайтесь все! Соратники, за мной!» Покрытый кровью, в этот миг, поверьте, Он был похож на бога битв и смерти, Которому сопутствуют всегда Раздор, Судьба, Беллона и Беда. Как бы случайно в президентском доме Отверстья не забили одного, И госпожа Луве могла в истоме Глядеть на паладина своего, На яркий шлем, султаном осененный, Могла заметить взор его влюбленный И гордый вид, с которым бы не мог Соперничать и древний полубог. По жилам президентши пламя лилось, Она забыла стыд, в ней сердце билось. Так иногда, вся в сладостном чаду, Из темной ложи госпожа Оду{459} Глядела на бессмертного Барона{460}, Не отрывалась от его лица, Ждала его улыбки и поклона И страстью наслаждалась без конца. Черт, президентшей овладев всецело, К развязке вел без затруднений дело; Амур и черт, вы знаете, — одно. Архангел черный, злом неутолимый, Принять Сюзетты вид решил умно, Служанки верной, доброй и любимой. То девушка полезная была: Она причесывала, завивала, Любовные записки доставляла, Вела хозяйки нежные дела, А кстати и своих не забывала. Лукавый бес, приняв Сюзеттин вид, Красавице влюбленной говорит: «Известны вам мой ум и дарованья; Я исполненью вашего желанья От всей души хотела бы помочь. Мой брат двоюродный сегодня в ночь Как раз назначен часовым к воротам. Когда наш город погрузится в сон, Вы там могли бы встретиться с Тальботом. Записку дайте мне; мой брат смышлен, И передать ее сумеет он». Президентша, не предвидя риску, Поторопилась написать записку, Где страсть дышала в каждой запятой: Недаром черт у ней был за спиной. Тальбот великий, получив признанье, Решил пойти на позднее свиданье; Но в эту ночь поклялся он вкусить Не только негу, но и славу кстати; И он решился, соскочив с кровати, Другим скачком победу захватить. Монах Лурди, вы помните, быть может, Денисом к англичанам послан был В надежде, что он там ему поможет. Он был свободен, пел псалмы, служил И даже исповедовал порою. Тальбот не мог предполагать никак, Что явится помехою герою Какой-то жалкий выродок, дурак, Которого на днях он самолично Распорядился выпороть публично. Но иначе судил всесильный рок. В своих решеньях он, как всякий знает, Возносит часто тех, кто недалек, И в дураках разумных оставляет. Небесный луч зажегся вдруг в груди Тяжелодумного отца Лурди, И мозг монаха, просветленный раем, Для мыслей стал отчасти проницаем; Он понял сам, что в нем рассудок есть. Ах, что такое наша мысль, бог весть! Известна ли нам тайная пружина, Безумия и мудрости причина? Известно ли нам, атомом каким Философ от тупицы отличим, Каких непостижимых клеток сила Питала дух Гомера и Эсхила Или какой отравой был вспоен Какой-нибудь Терсит, Зоил, Фрерон? Взлелеет иногда царица Флора Близ лилии прекрасной мухомора; Так сотворил их бог, так хочет он. А воля бога скрыта от науки: Ученый лепет — лишь пустые звуки. Лурди тотчас же любопытен стал Все замечал, повсюду нос совал. Приметил он, что к городу рядами Тянулись повара за поварами, Что были к вечеру отнесены Туда куски отличной ветчины, И редкостная дичь, и трюфлей груды, И тонкие граненые сосуды Во льду, в которых было налито Вино священных погребов Сито{461}{462}. Притом все шли поспешно и в молчанье. Тогда Лурди вдруг осенило знанье, Но не латынь пустая, а как раз То, что поступкам нужным учит нас. Он овладел искусством речи сладким, Стал нежным, вкрадчивым, на слухи падким, Подглядывал, умело притаясь, Молчал, болтал, не ощущая страха, Собой являя образец монаха. Их братия, лукава и хитра, Влезает ловко с заднего двора; Проныры и лгуны, пример смутьянам, Войдя сперва в доверие к мещанам, Ползут затем к носителям порфир И, наконец, заполоняют мир; Одни ханжи, другие понаглее, Лисицы, волки, обезьяны, змеи; Недаром же британцы в старину От них очистили свою страну{463}. Лурди тропинкой, вдоль лесной полянки, До королевской добежал стоянки И отыскал, волнением объят, Где Бонифаций жил, его собрат. Тот важно в эти миги роковые Обдумывал вопросы мировые; Он размышлял о тягостных цепях, Которые связуют человека, О судьбах, нам назначенных от века, Об этом мире, об иных мирах. Нет областей, закрытых для познанья, Нетрудно разгадать событий нить. Он понял все: он знает, что свиданье Способно государство погубить. Припоминает, что видал недавно Он на заду британского пажа Трех лилий золотых рисунок славный, И в памяти его еще свежа Картина гибели Гермафродита. Он взвесил все. Всецело ж убежден Стал духувник, что Карлу бог — защита, Когда в беседе обнаружил он, Что брат Лурди стал тонок и умен. Лурди просил, чтобы его представил Монаршей фаворитке духовник; Он поклонился ей согласно правил И рассказал все то, во что проник: Как, неспособный побороть желанье, Тальбот назначил вечером свиданье И близ ворот, где взорвана стена, С ним президентша встретиться должна. «Могла бы хитростью, когда не силой, — Он молвил ей, — быть кончена война. Ведь так Самсон был побежден Далилой. Агнеса, предложите королю За дело взяться». — «Мой отец, молю, — Она в ответ, — скажите, неужели Навек мне верен Карл на самом деле?» «Не знаю, — молвил он. — Любовь ему Я ставлю в грех по сану своему, Но сердцем с ним. Не мука, а отрада Стать из-за ваших глаз добычей ада», Агнеса улыбнулась: «Ваш ответ Любезен и находчив, спору нет, — И еле слышно, избегая взгляда, Добавила: — Еще один вопрос: Встречался вам у англичан Монроз?» Ответ Лурди был тонок и уместен: «Его не раз я видел, он прелестен». Агнеса вся зарделась и рукой Лицо закрыла. Овладев собой И улыбнувшись сдержанно и мило, Она монаха к Карлу проводила. Лурди достойно там себя держал, И добрый Карл, не дав ему ответа. Всех членов королевского совета И всех военачальников собрал. На это сборище героев славных Пришла Иоанна, равная средь равных. Явилась, незаметна и скромна, Агнеса с неизменным вышиваньем, И, что б сказать ни вздумала она, Карл следовал ее предначертаньям. Решили, не жалея ничего, Схватить Тальбота с дамою его; Так в дни былые Марса с Афродитой{464} В плен захватили Солнце и Вулкан. Был тонко разработан этот план, Лишь небольшому кругу лиц открытый. Сначала вышел Дюнуа. Тяжел Был дальний путь, которым он пошел, И славится в истории доныне. За ним войска тянулись по равнине, По направленью к городской стене. С своей возлюбленной наедине Герой Тальбот вкушал уж наслажденье, Себе дав мысленно одно мгновенье На переход от нежных ласк к войне. Шести полкам велел идти он следом. Исход сраженья был заране ведом, Но после поучения Лурди Его оцепенелые солдаты Какой-то были тяжестью объяты И спали друг у друга на груди. О, чудо! О, Денис! О, случай странный! Уже могучий Дюнуа с Иоанной И ослепительная свита их Вблизи от укреплений городских Вдоль цепи осаждающих скакали. Арабский конь, из самых дорогих, Которому соперник был едва ли, Шел под Иоанною. В руке ее Деборы было древнее копье, Меч на боку сверкал, тот самый, верно, Который обезглавил Олоферна. И вот, благоговения полна, Молить Дениса начала она: «О ты, который в Домреми когда-то Мне поручил исполнить труд солдата И чудные доспехи вверил мне. Прости меня, что я наедине С твоим ослом, лукавым и неверным, Его речам внимать дерзнула скверным. Тебе напомнить, покровитель мой, Позволь, что некогда моей рукой Ты предал казни англичан бесчинных, Бесчестивших монашенок невинных. Предстал еще славнее случай нам. Подай же ныне мощь моим рукам. Я без тебя бессильна и убога. Отчизну охрани во имя бога, На короля пролей лучи любви И президента честь восстанови. Молю, пусть нам удастся это дело. Я полагаюсь на тебя всецело!» Денис к ее молитве снизошел, А в лагере ей внял ее осел: Ее почуял он; что было силы Летит он второпях на голос милый И, со смиреньем на колени став, Ей признается в том, что был не прав. «Владел мной дьявол, знаете вы сами. Раскаиваюсь я». И со слезами Он умоляет оседлать его И слушать не желает ничего. Иоанне ясно, что благая сила Крылатого осла ей возвратила. Его слегка побив, ему она Внушила на другие времена Быть осмотрительнее и скромнее. Осел клянется в том и, гордо рея, Несет ее сквозь тучи и туман. "Я вдруг он падает на англичан, Как молния. На нем летя, Иоанна, Неукротимым гневом обуянна, Льет кровь рекой, пронзает сталь щитов И отрубает тысячи голов. Над ней ночное тусклое светило Сияло безразлично и уныло. Британцы, смущены, изумлены, Не сводят глаз с туманной вышины, Но длань разящая укрыта тучей. Войска бегут растерянною кучей И попадают в руки Дюнуа. У Карла закружилась голова От счастия. Несметными рядами Его враги на смерть несутся сами И падают на землю без числа, Как беззащитные перепела. Ослиный голос ужас всем внушает; Иоанна руку сверху простирает, Преследует, пронзает, рубит, мстит; Бастард разит; а добрый Карл стреляет На выбор, в тех, кто в трепете бежит. Тальбот, любовной негой опьяненный И без ума от госпожи Луве, С ней лежа головою к голове, Услышал боя грохот заглушённый. Он, торжествуя, молвил про себя: «Ура! Владею Орлеаном я! Амур, — он шепчет в радостной гордыне, — Перед тобою падают твердыни!» Надежды преисполненный Тальбот Целует госпожу Луве, встает, Торопится одеться и, надменный, Выходит, чтоб взглянуть на город пленный. Тальбот всегда, на случай спешных дел, Оруженосца при себе имел; Тот верный, храбрый и любезный воин, Хранивший плащ, копье и самострел, Был господина своего достоин. «Соратники! Победа! Город пал!» — Вскричал Тальбот. Но сразу замолчал: К нему не бритты верные, а Дева Несется на осле, дрожа от гнева; Французы ломятся чрез тайный ход; Был потрясен и задрожал Тальбот. Французы восклицают: «Карлу слава! Вперед! Руби налево и направо! Гасконцы, пикардийцы, где вы там? Бей, режь, стреляй! Пощады нет врагам!» Тальбот, как только поборол смущенье И первое осилил впечатленье, Сопротивляться до конца решил: Так, в луже крови, из последних сил, Эней отстаивал родную Трою. Тальбот был равен этому герою — Тальбот своей страны не посрамил, Готовый драться хоть со всей вселенной. С ним был оруженосец неизменный. Они французов отразить хотят, Но те идут за рядом новый ряд, И им Тальбот победу уступает. Сдается он, но чести не теряет. Иоанна и бастард героя чтят И, рыцарю сказав по комплименту, Отводят президентшу к президенту. Тот простодушно счастлив тем, что с ней: Не ведать ничего — удел мужей. Луве не знал до окончанья жизни, Чем госпожа Луве была отчизне. Рукоплескал вверху Денис святой; Святой Георгий был объят тоской; Осел ревел пронзительно и гордо, Вселяя трепет в воинов Бедфорда; Героем Карл Седьмой себя считал И в городе Агнесе ужин дал, И в ту же ночь стыдливая Иоанна, Осла спровадив в райские хлева, В положенном обете постоянна, Сдержала слово перед Дюнуа. А брат Лурди направо и налево Еще кричал: «Она всем девам дева!»Конец песни двадцать первой и последней
Магомет Перевод Инны Шафаренко
Трагедия в пяти действиях
{465}
Письмо Папе Бенедикту XIV
BEATISSIMO PADRE,
La Santità Vostra perdonerà I’ardire che prende uno de’più infimi fedeli, ma uno de’maggiori ammiratori della virtù, di sottomettere al capo della vera religione questa opera contro il fondatore d’una falsa e barbara setta.
A chi potrei più convenevolmente dedicare la satira della crudeltà e degli errori d’un falso profeta, che al vicario ed imitatore d’un Dio di verità e di mansuetudine?
Vostra Santità mi conceda dunque di poter mettere ai soui piedi il libretto e I’autore, e di domandare umilmente la sua protezione per I’uno, e le sue benedizioni per I’altro. In tanto profondissimamente m’inchino, e le bacio sacri piedi.
Paridgi, 17 agosto 1745[16]
Действующие лица
Магомет.
Зопир — шейх{466} или шериф Мекки.
Омар{467} — военачальник Магомета.
Сеид, Пальмира — рабы Магомета.
Фанор — сенатор в Мекке.
Воины Мекки.
Воины мусульман.
Действие происходит в Мекке.
Действие первое
Явление первое
Зопир, Фанор.
Зопир
Как, голову склонить пред чудотворцем ложным, Мне пред отступником унизиться ничтожным И чествовать того, кого изгнал я сам? Нет! Клятву приношу всевидящим богам, Что я не поступлюсь достоинством и честью И совесть низменной не запятнаю лестью!Фанор
С тех пор как в Мекке вы возглавили сенат, Святое рвение в вас подданные чтят, Но нынче, право же, опасно рвенье это — Оно лишь распалит свирепость Магомета. Вы раньше бунт могли в зародыше пресечь, Над нечестивцами подняв закона меч, А искры ереси, потушенные вами, Не разжигали войн губительное пламя; Лукавый лжепророк был не опасен нам, Пока Медину он не обратил в Ислам. Теперь же он — кумир; он царствует и правит, Медина не одна его деянья славит, — С ней заодно — союз из тридцати племен, Кровавых подвигов сияньем ослеплен. Всего же горше то, что даже в этих стенах — Увы! — растет число его духовных пленных; Ученья ложного их опьянил дурман, И многих Магомет сумел завлечь в капкан Своим могуществом и чудотворством мнимым: Посланцем бога он слывет непобедимым. Из граждан лучшие вам и сейчас верны, Но все ли к истине умы устремлены? Страх, суеверия, блеск новизны дешевый Смущают слабый дух и манят к вере новой, — И Мекки жители, хоть вы им и отец, Желают, чтоб войне положен был конец.Зопир
Что? Мир с изменником? Как малодушны люди! Но униженье им за трусость карой будет. Кто пал перед врагом, тому не встать с колен, Тот сам себя обрек на вековечный плен! А я, пока дышу и в жилах кровь струится, С убийцей яростным намерен насмерть биться. Он дышит злобою, и жажду мести я: Мной сын его убит, а им моя семья Была истреблена. Мы с ним — враги навеки. Пускай пройдут года, прольются крови реки — Ничем не погасить взаимную вражду… На мировую с ним, Фанор, я не пойду.Фанор
Да, погасить нельзя, но спрятать можно пламя — Хоть ради подданных. Решитесь ли вы сами, Желая за семью отмстить ему сполна, На то, чтоб им была разгромлена страна? Коль вы разлучены навек с детьми, с женою, — Так дорожите же народом и страною!Зопир
К потерям часто нас ведет чрезмерный страх.Фанор
И тот, кто слишком тверд, нередко терпит крах.Зопир
Ну, что же, смерть — так смерть!Фанор
Какое заблужденье, Ведь мы у берегов, избегнем же крушенья! По счастью, нам залог судьбою в руки дан, Которым может быть смягчен любой тиран. Пальмира юная, которую спасли вы, — Как ангел благостный, несущий ветвь оливы, Своим явлением уймет пророка гнев И мир нам принесет, вражду преодолев. Поскольку с малых лет она росла в Медине, Считает Магомет ее своей рабыней И требует вернуть.Зопир
Она — бесценный клад, А дерзкий бунтовщик не заслужил наград! Орудуя мечом, обманом и подлогом, Уничтожая все, идет он по дорогам. Ты хочешь, чтобы я остановил разбой, Смягчив грабителя столь страшною ценой? Я стар, Фанор, и мне, почти в преддверье склепа, Любить иль ревновать постыдно и нелепо. Печалью и тоской душа моя полна, И новая любовь мне больше не нужна. Но можно ль не подпасть, Фанор, под обаянье Такого милого, прекрасного созданья? Утративший, увы! своих родных детей, Я нежность, как отец, испытываю к ней. Ах, если б родиной она признала Мекку! Я принял бы над ней отцовскую опеку, Она мне скрасила б остаток грустных лет, А я бы ей внушил, сколь мерзок Магомет!.. Она для некоей беседы сокровенной Просила к ней прийти под этот свод священный. Смотри, вот и она, — стоит у алтаря. Прелестен чистый лик, как ясная заря.Явление второе
Зопир, Пальмира.
Зопир
Я рад, что прихотью превратностей военных Занесены сюда с толпою прочих пленных, Попали вы ко мне. Вы спасены судьбой И больше никогда не будете рабой! Ваш возраст, красота и ваши злоключенья Участья требуют, забот и попеченья. Так говорите же. Я вас люблю, как дочь, И счастлив буду вам по мере сил помочь.Пальмира
Два долгих месяца здесь пленницей жила я, При горестях моих судьбу благословляя За то, что видела к себе лишь доброту. Великодушье в вас, мой господин, я чту И льщусь надеждою на жалость и участье. Сейчас у вас в руках и жизнь моя и счастье. Просил вас Магомет меня освободить; Отважилась и я о том же вас молить. И если вы домой отпустите Пальмиру, Я буду весь мой век признательна Зопиру.Зопир
Так вы тоскуете по прежним кандалам, По жизни кочевой? И не хватает вам Бродячей родины да ужасов пустыни?Пальмира
Нет, слишком многое мне дорого в Медине! Меня воспитывал великий Магомет, И жены мудрые с моих нежнейших лет Меня лелеяли в тиши, в священном храме… Мы родину себе не выбираем сами! Узнала я беду с того лихого дня, Когда из мест родных злой рок унес меня. С тех пор и день и ночь душа туда стремится. О, сжальтесь надо мной! Мне тяжко здесь томиться!Зопир
А, вы надеетесь, что недалек тот час, Когда ваш властелин возьмет в супруги вас?Пальмира
Нет, не мечтаю я об участи высокой. Ведь для меня он — бог, суровый и далекий. Он славой осенен, он всем народом чтим… Мне, девушке простой, не место рядом с ним.Зопир
Нет, кто б вы ни были, вы рождены свободной! И вам ли быть рабой! Ваш облик благородный Мне говорит о том, что знатны родом вы И не должны склонять пред дерзким головы.Пальмира
Поверьте, что чужда нам гордость родовая! Ни предков, ни родных с младенчества не зная, С неволей свыкшись, чтим одно лишь божество, И безразлично нам все то, что вне его.Зопир
Он память вам затмил. Бедняжка! Вы доныне Смирялись с участью невольницы, рабыни! А я томлюсь один средь пышных зал дворца… Как был бы счастлив я вам заменить отца! Останьтесь же со мной! С любовью и охотой Я окружил бы вас отеческой заботой! Но вам претит, дитя, что я ни предложу!Пальмира
Ах, господин, себе я не принадлежу! Да, вы добры ко мне, и помню я об этом, Но удочерена была я Магометом.Зопир
Он ваш отец? — О, нет! Он — лжепророк и тать!Пальмира
О, как решились вы так дерзко называть Того, в котором чтят все племена Востока Посланника небес, великого пророка!Зопир
Они поражены ужасной слепотой! Не ведают того, что идол их пустой — Удачливый злодей, сбежавший от закона И нагло рвущийся к завоеванью трона!Пальмира
Что вы произнесли! Ни разу от людей Я столь кощунственных не слышала речей! За мягкость, доброту, за все благодеянья Я привязалась к вам — и не стыжусь признанья, — Но ярость, что у вас клокочет на устах, Мне вместо прежних чувств внушает только страх!Зопир
О, заблуждениям неведомы границы! В каких сердцам они могли укорениться! Мне так вас жаль, дитя, я так о вас скорблю, Что слезы горькие помимо воли лью.Пальмира
Так мне отказано?Зопир
Да. Потакать не стану Я вкравшемуся к вам в доверие тирану. И тем, что вас отнять стремится супостат, Он ненавистней стал еще мне во сто крат!Явление третье
Зопир, Пальмира, Фанор.
Зопир
Что скажешь ты, Фанор?Фанор
Со стороны Моада — Так донесли гонцы — вступил в ворота града Омар со свитою.Зопир
Омар? Не может быть! Тот, что ушел в поход, чтоб Мекку защитить, И, оттеснив войска изменника и вора, Вдруг перешел к нему, не убоясь позора? Он предал родину!Фанор
Быть может, дорога Ему она еще… От имени врага Он предлагает мир, клянясь, что не лукавит И в доказательство заложника представит. С ним молодой Сеид.Пальмира
Благословен Аллах! Сеид!Фанор
Омар пришел. Вот он уже в дверях!
Зопир (Пальмире)
Покиньте нас.Пальмира уходит.
Омар!.. Что перебежчик скажет? Меня беседа с ним к уступкам не обяжет. Тысячелетьями незыблемо хранил Законы древние народ твой, Измаил{468}, И под защитой нас за то держали боги. О, Солнце! Помоги мне не сойти с дороги! Дай силы завершить, преодолев беду, Борьбу, которую с обманом я веду!Явление четвертое
Зопир, Омар, Фанор, свита.
Зопир
Итак, спустя шесть лет, предстал ты пред народом Который был тобой отринут, предан, продан. О подвигах твоих здесь камни говорят: Ты был защитником священных этих врат, Народа древнего и города святого, А стал приспешником разбойника лихого! Слуга того, по ком давно скучает кол, — Зачем пожаловал?Омар
С прощеньем я пришел. Зопир, из жалости к твоим преклонным летам И горестям былым — я послан Магометом, До мира с Меккой он изволил снизойти, Хоть мог бы вас легко с лица земли смести.Зопир
Мятежник дерзостный! Не о прощенье молит, А мне через посла приказывать изволит! Терпению богов наступит ли предел? Зопиру Магомет мир предложить посмел! А вы, кто перед ним, за обещанье рая, Склонились, от стыда при этом не сгорая, — Забыли вы о тех недавних временах, Когда он жалок был, оборван, нищ и наг? Тогда и не мечтал он о подобной славе!Омар
Ты думаешь, Зопир, что презирать ты вправе Достойнейших людей с той жалкой высоты, Которой знатности одной обязан ты? Ужель не знаешь ты, старик высокомерный, Что муравей в траве, ничтожный, эфемерный, И царственный орел, глядящий с вышины, — Своею бренностью пред господом равны? Так средь людей: не кровь, не прадедов величье, А доблесть, воля, ум — вот избранных отличье; Тем и велик пророк. Он богом умудрен, Не предкам, а себе обязан славой он, И будет на земле властителем единым, — Вот почему его избрал я господином. Наступит день, когда все племена к нему Стекутся, следуя примеру моему.Зопир
Не тщись при помощи риторики лукавой Украсить фанатизм фальшивою оправой. Что темным кочевым по сердцу племенам, То отвратительно и непригодно нам. Очнись и погляди неослепленным оком; Ты веришь в то, что бог избрал его пророком, — А он лишь человек, которого ты сам Воображением возносишь к небесам. Но заблуждение ль то иль просто лицемерье, — Внять гласу разума тебя прошу теперь я И вспомнить, кем он был тому десяток лет, Твой столь прославленный владыка — Магомет! Простой погонщик, плут, бродяга, муж неверный, Ничтожнейший болтун, обманщик беспримерный, Он нескольких невежд сбил с толку «вещим» сном; К изгнанию за бунт приговорен судом, С Фатимою{469} своей ушел он жить в пещеры, Но только обнаглел от слишком мягкой меры И, краснобайствуя, стал совращать народ. К нему со всех сторон стекался всякий сброд… Его ученики, что вместе с ним скитались, Распространять дурман его речей пытались, Толкуя истины святые вкривь и вкось, И вот им соблазнить Медину удалось. Ты был тогда средь нас и жаждал с ним сразиться, И ты ушел в поход с решеньем возвратиться, Лишь разгромив его, ценой любых потерь. Так как же можешь ты служить ему теперь?Омар
Да, разгромить его стремился я сначала, Пока неведенье мой разум помрачало; Но вскоре я прозрел и понял, что рожден Для славных подвигов и для господства он; Что гения огонь, который в нем пылает, Над смертными его безмерно поднимает, Что он в деяниях и в замыслах высок, Что вправе он казнить и миловать, как бог. И я себя связал пожизненным обетом Как друг и как слуга быть рядом с Магометом. Как видишь, был и я когда-то слеп, как ты. Так исцелись, Зопир, от жалкой слепоты. Довольно предо мной своим хвалиться рвеньем В преследованье тех, кто ждет нас с нетерпеньем, И бога нашего бранить и проклинать! Что вы побеждены — давно пора понять. Мы бьем своих врагов, но помним и добро мы. Смирись, облобызай длань мечущего громы! Он в прошлом бунтовщик, но нынче он — герой. Смотри, — теперь за ним я на земле второй. Мы, Магомет и я, тебя достойно встретим, — В таком содружестве почетно быть и третьим. Чернь будет трепетать, я в этом убежден; Безропотно она падет перед вождем. Служить стыдишься ты — так царствуй вместе с нами, Над приведенными к покорству племенами.Зопир
Не мне душить народ, держа его в цепях. И если я кому внушать хотел бы страх, — То не ему, а вам. Я здесь — глава сената. Ужели чествовать я стану супостата? Не буду отрицать, что повелитель твой Талантом одарен и умной головой; Он дальновиден, храбр, хитрее многих втрое. Будь честен он — я сам признал бы в нем героя. Но он злопамятен, коварен и жесток, Тиранов мстительней еще не знал Восток! Не верю я ему: за кротостью притворной Скрыт мести замысел, и мести самой черной. Ты знаешь, на войне утраты велики, — И Магомета сын пал от моей руки, А сам он изгнан был моим, Омар, веленьем; Мой гнев неумолим, а он пылает мщеньем… Нет, может в Мекку он с победою войти, Лишь истребив меня. Нам с ним — не по пути!Омар
Но на тебя пророк не гневается боле. Пусть будет он тебе примером доброй воли: Он хочет разделить с тобою пополам Все, что военные победы дали нам. За мир и пленницу лишь цену назови ты, — Уплатит он сполна — и будете вы квиты.Зопир
Легко же ты, Омар, решил меня купить! Ты думал, что Зопир способен отступить, Продав страну и честь за грязные трофеи? Нет, не бывать тому! Я сам умру скорее! И деву не отдам в разбойный ваш вертеп, Где властвует злодей, развратен и свиреп.Омар
Ты, кажется, себя вообразил судьею! Как с обвиняемым, ты говоришь со мною. А я от имени царя к тебе пришел Как удостоенный доверия посол.Зопир
Кому же троном сей обязан царь?Омар
Победам! Их длинный перечень тебе, должно быть, ведом. Но, славой воинской не удовлетворен, Нести народам мир отныне хочет он. Сейчас его войска пересекают реку И завтра обложить осадой могут Мекку. Дабы на улицах не проливалась кровь, К благоразумию я призываю вновь. С тобою говорить твой славный соплеменник Желает.Зопир
Кто такой?Омар
Сам Магомет.Зопир
Изменник! Ах, если б я один тут все дела вершил, Я бы с предателем иначе говорил!Омар
Мне жаль тебя. С тобой, гордынею объятым, Напрасно речь вести. Пойду снесусь с сенатом. Быть может, склонится он к доводам моим,Зопир
Посмотрим, кто из нас поддержан будет им. Я буду защищать права, закон, обычай, А ты — бахвалиться награбленной добычей, Грозить, что их казнит твой беспощадный бог, И убеждать их в том, что злостный плут — пророк!(Фанору.)
Пойдем, поможешь ты мне расквитаться с вором. Разоблачим его и заклеймим позором, Покажем всем, что он опаснейший подлец. Изменит нам сенат — тогда всему конец; Но если отличит он правду от обмана — Мы родину и мир избавим от тирана!Действие второе
Явление первое
Сеид, Пальмира.
Пальмира
Сеид, ты здесь? Ужель пришли к концу невзгоды И засиял нам луч надежды и свободы?Сеид
Пальмира, жизнь моя и свет моих очей! О, сколько я в слезах, без сна провел ночей С тех пор, когда в бою, у лагеря пророка, Тебя, безгласную и бледную, жестоко Враг вырвал из моих окровавленных рук! Нет пытки тяжелей таких душевных мук! Тогда пред трупами убитых в жаркой схватке Я бога умолял окончить век мой краткий И в исступлении вменял себе в вину Опасности, тебе грозившие в плену. А сколько дней потом, томясь от нетерпенья, Я ждал, когда придет пьянящее мгновенье И, нечестивый град предав огню, смогу Я отплатить с лихвой язычнику-врагу, Сметая, руша все, громя и убивая, За то, что ты живешь, в неволе изнывая! И наконец тот час — прекрасный час! — настал. Пророк идти сюда Омару приказал, Но взяв с собой залог в обеспеченье мира. Я предложил себя, — и вот я здесь, Пальмира. Ничто не страшно мне, покуда мы вдвоем. Освобожу тебя, иль вместе мы умрем.Пальмира
Сеид, в тот самый миг, когда благой судьбою Ты был мне возвращен, — прощалась я с тобою И с жизнью заодно. Свет для меня погас. Ты от отчаянья меня нежданно спас. Всего лишь час назад, упавши на колени, Просила я моих не отвергать молений, А пожалеть меня и отпустить домой, Но твердо отказал мне похититель мой. Хоть он и говорил со мною не сурово, Как острый нож, мне в грудь его вонзилось слово. В одно мгновение растаяли мечты… Все было кончено. И вдруг — явился ты!Сеид
Но кто же тот, кому столь недоступна жалость?Пальмира
Зопир. Он тронут был и огорчен, казалось, Моим отчаяньем, но все ж ответил: «Нет! Тебя не будет там, где правит Магомет!»Сеид
Он ошибается. Пророк непобедимый, Омар и я (прошу прощенья у любимой, Что я себя назвал нескромно вслед за ним) — Из плена тяжкого тебя освободим! А всемогущий бог, что вещими устами Пророка мудрого повелевает нами И верных слуг своих путем побед ведет, Чьей волей покорен в Медине был народ, — Он Мекку подчинит своим законам тоже. Здесь, в городе, Омар. И, право, непохоже, Чтоб жителям он страх и ненависть внушал. Я видел, радостно народ его встречал: Победно пронесет он Магомета знамя.Пальмира
О, Магомет так добр! Когда он будет с нами, Он наши две судьбы соединит в одну. Но он так далеко, а мы с тобой — в плену!Явление второе
Омар, Сеид, Пальмира.
Омар
Надейтесь! Близок час свободы долгожданной. Пророк грядет сюда, величьем осиянный!Сеид
Он здесь!Пальмира
О, наш отец!Омар
Всего лишь час назад, Дыханье затаив, ему внимал сенат, Хотя моими с ним он говорил устами. Я им сказал: «Пророк рожден был здесь, меж вами; Он победил врагов лишь мудростью своей; Его могущество — поддержка для царей. Давно гордится им цветущая Медина. Пора вам своего признать согражданина! К вам не со злобою, не с местью он идет: Нет, хочет приобщить он к истине народ. Он будет вам отцом, защитой и опорой». Тут зашумел сенат. Гордец Зопир, который Мнил о себе, что он и впрямь непобедим, Доверье утерял к сенаторам своим, Увидев, что они замедлили с ответом, И стал сзывать народ на битву с Магометом. Я тоже бросился молить, увещевать И вскоре убедил растерянную рать Ворота отворить тому, кто был навеки Неправедным судом из древней изгнан Мекки. И вот торжественно вступил в священный град Учитель, изгнанный пятнадцать лет назад, И вслед за ним его блистательная свита… Кто кинулся к нему с восторгом и открыто, Кто, пятясь, обойти старался стороной: Он для одних — тиран, а для других — герой… Но яростный Зопир противится напрасно: Он проиграл игру. Народу Мекки ясно, Что мир несет с собой великий Магомет. Он объявил войне конец на много лет. Сейчас появится он собственной персоной.Явление третье
Магомет, Омар, Али, Герсид, Сеид, Пальмира, свита.
Магомет
Над Меккою теперь я властелин законный. Мои помощники — Омар, Герсид, Али, — Пора вам объявить народу сей земли, Что в Мекке истина отныне воцарится. Пусть бога любит он, а главное — боится, Трепещет перед ним. Откуда вы, Сеид?Сеид
Сеид надеялся, что он вам угодит… Готовый умереть или за вас сражаться, Я упредил приказ…Магомет
Могли б его дождаться! Кто слишком ревностен — покорен не вполне. Я богу подчинен — вы ж подчиняйтесь мне!Пальмира
Мой господин, молю, не гневайтесь, не надо! Свиданье наше здесь — нежданная отрада, Ведь мы — Сеид и я — давно разлучены! Здесь были дни мои мучительно грустны — Без вас и без него в неволе я томилась, И наконец заря моим глазам открылась. Ужели омрачен мне будет светлый миг?Магомет
О, ваши чувства я уже и сам постиг. Отныне пусть печаль вам душу не смущает. Хоть множество забот мой ум отягощает И богом призван я над целым миром бдеть, Все ж печься и о вас я собираюсь впредь. Ступайте к воинам, Сеид. А вы, Пальмира, Надейтесь на меня и бойтесь лишь Зопира.Явление четвертое
Магомет, Омар.
Магомет (Омару)
Мой верный друг Омар, останься, не спеши. Хочу открыть тебе тайник моей души. Знай, нам нельзя давать осаде Мекки длиться: На имени моем то может отразиться. Мое явленье здесь ошеломило всех, Но надо закрепить достигнутый успех; Ведь суеверия от века миром правят И тех, кто поумней, над простаками ставят. Тут верят, что придет, велик, непобедим, Всех одолев врагов, посланец бога к ним, И даст народам мир, и пламя войн погаснет… Я выгоду извлечь хочу из этой басни. Пусть постараются Али, Герсид, Морад И тех, в ком есть еще сомненья, — убедят. Омар, Пальмира здесь увиделась с Сеидом. Как ты находишь их?Омар
Из всех, кто был Герсидом Воспитан у тебя, среди твоих рабов, Не знаю никого, кто был бы так готов С почтеньем искренним, ведомый сердцем верным, Тебе слугою быть покорным и примерным. Они послушнее всех наших мусульман.Магомет
Они — мои враги. Покорность их — обман! Они — влюбленные!Омар
Ты сердишься на это?Магомет
Боюсь, что не поймешь ты моего ответа… Узнай же все!Омар
Но что?Магомет
Средь множества страстей Одна во мне горит всех жарче и сильней. Жизнь проводя в борьбе, волненьях и тревоге, Лишенья видел я и дальние дороги; Знакомый с роскошью, познавший нищету, Всех почестей земных я оценил тщету И лишь в одной любви увидел утешенье. В ней истина! Предмет молитв и поклоненья, Она — всесильный бог. А нынче эта страсть Пылает так, что я боюсь в безумье впасть. Вот почему меня ты видишь разъяренным. Пальмиру всем моим я предпочел бы женам. И вдруг — представь мой гнев! — я от нее самой Признанье слышу в том, что раб — соперник мой!Омар
И ты не мстишь?Магомет
Нет, месть была бы слишком ранней. Но мстить им у меня есть много оснований. Не знаешь ты еще тягчайшей их вины: Они моим врагом смертельным рождены.Омар
Зопир — отец их?Магомет
Да. Но я же, им мирволя, Герсиду повелел воспитывать их в холе. И на груди пригрел двух ядовитых змей. Что ж, будет мщение тем яростней и злей. Я сам в них пыл разжег. Пора разъединить их! Сейчас в один клубок сплелись всех судеб нити. Я узел разрублю… Но, вижу я, сюда Идет Зопир, свиреп и злобен, как всегда. Пусть выставит Герсид здесь, у дверей дворцовых, Шесть стражников, приказ мой выполнить готовых. Ступай и обо всем доложишь мне, Омар, Чтоб знал я, время ли ему нанесть удар.«Орлеанская девственница»
Явление пятое
Зопир, Магомет.
Зопир
О, горе! Надо мной висит судьбы проклятье! Убийцу вынужден как гостя принимать я!Магомет
Деяньями людей Аллах руководит. Мы встретились, Зопир. Отбрось же страх и стыд!Зопир
Мне стыдно за тебя. Но — речи бесполезны. Ты родину свою довел до края бездны, И преступлений сонм влачится за тобой. Нарушив мирный труд кровавою войной, Посеял в семьях ты вражды и розни семя; Воюет с братом брат, в раздоре все со всеми. О мире для того ты сладостно поешь, Чтоб, нас перехитрив, всадить нам в спину нож! Внедрившись подкупом, и лестью, и обманом, Несчастья ты принес всем покоренным странам, И, в град святой вступив, дерзаешь ты, злодей, Навязывать нам ложь религии своей!Магомет
Когда бы говорил сейчас я не с Зопиром, То именем того, кто дал мне власть над миром, Кто в руку мне вложил несущий кару меч, Я речи дерзкие сумел бы вмиг пресечь; Мой голос бы тогда гремел подобно грому И леденящий страх внушил бы я любому. Но ты — Зопир. А я достаточно велик, Чтоб говорить с тобой, как с равным, напрямик. Мы здесь одни, никто подслушать нас не может. Да, я честолюбив. Ты — полагаю — тоже. Но до меня никто от века не посмел Стать начинателем столь дерзновенных дел! История полна соперничества тронов. Искусством мастеров иль мудростью законов, Но чаще — войнами тот иль иной народ В потомстве славен был и обретал почет. Аравия была затеряна в пустыне, Но мир завоевать пришел черед ей ныне. Круша империи, их обращая в слуг, Пойдем мы на восток, на север и на юг. Египет, Индия подкошены под корень; Константинополь слаб и распадется вскоре; Могучий прежде Рим, что век от века рос, Сегодня распростерт, как умерший колосс, Безжизненны его отрубленные члены. В обломках старый мир. Пора воздвигнуть стены Империи, еще не виданной нигде. Поработим же тех, кто слаб или в беде. Как персам Зороастр и как Минос критянам, Так Нума римлянам, Озирис египтянам Законов мудрых дать доныне не могли, Теряют боги власть во всех концах земли. Вселенная во тьме, ей нужен светоч новый — Я дам ей новый культ и новые оковы. Единым божеством на тысячи веков Сменится пестрый сонм неистинных богов, И над вселенною растерянной и сонной Возникнет новый бог — жестокий, непреклонный, Карающий грехи суровый судия. А возглашать его веленья буду я. Я за дела примусь решительно и круто, Порядок наведу и обуздаю смуту. Всемирной славы я для родины ищу И ради славы той народ порабощу.Зопир
Вот в чем твой замысел! Стремишься ты, презренный, Насильно изменить прекрасный лик вселенной И, якобы леча людей от слепоты, Заставить всех и жить и мыслить так, как ты? Ты разрушаешь мир под видом просвещенья! Пусть даже свойственны всем смертным заблужденья И им грозит во мгле ошибок утонуть, — Каким же факелом ты осветишь им путь? Кто право дал тебе всех поучать упрямо И власти требовать, и жертв, и фимиама?Магомет
Мой ум, который тверд, и ясен, и силен! Над глупою толпой меня возносит он.Зопир
Что ж, должен оправдать я всякого смутьяна За то, что дерзок он и рвется к власти рьяно? По-твоему, обман хорош, когда он смел?Магомет
Конечно. Твой народ уже вполне созрел, Чтоб быть обманутым. Ты сам мне это выдал. Его прельстит любой, но только — новый идол. Обычай защищать ты можешь так и сяк, Но у твоих богов источник сил иссяк; Их алтари пусты; законы их нелепы; Твоей религии давно ослабли скрепы; Она плодит глупцов. Мой бог — куда мудрей: Творит героев он.Зопир
Разбойников скорей! Нет, эти россказни оставь ты для Медины, Где все ослеплены и потому едины, Где равные тебе лежат у ног твоих.Магомет
Мне равные? Смешно! Да где ты видел их? Для них я — бог. И здесь мне все хотят молиться. Так мой тебе совет — со мною примириться,Зопир
Не верю я тебе. Ты — опытный игрок, И ты со мной хитришь.Магомет
Какой мне в этом прок? Хитрит лишь слабый. Я ж силен и не плутую. Ведь то, о чем сейчас прошу тебя впустую, Я завтра вырву сам из стариковских рук. Спеши, пока с тобой я говорю, как друг!Зопир
Каких богов позвать ты можешь на подмогу, Чтоб я с тобою стал на дружескую ногу?Магомет
Что ж, одного из них прекрасно знаю я, И он могуч.Зопир
Кто ж он?Магомет
Он — выгода твоя, Необходимость.Зопир
Нет, ты перешел границы! Скорее могут рай и ад соединиться! Да, выгода — твой бог, а справедливость — мой, И договор для нас немыслим никакой. А если бы на мир я согласился даже, — Скажи, что нас с тобой в подобной дружбе свяжет: Кровь сына твоего, что мной убит в бою, Иль то, что погубил ты всю мою семью?Магомет
Да, да, твоя семья! Один на целом свете Я знаю, где твои похищенные дети. Они не умерли, Зопир.Зопир
Что ты сказал? О, счастье! И о нем я от тебя узнал! Насмешка горькая! Но где они? Что с ними?Магомет
Они воспитаны меж слугами моими.Зопир
Они — невольники! Они — твои рабы!Магомет
Я спас им жизнь, и я — вершитель их судьбы.Зопир
И что ж, ты им не мстил, хоть был обижен мною?Магомет
Не стал твою вину считать я их виною.Зопир
Но где они? Скажи, что ждет их впереди?Магомет
Их жизнь в моих руках. А дальше — сам суди. Зависит участь их от твоего решенья.Зопир
Что должен сделать я сейчас для их спасенья? Отдать им кровь свою? Оковы их надеть?Магомет
Нет, только мне помочь вселенной овладеть. Без боя город сдай, разрушь его святыни, Народу объяви, что лишь Коран отныне Единственный закон для всех на вечный срок, Что есть единый бог, и я — его пророк, — И обретешь детей, а заодно и зятя.Зопир
О, через столько лет принять в свои объятья Детей, которых я оплакивал с тоской, — Нет большей радости! Но собственной рукой Я их скорей убью, чем в рабство негодяю Отдам свою страну. Я с гневом отвергаю Предложенный тобой мне выбор, Магомет. Да ты ведь знал и сам, что я отвечу «нет»! Прощай.Магомет
Каков гордец! Ну, жди, старик проклятый; Теперь-то дело уж не станет за расплатой!Явление шестое
Магомет, Омар.
Омар
Решайся, Магомет, сомнения отбрось! Сената тайный план узнать мне удалось. Он осудил тебя, Зопиром одурачен, Срок перемирия истек. Ты будешь схвачен. Зопир боится дать тебе открытый бой, Коварно хочет он расправиться с тобой. Убийство казнью он потом представит людям, А подлый заговор — высоким правосудьем.Магомет
Посмотрим, кто скорей умрет из нас двоих! Я беспощадным быть умею в нужный миг. Зопира гибель ждет.Омар
И пусть. Да поскорее! А остальных тогда легко я одолею. Он — главный среди них.Магомет
Да. Но имей в виду: Намерен поступить я так, что отведу В убийстве от себя любое подозренье.Омар
Зачем?Магомет
Я должен быть святым для населенья. Мне нужен кто-нибудь, кто б мой вонзил кинжал И на себя вину за злодеянье взял. Кого бы нам послать?Омар
Сеид хорош, пожалуй.Магомет
Сеид?Омар
Ну да, Сеид. Он очень храбрый малый, И, во дворце живя, он без труда бы смог, Проникнув к старику, вонзить в него клинок. Из прочих слуг твоих любого выбрать можно, Но преданность к тебе в них слишком осторожна, Они и опытней, и старше, и хитрей, И больше думают о выгоде своей. Тебе же нужен раб, что яром жестоко Разить готов мечом по манию пророка, Фанатик истовый, бездумный и слепой, Благоговеющий в восторге пред тобой. Таков Сеид. Он — лев, тобою прирученный.Магомет
Но брат Пальмиры он.Омар
Да, брат, в нее влюбленный. И твой удачливый соперник. Наконец, Твой самый злобный враг, Зопир, — его отец!Магомет
К Сеиду ненависть в душе моей пылает; Кровь сына моего к отмщению взывает, Но страсть к Пальмире все ж сильнее во сто крат, А жертвы мщения — ее отец и брат. Решил завоевать священные места я, Но Меккой завладеть — задача не простая, И должен так хитро я отплатить врагам, Чтоб здешний весь народ сам пал к моим ногам. Итак, обдумаем: как мне добиться власти И утолить мои безудержные страсти, И Мекку наконец к Исламу привести, И выгоду во всем умело соблюсти.Действие третье
Явление первое
Сеид, Пальмира.
Пальмира
Не уходи, Сеид! Утишь мое волненье! Ужель готовится здесь жертвоприношенье? Чья кровь нужна? Кому?Сеид
Сам бог мне подал весть, И должен я сейчас присягу в том принесть, Что верность сохраню священному обету; Омару велено принять присягу эту. Жизнь за Ислам отдать я кровью поклянусь, Но если буду жив, то я к тебе вернусь.Пальмира
А почему при мне ты присягать не можешь? Возьми меня с собой! Ты сердце мне тревожишь. Омар еще сгустил меня гнетущий страх: Угрозы мрачные звучат в его речах — Убийство, заговор, предательство Зопира… Война, опять война! Никто не хочет мира, Все за оружие взялись, готовясь в бой, — Так мне сказал пророк… И я боюсь с тобой Расстаться хоть на миг… Зопир так озабочен…Сеид
Порой не верится, что он душой порочен! Как наш заложник был к нему я приведен, И покорить меня сумел нежданно он Своею мягкостью, умом и речью здравой, Осанкой царственной, простой и величавой… Я сам в смятении, но, к моему стыду, Не в силах я к нему испытывать вражду. А может быть, еще в ином все было дело: Такое торжество моей душой владело С тех пор, как во дворце я вновь обрел тебя, Что я забыл о том, как мучился, скорбя, И счастлив был, живя с ним и с тобою рядом… Он отравил меня притворной ласки ядом, И ненависти глас в моей душе примолк, Хоть ненависть к нему — мой безусловный долг.Пальмира
Поведаю тебе, что наши чувства схожи. Моя душа, Сеид, к нему влечется тоже. Когда бы не любовь, что нас с тобой роднит, И не высокий долг, который нам велит На все и вся смотреть учителя глазами, Хотела б я, чтоб мы могли с ним быть друзьями!Сеид
Оставь сомнения. Судьбу свою вручим Мы воле господа, что нами свято чтим. А я иду принести ту страшную присягу. Надеюсь, — хоть готов и к роковому шагу, — Что тот, кого с пелен боготворил Сеид, Сам нашу чистую любовь благословит. Прощай. Я верю в то, что будешь ты моею.Явление второе
Пальмира.
Пальмира
Дурных предчувствий я никак не одолею. Казалось мне, что день, когда я встречусь с ним, По радости ни с чем не сможет быть сравним, Мы встретились… А я дрожу, едва живая, От неизвестности и страха изнывая… Боюсь Зопира я и в ужасе хочу О помощи просить пророка, но — молчу: На языке моем вдруг замирают звуки, Пророк меня страшит не меньше! Что за муки! Рыданья душат грудь. Смятенью нет границ! О милостивый бог! Пав пред тобою ниц, Молю, в столь грозный час жизнь сохрани Сеиду!Явление третье
Магомет, Пальмира.
Пальмира
О господин, вы здесь! Не дайте нас в обиду! Сеид…Магомет
Но чем вы так испуганы, дитя? Что до Сеида вам, когда пред вами я?Пальмира
Как видно, предстоят событья роковые! Что с вами, господин? За весь мой век впервые Вы, вы — в смятении! Как страшно! Что нас ждет?Магомет
Я, видя ваш испуг, смешался, в свой черед. Но как вы смели мне в любви к нему признаться? То оскорбительным мне может показаться! И кто вам право дал на чувства, коих вам Своею волею не разрешил я сам? Я вас растил, считал навек мне благодарной, — А это просто бунт и заговор коварный!Пальмира
О, что вы, господин, я с детских лет на вас, Дрожа от робости, поднять не смела глаз! Но вы же сами нам сегодня, здесь, — не дале, — На чистую любовь благословенье дали! А узы наших чувств нас вместе с юных дней Привязывают к вам лишь глубже и сильней!Магомет.
Бесхитростность порой приводит к преступленью. Не поддавайтесь же сердечному влеченью! Любовь — дурной вожак! А кто забыл о том, Тот кровью, может быть, расплатится потом!Пальмира
Охотно кровь свою отдам я за Сеида!Магомет
Он вами так любим?Пальмира
С тех пор, как от Герсида Попали мы вдвоем к вам, в лагерь ваш святой, Друг друга любим мы все с той же чистотой. Ведь нежность вложена нам в души небесами. Сначала мы ее не сознавали сами, Но чувство в нас росло и делалось сильней. Любовь не одолеть, мы все подвластны ей. И что преступного в такой любви невинной? Не может стать она несчастия причиной Иль вызвать чей-то гнев…Магомет
Нет, может! Близок миг, Когда вы, трепеща, коснетесь тайн моих. Я вам скажу, кого вам ненавидеть надо И кто вам верный друг, опора и отрада. Но верьте только мне!Пальмира
Я знаю с детских лет, Что всемогущ, велик и славен Магомет, Почтеньем к вам полна я искренним и верным.Магомет
Неблагодарность есть в почтении чрезмерном.Пальмира
Нет, благодарность к вам в моей душе царит. А коль забудусь я, пусть тотчас же Сеид…Магомет
Сеид!Пальмира
Вы смотрите так грозно и сурово!Магомет
Ну, успокойтесь же! Вот я и кроток снова. Я не сержусь, но вы мне доверять должны Все мысли тайные, до самой глубины. Умейте только быть послушной и спокойной. Я сам определю вам жребий, вас достойный; Уж я сумею вас заботой окружить! Но доброту мою вам надо заслужить. Чтоб выполнил Сеид священную присягу. Вы поддержать должны в нем твердость и отвагу. Достоин будет вас он, подвиг совершив.Пальмира
Не сомневайтесь в нем! Он весь — один порыв. Нет, за него краснеть не буду я пред вами: Горит в нем верности и преданности пламя; Он любит вас нежней, чем бы любил отца, И долг любой ценой исполнит до конца. Бегу к нему — я вам всегда была послушна!Явление четвертое
Магомет.
Магомет
Как эта девочка по-детски простодушна! Ее признания — убийственнее лжи: Они разят меня, как острые ножи! И дети и отец, вы все — мое проклятье! Но, кажется, двоих с пути могу убрать я… Да, вы узнаете, — пусть через много лет, — Как ненавидит, мстит и любит Магомет!Явление пятое
Магомет, Омар.
Омар
Час пробил. Можешь ты и увезти Пальмиру, И Мекку захватить, и отомстить Зопиру. Пока он жив — борьбу он возглавляет сам, А без него — тотчас все покорятся нам. Спеши! Нельзя терять удобную минуту. Смерть старца вызовет растерянность и смуту, И — все у нас в руках! Так пусть скорей Сеид Убьет его и путь тебе освободит! Зопир сегодня в ночь своим богам никчемным Молиться собрался в дворцовом зале темном. Сеид же во дворце во все покои вхож, И может там, во тьме, вонзить в Зопира нож.Магомет
Пусть он послужит мне орудьем преступленья, Но тут же станет сам и жертвой искупленья. Здесь все сошлось: закон, любовь, вражда и месть, — И с сыном и с отцом пора мне счеты свесть! А вдруг — хоть фанатизм в нем с детских лет воспитан — В нем жалость верх возьмет и старца пощадит он?Омар
Нет, нет, для мщения как будто создан он: В нем давний фанатизм любовью распален; Весь дух его тобой в такую форму вылит, Что слабость самая в нем рвенье лишь усилит.Магомет
А крепко ли юнца ты клятвою связал?Омар
О да! Я сам велел украсить пышно зал… Когда Сеиду мы священный меч вручали, Слова присяги так торжественно звучали, Что пронизал его благоговейный страх. Но вот он сам.Явление шестое
Магомет, Омар, Сеид.
Магомет
Сеид, мне повелел Аллах Вам возвестить сей час его святую волю: Он вам определил почетнейшую долю — Быть мстителем за наш поруганный алтарь.Сеид
О повелитель мой, отец, пророк и царь! Вольны вы жизнью всей располагать моею. Но как же, смертный, я за бога мстить посмею? И что по силам мне?..Магомет
Да, смертною рукой Бог хочет устрашить заблудший род людской.Сеид
Наверно, тот, пред кем склоняюсь я в молитве, Желает испытать меня в опасной битве?Магомет
Повиновение — вот воинская честь. А вам приказано свершить святую месть И нанести удар, чтоб враг был уничтожен Клинком, который вам в десницу богом вложен.Сеид
Скажите же, кого казнить мне надлежит? Кто тот злодей, чья кровь ручьями побежит?Магомет
Мой ненавистный враг, палач с душою черной. Он злобою меня преследовал упорной: Им оскорблен мой бог, им умерщвлен мой сын… Из недругов моих жив только он один — Зопир…Сеид
Как, он? И я, своей рукой…Магомет
Ничтожный! Успели вы забыть, в чем долг ваш непреложный? Мне слепо преданным обязан быть солдат, А тех, что видеть, знать и размышлять хотят, — Не стану я терпеть: в их душах бунт таится. Без рассуждений мне должны вы подчиниться. Известно ль вам, кто я и в сколь святых местах Через меня ваш долг вам возвестил Аллах? Ведь, несмотря на все кощунства и пороки, Сей град считается святыней на Востоке; Сюда паломники текут со всех сторон, А в чем причина? — В том, что в Мекке был рожден И похоронен муж, чье имя всеми чтимо: В веках прославлено геройство Ибрагима{470}, Который господу столь истово служил, Что сына на алтарь, как жертву, возложил, Преодолев любовь и власть начал природных. Но вы не рождены для дел богоугодных: Бог хочет, чтобы пал мой враг, преступник злой, А вы — колеблетесь! Сокройтесь с глаз долой! Нет, не достойны вы избраннической доли! Язычник мерзкий, прочь! Вы не слуга мне боле! Любовь Пальмиры вам наградою была б; Теперь вам не видать Пальмиры, жалкий раб! Вы слабостью своей разгневали пророка, — Но сами за нее поплатитесь жестоко. Что ж, можете идти служить моим врагам!Сеид
Речь бога слышу я — и повинуюсь вам.Магомет
Тогда — пусть меч разит! Он кровью нечестивой Бессмертье купит вам, и жизнь, и брак счастливый.(Омару.)
Омар, ступай за ним и, не спуская глаз, Следи за тем, чтоб он исполнил мой приказ.Явление седьмое
Сеид.
Сеид
Я дорого бы дал, чтоб меч мне был ненужен! Старик беспомощен, бессилен, безоружен… Но — делать нечего; я понимаю сам, Кровь беззащитных жертв угодна небесам. Мне дело важное поручено впервые. Я клятву дал… Долой сомненья роковые! Пусть вдохновят меня в истории земли Те, кто своей рукой тиранам смерть несли; Хотел бы я, чтоб их воинственная сила В час испытания мне руку укрепила, И гневный ангел — тот, кем послан к нам пророк, — Мне долг жестокий мой осуществить помог. О боже, вот Зопир!Явление восьмое
Зопир, Сеид.
Зопир
Что так тебя пугает? Ужель так страшен я, что в ужас повергает Тебя один мой вид? Ты — мой заложник, но Считать меня врагом, поверь, Сеид, грешно. Сейчас спокойно все, и перемирье длится, Но если вдруг война, как буря, разразится, — Ты знаешь ли, дитя, что ждет тебя тогда? Неотвратимая тебе грозит беда! Не знаю, буду ли тобой я верно понят И речь моя тебя разгневает, иль тронет… Тебе убежище я предложить хочу И жизнь твою спасти.Сеид
Чем я ему плачу! Со стороны врага и лютого тирана Заботу о себе увидел я нежданно! А я уж был готов вонзить в него клинок, Увы, я сам не свой… Прости меня, пророк!Зопир
Ты удивляешься час от часу все пуще? Но я ведь человек, и потому присуще Мне состраданье к тем, кому хоть ум и дан, Но кто доверчиво поддался на обман. О боги, если бы на всей земле могли вы Унять вражду, смирить безумия порывы!Сеид
Ужель от зла добро способно проистечь? Но человечностью мила мне ваша речь!Зопир
Там с человечностью встречался ты едва ли. Какими путами твой бедный ум сковали! Тебе внушил пророк — фанатик и тиран, — Что нужно истребить всех, кроме мусульман, И, ревностно его веленья исполняя, Ты счел меня врагом, не видя и не зная; Держа народ в узде железною рукой И предрассудками туманя ум людской, Он и тебя толкнет на страшную дорогу. Как можешь ты, Сеид, столь злому верить богу?Сеид
Боюсь, я в помыслах от веры отступил… Нет, ненавидеть вас мне недостанет сил!Зопир
Чем так взволнован я? И странно, отчего же Он с каждым часом мне становится дороже? Он, вражеский солдат, заложник… В чем тут суть? Как к сердцу моему сумел найти он путь? Поведай мне, дитя, кто ты, откуда родом?Сеид
Не знаю сам. Всю жизнь я жил с моим народом И повелителю был предан с детских лет. Но, с вами говоря, нарушил свой обет…Зопир
Что ж, потеряв отца, с отцом ты свыкся новым?Сеид
Мне домом лагерь был, а крыша храма — кровом. Живя средь мусульман в толпе других детей, Пустыню почитал я родиной своей И благодарности был полон к Магомету.Зопир
Не смею порицать в нем благодарность эту. Быть может, Магомет ее и заслужил. Но почему злодей великодушен был? Пальмира тоже ведь при нем жила, бедняжка… Но что с тобой? О чем вздыхаешь ты так тяжко? Зачем ты в сторону отвел смущенный взгляд? Иль сердце юное сомнения язвят?Сеид
Какой ужасный день!.. Сомненья — в ком их нету…Зопир
За угрызения тебя никто к ответу Не привлечет. Пойдем. Хочу тебя спасти.Сеид
Ну как над ним могу я меч мой занести? О, клятва тяжкая! О, грозный бог отмщенья!Зопир
Доверься мне, мой друг! Преодолей смущенье. Погибнуть можешь ты! Не медли, дай ответ.Явление девятое
Зопир, Сеид, Омар, свита.
Омар (стремительно вбегая)
Предатель, с кем вы здесь? Вас ждет сам Магомет!Сеид
Что делать? Наносить иль принимать удары? Со всех сторон грозят мне ужасы и кары… Где скрыться? Где спастись? Как отвести напасть? Куда бежать?Омар
К стопам учителя припасть!Сеид
К нему! Я отрекусь от страшного обета!Явление десятое
Зопир.
Зопир
Куда же ты, Сеид? Он не дает ответа, Бежит он, потрясен, отчаяньем томим… И вся моя душа стремится вслед за ним. Страх, жалость и любовь мне сердце рвут на части! Какие в юноше сейчас бушуют страсти? Пойду узнать…Явление одиннадцатое
Зопир, Фанор.
Фанор
Тайком мне передал сейчас Записку важную один араб для вас.Зопир
Что вижу я! Герсид? Он требует свиданья… Ужели кончились отцовские страданья? Ведь им похищены в ту роковую ночь Из рук моей жены младенцы, сын и дочь. Коварный Магомет их от меня скрывает… Пальмира и Сеид родителей не знают… Неужто?.. Нет, Зопир, оставь свои мечты! И так немало слез о детях пролил ты. Нельзя на веру брать простое совпаденье. Ведь могут своего не знать происхожденья И не они одни!.. Я жажду их обнять, Готов бежать — и вновь, боясь надежде внять, Колеблюсь… Но Герсид явился не случайно; Он мне расскажет все — и разъяснится тайна. Молю, о боги, вас, — верните мне детей! Я вырву души их из тягостных сетей. А если не отец я двум несчастным детям, — Я их усыновлю и буду счастлив этим!Действие четвертое
Явление первое
Магомет, Омар.
Омар
Увы, наш замысел судьба разоблачила. Доверия к нам нет, и всех нас ждет могила. Сеид у нас в руках; но вдруг случайно он Узнает, чей он сын? Он будет потрясен И вряд ли совершит то, что свершить обязан.Магомет
О, небо!Омар
А Герсид к нему душой привязан.Магомет
Как держится Герсид?Омар
Испуган, удручен… Боюсь, что пожалеть Зопира склонен он.Магомет
Он добр и слаб, Омар, а значит — ненадежен И может нас предать. Я, как и ты, — встревожен: Он в тайну посвящен… Давно мне он нелюб… Его мы устраним.Омар
Герсида нет, он — труп.Магомет
Ты — преданный слуга. Займемся ж остальными. И первым среди них стоит Зопира имя. Смерть старца сразу всех в смятенье приведет, — И в бога моего уверует народ. Но подозрение с меня должно быть снято: Мне нужно, чтоб Сеид, сразив главу сената, В мученьях тотчас же погиб у наших ног И чтоб его конец народ увидеть мог. Смертелен ли твой яд?Омар
Да, в этом нет сомненья.Магомет
Все наши тайны склеп своей укроет тенью. Сеид пока еще послушен и готов По слову моему разить любых врагов; Ты жалость в нем уймешь и совесть успокоишь Лишь тем, что от него навеки правду скроешь. Его в неведенье держать — нам смысл прямой. На слепоте людей триумф построен мой. Не все ль равно мне, чья кровь у Пальмиры в жилах? Безроден, кто не знал отцов иль позабыл их. Привязанность к родным и крепость кровных уз — Пустые миражи, для сердца лишний груз. Да и природы зов — привычка, но не боле. Пальмиру с детских лет я приучил к неволе. Я для нее — весь мир. Она войдет в мой дом, Ступая по телам в неведенье святом, И будет, может быть, еще горда, — кто знает? — Тем, что ее краса властителя пленяет. Ага, вот наконец настал желанный срок: Сюда идет Сеид. В его руке клинок. Не будем же мешать.Удаляются на авансцену.
Омар
Он не промедлит долго И то, что ты велел, свершит во имя долга.Явление второе
Магомет и Омар сбоку на авансцене, Сеид в глубине сцены.
Сеид
Убийство страшно мне, но долг неумолим.Магомет
А прочие дела — мы сами довершим!(Уходит с Омаром.)
Сеид (один)
На гневные слова я не нашел ответа — Кто смеет возразить веленью Магомета? Он мести требовал. Я перед ним был нем, Хоть убедил меня он, все же, не совсем. Когда речет сам бог — ослушаться легко ли? Но рвется на куски моя душа от боли…Явление третье
Сеид, Пальмира.
Сеид
Пальмира, это ты? Беги отсюда прочь! Кровопролитье здесь свершится в эту ночь!Пальмира
Сеид, ведомая тревогой и любовью, Я шла омыть в слезах твой меч, залитый кровью. Чью в жертву жизнь тебе поручено принесть? Осуществишь ли ты обещанную месть?Сеид
О, в этот страшный час столь тягостных решений Скажи мне слово ты, мой друг, мой добрый гений! Направь мой дух! И меч мне помоги поднять! Я слышал божий глас, но не могу понять, За что им избран я, Сеид, и правда ль это, Что говорит сам бог устами Магомета?Пальмира
Твои сомнения кощунственны, Сеид! Он видит нас насквозь! Он надо всеми бдит! В любую нашу мысль он тотчас проникает, И дерзость — гнев его и гибель навлекает. А бог, которого он нам провозгласил, — Бог истинный: ведь с ним весь мир он покорил.Сеид
Наверно, коль тебе внушил он обожанье… Но объясни, — зачем кровавое закланье Пророку доброму, отцу для всех людей, Который мир земле несет в руке своей? Такая мысль дерзка; ведь каждый твердо знает, Что в сердце жертвы нож спокойно жрец вонзает… Зопиру приговор — увы! — неумолим, И предназначен я казнь совершить над ним, — То с неба божий глас мне возвестил сурово. Я, гордый тем, что бог — сам бог! — мне молвил слово, Готов был тотчас же любую жизнь пресечь, Но сила странная мой удержала меч. Увидев старца взгляд и немощное тело, Я понял, что во мне власть веры ослабела, И, как религию на помощь я ни звал, — Зов человечности в душе моей звучал. Тут повторил пророк настойчиво и властно, Что нерешительность преступна и опасна И, чтобы к гибели она не привела, Я должен быть суров и крепок, как скала. Пристыженный, я стал опять ему покорен, Мой дух воспрял, мой пыл был снова непритворен. О, власть религии сильна и велика! И все-таки я слаб. Дрожит моя рука, В душе бушует вихрь, и все во мне смешалось: Покорность, долг, любовь, сомнение и жалость. Нет, я не создан быть убийцей-палачом! Но я ведь клятву дал над этим вот мечом! О, если бы я знал!.. Не удержать рыданий! Пальмира, помоги мне в тяжкий час страданий! В противоречиях ужасных я тону, И дух мой мечется в мучительном плену. Во имя нежных уз, связавших нас с тобою, Скажи — пожертвовать Зопира головою Иль потерять тебя? Лишь этою ценой Обещано тебя соединить со мной. Утратил волю я. Решай же ты, Пальмира!..Пальмира
Так я — цена за кровь несчастного Зопира?!Сеид
То — воля божия, и так решил пророк.Пальмира
Ужель нас за любовь наказывает рок?Сеид
Да, лишь убийце ты достанешься в награду.Пальмира
Условье страшное!..Сеид
Но, видимо, так надо: Лишь так Сеид свой долг с любовью совместит… А ослушания пророк мне не простит.Пальмира
Увы!Сеид
И мы с тобой тогда погибнем вместе.Пальмира
Но, если бог тебя избрал орудьем мести… Ведь ты же знал, Сеид, в чем клятву ты даешь…Сеид
Ну, как мне поступить?Пальмира
Меня пронзает дрожь…Сеид
Что ж, все решила ты. Я понял. Выбор сделан.Пальмира
Я все решила?Сеид
Ты!Пальмира
Понять не захотел он! Да разве я…Сеид
Сам бог, избрав твои уста, Сказал, что делать мне. Душа моя чиста. Сюда вот, к алтарю, своим богам молиться Сейчас придет Зопир. Должна ты удалиться. Ступай.Пальмира
Нет, без тебя Пальмира не уйдет.Сеид
Пальмира, то, что здесь сейчас произойдет, Так страшно, что от глаз твоих должно быть скрыто! Пророк недалеко, и он тебе защита, — Беги!Пальмира
Зопира ты убьешь своей рукой?Сеид
Да, все обдумано. Приказ мне дан такой: На землю старика я должен опрокинуть И троекратно меч вонзить в него и вынуть, Чтоб кровью жертвенной был весь алтарь облит.Пальмира
О, ужас! Он так добр — и должен быть убит Тобой, Сеид!.. Вот он!В глубине сцены открывается алтарь.
Явление четвертое
Зопир, Сеид, Пальмира, на авансцене.
Зопир (у алтаря)
О всеблагие боги! Молю вас, подходя к концу земной дороги, Помочь мне сокрушить врага в последний раз! Я стар и немощен, но я борюсь за вас! Убийца Магомет кровавыми руками Стремится вновь разжечь междоусобиц пламя. Коль не хотите вы препятствовать ему…Сеид (Пальмире)
О, богохульник!Зопир
Смерть покорно я приму. Но дайте мне хоть раз в минуту смертной муки Обнять моих детей! Пусть дорогие руки Закроют мне глаза, меня положат в гроб, И слезы чистые падут на хладный лоб. А дети где-то здесь…Пальмира (Сеиду)
Сеид, ты слышишь? — Дети…Зопир
Я был бы средь людей счастливейшим на свете, Когда б на милых чад мог хоть мельком взглянуть… Пошлите счастье им, наставьте их на путь, Благие боги! Пусть их души будут схожи С моею!..Сеид
Я иду. Пора!(Обнажает меч.)
Пальмира
О, правый боже! Что хочешь делать ты?Сеид
Кощунственную речь Прервать и грудь его моим мечом рассечь, Чтоб заслужить тебя, творя святое мщенье. Гляди! Вокруг меня, в крови, толпятся тени!Пальмира
Ты бредишь! Что с тобой?Сеид
Иду за вами вслед Кощунство покарать и выполнить обет. Вперед!Пальмира
Сеид, очнись! Опомнись от кошмара! Постой!Сеид
Алтарь дрожит, и жертва ждет удара… Пора…Пальмира
То гнев небес низвергнулся на нас!Сеид
Что возвещает мне громовый божий глас? Велит замедлить шаг иль к алтарю толкает? Нет, в малодушии меня он упрекает. Пальмира!Пальмира
Что, Сеид?Сеид
Молись же небесам! Сейчас ударю я!(Убегает за алтарь, туда, где находится Зопир.)
Пальмира
О, небо! Горе нам! Но что со мной? Душа мятется и пылает… Чей голос стонет в ней и кровь мою вздымает? Коль жертвы от людей потребовал сам бог, Не мне судить о том, он добр или жесток И виноват ли тот, над кем висит проклятье… Так почему с собой не в силах совладать я? О, что там? Да, удар ужасный нанесен… Я слышу жалобный, глухой предсмертный стон… Сеид!..Сеид (вбегает с безумным видом)
Где я? И кто тут говорит незримый? Пальмира, где же ты? Лишился я любимой!Пальмира
Не узнает меня! Пред ним затмился свет…Сеид
Где мы?Пальмира
Скажи, ответь, свершил ты или нет То, что намерен был? Ах, он меня не слышит!Сеид
А? Что сказала ты?Пальмира
Зопир убит иль дышит?Сеид
Кто — дышит?Пальмира
О господь, властитель наших дум! Спаси нас! Просвети его смятенный ум! Сеид, бежим, скорей!Сеид
Мои иссякли силы.(Садится.)
Я прихожу в себя как будто… Друг мой милый, Ты здесь!Пальмира
Что сделал ты?Сеид (поднимается)
Я? Жертву поразил… Как было велено, клинок в него вонзил, Вцепился в волосы, не глядя на седины, И по земле влачил… Дрожа, как лист осины, Я повторил удар… и сам похолодел: Несчастный мне в глаза так жалобно глядел, Спасенья не искал, не звал на помощь стражи, Казалось, будто он меня жалеет даже… Как благороден он, как кротки и чисты Прекрасного лица печальные черты! Я мерзок сам себе! Тоской душа объята. Вот за жестокое деяние расплата.Пальмира
Сеид, тебя убьют, когда придет народ. Здесь близко Магомет; он нас с тобой спасет, Бежим!Сеид
Нет, не могу! Я умираю тоже.Пальмира
Он слишком потрясен. Что делать мне, о, боже?!Сеид (плача)
То было словно сон, чудовищный кошмар! В грудь безоружного направил я удар, А он, вздохнув, извлек сам из груди пронзенной Слабеющей рукой клинок окровавленный, И, глядя с нежностью, как лишь отец глядит, Тихонько вымолвил: «Ах, бедный мой Сеид!.. Мой мальчик…» Против нас все силы зла восстали, Пальмира… Эта кровь на смертоносной стали И взгляд, подернутый туманной пеленой, — Стоят и будут век стоять передо мной! О, что мы сделали!Пальмира
Идут! Убиты будем Мы оба, на глаза попавшись этим людям. Бежим, молю тебя!Сеид
Уйди! Твоя любовь Меня заставила пролить Зопира кровь! Да, если бы не ты, я старца бы не предал, И никаким богам кровавой клятвы не дал!Пальмира
Как мог ты бросить мне столь тягостный упрек? На муку и меня поступок твой обрек. Ужели нет в тебе к Пальмире сожаленья?Сеид
Я брежу! Посмотри! Ужасное явленье!Из-за алтаря, держась за него, появляется раненый Зопир.
Пальмира
Да, это он, в крови, превозмогая боль, Влачится к нам сюда, едва дыша… Позволь…Сеид
Как, ты бежишь к нему?Пальмира
Что я тебе отвечу? Моя душа сама летит к нему навстречу. Все чувства, вспыхнув вдруг, меня к нему влекут…Зопир
(выходя вперед, поддерживаемый Пальмирой)
Благодарю, дитя… Я посижу вот тут…(Садится.)
Мне несколько минут на свете жить осталось. Сеид, рыдаешь ты? Твой гнев сменила жалость?Явление пятое
Зопир, Сеид, Пальмира, Фанор.
Фанор
Что это? Всюду кровь… Я цепенею весь…Зопир
Ах, если бы Герсид… Фанор, мой друг, ты здесь? Вот кто меня убил.Фанор
О, тайна роковая! Отцеубийцей стал ты, сам того не зная!Сеид
Что?Пальмира
Как?!Сеид
Он — мой отец?Зопир
Я знал…Фанор
Погиб Герсид. Но он успел мне дать письмо. Оно гласит: «Я тайну страшную, Фанор, пред смертью выдам. Над головой отца меч занесен Сеидом. Беги скорей! Верни несчастного назад! Сеид Зопиру — сын, Пальмире же он — брат. А я безжалостно заколот Магометом За то, что с давних пор владел его секретом».Сеид
Вы — мой отец!Пальмира
Мой брат!Зопир
О дети, наконец! Недаром нежность к вам питал я, как отец! Мне боги дали знать… А ты, мой сын несчастный, Кто мог тебе внушить поступок столь ужасный?Сеид (падая на колени)
Моя любовь, мой долг, религиозный пыл, Народ, который я так преданно любил, — Все, что в глазах людей достойно уваженья, Меня заставило пойти на преступленье. Верните мне мой меч! И я, себя кляня…Пальмира (на коленях, удерживая руку Сеида)
Пусть не в Сеида он вонзится, а в меня! К отцеубийству я подталкивала брата! Преступная любовь в несчастье виновата!Сеид
О, должной казни нет злодейству моему! Убейте нас, отец!Зопир (обнимая их)
Нет, я вас обниму! В час смерти мне судьба послала дочь и сына! Сошлись вершина бед и радостей вершина! Благодарю богов за то, что нас свели, Что мы, хотя б на миг, друг друга обрели. Я завещаю вам отмстить за эти раны, За кровь, что из груди течет струей багряной, За горький ваш удел, за роковой обман! Живите, здравствуйте, и да умрет тиран! Час близится, мой сын, война возобновится; Все войско за меня готово насмерть биться; И боги, пожалев и сына и отца, Не захотят, чтоб зло свершилось до конца. Светает. Весь народ сюда сберется скоро, Предатель не уйдет от казни и позора. Я буду отомщен.Сеид
Нет, ждать я не могу! Я должен отомстить и умереть! Бегу!Явление шестое
Зопир, Сеид, Пальмира, Фанор, Омар, свита.
Омар
Зопир в крови? Скорей злодея задержите! И помощь старику тотчас же окажите. Убийцу кара ждет. — Пророк блюдет закон.Зопир
Нет, мыслимый предел коварства превзойден!Сеид
Мне — кара? От него?Пальмира
Ведь по его веленью Столь беспримерное свершилось преступленье!Омар
Что он велел?Сеид
Позор заслужен мной сполна! За легковерие — достойная цена!Омар
Солдаты, взять его!Пальмира
Что ж! И меня вяжите!Омар
Советую молчать, коль им вы дорожите. Пророк к вам милостив, но лишь от вас самих Зависит сделать так, чтоб гнев его утих. Так следуйте за мной. А он вас не оставит.Пальмира
Ах, только смерть меня от горестей избавит!Пальмиру и Сеида уводят.
Зопир (Фанору)
О, дети! Что их ждет? Их увели, Фанор! Я гибну не от ран — от горя гаснет взор!Фанор
Мужайтесь! День встает. Коварством возмущенный, За всех вас отомстит народ вооруженный.Зопир
Мой злополучный сын!Фанор
Печален ваш удел.Зопир
Чудовищный клубок кровавых, черных дел! Прощай! Да пощадит суровая судьбина Нечаянных убийц — и дочь мою, и сына…Действие пятое
Явление первое
Магомет, Омар; свита в глубине сцены.
Омар
Зопир кончается. Разгневанный народ, Вчера лежавший ниц, сейчас, ропща, встает. Но мы тебе верны, и мешкать мы не будем. Тут с возмущением убийство мы осудим, Там скажем, что Зопир во всем виновен сам И принял смерть за то, что отвергал Ислам; Сеида проклинать пред жителями станем, Пугливых устрашим, доверчивых обманем, Восхвалим мудрый твой и справедливый суд И объясним, к чему восстания ведут. Нас всюду слушают; а овладев умами, Мы всем легко внушим, что счастье их — в Исламе, И быстро, как гроза, внезапный бунт пройдет.Магомет
Пора, пора от туч очистить небосвод. Войска уже пришли? Они готовы к бою?Омар
Да, шли они всю ночь дорогой обходною — И скоро будут здесь. Ведет их сам Осман{471}.Магомет
Для власти мне нужны и сила и обман! Сеиду не сказал еще никто ни слова О том, что в жертву он принес отца родного?Омар
Кто мог ему сказать? Ведь знал один Герсид, Он мертв и наших тайн теперь не разгласит. Сеида самого уже зовет могила. Заранее хитро орудье надломила Моя рука: в вино я влил Сеиду яд. Считай, что из живых соперник твой изъят. До преступления его настигла кара: Когда он поднял меч для грозного удара, Когда его отец упал, им сбитый с ног, Уже смертельный яд у сына в жилах тек. Сейчас Сеид в тюрьме. Он угнетен кручиной. Пальмиру же услать не видел я причины, Она поблизости. Но, чтоб его спасти, Готова в жертву жизнь немедля принести. Так если поманить ее надеждой вздорной, Она сама тебе захочет быть покорной; Привычка пред тобой всегда благоговеть Ей своевольничать не разрешит и впредь, Раз сам пророк ее пред всеми отличает, Пальмира твой триумф любовью увенчает. А, вот ее ведут. Она бледна как мел.Магомет
Зови вождей, Омар, и жди, где я велел.Явление второе
Магомет, Пальмира, свита Пальмиры и Магомета.
Пальмира
Где я? О, небеса!Магомет
Не будьте столь печальны. Лишь мне событий смысл известен изначальный. То, что повергло вас в смятение и страх, Давно предрешено всевышним в небесах. Сюда явился я, чтоб с вас оковы спали. Несчастья позади, и вы свободной стали. Не плачьте ж ни о ком! Пора вам стать умней И предоставить мне решать судьбу людей. Вы помните, что вас в младенческие лета Хранила от невзгод опека Магомета. Вы мне милей других; глядите же вперед. Вас, может быть, иной, высокий жребий ждет. Что вам теперь Сеид? О нем забыть вы вправе. Не надо скромничать. Подумайте о славе, — И прежних, детских чувств тотчас простынет след. Вам даст величье, блеск и роскошь Магомет, Коль ваши и мои желанья будут схожи. Весь свет покорен мне. Вы покоритесь тоже.Пальмира
Величье? Слава? Блеск? Что слышу я, мой бог! И кто произнести кощунства эти мог? Убийца, лицемер бесчестный и кровавый, Ты смеешь соблазнять меня нечистой славой? Вот он — наш праведник! Вот он, пророк святой, Учитель, вождь и царь, безмерно чтимый мной! Чудовище, палач, к делам привыкший темным, Сеида сделал ты убийцей вероломным! Ты сына вынудил пронзить отцову грудь, А после и на дочь задумал посягнуть? Но не ликуй, злодей! Сегодня с лжепророка Покровы сорваны. Возмездье недалеко. Ты слышишь рев толпы? То поднялся народ. Тень моего отца на бой его зовет. Народный гнев могуч, и он — моя защита. А мерзость дел твоих отныне всем открыта. О, если б на куски я разорвать могла Тебя и весь твой род, чтоб кровь рекой текла! О, если б Азия, и Мекка, и Медина, Восстав, жестокого низвергли господина, И грубой силою порабощенный мир, Стряхнув позор цепей, разбил былой кумир! Твой бог, пособник лжи, бесчинств и преступлений, Пусть станет пугалом для новых поколений! Пускай кромешный ад, которым ты грозил Любому, кто тебе хоть словом возразил, Поглотит лишь тебя, чтоб в жизни той, загробной, Ты вечно мучился, людей мучитель злобный! Вот клятвы нежности, что я тебе даю В знак благодарности за доброту твою!Магомет
Я вижу, что меня подстерегла измена. Но покориться мне должны вы непременно! Моя душа полна…Явление третье
Магомет, Пальмира, Омар, Али, свита.
Омар
Наш заговор раскрыт! Пред смертью выдать нас врагам успел Герсид. Народ волнуется; он взял тюрьму в осаду; Толпа разрушила тюремную ограду, Как знамя, на руках Зопира труп неся. В негодовании весь город поднялся. Сеид возглавил бунт. Он призывает рьяно Отмстить за кровь отца и истребить тирана. Он полон сил еще, и дышит местью он, Неистово клянет тебя и твой закон. «Я погубил отца! — кричит он в исступленье. — Но это не мое, пророка преступленье!» Восставшие к дворцу бегут, рассвирепев, И скоро на тебя обрушится их гнев. А те, кто был готов принять Ислам навеки И войску твоему открыть ворота Мекки, Стихийной яростью теперь опьянены, Схватились за мечи и требуют войны. Послушный, робкий люд стал грозною лавиной.Пальмира
О небо, сделай так, чтоб победил невинный! Злодеев покарай!Магомет (Омару)
Ты струсил?Омар
При тебе Я состою давно. Вся жизнь моя — в борьбе. Пока мы живы, враг не сломит оборону, Но вихрь летит, грозя нам, и тебе, и трону…Магомет
Сам защищу я вас, себя и трон, как встарь. Не бойся, скоро ты поймешь, каков ваш царь.Явление четвертое
Магомет, Омар и их свита — с одной стороны; Сеид и народ — с другой; Пальмира — посредине.
Сеид (с мечом в руке, но уже слабеющий под действием яда)
Вот он, злодей! Мечи без страха поднимайте!Магомет
Назад, рабы! Я — царь! Молчите и внимайте!Сеид
Не слушайте его! Разите! Он ваш враг! Но почему глаза мне застилает мрак? Увы! Слабею я…(Делает шаг вперед и шатается.)
Магомет
Смотрите!Пальмира (бежит к нему)
Брат мой милый! Ужель убить его тебе не хватит силы?Сеид
Я с этим шел сюда… Но вдруг я изнемог…(Падает на руки своих сторонников.)
Магомет
Глупец! Он на меня посмел поднять клинок! Ну, падайте же ниц, защитники Зопира! Я всем вам покажу, что я владыка мира, Что волю вышних сил один лишь я постиг, А кто сомнение допустит хоть на миг, В своем невежестве, постыдном и убогом, — Идет на смерть, вступив в единоборство с богом. Все судьбы я вершу. Так знайте наперед, Что тот из нас двоих, кто виноват, — умрет. В моем могуществе вы убедитесь скоро.Пальмира
О брат! Мне не снести подобного позора! Мы не отомщены. Палач еще силен. Народ пред ним дрожит, запуган, ослеплен, И даже ты не смог…Сеид (на руках своих сторонников)
Прости бессилье брату! Наказан богом я за службу супостату, Но сердцем честен был и жаждал лишь добра… Разбойник, трепещи! Еще придет пора! Коль бог казнит того, кто грех свершил под гнетом, Какую ж молнию в творца злодейств метнет он! Прощай, сестра, и пусть тебя судьба хранит!Пальмира
Не верьте, люди, нет! Не бог его казнит! От яда гибнет он!Магомет (прервав ее и обращаясь к народу)
Запомните! Отныне Я положу конец языческой гордыне. Над всеми высший суд Аллахом мне вручен, И всякий бунтовщик на гибель обречен. Ведь даже смерть сама моей послушна воле: Взгляните, — он восстал, и он не дышит боле. Так на любого, кто подъять посмеет меч, Немедля гнев небес сумею я навлечь, Любой, кто возразить осмелится приказу, — Пусть даже в помыслах, — покаран будет сразу. И если день для вас сияет до сих пор, То — потому, что я смягчил свой приговор. Ступайте тотчас в храм, вы, сброд неблагодарный!Пальмира (вновь придя в себя)
Нет, стойте! Отравил Сеида враг коварный! Ну что ж, кровавый зверь! Не думай, что всегда Ты сможешь уходить от правого суда! Ты отнял у меня отца, и мать, и брата. Нет больше ничего, что мне здесь было свято, — Теперь и я могу уйти за братом вслед. Будь проклят на века!(Бросается на меч брата и закалывается.)
Магомет
Остановись!Пальмира
О нет! Свободна наконец от всех скорбей Пальмира. О, далеко еще освобожденье мира, Им правишь ты, тиран, несущий мрак и гнет. Но свет осилит тьму, и власть добра придет!Магомет
Я потерял ее… А был триумф так близок! Мой план был так хитер, — пусть и жесток и низок, — Но цель всех темных дел, обманов и интриг Нежданно вырвана из рук в последний миг! Дав юной прелести едва достичь расцвета, Я сам сгубил ее — и вот мне казнь за это… У победителя в душе бушует ад! Да, совесть все же есть, и жжет она, как яд! О мой господь! Тебя жестокости орудьем Я сделал, чтоб нести порабощенье людям! Казня и милуя, я знал, что сам я слаб, Что, для людей кумир, я пред тобою — раб, Что муки жертв моих мне наказаньем станут. Обманывая всех, я не был сам обманут… Что ж, пусть теперь мне мстят погубленные мной: Пусть сердце, яростью кипящее земной, Исторгнут из груди — смерть страсти в нем погасит. Но спрячь от глаз людских то, что меня не красит. Злодейств и слабостей позор пусть будет скрыт; Преданье пусть мой лик сияньем окружит, А память о дурном — сама в веках потухнет. Я должен богом быть — иль власть земная рухнет!Конец
Философские повести
Задиг, или Судьба Восточная повесть Перевод Н. Дмитриева
{472}
Посвятительное послание Саади султанше Шерла
{473}
18 числа, месяца шеваля{474}, 837 г. Хиджры{475}.
Прельщение очей, мука сердец, свет разума! Не целую праха от ног ваших, ибо вы почти не ходите, а если и ходите, то по иранским коврам или по розам. Преподношу вам перевод книги одного древнего мудреца, который имел счастье быть досужим человеком и мог забавляться писанием истории Задига — произведения, в котором сказано больше, чем это кажется на первый взгляд. Прошу вас прочесть его и высказать свое суждение. Ибо, хотя вы едва достигли весны дней своих и хотя все удовольствия к вашим услугам, хотя вы прекрасны и ваши дарования добавляют блеска к вашей красоте, хотя вас прославляют с вечера до утра, хотя по всем этим причинам здравый смысл для вас отнюдь не обязателен — тем не менее вы обладаете ясным умом и тонким вкусом, и я сам слышал, как вы рассуждали куда разумнее, чем длиннобородые дервиши в остроконечных шапках. Вы сдержанны, но вам чужда недоверчивость, кротки, не будучи слабодушной, делаете добро, но с разбором, любите своих друзей и не создаете себе врагов. Ваше остроумие никогда не подкрепляется злоречием, вы не говорите и не делаете ничего дурного, хотя вам это было бы очень легко. Короче говоря, ваша душа мне всегда казалась такой же чистой, как и ваша красота. Вы даже не чужды философии, и это побуждает меня думать, что вам скорее, чем всякой другой женщине, понравится это произведение мудреца.
Оно было написано первоначально на древнехалдейском языке, которого ни вы, ни я не понимаем. Его перевели на арабский язык для забавы знаменитого султана Улуг-бека{476}. Это было в те времена, когда арабы и персы начали писать сказки вроде «Тысяча и одна ночь», «Тысяча и один день»{477} и прочие. Улугу больше нравился «Задиг», но султанши предпочитали разные «Тысячи и один». «Как вы можете восхищаться побасенками, в которых нет ничего, кроме глупостей и бессмыслиц?» — говорил им мудрый Улуг. «Именно за это мы их и любим», — отвечали султанши.
Льщу себя надеждою, что вы не уподобитесь им и что будете настоящим Улугом. Надеюсь даже, что, когда вы устанете от обычных бесед, похожих на всякие «Тысяча и один», только менее занимательных, мне можно будет улучить минуту, чтобы поговорить с вами серьезно. Если бы вы были Фалестридой{478} времен Скандера, сына Филиппа, или царицей Савской{479} времен Сулеймана, — эти владыки сами пришли бы поклониться вам.
Молю силы небесные, чтобы утехи ваши были нескончаемы, чтобы красота ваша никогда не увядала и счастье длилось вечно!
Саади
Кривой
Во времена царя Моабдара жил в Вавилоне молодой человек по имени Задиг; его природные наклонности, прекрасные сами по себе, были еще более развиты воспитанием. Несмотря на богатство и молодость, он умел смирять свои страсти, ни на что не притязал, не считал себя всегда правым и умел уважать человеческие слабости. Все удивлялись, видя, что при таком уме он никогда не насмехается над пустой, бессвязной и шумной болтовней, грубым злословием, невежественными приговорами, пошлым гаерством и тем пустозвонством, которое зовется в Вавилоне «беседою». Из первой книги Зороастра{480} он узнал, что самолюбие — это надутый воздухом шар и что, если его проколоть, из него вырываются бури. Никогда Задиг не бахвалился презрением к женщинам и легкими над ними победами. Он был великодушен и не боялся оказывать услуги неблагодарным, следуя великому правилу того же Зороастра: «Когда ты ешь, давай есть и собакам, даже если потом они тебя укусят». Он был мудр, насколько может быть мудрым человек, ибо старался бывать в обществе мудрецов. Постигнув науку древних халдеев{481}, он обладал познаниями в области физических законов природы в той мере, в какой вообще их тогда знали, и смыслил в метафизике ровно столько, сколько смыслили в ней во все времена, то есть очень мало. Вопреки тогдашней философии, он был твердо убежден, что в году триста шестьдесят пять дней с четвертью и что солнце — центр вселенной. Когда главные маги с оскорбительным высокомерием называли его человеком неблагонамеренным и утверждали, что только враг государства может верить, будто солнце вращается вокруг собственной оси, а в году двенадцать месяцев, Задиг молчал, не обнаруживая ни гнева, ни презрения.
Обладая большим богатством, а следовательно, и многими друзьями, наделенный здоровьем, приятной наружностью, здравым, светлым умом, благородством и прямодушием, Задиг рассчитывал, что будет счастлив в жизни. Он собирался жениться на Земире, которая благодаря своей красоте, происхождению и богатству считалась первой невестой во всем Вавилоне. Он был к ней глубоко и нежно привязан, а Земира горячо его любила. Приближался счастливый день, который должен был их соединить. Однажды, прогуливаясь у ворот Вавилона под пальмами, обрамлявшими берега Евфрата, они увидели, что к ним приближаются люди, вооруженные саблями и луками. То были телохранители молодого Оркана{482}, племянника одного из министров, которому льстецы его дяди внушили, что ему все дозволено. Не имея ни достоинств, ни добродетелей Задига, он считал, однако, что во всем превосходит его, и был вне себя из-за предпочтения, оказанного Земирой сопернику. И под влиянием ревности, порожденной одним лишь тщеславием, он вообразил, будто без памяти ее любит. Он решил ее похитить. Его сообщники схватили Земиру и, в суматохе ранив ее, пролили кровь девушки, один взгляд которой мог бы смягчить тигров горы Имаус{483}. Земира оглашала окрестность пронзительными воплями и восклицала:
— Дорогой мой супруг! Меня хотят разлучить с тобой!
Не думая о грозившей ей опасности, она тревожилась только о своем милом Задиге. А он тем временем защищал ее с отвагой, которую могут вдохнуть в человека лишь прирожденное мужество и любовь. С помощью двух своих рабов он обратил похитителей в бегство и отнес домой Земиру, окровавленную и потерявшую сознание. Придя в себя, она увидела своего избавителя и сказала ему:
— О Задиг! Я любила вас как будущего супруга, а теперь люблю как человека, которому обязана честью и жизнью.
Никогда еще не было сердца признательнее, чем сердце Земиры, никогда еще более очаровательные уста не выражали более трогательных чувств теми огненными словами, которые внушает признательность за величайшее из благодеяний и нежнейший порыв законной любви.
Рана была легкая, и Земира вскоре выздоровела. Задиг был ранен опаснее: стрела вонзилась ему около глаза и нанесла глубокую рану. Земира неустанно молила богов об исцелении возлюбленного. Ее глаза день и ночь проливали слезы; она ожидала минуты, когда Задиг снова сможет наслаждаться взорами ее очей. Но нарыв, образовавшийся на раненом глазу, возбуждал серьезные опасения. Послали даже в Мемфис{484} за великим врачом Гермесом{485}, который приехал с многочисленной свитой. Он осмотрел больного, объявил, что тот потеряет глаз, и предсказал даже день и час этого злополучного события.
— Будь это правый глаз, — сказал врач, — я бы его вылечил, но раны левого глаза неизлечимы.
Весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса. Два дня спустя нарыв прорвался сам собою, и Задиг совершенно выздоровел.
Гермес написал книгу, в которой доказывал, что Задиг не должен был выздороветь. Задиг не читал ее; как только он смог выходить из дому, он собрался посетить ту, с которой были связаны все его надежды на счастье. Только для нее желал он сохранить в целости свои глаза. Но Земира три дня назад уехала за город. Дорогой он узнал, что эта прекрасная дама, презрительно заявив, что чувствует непреодолимое отвращение к кривым, накануне вечером обвенчалась с Орканом. Услышав это, Задиг упал без чувств; отчаяние едва не свело его в могилу; он был долго болен, но наконец рассудок одержал верх над горем, и Задиг нашел утешение в самой жестокости испытанного им потрясения.
«Так как я узнал, — сказал он себе, — как безжалостна и ветрена может быть девушка, воспитанная при дворе, мне надо жениться на простой горожанке».
Он избрал Азору, самую умную девушку и из лучшей семьи в городе, женился на ней и прожил месяц, наслаждаясь всеми радостями нежнейшего брачного союза. Однако вскоре он заметил, что жена его несколько легкомысленна и что у нее непреодолимая склонность считать самыми умными и добродетельными тех молодых людей, чья внешность казалась ей особенно привлекательной.
Нос
{486}
Однажды Азора возвратилась с прогулки в сильном гневе, громко выражая свое негодование.
— Что с вами, моя милая супруга? — спросил Задиг. — Кто вас так рассердил?
— Вы были бы точно так же возмущены, — ответила она, — если бы увидели то, чему я сейчас была свидетельницей. Я навещала молодую вдову Козру, похоронившую два дня назад своего юного супруга на берегу ручья, омывающего луг. Безутешно скорбя, она дала обет богам не уходить оттуда, пока не иссякнут воды ручья.
— Что же, — сказал Задиг, — вот достойная уважения женщина, истинно любившая своего мужа!
— Ах, — возразила Азора, — знали бы вы, чем она занималась, когда я пришла к ней!
— Чем же, прекрасная Азора?
— Она отводила воды ручья.
Азора разразилась столь нескончаемыми упреками и так поносила молодую вдову, что эта чересчур многословная добродетель не понравилась Задигу.
У него был друг по имени Кадор, из числа молодых людей, которых жена Задига считала особенно добродетельными и достойными. Задиг сделал его своим поверенным, с помощью ценного подарка заручившись, насколько это возможно, его верностью.
Однажды, когда Азора, проведя два дня за городом у одной из своих подруг, возвратилась на третий день домой, слуги с плачем возвестили ей, что муж ее внезапно умер этой ночью, что ей не решились сообщить столь печальное известие и что его уже похоронили в семейной усыпальнице в самом конце сада. Азора рыдала, рвала на себе волосы и клялась, что не переживет его. Вечером Кадор попросил позволения зайти к ней, и они рыдали вдвоем. На другой день они рыдали уже меньше и вместе пообедали. Кадор сообщил ей, что друг его завещал ему большую часть своих богатств, и намекнул, что почтет за счастье разделить свое состояние с нею. Дама поплакала, посердилась, но наконец успокоилась; ужин длился дольше обеда, и разговаривали они откровеннее. Азора хвалила покойного, но призналась, что у него были недостатки, которых нет у Кадора.
За ужином Кадор стал жаловаться на сильную боль в селезенке. Встревоженная дама приказала принести благовония, которыми она умащалась, — она надеялась, что какое-нибудь из них утолит эту боль. Азора очень сожалела, что великого Гермеса уже нет в Вавилоне, и даже соблаговолила дотронуться до того места, где Кадор чувствовал такие сильные боли.
— Вы подвержены этой ужасной болезни? — спросила она с состраданием.
— Она иногда приводит меня к самому краю могилы, — отвечал ей Кадор. — Облегчить мои страдания можно только одним способом: приложить мне к больному боку нос человека, умершего накануне.
— Какое странное средство! — сказала Азора.
— Ну, уж не более странное, — отвечал он, — нежели мешочки господина Арну[17]{487} от апоплексии.
Этот довод, в соединении с чрезвычайными достоинствами молодого человека, заставил даму решиться.
«Ведь когда мой муж, — подумала она, — отправится из здешнего мира в иной по мосту Чинавар{488}, не задержит же его ангел Азраил на том основании, что нос Задига будет во второй жизни несколько короче, нежели в первой?»
Она взяла бритву, пошла к гробнице своего супруга, оросила ее слезами и наклонилась, собираясь отрезать нос Задигу, который лежал, вытянувшись во весь свой рост. Задиг встал, одной рукой закрывая нос, а другой отстраняя бритву.
— Сударыня, — сказал он ей, — не браните так усердно молодую Козру: намерение отрезать мне нос ничуть не лучше намерения отвести воды ручья.
Собака и лошадь
Задиг убедился, что, как сказано в книге Зенд{489}, первый месяц супружества — медовый, а второй — полынный. Он вынужден был через некоторое время развестись с женой, жизнь с которой стала для него невыносима, и начал искать счастья в изучении природы.
«Нет никого счастливее, — повторял он, — чем философ, читающий в той великой книге, которую бог развернул перед нашими глазами. Открываемые им истины составляют его достояние. Ими он питает и возвышает свою душу; его жизнь спокойна, ему нечего бояться людей, и нежная супруга не придет отрезать ему нос».
Под влиянием этих мыслей Задиг удалился в загородный дом на берегу Евфрата. Он не занимался там вычислением того, сколько дюймов воды проходит в одну секунду под арками моста{490}, или того, выпадает ли в месяц Мыши на одну кубическую линию дождя больше, чем в месяц Овна{491}. Он не помышлял о том, что можно изготовлять шелк из паутины{492} или фарфор из разбитых бутылок{493}, но занимался главным образом изучением свойств животных и растений и приобрел вскоре навык находить тысячу различий там, где другие видят лишь единообразие.
Однажды, когда Задиг прогуливался{494} по опушке рощицы, к нему подбежал евнух царицы, которого сопровождали еще несколько дворцовых служителей. Все они, видимо, находились в сильной тревоге и метались взад и вперед, словно искали потерянную ими драгоценную вещь.
— Молодой человек, — сказал ему первый евнух, — не видели ли вы кобеля царицы?
— То есть суку, а не кобеля, — скромно отвечал Задиг.
— Вы правы, — подтвердил первый евнух.
— Это маленькая болонка, — прибавил Задиг, — она недавно ощенилась, хромает на левую переднюю лапу, и у нее очень длинные уши.
— Значит, вы видели ее? — спросил запыхавшийся первый евнух.
— Нет, — отвечал Задиг, — я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака.
Как раз в это время, по обычному капризу судьбы, лучшая лошадь царских конюшен вырвалась из рук конюха на лугах Вавилона. Егермейстер и другие придворные гнались за ней с не меньшим волнением, чем первый евнух за собакой. Обратившись к Задигу, егермейстер спросил, не видел ли он царского коня.
— Это конь, — отвечал Задиг, — у которого превосходнейший галоп; он пяти футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост трех с половиной футов длины, бляхи на его удилах из золота в двадцать три карата, подковы из серебра в одиннадцать денье.
— Куда он поскакал? По какой дороге? — спросил егермейстер.
— Я его не видел, — отвечал Задиг, — и даже никогда не слыхал о нем.
Егермейстер и первый евнух, убежденные, что Задиг украл и лошадь царя, и собаку царицы, притащили его в собрание великого Дестерхама{495}, где присудили к наказанию кнутом и к пожизненной ссылке в Сибирь. Едва этот приговор был вынесен, как нашлись и собака и лошадь. Судьи были поставлены перед печальной необходимостью пересмотреть приговор; но они присудили Задига к уплате четырехсот унций золота за то, что он сказал, будто не видел того, что на самом деле видел.
Задигу пришлось сперва уплатить штраф, а потом ему уже позволили оправдаться перед советом великого Дестерхама. И он сказал следующее:
— Звезды правосудия, бездны познания, зерцала истины, вы, имеющие тяжесть свинца, твердость железа, блеск алмаза и большое сходство с золотом! Так как мне дозволено говорить перед этим высочайшим собранием, я клянусь вам Оромаздом{496}, что никогда не видел ни почтенной собаки царицы, ни священного коня царя царей. Вот что со мной случилось. Я прогуливался по опушке той рощицы, где встретил потом достопочтенного евнуха и прославленного егермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что их оставила маленькая собачка. По едва приметным длинным бороздкам на песке между следами лап я определил, что это сука, у которой соски свисают до земли, из чего следует, что она недавно ощенилась. Следы, бороздившие песок по бокам от передних лап, говорили о том, что у нее очень длинные уши, а так как я заметил, что след одной лапы везде менее глубок, чем следы остальных трех, то догадался, что собака нашей августейшей государыни немного хромает, если я смею так выразиться.
Что же касается коня царя царей, то знайте, что, прогуливаясь по дорогам этой рощи, я заметил следы лошадиных подков, которые все были на равном расстоянии друг от друга. Вот, подумал я, лошадь, у которой превосходный галоп. Пыль с деревьев вдоль узкой дороги, шириною не более семи футов, была немного сбита справа и слева, в трех с половиной футах от середины дороги. У этой лошади, подумал я, хвост трех с половиною футов длиной: в своем движении направо и налево он смел эту пыль. Я увидел под деревьями, образующими свод в пять футов высоты, листья, только что опавшие с ветвей, из чего я заключил, что лошадь касалась их и, следовательно, была пяти футов ростом. Я исследовал камень кремневой породы, о который она потерлась удилами, и на этом основании определил, что бляхи на удилах были из золота в двадцать три карата достоинством. Наконец, по отпечаткам подков, оставленным на камнях другой породы, я пришел к заключению, что ее подковы из серебра достоинством в одиннадцать денье.
Все судьи восхитились глубиной и точностью суждений Задига, и слух о нем дошел до царя и царицы. В передних дворца, в опочивальне, в приемной только и говорили что о Задиге, и хотя некоторые маги высказывали мнение, что он должен быть сожжен как колдун, царь приказал, однако, возвратить ему штраф в четыреста унций, к которому он был присужден. Актуариус, экзекутор и прокуроры пришли к нему в полном параде и вернули ему четыреста унций, удержав из них только триста девяносто восемь унций судебных издержек; кроме того, их слуги потребовали еще на чай.
Задиг понял, что быть слишком наблюдательным порою весьма опасно, и твердо решил при первом же случае промолчать о виденном.
Такой случай скоро представился. Бежал государственный преступник. Задиг заметил его из окон своего дома, но на допросе не сказал об этом. Однако его уличили в том, что он смотрел в ту минуту в окно. За это преступление он был присужден к уплате пятисот унций золота. По вавилонскому обычаю, Задиг поблагодарил судей за снисходительность. «Великий боже! — подумал он. — Сколько приходится терпеть за прогулку в роще, по которой пробежали собака царицы и лошадь царя! Как опасно подходить к окну и как трудно дается в этой жизни счастье!»
Завистник
Утешения в посланных ему судьбой несчастьях Задиг искал в философии и дружбе. В одном из предместий Вавилона у него был со вкусом обставленный дом, где он собирал произведения всех искусств и предавался развлечениям, достойным порядочного человека. Утром его библиотека была открыта для всех ученых, а вечером у него обедало избранное общество. Но вскоре он узнал, как опасны бывают ученые. Однажды поднялся великий спор о законе Зороастра, запрещавшем есть грифов{497}. «Как можно есть грифов, — говорили одни, — когда такого животного не существует?» — «Они должны существовать, — говорили другие, — ибо Зороастр запрещает их есть». Задиг попытался примирить их, сказав:
— Если грифы существуют, мы не станем их есть; если же их нет, тем более мы их есть не будем. Таким образом мы в точности исполним завет Зороастра.
Один ученый, написавший о свойствах грифов тринадцать томов, и к тому же великий теург{498}, поспешил очернить Задига в глазах архимага по имени Иебор{499}, глупейшего из халдеев и, следовательно, самого фанатичного из них. Этот человек охотно посадил бы Задига на кол во славу солнца и потом с самым удовлетворенным видом стал бы читать требник Зороастра. Друг Задига Кадор (один друг лучше ста священников) пошел к старому Иебору и сказал ему:
— Да здравствует солнце и грифы! Берегитесь наказывать Задига: он святой и держит в своем птичнике грифов, но никогда их не ест, а его обвинил еретик, осмеливающийся утверждать, что кролики не принадлежат к нечистым животным{500}, несмотря на то, что у них раздельнопалые лапы.
— Хорошо, — сказал Иебор, покачивая лысой головой, — Задига надо посадить на кол за то, что он дурно думал о грифах, а того — за то, что он дурно говорил о кроликах.
Кадор, однако, замял дело через посредство одной фрейлины, которую он осчастливил ребенком и которая пользовалась большим вниманием магов. Никто не был посажен на кол, по поводу чего многие ученые роптали, предрекая гибель Вавилона. Задиг воскликнул:
— Как хрупко человеческое счастье! Меня преследует в этом мире все — даже то, что не существует. — Он проклял ученых и решил иметь дело исключительно со светскими людьми.
Он собирал у себя самых благовоспитанных мужчин и самых приятных дам, давал изысканные ужины, нередко предваряемые концертами и живой беседой, из которой он умел изгонять потуги на остроумие, ибо они-то и убивают остроумие и вносят принужденность в самое блестящее общество. Ни в выборе друзей, ни в выборе блюд он не руководствовался тщеславием, ибо хотел не казаться, а быть{501}, и этим приобрел истинное уважение, которого не думал домогаться.
Против его дома жил некто Аримаз, человек, чья грубая физиономия носила отпечаток злой души.
Желчный и напыщенный, он был к тому же тупоумнейшим из остроумцев. Не добившись успеха в большом свете, он мстил ему клеветою{502}. Несмотря на богатство, ему трудно было собрать вокруг себя льстецов. Аримазу досаждал гул голосов, когда по вечерам гости съезжались к Задигу, но еще более досаждал гул похвал, возносимых последнему. Он иногда приходил к Задигу, садился за стол без приглашения и портил веселье собравшихся, подобно гарпиям, заражающим, как говорят, мясо, до которого они дотрагиваются. Однажды он пожелал устроить празднество в честь одной дамы, но та, не приняв приглашения, поехала ужинать к Задигу. В другой раз, беседуя друг с другом во дворце, они встретили министра, который пригласил на ужин Задига, не пригласив Аримаза. Самая непримиримая ненависть часто вызывается не более значительными причинами. Этот человек, которого в Вавилоне называли «Завистником», вознамерился погубить Задига только потому, что того прозвали «Счастливцем».
Случай делать зло представляется сто раз на дню, а случай делать добро — лишь единожды в год, как говорит Зороастр. Завистник пришел к Задигу, прогуливавшемуся в своих садах с двумя друзьями и дамой, которой он говорил комплименты без всякой особенной цели. Разговор шел о счастливом окончании войны, которую царь недавно вел со своим вассалом, князем Гирканским{503}. Задиг, отличившийся храбростью в этой короткой войне, превозносил царя и еще более даму. Он взял свои записные дощечки, написал экспромтом четверостишие и дал его прочитать этой прекрасной особе. Его друзья также просили позволения прочесть, но Задиг по скромности или скорее по разумному самолюбию отказал им в этом, ибо знал, что стихи, написанные экспромтом, хороши лишь для той, кому они посвящены.
Он разломал на две части дощечку, на которой написаны были стихи, и бросил обе половинки в розовый куст, где друзья тщетно искали их. Пошел дождик, и общество возвратилось в дом. Завистник, оставшись в саду, долго искал и наконец нашел часть дощечки, надломленной таким образом, что половина каждой строчки стихов имела определенный смысл и сама составляла стих более короткого размера; но что было еще более странно — в этих коротеньких стишках заключались самые страшные оскорбления особы царя. Вот они:
Исчадье ада злое, На троне наш властитель, И мира и покоя Единственный губитель.Завистник впервые в жизни почувствовал себя счастливым: в его руках было средство погубить добродетельного и любезного человека. Полный злобной радости, он отправил царю эту сатиру, написанную рукой Задига; последнего вместе с его друзьями посадили в тюрьму. Дело немедленно рассмотрели в суде, причем даже не стали слушать оправданий Задига. Когда последнего вели, чтобы объявить ему приговор, стоявший на его пути Аримаз громко сказал, что стихи его никуда не годны. Задиг не считал себя хорошим поэтом, но он был в отчаянии, что его осудили как виновного в оскорблении величества и что из-за этого не совершенного им преступления посадили в тюрьму двух его друзей и прекрасную даму. Ему не позволили защищаться, потому что против него говорила записная дощечка. Таков был закон в Вавилоне. Задига вели на казнь мимо толпы зевак, из которых ни один не посмел посочувствовать ему; все теснились, стараясь разглядеть его лицо и посмотреть, достаточно ли красиво он умрет. Только родственники Задига были огорчены, потому что его имущество переходило не к ним: три четверти состояния было конфисковано в пользу царя, а последняя четверть — в пользу Аримаза.
В то время, как Задиг готовился к смерти, попугай царя улетел с дворцового балкона и опустился в саду Задига на розовый куст. Под этим кустом лежала вторая половина записной дощечки, к которой прилепился персик, снесенный ветром с соседнего дерева. Птица схватила персик вместе с дощечкою и принесла их на колени монарха. Государь с любопытством прочел на дощечке слова, которые сами по себе не имели никакого смысла, но были, по-видимому, окончаниями каких-то стихов. Он любил поэзию, а от монархов, любящих стихи, можно многого ждать{504}: находка попугая заставила царя призадуматься. Царица, вспомнив о том, что было написано на обломке дощечки Задига, приказала ее принести. Когда сложили обе части, они совершенно пришлись одна к другой, и все прочли стихи Задига в том виде, в каком они были написаны:
Исчадье ада злое, крамола присмирела. На троне наш властитель восстановил закон. И мира и покоя пора теперь приспела. Единственный губитель остался — Купидон.Царь приказал тотчас же привести к себе Задига и освободить из тюрьмы двух его друзей и прекрасную даму. Задиг упал к ногам царя и царицы и покорнейше попросил у них прощения за столь дурные стихи. Он говорил так изящно, умно и здраво, что царь с царицей пожелали увидеть его снова. Он пришел еще раз и понравился еще больше. Ему отдали имущество несправедливо обвинившего его. Завистника, но он все возвратил владельцу; Завистник обрадовался лишь тому, что не потерял своего состояния. Благоволение царя к Задигу росло день ото дня. Он приобщал его ко всем своим развлечениям и советовался с ним обо всех своих делах. Расположение к нему царицы возрастало так, что могло даже сделаться опасным для нее, для царя, ее августейшего супруга, для Задига и для государства. Задиг начинал верить, что не так уж трудно быть счастливым.
Великодушные
Приближался день великого праздника, который справлялся каждые пять лет. В Вавилоне был обычай в конце каждого пятилетия торжественно провозглашать имя гражданина, совершившего самый великодушный поступок. Судьями при этом были вельможи и маги. Первый сатрап, он же вавилонский градоначальник, докладывал о самых благородных поступках, совершенных за время его пребывания у власти. Собирали голоса, после чего царь выносил решение. На это торжество стекались со всех концов земли. Победитель получал из рук монарха золотую чашу, украшенную драгоценными камнями, и царь говорил ему: «Примите это в награду за ваше великодушие, и да даруют мне боги побольше подданных, подобных вам!»
Достопамятный день наступил. Царь занял место на троне, окруженный вельможами, магами и представителями всех племен, сошедшимися на эти игры, на которых слава приобреталась не быстрым бегом лошадей, не крепкими мышцами, а добродетелью. Первый сатрап перечислил громким голосом поступки, которые могли доставить людям, совершившим их, бесценную награду. Он не упомянул при этом о величии души, которое побудило Задига возвратить Завистнику его состояние: то не был поступок, достойный высокой награды.
Он прежде всего указал на одного судью. Этот судья, видя, что из-за его ошибки, в которой он даже не был виновен, некий вавилонянин проиграл важный процесс, отдал ему все свое имущество, равное по ценности потерянному.
Потом первый сатрап представил молодого человека, который был без памяти влюблен в девушку и собирался на ней жениться. Но он уступил ее своему другу, умиравшему от любви к ней, и вдобавок дал ей приданое.
Наконец, он назвал воина, который во время Гирканской войны проявил еще большее великодушие. Он защищал свою возлюбленную от нескольких неприятельских солдат, пытавшихся ее похитить. Вдруг ему сообщили, что в нескольких шагах от него другие гирканцы уводят с собой его мать; он со слезами оставил возлюбленную и бросился спасать мать. Возвратившись затем к той, которую любил, он застал ее уже умирающей. Воин хотел покончить с собой, но мать напомнила ему, что он — ее единственная опора, и у него хватило мужества примириться с необходимостью жить.
Судьи склонялись в пользу воина. Царь взял слово и сказал:
— И он, и двое других поступили прекрасно, но их поступки не удивляют меня. А вот вчера Задиг совершил нечто поистине удивительное. Я разжаловал несколько дней назад моего министра{505} и фаворита Кареба. Я с негодованием говорил о нем, и все придворные уверяли меня, что я еще слишком кроток, все наперебой старались очернить Кареба. Я спросил Задига, что он думает о бывшем министре, и он осмелился хорошо о нем отозваться. Я встречал в нашей истории примеры, когда люди имуществом платили за свои ошибки, уступали невест и предпочитали матерей возлюбленным, но, признаюсь, никогда не приходилось мне слышать, чтобы придворный одобрительно отозвался о разжалованном министре, на которого разгневался его государь. Я дарю двадцать тысяч золотых каждому из тех, о чьих великодушных поступках здесь было доложено, но чашу отдаю Задигу.
— Ваше величество, — сказал Задиг царю, — вы один заслуживаете чаши, ибо совершили самый неслыханный поступок: будучи царем, не рассердились на своего раба, когда он осмелился противоречить вам в минуту вашего раздражения.
Все восторгались царем и Задигом. Судья, отдавший свое имущество, влюбленный, уступивший невесту другому, воин, спасший мать, а не невесту, получили подарки монарха, и имена их были записаны в книгу великодушных, но чаша досталась Задигу. Царь приобрел славу доброго государя, которой он, однако, пользовался недолго. День этот был ознаменован празднествами, продолжавшимися дольше, чем предписывалось законом. Память об этом дне еще сохраняется в Азии. Задиг говорил: «Я наконец счастлив!» Но он ошибался.
Министр
Царь, лишившись своего первого министра, назначил на его место Задига. Все вавилонские красавицы одобрили этот выбор, потому что с самого основания государства не бывало еще такого молодого министра. Все придворные злились; Завистник стал даже харкать кровью, и нос у него чудовищно распух. Задиг, поблагодарив царя и царицу, пошел также поблагодарить и попугая.
— Прекрасная птица, — сказал он, — ты спасла мне жизнь и сделала меня первым министром; собака и лошадь их величеств причинили мне много зла, а ты сделала добро. Вот от чего иногда зависят судьбы людей! Но, — прибавил он, — такое необыкновенное счастье, быть может, недолговечно.
Попугай ответил: «Да». Это слово поразило Задига, но, будучи хорошим натуралистом и не веря в пророческие способности попугаев, он вскоре успокоился и начал самым усердным образом заниматься своими обязанностями министра.
Он дал почувствовать всю священную власть законов, не выставляя на вид важности своего сана. Он не стеснял членов Дивана, и каждый визирь мог высказывать свое мнение, не навлекая на себя его немилости. Когда ему приходилось решать какое-нибудь дело, судьей был закон, а не его личная воля. Когда закон был слишком строг, он смягчал его, а если соответствующего закона вообще не было, он сам создавал новые законы, не менее справедливые, чем Зороастровы.
Это от него унаследовали народы великое правило, что лучше рискнуть и оправдать виновного, нежели осудить невинного. Он считал, что законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. Его отличительная способность состояла в том, что он легко раскрывал истину, тогда как обычно люди стараются ее затемнить.
С первых же дней своего управления он стал применять эту способность. В Индии умер известный вавилонский купец; состояние свое он разделил поровну между двумя сыновьями, предварительно выдав замуж дочь. Кроме того, он назначил тридцать тысяч золотых тому из сыновей, о ком станет известно, что он больше другого любит отца. Старший сын поставил ему памятник, а младший частью своего наследства увеличил приданое сестры. Все говорили: «Старший больше любит отца, а младший — сестру, старшему и должны достаться тридцать тысяч».
Задиг призвал обоих сыновей, одного за другим. Он сказал старшему:
— Ваш отец вовсе не умер, он выздоровел и возвращается в Вавилон.
— Слава богу, — ответил молодой человек, — только напрасно я так потратился на памятник.
Задиг сказал то же самое младшему.
— Слава богу, — отвечал тот, — я отдам моему отцу все, что получил в наследство, но желал бы, чтобы он не отбирал у сестры того, что я ей выделил.
— Вы не отдадите ничего, — сказал Задиг, — а получите еще тридцать тысяч золотых, вы больше любите своего отца, чем ваш брат{506}.
Одна очень богатая девица{507} одновременно дала согласие выйти замуж за двух магов и после нескольких месяцев их поучений забеременела. И тот и другой хотели на ней жениться.
— Моим мужем станет тот из вас, — сказала она, — кто дал мне возможность подарить государству гражданина.
— Я совершил это благое дело, — сказал один.
— Эта заслуга принадлежит мне, — возразил другой.
— Хорошо, — сказала она, — я признаю отцом моего ребенка того из вас, кто сможет ему дать лучшее воспитание.
Она родила сына. Каждый из магов хотел его воспитывать. Дело дошло до Задига. Он призвал обоих магов.
— Чему ты будешь учить своего воспитанника? — спросил он у первого.
— Я научу его, — отвечал ученый, — восьми частям речи, диалектике, астрологии, демономании, я разъясню ему, что такое субстанция и акциденция{508}, абстрактное и конкретное, монады и предустановленная гармония{509}.
— Я, — сказал второй, — постараюсь сделать его справедливым, и достойным дружбы.
Задиг произнес:
— Отец ты ему или нет, но ты женишься на его матери{510}{511}.
Диспуты и аудиенции
Так Задиг ежедневно выказывал тонкий ум и добрую душу. Им восторгались и тем не менее его любили. Его считали счастливейшим из людей. Имя его гремело по всему государству, все женщины на него заглядывались, все мужчины восхваляли его справедливость, ученые считали Задига своим оракулом, и даже жрецы признавали, что он знает больше архимага Иебора. Никому не приходило в голову спорить теперь с ним о грифах. Верили только тому, что он считал достойным веры.
Полторы тысячи лет длился в Вавилоне великий спор, разделивший всех граждан на две непримиримые секты. Члены одной утверждали, что в храм Митры{512} должно вступать непременно с левой ноги, а члены другой считали этот обычай гнусным и входили туда только с правой ноги. Все ждали торжественного праздника священного огня, дабы узнать наконец, какой секте покровительствует Задиг. Взоры граждан были прикованы к его ногам, люди замерли от волнения и тревоги. Сжав пятки, Задиг не вошел, а прыгнул в храм, после чего красноречиво доказал собравшимся, что бог неба и земли чужд пристрастия и равно относится и к правой ноге и к левой. Завистник и его жена утверждали, что речь Задига была бедна образами и что он не заставил пуститься в пляс горы и холмы{513}.
— Он слишком сух и лишен воображения, — говорили они. — У него и море не отступает от берегов{514}, и звезды не падают{515}, и солнце не тает, как воск{516}. Ему недостает хорошего восточного слога.
Задиг довольствовался тем, что обладал разумным слогом. Все были на его стороне, но не потому, что он был прав, не потому, что был разумен, не потому, что был любезен, а лишь потому, что он был первым визирем.
Так же удачно закончил он великую распрю между белыми и черными магами. Белые утверждали, что нечестиво, молясь богу, обращаться на северо-восток; черные уверяли, что бог гнушается молитвами людей, обращающихся к юго-западу. Задиг приказал обращаться в ту сторону, в какую каждый хочет.
Он нашел способ управляться со всеми частными и государственными делами утром, а дневное время посвящал заботам об украшении Вавилона. Он распорядился представлять в театрах трагедии, которые заставляют плакать, и комедии, которые вызывают смех; такие пиесы давно уже вышли из моды{517}, но он эту моду возродил, так как был человеком со вкусом. Он не был убежден в том, что понимает в театральном искусстве больше, нежели актеры, осыпал их дарами и отличиями и не завидовал втайне их талантам. По вечерам Задиг очень развлекал царя и особенно царицу. Царь говорил: «Превосходный министр!» Царица говорила: «Пленительный министр!» И оба добавляли: «Как было бы жаль, если бы его тогда повесили!»
Еще ни одному сановнику в мире не приходилось давать столько аудиенций дамам, как ему. Большинство приходило по делам, которых у них не было, только для того, чтобы иметь дело с ним. Жена Завистника явилась одной из первых; она поклялась Митрой, Зендавестою{518} и священным огнем, что поведение ее мужа было ей омерзительно; затем она призналась Задигу, что муж ее ревнив и груб, и намекнула, что боги покарали его, отказав в том проявлении священного огня, которое одно только и уподобляет человека небожителям. В заключение она уронила свою подвязку. Задиг поднял ее с обычной своей учтивостью, но не завязал над коленом дамы. И его оплошность (если только это была оплошность) явилась причиной ужасных бедствий. Задиг забыл и думать об этом случае, но жена Завистника о нем не забыла.
Дамы являлись к нему ежедневно. В секретных анналах Вавилона есть сведения, что один раз он все же не выдержал характера, но при этом с крайним изумлением заметил, что в объятиях женщины не испытал наслаждения и целовал свою любовницу весьма рассеянно. Женщина, которой он подарил, сам того почти не заметив, знаки своего расположения, была одна из придворных дам царицы. Эта нежная вавилонянка говорила себе в утешение: «Должно быть, у этого человека ужасно много дел в голове, если он думает о них даже тогда, когда предается любви». В одно из тех мгновений, когда одни не говорят ни слова, а другие произносят только слова, для них священные, Задиг вдруг воскликнул: «Царица!» Вавилонянка подумала, что наконец-то он вернулся на землю и в увлечении сказал ей: «Моя царица!» Но Задиг, все еще в рассеянии, произнес имя Астарты. Дама, которая в этих счастливых обстоятельствах толковала все к выгоде для себя, вообразила, будто он хотел сказать: «Вы прекраснее царицы Астарты». Она вышла из сераля Задига с великолепными подарками и немедленно рассказала о случившемся Завистнице, ближайшей своей подруге. Последняя была жестоко оскорблена этим предпочтением.
— А мне он даже не пожелал завязать вот эту подвязку, и я не хочу ее больше носить.
— О, у вас такие же подвязки, как у царицы, — сказала Завистнице ее счастливая соперница. — Должно быть, вы заказываете их одной и той же мастерице?
Завистница так глубоко задумалась, что ничего не ответила, а затем пошла советоваться к своему мужу Завистнику.
Между тем Задиг стал замечать, что он постоянно рассеян — и в суде, и на аудиенциях. Он не понимал, в чем дело, и это было единственное, что омрачало его жизнь.
Однажды ему привиделся сон. Сперва ему приснилось, что он лежит на сухой траве и его беспокоят колючки, а потом — что он сладко отдыхает на ложе из роз. И вдруг из этих роз выползает змея, которая вонзает ему в сердце острое и ядовитое жало. «Увы! — подумал он, — я долго лежал на сухой и колючей траве, теперь я на ложе из роз, но кто же будет змеей?»
Ревность
Несчастье Задига было порождено самим его счастьем и еще более — его достоинствами. Каждый день он беседовал с царем и Астартой, его августейшей супругой. Желание нравиться, которое для ума все равно, что наряд для красоты, придавало особый блеск его остроумию. Задиг был молод, привлекателен — и Астарта, сама того не подозревая, поддалась его чарам.
Страсть ее возрастала в лоне невинности. Астарта без колебаний и боязни предавалась удовольствию видеть и слышать человека, любимого ее мужем и всем государством. Она не переставала восхвалять Задига в присутствии царя, говорила о нем с придворными дамами, превозносившими его до небес. Все это укрепляло в ее сердце чувство, которого она еще не сознавала.
Она делала Задигу подарки и вкладывала в них больше нежности, чем сама предполагала. Ей казалось, что она говорит с ним, как царица, довольная своим подданным, но порою слова ее звучали, как слова влюбленной женщины.
Астарта была гораздо красивее Земиры, так ненавидевшей кривых, и той женщины, которая собиралась отрезать нос своему супругу. Дружеское обращение Астарты, ее нежные речи, от которых она сама невольно краснела, ее взоры, против воли устремлявшиеся на Задига, зажгли в нем пламя, удивлявшее его самого. Он старался превозмочь свое чувство, призывал на помощь философию, так часто ему помогавшую, но на этот раз она лишь открыла ему глаза на его положение, а помочь не смогла. Сознание долга, чувство признательности, мысль об оскорблении величия государя представали перед ним словно боги-мстители. Он боролся с собой и побеждал, но эта победа, которую нужно было одерживать беспрестанно, стоила ему многих стенаний и слез. Он уже не смел беседовать с царицей с той приятной непринужденностью, в которой было так много прелести для них обоих. Взоры его туманились, речь была затруднена и бессвязна, глаза устремлены в землю; когда же он невольно поднимал их на Астарту, то встречал ее глаза, чудно блестевшие сквозь слезы. Оба влюбленных, казалось, говорили: «Мы обожаем друг друга, но боимся любить. Мы оба пылаем огнем, который считаем преступным».
Задиг выходил от нее смущенный, растерянный, с невыносимой тяжестью на сердце. Наконец, будучи не в силах долее терпеть душевную муку, он доверил свою тайну Кадору, как человек, долго и терпеливо переносивший жестокие страдания, вдруг выдает себя и криком, вырванным у него приступом особенно острой боли, и холодным потом, выступившим на лбу.
Кадор сказал ему:
— Я уже разгадал чувство, которое вы скрывали даже от самого себя, — есть признаки, по которым нельзя не узнать страсти. Но, мой дорогой Задиг, если в вашем сердце смог читать я, то рано или поздно царь тоже обнаружит в нем столь оскорбительное для него чувство. Единственный его недостаток состоит в том, что он ревнивейший из людей. Вы сопротивляетесь страсти с большей твердостью, чем царица, потому что вы философ и потому что вы Задиг. Астарта — женщина. Не сознавая своей вины, она не думает об осторожности, и взоры ее говорят слишком много. К несчастью, уверенность в своей безгрешности заставляет ее пренебрегать требованиями этикета. Я буду дрожать за нее до тех пор, пока ей не в чем будет себя упрекать. А вот если бы вы сблизились с нею, вы сумели бы отвести глаза всем: страсть зарождающаяся и подавляемая прорывается в каждом жесте, тогда как удовлетворенную любовь не составляет труда утаить.
Предложение изменить царю, своему благодетелю, привело Задига в ужас; никогда он не был так верен государю, как в то время, когда сознавал себя виновным в невольном преступлении. Между тем царица так часто произносила имя Задига, лицо ее при этом так заливалось румянцем, она до такой степени одушевлялась или робела, когда говорила с ним в присутствии царя, и впадала в столь глубокую задумчивость, когда он уходил, что царь стал наконец беспокоиться. Он верил всему, что видел, и дополнял воображением то, чего не видел. В особенности его поразило то, что у царицы были голубые туфли и у Задига тоже, что у царицы были желтые ленты, а у Задига — желтая шапка: неопровержимые улики, с точки зрения щепетильного монарха. В его раздраженном уме подозрения превратились в достоверность.
Все рабы царей и цариц шпионят за их сердцами. Придворные быстро обнаружили, что Астарта влюблена, а Моабдар ревнует. Завистница по наущению Завистника послала царю свою подвязку, похожую на подвязку царицы. К довершению несчастья эта подвязка была голубая. С этого мгновения повелитель стал думать только о том, как отомстить за себя. Он решил ночью отравить царицу, а на рассвете — удавить Задига. Сделать это должен был безжалостный евнух, исполнитель мстительных замыслов монарха. В это время в комнате находился немой, но не лишенный слуха карлик. Его всюду допускали, он, как домашнее животное, бывал свидетелем самого тайного, что происходило во дворце. Карлик был очень привязан к царице и к Задигу и с удивлением и ужасом услышал приказ об убийстве. Но как предупредить о страшном приговоре, который должен быть приведен в исполнение через несколько часов? Писать карлик не умел, зато он научился рисовать, и у рисунков его было большое сходство с изображаемыми предметами. Он провел часть ночи, малюя то, о чем хотел сообщить царице. В одном углу его рисунка был изображен разгневанный царь, отдающий приказание евнуху; затем — стол и на нем ваза, голубой шнурок, голубые подвязки и желтые ленты; в центре картины — царица, умирающая на руках своих дам, а у ног ее удушенный Задиг. На горизонте видно было восходящее солнце — этим карлик хотел сказать, что ужасная казнь совершится на рассвете. Положив последние штрихи, карлик побежал к одной из дам Астарты, разбудил ее и дал ей понять, что рисунок надо тотчас же отнести к царице.
В полночь стучат в дверь к Задигу, будят его и отдают записку царицы; он думает, не сон ли это, и дрожащей рукой развертывает письмо. Как изобразить его удивление, замешательство и отчаяние, когда он прочел следующие слова:
«Бегите немедля, или вас лишат жизни! Бегите, Задиг, я вам приказываю это во имя нашей любви и моих желтых лент. Я ни в чем не виновна, но чувствую, что умру как преступница».
Задиг едва был в силах говорить. Он послал за Кадором и молча передал ему записку.
Кадор убедил его повиноваться и немедленно отправиться в Мемфис.
— Если вы решитесь пойти к царице, то ускорите ее смерть, если попытаетесь объясниться с царем, вы также погубите ее. Я позабочусь о ней, а вы позаботьтесь о себе. Я распущу слух, что вы отправились в Индию. В скором времени я разыщу вас и расскажу, как обстоят дела в Вавилоне.
В ту же минуту Кадор велел привести к потайным дверям дворца двух самых быстроногих дромадеров; он посадил на одного из них Задига, которого пришлось вынести на руках, так как он был почти без чувств. Сопровождал Задига один-единственный слуга, и вскоре Кадор, полный недоумения и скорби, потерял друга из виду.
Именитый беглец, поднявшись на вершину холма, откуда виден был Вавилон, обратил взоры на дворец царицы и тут же потерял сознание; очнувшись, он долго заливался слезами и призывал к себе смерть. Наконец, горько оплакав судьбу самой очаровательной женщины и самой великой царицы, он на мгновение вернулся к мыслям о собственной судьбе и воскликнул:
— Вот она, жизнь человеческая! О добродетель! Чем ты помогла мне? Две женщины недостойно обманули меня; третья, невинная и прекраснейшая из всех, должна умереть! Все, что я делал хорошего, неизменно становилось для меня источником несчастий, и на высоту величия я был возведен лишь для того, чтобы низвергнуться в ужаснейшую пучину бедствий. Если бы я был столь жестокосерден, как многие, я был бы счастлив, как они.
Задиг продолжал свое путешествие в Египет, погруженный в эти мрачные размышления; глаза его были отуманены печалью, лицо мертвенно-бледно, душа исполнена отчаяния.
Избитая женщина
Задиг направлял свой путь по звездам. Созвездие Ориона и блистающее светило Сириус вели его прямо к звезде Канон. Он любовался этими громадными светящимися шарами, которые представляются нашим глазам маленькими искорками, между тем как земля, незаметная пылинка, затерянная во вселенной, кажется нам, алчным людям, необъятной и величественной. Задиг видел в ту минуту человеческие существа такими, каковы они на самом деле, то есть насекомыми, поедающими друг друга на маленьком комке грязи. Этот верный образ обратил в ничто все его несчастья, напомнив ему и о его собственном ничтожестве, и о ничтожестве Вавилона. Душа Задига, как бы отторгнутая от тела, витала в бесконечности и созерцала неизменный порядок вселенной. Но затем, спустившись на землю и снова почувствовав биение своего сердца, он вспомнил, что Астарта, быть может, погибла из-за него, и снова вселенной как не бывало, и во всей природе для него остались только умирающая Астарта и несчастный Задиг.
Отданный во власть этим приливам и отливам возвышенной философии и гнетущей печали, он приблизился к границам Египта; его верный слуга поехал вперед на поиски жилища в первом же египетском селении, а Задиг между тем прогуливался в окрестных садах. Невдалеке от большой дороги Задиг увидел разъяренного мужчину, преследующего какую-то женщину, которая с воплями призывала на помощь небеса и землю. Настигнутая наконец своим преследователем, она стала обнимать его колени, но тот принялся ее бить, не переставая осыпать упреками. По ее мольбам о прощении и по его ожесточению Задиг понял, что то были ревнивый любовник и неверная любовница; увидев, как пленительно красива женщина, и даже заметив в ней некоторое сходство с несчастной Астартой, он преисполнился сострадания и вознегодовал на египтянина.
— Помогите мне! — рыдая, взывала она к Задигу. — Вырвите меня из рук этого ужасного варвара, спасите мне жизнь!
Вняв ее молениям, Задиг бросился между ней и истязателем. Зная несколько египетский язык, он сказал тому:
— Если в вас есть хоть капля человеколюбия, заклинаю вас, пощадите красоту и слабость. Как можете вы так безжалостно обходиться с этим прекрасным созданием, которое лежит у ваших ног и способно защищаться только слезами?
— Ах, так! — воскликнул взбешенный египтянин. — Значит, ты тоже любишь ее, и это тебе я должен мстить! — Он тут же выпустил женщину, которую держал одной рукой за волосы, и, схватив копье, собрался пронзить им чужеземца. С полным хладнокровием Задиг ловко уклонился от неистового удара и перехватил копье возле железного наконечника. Египтянин тянул копье к себе, Задиг — к себе, пока оно не сломалось. Тогда египтянин обнажил меч; Задиг последовал его примеру. Они напали друг на друга. Один наносил стремительные удары, другой искусно их отражал. Женщина, сидя на лугу, поправляла прическу и следила за схваткой. Египтянин превосходил противника силой, Задиг — ловкостью. Последний сражался как человек, у которого голова управляет рукой, первый же, ослепленный гневом, сыпал удары как попало. Наконец Задиг берет верх, обезоруживает египтянина и, в то время как тот в ярости хочет броситься на него, схватывает противника, заламывает ему руки и повергает на землю, приставив меч к его груди. Победитель обещает побежденному жизнь, но египтянин, вне себя, выхватывает кинжал и ранит Задига в ту самую минуту, когда тот дарует ему пощаду. Задиг в негодовании вонзает меч в его грудь. Египтянин испускает ужасный крик и умирает в судорогах.
Задиг подходит тогда к женщине и смиренно говорит ей:
— Он сам вынудил меня убить его. Вы отомщены, я освободил вас от самого жестокого человека, какого мне довелось встретить. Что вам теперь угодно от меня, сударыня?
— Чтоб ты умер, разбойник, — отвечала она ему, — чтоб ты умер! Ты убил моего возлюбленного! Так бы и вырвала твое сердце!
— Ну, в таком случае, сударыня, у вас был странный возлюбленный, — возразил Задиг. — Он безжалостно колотил вас и хотел убить меня только за то, что вы обратились ко мне за помощью.
— Пускай бы продолжал колотить, я заслужила это, я была ему неверна, — завопила женщина. — Будь небо ко мне милосердно, он все еще бил бы меня, а ты лежал бы на его месте.
Задиг, удивленный и рассерженный, как никогда в жизни, сказал:
— Сударыня, хотя вы и прекрасны, но заслуживаете, чтобы и я, в свою очередь, прибил вас за ваше сумасбродство; но я не желаю утруждать себя. — С этими словами он сел на верблюда и направился в селение. Не успел Задиг отъехать на несколько шагов, как услышал шум и, обернувшись, увидел четырех гонцов из Вавилона. Они неслись во весь опор. Один из них, увидев женщину, вскричал:
— Это она! Точно так нам ее описали!
Не обращая внимания на труп, они тотчас же схватили женщину, не перестававшую теперь кричать Задигу:
— Помогите мне еще раз, великодушный чужеземец! Забудьте мои упреки! Помогите мне — и я ваша до гроба!
Но Задиг потерял охоту драться за нее.
— Обманывайте других, — сказал он, — меня вы уже не проведете.
К тому же он был ранен, из раны текла кровь, он нуждался в помощи, да и вид четырех вавилонян, посланных, вероятно, царем Моабдаром, сильно его встревожил. Он поспешил в селение, гадая, чего ради вавилонские гонцы схватили египтянку, и удивляясь странному нраву этой женщины.
Рабство
Когда Задиг въехал в египетское селение, его окружила толпа людей, выкрикивающих:
— Вот похититель прекрасной Мисуфы и убийца Клетофиса!
— Господа, — сказал он, — да избавит меня бог от вашей прекрасной Мисуфы, она слишком капризна; что же касается Клетофиса, я заколол его, защищаясь. Он хотел убить меня за то, что я очень учтиво попросил его простить прекрасную Мисуфу, которую он беспощадно избивал. Я чужеземец, ищущий в Египте убежища. Вряд ли человек, который хочет заручиться вашим покровительством, начнет с того, что совершит похищение и убийство.
Египтяне были тогда справедливы и человечны. Задига повели в городское управление. Там ему перевязали рану и, чтобы выяснить правду, допросили сперва его самого, потом слугу. Задиг не был признан убийцей, однако он пролил кровь человека, и закон осуждал его на рабство. Двух верблюдов продали в пользу селения, привезенное Задигом золото роздали жителям, а его самого вместе со спутником выставили на площади для продажи. Арабский купец по имени Сеток купил их с публичного торга; за слугу, как за более пригодного для тяжелой работы, он заплатил дороже, чем за господина. Качества этих рабов казались ему несравнимыми, и Задиг был подчинен своему слуге; их сковали друг с другом ножною цепью, и в таком виде они следовали за арабом, когда он возвращался домой. Дорогою Задиг утешал своего слугу и призывал к терпению, но в то же время, по свойственной ему привычке, не переставал размышлять о человеческой жизни.
— Я вижу, — говорил он слуге, — что неблагосклонность судьбы ко мне переносится и на тебя. До сих пор обстоятельства моей жизни складывались самым странным образом, Меня присудили к штрафу за то, что я видел, как пробежала собака, чуть не посадили на кол за грифа, приговорили к смертной казни за стихи в честь царя, чуть не задушили за то, что у королевы были желтые ленты, и вот теперь мы с тобой рабы потому только, что какой-то скот прибил свою любовницу. Но не будем терять мужества, — все это, быть может, кончится благополучно. Нельзя же арабским купцам обходиться без рабов, так почему мне не быть одним из них? Разве я не такой же человек, как все прочие? Этот купец не будет безжалостен и не станет дурно обращаться со своими рабами, если только он хочет, чтобы они хорошо работали. — Так говорил Задиг, но мысли его были заняты судьбою вавилонской царицы.
Два дня спустя Сеток отправился в Пустынную Аравию вместе со своими рабами и верблюдами. Его племя обитало вблизи пустыни Хорив{519}. Дорога была долгая и трудная. Слуга Задига, который, в отличие от своего господина, умел ловко навьючивать верблюдов, был на гораздо лучшем счету у Сетока и пользовался всякими маленькими преимуществами.
В двух днях пути от Хорива издох один верблюд, и поклажу, которую он нес, пришлось переложить на спины рабов; Задиг получил свою долю. При виде невольников, согбенных под тяжестью ноши, Сеток стал смеяться. Задиг позволил себе объяснить, отчего это происходит, и рассказал о законе равновесия. Удивленный купец стал смотреть на него другими глазами. Задиг, увидя, что возбудил в нем любопытство, постарался укрепить это чувство рассказами о предметах, имевших отношение к торговле Сетока: об удельном весе металлов и товаров одинакового объема, о свойствах некоторых полезных животных и о способах извлечь пользу из таких, которые полезными не считаются. Словом, он показался Сетоку настоящим мудрецом. Сеток стал оказывать ему предпочтение перед его товарищем, которого до тех пор столь ценил, и начал гораздо лучше обращаться с ним, о чем впоследствии не пожалел.
Вернувшись на родину, Сеток потребовал с одного еврея пятьсот унций серебра, которые дал тому взаймы в присутствии двух свидетелей. Но свидетели эти умерли, и еврей, не опасаясь быть изобличенным, отказался от уплаты долга и при этом благодарил бога за то, что он дал ему возможность надуть араба. Сеток поведал о бесчестном поступке еврея Задигу, который успел стать его постоянным советчиком.
— В каком месте, — спросил Задиг, — отдали вы этому неверному ваши пятьсот унций?
— На большом камне, у подножья горы Хорив, — отвечал купец.
— Каков характер у вашего должника? — спросил Задиг.
— Он мошенник, — ответил Сеток.
— Я спрашиваю у вас, горяч он или флегматичен, осторожен или неблагоразумен?
— Сколько я знаю, он самый горячий из всех неисправных должников, — отвечал Сеток.
— Хорошо, — сказал Задиг, — позвольте мне защищать дело перед судом.
И действительно, он вызвал еврея в суд и обратился к судье со следующими словами:
— Подушка на троне справедливости! От имени моего господина я требую, чтобы этот человек возвратил ему пятьсот унций серебра, от уплаты которых он отказывается.
— Есть у вас свидетели? — спросил судья.
— Нет, они умерли, но остался большой камень, на котором отсчитаны были деньги, и если ваше степенство соблаговолит послать за камнем, то, я надеюсь, он будет свидетельствовать об этом; мы с евреем останемся здесь, пока принесут камень, а издержки за его доставку заплатит мой господин Сеток.
— Хорошо, — отвечал судья. И занялся другими делами.
К концу заседания судья спросил у Задига:
— Ну что же, вашего камня все еще нет?
Еврей, смеясь, отвечал ему:
— Даже если вы, ваше степенство, останетесь здесь до завтра, все равно вам не дождаться камня, ибо он находится более чем в шести милях отсюда, и нужно пятнадцать человек, чтобы его сдвинуть с места.
— Я говорил вам, — воскликнул Задиг, — что камень будет свидетельствовать в нашу пользу: так как этот человек знает, где он находится, значит, сознается, что деньги отсчитаны были именно на нем.
Растерявшийся еврей принужден был во всем сознаться. Судья приказал привязать его к камню и не давать ему ни пить, ни есть до тех пор, пока он не возвратит пятьсот унций, что тот немедленно и сделал.
С тех пор и раб Задиг, и камень стали пользоваться доброй славой в Аравии.
«Задиг»
Костер
Восхищенный Сеток стал относиться к своему рабу, как к близкому другу. Подобно царю вавилонскому, он уже не мог обойтись без него. Задиг от души радовался, что у Сетока не было жены. Он открыл в своем хозяине хорошие природные наклонности, много прямоты и здравого смысла. Но Задига огорчало, что тот, по древнему арабскому обычаю, поклоняется небесному воинству, то есть солнцу, луне и звездам. Наконец он объяснил хозяину, что светила эти — такие же тела, как дерево или скала, и столько же заслуживают обожания, как и последние.
— Но ведь они — вечные существа, — возразил Сеток, — которые даруют нам все, из чего мы извлекаем пользу, вдыхают жизнь в природу и управляют чередованием времен года; к тому же они так далеки от нас, что не поклоняться им нельзя.
— Вам куда полезнее Красное море, которое несет ваши корабли с товарами в Индию. И почему вы думаете, что оно менее древнее, чем звезды? Если же вы поклоняетесь тому, что далеко от вас, то поклоняйтесь также земле гангаридов{520}, которая находится на краю света.
— Нет, — сказал Сеток, — звезды так блестят, что я не могу им не поклоняться.
Когда наступил вечер, Задиг засветил множество факелов в палатке, в которой он должен был ужинать с Сетоком; как только тот появился, Задиг бросился на колени перед горящими факелами и произнес:
— Вечные и блистательные светильники, будьте всегда милостивы ко мне! — Промолвив это, он сел за стол, не обращая внимания на Сетока.
— Что это вы делаете? — спросил его изумленный Сеток.
— То же, что и вы: преклоняюсь перед светильниками и пренебрегаю их и моим повелителем.
Сеток понял глубокий смысл этих слов. Мудрость раба просветила его, и, перестав курить фимиам творениям, он стал поклоняться творцу.
В то время в Аравии еще существовал ужасный обычай, который сперва был принят только у скифов, но затем, с помощью браминов утвердившись в Индии, стал распространяться по всему Востоку. Когда умирал женатый человек, а его возлюбленная жена желала прослыть святой, она публично сжигала себя на трупе своего супруга. День этот был торжественным праздником и назывался «костер вдовства». Племя, в котором насчитывалось наибольшее количество предавших себя сожжению вдов, пользовалось наибольшим уважением. После смерти одного араба из племени Сетока вдова его, по имени Альмона, очень набожная женщина, назначила день и час, когда при звуках труб и барабанном бое она бросится в огонь. Задиг стал доказывать Сетоку, насколько вреден для блага рода человеческого столь жестокий обычай, из-за которого чуть ли не ежедневно погибали молодые вдовы, способные дать государству детей или, по крайней мере, воспитать тех, которые у них уже были. Задиг утверждал, что следовало бы уничтожить этот варварский обряд. Сеток ответил:
— Вот уже свыше тысячи лет женщины имеют право всходить на костер. Кто из нас осмелится изменить закон, освященный временем? Разве есть что-нибудь более почтенное, чем долговечное заблуждение?
— Разум долговечнее заблуждения, — возразил Задиг. — Поговорите с вождями племен, а я пойду к молодой вдове.
Придя к ней, Задиг сперва снискал ее расположение тем, что расхвалил ее красоту; сказав ей, до какой степени жаль предать огню такие прелести, он все же отдал должное ее верности и мужеству.
— Вы, должно быть, горячо любили своего мужа? — спросил он.
— Нисколько не любила, — отвечала аравитянка. — Он был грубый, ревнивый, невыносимый человек, но я твердо решила броситься в его костер.
— Стало быть, есть особенное удовольствие заживо сгореть на костре?
— Ах, одна мысль об этом приводит меня в содрогание, — сказала женщина, — но другого выхода нет: я набожна, и если не сожгу себя, то лишусь своей доброй славы, все будут надо мной смеяться.
Добившись признания, что ее толкает на костер страх перед общественным мнением и тщеславие, Задиг долго еще говорил с ней, стараясь внушить ей хоть немного любви к жизни, и достиг наконец того, что внушил ей некоторое расположение и к ее собеседнику.
— Что вы сделали бы, если бы тщеславие не побуждало вас идти на самосожжение?
— Увы, — сказала женщина, — мне кажется, я попросила бы вас жениться на мне.
Однако Задиг был слишком полон мыслями об Астарте, чтобы принять ее предложение. Но он немедля отправился к вождям племени, рассказал им о своем разговоре с вдовой и посоветовал издать закон, по которому вдовам разрешалось бы сжигать себя лишь после того, как они не менее часа поговорят с каким-нибудь молодым человеком. И с тех пор ни одна женщина не сжигала себя в Аравии. И одному Задигу жители этой страны обязаны тем, что ужасный обычай, существовавший столько веков, был уничтожен в один день. Задиг стал, таким образом, благодетелем Аравии{521}.
Ужин
Сеток, не желая разлучаться с человеком, в котором обитала сама мудрость, взял его с собою на большую ярмарку в Бассору{522}, куда должны были съехаться самые крупные негоцианты со всех концов земли. Для Задига было большим утешением видеть такое множество людей из различных стран, собравшихся в одном месте: мир представлялся ему одной большой семьей, сошедшейся в Бассоре. На второй день после приезда ему пришлось сидеть за одним столом с египтянином, индийцем с берегов Ганга, жителем Катая{523}, греком, кельтом и другими чужеземцами, которые во время своих частых путешествий к Аравийскому заливу выучились арабскому языку настолько, что могли на нем объясняться. Египтянин был в сильном гневе.
— Что за отвратительный город эта Бассора! — говорил он. — Мне не дают здесь тысячи унций золота под вернейший в мире залог.
— Как так? — спросил Сеток. — Под какой же залог не дают вам этой суммы?
— Под залог тела моей тетушки, — отвечал египтянин, — женщины, лучше которой не было во всем Египте. Она всегда сопутствовала мне в моих путешествиях, и когда она умерла в дороге, я сделал из нее превосходнейшую мумию, — в моей стране я получил бы под нее все, что попросил; непонятно, почему здесь мне отказывают даже в тысяче унций золота под такой верный залог!
Излив свой гнев, он принялся было за превосходную вареную курицу, как вдруг индиец, взяв его за руку, сказал с горестью:
— Ах, что вы собираетесь сделать?
— Съесть эту курицу, — ответил владелец мумии.
— Остановитесь! — воззвал к нему индиец. — Очень может быть, что душа покойницы переселилась в тело этой курицы, а вы, вероятно, не захотите съесть вашу собственную тетушку? Варить кур — значит наносить оскорбление природе.
— Что вы пристали ко мне с вашей природой и с вашими курами? — вспылил египтянин. — Мы поклоняемся быку, но все-таки едим его мясо.
— Вы поклоняетесь быку? Возможно ли это? — воскликнул житель берегов Ганга.
— Почему же невозможно? — ответил тот. — Вот уже сто тридцать пять тысяч лет, как мы поклоняемся быкам, и никто из нас не видит в этом ничего плохого.
— Как, сто тридцать пять тысяч лет? — воскликнул индиец. — Вы несколько преувеличиваете! С тех пор, как Индия заселена, прошло восемьдесят тысяч лет, а мы, конечно, древнее вас{524}. И Брама{525} запретил нам есть быков прежде, чем вам пришло на ум строить им алтари и жарить их на вертеле.
— Куда же вашему забавнику Браме тягаться с нашим Аписом{526}! — сказал египтянин. — И что он сделал путного?
— Он научил людей читать и писать, и ему обязаны они шахматною игрою, — ответил брамин.
— Вы ошибаетесь, — сказал халдей, сидевший рядом с ним. — Всеми этими великими благами мы обязаны рыбе Оаннесу{527} и по всей справедливости должны почитать только ее. Каждый вам подтвердит, что это было божественное создание с золотым хвостом и прекрасной человеческой головой, которое ежедневно выходило на три часа из воды и читало людям проповеди. Всякому известно, что у рыбы Оаннеса было несколько сыновей, ставших потом царями. У меня есть ее изображение, и я воздаю ей должные почести. Быков можно есть сколько угодно, но варить рыбу, разумеется, великое святотатство. К тому же вы оба недостаточно древнего и благородного происхождения, чтобы спорить со мною. Египетский народ существует только сто тридцать пять тысяч лет, индийцы могут похвалиться лишь восемьюдесятьютысячелетним существованием, меж тем как наши календари насчитывают четыре тысячи веков{528}. Поверьте мне, откажитесь от ваших глупых басен, и я дам каждому из вас изображение Оаннеса.
Тогда вмешался в разговор житель Камбалу{529} и сказал:
— Я очень уважаю египтян, халдеев, греков, кельтов, Браму, быка Аписа и прекрасную рыбу Оаннеса. Но, может быть, Ли или Тянь[18], называйте его как угодно, стоит и ваших быков и рыб. Я не стану говорить о моей стране: она так велика, как Египет, Халдея и Индия вместе взятые. Не спорю я и о древности происхождения, ибо важно быть счастливым, а древность рода значения не имеет. Что же касается календарей, то должен вам сказать, что во всей Азии приняты наши и что у нас они были еще до того, как в Халдее научились арифметике.
— Вы все просто невежды! — воскликнул грек. — Разве вам не известно, что отец сущего — хаос, что форма и материя сделали мир таким, каков он теперь?
Грек говорил долго, но его наконец прервал кельт, который, выпив лишнее во время спора, вообразил себя ученее всех остальных. Он клялся, что только Тейтат{530} да еще омела{531}, растущая на дубе, стоят того, чтобы о них говорить; что сам он всегда носит омелу в кармане; что скифы, его предки{532}, были единственными порядочными людьми, когда-либо населявшими землю; что они, правда, иногда ели людей, но тем не менее к его нации следует относиться с глубоким уважением и, наконец, что он здорово проучит того, кто вздумает дурно отозваться о Тейтате.
После этого спор разгорелся с новой силой, и Сеток начал опасаться, что скоро прольется кровь. Но тут поднялся Задиг, который во время спора хранил молчание, и, обратившись сперва к кельту, как к самому буйному спорщику, сказал ему, что он совершенно прав, и попросил у него омелы; затем он похвалил красноречие грека и постепенно внес успокоение в разгоряченные умы. Катайцу он сказал всего несколько слов, так как тот был рассудительнее остальных. В заключение Задиг сказал им:
— Друзья мои, вы напрасно спорите, потому что все вы придерживаетесь одного мнения.
Это утверждение все бурно отвергли.
— Не правда ли, — сказал Задиг кельту, — вы поклоняетесь не омеле, а тому, кто создал и ее и дуб?
— Разумеется, — отвечал тот.
— И вы, господин египтянин, вероятно, почитаете в вашем быке того, кто вообще даровал вам быков?
— Да, — сказал египтянин.
— Рыба Оаннес, — продолжал Задиг, — должна уступить первенство тому, кто сотворил и море и рыб.
— Согласен, — отвечал халдей.
— И индиец, — прибавил Задиг, — и катаец признают, подобно вам, некую первопричину. Хотя я не совсем понял достойные восхищения мысли, которые излагал здесь грек, но уверен, что и он также признает верховное существо, которому подчинены и форма и материя.
Грек, которым теперь восхищались и остальные, ответил, что Задиг отлично понял его мысль.
— Итак, — вы все одного мнения, — сказал Задиг, — и, следовательно, вам не о чем спорить.
Все бросились его обнимать. Сеток, очень выгодно продавший свои товары, возвратился с Задигом к себе на родину. Там Задиг узнал, что во время его отсутствия он был судим и приговорен к сожжению на медленном огне.
Свидания
Во время путешествия Задига в Бассору жрецы звезд{533} решили, что его надо покарать. Драгоценные камни и украшения молодых вдов, которых они отправляли на костер, принадлежали им по праву, и им казалось недостаточным даже сжечь Задига за злую шутку, которую он с ними сыграл. Поэтому они обвинили его в еретических взглядах на небесные светила и поклялись, что слышали, как Задиг утверждал, будто звезды не заходят в море. Это ужасающее кощунство привело судей в содрогание; они едва не разорвали на себе одежды, услышав столь нечестивые слова, и, без сомнения, сделали бы это, будь у Задига чем заплатить за них. Теперь же, в припадке скорби, они удовольствовались тем, что присудили его к сожжению на медленном огне. Сеток в отчаянии пустил в ход все свое влияние, чтобы спасти друга, но тщетно: его вскоре принудили замолчать. Молодая вдова Альмона, обязанная Задигу жизнью и так сильно привязавшаяся к нему, решила спасти его от костра, отвращение к которому он сумел ей внушить. Она обдумала свой план, не говоря о нем никому ни слова. Казнь Задига была назначена на следующее утро, таким образом в ее распоряжении была ночь. И вот что сделала эта великодушная и разумная женщина.
Надушившись и надев самый роскошный и самый изящный наряд, придавший ее красоте еще более блеска, она попросила личной аудиенции у верховного жреца звезд. Представ перед этим почтенным старцем, она повела такую речь:
— Старший сын Большой Медведицы, брат Тельца, двоюродный брат Большого Пса (таковы были титулы этого духовного лица), я жажду поверить вам свои страхи и сомнения. Я очень боюсь, что совершила ужасный грех, не последовав на костер за моим дорогим супругом. В самом деле, что мне было беречь? Это тленное и уже увядшее тело? — С этими словами она откинула длинные шелковые рукава и обнажила свои прекрасные, ослепительно-белые руки. — Вы видите, на них далее смотреть не стоит, — сказала она.
Но верховный жрец считал, что, напротив, очень даже стоит. Его глаза выразили это, а уста подтвердили. Он стал клясться, что в жизни не видал таких пленительных рук.
— Увы, — сказала ему вдова, — руки, может быть, еще не так плохи, как остальное, но согласитесь, что о груди совсем уже не стоило жалеть. — И она открыла самую соблазнительную грудь, какую когда-либо создавала природа. Розовый бутон на яблоке из слоновой кости в сравнении с ее грудью казался бы мареной на самшите, а свежевымытые ягнята — грязно-желтыми. Эта грудь, большие черные глаза, томно сиявшие и полные нежной страсти, щеки, розовые, как кровь с молоком, нос, нисколько не напоминавший башни горы Ливанской{534}, губы, скрывавшие в своей коралловой оправе великолепный жемчуг Аравийского моря, — все это так подействовало на старца, что ему стало казаться, будто он снова двадцатилетний юноша; Он пролепетал ей нежное признание. Видя, как он воспламенился, Альмона стала просить о помиловании Задига.
— Увы, прекрасная дама, — сказал верховный жрец, — если я и соглашусь простить его, это ни к чему не приведет, так как помилование его должно быть подписано тремя моими собратьями.
— Все-таки подпишите, — сказала Альмона.
— Охотно, — отвечал жрец, — но с условием, что за мое потворство вы наградите меня вашей благосклонностью.
— Вы оказываете мне слишком большую честь, — сказала Альмона. — Если пожелаете прийти ко мне, когда зайдет солнце и блестящая звезда Шит появится на горизонте, вы найдете меня возлежащей на розовой софе и сделаете с вашей служанкой все, что вам заблагорассудится.
Она вышла, унося с собой бумагу с его подписью. Старец, томимый любовью и недоверием к своим силам, остаток дня употребил на омовения; выпив напиток, составленный из цейлонской корицы и драгоценных тидорских и тернатских пряностей, он с нетерпением ожидал появления звезды Шит.
Между тем прекрасная Альмона отправилась ко второму верховному жрецу. Этот стал уверять ее, что солнце, луна и все небесные светила не более как блуждающие огоньки в сравнении с ее прелестями. Она попросила у него той же милости, а он у нее — той же награды. Альмона дала себя победить и назначила свидание второму верховному жрецу при восходе звезды Альджениб. От него она отправилась к третьему и четвертому, получила от каждого подпись и назначила им свидания на восходе других звезд. Возвратившись после того домой, она попросила судей прийти к ней по очень важному делу. Судьи пришли, она показала им четыре подписи и объяснила, за какую цену жрецы продали помилование Задига. Потом явились жрецы, каждый в назначенное ему время, и очень изумились, застав своих собратьев, а в особенности увидев судей, перед которыми был обнаружен их позор. Задиг был спасен. Сеток же, восхищенный находчивостью Альмоны, женился на ней.
Облобызав стопы прекрасной своей избавительницы, Задиг удалился. Расставаясь, они с Сетоком плакали, клялись в вечной дружбе и обещали, что тот из них, кто первым достигнет славы и богатства, известит об этом другого.
Задиг направился в сторону Сирии, непрестанно думая о несчастной Астарте и размышляя о судьбе, которая так упорно преследовала его, играя его жизнью.
— Как! — говорил он. — Я получил четыреста унций золота за то, что видел, как пробежала собака! Я был присужден к смерти через усечение головы за четыре плохих стиха во славу короля! Едва не был задушен, потому что королева носит туфли такого же цвета, как и моя шапка! Отдан в рабство за то, что помог женщине, которую избивали; и чудом избежал костра, на котором меня хотели сжечь за то, что я спас жизнь всем юным арабским вдовам!
Разбойник
Задиг добрался до сирийской границы Каменистой Аравии. Он ехал мимо укрепленного замка, как вдруг оттуда выскочили вооруженные арабы. Они окружили Задига с криками: «Все ваше принадлежит нам, а вы сами — нашему господину!» Вместо ответа Задиг выхватил меч; храбрый слуга последовал его примеру. Они уложили на месте первых арабов, поднявших на них руку; число нападавших удвоилось, но путники не потеряли присутствия духа и решили погибнуть с оружием в руках. Два человека защищались от целой толпы. Такой неравный бой не мог длиться долго. Владелец замка по имени Арбогад, увидав из окна чудеса храбрости, проявленные Задигом, проникся к нему уважением. Он поспешно вышел, разогнал своих людей и освободил обоих путников.
— Все, что попадает на мою землю, — мое, — сказал он, — так же как и все, что я нахожу на чужих землях. Но вы так храбры, что для вас я делаю исключение. — Затем он привел Задига в замок, приказав своим людям хорошо обходиться с ним, а вечером пригласил его на ужин.
Владелец замка был одним из тех арабов, которых называют ворами; но наряду со множеством дурных поступков он иногда делал и добро; жадный вор и дерзкий грабитель, он был в то же время неустрашимым воином, щедрым и довольно мягким в обхождении человеком, обжорой за столом, веселым кутилой и, главное, простодушным малым. Ему чрезвычайно понравился Задиг, чья оживленная беседа помогла продлить ужин. Наконец Арбогад сказал ему:
— Советую вам поступить ко мне на службу. Вы не пожалеете об этом, потому что ремесло мое прибыльно, и со временем вы сможете занять не менее высокое положение, чем я.
— Разрешите вас спросить, — сказал Задиг, — давно ли вы занимаетесь вашим благородным ремеслом?
— В самой ранней юности я был слугою у одного довольно сметливого араба, — отвечал тот. — Положение мое было невыносимо. Я приходил в отчаяние, видя, что на земле, которая одинаково принадлежит всем, судьба ничего не оставила на мою долю. Я поделился своим горем с одним старым арабом, который сказал мне: «Сын мой, не отчаивайся. Была некогда песчинка, которая печалилась, что она — ничто среди песков пустыни; через несколько лет она стала алмазом и считается теперь лучшим украшением короны индийского царя». Эти слова произвели на меня большое впечатление: я был песчинкой, но решил сделаться алмазом. Начал я с того, что украл двух лошадей; потом, набрав себе товарищей, стал грабить небольшие караваны. Так я постепенно уничтожил неравенство отношений, существовавшее между мною и остальными людьми. Я получил свою долю из благ мира сего и даже был вознагражден с избытком. Ко мне относятся с большим почтением, я — разбойник-вельможа. С помощью оружия я завладел этим замком; сирийский сатрап хотел отнять его у меня, но я уже был так богат, что ничего не боялся; я дал денег сатрапу и не только удержал за собой замок, но еще и увеличил свои владения. Он даже назначил меня сборщиком податей, вносимых жителями Каменистой Аравии царю царей. Теперь я собираю подати, но не плачу их.
Однажды великий Дестерхам Вавилона послал сюда от имени царя Моабдара некоего сатрапишку с приказанием удавить меня. Но прежде, чем он прибыл со своим поручением, меня уже обо всем известили. Я велел удавить при нем четырех человек, которым поручено было затянуть петлю на моей шее, и затем спросил у него, сколько он должен был заработать на этом деле. Он ответил, что рассчитывал получить до трехсот золотых. Я ему прямо сказал, что у меня он будет зарабатывать гораздо больше. Я его назначил моим подручным. Теперь он один из лучших и богатейших моих помощников. Поверьте мне, вы преуспеете не меньше, чем он. Никогда еще не было более благоприятного времени для разбоя, чем теперь, когда Моабдар убит и в Вавилоне царит смута.
— Как! Моабдар убит? — воскликнул Задиг. — А что же сталось с царицей Астартой?
— Не знаю, — отвечал Арбогад, — знаю только, что Моабдар сошел с ума, что он убит, что Вавилон стал настоящим разбойничьим вертепом, что государство опустошено, хотя для поживы осталось еще немало, и я не раз делал туда чудесные набеги.
— Но царица, — молил Задиг, — ради бога, не знаете ли вы чего-нибудь об ее участи?
— Мне что-то говорили о гирканском князе, — отвечал тот. — Если только она не была убита во время стычки, то, вероятно, находится среди его наложниц; впрочем, меня больше интересует добыча, чем сплетни. Во время моих набегов я захватывал в плен многих женщин, но у себя не оставлял ни одной; когда они хороши собою, я продаю их за дорогую цену, не спрашивая о том, кто они такие. Ведь женщин покупают не за титул, и на безобразную царицу вряд ли найдется охотник. Может быть, я продал царицу Астарту, а может быть, она умерла, но это меня не касается, и вам, я полагаю, тоже нет основания беспокоиться о ней. — Говоря это, он пил так усердно и говорил так несвязно, что ничего определенного Задиг не узнал.
Он неподвижно сидел, подавленный и угнетенный. Арбогад не переставал пить и рассказывать разные басни, беспрерывно повторяя, что он счастливейший из людей, и уговаривая Задига сделаться таким же счастливцем. Наконец, одурманенный вином, он спокойно отправился спать. Задиг провел ночь в сильнейшем волнении. «Итак, — говорил он себе, — царь сошел с ума, убит!.. Я не могу не пожалеть о нем! Государство разорено, а этот разбойник счастлив! О, рок! О, судьба! Вор счастлив, а одно из прекраснейших созданий природы погибло, может быть, самым ужасным образом или живет жизнью, которая хуже смерти. О Астарта! Что сталось с вами?»
Едва наступил день, как он стал расспрашивать всех обитателей замка. Но все были заняты, и никто ему не отвечал: они делили добычу после ночного грабежа. Единственно, чего он мог добиться в этой суматохе, это разрешения уехать. Он не замедлил им воспользоваться, более чем когда-либо погруженный в грустные думы.
В волнении и беспокойстве совершал свой путь Задиг, не переставая думать о несчастной Астарте, о царе Вавилона, о верном Кадоре, о счастливом разбойнике Арбогаде, о своенравной женщине, похищенной вавилонянами на границе Египта, и, наконец, о всех пережитых им горестях и бедствиях.
Рыбак
Все еще не переставая оплакивать свою судьбу и считать себя воплощением человеческого несчастья, Задиг добрался до речки, в нескольких милях от замка Арбогада. На берегу лежал рыбак; обратив глаза к небу, он держал в ослабевшей руке рыбачьи сети, которые, видимо, забыл забросить.
— Есть ли в мире человек несчастнее меня? — говорил рыбак. — Я был, по всеобщему признанию, самым преуспевающим из вавилонских торговцев сливочными сырами — и разорился. У меня была красавица жена — и она изменила мне. Ветхий домишко, которым я еще владел, — и тот на моих глазах был разграблен и разрушен. Теперь я живу в шалаше: единственное мое пропитание — рыбная ловля, но рыба совсем перестала ловиться. О мои сети! Я не брошу вас больше в воду, я сам туда брошусь. — И с этими словами он встал и направился к реке с решимостью человека, который хочет броситься в воду и положить конец своей жизни.
«Что я вижу! — удивился Задиг. — Значит, есть люди, такие же несчастные, как я!» Едва промелькнула в его уме эта мысль, как его охватило горячее желание спасти жизнь рыбаку. Подбежав к нему, Задиг остановил его и, полный сердечного участия, стал расспрашивать и утешать. Говорят, что при виде чужого горя люди чувствуют себя менее несчастными; по мнению Зороастра, дело тут не в себялюбии, а во внутренней потребности. К несчастному человека влечет в таких случаях сходство положений. Радость счастливца была бы оскорбительной, а двое несчастных — как два слабых деревца, которые, опираясь друг на друга, противостоят буре.
— Почему вы даете горю одолеть себя? — спросил Задиг у рыбака.
— Потому что не вижу никакого выхода для себя, — ответил тот. — Я был самым уважаемым лицом в деревне Дерльбак, в окрестностях Вавилона, и изготовлял с помощью моей жены лучшие сливочные сыры во всем государстве. Царица Астарта и знаменитый министр Задиг их очень любили. Я продал им шестьсот сыров. Однажды я отправился в Вавилон — хотел получить за них деньги — и вдруг узнаю, что царица Астарта и Задиг исчезли. Я побежал в дом к господину Задигу, которого до того времени никогда не видел, и нашел там полицейских великого Дестерхама, которые, запасшись царским приказом, на законном основании и с соблюдением порядка грабили его дом. Я помчался на кухню царицы: там одни царские повара говорили, что она умерла, другие — что она в тюрьме, третьи клялись, что она бежала, но все в один голос утверждали, что за сыры мне ничего не заплатят. Я пошел с женой к господину Оркану, который тоже был одним из моих постоянных покупателей. Мы попросили его оказать нам поддержку в нашем несчастье. Он оказал поддержку моей жене, а мне отказал. Она была белее сливочных сыров, от которых пошли все мои беды, и даже тирский пурпур не ярче румянца, оживлявшего белизну ее лица. Поэтому Оркан оставил ее у себя, а меня выгнал. Я написал моей милой жене отчаянное письмо, а она сказала посыльному: «Ах да! Я знаю, кто это пишет, я слышала, что он мастер делать сливочные сыры. Пусть пришлет мне сыру, я ему заплачу».
С горя я решил обратиться к правосудию. У меня оставалось шесть унций золота; две из них пришлось отдать законнику, с которым я советовался, две — стряпчему, взявшемуся вести мое дело, и две — секретарю главного судьи. Но мое дело так и не началось, а я издержал больше, чем стоили и сыры и жена вместе взятые. Тогда я возвратился к себе в деревню с намерением продать дом, чтобы вернуть жену.
Мой дом стоил добрых шестьдесят унций золота, но все видели, что я беден и мне надо поскорей продать его. Первый, к кому я обратился, предложил мне за него тридцать унций, второй — двадцать, а третий — десять. Я до такой степени был ослеплен горем, что готов уже был согласиться, как вдруг гирканский князь вторгся в Вавилон и на своем пути предал все огню и мечу. Мой дом был сперва разграблен, а потом сожжен.
Потеряв, таким образом, деньги, жену и дом, я удалился в эту местность, где вы меня теперь видите. Я попытался заработать себе на хлеб насущный рыбной ловлей, но рыбы издеваются надо мной, как люди. Ничего у меня не ловится, и я умираю с голоду. Не будь вас, мой высокопоставленный утешитель, я бросился бы в реку!
Рыбак рассказал все это не сразу, потому что Задиг, вне себя от волнения, прерывал его на каждом слове.
— Значит, вам ничего не известно об участи царицы?
— Нет, господин мой, — отвечал рыбак, — я знаю только, что царица и Задиг не заплатили мне за сливочные сыры, что у меня отняли жену и что я в отчаянии.
— Я убежден, — сказал Задиг, — ваши деньги не пропадут. Мне говорили об этом Задиге, что он честный человек: если только он вернется в Вавилон, как он надеется, то возместит вам с избытком все, что должен; что же касается вашей жены, которая не так честна, как Задиг, то вряд ли вам стоит добиваться ее возвращения. Послушайтесь меня, отправляйтесь в Вавилон; я там буду раньше вас, так как еду верхом, а вы пойдете пешком. Обратитесь к прославленному Кадору, скажите ему, что встретили его друга, и ожидайте меня у него. Ступайте… Авось вы не всегда будете так несчастны. О могущественный Оромазд, — продолжал он, — ты избрал меня, дабы я утешил этого человека, но кого ты изберешь, дабы утешить меня? — С этими словами он отдал половину всех денег, что вывез из Аравии, рыбаку, и тот, потрясенный и счастливый, облобызал ноги другу Кадора, повторяя: «Вы мой ангел-спаситель!»
Между тем Задиг продолжал расспрашивать его о Вавилоне, и из глаз его лились слезы.
— Что же это, господин мой, — воскликнул рыбак, — неужели и вы тоже несчастны, вы, делающий столько добра?
— Во сто раз несчастнее тебя, — отвечал Задиг.
— Возможно ли, — продолжал недоумевать простак, — чтобы дающий был несчастнее берущего?
— Дело в том, — отвечал Задиг, — что твое главное несчастье заключается в нужде, а виною моих бед — мое же собственное сердце.
— Не отнял ли у вас Оркан жену? — спросил рыбак. Это напомнило Задигу его злоключения, и он перебрал в уме все свои беды, начиная с царицыной суки и кончая встречей с Арбогадом.
— Да, — сказал он рыбаку, — Оркан заслуживает наказания, но как раз такие люди и пользуются обычно благосклонностью судьбы. Как бы то ни было, иди к господину Кадору и жди у него.
Они расстались: рыбак шел, благословляя судьбу, а Задиг ехал, сетуя на нее.
Василиск
Подъехав к прекрасному лугу, Задиг увидел на нем женщин, которые что-то усердно искали. Он решился спросить у одной из них, не может ли он помочь им в поисках.
— Боже вас сохрани, — отвечала сириянка, — к тому, что мы ищем, могут прикасаться одни только женщины{535}.
— Это очень странно, — сказал Задиг. — Осмелюсь ли задать вам вопрос, что это за вещь, к которой могут прикасаться одни только женщины?
— Это василиск, — отвечала она.
— Василиск, сударыня? А для чего, скажите на милость, вы ищете василиска?
— Для нашего государя и повелителя Огула, дворец которого вы видите вон там, на берегу реки, по ту сторону луга. Мы его покорные рабыни. Господин Огул болен; врач приказал ему съесть василиска, сваренного в розовой воде, а так как это очень редкое животное и дается в руки только женщинам, то господин Огул обещал сделать ту из нас, которая принесет ему василиска, любимой своей женою. Будьте же добры, не мешайте мне искать, потому что понимаете сами, сколько я потеряю, если мои подруги меня опередят.
Задиг не стал больше мешать сириянке и ее подругам искать василиска и продолжал свой путь. Подъехав к небольшому ручью, он увидел женщину, лежавшую на траве и ничего не искавшую. Облик ее был величествен, лицо скрыто покрывалом. Она наклонилась к ручью; тяжелые вздохи вырывались из ее груди. В руке она сжимала палочку и чертила ею буквы на прибрежном песке, отделявшем траву от ручья. Задиг полюбопытствовал взглянуть, что пишет эта женщина; он подошел поближе и увидел сначала букву «З», потом «а». Это его удивило. Потом появилось «д». Он вздрогнул. Удивлению его не было предела, когда он увидел две последние буквы своего имени. Несколько минут он оставался недвижим, потом проговорил прерывающимся голосом:
— Благородная дама, простите незнакомцу, гонимому судьбой, что он осмеливается спросить вас, по какому удивительному случаю ваша божественная рука начертала здесь имя Задига?
Услыхав голос Задига и его слова, женщина дрожащей рукой приподняла покрывало, взглянула на Задига, испустила крик удивления, любви и радости и, не выдержав столь сильных чувств, разом овладевших ею, упала без памяти в его объятия. То была Астарта, царица вавилонская, — та самая, которую Задиг обожал, не переставая упрекать себя за это, та самая Астарта, которая стоила ему стольких слез и за участь которой он так тревожился. На мгновение он сам лишился сознания, но когда глаза его встретились с томным взором Астарты, полным смущения и нежности, он воскликнул:
— О всемогущие боги! Вы, которые управляете судьбою слабых смертных, ужели вы наконец возвращаете мне Астарту? И где, в какое время, при каких обстоятельствах я вновь ее обретаю! — С этими словами он опустился на колени перед царицей вавилонской и приник лбом к праху у ее ног. Она подняла его и посадила рядом с собой на берегу ручья. Астарта то и дело вытирала глаза, на которые беспрестанно набегали радостные слезы, начинала говорить, но рыдания прерывали ее, принималась расспрашивать о том, какой случай свел их вместе, и, не давая ему ответить, задавала новые вопросы, рассказывала о своих бедах и в то же время требовала, чтобы Задиг поделился с нею своими. Когда оба немного успокоились, Задиг в нескольких словах поведал ей, какие злоключения привели его на этот луг.
— Но, несчастная и достойная царица, как вы оказались здесь, в этой глуши, в одежде рабыни, среди других рабынь, ищущих василиска, которого нужно сварить в розовой воде по предписанию врача?
— Пока они ищут василиска, — сказала прекрасная Астарта, — я расскажу вам все, что я вытерпела и что теперь прощаю небесам, ибо они все же позволили мне вновь свидеться с вами. Как вы знаете, царю, моему супругу, не нравилось, что вы были самым приятным человеком при дворе, и потому он однажды ночью решил удавить вас и отравить меня. Вы также знаете, что небо помогло моему немому карлику известить меня о приказе его величества. Верный Кадор, заставив вас исполнить мою волю и уехать, глухой ночью решился пробраться потайным ходом ко мне и насильно увел меня в храм Оромазда. Там его брат, маг, спрятал меня в колоссальную статую, которая своим основанием касалась пола, а головою — сводов храма. В ней я была, как в могиле, но мне прислуживал сам маг, и я ни в чем не нуждалась. Между тем на рассвете аптекарь его величества вошел в мою комнату с напитком, составленным из белены, опиума, цикуты, чемерицы и аконита, а к вам в это же время был послан один из царских телохранителей с припрятанным голубым шелковым шнурком. Но ни тот, ни другой не нашли своих жертв. Кадор, чтобы лучше обмануть царя, решил выступить перед ним нашим обвинителем. Он сказал, что вы бежали в Индию, а я скрылась в Мемфис; за мной и за вами была послана погоня.
Гонцы, отправленные за мной, не знали меня в лицо, так как я почти никому не показывалась, кроме вас, и то только в присутствии моего супруга и по его приказанию. Им описали меня, и они пустились в путь. На египетской границе они увидели женщину одного со мною роста, но, может быть, более привлекательную. Она была в слезах, вне себя от горя. Не сомневаясь, что это царица вавилонская, они привели ее к Моабдару. Их ошибка сперва разгневала царя, но вскоре, рассмотрев эту женщину поближе, он нашел ее очень красивой и утешился. Ее звали Мисуфа. Я узнала потом, что на египетском языке это имя означает «прекрасная капризница». И действительно, она вполне заслуживала свое прозвище, но ловкость ей была присуща не менее, чем своенравность. Мисуфа понравилась Моабдару и покорила его до такой степени, что он сделал ее своей женой. Тогда-то ее нрав и проявился полностью: она требовала исполнения всех безумных прихотей, какие только приходили ей в голову. Однажды она пожелала, чтобы верховный маг, старый и больной подагрой, плясал перед нею, и, когда он отказался, начала его жестоко преследовать. Потом она приказала главному конюшему испечь ей пирог с вареньем. Сколько тот ни уверял ее, что он не пирожник, все-таки ему пришлось испечь пирог, и его прогнали за то, что пирог пригорел. На место конюшего она назначила своего карлика, а на место канцлера — пажа! Так управляла она Вавилоном. Все стали жалеть обо мне. Царь, который был довольно здравым человеком до той поры, пока не вздумал отравить меня и удавить вас, утопил, казалось, свои добродетели в чудовищной страсти к прекрасной капризнице. Он пришел в храм в великий день священного огня. Я слышала, как он молился за Мисуфу у подножия той статуи, в которой я была спрятана. Громким голосом крикнула я ему: «Боги отвергают молитвы царя, ставшего тираном, царя, который хотел умертвить благоразумную жену, чтобы жениться на сумасбродке». Моабдар был до того поражен этими словами, что ум его помутился. Моего приговора и тирании Мисуфы оказалось достаточно, чтобы он потерял рассудок. Он сошел с ума через несколько дней.
Его безумие, сочтенное вавилонянами за небесную кару, послужило сигналом к возмущению. Народ восстал и взялся за оружие. Вавилон, с давних пор погруженный в праздную негу, был охвачен страшной междоусобицей. Меня выпустили из моей статуи и поставили во главе одной из двух борющихся партий. Кадор помчался за вами в Мемфис. Между тем князь гирканский, узнав об этих роковых происшествиях, привел с собою и третью партию — свою армию. Он атаковал царя, который вместе со своей сумасбродной египтянкой попытался дать ему отпор. Пронзенный неприятельскими копьями, Моабдар погиб, а Мисуфа попала в руки победителя. К своему несчастью, я тоже была захвачена гирканцами, и меня доставили к князю одновременно с Мисуфой. Вам, без сомнения, лестно будет услышать, что он нашел меня красивее египтянки, но зато вас огорчит, что он предназначил меня для своего гарема. Он очень решительно сказал, что придет ко мне сразу по окончании предпринятой им военной экспедиции. Можете себе представить, в каком я была отчаянье. Мои узы с Моабдаром были разорваны, я могла принадлежать Задигу, а между тем попала во власть к этому варвару! Я отвечала ему с гордостью, внушенной мне моим саном и моими чувствами. Я часто слышала, что особам моего ранга небо дарует то величие, которое одним словом, одним взглядом внушает безумцам, осмелившимся забыться, самое глубокое почтение. Я говорила, как царица, но со мной обошлись, как со служанкой. Гирканец, не удостоив меня даже словом, сказал своему черному евнуху, что я дерзка, но, на его взгляд, хороша собой. Он приказал ему обходиться со мной, как положено с фаворитками, холить и лелеять меня, чтобы оживить цвет моего лица и чтобы я стала более достойной его милости в тот день, когда он пожелает почтить меня ею. Я ему сказала, что убью себя. Он отвечал мне со смехом, что из-за этого женщины себя не убивают, что он привык к таким угрозам, и ушел от меня с видом человека, который раздобыл попугая для своего птичника. Достойное положение для величайшей на земле царицы и, более того, для сердца, принадлежащего Задигу!
При этих словах Задиг бросился к ее ногам и оросил их слезами. Астарта нежно подняла его и продолжала:
— Итак, я оказалась добычей варвара и соперницей сумасбродной женщины, вместе с которой была заключена. Она рассказала мне о своем приключении в Египте. По ее описанию, по времени, по верблюду и по всем остальным обстоятельствам я догадалась, что за нее бился Задиг. Я не сомневалась в том, что вы находитесь в Мемфисе, и решилась бежать туда. «Прекрасная Мисуфа, — сказала я ей, — у вас куда более веселый нрав, чем у меня, и вы сможете лучше развлечь гирканского князя. Помогите мне бежать, и вы одна будете им править, осчастливите меня и в то же время избавитесь от соперницы». Мисуфа согласилась, и я тайно бежала с рабой-египтянкой.
Я приближалась уже к Аравии, как вдруг знаменитый разбойник по имени Арбогад захватил меня в плен и продал купцам, которые и привели меня в замок, где живет господин Огул. Он купил меня, не зная, кто я такая. Это великий чревоугодник, который думает только о том, чтобы хорошо покушать, и считает, что бог создал его лишь для того, чтобы наслаждаться едой. Он так толст, что ему постоянно грозит опасность задохнуться. Врач, который его пользует, не имеет на него никакого влияния, когда желудок его в исправности, и деспотически управляет им, когда Огул объестся. Он-то и убедил Огула, что вылечить его можно только василиском, сваренным в розовой воде. Огул обещал свою руку той невольнице, которая принесет ему василиска. Как видите, я не спешу оспаривать у них эту честь, особенно с той минуты, как небеса даровали мне встречу с вами.
И тут Астарта и Задиг сказали друг другу все, что внушают благородным и страстным сердцам долго скрываемые чувства, нежная любовь и перенесенные бедствия, и духи, покровительствующие влюбленным, передали их слова самой Венере.
Женщины возвратились к Огулу с пустыми руками. Задиг также явился к нему и сказал следующее:
— Да снизойдет с небес бессмертное здоровье, чтобы заботиться о днях ваших. Я врач. Узнав о вашей болезни, я поспешил к вам и принес василиска, сваренного в розовой воде. Я, конечно, не собираюсь выйти за вас замуж и потому прошу вас только об одном: отпустите на волю молодую рабыню-вавилонянку, которую недавно привели к вам; если я не буду иметь счастье вылечить прославленного господина Огула, пусть он оставит меня рабом у себя вместо нее.
Предложение было принято. Астарта отправилась в Вавилон со слугою Задига, обещав тотчас же прислать к нему гонца и известить его обо всем, что там произойдет. Их прощание было столь же нежно, как и встреча. Минута, когда люди обретают друг друга, и минута, когда расстаются, — две значительнейших эпохи в жизни человека, говорит великая книга Зенд. Задиг клялся царице в любви — и каждое его слово было правдой, а царица даже не могла выразить, как сильна ее любовь к Задигу.
Между тем Задиг сказал Огулу:
— Повелитель, моего василиска есть нельзя, его целебная сила должна проникнуть в вас через поры. Я зашил его в бурдючок из тонкой кожи, надутый воздухом. Вы должны изо всех сил бросать его мне, а я буду бросать вам его обратно, и через несколько дней вы увидите, как могущественно мое искусство.
В первый день Огул задыхался, ему казалось, что он умрет от усталости. На другой день он устал уже меньше и спал лучше. Через неделю к нему вернулись его прежняя сила, здоровье, легкость и веселое расположение духа, словно он опять переживал лучшую пору своей жизни.
— Вы играли в мяч и были воздержанны в пище и питье, — сказал ему Задиг. — Узнайте же, что василиска в природе не существует, что здоровыми бывают только люди воздержанные и деятельные и что возможность совместить неумеренность со здоровьем — такая же химера, как философский камень, астрология и богословие магов{536}.
Старший врач Огула, видя, как этот человек опасен для медицины, сговорился с придворным аптекарем отправить Задига искать василиска на том свете. Таким образом, Задиг, который всеми несчастьями обязан был своим добрым делам, и тут едва не погиб за то, что вылечил вельможного обжору. Его пригласили на великолепный обед и собирались отравить вторым блюдом, но он еще не доел первого, когда ему доложили о гонце от Астарты. Задиг встал из-за стола и уехал. «Кто любим прекрасной женщиной, — говорил великий Зороастр, — тот всегда вывернется из беды на этом свете».
Поединки
Царица была принята в Вавилоне с тем восторгом, с каким всегда встречают прекрасных государынь, изведавших превратности судьбы. В городе стало спокойнее. Князь гирканский был убит в сражении. Вавилоняне, одержав победу, объявили, что Астарта выйдет замуж за того, кого они изберут царем. Но они не желали, чтобы высочайший в мире сан — сан царя вавилонского и мужа Астарты — зависел от интриг и козней. Они поклялись посадить на престол самого храброго и самого мудрого из претендентов. Для этого в нескольких милях от города устроили обширное ристалище и окружили его великолепно разукрашенным амфитеатром. Претендентам надлежало явиться туда в полном боевом убранстве. Каждому было отведено отдельное помещение позади амфитеатра, где никто не мог бы ни увидеть его, ни поговорить с ним. Им предстояло четырежды сразиться на копьях. Те, кому удалось бы победить четырех соперников, должны были потом сразиться друг с другом; оставшийся последним на поле сражения и будет победителем турнира. Четыре дня спустя он должен снова предстать в том же вооружении перед магами и разгадать предложенные ими загадки. Если он не разгадает загадок, то не сможет быть избран царем, и состязание начнется снова и продолжится до тех пор, пока не сыщется человек, который одержит победу в обоих турнирах. Вавилоняне непременно хотели избрать царем не только самого храброго, но и мудрейшего. Царица в это время должна была находиться под строгим надзором. Ей дозволялось присутствовать на турнирах, но только при условии, что лицо ее будет скрыто покрывалом и она не станет говорить ни с кем из претендентов, дабы устранить возможность пристрастия и несправедливости{537}.
Об этом-то и извещала Астарта своего возлюбленного, выражая надежду, что ради нее он постарается быть и самым мужественным и самым мудрым. Задиг пустился в путь, прося Венеру укрепить его мужество и просветить ум. Прибыв на берег Евфрата накануне великого дня, он вписал свой девиз в список девизов других рыцарей, скрывая, согласно предписанию, свое лицо и имя, и затем отправился отдохнуть в отведенное ему помещение. Его друг Кадор, возвратившийся в Вавилон после тщетных розысков в Египте, распорядился передать ему снаряжение, присланное царицей, а от себя прибавил великолепного персидского коня. Задиг понял, что все это — дары Астарты, и мужество его удвоилось, а любовь преисполнилась новыми упованиями.
На следующий день, когда царица уселась под балдахином, украшенным драгоценными камнями, а вавилонские дамы, вельможи и горожане заняли места в амфитеатре, соперники появились на ристалище. Каждый положил свой девиз к ногам великого мага. Бросили жребий. Девиз Задига оказался последним. Первым выступил на арену некий богатый вельможа по имени Итобад, человек суетный, не блиставший храбростью, неуклюжий и недалекий. Челядь убедила Итобада, что он непременно должен стать царем, и он все время повторял: «Да, такой человек, как я, создан, чтобы царствовать». Он был вооружен с головы до ног; его золотые доспехи блистали зеленой эмалью, на шлеме развевались зеленые перья, копье украшали зеленые ленты. Уже по тому, как Итобад сидел на лошади, все сразу поняли, что скипетр Вавилона небо предназначило не ему. Первый противник вышиб его из седла, а второй опрокинул вверх тормашками на круп лошади. Итобад опять сел в седло, но так неловко, что весь амфитеатр стал хохотать. Третий противник даже не счел нужным пустить в ход копье; увернувшись от нападения, он схватил Итобада за правую ногу и, заставив описать в воздухе дугу, бросил на песок. Оруженосцы, смеясь, подбежали к нему и снова посадили в седло. Четвертый рыцарь, взяв его за левую ногу, тоже бросил на песок, но уже в другую сторону. Когда под общий свист Итобада вели в помещение, где по правилам ему предстояло провести ночь, он еле тащился, но все-таки повторял: «Как не повезло такому человеку, как я!»
Другие рыцари лучше справились со своей задачей. Некоторые победили двух противников подряд, иные даже трех. Но четырех победил один только князь Отам. Наконец наступил черед Задига: он с необычайной ловкостью выбил из седла четырех рыцарей подряд. Теперь все зависело от того, кто из двоих выйдет победителем, Отам или Задиг. На первом вооружение было голубое, с золотой насечкой и голубые перья на шлеме; доспехи Задига сверкали белизной. Зрители разделились на две партии: одни желали успеха голубому рыцарю, другие — белому. Царица с замиранием сердца молила небо за белый цвет.
Бойцы нападали и увертывались с такой ловкостью, наносили друг другу такие искусные удары копьем и так крепко держались в седле, что всем, за исключением царицы, хотелось возвести на престол одновременно двух царей. Наконец, когда кони устали, а копья сломались, Задиг пустил в ход хитрость: он подъехал к голубому рыцарю сзади, вскочил на круп его коня и, схватив соперника поперек туловища, кинул его на арену. Затем, усевшись в седло, стал гарцевать вокруг распростертого Отама. Все зрители закричали: «Победа за белым рыцарем!» Тут Отам в бешенстве вскакивает и хватается за меч; Задиг спрыгивает с коня и тоже обнажает меч. И вот они снова сражаются, и сила и ловкость поочередно торжествуют.
Перья их шлемов, бляхи наручей, кольца панцирей разлетаются под градом стремительных ударов. Рыцари колют и рубят направо и налево, целясь то в голову, то в грудь, отступают, сходятся, примериваются друг к другу, снова сходятся, схватываются, извиваются, словно змеи, нападают, словно львы. От наносимых ударов снопами сыплются искры. Но вот Задиг, собравшись с силами, останавливается, делает ложный выпад, потом повергает противника наземь и обезоруживает его.
— О белый рыцарь, — восклицает Отам, — вам царствовать в Вавилоне!
Царица была вне себя от радости. Белого и голубого рыцарей, согласно установленному порядку, отвели каждого в его помещение, так же как и остальных претендентов. Принесли пищу и прислуживали им немые рабы. Легко догадаться, что Задигу прислуживал карлик царицы. Потом им дали выспаться в одиночестве до следующего утра, то есть до того времени, когда победитель должен был представить свой девиз великому магу и назвать себя.
Задиг, хотя и был влюблен, спал от усталости мертвым сном. Но Итобад, чья каморка была рядом, совсем не спал. Он встал ночью, вошел к Задигу и, взяв его белое вооружение с девизом Задига, положил вместо него свое зеленое.
На рассвете он пошел к великому магу и гордо объявил, что победителем был не кто-нибудь, а такой человек, как он. Это было полной неожиданностью для всех, однако его провозгласили победителем. Задиг между тем продолжал спать. Изумленная и повергнутая в отчаяние Астарта вернулась в Вавилон. К тому времени, когда Задиг проснулся, амфитеатр был уже почти пуст. Задиг стал искать свое вооружение, но нашел только зеленые доспехи, которые ему и пришлось надеть, ибо ничего другого не было. Недоумевая и негодуя, облачился он в них и в этом наряде явился на арену.
Все оставшиеся в амфитеатре и в цирке встретили его свистом. Его окружили со всех сторон и осыпали оскорбительными насмешками. Никогда еще человек не испытывал подобного унижения. Наконец Задиг, потеряв терпение, с саблей в руках заставил обидчиков разбежаться. Но он не знал, что ему предпринять. Он не мог увидеться с царицей, не мог потребовать, чтобы ему вернули белое вооружение, которое она ему прислала, потому что это значило бы ее скомпрометировать. Таким образом, в то время как она предавалась печали, он был в ярости и смятении. Перебирая в уме все свои неудачи, начиная со злоключения с женщиной, ненавидевшей кривых, и кончая пропажею вооружения, он одиноко шел по берегу Евфрата и думал, что родился под несчастливой звездой, обрекавшей его на безвыходные страдания. «Вот что значит, — говорил он себе, — проснуться слишком поздно; если бы я меньше спал, я был бы царем вавилонским и мужем Астарты. Мои знания, честность, мужество постоянно приносили мне только несчастья». Он стал даже роптать на провидение и готов был поверить, что миром управляет жестокий рок, который угнетает добродетельных людей и покровительствует негодяям. Огорчало его и то, что он вынужден был носить зеленые доспехи, навлекшие на него столько насмешек. Он продал их за бесценок проезжавшему мимо купцу и купил у него халат и высокую шапку. В этом наряде он продолжал идти берегом Евфрата и, полный отчаяния, клял в душе провидение, которое неустанно его преследовало.
Отшельник
{538}
Дорогой он встретил отшельника с почтенной седой бородой, доходившей тому до пояса. Старец держал в руках книгу и внимательно ее читал. Остановившись, Задиг отвесил ему глубокий поклон. Отшельник приветствовал его с таким достоинством и кротостью, что Задига охватило желание побеседовать с ним. Он спросил, какую книгу тот читает.
— Это книга судеб, — сказал отшельник. — Не хотите ли почитать?
Задиг взял у него книгу, но, несмотря на то, что знал много языков, не смог прочесть ни единого слова. Это лишь разожгло его любопытство.
— Мне кажется, вы чем-то очень опечалены, — сказал старик.
— Увы, я имею на то много причин, — ответил Задиг.
— Если позволите вам сопутствовать, — продолжал тот, — вы, быть может, не пожалеете об этом; мне удавалось иногда влить бальзам утешения в души несчастных.
Задиг почувствовал глубокое уважение к облику, бороде и книге отшельника. В его словах заключалась как будто высокая мудрость. Отшельник говорил о судьбе, справедливости, нравственности, высшем благе, человеческой слабости, добродетелях и пороках с таким живым и трогательным красноречием, что Задиг ощутил непреоборимое влечение к нему. Он стал настоятельно упрашивать старика не оставлять его до возвращения в Вавилон.
— Я сам хотел просить вас об этом как о милости, — сказал отшельник. — Поклянитесь мне Оромаздом не покидать меня несколько дней, что бы я в это время ни делал.
Задиг поклялся, и они уже вместе продолжали путь.
Вечером путники подошли к великолепному замку. Отшельник попросил гостеприимства для себя и своего молодого друга. Привратник, похожий скорее на знатного барина, впустил их с видом презрительного снисхождения и провел к дворецкому, который показал им роскошные комнаты хозяина. За ужином их посадили в конце стола, и владелец замка не удостоил их даже взглядом. Однако их накормили столь же изысканно и обильно, как остальных. Для умывания им подали золотой таз, украшенный изумрудами и рубинами, спать их уложили в прекрасном покое, а на другое утро слуга принес каждому из них по золотому, после чего обоих отправили на все четыре стороны.
— Хозяин дома, — сказал Задиг дорогой, — кажется мне человеком гордым, но великодушным; гостеприимство его исполнено благородства. — Говоря это, он заметил, что сума отшельника чем-то битком набита, и краем глаза увидел в ней украденный старцем золотой таз. Задиг был поражен тем, что старец его украл, но не решился ничего сказать.
Около полудня отшельник подошел к небольшому домику, в котором жил богатый скряга, и попросил у него гостеприимства на несколько часов. Старый, одетый в поношенное платье слуга принял их грубо, отвел на конюшню и принес им туда несколько гнилых оливок, черствого хлеба и прокисшего пива. Отшельник ел и пил с не меньшим удовольствием, чем накануне, потом обратился к старому слуге, смотревшему в оба, чтобы они чего-нибудь не украли, и торопившему их уйти, дал ему два золотых, полученных утром, и поблагодарил его за оказанное внимание.
— Прошу вас, позвольте мне поговорить с вашим господином, — сказал он в заключение.
Удивленный слуга отвел их к хозяину.
— Великодушный господин, — сказал отшельник, — я могу лишь очень скромно отблагодарить вас за ваше благородное гостеприимство. Соблаговолите принять этот золотой таз как слабый знак моей признательности.
Скупец чуть не упал наземь. Не дав ему времени прийти в себя, отшельник поспешно удалился со своим молодым спутником.
— Отец мой, — спросил его Задиг, — как объяснить все то, что я вижу? Вы совсем не похожи на других людей; вы крадете золотой таз, украшенный драгоценными камнями, у вельможи, оказавшего вам великолепный прием, и отдаете его скряге, который принял вас самым недостойным образом.
— Сын мой, — отвечал старик, — этот гордец, принимающий странников из одного только тщеславия и желания похвастать своими богатствами, станет разумнее, а скряга научится оказывать гостеприимство. Не удивляйтесь ничему и следуйте за мной.
Задиг не мог понять, с кем он имеет дело, — с безрассуднейшим или мудрейшим из смертных, но отшельник говорил так властно, что у Задига, связанного к тому же клятвой, не хватало духа покинуть его.
Вечером они пришли к небольшому, изящной архитектуры, но скромному дому, в котором не было ничего ни от расточительности, ни от скупости. Хозяином оказался философ, который, удалившись от света, целиком посвятил себя занятиям добродетельным и мудрым и, несмотря на это, нисколько не скучал. Он с радостью построил это убежище, где принимал чужестранцев с достоинством, чуждым тщеславия. Он сам встретил обоих путешественников и прежде всего повел их отдохнуть в уютный покой, а немного погодя пригласил к опрятно и вкусно приготовленному ужину, во время которого сдержанно говорил о последних событиях в Вавилоне. Он, видимо, был искренне предан царице и считал, что было бы очень хорошо, если бы на арену в качестве претендента на корону вышел и Задиг.
— Но люди, — прибавил он, — не заслуживают такого государя.
Эти слова заставили Задига покраснеть и еще сильнее почувствовать свои несчастья. В ходе беседы сотрапезники единодушно признали, что события в этом мире не всегда происходят так, как того желали бы наиболее разумные из людей. Но отшельник все время утверждал, что никто не знает путей провидения и что люди не правы, когда берутся судить о целом по ничтожным крупицам, доступным их пониманию.
Заговорили о страстях.
— Как они гибельны! — воскликнул Задиг.
— Страсти — это ветры, надувающие паруса корабля, — возразил отшельник. — Иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать. Желчь делает человека раздражительным и больным, но без желчи человек не мог бы жить. Все на свете опасно — и все необходимо.
Заговорили о наслаждении, и отшельник стал доказывать, что наслаждение — дар божества.
— Ибо, — сказал он, — человек не может сам себе давать ни ощущений, ни идей; все это он получает. Печали и удовольствия приходят к нему извне, равно как и сама жизнь.
Задиг удивился, как это человек, делавший столь сумасбродные вещи, может так здраво рассуждать. Наконец после беседы, и поучительной и приятной, хозяин проводил обоих путешественников в отведенный для них покой, благословляя небо, пославшее ему столь мудрых и добродетельных гостей. Он с такой непринужденностью и благородством предложил им денег, что они не могли этим оскорбиться. Отшельник от денег отказался и сказал, что хочет проститься с ним, так как еще до рассвета намерен отправиться в Вавилон. Попрощались они очень тепло; особенно был растроган Задиг, который проникся уважением и симпатией к этому достойному человеку.
Когда отшельник и Задиг остались в приготовленном для них покое, они долго восхваляли хозяина. На рассвете старец разбудил своего спутника.
— Пора отправляться, — сказал он ему. — Пока все спят, я хочу оставить этому человеку свидетельство своего уважения и преданности. — И с этими словами он взял факел и поджег дом.
Задиг в ужасе вскрикнул и попытался помешать ему совершить столь ужасное дело, но отшельник со сверхъестественной силой повлек его за собой. Дом был весь в огне. Отшельник, уже далеко отошедший с Задигом, спокойно смотрел на пожар.
— Хвала богу, — сказал он, — дом нашего хозяина разрушен до основания! Счастливец!
При этих словах Задигу захотелось одновременно и рассмеяться, и наговорить дерзостей почтенному старцу, и прибить его, и убежать от него. Но ничего этого он не сделал и, против воли повинуясь обаянию отшельника, покорно пошел за ним к последнему ночлегу.
Они пришли к одной милосердной и добродетельной вдове, у которой был четырнадцатилетний племянник, прекрасный юноша, ее единственная надежда. Вдова приняла их со всем возможным гостеприимством. На другой день она велела племяннику проводить гостей до моста, который недавно провалился и стал опасен для пешеходов. Услужливый юноша шел впереди. Когда они взошли на мост, отшельник сказал ему:
— Подойдите ко мне, я хочу засвидетельствовать мою признательность вашей тетушке. — С этими словами он схватил его за волосы и бросил в воду. Мальчик упал, показался на минуту на поверхности и снова исчез в бурном потоке.
— О чудовище! О изверг рода человеческого! — закричал Задиг.
— Вы обещали мне быть терпеливым, — прервал его отшельник. — Узнайте же, что под развалинами дома, сгоревшего по воле провидения, хозяин нашел несметные богатства, а мальчик, который погиб по воле того же провидения, через год убил бы свою тетку, а через два — вас.
— Кто открыл тебе все это, варвар? — воскликнул Задиг. — Да если бы ты даже прочел это в книге судеб, кто дал тебе право утопить дитя, которое не причинило тебе зла?
Произнеся эти слова, вавилонянин вдруг увидел, что борода у старца исчезла и лицо его стало молодым. Одежда отшельника как бы растаяла, четыре великолепных крыла прикрывали величественное, лучезарное тело.
— О посланник неба! О божественный ангел! — воскликнул Задиг, падая ниц. — Значит, ты сошел с высоты небес, дабы научить слабого смертного покоряться предвечным законам?
— Люди, — отвечал ему ангел Иезрад, — судят обо всем, ничего не зная. Ты больше других достоин божественного откровения.
Задиг попросил дозволения говорить.
— Я не доверяю своему разумению, — сказал он, — но смею ли я просить тебя рассеять одно сомнение: не лучше ли было бы исправить это дитя и сделать его добродетельным вместо того, чтобы утопить?
Иезрад возразил:
— Если бы он был добродетелен и остался жить, судьба определила бы ему быть убитым вместе с женой, на которой бы он женился, и с сыном, который родился бы от нее.
— Что же, — спросил Задиг, — значит, преступления и бедствия необходимы? И необходимо, чтобы добродетельные люди были несчастны?
— Несчастья, — отвечал Иезрад, — всегда удел злодеев, существующих, дабы с их помощью испытывать немногих праведников, рассеянных по земле. И нет такого зла, которое не порождало бы добро.
— А что произошло бы, — снова спросил Задиг, — если бы вовсе не было зла и в мире царило одно добро?
— Тогда, — отвечал Иезрад, — этот мир был бы другим миром и связь событий определила бы другой премудрый порядок. Но такой совершенный порядок возможен только там, где вечно пребывает верховное существо, к которому зло не смеет приблизиться, существо, создавшее миллионы миров, ни в чем не похожих друг на друга, ибо бесконечное многообразие — один из атрибутов его безграничного могущества. Нет двух древесных листов на земле, двух светил в необозримом пространстве неба, которые были бы одинаковы, и все, что ты видишь на маленьком атоме, где родился, должно пребывать на своем месте и в свое время, согласно непреложным законам всеобъемлющего. Люди думают, будто мальчик упал в воду случайно, что так же случайно сгорел и дом, но случайности не существует, — все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвозвестие. Вспомни рыбака, который считал себя несчастнейшим человеком в мире. Оромазд послал тебя, дабы ты изменил его судьбу. Жалкий смертный, перестань роптать на того, перед кем должен благоговеть!
— Но… — начал Задиг. Но ангел уже воспарял на десятое небо.
Задиг упал на колени и покорился воле провидения. Ангел крикнул ему из воздушных сфер:
— Ступай в Вавилон!
Загадки
Потрясенный так, словно рядом с ним ударила в землю молния, Задиг слепо шел вперед. Он добрался до Вавилона в тот самый день, когда соперники уже собрались в большом зале дворца, чтобы отгадать загадки и ответить на вопросы великого мага. Все были в сборе, кроме рыцаря в зеленых доспехах. Едва Задиг вступил в город, как его окружила толпа народа. На него не могли насмотреться, люди благословляли его и желали ему стать царем. Завистник, увидев его, вздрогнул и отвернулся. Народ донес Задига на руках до самого входа в собрание. Страх и надежда овладели сердцем царицы, когда ей сообщили о его прибытии. Ее снедало беспокойство, она не могла понять, почему Задиг был без вооружения и каким образом Итобад завладел белыми доспехами. При появлении Задига поднялся невнятный шум. Все были удивлены и обрадованы, увидев его, но присутствовать на собрании позволялось только участникам состязания.
— Я тоже сражался, — сказал Задиг, — но другой носит здесь мои доспехи; в ожидании часа, когда я буду иметь честь доказать это, прошу допустить меня к разгадыванию загадок.
Собрали голоса: всем присутствующим была еще так памятна его безукоризненная честность, что они единодушно уважили его просьбу.
Великий маг предложил сперва такой вопрос:
— Что на свете всего длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее, что легче всего делится на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно больших, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего жалеют, без чего нельзя ничего совершить, что пожирает все ничтожное и воскрешает все великое?
Итобад отвечал первый. Он сказал, что такой человек, как он, ничего не смыслит в загадках, и довольно того, что он одержал победу с копьем в руке. Одни говорили, что в загадке речь идет о счастье, другие — о земле, третьи — о свете. Задиг сказал, что в ней говорится о времени.
— Потому что, — добавил он, — на свете нет ничего более длинного, ибо оно мера вечности, и нет ничего более короткого, ибо его не хватает на исполнение наших намерений; нет ничего медленнее для ожидающего, ничего быстрее для вкушающего наслаждение; оно достигает бесконечности в великом и бесконечно делится в малом; люди пренебрегают им, а потеряв — жалеют; все совершается во времени; оно уничтожает недостойное в памяти потомства и дарует бессмертие великому.
Все признали, что Задиг прав.
Потом была задана такая загадка:
— Что люди получают, не выражая благодарности, чем пользуются без раздумья, что передают другим в беспамятстве и теряют, сами того не замечая?
Каждый дал свое решение, но только Задиг правильно сказал, что это — жизнь. Так же легко разгадал он и остальные загадки. Итобад твердил, что это совсем не мудрено и что он тоже не ударил бы лицом в грязь, дай он себе труд немножко подумать. Ответы Задига на вопросы о правосудии, о высшем благе, об искусстве управлять государством были признаны самыми основательными.
— Очень жаль, — говорили все, — что такой мудрый человек вместе с тем такой плохой воин.
— О прославленные мужи! — сказал Задиг. — Я имел честь стать победителем на ристалище. Белое вооружение принадлежит мне. Итобад похитил его у меня, когда я спал, полагая, вероятно, что оно ему больше к лицу, чем зеленое. Я готов в вашем присутствии доказать ему с одним лишь мечом против всех прекрасных белых доспехов, которые он у меня утащил, что честь победы над храбрым Отамом принадлежит мне.
Итобад принял вызов весьма самонадеянно. Он не сомневался в легкой победе, поскольку был с головы до ног закован в броню, а облачение его противника состояло из ночного колпака и халата. Задиг вынул из ножон меч, сперва отвесив поклон царице, которая смотрела на происходящее с радостью и страхом. Итобад обнажил свой меч, никому не поклонившись. Он бросился на Задига, как человек, которому нечего бояться, и намеревался рассечь ему голову. Но Задиг парировал удар, подставив противнику меч у самой рукояти, так что меч Итобада переломился. Тогда Задиг обхватил врага, поверг его на землю, приставив острие меча к просвету в латах, и крикнул:
— Сдавайтесь, или я вас убью!
Итобад, изумленный, что такого человека, как он, постигла неудача, перестал сопротивляться, и Задиг спокойно снял с него роскошный шлем, великолепные латы, красивые наручи и блестящие поножи, надел их на себя и в этом снаряжении бросился к ногам Астарты. Кадор без труда доказал, что снаряжение принадлежит Задигу, и тот единодушно был избран царем, к вящей радости Астарты, которая после стольких испытаний наслаждалась тем, что все наконец нашли любимого ею человека достойным быть ее супругом. Итобад утешился тем, что приказал своим домочадцам величать себя монсеньером. Задиг стал царем и был счастлив. Он навсегда запомнил то, что ему говорил ангел Иезрад. Помнил он также о песчинке, ставшей алмазом. Царица и он благословляли провидение.
Задиг даровал свободу прекрасной капризнице Мисуфе. Он приказал разыскать разбойника Арбогада и сделал его военачальником своей армии, обещая возвести в высший чин, если тот будет честно воевать, и повесить, если будет разбойничать.
Сеток был вызван из Аравии вместе с прекрасной Альмоной и поставлен во главе торгового ведомства Вавилона. Кадор был награжден и обласкан по заслугам: он остался другом царя, так что Задиг был единственным в мире монархом, имеющим друга. Маленький немой тоже не был забыт. Рыбаку дали превосходный дом и заставили Оркана заплатить ему много денег и вернуть жену. Но рыбак стал разумнее и взял только деньги.
Прекрасная Земира не могла утешиться, что поверила, будто Задиг окривеет, а Азора не переставала раскаиваться в своем намерении отрезать ему нос. Он утешил их богатыми подарками. Завистник умер от злобы и стыда. Государство наслаждалось миром, славой и изобилием. То был лучший век на земле: ею управляли справедливость и любовь. Все благословляли Задига, а Задиг благословлял небеса.
«Кандид»
<Две главы, не вошедшие в окончательную редакцию повести «Задиг»>
(Были помещены после главы «Свидания»)
Танец
Сетоку нужно было поехать по торговым делам на остров Серендиб, но в первый месяц супружества (который, как известно, называется медовым) он даже представить себе не мог, что когда-нибудь — не только сейчас, но и в далеком будущем — расстанется с женой. Поэтому он попросил Задига съездить вместо него.
«Увы, — подумал Задиг, — неужели мне придется еще больше увеличить расстояние, отделяющее меня от прекрасной Астарты? Но я должен служить своим благодетелям». Сказав это, он поплакал и отправился в путь.
Пробыв совсем недолго на острове Серендиб{539}, Задиг прослыл среди жителей человеком необыкновенным. Он стал посредником-судьею во всех спорах между купцами, другом мудрецов и советником тех немногих, которые принимают советы. Царь острова пожелал повидать его и побеседовать с ним. Он быстро оценил достоинства Задига и, убедившись в его мудрости, сделал его своим другом. Дружба и уважение царя пугали Задига. День и ночь он помнил о несчастье, которое навлекла на него благосклонность Моабдара. «Я нравлюсь царю, — думал он, — не приведет ли это меня к гибели?» Однако он не мог противиться благосклонности его величества, ибо нельзя не признать, что Набусан, царь Серендиба, сын Нусанаба, сына Набасуна, сына Санбуна, был одним из лучших государей Азии, и тому, кто беседовал с ним, трудно было не полюбить его.
Этого доброго монарха в одно и то же время превозносили, обманывали и обкрадывали. Всякий тащил, сколько мог. Главный сборщик податей на острове Серендиб подавал пример, которому в точности следовали остальные. Зная это, царь много раз менял казначеев, но не мог изменить установившегося обыкновения делить царские доходы на две неравные части, из которых меньшая шла царю, а большая — управителям.
Царь рассказал о своем горе мудрому Задигу.
— Вы так много знаете, — сказал он ему, — посоветуйте мне, как найти казначея, который бы меня не обкрадывал.
— Что ж, — отвечал Задиг, — я знаю верный способ найти человека, чистого на руку.
Обрадованный царь спросил, обнимая его, что это за способ.
— Заставьте всех, кто станет домогаться места казначея, протанцевать перед вами, — сказал Задиг. — Тот, кто протанцует с наибольшей легкостью, непременно окажется самым честным человеком.
— Вы шутите! — воскликнул царь. — Вот удивительный способ выбирать сборщика моих доходов! Неужели вы серьезно утверждаете, что тот, кто лучше других сделает антраша, будет искуснее и честнее всех в управлении казной?
— Не ручаюсь, что он будет искуснее, — сказал Задиг, — но утверждаю, что, несомненно, будет честнее прочих.
Задиг говорил уверенно, и царь решил, что он и в самом деле умеет каким-то сверхъестественным способом распознавать казначеев.
— Я не люблю ничего сверхъестественного, — сказал Задиг. — Люди, совершающие чудеса, и книги, которые их расписывают, никогда мне не нравились. Если вы позволите мне, ваше величество, проделать этот опыт, то убедитесь, что способ мой очень прост и всем доступен.
Набусан, царь Серендиба, удивился еще более, услыхав, что этот способ прост и что Задиг не выдает его за чудо.
— Ну, хорошо, — сказал он, — делайте как знаете.
— Только предоставьте мне полную свободу, и вы получите от этого опыта больше выгоды, чем ожидаете, — сказал Задиг.
В тот же день он от имени царя объявил, что домогающиеся места главного сборщика податей его всемилостивейшего величества Набусана, сына Нусанаба, нарядившись в легкие шелковые одежды, должны собраться в царской передней в первый день месяца Крокодила. Явились шестьдесят четыре человека. В соседний зал привели скрипачей и приготовили все для бала; но дверь в этот зал была заперта, и, чтобы попасть в него, надо было пройти через узкую и довольно темную галерею. Служитель вызывал и провожал каждого из кандидатов поодиночке, оставляя их на несколько минут одних в галерее. Царь, знавший в чем дело, выставил в этой галерее свои сокровища. Когда все соискатели вошли в зал, его величество приказал начать танцы. Никогда еще на свете не было столь тяжеловесных и неуклюжих танцоров: головы у них были опущены, спины согнуты, руки точно приклеены к бедрам. «Ах, мошенники!» — негодовал про себя Задиг. Только один из них выделывал изящные па и, высоко держа голову, смотрел с уверенностью, свободно двигаясь, не горбясь и не сгибая колен.
— Вот честный и благородный человек! — повторял Задиг.
Царь обнял этого танцора и назначил его своим казначеем. Остальные же были подвергнуты наказанию и оштрафованы по всей справедливости, ибо каждый во время своего пребывания в галерее до того набил карманы, что с трудом поворачивался. Царь горько сетовал на человеческую природу, когда обнаружил, что из шестидесяти четырех танцоров только один не оказался плутом. Темную галерею назвали «галереей искушения». В Персии этих шестьдесят трех вельмож посадили бы на кол, в других странах учредили бы следственную комиссию, которая израсходовала бы втрое больше украденной суммы и ничего не возвратила бы в казну государя; а кое-где, оправдав воров, подвергли бы опале ловкого танцора. В Серендибе же их только присудили пополнить государственную казну, потому что Набусан был очень снисходителен.
Исполненный благодарности, он подарил Задигу такую крупную сумму денег, какой никогда еще ни одному казначею не удавалось украсть у своего монарха. Задиг употребил эти деньги на посылку гонца в Вавилон, дабы получить сведения о судьбе Астарты. Голос его дрожал, когда он отдавал это приказание, кровь прилила к сердцу, в глазах потемнело, и он едва не лишился чувств. Задиг проводил гонца, постоял на берегу, пока тот садился на корабль, а потом пошел к царю и, не видя ничего и думая, что он один в комнате, громко произнес слово «любовь».
— Ах, любовь, — сказал царь, — о ней-то я и думаю всечасно! Вы угадали, какое горе меня гложет. Вы поистине великий человек и, надеюсь, научите меня, как найти искренне преданную мне женщину, так же как помогли мне найти бескорыстного казначея.
Овладев собой, Задиг обещал помочь ему в любви, как помог в финансах, хотя сделать это будет неизмеримо труднее.
Голубые глаза
— Мое тело и сердце… — сказал царь Задигу. При этих словах вавилонянин не удержался и прервал его величество.
— Как я благодарен вам, что вы не сказали: «ум и сердце»! — воскликнул он. — В Вавилоне только и речи, что о них; книги тоже полны рассуждениями об уме и сердце, хотя сочинены они людьми, у которых нет ни того, ни другого. Но, молю вас, государь, продолжайте.
Набусан снова заговорил:
— Мое тело и сердце созданы для любви. Что касается тела, оно получает полное удовлетворение. К моим услугам здесь сто женщин — прекрасных, идущих навстречу царским желаниям, предупредительных, даже страстных или прикидывающихся страстными. Но сердце мое далеко не так счастливо: я слишком хорошо понимаю, что эти женщины ласкают царя серендибского, а до Набусана им нет дела. Я не хочу сказать, что подозреваю своих жен в неверности, нет, но я мечтаю найти женщину, которая всей душой была бы моею. За такое сокровище я отдал бы всех красавиц, чьими прелестями обладаю. Попытайтесь найти среди сотни моих жен хотя бы одну, в чьей любви я мог бы не сомневаться.
Задиг ответил ему теми же словами, что и на просьбу о казначее:
— Государь, предоставьте мне свободу действий и прежде всего позвольте располагать по своему усмотрению драгоценностями, которые были выставлены в «галерее искушения». Обещаю возвратить их вам в целости.
Царь согласился ни в чем ему не препятствовать. Тогда Задиг дал позволение тридцати трем самым безобразным во всем Серендибе горбунам, тридцати трем прекраснейшим пажам и тридцати трем самым красноречивым и сильным бонзам{540} в любое время свободно входить в покои султанш. Каждый горбун мог подарить султанше четыре тысячи золотых, и в первый же день все горбуны были осчастливлены. Пажи, которые не могли дать ничего, кроме самих себя, восторжествовали лишь по прошествии двух или трех дней. Бонзам стоило еще большего труда одержать победу, но наконец тридцать три ханжи все же отдались им. Царь наблюдал все это сквозь жалюзи своих окон, из которых видны были комнаты султанш, и был крайне изумлен. Из ста жен девяносто девять изменили ему на его глазах.
Верной его величеству осталась лишь совсем молоденькая девушка, недавно привезенная, к которой он еще ни разу не приближался. К ней подсылали одного, двух, трех горбунов, которые предлагали ей до двадцати тысяч золотых, но она была неподкупна и только смеялась над горбунами, полагавшими, что золото их красит. Затем к ней подослали двух самых красивых пажей, но она сказала, что царь, на ее взгляд, красивее их. Тогда к ней впустили самого красноречивого из бонз, а потом самого предприимчивого, — первого она назвала болтуном, а у второго вообще не нашла ни малейших достоинств.
— Тут решает сердце, — говорила она. — Я никогда не поддамся ни золоту какого-то горбуна, ни прелестям какого-то юнца, ни искушениям какого-то бонзы, я буду вечно любить одного только Набусана, сына Нусанаба, и буду ждать, пока он удостоит меня своей любви.
Царь был вне себя от радости, удивления и нежности. Он отобрал все деньги, доставившие горбунам успех, и подарил их прекрасной Фалиде, — так звали эту молодую женщину. Он отдал ей свое сердце; она этого вполне заслужила, ибо никогда еще молодость не расцветала так пышно, никогда красота не была столь пленительна. Верность исторической правде не позволяет умолчать о том, что она дурно делала реверанс, зато танцевала она, как фея, пела, как сирена, умела вести беседу, как грация, и вообще была преисполнена талантов и добродетелей.
Набусан, любимый ею, обожал ее. Но у нее были голубые глаза, что и послужило источником великих несчастий. Существовал древний закон, запрещавший царям любить тех женщин, которых греки называли βοῶπις [19]. Придумал его пять тысяч лет назад верховный бонза: он возвел это проклятие на голубые глаза в основной закон государства только ради того, чтобы завладеть любовницей первого из царей Серендиба. К Набусану явились с увещеваниями представители всех сословий; ораторы откровенно говорили о том, что наступили последние дни государства, что испорченность нравов достигла предела, что всему миру грозит страшное бедствие, что, одним словом, Набусан, сын Нусанаба, любит два больших голубых глаза; горбуны, сборщики податей, бонзы и брюнетки оглашали государство громкими сетованиями.
Дикие племена, жившие на севере Серендиба, воспользовались общим недовольством и вторглись во владения доброго Набусана. Он попросил у своих подданных денежной помощи, но бонзы, владевшие половиной государственных доходов, ограничились тем, что воздели руки к небу и отказались опустить их в свои сундуки, чтобы помочь царю. Они положили на музыку очень красивые молитвы, а государство отдали на разграбление варварам.
— О мой дорогой Задиг! Не поможешь ли ты мне и на этот раз выпутаться из беды? — горестно воскликнул Набусан.
— С величайшей охотой, — отвечал Задиг. — Вы получите от бонз столько денег, сколько захотите. Оставьте на произвол судьбы земли, на которых расположены их замки, и защищайте только свои.
Набусан так и сделал. Бонзы пришли, пали к ногам царя и стали просить о помощи. Царь отвечал им молитвой о спасении их земель, положенной на прекрасную музыку. Тогда бонзы дали денег, и царь счастливо закончил войну.
Так Задиг своими мудрыми и благими советами и величайшими заслугами навлек на себя непримиримую ненависть самых могущественных людей в государстве. Бонзы и брюнетки поклялись его погубить, сборщики податей и горбуны тоже не щадили его; наконец, они внушили недоверие к нему даже доброму Набусану. Заслуги часто остаются в передней, а подозрения проникают в покои государя, как говорит Зороастр. Каждый день рождались новые обвинения, а, как известно, первое обвинение не достигает цели, второе задевает, третье ранит, четвертое убивает.
Все это встревожило Задига, и так как он счастливо закончил дела своего друга Сетока и уже отослал ему деньги, то думал теперь лишь о том, как бы уехать с острова и самому разузнать о судьбе Астарты. «Ибо, — говорил он себе, — если я останусь на Серендибе, бонзы посадят меня на кол… Но куда двинуться? В Египте я буду рабом, в Аравии меня, по всей вероятности, сожгут, в Вавилоне удавят. Но все же я должен узнать, что с Астартой. Поедем и посмотрим, что готовит мне моя печальная судьба».
На сем кончается найденная нами рукописная история Задига. Эти две главы, несомненно, должны быть помещены после главы двенадцатой, то есть до прибытия Задига в Сирию: известно, что у него было много других приключений, потом прилежно описанных. Просят лиц, знающих восточные языки, сообщить об этих записях, если оные попадут к ним в руки.
Микромегас Философская повесть Перевод Е. Евниной
{541}
Глава первая
Путешествие обитателя звезды Сириус на планету Сатурн
На одной из планет, которые вращаются вокруг звезды, именуемой Сириусом, жил некий весьма разумный молодой человек, с которым я имел честь познакомиться во время его последнего путешествия по нашему маленькому муравейнику. Его звали Микромегас{542} — имя, подобающее всем великим. Рост Микромегаса равнялся восьми лье: под восемью лье я разумею двадцать четыре тысячи геометрических шагов, по пяти футов каждый.
Найдутся алгебраисты, люди весьма полезные обществу, которые сейчас же схватятся за перо и высчитают, что рост господина Микромегаса, обитателя Сириуса, достигает двадцати четырех тысяч шагов, другими словами — ста двадцати тысяч футов, в то время как рост жителей земли не превышает пяти футов, а окружность нашей планеты равна девяти тысячам миль; следовательно, скажут они, совершенно очевидно, что планета, которая его породила, в двадцать один миллион шестьсот тысяч раз больше нашей малютки Земли. В природе это явление совершенно естественное и заурядное. Владения некоторых государей Германии и Италии, которые можно объехать в какие-нибудь полчаса, при сравнении их с империями Турции, Московии или Китая дают лишь слабое представление об удивительных различиях, свойственных, по воле природы, всему сущему.
Так как стан его светлости равен указанной мной высоте, наши ваятели и живописцы не удивятся тому, что в обхвате он имеет пятьдесят тысяч футов, — в общем, очень приятная пропорция{543}.
Микромегас — один из просвещеннейших умов нашего времени; он знает множество вещей, и у него даже есть изобретения; ему не было и двухсот пятидесяти лет, и он, согласно обычаю, еще учился в иезуитском коллеже своей планеты, когда, ведомый лишь собственным разумением, составил и доказал более пятидесяти теорем, то есть восемнадцатью больше, чем Блез Паскаль, который, доказав тридцать две, играючи, как утверждает его сестра{544}, стал после этого довольно посредственным геометром и очень плохим метафизиком. К четыремстам пятидесяти годам — на пороге юности — Микромегас занялся анатомическим исследованием тех крохотных насекомых, которые не имеют и сотни футов в диаметре и не поддаются наблюдению в обычный микроскоп; он написал о них весьма любопытную книгу, навлекшую, однако, на него кое-какие неприятности. Муфтий{545} его страны, страшный придира и вместе с тем невежда, нашел в книге положения подозрительные, опасные, дерзкие, еретические и отдающие ересью, после чего начал яростно преследовать автора; речь шла о том, тождественна ли субстанциональная форма у блох и улиток Сириуса. Микромегас защищался весьма остроумно и привлек на свою сторону женщин; тяжба длилась двести двадцать лет, и в конце концов муфтий добился того, что книга была запрещена законниками, хотя они ее и не читали, а автор получил приказ не являться ко двору в течение восьмиста лет.
Он не слишком огорчился удалением от двора, погрязшего в суете и дрязгах. Сочинив очень забавную песенку о муфтии, которая, впрочем, того ничуть не смутила, Микромегас отправился в путешествие по чужим планетам, дабы, как говорится, завершить образование ума и сердца{546}. Тот, кто путешествовал только в дилижансах или каретах, будет, без сомнения, очень удивляться экипажам жителей горних сфер, потому что мы, на нашей кучке грязи, не способны представить себе чего-либо, выходящего за пределы земных привычек. Но наш путешественник великолепно знал и законы тяготения, и все силы притяжения и отталкивания. И он использовал их так разумно, что, иной раз оседлав солнечный луч, иной раз прибегнув к помощи какой-нибудь кометы, переправлялся вместе со своими слугами с планеты на планету, подобно птице, порхающей с ветки на ветку. Так в короткое время он изъездил весь Млечный Путь, и я не вправе умолчать о том, что в просветы между звездами, коими этот последний усеян, Микромегас так и не узрел того прекрасного эмпирического неба, которое, по утверждению знаменитого викария Дерхема{547}, было обнаружено этим последним посредством обыкновенной подзорной трубы. Я отнюдь не хочу сказать, что господина Дерхема обмануло зрение, — нет, сохрани меня бог! Но Микромегас бывал в тех местах, он внимательный наблюдатель, а я стремлюсь никому не противоречить.
Изрядно поездив, Микромегас добрался до планеты Сатурн. И как ни привычен он был ко всяким диковинам, все же при виде крайней малости этой планеты и ее обитателей он не мог удержаться от улыбки превосходства, которая иногда невольно появляется даже на устах мудрецов. Ведь, в конце концов, Сатурн всего только в девятьсот раз больше Земли, и его жители — просто карлики, ростом в тысячу туазов{548} или около того. Вначале он немного посмеялся над ними со своими приближенными, примерно так, как итальянский музыкант{549}, приехавший во Францию, смеется над музыкой Люлли{550}. Но, обладая здравым умом, он быстро понял, что нельзя считать смехотворным мыслящее существо на том лишь основании, что оно всего-навсего шести тысяч футов ростом. Сперва поразив сатурнийцев, Микромегас потом сблизился с ними. Особенно тесную дружбу он завязал с секретарем Сатурнийской академии{551}, человеком на редкость умным, который, правда, ничего не изобрел, но зато очень хорошо излагал суть чужих изобретений, неплохо сочинял легкие стишки и делал сложные вычисления. Для развлечения читателей я изложу здесь примечательную беседу, которая произошла однажды между Микромегасом и господином секретарем.
Глава вторая
Разговор обитателя Сириуса с жителем Сатурна
Когда его светлость улегся, а секретарь склонился к нему:
— Нужно признать, — сказал Микромегас, — что природа очень многообразна.
— Да, — сказал сатурниец, — природа — это клумба, чьи цветы…
— Бросьте вы вашу клумбу, — прервал его Микромегас.
— Природа, — снова начал секретарь, — это сборище блондинок и брюнеток{552}, чьи уборы…
— Какое мне дело до ваших брюнеток! — воскликнул житель Сириуса.
— Она — это галерея портретов, чьи лица…
— Ну нет, — возразил путешественник, — говорю вам еще раз: природа — это природа. Зачем искать для нее сравнений?
— Чтобы доставить вам удовольствие, — ответил секретарь.
— А я вовсе не хочу, чтобы мне доставляли удовольствие, — ответил путешественник. — Я хочу, чтобы меня просвещали. Расскажите для начала, сколько органов чувств у людей вашей планеты?
— Семьдесят два, — сказал академик, — и мы постоянно жалуемся на то, что их слишком мало. Наше воображение улетает за пределы наших возможностей. Да, нам даны семьдесят два чувства, и одно кольцо, и пять лун{553}, но мы все время чувствуем свою ограниченность; при всей нашей любознательности и немалом числе страстей, порожденных семьюдесятью двумя чувствами, мы еще находим время скучать.
— Охотно вам верю, — сказал Микромегас. — Мы, жители Сириуса, одарены примерно тысячью чувств, и все-таки в нас всегда живет какое-то смутное стремление, неопределенное беспокойство, которое непрестанно напоминает нам о том, что мы ничтожны и что есть существа, куда более совершенные, чем мы. Мне довелось немного попутешествовать: я видел смертных, намного уступающих нам, видел и намного нас превосходящих, но никогда не видел таких, чьи желания были бы ограничены истинными нуждами, а нужды — возможностью их удовлетворения. Когда-нибудь я, быть может, набреду на планету, где царит полная гармония, но пока что мне никто не указал, где такая планета находится.
Тут обитатель Сириуса и житель Сатурна пустились во всевозможные догадки, но после многих рассуждений, столь же хитроумных, сколь и неопределенных, решили, что пора вернуться к сути дела.
— Какой срок жизни вам отпущен? — спросил приезжий с Сириуса.
— О, совсем ничтожный, — ответил маленький сатурниец.
— Вот и мы, вроде вас, вечно жалуемся на мимолетность жизни, — сказал великан. — Таков, очевидно, всеобщий закон природы.
— Увы, — вздохнул сатурниец, — мы живем всего лишь пятьсот полных оборотов солнца{554} (по нашему счету это составляет примерно пятнадцать тысяч лет); как видите, мы умираем почти в то же мгновение, когда появляемся на свет; наше существование не более чем точка, наш век — мгновение, наша планета — атом. Едва начинаешь приобретать кое-какие познания, как, опережая опыт, приходит смерть. Поэтому я и не осмеливаюсь строить планы на будущее, я чувствую себя каплей воды в беспредельном океане. Мне стыдно, особенно перед вами, за тот смехотворный образ, какой являю собой в этом мире.
— Не будь вы философом, — возразил Микромегас, — я побоялся бы опечалить вас, сообщив, что наша жизнь в семьсот раз продолжительнее вашей; но вы слишком хорошо знаете, что когда приходит время отдать тело стихиям и возродить природу в другой форме, иными словами — умереть, когда наступает этот час превращения, уже решительно все равно, жили вы вечность или всего один день. Я побывал в местах, где обитатели в тысячу крат долговечнее нас, но они ропщут так же, как мы. Есть, однако, везде и здравомыслящие люди, которые умеют мириться со своей долей и благодарить творца вселенной. Он создал в этом мире множество различий и вместе с тем некое удивительное единообразие{555}. Например, все мыслящие существа различны и в то же время схожи друг с другом даром мысли и желаний. Материя вездесуща, но на каждой планете у нее свои особые свойства. Сколько их, по вашим подсчетам, у материи Сатурна?
— Если вы говорите о тех свойствах, без которых эта планета не могла бы, по нашему мнению, существовать в ее нынешнем виде, то мы насчитываем их триста: протяженность, непроницаемость, подвижность, тяжесть, делимость и другие.
— Очевидно, — сказал пришелец с Сириуса, — это небольшое число сообразуется с намерениями творца в отношении вашего небольшого обиталища. Меня восхищает его мудрость: я вижу повсюду не только различия, но и соответствия. Ваша планета мала, ее обитатели тоже. У вас мало чувств, у вашей материи мало свойств — все это дело рук провидения. А какого цвета ваше солнце при тщательном рассмотрении?
— Белое с сильной желтизной, — сказал сатурниец, — а если разложить один из его лучей, мы обнаружим в нем семь цветов.
— Наше солнце красноватого цвета, — заметил житель Сириуса, — а первичных цветов у нас тридцать девять. Солнца, к которым я приближался, так же отличаются одно от другого, как лица жителей вашей планеты.
Он задал еще много подобных вопросов и, наконец, осведомился, сколько на Сатурне существенно различных субстанций. Оказалось, их насчитывается не более тридцати, как-то: бог, пространство, материя, существа, имеющие объем и чувствующие, существа, имеющие объем, чувствующие и мыслящие, существа мыслящие, но не имеющие объема, существа проницаемые, непроницаемые и прочие. Житель Сириуса, который на своей родине знал три сотни таких субстанций, а за время путешествий открыл еще три тысячи, привел в несказанное удивление сатурнийского философа. Сообщив друг другу немногое из того, что они знали, и многое из того, чего не знали, проговорив в течение целого солнечного оборота, друзья решили совершить небольшое философское путешествие.
Глава третья
Совместное путешествие жителя Сириуса с жителем Сатурна
Наши философы, оснастившись немалым запасом математических инструментов, уже приготовились направить свои стопы в атмосферу Сатурна, когда, прослышав об этом, к ним явилась любовница сатурнийца и, проливая слезы, начала его упрекать. Эта хорошенькая брюнетка, всего лишь шестиста шестидесяти туазов ростом, с успехом возмещала другими прелестями миниатюрность своего стана.
— О жестокий! — вскричала она. — Полторы тысячи лет противилась я тебе, и вот, после того как наконец сдалась и провела в твоих объятиях едва лишь сто лет, ты покидаешь меня и отправляешься путешествовать с великаном из другого мира! Что ж, ступай, ты искатель новых ощущений, тебе неведома любовь. Будь ты истинным сатурнийцем, ты сохранил бы мне верность. Куда тебя влечет? Чего ты ищешь? Наши пять лун — и то более оседлы, чем ты, кольцо нашего Сатурна — и то более постоянно. Все кончено, я больше никогда и никого не полюблю.
Философ поцеловал ее и заплакал вместе с ней, хотя и был философом с головы до пят; а дама, очнувшись от обморока, пошла утешаться с каким-то местным франтом.
Между тем наши любознательные друзья пустились в путь; сначала они прыгнули на кольцо Сатурна, которое оказалось довольно плоским, как правильно угадал некий знаменитый обитатель нашей маленькой планеты{556}. Затем они начали перебираться с луны на луну; вблизи последней из лун пролетала комета, и они, нагрузившись научными приборами, прыгнули на нее вместе со своими слугами. Приблизительно через сто шестьдесят миллионов лье они достигли спутников Юпитера. Перепрыгнув на самый Юпитер, они прожили там целый год и проникли за это время во множество интереснейших тайн, которые были бы ныне опубликованы в печати, если бы не господа инквизиторы, нашедшие некоторые положения несколько рискованными. Тем не менее я читал рукопись в библиотеке прославленного архиепископа де ***, который разрешил мне пользоваться его книгами с таким великодушием и добротою, что я не нахожу достойных слов для похвал.
Но возвратимся к нашим путешественникам. Покинув Юпитер, они пересекли пространство приблизительно в сто миллионов лье и поравнялись с Марсом, который, как известно, в пять раз меньше, чем наша маленькая Земля; им посчастливилось обнаружить две луны, принадлежащие этой планете и ускользнувшие от глаз наших астрономов. Я не сомневаюсь, что отец Кастель{557} будет опровергать — и даже не без остроумия — существование этих лун, но я сошлюсь на тех, кто всегда и обо всем судит по аналогии. Эти добрые философы понимают, как трудно было бы Марсу, столь отдаленному от солнца, обойтись менее чем двумя лунами. Как бы то ни было, все это показалось нашим друзьям таким ничтожно маленьким, что они усомнились, найдется ли там ночлег для них, и решили продолжать свой путь, подобно двум путникам, которые, презрев скверный сельский трактир, отправляются дальше до ближайшего города. Однако житель Сириуса и его спутник скоро раскаялись в этом. Они довольно долго двигались в полной пустоте, пока наконец не заметили слабого мерцания. То была Земля; она показалась жалкой тем, кто недавно покинул Юпитер. Однако, боясь раскаяться вторично, путешественники решили устроить здесь привал. Они уселись на хвост кометы, а потом, заметив северное сияние, воспользовались им, достигли Земли и 5 июля 1737 года по новому стилю{558} высадились на северном берегу Балтийского моря.
Глава четвертая
Что случилось с ними на земном шаре
Немного отдохнув с дороги, они съели на завтрак две горы, довольно искусно приготовленные слугами. Затем они решили исследовать маленькую планету, на которой очутились. Сначала они отправились с севера на юг. Обычный шаг жителя Сириуса, так же как и его слуг, равен приблизительно тридцати тысячам футов; карлик с Сатурна едва поспевал за ними и с трудом переводил дух, потому что ему приходилось делать чуть ли не двенадцать шагов, в то время как его спутник делал один: представьте себе (если позволительны такие сравнения) крохотную комнатную собачонку, которая бежит за капитаном прусской королевской гвардии.
Так как иноземцы шли довольно быстро, они обошли всю землю за тридцать шесть часов; правда, солнце — или скорее Земля — делает подобный оборот за сутки, но ведь само собой ясно, что гораздо удобнее вращаться вокруг собственной оси, чем вышагивать собственными ногами. Итак, они вскоре вернулись к исходной точке, миновав море, называемое Средиземным и еле приметное, и другой маленький пруд, который под именем Великого океана омывает кротовую кучку — Землю. Карлику этот океан был по колено, а Микромегас лишь омочил в нем пятки. Прохаживаясь взад и вперед, направо и налево, пытаясь определить, обитаема ли эта планета, они наклонялись, ложились плашмя, повсюду шарили руками. Но существа, которые здесь пресмыкаются, слишком мизерны для их глаз и рук, поэтому ничто не навело их на мысль о том, что мы и наши собратья — люди имеем честь существовать на этой планете.
Карлик, который судил иногда слишком опрометчиво, решил вначале, что Земля необитаема. Основным его доводом было то, что он никого не видит. Микромегас вежливо дал ему понять, что этот довод недостаточно убедителен.
— Подумайте сами, — сказал он, — вот вы, например, не различаете вашими маленькими глазками некоторых звезд пятидесятой величины, а я их вижу очень отчетливо; неужели вы сделаете отсюда вывод, что эти звезды не существуют?
— Но я все сплошь обшарил, — возразил карлик.
— Но у вас плохое осязание, — настаивал первый.
— Но эта планета так дурно устроена, — снова возразил карлик, — здесь все такой неправильной, такой нелепой формы и повсюду царит такой беспорядок! Посмотрите на эти ручейки, из которых ни один не течет по прямой, на эти пруды расплывчатых очертаний, которые не назовешь ни круглыми, ни квадратными, ни овальными, на эти остроконечные камешки, усеявшие планету и исцарапавшие мне ноги. (Он имел в виду горы.) Обратите внимание и на форму всего шара: он так сплющен у полюсов и так неуклюже вертится вокруг солнца, что климат в полярных областях непригоден для жизни. Я уверен, что планета необитаема хотя бы уже потому, что сколько-нибудь здравомыслящие существа не согласятся жить в таких условиях.
— Ну так что же? — сказал Микромегас. — Может быть, здравомыслящих существ здесь действительно нет, но тем не менее нельзя пренебрегать вероятностью того, что все это создано не впустую. Вас поражает неправильность здешних очертаний потому, что на Юпитере и на Сатурне все вытянуто в струнку. Но, может быть, как раз по этой причине здесь и господствует некоторый беспорядок! Не говорил ли я вам, что во время моих путешествий я всюду отмечал удивительное разнообразие?
Сатурниец немедленно нашел возражения на доводы сирианца. Спор их, наверно, так никогда и не закончился бы, если бы, по счастью, Микромегас, разгорячившись, не порвал своего алмазного ожерелья. Камни рассыпались по земле — красивые камешки, одни побольше, другие поменьше, весом в четыреста фунтов, и — самые мелкие — в пятьдесят. Карлик подобрал несколько штук и, поднеся их к глазам, заметил, что алмазы, искусно отшлифованные, являлись отличными микроскопами. Тогда он приставил к глазу один из таких маленьких микроскопов, ста шестидесяти футов в диаметре, а Микромегас выбрал другой, диаметром в двести пятьдесят футов. Они были превосходны; но сначала путешественники ничего не увидели, ибо к микроскопам надо было приладиться. Наконец сатурниец усмотрел нечто еле заметное, нырявшее в волнах Балтийского моря; это был кит. Очень ловко подцепив его мизинцем и переложив на ноготь большого пальца, карлик показал свою добычу Микромегасу, который вторично расхохотался, забавляясь мизерностью обитателей маленькой планеты. Сатурниец, убедившись теперь, что наша Земля обитаема, немедленно вообразил, будто она населена одними китами, а так как он был большой резонер, то ему захотелось разгадать, каким образом движется столь ничтожный атом и обладает ли он какими-нибудь представлениями, волей и свободой. Весьма озадаченный Микромегас тщательно осмотрел зверька и пришел к выводу, что душе в этой штуке никак не уместиться. Путешественники уже было решили, что население Земли лишено способности мыслить, как вдруг с помощью тех же микроскопов обнаружили некий предмет гораздо большей величины, чем кит, который тоже плыл по Балтийскому морю. Известно, что как раз в это время целый выводок ученых{559} возвращался с Полярного круга, где они производили наблюдения, до которых прежде никто не додумывался. В газетах писали, будто их корабль потерпел крушение у берегов Ботнического залива и что они едва спаслись; но закулисной стороны этого происшествия до сих пор никто не знал. Сейчас я с полным чистосердечием расскажу вам, как все произошло, ничего не прибавляя от себя, а историку это совсем не так просто.
Глава пятая
Открытия и рассуждения обоих путешественников
Микромегас осторожно протянул руку к предмету, затем отдернул, боясь промахнуться, снова протянул и двумя пальцами, то сдвигая, то раздвигая их, ловко поднял корабль со всеми учеными господами и, по примеру товарища, положил на свой ноготь, стараясь при этом не раздавить.
— Это животное совсем другой породы! — воскликнул карлик с Сатурна, а великан с Сириуса переложил мнимое животное к себе на ладонь.
Меж тем пассажиры и экипаж судна, решив, что ураган подхватил их и выбросил на какую-то скалу, подняли суматоху; матросы выкатили винные бочки, спустили их за борт, на ладонь Микромегаса, а потом и сами прыгнули туда же; геометры забрали свои секстанты, квадранты и лапландских девиц{560} и спустились на пальцы великана. Они подняли такую возню, что Микромегас почувствовал наконец какое-то покалывание. Дело в том, что ему на целый фут вогнали железный лом в указательный палец. Ощутив этот укол, он рассудил, что зверек на его ладони что-то в нее вонзил, но дальше этой догадки не пошел. Микроскоп, в который он с трудом разглядел кита и корабль, оказался бессильным, когда дело дошло до столь крохотного существа, как человек. Я вовсе не хочу оскорбить здесь чье-либо самолюбие, но тем не менее вынужден просить гордецов произвести вместе со мной следующий небольшой подсчет: если принять, что рост человека приблизительно равен пяти футам, то на Земле он не более крупный предмет, чем животное высотой в одну шестисоттысячную часть дюйма на шаре в десять футов окружностью. Теперь представьте себе существо, в чьей ладони умещается Земля и чье сложение напоминает своими пропорциями наше, — ведь вполне может быть, что таких существ в мироздании очень много; а теперь, прошу вас, вообразите, что оно подумало бы о наших сражениях, где победа сводится к захвату двух деревушек, которые тотчас же приходится снова отдать врагу.
Если это сочинение попадет в руки какому-нибудь капитану верзил-гренадеров, он, без сомнения, сразу велит сделать кивера солдат своей роты, по крайней мере, на два фута выше. Но предупреждаю этого капитана, что, как там ни старайся, и он, и его гренадеры все равно останутся бесконечно малыми величинами.
Какой изумительной наблюдательностью должен был обладать наш сирианский философ, чтобы заметить атомы, о которых я только что говорил! Когда Левенгук и Гартсекер впервые увидели, или сочли, что видят, те клеточки, из которых мы состоим, они сделали гораздо менее удивительное открытие{561}. Какую радость испытывал Микромегас, глядя на то, как шевелятся эти маленькие механизмы, рассматривая все их круговращения, следя за всеми их движениями! Какие возгласы он издавал! В каком восторге сунул один из микроскопов в руку своему спутнику!
— Я их вижу, — говорили они в один голос.
— Посмотрите, как они тащат тяжести, как нагибаются, как выпрямляются снова!
При этом руки их дрожали и от радости, что они обнаружили столь необычные существа, и из боязни их потерять. Сатурниец, у которого полное неверие сменилось чрезмерным легковерием, решил, что он наблюдает их в процессе размножения.
— Ага! — вскричал он. — Я поймал природу на месте преступления{562}.
Но он ошибочно истолковал то, что видел, а это весьма обычный случай, и никакой микроскоп тут не помогает.
Глава шестая
Что произошло у них с людьми
Микромегас, более внимательный наблюдатель, чем карлик, с несомненностью установил, что атомы разговаривают друг с другом. Он указал на это своему спутнику, но тот, стыдясь своей ошибки насчет размножения, ни за что не желал поверить, что подобные твари способны обмениваться мыслями. У него, так же как и у сирианца, были отличные способности к языкам; не слыша, как говорят эти атомы, он, естественно, полагал, что они не говорят вовсе. К тому же какие органы речи могли быть у этих микроскопических существ, да и о чем они стали бы разговаривать между собой? Чтобы говорить, надо хоть немного мыслить, а чтобы мыслить, надо иметь подобие души. Но предположение, что такого рода насекомые обладают душой, казалось ему нелепым.
— Однако, — сказал сирианец, — вы только что утверждали, что они занимаются любовью; значит, по-вашему, можно заниматься любовью, не мысля и не произнося никаких слов или, по крайней мере, не пытаясь понять друг друга? Вы полагаете, значит, что доводы за или против труднее произвести на свет, чем сделать ребенка?
— И то и другое мне представляется великой тайной; я не осмеливаюсь больше ни верить, ни отрицать, — признался карлик. — У меня больше нет гипотез, нужно попытаться рассмотреть этих насекомых, а рассуждать мы будем потом.
— Вот это верно, — ответил Микромегас, тотчас же взялся за ножницы и подстриг себе ногти; из обрезка ногтя большого пальца он сделал нечто вроде большого рупора в виде широкой воронки, узкий конец которой вставил себе в ухо, а широким накрыл корабль вместе со всем его экипажем. Самый слабый звук улавливался круговыми волокнами ногтя, и, таким образом, благодаря своему изобретению Микромегас отлично слышал теперь жужжание насекомых. Через несколько часов он уже начал различать отдельные слова, и наконец ему удалось понять, что козявки говорят по-французски. Карлик, хотя и с большим трудом, достиг того же. Удивление путешественников возрастало с каждой минутой. Речь козявок была вполне разумна, и эта игра природы казалась нашим друзьям необъяснимой. Вы, вероятно, понимаете, как они жаждали поскорее завязать беседу с этой мелюзгой, но карлик боялся, как бы его громовый голос, и особенно голос Микромегаса, не оглушил козявок прежде, чем они успеют что-нибудь понять. Нужно было ослабить его силу. Они вложили в рот нечто вроде маленьких зубочисток, заостренные концы которых доходили до корабля. Держа карлика у себя на коленях, а корабль с экипажем на своем ногте, житель Сириуса наклонил голову. Соблюдая эти и еще многие другие предосторожности, он тихим голосом начал свою речь:
— Незримые насекомые, которых руке создателя угодно было породить в бездне бесконечно малого! Я благословляю его за то, что он соизволил открыть мне тайны, которые казались непроницаемыми. Может быть, при моем дворе вас и не удостоили бы вниманием, но я никого не презираю и, более того, предлагаю вам мое покровительство.
Если когда-либо кто-нибудь и был поражен, как громом, то это были люди, услыхавшие речь Микромегаса. Они не могли понять, откуда она исходит. Корабельный священник стал читать молитвы и заклинать дьявола, матросы начали браниться, философы — строить системы; но никакие системы так и не объяснили им, кто же все-таки с ними говорит. Тогда сатурниец, чей голос был потише, чем у Микромегаса, в нескольких словах рассказал им, с какими существами они имеют дело. Он поведал им о путешествии с планеты Сатурн и о том, кто такой господин Микромегас, затем выразил свое соболезнование по поводу того, что они так малы, спросил, всегда ли они были в столь жалком состоянии, близком к полному небытию, что они делают на планете, хозяевами которой, очевидно, являются киты, счастливы ли они, размножаются ли, имеют ли душу, и задал еще сотню вопросов в том же роде.
Некий любитель разглагольствовать, более смелый, чем другие, и оскорбленный тем, что усомнились в существовании у него души, навел на говорящего диоптры своего квадранта, произвел необходимые вычисления и ответил так:
— Вы воображаете, сударь, что ежели ваш рост равен тысяче туазов, то вы можете…
— Тысяча туазов! — закричал карлик. — Праведное небо! Откуда он знает мой рост? Тысяча туазов! Он ни на дюйм не ошибся. Как! Этот атом меня измерил? Он геометр и знает мои размеры, а я, который вижу его только в микроскоп, я о его размерах даже понятия не имею.
— Да, я вас измерил, — сказал физик, — и тотчас же измерю вашего великана-спутника.
Предложение было принято. Его сиятельство растянулся на земле во весь рост, потому что, когда он стоял, голова его была высоко над облаками. Наши философы воткнули ему высокую мачту в то место, которое доктор Свифт не преминул бы назвать полным именем{563}, чего я не позволю себе сделать из глубокого уважения к дамам. Затем, с помощью системы треугольников, связанных вместе, они пришли к заключению, что наблюдаемый ими предмет был действительно молодым человеком ста двадцати тысяч футов ростом.
Тогда Микромегас произнес такие слова:
— Теперь я вижу яснее, чем когда-либо, что ни о чем нельзя судить по видимой величине. О боже, даровавший разум существам столь ничтожных размеров! Бесконечно малое равно перед лицом твоим бесконечно большому; если только возможны существа, еще меньшие, чем эти, то и они могут обладать разумом, превосходящим ум тех великолепных творений твоих, виденных мною на небе, одна ступня которых покрыла бы эту планету.
Один из философов ответил ему, что он может не сомневаться в существовании разумных творений, куда более малых, чем человек. Он рассказал ему о пчелах, — не Вергилиевы басни{564}, а то, что открыл Сваммердам{565} и анатомически исследовал Реомюр{566}. Он поведал ему затем, что существуют животные, которые по сравнению с пчелами то же, что пчелы по сравнению с человеком, или сам житель Сириуса — с теми громадными созданиями, о которых он только что поминал, или, в свою очередь, эти громадные создания по сравнению с теми великанами, перед которыми они кажутся всего лишь атомами. Мало-помалу разговор становился все занимательнее, и Микромегас сказал тогда следующее.
Глава седьмая
Разговор с людьми
— О разумные атомы, в которых Вечному Существу угодно было явить свое могущество и мудрость! Вы, несомненно, вкушаете на вашей планете самые чистые радости, ибо в вас так мало плоти и так много духа, что, по-видимому, жизнь ваша соткана только из любви и размышлений, а это и есть истинно духовная жизнь. Здесь-то, конечно, и находится та обитель настоящего счастья, которую до сих пор я тщетно искал.
Выслушав эту речь, философы потупились, и один из них, более прямодушный, чем другие, чистосердечно признался, что, за исключением очень немногих людей, кстати, весьма мало уважаемых, жители земли — это сборище безумцев, злодеев и несчастливцев.
— Судя по нашим злодеяниям, в нас больше чем достаточно материи, если только зло — свойство материи, — сказал он, — или слишком много духа, если оно — свойство духа. Знаете ли вы, например, что в эту самую минуту, когда я беседую с вами, сто тысяч безумцев нашей породы{567}, носящих на голове шляпы, режутся не на жизнь, а на смерть с сотней тысяч других таких же животных в чалмах и что так ведется почти по всей земле с незапамятных времен?
Житель Сириуса, ужаснувшись, спросил, что за причина столь жестоких раздоров между столь тщедушными существами.
— Дело идет о нескольких кучках грязи величиной с вашу пятку, — ответил философ. — При этом никто из всех безумцев, убивающих друг друга, не поживится ни единой крупицей этой грязи. Дело идет лишь о том, достанется ли она некоему человеку, которого именуют султаном, или другому, которого, неизвестно почему, величают кесарем. Ни тот, ни другой в глаза не видели и не увидят спорного клочка земли; и почти ни одно из животных, взаимно истребляющих друг друга, никогда не лицезрело животного, ради которого оно идет на убой.
— О, нечестивцы! — воскликнул возмущенный житель Сириуса. — Непостижимо, откуда у них такой разгул бешеной злобы! Мне даже захотелось сделать сейчас три шага и тремя ударами каблука раздавить этот муравейник, населенный жалкими убийцами.
— Не трудитесь, — ответили ему. — Они сами достаточно трудятся над собственным уничтожением. Знайте, что через десяток лет не останется и одной сотой этих несчастных. Если бы даже они и не воевали, все равно голод, тяжкий труд и невоздержание прикончили бы почти всех. К тому же карать надо вовсе не их, а ту кучку домоседов-варваров, которые, не выходя из своих кабинетов и занимаясь пищеварением, отдают приказы об убийстве миллионов людей и потом устраивают благодарственные молебствия богу.
Путешественник почувствовал сострадание к маленькому роду человеческому, являющему собой такие контрасты.
— Так как вы представляете разумное меньшинство, — сказал он своим собеседникам, — и, видимо, никого ради денег не убиваете, скажите мне, прошу вас, чем же вы занимаетесь?
— Мы анатомируем мух, — сказал философ, — измеряем отрезки прямых, слагаем числа; мы пришли к соглашению относительно двух-трех проблем, понятных нам, и ведем бесконечные споры о двух-трех тысячах вопросов, нам непонятных.
Тогда обоим путешественникам немедленно захотелось узнать, в чем же не сходятся между собою эти мыслящие атомы.
— Какое расстояние, по вашему мнению, от созвездия Пса до большой звезды Близнецов? — спросил их Микромегас.
— Тридцать два с половиной градуса, — ответили все разом.
— А от вас до Луны?
— Шестьдесят земных радиусов круглым счетом.
— Сколько весит ваш воздух?
Он думал поймать их на этом, но они сказали, что воздух весит примерно в девятьсот раз меньше, чем самая чистая вода такого же объема, и в девятнадцать тысяч раз меньше червонного золота.
Карлик-сатурниец, пораженный их ответами, готов был уже счесть чародеями тех самых людей, которым четверть часа назад отказывал в душе.
— Раз вы так хорошо осведомлены о внешнем мире, — сказал им наконец Микромегас, — вы, без сомнения, еще лучше знаете ваш собственный внутренний мир. Скажите же мне, что такое ваша душа и как образуются в вас понятия?
Философы, как и раньше, заговорили, перебивая друг друга, но каждый придерживался на этот счет своего особого мнения. Самый старый цитировал Аристотеля, другой называл имя Декарта, третий — Мальбранша{568}, тот — Лейбница, этот — Локка. Дряхлый перипатетик сказал очень громко и убежденно:
— Душа является энтелехией{569} и той причиной, по которой имеет возможность быть такой, какова она есть. Именно это утверждает Аристотель на странице шестьсот тридцать третьей луврского издания{570}: ҆Έντελέχεῖα εστι, и так далее.
— Я не очень-то хорошо понимаю греческий, — сказал великан.
— Я тоже, — ответила философическая козявка.
— Зачем же вы цитируете по-гречески этого самого Аристотеля? — удивился сирианец.
— Затем, — ответил ученый, — что цитировать следует то, чего совсем не понимаешь, на языке, который хуже всего изучил.
Слово взял картезианец и заявил следующее:
— Душа есть чистый дух, который в утробе матери воспринял все метафизические идеи{571}, однако, выйдя оттуда, должен идти в школу и заново постигать то, что он так хорошо знал и чего уже не узнает более.
— Вряд ли стоило твоей душе быть столь ученой в утробе матери, — ответило восьмимильное животное, — чтобы стать невеждой к тому времени, когда у тебя начнет расти борода. Но что ты разумеешь под словом «дух»?
— Зачем вы меня об этом спрашиваете? — ответил любитель разглагольствовать. — Я не имею об этом ни малейшего понятия; существует точка зрения, что он не материален.
— Но знаешь ли ты, по крайней мере, что такое материя?
— Еще бы не знать! — ответил человек. — Вот, к примеру, этот камень: он серый и такой-то формы, у него три измерения, он весом и делим.
— Ну, хорошо! — сказал житель Сириуса. — Этот предмет кажется тебе делимым, весомым и серым, но не объяснишь ли ты мне, что он все-таки собой представляет? Ты перечислил некоторые его свойства, но знаешь ли ты, в чем его суть?
— Нет. — ответил тот.
— Значит, ты вовсе не знаешь, что такое материя.
И Микромегас обратился к другому философу, которого он держал на большом пальце, и спросил у него, что такое душа и в чем проявляется ее деятельность.
— Ни в чем, — ответил последователь Мальбранша. — За меня все делает бог; я вижу все в нем, созерцаю все в нем, это он вершит земные дела, а я ни во что не мешаюсь.
— Ну, это все равно, что вовсе не существовать, — возразил мудрый сирианец. — А ты, мой друг, — обратился он к ученику Лейбница{572}, который стоял тут же, — что скажешь о душе ты?
— Душа, — ответил философ, — это стрелка, которая указывает часы в то время, как тело мое отбивает их, или, если хотите, душа отбивает часы в то время, как тело их показывает; или иначе, моя душа — это зеркало вселенной, а мое тело — оправа; все это совершенно ясно.
Когда Микромегас задал тот же вопрос крохотному почитателю Локка{573}, тот заявил:
— Не знаю, каким образом я мыслю, но знаю, что мыслю не иначе, как по поводу моих ощущений. Я отнюдь не сомневаюсь в том, что есть субстанции нематериальные и разумные, но сильно сомневаюсь в том, чтобы богу было невозможно наделить материю мыслью. Я чту Вечное Всемогущество, мне не подобает ограничивать его; я ничего не утверждаю, и довольствуюсь убеждением, что на свете гораздо больше возможного, нежели нам кажется.
Житель Сириуса улыбнулся: он нашел, что этот мудрец не глупее других; карлик-сатурниец обнял бы последователя Локка, не будь такой диспропорции в их росте. Но было там, к несчастью, еще одно микроскопическое насекомое в четырехугольной шапочке{574}; оно-то и заткнуло рот всем прочим козявкам-философам. Сказав, что ему известны все тайны бытия, ибо они изложены в «Сумме» святого Фомы Аквинского{575}, оно сверху вниз посмотрело на обоих обитателей небес и объявило им, что их собственные персоны, их луны, солнца и звезды — все это было создано единственно для пользы человека. При этих словах наши путешественники повалились друг на друга, задыхаясь от того неудержимого хохота, который, согласно Гомеру{576}, является достоянием богов; их плечи и животы так тряслись от судорожного смеха, что корабль, который сирианец все еще держал на своем ногте, упал в один из брючных карманов сатурнийца. Однако после долгих поисков наши добряки нашли весь экипаж, водворили его на прежнее место и привели все в надлежащий порядок. И тогда житель Сириуса снова обратился к маленьким насекомым. Он говорил с ними необычайно благодушно, хотя в глубине души был раздосадован тем, что эти бесконечно малые существа обладают бесконечно большой гордыней. Он обещал сочинить для них превосходный философский труд и переписать его мельчайшим почерком, чтобы они смогли его прочесть; из этого труда они узнают суть вещей. И он действительно дал им это сочинение перед своим отъездом, и том этот был доставлен в Париж, в Академию наук. Но когда секретарь раскрыл его, он ничего, кроме белой бумаги, там не обнаружил.
— Я так и думал! — сказал он.
Кандид, или Оптимизм Перевод Федора Сологуба
Перевод с немецкого доктора Ральфа с добавлениями, которые были найдены в кармане у доктора, когда он скончался в Миндене{577} в лето благодати господней 1759.
{578}{579}{580}
Глава первая
Как был воспитан в прекрасном замке Кандид и как он был оттуда изгнан
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, его и звали Кандидом{581}. Старые слуги дома подозревали, что он — сын сестры барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной силой времени.
Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи становились егерями; деревенский священник был его великим милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньером и смеялись, когда он рассказывал о своих приключениях.
Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос{582} был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера.
Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию{583}. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины{584} и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона — прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса — лучшая из возможных баронесс.
— Доказано, — говорил он, — что все таково, каким должно быть; так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков{585}, потому мы и носим очки. Ноги, очевидно, назначены для того, чтобы их обувать, вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить из них замки, и вот монсеньер владеет прекраснейшим замком: у знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели, — мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость, — нужно говорить, что все к лучшему.
Кандид слушал внимательно и верил простодушно: он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда и не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, что, после счастья родиться бароном Тундер-тен-Тронком, вторая степень счастья — это быть Кунигундой, третья — видеть ее каждый день и четвертая — слушать учителя Панглоса, величайшего философа того края и, значит, всей земли.
Однажды Кунигунда, гуляя поблизости от замка в маленькой роще, которая называлась парком, увидела между кустарниками доктора Панглоса, который давал урок экспериментальной физики горничной ее матери, маленькой брюнетке, очень хорошенькой и очень покладистой. Так как у Кунигунды была большая склонность к наукам, то она, притаив дыхание, принялась наблюдать без конца повторявшиеся опыты, свидетельницей которых она стала. Она поняла достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и последовательность и ушла взволнованная, задумчивая, полная стремления к познанию, мечтая о том, что она могла бы стать предметом опыта, убедительного для юного Кандида, так же как и он — для нее.
Возвращаясь в замок, она встретила Кандида и покраснела; Кандид покраснел тоже. Она поздоровалась с ним прерывающимся голосом, и смущенный Кандид ответил ей что-то, чего и сам не понял. На другой день после обеда, когда все выходили из-за стола, Кунигунда и Кандид очутились за ширмами. Кунигунда уронила платок, Кандид его поднял, она невинно пожала руку Кандида. Юноша невинно поцеловал руку молодой баронессы, но при этом с живостью, с чувством, с особенной нежностью; их губы встретились, и глаза их горели, и колени подгибались, и руки блуждали. Барон Тундер-тен-Тронк проходил мимо ширм и, уяснив себе причины и следствия, здоровым пинком вышвырнул Кандида из замка. Кунигунда упала в обморок; как только она очнулась, баронесса надавала ей пощечин; и было великое смятение в прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков.
Глава вторая
Что произошло с Кандидом у болгар
Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел, сам не зная куда, плача, возводя глаза к небу и часто их обращая к прекраснейшему из замков, где жила прекраснейшая из юных баронесс. Он лег спать без ужина посреди полей, между двумя бороздами; снег падал большими хлопьями. На другой день Кандид, весь иззябший, без денег, умирая от голода и усталости, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергхоф-Трарбкдикдорф{586}. Он печально остановился у двери кабачка. Его заметили двое в голубых мундирах{587}.
— Приятель, — сказал один, — вот статный молодой человек, да и рост у него подходящий{588}.
Они подошли к Кандиду и очень вежливо пригласили его пообедать.
— Господа, — сказал им Кандид с милой скромностью, — вы оказываете мне большую честь, но мне нечем расплатиться.
— Ну, — сказал ему один из голубых, — такой человек, как вы, не должен платить; ведь ростом-то вы будете пять футов и пять дюймов?
— Да, господа, мой рост действительно таков, — сказал Кандид с поклоном.
— Садитесь же за стол. Мы не только заплатим за вас, но еще и позаботимся, чтобы вы впредь не нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу.
— Верно, — сказал Кандид, — это мне и Панглос всегда говорил, и я сам вижу, что все к лучшему.
Ему предложили несколько экю. Он их взял и хотел внести свою долю, ему не позволили и усадили за стол.
— Вы, конечно, горячо любите?..
— О да, — отвечал он, — я горячо люблю Кунигунду.
— Нет, — сказал один из этих господ, — мы вас спрашиваем, горячо ли вы любите болгарского короля?
— Вовсе его не люблю, — сказал Кандид. — Я же его никогда не видел.
— Как! Он — милейший из королей, и за его здоровье необходимо выпить.
— С большим удовольствием, господа!
И он выпил.
— Довольно, — сказали ему, — вот теперь вы опора, защита, заступник, герой болгар. Ваша судьба решена и слава обеспечена.
Тотчас ему надели на ноги кандалы и угнали в полк. Там его заставили поворачиваться направо, налево, заряжать, прицеливаться, стрелять, маршировать и дали ему тридцать палочных ударов. На другой день он проделал упражнения немного лучше и получил всего двадцать ударов. На следующий день ему дали только десять, и товарищи смотрели на него, как на чудо.
Кандид, совершенно ошеломленный, не мог взять в толк, как это он сделался героем. В один прекрасный весенний день он вздумал прогуляться и пошел куда глаза глядят, полагая, что пользоваться ногами в свое удовольствие — неотъемлемое право людей, так же как и животных. Но не прошел он и двух миль, как четыре других героя, по шести футов ростом, настигли его, связали и отвели в тюрьму. Его спросили, строго следуя судебной процедуре, что он предпочитает: быть ли прогнанным сквозь строй тридцать шесть раз или получить сразу двенадцать свинцовых пуль в лоб. Как он ни уверял, что его воля свободна и что он не желает ни того, ни другого, — пришлось сделать выбор. Он решился, в силу божьего дара, который называется свободой, пройти тридцать шесть раз сквозь строй; вытерпел две прогулки. Полк состоял из двух тысяч солдат, что составило для него четыре тысячи палочных ударов, которые от шеи до ног обнажили его мышцы и нервы. Когда хотели приступить к третьему прогону, Кандид, обессилев, попросил, чтобы уж лучше ему раздробили голову; он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза, его поставили на колени. В это время мимо проезжал болгарский король; он спросил, в чем вина осужденного на смерть; так как этот король был великий гений, он понял из всего доложенного ему о Кандиде, что это молодой метафизик, несведущий в делах света, и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославляемо во всех газетах до скончания века. Искусный костоправ вылечил Кандида в три недели смягчающими средствами, указанными Диоскоридом{589}. У него уже стала нарастать новая кожа и он уже мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров{590}.
Глава третья
Как спасся Кандид от болгар, и что вследствие этого произошло
Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и слаженнее, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создавали музыку столь гармоничную, какой не бывает и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ. Кандид, дрожа от страха, как истый философ, усердно прятался во время этой героической бойни.
Наконец, когда оба короля приказали пропеть «Те Deum»[20], каждый в своем лагере, Кандид решил, что лучше ему уйти и рассуждать о следствиях и причинах в каком-нибудь другом месте. Наступая на валявшихся повсюду мертвых и умирающих, он добрался до соседней деревни; она была превращена в пепелище. Эту аварскую деревню болгары спалили согласно законам общественного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям; там девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами.
Кандид поскорее убежал в другую деревню; это была болгарская деревня, и герои-авары поступили с нею точно так же. Все время шагая среди корчащихся тел или пробираясь по развалинам, Кандид оставил наконец театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспоминая Кунигунду.
Когда он пришел в Голландию, запасы его иссякли, но он слышал, будто в этой стране все богаты и благочестивы, и не сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке барона, прежде чем он был оттуда изгнан из-за прекрасных глаз Кунигунды.
Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, и все они ответили ему, что если он будет и впредь заниматься этим ремеслом, то его запрут в исправительный дом и уж там научат жить.
Потом он обратился к человеку, который только что битый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот проповедник{591}, косо посмотрев на него, сказал:
— Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?
— Нет следствия без причины, — скромно ответил Кандид. — Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтобы я был разлучен с Кунигундой и изгнан, чтобы я прошел сквозь строй и чтобы сейчас выпрашивал на хлеб в ожидании, пока не смогу его заработать; все это не могло быть иначе.
— Мой друг, — сказал ему проповедник — верите ли вы, что папа — антихрист?
— Об этом я ничего не слышал, — ответил Кандид, — но антихрист он или нет, у меня нет хлеба.
— Ты не достоин есть его! — сказал проповедник. — Убирайся, бездельник, убирайся, проклятый, и больше никогда не приставай ко мне.
Жена проповедника, высунув голову из окна и обнаружив человека, который сомневался в том, что папа — антихрист, вылила ему на голову полный… О, небо! До каких крайностей доводит женщин религиозное рвение!
Человек, который не был крещен, добросердечный анабаптист{592} по имени Яков, видел, как жестоко и постыдно обошлись с одним из его братьев, двуногим существом без перьев, имеющим душу; он привел его к себе, пообчистил, накормил хлебом, напоил пивом, подарил два флорина и хотел даже пристроить на свою фабрику персидских тканей, которые выделываются в Голландии.
Кандид, низко кланяясь ему, воскликнул:
— Учитель Панглос верно говорил, что все к лучшему в этом мире, потому что я неизмеримо более тронут вашим чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в черной мантии и его супруги.
На следующий день, гуляя, он встретил нищего, покрытого гнойными язвами, с потускневшими глазами, искривленным ртом, провалившимся носом, гнилыми зубами, глухим голосом, измученного жестокими приступами кашля, во время которых он каждый раз выплевывал по зубу.
Глава четвертая
Как встретил Кандид своего прежнего учителя философии, доктора Панглоса, и что из этого вышло
Кандид, чувствуя больше сострадания, чем ужаса, дал этому похожему на привидение страшному нищему те два флорина, которые получил от честного анабаптиста Якова. Нищий пристально посмотрел на него, залился слезами и бросился к нему на шею. Кандид в испуге отступил.
— Увы! — сказал несчастливец другому несчастливцу, — вы уже не узнаете вашего дорогого Панглоса?
— Что я слышу? Вы, мой дорогой учитель, вы в таком ужасном состоянии! Какое же несчастье вас постигло? Почему вы не в прекраснейшем из замков? Что сделалось с Кунигундой, жемчужиной среди девушек, лучшим творением природы?
— У меня нет больше сил, — сказал Панглос.
Тотчас же Кандид отвел его в хлев анабаптиста, накормил хлебом и, когда Панглос подкрепился, снова спросил:
— Что же с Кунигундой?
— Она умерла, — ответил тот.
Кандид упал в обморок от этих слов; друг привел его в чувство с помощью нескольких капель уксуса, который случайно отыскался в хлеву. Кандид открыл глаза.
— Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни она умерла? Не оттого ли, что видела, как я был изгнан из прекрасного замка ее отца здоровым пинком?
— Нет, — сказал Панглос, — она была замучена болгарскими солдатами, которые сперва ее изнасиловали, а потом вспороли ей живот. Они размозжили голову барону, который вступился за нее; баронесса была изрублена в куски; с моим бедным воспитанником поступили точно так же, как с его сестрой; а что касается замка, там не осталось камня на камне — ни гумна, ни овцы, ни утки, ни дерева; но мы все же были отомщены, ибо авары сделали то же с соседним поместьем, которое принадлежало болгарскому вельможе.
Во время этого рассказа Кандид снова лишился чувств; но, придя в себя и высказав все, что было у него на душе, он осведомился о причине, следствии и достаточном основании жалкого состояния Панглоса.
— Увы, — сказал тот, — всему причина любовь — любовь, утешительница рода человеческого, хранительница мира, душа всех чувствующих существ, нежная любовь.
— Увы, — сказал Кандид, — я знал ее, эту любовь, эту властительницу сердец, эту душу нашей души; она подарила мне один только поцелуй и двадцать пинков. Как эта прекрасная причина могла привести к столь гнусному следствию?
Панглос ответил так:
— О мой дорогой Кандид, вы знали Пакету, хорошенькую служанку высокородной баронессы; я вкушал в ее объятьях райские наслаждения, и они породили те адские муки, которые, как вы видите, я сейчас терплю. Она была заражена и, быть может, уже умерла. Пакета получила этот подарок от одного очень ученого францисканского монаха, который доискался до первоисточника заразы: он подцепил ее у одной старой графини, а ту наградил кавалерийский капитан, а тот был обязан ею одной маркизе, а та получила ее от пажа, а паж от иезуита, который, будучи послушником, приобрел ее по прямой линии от одного из спутников Христофора Колумба. Что касается меня, я ее не передам никому, ибо я умираю.
— О Панглос, — воскликнул Кандид, — вот удивительная генеалогия! Разве не диавол — ствол этого дерева?
— Отнюдь нет, — возразил этот великий человек, — это вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимая составная часть целого; если бы Колумб не привез с одного из островов Америки болезни{593}, заражающей источник размножения, часто даже мешающей ему и, очевидно, противной великой цели природы, — мы не имели бы ни шоколада, ни кошенили; надо еще заметить, что до сего дня на нашем материке эта болезнь присуща только нам, как и богословские споры. Турки, индейцы, персы, китайцы, сиамцы, японцы еще не знают ее; но есть достаточное основание и им узнать эту хворь, в свою очередь, через несколько веков. Меж тем она неслыханно распространилась среди нас, особенно в больших армиях, состоящих из достойных, благовоспитанных наемников, которые решают судьбы государств; можно с уверенностью сказать, что когда тридцать тысяч человек сражаются против войска, равного им по численности, то тысяч двадцать с каждой стороны заражены сифилисом.
— Это удивительно, — сказал Кандид. — Однако вас надо вылечить.
— Но что тут можно сделать? — сказал Панглос. — У меня нет ни гроша, мой друг, а на всем земном шаре нельзя ни пустить себе кровь, ни поставить клистира, если не заплатишь сам или за тебя не заплатят другие.
Услышав это, Кандид сразу сообразил, как ему поступить: он бросился в ноги доброму анабаптисту Якову и так трогательно изобразил ему состояние своего друга, что добряк, не колеблясь, приютил доктора Панглоса; он его вылечил на свой счет. Панглос от этого лечения потерял только глаз и ухо. У него был хороший слог, и он в совершенстве знал арифметику. Анабаптист Яков сделал его своим счетоводом. Когда через два месяца Якову пришлось поехать в Лиссабон по торговым делам, он взял с собой на корабль обоих философов. Панглос объяснил ему, что все в мире к лучшему. Яков не разделял этого мнения.
— Конечно, — говорил он, — люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не родятся волками, а лишь становятся ими: господь не дал им ни двадцатичетырехфунтовых пушек, ни штыков, а они смастерили себе и то и другое, чтобы истреблять друг друга. К этому можно добавить и банкротства, и суд, который, захватывая добро банкротов, обездоливает кредиторов.
— Все это неизбежно, — отвечал кривой философ. — Отдельные несчастья создают общее благо, так что, чем больше таких несчастий, тем лучше.
Пока он рассуждал, вдруг стало темно, задули со всех четырех сторон ветры, и корабль был застигнут ужаснейшей бурей в виду Лиссабонского порта.
Глава пятая
Буря, кораблекрушение, землетрясение, и что случилось с доктором Панглосом, Кандидом и анабаптистом Яковом
Половина пассажиров, ослабевших, задыхающихся в той невыразимой тоске, которая приводит в беспорядок нервы и все телесное устройство людей, бросаемых качкою корабля во все стороны, не имела даже силы тревожиться за свою судьбу. Другие пассажиры кричали и молились. Паруса были изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Кто мог, работал, никто никому не повиновался, никто не отдавал приказов. Анабаптист пытался помочь в работе; он был на палубе; какой-то разъяренный матрос сильно толкнул его и сшиб с ног, но при этом сам потерял равновесие, упал за борт вниз головой и повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый Яков бросается ему на помощь, помогает взобраться на палубу, но, не удержавшись, сам низвергается в море на глазах у матроса, который оставляет его погибать, не удостоив даже взглядом. Кандид подходит ближе, видит, что его благодетель на одно мгновение показывается на поверхности и затем навеки погружается в волны. Кандид хочет броситься в море, философ Панглос его останавливает, доказывая ему, что Лиссабонский рейд на то и был создан, чтобы этот анабаптист здесь утонул. Пока он это доказывал a priori, корабль затонул, все погибли, кроме Панглоса, Кандида и того грубого матроса, который утопил добродетельного анабаптиста. Негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглос и Кандид были выброшены на доске.
Немного придя в себя, они направились к Лиссабону; у них остались еще деньги, с помощью которых они надеялись спастись от голода, после того как избавились от бури.
Едва успели они войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит под их ногами{594}. Море в порту, кипя, поднимается и разбивает корабли, стоявшие на якоре; вихри огня и пепла бушуют на улицах и площадях; дома рушатся; крыши падают наземь, стены рассыпаются в прах. Тридцать тысяч жителей обоего пола и всех возрастов погибли под развалинами. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь:
— Здесь будет чем поживиться.
— Хотел бы я знать достаточную причину этого явления, — говорил Панглос.
— Наступил конец света! — восклицал Кандид.
Матрос немедля бежит к развалинам, бросая вызов смерти, чтобы раздобыть денег, находит их, завладевает ими, напивается пьяным и, проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, встретившейся ему между разрушенных домов, среди умирающих и мертвых. Тут Панглос потянул его за рукав.
— Друг мой, — сказал он ему, — это нехорошо, вы пренебрегаете всемирным разумом, вы дурно проводите ваше время.
— Кровь и смерть! — отвечал тот. — Я матрос и родился в Батавии{595}; я четыре раза топтал распятие{596} в четырех японских деревнях, так мне ли слушать о твоем всемирном разуме!
Несколько осколков камня ранили Кандида; он упал посреди улицы, и его засыпало обломками. Он говорил Панглосу:
— Вот беда! Дайте мне немного вина и оливкового масла, я умираю.
— Хорошо, но землетрясение совсем не новость, — отвечал Панглос. — Город Лима в Америке испытал такое же в прошлом году; те же причины, те же следствия; несомненно, под землею от Лимы до Лиссабона существует серная залежь.
— Весьма вероятно, — сказал Кандид, — но, ради бога, дайте мне немного оливкового масла и вина.
— Как «вероятно»? Я утверждаю, что это вполне доказано.
Кандид потерял сознание, и Панглос принес ему немного воды из соседнего фонтана.
На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую еду и подкрепили свои силы. Потом они работали вместе с другими, помогая жителям, избежавшим смерти. Несколько горожан, спасенных ими, угостили их обедом, настолько хорошим, насколько это было возможно среди такого разгрома. Конечно, трапеза была невеселая, гости орошали хлеб слезами, но Панглос утешал гостей, уверяя, что иначе и быть не могло.
— Потому что, — говорил он, — если вулкан находится в Лиссабоне, то он и не может быть в другом месте; невозможно, чтобы что-то было не там, где должно быть, ибо все хорошо.
Маленький чернявый человечек, свой среди инквизиторов, сидевший рядом с Панглосом, вежливо сказал:
— По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех, ибо, если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения, ни наказания.
— Я усерднейше прошу прощения у вашей милости, — отвечал Панглос еще более вежливо, — но без падения человека и проклятия{597} не мог бы существовать этот лучший из возможных миров.
— Вы, следовательно, не верите в свободу? — спросил чернявый.
— Ваша милость, извините меня, — сказал Панглос, — но свобода может сосуществовать с абсолютной необходимостью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны, так как, в конце концов, обусловленная причинностью воля…
Панглос не успел договорить, как чернявый уже сделал знак головою своему слуге, который наливал ему вина, называемого «опорто» или «порто».
Глава шестая
Как было устроено прекрасное аутодафе{598}, чтобы избавиться от землетрясений, и как был высечен Кандид
После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верного для спасения от окончательной гибели, чем устройство для народа прекрасного зрелища аутодафе. Университет в Коимбре{599} постановил, что сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией, есть, несомненно, верное средство остановить содрогание земли.
Вследствие этого схватили одного бискайца, уличенного в том, что он женился на собственной куме, и двух португальцев, которые срезали сало с цыпленка{600}, прежде чем его съесть. Были схвачены сразу после обеда доктор Панглос и его ученик Кандид, один за то, что говорил, другой за то, что слушал с одобрительным видом. Обоих порознь отвели в чрезвычайно прохладные помещения, обитателей которых никогда не беспокоило солнце. Через неделю того и другого одели в санбенито{601} и увенчали бумажными митрами. Митра и санбенито Кандида были расписаны опрокинутыми огненными языками и дьяволами, у которых, однако, не было ни хвостов, ни когтей; дьяволы же Панглоса были хвостатые и когтистые, и огненные языки стояли прямо. В таком одеянии они прошествовали к месту казни и выслушали очень возвышенную проповедь под прекрасные звуки заунывных песнопений. Кандид был высечен в такт пению, бискаец и те двое, которые не хотели есть сало, были сожжены, а Панглос был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот же день земля с ужасающим грохотом затряслась снова{602}.
Кандид, испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь дрожащий, спрашивал себя:
«Если это лучший из возможных миров, то каковы же другие? Ну хорошо, пусть меня высекли, это уже случилось со мною у болгар; но мой дорогой Панглос, величайший из философов, почему было нужно, чтобы вас при мне вздернули на виселицу неведомо за какую вину? О мой дорогой анабаптист, лучший из людей, почему было нужно вам утонуть в этой гавани? О Кунигунда, жемчужина среди девушек, почему было нужно, чтобы вам распороли живот?»
Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение грехов и благословение, он шел, еле держась на ногах, когда к нему подошла старуха и сказала ему:
— Сын мой, ободритесь, идите за мной.
Глава седьмая
Как старуха заботилась о Кандиде и как он нашел то, что любил
Кандид не ободрился, но пошел за старухой в какой-то ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы натираться, принесла есть и пить и уложила его на маленькую, довольно чистую кровать. Подле кровати лежало новое платье.
— Ешьте, пейте, спите, — сказала она ему, — да сохранит вас Аточская божья матерь{603}, святой Антоний Падуанский и святой Иаков Компостельский{604}. Я вернусь завтра.
Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, всем, что он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел поцеловать ей руку.
— Не мою руку надо целовать, — сказала старуха. — Завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите.
Кандид, несмотря на все свои несчастья, поел и уснул. На следующий день старуха приносит завтрак, осматривает ему спину, натирает ее сама другой мазью; потом приносит обед; снова приходит вечером и приносит ужин. На третий день она проделывает то же самое.
— Кто вы? — непрестанно спрашивал ее Кандид. — Почему вы так добры? Чем я могу вас отблагодарить?
Старуха ничего ему не отвечала. Но вот она возвращается однажды вечером и не приносит ужина.
— Идите за мной, — говорит она, — и не произносите ни слова.
Она берет его под руку и идет с ним в деревню за четверть мили от города. Они приходят в уединенный дом, окруженный садом и каналами. Старуха стучит в маленькую дверь. Ей открывают; она ведет Кандида потайною лестницей в раззолоченный кабинет, оставляет его на парчовом диване, закрывает дверь и уходит. Кандиду казалось, что он грезит; вся его жизнь казалась ему страшным сном, а эта минута — сном приятным.
Старуха скоро возвратилась. Она вела, с трудом поддерживая, трепещущую женщину могучего сложения, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью.
— Сними с нее покрывало, — сказала старуха Кандиду.
Молодой человек приближается; робкою рукою он снимает покрывало. Какая минута! Какая неожиданность! Ему кажется, будто он видит Кунигунду. Он видит ее на самом деле, это она. Силы оставляют его, он не может произнести ни слова, он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Старуха спрыскивает их водой со спиртом. Они приходят в чувство, они начинают говорить друг с другом. Сперва это отрывочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещиваются, вздохи, слезы, восклицания. Старуха просит их поменьше шуметь и оставляет одних.
— Как, это вы? — говорил ей Кандид. — Вы живы! Я обрел вас в Португалии! Значит, вы не были обесчещены? Вам не вспороли живот, как уверял меня философ Панглос?
— Все так и было, — сказала прекрасная Кунигунда. — Но не всегда эти несчастные происшествия приводят к смерти.
— Но ваш отец и ваша мать убиты?
— Увы, это верно, — сказала Кунигунда, плача.
— А ваш брат?
— Мой брат тоже убит.
— Но почему вы в Португалии? Как узнали, что я здесь? И по какой странной случайности меня привели в этот дом?
— Я вам все расскажу, — сказала она, — но сначала расскажите мне вы все, что случилось с вами после невинного поцелуя, который вы мне дали, и пинков, которые получили.
Кандид почтительно исполнил ее желание; и, хотя он был смущен, хотя голос у него был слабый и дрожащий, хотя спину у него ломило, но он рассказал простосердечнейшим образом все, что испытал с мгновения их разлуки. Кунигунда возводила глаза к небу и проливала слезы о смерти доброго анабаптиста и Панглоса. Потом вот что она рассказала Кандиду, который глотал каждое ее слово и пожирал ее глазами.
Глава восьмая
История Кунигунды
— Я крепко спала в своей постели, когда небу угодно было наслать болгар на наш прекрасный замок Тундер-тен-Тронк. Они зарезали моего отца и моего брата, а мою мать изрубили в куски. Огромный болгарин, шести футов ростом, видя, что при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня насиловать. Это привело меня в чувство, я кричала, сопротивлялась, кусалась, пыталась выцарапать глаза этому огромному болгарину, не зная, что все, случившееся в замке моего отца, было делом обычным. Изверг пырнул меня ножом в левый бок; след этого удара до сих пор еще заметен.
— Увы! Надеюсь, я увижу его, — сказал простодушный Кандид.
— Вы его увидите, — сказала Кунигунда, — но я продолжаю.
— Продолжайте, — сказал Кандид.
Она снова принялась рассказывать.
— Вошел болгарский капитан. Он увидел, что я вся в крови. Солдат не обратил на него никакого внимания. Капитан пришел в ярость, видя, что этот изверг не проявляет к нему ни малейшего уважения, и убил его на мне. Потом он приказал перевязать мне рану и увел меня к себе в качестве военной добычи. Я стирала ему рубашки, которых у него было немного, и стряпала. Он, надо признаться, находил, что я очень хорошенькая; не буду отрицать, что он был отлично сложен и что кожа у него была белая и нежная; правда, ему не хватало остроумия, не хватало философских знаний; сразу бросалось в глаза, что он воспитан не доктором Панглосом. К концу третьего месяца, прокутивши все деньги и пресытившись мною, он продал меня еврею по имени дом-Иссахар, который ведет торговлю в Голландии и Португалии и страстно любит женщин. Этот еврей очень привязался ко мне, но не мог меня победить: ему я противилась успешнее, чем болгарскому солдату. Один раз благородная особа может быть обесчещена, но ее добродетель только укрепляется от этого. Чтобы приручить меня, еврей поселил меня в этом загородном доме, где мы сейчас находимся. Раньше я думала, что ничего нет на земле прекраснее, чем замок Тундер-тен-Тронк; я ошибалась.
Однажды, во время обедни, меня заметил великий инквизитор. Он долго разглядывал меня, а потом велел сказать мне, что ему надо поговорить со мной о секретных делах. Меня привели к нему во дворец. Я рассказала ему о моем происхождении. Он объяснил мне, как унизительно для особы моего звания принадлежать израильтянину. Дом-Иссахару было предложено уступить меня монсеньеру. Но дом-Иссахар, придворный банкир и человек с весом, решительно отказался. Инквизитор пригрозил ему аутодафе. Наконец мой напуганный еврей заключил сделку, по которой дом и я перешли в их общее владение: еврею достались понедельники, среды и субботы, а инквизитору — остальные дни недели. Полгода уже соблюдается этот договор. Не обошлось и без ссор; частенько они спорили из-за того, должна ли ночь с субботы на воскресенье принадлежать Ветхому завету или Новому. Что касается меня, я до настоящего времени отказывала им обоим и думаю, потому-то они оба еще меня любят. Наконец, чтобы утишить ярость землетрясений и заодно напугать Иссахара, господин инквизитор почел за благо совершить торжественное аутодафе. Он оказал мне честь, — пригласил туда и меня. Мне отвели отличное место. Между обедней и казнью дамам разносили прохладительные напитки. Признаюсь, я пришла в ужас, видя, как сжигают двух евреев и того славного бискайца, который женился на своей куме; но каково было мое удивление, мой ужас, мое смятение, когда я увидела в санбенито и митре человека, лицо которого напоминало мне Панглоса! Я протирала глаза, я смотрела внимательно, я видела, как его вешают, я упала в обморок. Едва пришла я в себя, как увидела вас, раздетого донага; это зрелище наполнило меня недоумением, трепетом, скорбью, отчаяньем. Скажу вам по правде, ваша кожа еще белее и с еще более розовым оттенком, чем кожа моего болгарского капитана, — и это удвоило мои страдания. Я вскрикнула, я хотела сказать: «Остановитесь, варвары!» — но голос мой замер, да и мольбы мои были бы напрасны. Пока вас так жестоко секли, я спрашивала себя, как могло случиться, что милый Кандид и мудрый Панглос очутились в Лиссабоне — один, чтобы получить сто ударов розгами, другой, чтобы окончить жизнь на виселице по приказанию господина инквизитора, влюбленного в меня. Итак, Панглос жестоко обманывал меня, когда говорил, что все в мире к лучшему. Взволнованная, растерянная, то приходя в неистовство, то почти умирая от слабости, я вспоминала убийство моего отца, моей матери, моего брата, насилие гнусного болгарина, удар ножом, который он мне нанес, мое рабство, мою службу в кухарках, моего болгарского капитана, моего мерзкого дом-Иссахара, моего отвратительного инквизитора, повешение доктора Панглоса, заунывное «miserere», под звуки которого вас секли, но более всего поцелуй, который я вам дала за ширмой в тот день, когда видела вас в последний раз. Я возблагодарила бога, который вернул мне вас после стольких испытаний. Я приказала моей старухе служанке позаботиться о вас и привести сюда, как только это будет возможно. Она отлично выполнила мое поручение. Я испытываю неизъяснимое удовольствие, видя вас, слыша вас, говоря с вами. Вы, должно быть, страшно проголодались, у меня превосходный аппетит, сперва поужинаем.
Вот они оба садятся за стол, а после ужина располагаются на прекрасном диване, о котором уже было сказано выше. Вдруг входит дом-Иссахар, один из хозяев дома. День был субботний. Дом-Иссахар пришел воспользоваться своими правами и выразить свою нежную любовь.
Глава девятая
О. том, что случилось с Кунигундою, с Кандидом, с великим инквизитором и с евреем
Этот Иссахар был самый желчный из всех евреев, какие только существовали в Израиле со времен вавилонского пленения{605}.
— Как, — вскричал он, — галилейская собака, мало тебе господина инквизитора? Надо еще, чтобы и с этим разбойником мне пришлось делиться?
Говоря так, он вытаскивает длинный кинжал, который всегда был при нем, и, уверенный, что у его противника нет оружия, бросается на Кандида; но наш доблестный вестфалец получил от старухи вместе с платьем также и отличную шпагу. Хотя он был и кроткого нрава, но тут выхватывает эту шпагу, и вмиг израильтянин падает мертвый на пол к ногам прекрасной Кунигунды.
— Пресвятая дева! — вскричала она. — Что нам делать? У меня в доме убит человек! Если сюда придут, мы погибли.
— Если бы Панглос не был повешен, — сказал Кандид, — он дал бы нам хороший совет в этой беде, ведь он был великий философ. Но поскольку его нет, посоветуемся со старухой.
Она оказалась очень благоразумною, но только начала высказывать свое мнение, как вдруг отворилась другая маленькая дверь. Был час после полуночи, начало воскресенья. Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит и видит высеченного Кандида со шпагой в руке, мертвеца, распростертого на земле, испуганную Кунигунду и старуху, дающую советы. Вот что происходило в эту минуту в душе Кандида и каково было его решение:
«Если этот святой человек позовет на помощь, меня непременно сожгут; то же, пожалуй, будет и с Кунигундой. Он меня немилосердно высек; он мой соперник; раз я уже начал убивать, нечего и колебаться».
Вывод этот был короток и ясен; не давая инквизитору времени опомниться от удивления, Кандид протыкает его насквозь, так что тот валится рядом с евреем.
— Вот и второй! — сказала Кунигунда. — Не будет нам пощады. Нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час. Как это вы, от природы такой кроткий, в две минуты убили еврея и прелата?
— Моя милая, — отвечал Кандид, — когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизицией, он себя не помнит.
Тут вмешалась в разговор старуха и сказала:
— В конюшне стоят три андалузских коня, там же хранятся их седла и сбруя. Пусть храбрый Кандид их оседлает. Вы, барышня, собирайте деньги и драгоценности. Хотя у меня только ползада, а все-таки живее сядем на коней и поедем в Кадикс. Погода прекрасная, и очень приятно путешествовать в часы ночной прохлады.
Тотчас Кандид седлает трех лошадей; Кунигунда, старуха и он скачут тридцать миль без отдыха. В то время, как они были в дороге, служители святой Германдады{606} пришли в дом. Инквизитора похоронили в прекрасной церкви, Иссахара бросили на свалку.
Кандид, Кунигунда и старуха были уже в маленьком городке Авасена посреди гор Сиерра-Морены; в одном кабачке у них произошел такой разговор.
Глава десятая
Как несчастливо Кандид, Кунигунда и старуха прибыли в Кадикс и как они сели на корабль
— Кто это украл мои деньги и бриллианты? — плача, говорила Кунигунда. — Как мы будем жить? Что будем делать? Где найти инквизиторов и евреев, которые снова дадут мне столько же?
— Увы, — сказала старуха, — я сильно подозреваю преподобного отца кордельера{607}, который ночевал вчера в бадахосской гостинице, где останавливались и мы. Боже меня упаси судить опрометчиво, но он два раза входил в нашу комнату и уехал задолго до нас.
— Увы! — сказал Кандид. — Добрый Панглос мне всегда доказывал, что блага земные принадлежат всем людям и каждый имеет на них равные права. Кордельер, конечно, должен был бы, следуя этому закону, оставить нам что-нибудь на дорогу. Значит, у вас совсем ничего не осталось, моя прелестная Кунигунда?
— Ни единого мараведиса{608}, — сказала она.
— Что же делать? — спросил Кандид.
— Продадим одну лошадь, — сказала старуха. — Хоть у меня и ползада, я усядусь как-нибудь позади барышни, и мы доедем до Кадикса.
В той же самой гостинице остановился приор-бенедиктинец{609}. Он купил лошадь за сходную цену. Кандид, Кунигунда и старуха поехали через Лусену, Хилью, Лебриху и добрались наконец до Кадикса. Там снаряжали в это время флот и собирали войско, чтобы проучить преподобных отцов иезуитов в Парагвае{610}, которых обвиняли в том, что они подняли одну из своих орд близ города Сан-Сакраменто против испанского и португальского королей.
Кандид недаром служил у болгар, — он показал генералу маленькой армии все болгарские воинские приемы с таким изяществом, ловкостью, проворством, живостью, легкостью, что ему сразу дали командовать ротой пехоты.
И вот он — капитан; он садится на корабль вместе с Кунигундою, старухою, двумя слугами и двумя андалузскими лошадьми, которые принадлежали великому инквизитору Португалии.
Во время этого переезда они много рассуждали о философии бедного Панглоса.
— Мы едем в Новый Свет, — говорил Кандид, — и в нем-то, без сомнения, все хорошо; ведь невозможно не посетовать на телесные и душевные страдания, которые приходится претерпевать в нашей части света.
— Я люблю вас всем сердцем, — сказала Кунигунда, — но моя душа истомлена тем, что я видела, тем, что испытала.
— Все будет хорошо, — возразил Кандид. — Уже и море этого нового мира лучше морей нашей Европы: оно спокойнее, и ветры постояннее. Конечно, Новый Свет — самый лучший из возможных миров.
— Дай-то бог, — сказала Кунигунда, — но я была так несчастна в нашем прежнем мире, что мое сердце почти закрылось для надежды.
— Вы жалуетесь, — сказала ей старуха. — Увы! Не испытали вы таких несчастий, как я.
Кунигунда едва удержалась от смеха, таким забавным показалось ей притязание этой доброй женщины на большие несчастья, чем те, которые претерпела она.
— Увы, — сказала она старухе, — милая моя, если вы по меньшей мере не были изнасилованы двумя болгарами, если не получили двух ударов ножом в живот, если не были разрушены два ваших замка, если не были зарезаны на ваших глазах две матери и два отца, если вы не видели, как двух ваших любовников высекли во время аутодафе, то я не вижу, как вы можете заноситься передо мною. Прибавьте, что я родилась баронессой в семьдесят втором поколении, а служила кухаркой.
— Барышня, — отвечала старуха, — вы не знаете моего происхождения, а если бы я вам показала мой зад, вы бы так не говорили и переменили бы ваше мнение.
Эта речь до чрезвычайности возбудила любопытство Кунигунды и Кандида. Старуха рассказала им следующее.
Глава одиннадцатая
История старухи
— Не всегда у меня были глаза с такими красными веками, нос не всегда сходился с подбородком, и не всегда я была служанкой. Я дочь папы Урбана Десятого и княгини Палестрины{611}. До четырнадцати лет я воспитывалась в таком дворце, которому замок любого из ваших немецких баронов не годился бы и в конюшни. Каждое мое платье стоило больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, грациозная, богато одаренная от природы, я росла, окруженная удовольствиями, поклонением, честолюбивыми чаяниями; уже я внушала любовь, моя грудь развивалась, и какая грудь! Белая, крепкая, совершенная по форме, как у Венеры Медицейской! А какие глаза! Какие ресницы! Какие черные брови! Каким огнем блистали мои взоры, — по словам наших поэтов, они затмевали сверкание звезд. Женщины, которые меня одевали и раздевали, впадали в экстаз, разглядывая меня спереди и сзади, и все мужчины хотели бы быть на их месте.
Я была обручена с владетельным князем Масса-Карара{612}. Какой вельможа! Такой же прекрасный, как я, мягкого нрава, исполненный приятности, блистающий умом и пылающий любовью. Я любила его, как любят в первый раз, с обожанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе; начались дни торжеств, неслыханно великолепных, — празднества, конные состязания, опера-буфф, беспрерывные увеселения; со всех концов Италии я получала сонеты, из которых ни один не был сколько-нибудь сносным. Уже близился миг моего счастья, когда одна старая маркиза, которая прежде была любовницей князя, пригласила его на чашку шоколада; менее чем через два часа он умер в страшных судорогах. Но не то еще ждало меня впереди. Моя мать, в отчаянии, хотя и не сравнимом с моим, захотела хоть на некоторое время оставить столь гибельные места. У нее было прекрасное имение близ Гаэты; мы сели на галеру, разукрашенную, как алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар из Сале{613} настигает нас и берет нашу галеру на абордаж. Наши солдаты защищаются точь-в-точь, как папские солдаты: они все падают на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущение грехов in articulo mortis.
Их тотчас же раздели догола, как обезьян, так же как и мою мать, и женщин из нашей свиты, и меня. Удивительно, с какой ловкостью эти господа умеют раздевать! Но более всего поразило меня то, что они всем нам засовывали пальцы в такие места, куда мы, женщины, ставим только клистир. Эта церемония показалась мне очень странной: ведь всему дивишься, пока не побываешь за границей. Вскоре я поняла, что это делается для того, чтобы узнать, не спрятали ли мы там бриллианты; это обычай, принятый с незапамятных времен всеми просвещенными нациями, которые ведут морскую торговлю. Я узнала, что и благочестивые мальтийские рыцари всегда поступали так же, когда забирали в плен турок и турчанок; это закон международного права, который никто никогда не оспаривал.
Не стану распространяться о том, сколь тяжело для юной и знатной девицы вдруг превратиться в невольницу, которую вместе с матерью увозят в Марокко; вам должно быть понятно, что мы перенесли на корабле корсара. Моя мать была еще очень красива; дамы нашей свиты, даже наши служанки, обладали большими прелестями, чем все африканские женщины, вместе взятые. Что касается меня, я была восхитительна — сама красота, само очарование, и к тому же я была девственницей; не долго я оставалась ею: цветок, который сберегался для прекрасного князя Масса-Карара, был похищен капитаном корсаров. Этот отвратительный негр еще воображал, будто оказывает мне большую честь. Что говорить, княгиня Палестрина и я отличались, должно быть, необычайной выносливостью, иначе не выдержали бы всего, что пришлось нам испытать до прибытия в Марокко. Но довольно об этом; это дела столь обычные, что не стоит на них останавливаться.
Когда мы прибыли в Марокко, там текли реки крови. У каждого из пятидесяти сыновей императора Мулей-Измаила{614} были свои сторонники; это и явилось причиной пятидесяти гражданских войн черных против черных, черных против коричневых, коричневых против коричневых, мулатов против мулатов — беспрерывная резня на всем пространстве империи.
Не успели мы высадиться, как на нас напали черные из партии, враждовавшей с партией моего корсара, и стали отнимать у него добычу. После бриллиантов и золота всего драгоценнее были мы. Я стала свидетельницей такой битвы, какой не увидишь под небесами вашей Европы. У северных народов не такая горячая кровь, ими не владеет та бешеная страсть к женщинам, которая обычна в Африке. Можно подумать, что у европейцев молоко в жилах, тогда как у жителей Атласских гор и соседних стран не кровь, а купорос, огонь. Чтобы решить, кому мы достанемся, эти люди дрались с неистовством африканских львов, тигров и змей. Мавр схватил мою мать за правую руку, помощник моего капитана удерживал ее за левую, мавританский солдат тянул ее за одну ногу, один из наших пиратов — за другую. Почти на каждую из наших девушек приходилось в эту минуту по четыре воина. Мой капитан прикрыл меня собою; он размахивал ятаганом и убивал всякого, кто осмеливался противиться его ярости. В конце концов все наши итальянки, моя мать в том числе, были растерзаны, изрублены, перебиты чудовищами, которые их друг у друга оспаривали. Пленники и те, которые их пленили, — солдаты, матросы, черные, коричневые, белые, мулаты и, наконец, мой капитан, — все были убиты; я лежала полумертвая под этой грудой мертвецов. Подобные сцены происходили, как всем известно, на пространстве более трехсот лье, но при этом никто не забывал пять раз в день помолиться, согласно установлению Магомета.
С большим трудом выбралась я из-под окровавленных трупов и дотащилась до большого померанцевого дерева, которое росло неподалеку, на берегу ручья. Я свалилась там от усталости, страха, ужаса, отчаяния и голода. Вскоре изнеможение мое перешло в сон, который скорее был обмороком, нежели отдыхом.
Еще я была в этом состоянии слабости и бесчувственности, между жизнью и смертью, когда почувствовала, как что-то на меня давит, что-то движется на моем теле. Я открыла глаза и увидела белого человека с добродушною физиономией, который, вздыхая, бормотал сквозь зубы: «Ma che sciagura d’essere senza cogl!»[21]
Глава двенадцатая
Продолжение злоключений старухи
— Удивленная и обрадованная тем, что слышу язык моего отечества, и не менее пораженная словами этого человека, я ответила ему, что бывают большие несчастья, нежели то, на которое он жаловался; я рассказала ему в кратких словах о перенесенных мною ужасах и снова лишилась чувств. Он отнес меня в соседний дом, уложил в постель, накормил, ухаживал за мной, утешал меня, ласкал, говорил, что не видел женщины прекраснее и что никогда еще так не сожалел о том, чего никто не мог ему возвратить.
— Я родился в Неаполе, — сказал он мне. — Там оскопляют каждый год две-три тысячи детей; одни из них умирают, другие приобретают голос, красивее женского, третьи даже становятся у кормила власти{615}. Мне сделали эту операцию превосходно, я стал певцом в капелле княгини Палестрины.
— Моей матери! — воскликнула я.
— Вашей матери? — воскликнул он, плача. — Значит, вы та княжна, которую я воспитывал до шести лет и которая уже тогда обещала стать красавицей?
— Это я; моя мать лежит в четырехстах шагах отсюда, изрубленная в куски, под грудой трупов…
Я рассказала ему все, что случилось со мной; он мне тоже поведал свои приключения. Я узнала, что он был послан к марокканскому королю одной христианской державой{616}, дабы заключить с этим монархом договор, согласно которому ему доставляли бы порох, пушки и корабли для уничтожения торговли других христиан.
— Моя миссия исполнена, — сказал этот честный евнух, — я сяду на корабль в Сеуте и отвезу вас в Италию. Ma che sciagura d’essere senza cogl!
Я поблагодарила его со слезами умиления, но, вместо того чтобы отвезти в Италию, он отправил меня в Алжир и продал бею этого края. Едва бей{617} успел меня купить, как чума, обошедшая Африку, Азию и Европу, со всей яростью разразилась в Алжире. Вы видели землетрясение, но, барышня, вы никогда не видели чумы.
— Никогда, — подтвердила баронесса.
— Если бы вы видели ее, — сказала старуха, — вы признали бы, что это не чета какому-то землетрясению. Чума часто посещает Африку. Я заболела ею. Представьте себе, каково это для дочери папы, пятнадцати лет от роду, — в течение трех месяцев испытать бедность, рабство, почти ежедневно подвергаться насилию, увидеть свою мать изрубленной в куски, пережить голод, войну и умереть от чумы в Алжире! Впрочем, я-то выжила, но и мой евнух, и бей, и почти весь алжирский сераль вымерли.
Когда свирепость этой ужасной немочи поутихла, невольниц бея продали. Я стала собственностью купца, который отвез меня в Тунис и там продал другому купцу, который перепродал меня в Триполи; из Триполи я была продана в Александрию, из Александрии в Смирну, из Смирны в Константинополь. Я досталась, наконец, янычарскому аге{618}, который вскоре был послан защищать Азов{619} против осаждавших его русских.
Ага, который любил радости жизни, взял с собою весь свой сераль; он поместил нас в маленькой крепости на Меотийском болоте{620}, где мы находились под стражей двух черных евнухов и двадцати солдат. Русских убили очень много, но они сторицей отплатили за это. Азов был предан огню и мечу; не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков; держалась только наша маленькая крепость; неприятель решил взять нас измором. Двадцать янычар поклялись не сдаваться. Муки голода довели их до того, что, не желая нарушать клятву, они принуждены были съесть двух евнухов. Наконец через несколько дней они решили взяться за женщин. С нами был очень благочестивый и сострадательный имам{621}, который произнес прекрасную проповедь, убеждая их не убивать нас.
— Отрежьте, — сказал он, — только по половине зада у каждой из этих дам: у вас будет отличное жаркое. Если положение не изменится, то через несколько дней вы сможете пополнить ваши запасы; небо будет милостиво к вам за столь человеколюбивый поступок и придет к вам на помощь.
Он был очень красноречив; он убедил их; они проделали над нами эту ужасную операцию; имам приложил к нашим ранам тот бальзам, который применяют, когда над детьми производят обряд обрезания; мы все были при смерти.
Едва янычары кончили свой обед, которым мы их снабдили, как явились русские на плоскодонных лодках; ни один янычар не спасся. Русские не обратили никакого внимания на положение, в котором мы находились. Впрочем, везде есть французские хирурги; один из них, очень искусный, заботливо занялся нами и вылечил нас. Я никогда не забуду, что, когда мои раны зажили, он объяснился мне в любви. Правда, он всем нам объяснился в любви, чтобы нас утешить; при этом он уверял нас, что мы не исключение, что подобные случаи уже происходили иногда при осадах и что таков закон войны.
Как только я и мои подруги смогли ходить, нас отправили в Москву; я досталась одному боярину, у которого работала садовницей и ежедневно получала по двадцати ударов кнутом; но через два года этот боярин сам был колесован вместе с тридцатью другими из-за какой-то придворной смуты{622}. Я воспользовалась этим случаем и убежала; я прошла всю Россию; долгое время была служанкой в кабачке в Риге, потом в Ростоке, в Веймаре, в Лейпциге, в Касселе, в Утрехте, в Лейдене, в Гааге, в Роттердаме; я состарилась в нищете и позоре, имея только половину зада, всегда вспоминая, что я дочь папы; сотни раз я хотела покончить с собой, но я все еще люблю жизнь. Эта нелепая слабость, может быть, один из самых роковых наших недостатков: ведь ничего не может быть глупее, чем желание беспрерывно нести ношу, которую хочется сбросить на землю; быть в ужасе от своего существования и влачить его; словом, ласкать пожирающую нас змею, пока она не изгложет нашего сердца.
Я видела в странах, где судьба заставляла меня скитаться, и в кабачках, где я служила, несчетное число людей, которым была тягостна их жизнь, но всего двенадцать из них добровольно положили конец своим бедствиям — трое негров, четверо англичан, четверо женевцев и один немецкий профессор по имени Робек{623}. Кончила я тем, что поступила в услужение к еврею дом-Иссахару; он приставил меня к вам, моя прелестная барышня, я привязалась к вам, и ваши приключения стали занимать меня больше, нежели мои собственные. Я никогда не начала бы рассказывать вам о своих несчастьях, если бы вы меня не задели за живое и если бы не было обычая рассказывать на корабле разные истории, чтобы скоротать время. Да, барышня, у меня немалый опыт, я знаю свет; доставьте себе удовольствие, расспросите пассажиров, пусть каждый расскажет вам свою историю; и если найдется из них хоть один, который не проклинал бы частенько свою жизнь, который не говорил бы самому себе, что он несчастнейший из людей, тогда утопите меня в море.
Глава тринадцатая
Как Кандид был принужден разлучиться с Кунигундой и со старухой
Прекрасная Кунигунда, выслушав историю старухи, осыпала ее всеми любезностями, какие приличествуют особе столь высокого происхождения и достоинства. Она согласилась с ее предложением и убедила всех пассажиров рассказать ей поочередно свои приключения. И тогда Кандид и Кунигунда увидели, что старуха была права.
— Очень жаль, — говорил Кандид, — что мудрый Панглос, вопреки обычаю, был повешен во время аутодафе; он изрек бы нам удивительные слова о физическом и нравственном зле, которые царят на земле и на море, и у меня хватило бы смелости почтительно сделать ему несколько возражений.
А пока каждый рассказывал свою историю, корабль плыл все дальше, и вот они уже в Буэнос-Айресе. Кунигунда, капитан Кандид и старуха пошли к губернатору дону Фернандо д’Ибараа-а-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса. Этот вельможа отличался необыкновенной надменностью, как и подобает человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми так высокомерно, так задирал нос, так безжалостно повышал голос, принимал такой внушительный тон и такую горделивую осанку, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильнейшее искушение поколотить его. Женщин он любил неистово. Кунигунда ему показалась прекраснее всех, когда-либо им виденных. Первым делом он спросил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что она его жена, потому что Кунигунда ею не была, но и назвать ее сестрой он тем более не смел; хотя эта невинная ложь некогда была очень в ходу у древних{624}, да и в наше время может быть полезною, но его душа была слишком чиста, чтобы изменить истине.
— Девица Кунигунда, — сказал он, — согласилась оказать мне честь выйти за меня, и мы умоляем ваше превосходительство дать нам на это ваше благосклонное разрешение.
Дон Фернандо д’Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лам-пурдос-и-Суса горько улыбнулся, шевельнув усами, и приказал капитану Кандиду произвести смотр своей роте. Кандид повиновался; губернатор остался с Кунигундою… Он открыл ей свою страсть и объявил, что завтра женится на ней в церкви или как-нибудь иначе, до того он очарован ее прелестями.
Кунигунда попросила у него четверть часа, чтобы подумать, посоветоваться со старухою и на что-то решиться.
Старуха сказала Кунигунде:
— Барышня, у вас семьдесят два поколения предков и ни гроша за душой. Ничто не препятствует вам стать женою самого влиятельного человека во всей Южной Америке, у которого к тому же такие великолепные усы. С какой стати вам хранить верность, невзирая на все превратности судьбы? Вы были изнасилованы болгарами; еврей и инквизитор пользовались вашими милостями. Несчастья дают людям известные права. Признаюсь, будь я на вашем месте, я не задумалась бы выйти за губернатора и помогла бы капитану Кандиду сделать карьеру.
Пока старуха говорила, выказывая благоразумие, даруемое годами и опытом, в гавань вошел маленький корабль; на нем были алькальд и альгвасилы{625}, и вот что случилось дальше.
Старуха верно угадала, что это нечистый на руку кордельер украл деньги и драгоценности Кунигунды в городе Бадахосе, куда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах захотел продать несколько камней ювелиру. Купец признал в них собственность великого инквизитора. Кордельер, перед тем как его повесили, признался, что он их украл, описал тех, кого обворовал, и указал, куда они поехали. О бегстве Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до Кадикса; затем послали, не теряя времени, корабль в погоню за ними. И вот корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса. Распространился слух, что алькад скоро сойдет на берег и что он ищет убийц великого инквизитора. Благоразумная старуха вмиг смекнула, что делать.
— Вы не сможете бежать, — сказала она Кунигунде, — да вам и нечего бояться: не вы убили его преосвященство; кроме того, губернатор вас любит и не позволит, чтобы с вами дурно обошлись. Оставайтесь.
Она поспешно идет к Кандиду.
— Бегите, — говорит она ему, — или через час вы будете сожжены.
Нельзя было терять ни минуты, но как расстаться с Кунигундою и куда укрыться?
Глава четырнадцатая
Как были приняты Кандид и Какамбо парагвайскими иезуитами
Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких множество в Испании и ее колониях. В жилах его была едва четверть испанской крови; его отец был метис из Тукумана{626}; сам он побывал и певчим в церковном хоре, и лакеем. Его звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что его хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал двух андалузских коней.
— Едемте, господин, последуем совету старухи, бежим без оглядки.
Кандид залился слезами.
— О моя дорогая Кунигунда! Приходится покинуть вас как раз в ту минуту, когда губернатор собирается устроить нашу свадьбу. Кунигунда, заброшенная так далеко от родины, что с вами станется?
— Как-нибудь да устроится, — ответил Какамбо. — Женщина нигде не пропадет. Господь о ней заботится. Бежим.
— Куда ты поведешь меня? Куда мы направимся? Как обойдемся без Кунигунды? — говорил Кандид.
— Клянусь святым Иаковом Компостельским, — сказал Какамбо, — вы собирались воевать против иезуитов, а теперь будете воевать вместе с ними; я неплохо знаю дорогу и проведу вас в их государство; они будут рады заполучить капитана, который прошел военную выучку у болгар; вы сделаете блестящую карьеру. Не нашли счастья в одном месте, ищите в другом. К тому же, что может быть приятнее, чем видеть и делать что-то новое!
— Ты, значит, уже бывал в Парагвае? — спросил Кандид.
— А как же! — сказал Какамбо. — Я был сторожем в Асунсионской коллегии и знаю государство de los padres[22], как улицы Кадикса. Удивительное у них государство! Оно более трехсот миль в диаметре; разделено на тридцать провинций. Los padres владеют там всем, а народ ничем; не государство, а образец разума и справедливости. Что касается меня, то я в восторге от los padres: они здесь ведут войну против испанского и португальского королей, а в Европе их же исповедуют; здесь убивают испанцев, а в Мадриде им же даруют место в раю. Как тут не восхищаться! Вот увидите, вы будете там счастливейшим из людей. Как обрадуются los padres, когда у них появится капитан, знающий болгарскую службу!
Когда они подъехали к первой заставе, Какамбо сказал подошедшему часовому, что капитан желает переговорить с комендантом. Пошли известить караульного начальника. Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту и доложил о вновь прибывших. Сначала Кандида и Какамбо обезоружили, потом отобрали у них андалузских коней. Двух иностранцев провели между двумя шеренгами солдат; комендант ждал их; на нем была трехрогая шляпа, подвязанная ряса, шпага на боку, в руке эспонтон{627}. Он подал знак; тотчас же двадцать пять солдат окружают наших путешественников. Сержант говорит им, что надо подождать, что комендант не может вести с ними переговоры, что преподобный отец провинциал запрещает говорить с испанцами{628} иначе, как только в его присутствии, и не позволяет им оставаться более трех часов в стране.
— А где же преподобный отец провинциал? — спросил Какамбо.
— Он принимает парад после обедни, — ответил сержант, — и вы сможете поцеловать его шпоры только через три часа.
— Но господин капитан умирает от голода, да и я тоже, — сказал Какамбо. — Он вовсе не испанец, он немец; нельзя ли нам позавтракать до прибытия его преподобия?
Сержант тотчас же передал эти слова коменданту.
— Слава богу! — воскликнул этот сеньор. — Если он немец, я имею право беседовать с ним; пусть его отведут в мой шалаш.
Кандида немедленно отвели в беседку из зелени, украшенную красивыми колоннами золотисто-зеленого мрамора и вольерами, в которых летали попугаи, колибри и все самые редкостные птицы. В золотых чашах был приготовлен превосходный завтрак; когда парагвайцы сели посреди поля, на солнцепеке, есть маис из деревянных чашек, преподобный отец комендант вошел в беседку.
Он был молод и очень красив — полный, белолицый, румяный, с высоко поднятыми бровями, с быстрым взглядом, с розовыми ушами, с алыми губами, с гордым видом, — но гордость эта была не испанского или иезуитского образца. Кандиду и Какамбо вернули отобранное у них оружие, так же как и андалузских коней; Какамбо задал им овса у беседки и не спускал с них глаз, опасаясь неожиданностей.
Кандид сначала поцеловал край одежды коменданта, потом они сели за стол.
— Итак, вы — немец? — спросил иезуит по-немецки.
— Да, преподобный отец, — сказал Кандид.
Оба, произнося эти слова, смотрели друг на друга с чрезвычайным удивлением и волнением, которого не могли скрыть.
— Вы из какой части Германии? — спросил иезуит.
— Из грязной Вестфалии, — сказал Кандид. — Я родился в замке Тундер-тен-Тронк.
— О, небо! Возможно ли? — воскликнул комендант.
— Какое чудо! — воскликнул Кандид.
— Это вы? — спросил комендант.
— Это невероятно! — сказал Кандид.
Они бросаются один к другому, обнимаются, проливая ручьи слез.
— Как! Это вы, преподобный отец? Вы, брат Кунигунды! Вы, убитый болгарами! Вы, сын господина барона! Вы, парагвайский иезуит! Надо признать, что этот мир удивительно устроен. О Панглос, Панглос! Как бы вы были рады, если бы не были повешены.
Комендант велел уйти неграм-невольникам и парагвайцам, которые подавали питье в кубках из горного хрусталя. Он тысячу раз возблагодарил бога и святого Игнатия{629}; он сжимал Кандида в объятиях; их лица были орошены слезами.
— Вы будете еще более удивлены и растроганы, — сказал Кандид, — когда услышите, что ваша сестра, которая, как вы думаете, зарезана, госпожа Кунигунда, благополучно здравствует.
— Где?
— Неподалеку от вас, у губернатора в Буэнос-Айресе; а я прибыл в Новый Свет, чтобы воевать с вами.
Все, что они рассказывали друг другу в течение этой долгой беседы, несказанно дивило их. Их души говорили их устами, внимали их ушами, светились у них в глазах. Так как они были немцы, то, в ожидании преподобного отца провинциала, они не спешили выйти из-за стола; и вот что рассказал комендант своему дорогому Кандиду.
Глава пятнадцатая
Как Кандид убил брата своей дорогой Кунигунды
— Всю жизнь я буду помнить ужасный день, когда при мне убили моих отца и мать и обесчестили сестру. После ухода болгар мою обожаемую сестру так нигде и не нашли; мать, отца, меня, двух служанок и трех маленьких зарезанных мальчиков положили на тележку и отправили для погребения в иезуитскую часовню, в двух милях от замка моих предков. Иезуит окропил нас святой водою; она была страшно солона; несколько капель попало мне в глаза; патер заметил, что веки мои дрогнули; он положил руку на мое сердце и почувствовал, что оно бьется; меня привели в сознание, и через три недели я выздоровел. Вы знаете, мой дорогой Кандид, как я был красив; я сделался еще красивее; поэтому преподобный отец Круст{630}, тамошний настоятель, воспылал ко мне самой нежной дружбой; он сделал меня послушником, и немного спустя я был послан в Рим. Отцу генералу нужен был новый набор молодых иезуитов-немцев. Правители Парагвая не желали испанских иезуитов, они предпочитали иностранных, надеясь, что те будут покладистее. Преподобный отец генерал рассудил, что я подхожу для работы на этом винограднике. Нас отправилось трое: поляк, тиролец и я. По приезде я был удостоен сана иподьякона и чина лейтенанта; теперь я полковник и священник. Мы мужественно встретим войско испанского короля. Ручаюсь, что они будут разбиты и отлучены. Провидение посылает вас сюда, чтобы нам помочь. Но правда ли это, что моя дорогая сестра Кунигунда находится по соседству, у губернатора Буэнос-Айреса?
Кандид клятвенно заверил его, что так оно и есть. Они оба опять расплакались. Барон без конца обнимал Кандида; он называл его своим братом, своим спасителем.
— Ах, может быть, — сказал он ему, — мы вместе с вами, мой дорогой Кандид, войдем победителями в город и освободим мою сестру Кунигунду.
— Это предел моих желаний, — сказал Кандид, — потому что я надеялся и надеюсь жениться на ней.
— Вы нахал! — отвечал барон. — Как у вас хватает бесстыдства мечтать о браке с моей сестрой, которая насчитывает семьдесят два поколения предков? И вы еще имеете наглость рассказывать мне о столь дерзком плане!
Кандид, ошеломленный этой речью, отвечал ему:
— Преподобный отец, все поколения в мире ничего тут поделать не смогут; я вырвал вашу сестру из рук еврея и инквизитора, она многим мне обязана и хочет вступить со мною в брак. Учитель Панглос всегда говорил мне, что люди равны, и, конечно, я женюсь на ней.
— Это мы посмотрим, негодяй! — сказал иезуит барон Тундер-тен-Тронк и ударил Кандида шпагою плашмя по лицу. Кандид мигом выхватывает свою шпагу и погружает ее до рукоятки в живот барона-иезуита; но, вытащив ее оттуда, всю покрытую кровью, он принялся плакать.
— О, боже мой! — сказал он. — Я убил моего прежнего господина, моего друга, моего брата. Я добрейший человек на свете и тем не менее уже убил троих; из этих троих — двое священники.
Тут прибежал Какамбо, стоявший на страже у дверей беседки.
— Нам остается дорого продать свою жизнь, — сказал ему его господин. — Конечно, в беседку сейчас войдут. Надо умереть с оружием в руках.
Какамбо, который побывал в разных переделках, нисколько не растерялся; он схватил иезуитскую рясу барона, надел ее на Кандида, дал ему шляпу умершего и подсадил на лошадь. Все это было сделано во мгновение ока.
— Живее, сударь, все примут вас за иезуита, который едет с приказами, и мы переправимся через границу прежде, чем за нами погонятся.
С этими словами он помчался, крича по-испански:
— Дорогу, дорогу преподобному отцу полковнику!
Глава шестнадцатая
Что произошло у двух путешественников с двумя девушками, двумя обезьянами, дикарями, зовущимися орельонами
Кандид и его слуга уже были по ту сторону границы, а в лагере еще никто не знал о смерти немецкого иезуита. Предусмотрительный Какамбо позаботился о том, чтобы наполнить корзину хлебом, шоколадом, ветчиной, фруктами и сосудами с вином. На своих андалузских конях они углубились в неизвестную страну, но не обнаружили там ни одной дороги. Наконец прекрасный луг, прорезанный ручейками, представился им. Наши путники пустили лошадей на траву. Какамбо предложил своему господину поесть и показал ему в этом пример.
— Как ты хочешь, — сказал Кандид, — чтобы я ел ветчину, когда я убил сына моего господина барона и к тому же чувствую, что осужден больше никогда не видеть прекрасной Кунигунды? Зачем длить мои несчастные дни, если мне придется влачить их в разлуке с нею, в угрызениях совести и в отчаянии? И что скажет «Вестник Треву»{631}?
Так говорил Кандид, отправляя в рот кусок за куском. Солнце садилось. Издалека до путников донеслись женские крики. Они не могли разобрать, были то крики скорби или радости, но оба стремительно вскочили, полные беспокойства и тревоги, всегда порождаемых в нас незнакомой местностью. Оказалось, что это вскрикивали две совершенно голые девушки, которые стремительно бежали по обочине луга, меж тем как две обезьяны, преследуя их, кусали их за ягодицы. Кандиду стало жаль девушек; у болгар он научился метко стрелять и мог сбить орешек с куста, не задев ни единого листка. Он хватает свое испанское двуствольное ружье, стреляет и убивает обезьян.
— Слава богу, дорогой Какамбо, я избавил от великой опасности этих бедняжек; если я и согрешил, убив инквизитора и иезуита, то теперь загладил свой грех, — спас жизнь двум девушкам. Они, может статься, знатные девицы, и тогда мое деяние принесет нам большую пользу в этой стране.
Он хотел сказать еще что-то, но слова замерли у него на губах, когда он увидел, что девушки нежно обнимают обезьян, проливают слезы над их телами и наполняют окрестность горестными жалобами.
— Вот не ожидал, что у них такая добрая душа, — обратился он наконец к Какамбо.
Но тот возразил ему:
— Славное вы сделали дело, сударь, — вы убили любовников этих девиц.
— Их любовников! Возможно ли это? Ты смеешься надо мной, Какамбо; с чего ты это взял?
— Мой дорогой господин, — отвечал Какамбо, — вас постоянно все удивляет; почему вам кажется странным, что в некоторых странах обезьяны пользуются благосклонностью женщин? Обезьяна — четверть мужчины, как я — четверть испанца.
— Увы, — отвечал Кандид, — я вспоминаю, что слышал от Панглоса, будто во время оно подобные случаи бывали. Он рассказывал, что так появились на свет египаны, фавны, сатиры, которых собственными глазами видели иные из великих людей древности; но я считал это баснями.
— Теперь вы убедились, — сказал Какамбо, — что это правда. Этим, как видите, занимаются особы, даже не получившие должного воспитания; боюсь только, как бы эти дамы не наделали нам хлопот.
Это основательное соображение побудило Кандида оставить луг и углубиться в лес. Там он поужинал с Какамбо; и оба они, проклиная португальского инквизитора, буэнос-айресского губернатора и барона, уснули на ложе из мха. Проснувшись, они почувствовали, что не могут пошевелиться; дело в том, что девицы донесли на них местным жителям, орельонам{632}, и те ночью связали наших путников веревками из древесной коры. Кандид и Какамбо были окружены полсотней орельонов, совершенно голых, вооруженных стрелами, палицами и каменными топорами; одни кипятили воду в большом котле, другие приготавливали вертелы, и все кричали:
— Это иезуит, это иезуит! Отомстим и заодно славно пообедаем. Съедим иезуита, съедим иезуита!{633}
— Говорил я вам, мой дорогой господин, — уныло сказал Какамбо, — что эти девушки сыграют с нами скверную шутку!
Кандид, заметив котлы и вертелы, вскричал:
— Нас, наверное, изжарят или сварят. Ах, что сказал бы учитель Панглос, если бы увидел, какова природа в естественном своем виде! Все к лучшему, пускай так, но, право, очень жестокий удел — потерять Кунигунду и попасть на вертел к орельонам.
Какамбо никогда не терял головы.
— Не отчаивайтесь, — сказал он опечаленному Кандиду, — я немного понимаю язык этого народа и поговорю с ними.
— Не забудьте, — сказал Кандид, — внушить им, что варить людей — бесчеловечно и совсем не по-христиански.
— Господа, — сказал Какамбо, — вы, конечно, рассчитываете съесть сегодня иезуита; это очень хорошо; нет ничего справедливее, чем так поступать со своими врагами. В самом деле, естественное право учит нас убивать наших ближних, и этот обычай распространен по всей земле. Мы не пользуемся правом их съедать лишь потому, что у нас довольно другой пищи; но у вас нет таких запасов. Без сомнения, лучше съесть врага, чем отдать воронам и воронам плоды своей победы. Но, господа, не хотите же вы съесть ваших друзей. Вы собираетесь зажарить на вертеле иезуита, но ведь перед вами ваш защитник, враг ваших врагов, и из него-то вы предполагаете сделать жаркое! Что касается меня, я родился в вашей стране; господин, которого вы видите, мой хозяин и вовсе не иезуит; он только что убил иезуита и носит его шкуру: отсюда ваша ошибка. Можете проверить мои слова: возьмите эту рясу, отнесите ее на границу государства los padres и справьтесь, убил ли мой господин иезуитского офицера; это не займет у вас много времени, и, если окажется, что я солгал, вы нас съедите. Но если я сказал правду, вы достаточно знаете принципы общественного права, обычаи и законы и помилуете нас.
Орельоны нашли, что его речь разумна; они отправили двух старейшин, чтобы те поскорее разузнали истину. Посланцы исполнили их поручение весьма толково и вскоре возвратились с добрыми вестями. Орельоны развязали пленников, стали с ними необычайно учтивы, предложили им девушек, угостили их лакомствами и прохладительными напитками и проводили до границы своего государства, весело крича:
— Он не иезуит, он не иезуит!
Кандид не переставал удивляться причине своего избавления.
— Какой народ, — говорил он, — какие люди, какие нравы! Если бы я не имел счастья проткнуть шпагой брата Кунигунды, я был бы съеден без всякой пощады. Но оказалось, что природа сама по себе вовсе не плоха, так как эти простые люди, вместо того, чтобы меня съесть, оказали мне тысячу любезностей, едва лишь узнали, что я не иезуит.
Глава семнадцатая
Прибытие Кандида и его слуги в страну Эльдорадо{634}, и что они там увидели
Когда они были уже за пределами земли орельонов, Какамбо сказал Кандиду:
— Видите, это полушарие ничуть не лучше нашего; послушайтесь меня, вернемся поскорее в Европу.
— Как нам вернуться туда, — сказал Кандид, — и куда? На моей родине болгары и авары режут всех подряд, в Португалии меня сожгут, а здесь мы ежеминутно рискуем попасть на вертел. Но как решиться оставить края, где живет Кунигунда?
— Поедемте через Кайенну, — сказал Какамбо, — там мы найдем французов, которые бродят по всему свету; быть может, они нам помогут. Должен же господь сжалиться над нами.
Нелегко было добраться до Кайенны{635}. Положим, они понимали, в каком направлении надо ехать; но горы, реки, пропасти, разбойники, дикари — повсюду их ждали устрашающие препятствия. Лошади пали от усталости; провизия была съедена; целый месяц они питались дикими плодами. Наконец они достигли маленькой речки, окаймленной кокосовыми пальмами, которые поддержали их жизнь и надежды.
Какамбо, который всегда давал такие же хорошие советы, как и старуха, сказал Кандиду:
— Мы не в силах больше идти, мы довольно отшагали; я вижу пустой челнок на реке, наполним его кокосовыми орехами, сядем в него и поплывем по течению. Река всегда ведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не найдем ничего приятного, то, по крайней мере, отыщем что-нибудь новое.
— Едем, — сказал Кандид, — и вручим себя провидению.
Они проплыли несколько миль меж берегов, то цветущих, то пустынных, то пологих, то крутых. Река становилась все шире; наконец она потерялась под сводом страшных скал, вздымавшихся до самого неба. Наши путешественники решились, вверив себя волнам, пуститься под скалистый свод. Река, стесненная в этом месте, понесла их с ужасающим шумом и быстротой. Через сутки они вновь увидели дневной свет, но их лодка разбилась о подводные камни; целую милю пришлось им перебираться со скалы на скалу; наконец перед ними открылась огромная равнина, окруженная неприступными горами. Земля была возделана так, чтобы радовать глаз и вместе с тем приносить плоды; все полезное сочеталось с приятным; дороги были заполнены, вернее, украшены изящными экипажами из какого-то блестящего материала; в них сидели мужчины и женщины редкостной красоты; большие красные бараны влекли эти экипажи с такой резвостью, которая превосходила прыть лучших коней Андалузии, Тетуана и Мекнеса{636}.
— Вот, — сказал Кандид, — страна получше Вестфалии.
Они с Какамбо остановились у первой попавшейся им на пути деревни. Деревенские детишки в лохмотьях из золотой парчи играли у околицы в шары. Пришельцы из другой части света с любопытством глядели на них; игральными шарами детям служили крупные, округлой формы камешки, желтые, красные, зеленые, излучавшие странный блеск. Путешественникам пришло в голову поднять с земли несколько таких кругляшей; это были самородки золота, изумруды, рубины, из которых меньший был бы драгоценнейшим украшением трона Могола{637}.
— Без сомнения, — сказал Какамбо, — это дети здешнего короля.
В эту минуту появился сельский учитель и позвал детей в школу.
— Вот, — сказал Кандид, — наставник королевской семьи.
Маленькие шалуны тотчас прервали игру, оставив на земле шарики и другие свои игрушки. Кандид поднимает их, бежит за наставником и почтительно протягивает ему, объясняя знаками, что их королевские высочества забыли свои драгоценные камни и золото. Сельский учитель, улыбаясь, бросил камни на землю, с большим удивлением взглянул на Кандида и продолжил свой путь.
Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды.
— Где мы? — вскричал Кандид. — Должно быть, королевским детям дали в этой стране на диво хорошее воспитание, потому что они приучены презирать золото и драгоценные камни.
Какамбо был удивлен не менее, чем Кандид. Наконец они подошли к первому деревенскому дому; он напоминал европейский дворец. Толпа людей суетилась в дверях и особенно в доме; слышалась приятная музыка, из кухни доносились нежные запахи. Какамбо подошел к дверям и услышал, что говорят по-перуански; это был его родной язык, ибо, как известно, Какамбо родился в Тукумане, в деревне, где другого языка не знали.
— Я буду вашим переводчиком, — сказал он Кандиду, — войдем, здесь кабачок.
Тотчас же двое юношей и две девушки, служившие при гостинице, одетые в золотые платья, с золотыми лентами в волосах, пригласили их сесть за общий стол. На обед подали четыре супа, из них каждый был приготовлен из двух попугаев, вареного кондора, весившего двести фунтов, двух жареных обезьян, превосходных на вкус; триста колибри покрупнее на одном блюде и шестьсот помельче на другом; восхитительные рагу, воздушные пирожные, — все на блюдах из горного хрусталя. Слуги и служанки наливали гостям различные ликеры из сахарного тростника.
Посетители большею частью были купцы и возчики — все чрезвычайно учтивые; они с утонченной скромностью задали Какамбо несколько вопросов и очень охотно удовлетворяли любопытство гостей.
Когда обед был окончен, Какамбо и Кандид решили, что щедро заплатят, бросив хозяину на стол два крупных кусочка золота, подобранных на земле; хозяин и хозяйка гостиницы расхохотались и долго держались за бока. Наконец они успокоились.
— Господа, — сказал хозяин гостиницы, — конечно, вы иностранцы, а мы к иностранцам не привыкли. Простите, что мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с большой дороги. У вас, без сомнения, нет местных денег, но этого и не надобно, чтобы пообедать здесь. Все гостиницы, устроенные для проезжих купцов, содержатся за счет государства. Вы здесь неважно пообедали, потому что это бедная деревня, но в других местах вас примут как подобает.
Какамбо перевел Кандиду слова хозяина гостиницы. Кандид слушал их с тем же удивлением и недоумением, с каким его друг Какамбо переводил.
— Что же, однако, это за край, — говорили они один другому, — неизвестный всему остальному миру и природой столь непохожий на Европу? Вероятно, это та самая страна, где все обстоит хорошо, ибо должна же такая страна хоть где-нибудь да существовать. А что бы ни говорил учитель Панглос, мне часто бросалось в глаза, что в Вестфалии все обстоит довольно плохо.
Глава восемнадцатая
Что они видели в стране Эльдорадо
Какамбо засыпал вопросами хозяина гостиницы; тот ему сказал:
— Я человек неученый и тем доволен; но есть у нас здесь старец, бывший придворный, — он самый образованный человек в государстве и очень разговорчивый.
Тотчас он проводил Какамбо к старцу. Кандид же оказался теперь на вторых ролях и молча сопровождал своего слугу. Они вошли в дом, очень простой, так как дверь была всего-навсего из серебра, а обшивка комнат всего-навсего из золота; но все было сработано с таким вкусом, что не проиграло бы и при сравнении с самыми богатыми дверями и обшивкой. Приемная, правда, была украшена только рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупал с избытком эту чрезвычайную простоту.
Старец принял двух иностранцев, сидя на софе, набитой пухом колибри, угостил их ликерами в алмазных чашах, потом в следующих словах удовлетворил их любопытство:
— Мне сто семьдесят два года, и я узнал от моего покойного отца, королевского конюшего, об удивительных переворотах в Перу, свидетелем которых он был. Наше государство — это древнее отечество инков, которые поступили очень неблагоразумно, когда отправились завоевывать другие земли: в конце концов они сами были уничтожены испанцами{638}.
Те государи из этой династии, которые остались на родине, были куда благоразумнее; с народного согласия они издали закон, следуя которому ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны; этим мы сберегли нашу простоту и наше благоденствие. У испанцев было лишь смутное представление о нашем государстве; они назвали его Эльдорадо, и один англичанин, некий кавалер Ролей{639}, даже приблизился к нашим границам около ста лет назад, но так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то вплоть до настоящего времени нам нечего было бояться посягательств европейских народов, которыми владеет непостижимая страсть к грязи и камням нашей земли и которые, дабы завладеть ими, готовы были бы перебить нас всех до единого.
Разговор длился долго: говорили о государственном устройстве, о нравах, о женщинах, о зрелищах, об искусствах. Наконец Кандид, у которого всегда была склонность к метафизике, велел Какамбо спросить, есть ли в этой стране религия.
Старец слегка покраснел.
— Как вы можете в этом сомневаться? — сказал он. — Неужели вы считаете нас такими неблагодарными людьми?
Какамбо почтительно спросил, какая религия в Эльдорадо. Старец опять покраснел.
— Разве могут существовать на свете две религии? — сказал он. — У нас, я думаю, та же религия, что и у вас; мы неустанно поклоняемся богу.
— Только одному богу? — спросил Какамбо, который все время переводил вопросы Кандида.
— Конечно, — сказал старец, — их не два, не три, не четыре. Признаться, люди из вашего мира задают очень странные вопросы.
Кандид продолжал расспрашивать этого доброго старика; он хотел знать, как молятся богу в Эльдорадо.
— Мы ничего не просим у него, — сказал добрый и почтенный мудрец, — нам нечего просить: он дал нам все, что нам нужно; мы непрестанно его благодарим.
Кандиду было любопытно увидеть священнослужителей, он велел спросить, где они. Добрый старец засмеялся.
— Друзья мои, — сказал он, — мы все священнослужители; и наш государь, и все отцы семейств каждое утро торжественно поют благодарственные гимны; им аккомпанируют пять-шесть тысяч музыкантов.
— Как! У вас нет монахов, которые всех поучают, ссорятся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инакомыслящих?
— Смею надеяться, мы здесь не сумасшедшие, — сказал старец, — все мы придерживаемся одинаковых взглядов и не понимаем, что такое ваши монахи.
При этих словах Кандид пришел в восторг. Он говорил себе: «Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона; если бы наш друг Панглос побывал в Эльдорадо, он не утверждал бы более, что замок Тундер-тен-Тронк — лучшее место на земле. Вот как полезно путешествовать!»
После этой длинной беседы добрый старец велел запрячь в карету шесть баранов и приказал двенадцати слугам проводить путешественников ко двору.
— Простите меня, — сказал он им, — за то, что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Государь примет вас так, что вы не останетесь недовольны и, без сомнения, отнесетесь снисходительно к тем обычаям страны, которые вам, возможно, не понравятся.
Кандид и Какамбо садятся в карету; шесть баранов летят во всю прыть, и менее чем в четыре часа они приезжают в королевский дворец, расположенный на окраине столицы. Портал дворца был двухсот двадцати пяти футов высотой и ста — шириной; невозможно было определить, из чего он сделан, но бросалось в глаза, что дивный материал этого здания не идет и в сравнение с теми булыжниками и песком, которые мы именуем золотом и драгоценными камнями.
Двадцать прекрасных девушек из охраны встретили Кандида и Какамбо, когда те вышли из кареты, проводили их в баню, надели на них одежды из пуха колибри; после этого придворные кавалеры и дамы, согласно принятому обычаю, ввели их в покои его величества, причем им пришлось идти между двумя рядами музыкантов, число которых достигало двух тысяч. Когда они подошли к тронному залу, Какамбо спросил у камергера, как здесь полагается приветствовать его величество. Встать ли на колени или распластаться на полу? Положить ли руки на голову или скрестить за спиной? Лизать пыль с пола? Одним словом, какова церемония?
— Обычай таков, — сказал камергер, — что каждый обнимает короля и целует в обе щеки.
Кандид и Какамбо бросаются на шею его величеству, который принимает их столь милостиво, что это не поддается описанию, и любезно приглашает на ужин.
В ожидании ужина им показали город, общественные здания, вздымавшиеся до облаков, рынки, украшенные тысячью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые неустанно текли в большие водоемы, выложенные каким-то драгоценным камнем, издававшим запах, подобный запаху гвоздики и корицы. Кандид попросил показать ему, где у них заседает суд; ему ответили, что этого учреждения у них нет, что в Эльдорадо никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы, и ему сказали, что и тюрем у них нет. Более всего удивил и порадовал Кандида дворец науки с галереей в две тысячи шагов, уставленной математическими и физическими инструментами.
Они успели осмотреть лишь тысячную часть города, как уже пришло время ехать к королю. Кандида посадили за стол вместе с его величеством, слугою Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и не бывал в обществе столь остроумного собеседника, каким оказался его величество. Какамбо переводил Кандиду остроты короля, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кандида не меньше, чем все остальное.
Они провели месяц в этой гостеприимной стране. Кандид без устали повторял Какамбо:
— Воистину, мой друг, замок, где я родился, хуже страны, где мы теперь находимся. А все-таки здесь нет Кунигунды, да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Если мы поселимся здесь, мы ничем не будем отличаться от местных жителей. А вот если вернемся в наш мир и привезем с собой только двенадцать баранов, нагруженных эльдорадскими камнями, мы будем богаче, чем все короли, вместе взятые. Мы больше не будем бояться инквизиторов и без труда освободим Кунигунду.
Эти рассуждения были по душе Какамбо; люди так любят блуждать по свету, чваниться перед соотечественниками и похваляться увиденным во время странствий, что двое счастливцев решили отказаться от своего счастья и попросить у его величества, чтобы он позволил им уехать.
— Вы делаете глупость, — сказал им король. — Я знаю, страна моя не бог весть что; но где можно прожить недурно, там и надо оставаться. Я, разумеется, не имею права удерживать иностранцев; это тирания, которая противна и нашим обычаям, и нашим законам; все люди свободны; вы уедете, когда захотите, но помните, что выбраться отсюда очень трудно. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом спустились и которая течет под сводом скал. Горы, окружающие мое государство, достигают десяти тысяч футов в вышину и отвесны, как стены; в ширину они достигают более десяти миль и обрываются в бездонные пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уехать, я прикажу механикам построить машину, чтобы вас удобно переправить через горы. Но уж дальше на провожатых не рассчитывайте, ибо мои подданные дали клятву никогда не переступать границ королевства и не нарушат ее — они достаточно разумные люди. Не считая этого, просите у меня все, что вам заблагорассудится.
— Мы просим у вашего величества, — сказал Какамбо, — только нескольких баранов, нагруженных съестными припасами, камнями и грязью вашей страны.
Король засмеялся.
— Не понимаю, — сказал он, — что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи, но берите ее, сколько хотите, и пусть она пойдет вам на пользу.
Он немедленно отдал приказ механикам соорудить машину, чтобы переправить этих странных людей за пределы королевства. Три тысячи ученых физиков работали над нею; через две недели она была готова и стоила всего двадцать миллионов стерлингов в ходячей монете той страны. Кандид и Какамбо сели в машину; с собой у них были два больших красных: барана, оседланных и взнузданных, чтобы ехать на них, когда путники уже преодолеют горы; двадцать вьючных баранов, нагруженных съестными припасами; тридцать — с образцами того, что было в стране наиболее любопытного; пятьдесят — груженных золотом, самоцветными камнями и алмазами. Король нежно обнял залетных гостей.
Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и занятно было смотреть, с каким искусством были подняты они со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в безопасное место и вернулись. У Кандида теперь не было иного желания и иной мысли, как подарить этих баранов Кунигунде.
— У нас есть, — говорил он, — чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если только Кунигунду вообще можно оценить в деньгах. Едем в Кайенну, сядем на судно, а потом посмотрим, какое королевство нам купить.
«Кандид»
Глава девятнадцатая
Что произошло в Суринаме{640}, и как Кандид познакомился с Мартеном
Первый день прошел для наших путешественников довольно приятно. Их ободряла мысль, что они обладают сокровищами, превосходящими богатства Азии, Европы и Африки. Кандид в восторге писал имя Кунигунды на каждом дереве. На другой день два барана увязли в болоте и погибли со всем грузом; два других околели от усталости несколько дней спустя; семь или восемь подохли от голода в пустыне; несколько баранов сорвалось в пропасть. Прошло сто дней пути — и вот у них осталось только два барана. Кандид сказал Какамбо:
— Мой друг, ты видишь, как преходящи богатства мира сего; нет на свете ничего прочного, кроме добродетели и счастья новой встречи с Кунигундой.
— Согласен, — сказал Какамбо, — но у нас осталось еще два барана с сокровищами, каких не было и не будет даже у короля Испании. Вот я вижу вдали город, — думаю, что это Суринам, принадлежащий голландцам. Наши беды приходят к концу, скоро начнется благоденствие.
По дороге к городу они увидели негра, распростертого на земле, полуголого, — на нем были только синие полотняные панталоны; у бедняги не хватало левой ноги и правой руки.
— О, боже мой! — воскликнул Кандид и обратился к негру по-голландски. — Что с тобою, мой друг, и почему ты в таком ужасном состоянии?
— Я жду моего хозяина господина Вандердендура, известного купца, — отвечал негр.
— Так это господин Вандердендур{641} так обошелся с тобою? — спросил Кандид.
— Да, господин, — сказал негр, — таков обычай. Два раза в год нам дают только вот такие полотняные панталоны, и это вся наша одежда. Если на сахароварне у негра попадает палец в жернов, ему отрезают всю руку; если он вздумает убежать, ему отрубают ногу. Со мной случилось и то и другое. Вот цена, которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гвинейском берегу за десять патагонских монет, она мне сказала: «Дорогое мое дитя, благословляй наши фетиши, почитай их всегда, они принесут тебе счастье; ты удостоился чести стать рабом наших белых господ и вместе с тем одарил богатством своих родителей». Увы! Я не знаю, одарил ли я их богатством, но сам-то я счастья не нажил. Собаки, обезьяны, попугаи в тысячу раз счастливее, чем мы; голландские жрецы, которые обратили меня в свою веру, твердят мне каждое воскресенье, что все мы — потомки Адама, белые и черные. Я не силен в генеалогии, но если проповедники говорят правду, мы и впрямь все сродни друг другу. Но подумайте сами, можно ли так ужасно обращаться с собственными родственниками?
— О Панглос! — воскликнул Кандид. — Ты не предвидел этих гнусностей. Нет, отныне я навсегда отказываюсь от твоего оптимизма.
— Что такое оптимизм? — спросил Какамбо.
— Увы, — сказал Кандид, — это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо.
И он залился слезами, глядя на негра; плача о нем, он вошел в Суринам.
Первым делом они справились, нет ли в порту какого-нибудь корабля, отплывающего в Буэнос-Айрес. Тот, к кому они обратились, оказался испанским судохозяином и согласился заключить с ними честную сделку. Он назначил им свидание в кабачке. Кандид и верный Какамбо отправились туда вместе со своими двумя баранами и стали его ждать.
У Кандида всегда было что на душе, то и на языке; он рассказал испанцу все свои приключения и признался, что хочет похитить Кунигунду.
— Нет, я поостерегусь везти вас в Буэнос-Айрес, — меня там повесят, да и вас тоже: прекрасная Кунигунда — любимая наложница губернатора.
Эти слова поразили Кандида как удар грома. Он долго плакал; наконец он обратился к Какамбо:
— Вот, мой друг, — сказал он ему, — что ты должен сделать: у каждого из нас брильянтов в карманах на пять-шесть миллионов. Ты хитрее меня; поезжай в Буэнос-Айрес и освободи Кунигунду. Если губернатор откажет, дай ему миллион; если и тут заупрямится — дай два. Ты не убивал инквизитора, тебе бояться нечего. Я снаряжу другой корабль и буду тебя ждать в Венеции. Это свободная страна, где можно не страшиться ни болгар, ни аваров, ни евреев, ни инквизиторов.
Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в отчаянии, что надо разлучиться с добрым господином, который сделался его задушевным другом; но радостное сознание, что он будет полезен Кандиду, превозмогло скорбь. Они обнялись, обливаясь слезами; Кандид наказал ему не забывать доброй старухи. В тот же день Какамбо отправился в путь; очень добрый человек был Какамбо.
Кандид остался еще на некоторое время в Суринаме, ожидая, пока другой какой-нибудь купец не согласится отвезти в Италию его и двух баранов, которые у него еще остались. Он нанял слуг, купил все необходимое для долгого путешествия; наконец к нему явился господин Вандердендур, хозяин большого корабля.
— Сколько вы возьмете, — спросил Кандид этого человека, — чтобы доставить меня прямым путем в Венецию — меня, моих людей, мой багаж и двух вот этих баранов?
Купец запросил десять тысяч пиастров.
Кандид, не раздумывая, согласился.
«Ого!» — подумал Вандердендур. — Этот иностранец дает десять тысяч пиастров, не торгуясь, — должно быть, он очень богат».
Вернувшись через минуту, он объявил, что не повезет его иначе, как за двадцать тысяч.
— Ну, хорошо! Вы получите двадцать тысяч, — сказал Кандид.
«Ба! — сказал себе купец. — Этот человек дает двадцать тысяч пиастров с такой же легкостью, как и десять».
Он снова приходит и говорит, что меньше, чем за тридцать тысяч пиастров, он не согласится.
— Что ж, заплачу вам и тридцать тысяч, — отвечал Кандид.
«Ну и ну! — опять подумал голландский купец. — Тридцать тысяч пиастров ничего не значат для этого человека; без сомнения, его бараны навьючены несметными сокровищами; не будем более настаивать, возьмем пока тридцать тысяч, а там увидим».
Кандид продал два некрупных алмаза, из которых меньший стоил столько, сколько требовал судохозяин. Он заплатил деньги вперед. Бараны были переправлены на судно. Кандид отправился вслед за ними в маленькой лодке, чтобы на рейде сесть на корабль. Купец немедля поднимает паруса и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид, растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду.
— Увы! — воскликнул он. — Вот поступок, достойный обитателя Старого Света!
Кандид вернулся на берег, погруженный в горестные думы, — он потерял то, что могло бы обогатить двадцать монархов.
Он отправился к голландскому судье. Так как он был несколько взволнован, то сильно постучал в дверь, а войдя, рассказал о происшествии немного громче, чем следовало бы. Судья начал с того, что оштрафовал его на десять тысяч пиастров за произведенный шум, потом терпеливо выслушал Кандида, обещал заняться его делом тотчас же, как возвратится купец, и заставил заплатить еще десять тысяч пиастров судебных издержек.
Этот порядок судопроизводства окончательно привел Кандида в отчаяние; ему пришлось испытать, правда, несчастья, в тысячу раз более тяжелые, но хладнокровие судьи и наглое воровство судохозяина воспламенили его желчь и повергли его в черную меланхолию. Людская злоба предстала перед ним во всем своем безобразии; в голову ему приходили только мрачные мысли. Наконец, когда стало известно, что в Бордо отплывает французский корабль, Кандид, у которого уже не было баранов, нагруженных брильянтами, нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что заплатит за проезд, пропитание и даст сверх того еще две тысячи пиастров честному человеку, который захочет совершить с ним путешествие, но с тем условием, что этот человек будет самым разочарованным и самым несчастным во всей этой провинции.
К нему явилась толпа претендентов, которую едва ли вместил бы и целый флот. Кандид по внешнему виду отобрал человек двадцать, показавшихся ему довольно обходительными; все они утверждали, что вполне отвечают его требованиям. Он собрал их в кабачке и накормил ужином, потребовав, чтобы каждый поклялся правдиво рассказать свою историю; он обещал им выбрать того, кто покажется ему наиболее достойным жалости и наиболее правым в своем недовольстве судьбою; остальным пообещал небольшое вознаграждение.
Беседа затянулась до четырех утра. Кандид, слушая рассказы собравшихся, вспоминал слова, сказанные ему старухой на пути в Буэнос-Айрес, и ее предложение побиться об заклад насчет того, что нет человека на корабле, который не перенес бы величайших несчастий. При каждом новом рассказе он возвращался мыслью к Панглосу.
«Панглосу, — думал он, — трудно было бы теперь отстаивать свою систему. Хотел бы я, чтобы он был здесь. Все идет хорошо, это правда, но только в одной-единственной из всех земных стран — в Эльдорадо».
Наконец он остановил свой выбор на бедном ученом, который десять лет гнул спину на амстердамских книгопродавцев{642}. Кандид решил, что нет в мире ремесла, которое могло бы внушить большее отвращение к жизни.
Этого ученого, который сверх того был добрый человек, обокрала жена, избил сын и покинула дочь, бежавшая с каким-то португальцем. Он лишился скромной должности, которая давала ему средства к жизни, и суринамские проповедники преследовали его за социнианство. Говоря по правде, другие были не менее несчастны, чем он, но Кандид надеялся, что ученый разгонит его тоску во время путешествия. Все прочие претенденты нашли, что Кандид был к ним глубоко несправедлив, но он утешил их, подарив каждому по сто пиастров.
Глава двадцатая
Что было с Кандидом и Мартеном на море
Итак, с Кандидом в Бордо отправился старый ученый по имени Мартен. Они оба многое повидали и многое испытали и, пока корабль плыл от Суринама до Японии, мимо мыса Доброй Надежды, успели всласть наговориться о зле нравственном и зле физическом.
У Кандида было большое преимущество перед Мартеном: он надеялся снова увидеть Кунигунду, а Мартену надеяться было не на что. Кроме того, у Кандида были золото и брильянты, и, хотя он потерял сто больших красных баранов, нагруженных величайшими в мире сокровищами, хотя не мог забыть о мошенничестве голландского купца, однако, вспоминая о том, что у него осталось, и рассказывая о Кунигунде, особенно к концу обеда, он опять склонялся к системе Панглоса.
— А вы, господин Мартен, — спрашивал он ученого, — что думаете обо всем этом вы? Какого мнения придерживаетесь о зле нравственном и физическом?
— Меня обвинили в том, — отвечал Мартен, — что я социнианин, но, сказать по правде, я манихей.
— Вы смеетесь надо мной, — сказал Кандид, — манихеев{643} больше не осталось на свете.
— Остался я, — сказал Мартен. — Не знаю, как тут быть, но по-другому думать я не могу.
— Значит, в вас сидит дьявол? — спросил Кандид.
— Дьявол вмешивается во все дела этого мира, — сказал Мартен, — так что, может быть, он сидит и во мне и повсюду; признаюсь вам, бросив взгляд на этот земной шар, или, вернее, на этот шарик, я пришел к выводу, что господь уступил его какому-то зловредному существу; впрочем, я исключаю Эльдорадо. Мне ни разу не привелось видеть города, который не желал бы погибели соседнему городу, не привелось увидеть семьи, которая не хотела бы уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они пресмыкаются, а сильные обходятся с ними, как со стадом, шерсть и мясо которого продают. Миллион головорезов, разбитых на полки, носится по всей Европе, убивая и разбойничая, и зарабатывает этим себе на хлеб насущный, потому что более честному ремеслу эти люди не обучены. В городах, которые как будто наслаждаются благами и где цветут искусства, пожалуй, не меньше людей погибает от зависти, забот и треволнений, чем в осажденных городах от голода. Тайные печали еще более жестоки, чем общественные бедствия. Одним словом, я так много видел и так много испытал, что я манихей.
— Однако на свете существует добро, — возразил Кандид.
— Может быть, — сказал Мартен, — но я с ним не знаком.
Они еще продолжали спорить, когда раздались пушечные выстрелы. Грохот разрастался с каждой минутой. Кандид и Мартен схватили подзорные трубы. На расстоянии около трех миль от них шел бой между двумя кораблями. Ветер подогнал их так близко к французскому кораблю, что наблюдать за боем было очень удобно. Наконец один из этих кораблей дал по другому столь удачный залп, что потопил его. Кандид и Мартен ясно видели сотню человек на палубе корабля, погружавшегося в воду; они все поднимали руки к небу, испуская страшные вопли; через минуту все исчезло в волнах.
— Ну, что? — сказал Мартен. — Вот видите, как люди обращаются друг с другом.
— Верно, — сказал Кандид. — В этом сражении есть нечто дьявольское.
Говоря так, он заметил какой-то ярко-красный блестящий предмет, плавающий неподалеку от корабля. Спустили шлюпку, чтобы рассмотреть, что это такое. Оказалось, это один из украденных баранов. Радость, испытанная Кандидом, когда этого барана выловили, во много раз превзошла горе, пережитое им при потере ста баранов, груженных эльдорадскими брильянтами.
Французский капитан вскоре узнал, что капитан, потопивший корабль, был испанец, а капитан потопленного корабля — голландский пират; это был тот самый купец, который обокрал Кандида. Неисчислимые богатства, украденные этим негодяем, вместе с ним пошли на дно морское, и спасся только один-единственный баран. «Вот видите, — сказал Кандид Мартену, — что преступление иногда бывает наказано; этот мерзавец, голландский купец, понес заслуженную кару». — «Да, — сказал Мартен, — но разве было так уж необходимо, чтобы погибли и пассажиры его корабля? Бог наказал плута, дьявол потопил всех остальных».
Между тем корабли французский и испанский продолжали свой путь, а Кандид продолжал беседовать с Мартеном. Они спорили пятнадцать дней кряду и на пятнадцатый день рассуждали точно так же, как в первый. Но что из того! Они говорили, обменивались мыслями, утешали друг друга. Кандид ласкал своего барана.
— Раз я снова обрел тебя, — сказал он, — значит, обрету, конечно, и Кунигунду.
Глава двадцать первая
Кандид и Мартен приближаются к берегам Франции и продолжают рассуждать
Наконец они увидели берега Франции.
— Бывали вы когда-нибудь во Франции? — спросил Кандид.
— Да, — сказал Мартен, — я объехал несколько французских провинций. В иных половина жителей безумны, в других чересчур хитры, кое-где добродушны, но туповаты, а есть места, где все сплошь остряки; но повсюду главное занятие — любовь, второе — злословие и третье — болтовня.
— Но, господин Мартен, а в Париже вы жили?
— Да, я жил в Париже. В нем средоточие всех этих качеств. Париж — это всесветная толчея, где всякий ищет удовольствий и почти никто их не находит, — так, по крайней мере, мне показалось. Я пробыл там недолго: едва я туда приехал, как меня обчистили жулики на Сен-Жерменской ярмарке. Притом меня самого приняли за вора, и я неделю отсидел в тюрьме; потом я поступил правщиком в типографию, чтобы было на что вернуться в Голландию хоть пешком. Навидался я всякой сволочи — писак, проныр и конвульсионеров. Говорят, в Париже есть вполне порядочные люди; хотелось бы этому верить.
— Что касается меня, то я не испытываю никакого желания изучать Францию, — сказал Кандид. — Сами понимаете, прожив месяц в Эльдорадо, уже не захочешь ничего видеть на земле, кроме Кунигунды. Я буду ждать ее в Венеции. Мы проедем через Францию в Италию. Не согласитесь ли вы меня сопровождать?
— Очень охотно, — сказал Мартен. — Говорят, в Венеции хорошо живется только венецианским нобилям{644}, но, однако, там хорошо принимают и иностранцев, если у них водятся деньги. У меня денег нет, зато у вас их много. Я согласен следовать за вами повсюду.
— Кстати, — сказал Кандид, — думаете ли вы, что земля первоначально была морем, как это написано в толстой книге{645}, которая принадлежит капитану корабля?
— Я этому не верю, — сказал Мартен, — да и вообще больше не верю фантазиям, которые нам с давних пор вбивают в голову.
— А все же, с какой целью был создан этот мир? — спросил Кандид.
— Чтобы постоянно бесить нас, — отвечал Мартен.
— Но разве не удивила вас, — продолжал Кандид, — любовь этих двух орельонских девушек к обезьянам, о которой я вам рассказывал?
— Нисколько, — сказал Мартен. — Не вижу в этой страсти ничего странного; я столько видел удивительного на своем веку, что меня уже ничто не удивляет.
— Как вы думаете, — спросил Кандид, — люди всегда уничтожали друг друга, как в наше время? Всегда ли они были лжецами, плутами, неблагодарными, изменниками, разбойниками, ветрениками, малодушными, трусами, завистниками, обжорами, пьяницами, скупцами, честолюбцами, клеветниками, злодеями, развратниками, фанатиками, лицемерами и глупцами?
— А как вы считаете, — спросил Мартен, — когда ястребам удавалось поймать голубей, они всегда расклевывали их?
— Да, без сомнения, — сказал Кандид.
— Так вот, — сказал Мартен, — если свойства ястребов не изменились, можете ли вы рассчитывать, что они изменились у людей?
— Ну, знаете, — сказал Кандид, — разница все же очень большая, потому что свободная воля…
Рассуждая таким образом, они прибыли в Бордо.
Глава двадцать вторая
Что случилось с Кандидом и Мартеном во Франции
Кандид провел в Бордо ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы продать несколько эльдорадских брильянтов и приобрести хорошую двухместную коляску, ибо теперь он уже не мог обойтись без своего философа Мартена; его огорчала только разлука с бараном, которого он подарил Бордоской академии наук. Академия объявила конкурс, предложив соискателям выяснить, почему шерсть у этого барана красная. Премия была присуждена одному ученому с севера{646}, доказавшему посредством формулы А плюс В минус С, деленное на X, что баран неизбежно должен быть красным и что он умрет от овечьей оспы.
Между тем все путешественники, которых Кандид встречал в придорожных кабачках, говорили ему:
— Мы едем в Париж.
Всеобщее стремление в столицу возбудило в нем наконец желание поглядеть на нее, тем более что для этого почти не приходилось отклоняться от прямой дороги на Венецию.
Он въехал в город через предместье Сен-Марсо, и ему показалось, что он попал в наихудшую из вестфальских деревушек.
Едва Кандид устроился в гостинице, как у него началось легкое недомогание от усталости. Так как все заметили, что у него на пальце красуется огромный брильянт, а в экипаже лежит очень тяжелая шкатулка, то к нему сейчас же пришли два врача, которых он не звал, несколько близких друзей, которые ни на минуту не оставляли его одного, и две святоши, которые разогревали ему бульон. Мартен сказал:
— Я вспоминаю, что тоже заболел во время моего первого пребывания в Париже. Но я был очень беден, и около меня не было ни друзей, ни святош, ни докторов, поэтому я выздоровел.
Между тем с помощью врачей и кровопусканий Кандид расхворался не на шутку. Один завсегдатай гостиницы очень любезно попросил у него денег в долг под вексель с уплатою в будущей жизни{647}. Кандид отказал. Святоши уверяли, что такова новая мода; Кандид ответил, что он совсем не модник. Мартен хотел выбросить просителя в окно. Клирик поклялся, что Кандида после смерти откажутся хоронить. Мартен поклялся, что он похоронит клирика, если тот не отвяжется. Разгорелся спор, Мартен взял клирика за плечи и грубо его вытолкал. Произошел большой скандал, и был составлен протокол.
Кандид выздоровел, а пока он выздоравливал, у него собиралась за ужином славная компания. Велась крупная игра. Кандид очень удивлялся, что к нему никогда не шли тузы, но Мартена это нисколько не удивляло.
Среди гостей Кандида был аббатик из Перигора, из того сорта хлопотунов, веселых, услужливых, беззастенчивых, ласковых, сговорчивых, которые подстерегают проезжих иностранцев, рассказывают им столичные сплетни и предлагают развлечения на любую цену. Аббатик прежде всего повел Кандида и Мартена в театр. Там играли новую трагедию{648}. Кандид сидел рядом с несколькими остроумцами, что не помешало ему плакать над сценами, превосходно сыгранными. Один из этих умников сказал ему в антракте:
— Вы напрасно плачете: эта актриса очень плоха, актер, который играет с нею, и того хуже, а пьеса еще хуже актеров. Автор ни слова не знает по-арабски, между тем действие происходит в Аравии; кроме того, этот человек не верит во врожденные идеи. Я принесу вам завтра несколько брошюр, направленных против него.
— А сколько всего театральных пьес во Франции? — спросил Кандид аббата.
— Тысяч пять-шесть, — ответил тот.
— Это много, — сказал Кандид. — А сколько из них хороших?
— Пятнадцать — шестнадцать, — ответил тот.
— Это много, — сказал Мартен.
Кандид остался очень доволен актрисою, которая играла королеву Елизавету в одной довольно плоской трагедии{649}, еще удержавшейся в репертуаре.
— Эта актриса, — сказал он Мартену, — мне очень нравится, в ней есть какое-то сходство с Кунигундой. Мне хотелось бы познакомиться с нею.
Аббат из Перигора предложил ввести его к ней в дом. Кандид, воспитанный в Германии, спросил, какой соблюдается этикет и как обходятся во Франции с английскими королевами.
— Это как где, — сказал аббат. — В провинции их водят в кабачки, а в Париже боготворят, пока они красивы, и отвозят на свалку, когда они умирают.
— Королев на свалку? — удивился Кандид.
— Да, — сказал Мартен, — господин аббат прав. Я был в Париже, когда госпожа Монима{650} перешла, как говорится, из этого мира в иной; ей отказали в том, что эти господа называют «посмертными почестями», то есть в праве истлевать на скверном кладбище, где хоронят всех плутов с окрестных улиц. Товарищи по сцене погребли ее отдельно на углу Бургонской улицы. Должно быть, она была очень опечалена этим, у нее были такие возвышенные чувства.
— С ней поступили крайне неучтиво, — сказал Кандид.
— Чего вы хотите? — сказал Мартен. — Таковы эти господа. Вообразите самые немыслимые противоречия и несообразности — и вы найдете их в правительстве, в судах, в церкви, в зрелищах этой веселой нации.
— Правда ли, что парижане всегда смеются? — спросил Кандид.
— Да, — сказал аббат, — но это смех от злости. Здесь жалуются на все, покатываясь со смеху, и, хохоча, совершают гнусности.
— Кто, — спросил Кандид, — этот жирный боров, который наговорил мне столько дурного о пьесе, тронувшей меня до слез{651}, и об актерах, доставивших мне столько удовольствия?
— Это злоязычник, — отвечал аббат. — Он зарабатывает себе на хлеб тем, что бранит все пьесы, все книги. Он ненавидит удачливых авторов, как евнухи — удачливых любовников; он из тех ползучих писак, которые питаются ядом и грязью; короче, он — газетный пасквилянт.
— Что это такое — газетный пасквилянт? — спросил Кандид.
— Это, — сказал аббат, — бумагомаратель, вроде Фрерона{652}.
Так рассуждали Кандид, Мартен и перигориец, стоя на лестнице, во время театрального разъезда.
— Хотя мне и не терпится вновь увидеть Кунигунду, — сказал Кандид, — я все-таки поужинал бы с госпожою Клерон{653}, так я ею восхищаюсь.
Аббат не был вхож к госпоже Клерон, которая принимала только избранное общество.
— Она сегодня занята, — сказал он, — но я буду счастлив, если вы согласитесь поехать со мной к одной знатной даме: там вы так узнаете Париж, как если бы прожили в нем четыре года.
Кандид, который был от природы любопытен, согласился пойти к даме в предместье Сент-Оноре. Там играли в фараон: двенадцать унылых понтеров держали в руках карты — суетный реестр их несчастий. Царило глубокое молчание, лица понтеров были бледны, озабоченно было и лицо банкомета. Хозяйка дома сидела возле этого неумолимого банкомета и рысьими глазами следила за тем, как гнут пароли: все попытки сплутовать она останавливала решительно, но вежливо и без раздражения, чтобы не растерять клиентов. Эта дама именовала себя маркизою де Паролиньяк. Ее пятнадцатилетняя дочь была в числе понтеров и взглядом указывала матери на мошенничества несчастных, пытавшихся смягчить жестокость судьбы.
Аббат-перигориец, Кандид и Мартен вошли; никто не поднялся, не поздоровался с ними, не взглянул на них; все были поглощены картами.
— Госпожа баронесса Тундер-тен-Тронк была учтивее, — сказал Кандид.
Тем временем аббат шепнул что-то на ухо маркизе, та приподнялась и приветствовала Кандида любезной улыбкой, а Мартена — величественным кивком. Она указала место и протянула колоду карт Кандиду, который проиграл пятьдесят тысяч франков в две тальи. Потом все весело поужинали, весьма удивляясь, однако, тому, что Кандид не опечален своим проигрышем; лакеи говорили между собою на своем лакейском языке:
— Должно быть, это какой-нибудь английский милорд.
Ужин был похож на всякий ужин в Париже; сначала молчание, потом неразборчивый словесный гул, потом шутки, большей частью несмешные, лживые слухи, глупые рассуждения, немного политики и много злословия; говорили даже о новых книгах.
— Вы читали, — спросил аббат-перигориец, — роман господина Гоша{654}, доктора богословия?
— Да, — ответил один из гостей, — но так и не смог его одолеть. Много у нас нелепых писаний, но и все вместе они не так нелепы, как книга Гоша, доктора богословия; я так пресытился этим потоком отвратительных книг, которым нас затопляют, что пустился понтировать.
— А заметки архидьякона Т…{655}, что вы о них скажете? — спросил аббат.
— Ах, — сказала госпожа Паролиньяк, — он скучнейший из смертных! С какой серьезностью преподносит он то, что и так всем известно! Как длинно рассуждает о том, о чем и походя говорить не стоит! Как тупо присваивает себе чужое остроумие! Как портит все, что ему удается украсть! Какое отвращение он мне внушает! Но впредь он уже не будет мне докучать: с меня довольно и тех страниц архидьякона, которые я прочла.
За столом оказался некий ученый, человек со вкусом, — он согласился с мнением маркизы. Потом заговорили о трагедии. Хозяйка спросила:
— Почему иные трагедии можно смотреть, но невозможно читать?
Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть занимательной и при этом не имеющей почти никаких литературных достоинств; он доказал в немногих словах, что недостаточно одного или двух положений, которые встречаются во всех романах и всегда подкупают зрителей, — надо еще поразить новизной, не отвращая странностью, подчас подниматься до высот пафоса, всегда сохраняя естественность, знать человеческое сердце и заставить его говорить, быть большим поэтом, но не превращать в поэтов действующих лиц пьесы, в совершенстве знать родной язык, блюсти его законы, хранить гармонию и не жертвовать смыслом ради рифмы.
— Кто не соблюдает этих правил, — продолжал он, — тот способен сочинить одну-две трагедии, годные для сцены, но никогда не займет места в ряду хороших писателей. У нас очень мало хороших трагедий. Иные пьесы — это идиллии в диалогах, неплохо написанные и неплохо срифмованные; другие — наводящие сон политические трактаты или отвратительно многословные пересказы; некоторые представляют собою бред бесноватого, изложенный бессвязным, варварским слогом, с длинными воззваниями к богам, потому что автор не умеет говорить с людьми, с неверными положениями, с напыщенными общими местами.
Кандид слушал эту речь внимательно и проникся глубоким уважением к говоруну; а так как маркиза позаботилась посадить его рядом с собой, то он наклонился к ней и шепотом спросил, кто этот человек, который так хорошо говорил.
— Это ученый, — сказала дама, — который не играет; вместе с аббатом он иногда приходит ко мне ужинать. Он знает толк в трагедиях и в книгах и сам написал трагедию, которую освистали, и книгу, которую никогда не видели вне лавки его книгопродавца, за исключением одного экземпляра, подаренного им мне.
— Великий человек! — сказал Кандид. — Это второй Панглос. — Затем, обернувшись к нему, он спросил: — Вы, без сомнения, думаете, что все к лучшему в мире физическом и нравственном и что иначе не может и быть?
— Совсем напротив, — отвечал ему ученый, — я нахожу, что у нас все идет навыворот, никто не знает, каково его положение, в чем его обязанности, что он делает и чего делать не должен. Не считая этого ужина, который проходит довольно весело, так как сотрапезники проявляют достаточное единодушие, все наше время занято нелепыми раздорами: янсенисты выступают против молинистов, законники против церковников, литераторы против литераторов, придворные против придворных, финансисты против народа, жены против мужей, родственники против родственников. Это непрерывная война.
Кандид возразил ему:
— Я видел вещи и похуже, но один мудрец, который имел несчастье попасть на виселицу, учил меня, что все в мире отлично, а зло — только тень на прекрасной картине.
— Ваш висельник издевался над людьми, — сказал Мартен, — а ваши тени — отвратительные пятна.
— Пятна сажают люди, — сказал Кандид, — они никак не могут обойтись без пятен.
— Значит, это не их вина, — сказал Мартен.
Большая часть понтеров, ничего не понимая в этом разговоре, продолжала пить; Мартен беседовал с ученым, а Кандид рассказывал о некоторых своих приключениях хозяйке дома.
После ужина маркиза повела Кандида в свой кабинет и усадила его на кушетку.
— Итак, вы все еще без памяти от баронессы Кунигунды Тундер-тен-Тронк? — спросила она его.
— Да, сударыня, — отвечал Кандид.
Маркиза сказала ему с нежной улыбкой:
— Вы мне отвечаете, как молодой человек из Вестфалии. Француз сказал бы: да, я любил баронессу Кунигунду, но, увидев вас, сударыня, боюсь, что перестал ее любить.
— О сударыня, — сказал Кандид, — я отвечу, как вам будет угодно.
— Вы загорелись страстью к ней, — сказала маркиза, — когда подняли ее платок. Я хочу, чтоб вы подняли мою подвязку.
— С большим удовольствием, — сказал Кандид и поднял подвязку.
— Но я хочу, чтобы вы мне ее надели, — сказала дама.
Кандид исполнил и это.
— Дело в том, — сказала дама, — что вы иностранец; своих парижских любовников я иногда заставляю томиться по две недели, но вам отдаюсь с первого вечера, потому что надо же быть гостеприимной с молодым человеком из Вестфалии.
Заметив два огромных брильянта на пальцах молодого иностранца, красавица так расхвалила их, что они тут же перешли на ее собственные пальцы.
Кандид, возвращаясь домой с аббатом-перигорийцем, терзался угрызениями совести из-за измены Кунигунде. Аббат всей душой разделял его печаль: он получил всего лишь малую толику из пятидесяти тысяч франков, проигранных Кандидом, и из стоимости двух брильянтов, полуподаренных, полувыпрошенных. Он твердо решил воспользоваться всеми преимуществами, которые могло ему доставить знакомство с Кандидом. Он охотно говорил с Кандидом о Кунигунде, и тот сказал, что выпросит прощение у своей красавицы, когда увидит ее в Венеции.
Перигориец удвоил любезность и внимание и выказал трогательное сочувствие ко всему, что Кандид ему говорил, ко всему, что он делал, ко всему, что собирался делать.
— Значит, у вас назначено свидание в Венеции? — спросил он.
— Да, господин аббат, — сказал Кандид, — я непременно должен там встретиться с Кунигундой.
Потом, радуясь возможности говорить о той, кого любил, Кандид рассказал, по своему обыкновению, часть своих похождений с этой знаменитой уроженкой Вестфалии.
— Полагаю, — сказал аббат, — что баронесса Кунигунда очень умна и умеет писать прелестные письма.
— Я никогда не получал от нее писем, — сказал Кандид. — Посудите сами, мог ли я писать Кунигунде, будучи изгнанным из замка за любовь к ней? Потом меня уверили, будто она умерла, потом я снова нашел ее и снова потерял; я отправил к ней, за две тысячи пятьсот миль отсюда, посланца и теперь жду ее ответа.
Аббат выслушал его внимательно и, казалось, призадумался. Вскоре он ушел, нежно обняв на прощанье обоих иностранцев. Назавтра, проснувшись поутру, Кандид получил письмо такого содержания:
«Дорогой мой возлюбленный! Я здесь уже целую неделю и лежу больная. Я узнала, что вы здесь, и полетела бы к вам в объятия, но не могу двинуться. Я узнала о вашем прибытии в Бордо; там я оставила верного Какамбо и старуху, которые приедут вслед за мной. Губернатор Буэнос-Айреса взял все, но у меня осталось ваше сердце. Я вас жду, ваш приход возвратит мне жизнь или заставит умереть от радости».
Это прелестное, это неожиданное письмо привело Кандида в неизъяснимый восторг; но болезнь милой Кунигунды удручала его. Раздираемый столь противоречивыми чувствами, он берет свое золото и брильянты и едет с Мартеном в гостиницу, где остановилась Кунигунда. Он входит, трепеща от волнения, сердце его бьется, голос прерывается. Он откидывает полог постели, приказывает принести свет.
— Что вы делаете, — говорит ему служанка, — свет ее убьет. — И тотчас же задергивает полог.
— Дорогая моя Кунигунда, — плача, говорит Кандид, — как вы себя чувствуете? Если вы не можете меня видеть, хотя бы скажите мне что-нибудь.
— Она не в силах говорить, — произносит служанка.
Дама протягивает с постели пухленькую ручку, которую Кандид сперва долго орошает слезами, а потом наполняет брильянтами; на кресло он кладет мешок с золотом.
В это время входит полицейский, сопровождаемый аббатом-перигорийцем и стражею.
— Так вот они, — говорит полицейский, — эти подозрительные иностранцы.
Он приказывает своим молодцам схватить их и немедленно отвести в тюрьму.
— Не так обращаются с иностранцами в Эльдорадо, — говорит Кандид.
— Я теперь еще более манихей, чем когда бы то ни было, — говорит Мартен.
— Куда же вы нас ведете? — спрашивает Кандид.
— В яму, — отвечает полицейский.
Мартен, к которому вернулось его обычное хладнокровие, рассудил, что дама, выдававшая себя за Кунигунду, — мошенница, господин аббат-перигориец — мошенник, ловко злоупотребивший доверчивостью Кандида, да и полицейский тоже мошенник, от которого легко будет откупиться.
Чтобы избежать судебной процедуры, Кандид, вразумленный советом Мартена и горящий нетерпением снова увидеть настоящую Кунигунду, предлагает полицейскому три маленьких брильянта стоимостью в три тысячи пистолей каждый.
— Ах, господин, — говорит ему человек с жезлом из слоновой кости, — да соверши вы все мыслимые преступления, все-таки вы были бы честнейшим человеком на свете. Три брильянта, каждый в три тысячи пистолей! Господин, пусть мне не сносить головы, но в тюрьму я вас не упрячу. Арестовывают всех иностранцев, но тем не менее я все улажу: у меня брат в Дьеппе в Нормандии, я вас провожу туда, и если у вас найдется брильянт и для него, он позаботится о вас, как забочусь сейчас я.
— А почему арестовывают всех иностранцев? — спросил Кандид.
Тут взял слово аббат-перигориец:
— Их арестовывают потому, что какой-то негодяй из Артебазии, наслушавшись глупостей, покусился на отцеубийство{656}, — не такое, как в тысяча шестьсот десятом году{657}, в мае, а такое, как в тысяча пятьсот девяносто четвертом году{658}, в декабре; да и в другие годы и месяцы разные людишки, тоже наслушавшись глупостей, совершали подобное.
Полицейский объяснил, в чем дело.
— О, чудовища! — воскликнул Кандид. — Такие ужасы творят сыны народа, который пляшет и поет! Поскорее бы мне выбраться из страны, где обезьяны ведут себя, как тигры. Я видел медведей на моей родине, — людей я встречал только в Эльдорадо. Ради бога, господин полицейский, отправьте меня в Венецию, где я должен дожидаться Кунигунды.
— Я могу отправить вас только в Нормандию, — сказал полицейский.
Затем он снимает с него кандалы, говорит, что вышла ошибка, отпускает своих людей, везет Кандида и Мартена в Дьепп и поручает их своему брату. На рейде стоял маленький голландский корабль. Нормандец, получив три брильянта, сделался самым услужливым человеком на свете; он посадил Кандида и его слуг на корабль, который направлялся в Портсмут, в Англию. Это не по дороге в Венецию, но Кандиду казалось, что он вырвался из преисподней, а поездку в Венецию он рассчитывал предпринять при первом удобном случае.
Глава двадцать третья
Что Кандид и Мартен увидали на английском берегу
— Ах, Панглос, Панглос! Ах, Мартен, Мартен! Ах, моя дорогая Кунигунда! Что такое наш подлунный мир? — восклицал Кандид на палубе голландского корабля.
— Нечто очень глупое и очень скверное, — отвечал Мартен.
— Вы хорошо знаете англичан? Они такие же безумцы, как французы?
— У них другой род безумия, — сказал Мартен. — Вы знаете, эти две нации ведут войну из-за клочка обледенелой земли в Канаде и израсходовали на эту достойную войну гораздо больше, чем стоит вся Канада{659}. Мои слабые познания не позволяют мне сказать вам точно, в какой из этих двух стран больше людей, на которых следовало бы надеть смирительную рубашку. Знаю только, что в общем люди, которых мы увидим, весьма желчного нрава.
Беседуя так, они прибыли в Портсмут. На берегу толпился народ; все внимательно глядели на дородного человека{660}, который с завязанными глазами стоял на коленях на палубе военного корабля; четыре солдата, стоявшие напротив этого человека, преспокойно всадили по три пули в его череп, и публика разошлась, чрезвычайно довольная.
— Что же это такое, однако? — сказал Кандид. — Какой демон властвует над землей?
Он спросил, кем был этот толстяк, которого убили столь торжественно.
— Адмирал, — отвечали ему.
— А за что убили этого адмирала?
— За то, — сказали ему, — что он убил слишком мало народу; он вступил в бой с французским адмиралом{661} и, по мнению наших военных, подошел к врагу недостаточно близко.
— Но, — сказал Кандид, — ведь и французский адмирал был так же далеко от английского адмирала, как английский от французского?
— Несомненно, — отвечали ему, — но в нашей стране полезно время от времени убивать какого-нибудь адмирала, чтобы взбодрить других.
Кандид был так ошеломлен и возмущен всем увиденным и услышанным, что не захотел даже сойти на берег и договорился со своим голландским судовладельцем (даже с риском быть обворованным, как в Суринаме), чтобы тот без промедления доставил его в Венецию.
Через два дня корабль был готов к отплытию. Обогнули Францию, проплыли мимо Лиссабона — и Кандид затрепетал. Вошли через пролив в Средиземное море; наконец добрались до Венеции.
— Слава богу, — сказал Кандид, обнимая Мартена, — здесь я снова увижу прекрасную Кунигунду. Я надеюсь на Какамбо, как на самого себя. Все хорошо, все прекрасно, все идет как нельзя лучше.
Глава двадцать четвертая
О Пакете и о брате Жирофле
Как только Кандид приехал в Венецию, он принялся разыскивать Какамбо во всех кабачках, во всех кофейнях, у всех веселых девиц, но нигде не нашел его. Он ежедневно посылал справляться на все корабли, на все барки; ни слуху ни духу о Какамбо.
— Как! — говорил он Мартену. — Я успел за это время попасть из Суринама в Бордо, добраться из Бордо в Париж, из Парижа в Дьепп, из Дьеппа в Портсмут, обогнуть Португалию и Испанию, переплыть все Средиземное море, провести несколько месяцев в Венеции, а прекрасной Кунигунды все нет. Вместо нее я встретил лишь непотребную женщину и аббата-перигорийца. Кунигунда, без сомнения, умерла, — остается умереть и мне. Ах, лучше бы мне навеки поселиться в эльдорадском раю и не возвращаться в эту гнусную Европу. Вы правы, милый Мартен: все в жизни обманчиво и превратно.
Он впал в черную меланхолию и не выказывал никакого интереса к опере alla moda[23] и к другим карнавальным увеселениям; ни одна дама не тронула его сердца. Мартен сказал ему:
— Поистине, вы очень простодушны, если верите, будто слуга-метис, у которого пять-шесть миллионов в кармане, поедет отыскивать вашу любовницу на край света и привезет ее вам в Венецию. Он возьмет ее себе, если найдет; а не найдет — возьмет другую; советую вам, забудьте вашего слугу Какамбо и вашу возлюбленную Кунигунду.
Слова Мартена не были утешительны. Меланхолия Кандида усилилась, а Мартен без устали доказывал ему, что на земле нет ни чести, ни добродетели, разве что в Эльдорадо, куда путь всем заказан.
Рассуждая об этих важных предметах и дожидаясь Кунигунды, Кандид заметил на площади св. Марка молодого театинца{662}, который держал под руку какую-то девушку. У театинца, мужчины свежего, полного, сильного, были блестящие глаза, уверенный взгляд, надменный вид, горделивая походка. Девушка, очень хорошенькая, что-то напевала; она влюбленно смотрела на своего театинца и порою щипала его за толстую щеку.
— Согласитесь, — сказал Кандид Мартену, — что хоть эти-то люди счастливы. До сих пор на всей обитаемой земле, исключая Эльдорадо, я встречал одних только несчастных; но готов биться об заклад, что эта девушка и этот театинец очень довольны жизнью.
— А я бьюсь об заклад, что нет.
— Пригласим их на обед, — сказал Кандид, — и тогда посмотрим, кто прав.
Тотчас же он подходит к ним, любезно приветствует и приглашает их зайти в гостиницу откушать макарон, ломбардских куропаток, осетровой икры, выпить вина «Монтепульчано», «Лакрима-Кристи», кипрского и самосского. Барышня покраснела, театинец принял предложение, и она последовала за ним, поглядывая на Кандида изумленными и смущенными глазами, на которые набегали слезы.
Едва войдя в комнату Кандида, она сказала ему:
— Неужели, господин Кандид, вы не узнаете Пакеты?
При этих словах Кандид, который до того времени смотрел на нее рассеянным взором, потому что был занят только мыслями о Кунигунде, воскликнул:
— Мое бедное дитя, вас ли я вижу? Когда я встретил доктора Панглоса, он был в славном состоянии, и виноваты в этом были вы, не так ли?
— Увы! Это действительно я, — сказала Пакета. — Значит, вы уже все знаете. Я слышала о страшных несчастьях, постигших семью госпожи баронессы и прекрасной Кунигунды. Клянусь вам, моя участь не менее печальна. Я была еще очень неопытна, когда вы меня знали. Один кордельер, мой духовник, без труда обольстил меня. Последствия были ужасны; мне пришлось покинуть замок вскоре после того, как господин барон выставил вас оттуда здоровыми пинками в зад. Я умерла бы, если бы надо мной не сжалился один искусный врач. В благодарность за это я некоторое время была любовницей этого врача. Его жена, ревнивая до бешенства, немилосердно избивала меня каждый день; не женщина, а настоящая фурия. Этот врач был безобразнейшим из людей, а я несчастнейшим из всех земных созданий: подумайте сами, каково постоянно ходить в синяках из-за человека, которого не любишь! Вы понимаете, господин Кандид, как опасно для сварливой женщины быть женой врача. Доктор, выведенный из себя поведением жены, дал ей выпить однажды, чтобы вылечить легкую простуду, такое сильное лекарство, что через два часа она умерла в страшных судорогах. Родственники дамы притянули его к уголовному суду; он сбежал, а меня упрятали в тюрьму. Моя невиновность не спасла бы меня, не будь я недурна собой. Судья меня освободил с условием, что он наследует врачу. Вскоре у меня появилась соперница, и меня выгнали без всякого вознаграждения. Я принуждена была снова взяться за это гнусное ремесло, которое вам, мужчинам, кажется таким приятным, а нам сулит неисчислимые бедствия. Я уехала в Венецию. Ах, господин Кандид, вы не представляете себе, что это значит — быть обязанной ласкать без разбора и дряхлого купца, и адвоката, и монаха, и гондольера, и аббата, подвергаясь при этом несчетным обидам, несчетным притеснениям! Иной раз приходится брать напрокат юбку, чтобы ее потом задрал какой-нибудь омерзительный мужчина. А бывает, все, что получишь с одного, украдет другой. Даешь взятки чиновникам, а впереди видишь только ужасную старость, больницу, свалку. Поверьте, я — одно из самых несчастных созданий на свете.
В таких словах Пакета открыла свое сердце доброму Кандиду; присутствовавший при этом Мартен сказал ему:
— Вот видите, я уже наполовину выиграл пари.
— Но позвольте, — сказал Кандид Пакете, — у вас был такой веселый, такой довольный вид, когда я вас встретил; вы пели, вы ласкали театинца так нежно и непринужденно! Право, вы показались мне столь же счастливою, сколь, по вашему утверждению, вы несчастны.
— Ах, господин Кандид, — отвечала Пакета, — вот еще одна из бед моего ремесла: вчера меня обокрал и избил какой-то офицер, а сегодня я должна казаться веселою, чтобы угодить монаху.
С Кандида было довольно — он признал, что Мартен прав. Они сели за стол с Пакетой и театинцем; обед прошел довольно оживленно, и под конец все разоткровенничались.
— Отец мой, — сказал Кандид монаху, — вы, мне кажется, так наслаждаетесь жизнью, что всякий вам позавидует; у вас цветущее здоровье, ваша физиономия выражает счастье, вы развлекаетесь с хорошенькой девушкой и как будто вполне довольны тем, что стали театинцем.
— Признаться, я хотел бы, чтобы все театинцы сгинули в морской пучине, — сказал брат Жирофле. — Сотни раз брало меня искушение поджечь монастырь и сделаться турком. Мои родители заставили меня в пятнадцать лет надеть эту ненавистную рясу, чтобы увеличить наследство моего старшего брата, да поразит его, проклятого, господь бог! В обители царят раздоры, зависть, злоба. Правда, я произнес несколько плохих проповедей, и они принесли мне немного денег; впрочем, половину отобрал у меня настоятель; остальные я трачу на девчонок. Но когда я возвращаюсь вечером в монастырь, мне хочется разбить себе голову о стены дортуара. Все мои собратья чувствуют себя не лучше, чем я.
Мартен обратился к Кандиду с обычным своим хладнокровием:
— Не считаете ли вы, что я выиграл всё пари целиком?
Кандид дал две тысячи пиастров Пакете и тысячу — брату Жирофле.
— Ручаюсь вам, — сказал он, — что с этими деньгами они будут счастливы.
— Как раз напротив, — сказал Мартен, — ваши пиастры, быть может, сделают их еще несчастнее.
— Ну, будь что будет, — сказал Кандид, — но кое-что меня все же утешает: я вижу, порою встречаешь людей, которых уже и не надеялся встретить. Если я нашел моего красного барана и Пакету, то, возможно, найду и Кунигунду.
— От души желаю, — сказал Мартен, — чтобы она когда-нибудь составила ваше счастье, но сильно сомневаюсь в этом.
— Вы очень жестоки, — сказал Кандид.
— У меня немалый опыт, — сказал Мартен.
— Вот посмотрите на этих гондольеров, — сказал Кандид, — они поют не умолкая!
— Вы не знаете, какие они дома, с женами и несносными детишками, — сказал Мартен. — У дожа свои печали, у гондольеров — свои. Правда, все-таки, участь гондольера завиднее, нежели участь дожа, но, я думаю, разница так невелика, что о ней и говорить не стоит.
— Мне рассказывали, — сказал Кандид, — о сенаторе Пококуранте{663}, который живет в прекрасном дворце на Бренте и довольно охотно принимает иностранцев. Утверждают, будто этот человек никогда не ведал горя.
— Хотел бы я посмотреть на такое диво, — сказал Мартен.
Кандид тотчас же послал просить у господина Пококуранте позволения навестить его на следующий день.
Глава двадцать пятая
Визит к синьору Пококуранте, благородному венецианцу
Кандид и Мартен сели в гондолу и поплыли по Бренте ко дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались в отличном порядке и были украшены великолепными мраморными статуями; архитектура дворца не оставляла желать лучшего. Хозяин дома, человек лет шестидесяти, известный богач, принял наших любознательных путешественников учтиво, но без особой предупредительности, что смутило Кандида и, пожалуй, понравилось Мартену.
Сначала две девушки, опрятно одетые и хорошенькие, подали отлично взбитый шоколад. Кандид не мог удержаться, чтобы не похвалить их красоту, услужливость и ловкость.
— Они довольно милые создания, — согласился сенатор. — Иногда я беру их к себе в постель, потому что городские дамы мне наскучили своим кокетством, ревностью, ссорами, прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, которые нужно сочинять или заказывать в их честь; но и эти девушки начинают мне надоедать.
Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галерее, был поражен красотою висевших там картин. Он спросил, каким художником написаны первые две.
— Они кисти Рафаэля, — сказал хозяин дома. — Несколько лет назад я из тщеславия заплатил за них слишком дорого. Говорят, они из лучших в Италии, но я не нахожу в них ничего хорошего: краски очень потемнели, лица недостаточно округлы и выпуклы, драпировка ничуть не похожа на настоящую материю, — одним словом, что бы там ни говорили, я не вижу здесь верного подражания природе. Картина нравится мне только тогда, когда при взгляде на нее я словно созерцаю самое природу, но таких картин не существует. У меня много полотен, но я уже более не смотрю на них.
Пококуранте в ожидании обеда позвал музыкантов. Кандиду музыка показалась восхитительной.
— Этот шум, — сказал Пококуранте, — можно с удовольствием послушать полчаса, не больше, потом он всем надоедает, хотя никто не осмеливается в этом признаться. Музыка нынче превратилась в искусство умело исполнять трудные пассажи, а то, что трудно, не может нравиться долго. Я, может быть, любил бы оперу, если бы не нашли секрета, как превращать ее в отвратительное чудище. Пусть кто хочет смотрит и слушает плохонькие музыкальные трагедии, сочиненные только для того, чтобы совсем некстати ввести несколько глупейших песен, в которых актриса щеголяет своим голосом; пусть кто хочет и может замирает от восторга при виде кастрата, напевающего монологи Цезаря или Катона и спесиво расхаживающего на подмостках. Что касается меня, я давно махнул рукой на этот вздор, который в наши дни прославил Италию и так дорого ценится высочайшими особами.
Кандид немного поспорил, но без особой горячности. Мартен согласился с сенатором.
Сели за стол, а после превосходного обеда перешли в библиотеку. Кандид, увидев Гомера, прекрасно переплетенного, начал расхваливать вельможу за его безукоризненный вкус.
— Вот книга, — сказал он, — которой всегда наслаждался великий Панглос, лучший философ Германии.
— Я ею отнюдь не наслаждаюсь, — холодно промолвил Пококуранте. — Когда-то мне внушали, что, читая ее, я должен испытывать удовольствие, но эти постоянно повторяющиеся сражения, похожие одно на другое, эти боги, которые вечно суетятся, но ничего решительного не делают, эта Елена, которая, послужив предлогом для войны, почти не участвует в действии, эта Троя, которую осаждают и никак не могут взять, — все это нагоняет на меня смертельную скуку. Я спрашивал иной раз ученых, не скучают ли они так же, как я, при этом чтении. Все прямодушные люди признались мне, что книга валится у них из рук, но что ее все-таки надо иметь в библиотеке, как памятник древности, как ржавые монеты, которые не годятся в обращении.
— Ваша светлость, конечно, иначе судит о Вергилии? — спросил Кандид.
— Должен признать, — сказал Пококуранте, — что вторая, четвертая и шестая книги его «Энеиды» превосходны; но что касается благочестивого Энея, и могучего Клоанта, и друга Ахата, и маленького Аскания, и сумасшедшего царя Латина, и пошлой Аматы, и несносной Лавинии, то вряд ли сыщется еще что-нибудь, столь же холодное и неприятное. Я предпочитаю Тассо и невероятные россказни Ариосто.
— Осмелюсь спросить, — сказал Кандид, — не испытываете ли вы истинного удовольствия, когда читаете Горация?
— У него есть мысли, — сказал Пококуранте, — из которых просвещенный человек может извлечь пользу; будучи крепко связаны энергичным стихом, они легко удерживаются в памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, грубая ссора неведомого Рупилия{664}, слова которого, по выражению стихотворца, «полны гноя», с кем-то, чьи слова «пропитаны уксусом». Я читал с чрезвычайным отвращением его грубые стихи против старух и колдуний{665} и не нахожу ничего, достойного похвалы, в обращении Горация к другу Меценату{666}, в котором он говорит, что если этот самый Меценат признает его лирическим поэтом, то он достигнет звезд своим возвышенным челом. Глупцы восхищаются всем в знаменитом писателе, но я читаю для собственного услаждения и люблю только то, что мне по душе.
Кандид, которого с детства приучили ни о чем не иметь собственного суждения, был сильно удивлен речью Пококуранте, а Мартен нашел такой образ мыслей довольно разумным.
— О, я вижу творения Цицерона! — воскликнул Кандид. — Ну, этого-то великого человека вы, я думаю, перечитываете постоянно?
— Я никогда его не читаю, — отвечал венецианец. — Какое мне дело до того, кого он защищал в суде — Рабирия или Клуенция? С меня хватает тяжб, которые я сам вынужден разбирать. Уж скорее я примирился бы с его философскими произведениями; но, обнаружив, что и он во всем сомневался, я заключил, что знаю столько же, сколько он, а чтобы оставаться невеждой, мне чужой помощи не надо.
— А вот и труды Академии наук в восьмидесяти томах! — воскликнул Мартен. — Возможно, в них найдется кое-что разумное.
— Безусловно, — сказал Пококуранте, — если бы среди авторов этой чепухи нашелся человек, который изобрел бы способ изготовлять — ну, скажем, булавки. Но во всех этих томах одни только бесполезные отвлеченности и ни одной полезной статьи.
— Сколько театральных пьес я вижу здесь, — сказал Кандид, — итальянских, испанских, французских!
— Да, — сказал сенатор, — их три тысячи, но не больше трех десятков действительно хороши. Что касается этих сборников проповедей, которые все, вместе взятые, не стоят одной страницы Сенеки, и всех этих богословских фолиантов, вы, конечно, понимаете, что я никогда не заглядываю в них, да и никто не заглядывает.
Мартен обратил внимание на полки, уставленные английскими книгами.
— Я думаю, — сказал он, — что республиканцу должна быть по сердцу большая часть этих трудов, написанных с такой свободой.
— Да, — ответил Пококуранте, — хорошо, когда пишут то, что думают, — это привилегия человека. В нашей Италии пишут только то, чего не думают; люди, живущие в отечестве Цезарей и Антониев, не осмеливаются обнародовать ни единой мысли без позволения монаха-якобита{667}. Я приветствовал бы свободу, которая вдохновляет английских писателей, если бы пристрастность и фанатизм не искажали всего, что в этой драгоценной свободе достойно уважения.
Кандид, заметив Мильтона, спросил хозяина, не считает ли он этого автора великим человеком.
— Мильтона? — переспросил Пококуранте. — Этого варвара, который в десяти книгах тяжеловесных стихов{668} пишет длинный комментарий к Первой Книге Бытия; этого грубого подражателя грекам, который искажает рассказ о сотворении мира? Если Моисей говорит о Предвечном Существе, создавшем мир единым словом, то Мильтон заставляет Мессию брать большой циркуль из небесного шкафа и чертить план своего творения! Чтобы я стал почитать того, кто изуродовал ад и дьяволов Тассо, кто изображал Люцифера то жабою, то пигмеем и заставлял его по сто раз повторять те же речи и спорить о богословии, кто, всерьез подражая шуткам Ариосто об изобретении огнестрельного оружия, вынуждал демонов стрелять из пушек в небо? Ни мне, да и никому другому в Италии не могут нравиться эти жалкие нелепицы. Брак Греха со Смертью и те ехидны, которыми Грех разрешается, вызывают тошноту у всякого человека с тонким вкусом, а длиннейшее описание больницы годится только для гробовщика. Эта поэма, мрачная, дикая и омерзительная, при самом своем появлении в свет была встречена презрением; я отношусь к ней сейчас так же, как некогда отнеслись в ее отечестве современники. Впрочем, я говорю, что думаю, и очень мало озабочен тем, чтобы другие думали так же, как я.
Кандид был опечален этими речами: он чтил Гомера, но немножко любил и Мильтона.
— Увы! — сказал он тихо Мартену. — Я очень боюсь, что к нашим германским поэтам этот человек питает величайшее пренебрежение.
— В этом еще нет большой беды, — сказал Мартен.
— О, какой необыкновенный человек! — шепотом повторял Кандид. — Какой великий гений этот Пококуранте! Ему все не нравится!
Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад. Кандид принялся хвалить его красоты.
— Этот сад — воплощение дурного вкуса, — сказал хозяин, — столько здесь ненужных украшений. Но завтра я распоряжусь разбить новый сад по плану более благородному.
Когда любознательные посетители простились с вельможей, Кандид сказал Мартену:
— Согласитесь, что это счастливейший из людей: он взирает сверху вниз на все свои владения.
— Вы разве не видите, — сказал Мартен, — что ему все опротивело? Платон давным-давно сказал{669}, что отнюдь не лучший тот желудок, который отказывается от всякой пищи.
— Но какое это, должно быть, удовольствие, — сказал Кандид, — все критиковать и находить недостатки там, где другие видят только красоту!
— Иначе сказать, — возразил Мартен, — удовольствие заключается в том, чтобы не испытывать никакого удовольствия?
— Ну, хорошо, — сказал Кандид, — значит, единственным счастливцем буду я, когда снова увижу Кунигунду.
— Надежда украшает нам жизнь, — сказал Мартен.
Между тем дни и недели бежали своим чередом, Какамбо не появлялся, и Кандид, поглощенный своей скорбью, даже не обратил внимания на то, что Пакета и брат Жирофле не пришли поблагодарить его.
Глава двадцать шестая
О том, как Кандид и Мартен ужинали с шестью иностранцами и кем оказались эти иностранцы
Однажды вечером, когда Кандид и Мартен собирались сесть за стол вместе с иностранцами, которые жили в той же гостинице, человек с лицом, темным, как сажа, подошел сзади к Кандиду и, взяв его за руку, сказал:
— Будьте готовы отправиться с нами, не замешкайтесь. Кандид оборачивается и видит Какамбо. Сильнее удивиться и обрадоваться он мог бы лишь при виде Кунигунды. От радости Кандид чуть не сошел с ума. Он обнимает своего дорогого друга.
— Кунигунда, конечно, тоже здесь? Где она? Веди меня к ней, чтобы я умер от радости возле нее.
— Кунигунды здесь нет, — сказал Какамбо, — она в Константинополе.
— О, небо! В Константинополе! Но будь она даже в Китае, все равно я полечу к ней. Едем!
— Мы поедем после ужина, — возразил Какамбо. — Больше я ничего не могу вам сказать, я невольник, мой хозяин меня ждет; я должен прислуживать за столом; не говорите ни слова, ужинайте и будьте готовы.
Кандид, колеблясь между радостью и печалью, довольный тем, что снова видит своего верного слугу, удивленный, что видит его невольником, исполненный надежды вновь обрести свою возлюбленную, чувствуя, что сердце его трепещет, а разум мутится, сел за стол с Мартеном, который хладнокровно взирал на все, и с шестью иностранцами, которые приехали в Венецию на карнавал.
Какамбо, наливавший вино одному из этих иностранцев, наклонился к нему в конце трапезы и сказал:
— Ваше величество, вы можете отплыть в любую минуту, — корабль под парусами.
Сказав это, он вышел. Удивленные гости молча переглянулись; в это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему:
— Государь, карета вашего величества ожидает в Падуе, а лодка готова.
Господин сделал знак, и слуга вышел. Гости снова переглянулись, всеобщее удивление удвоилось. Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему:
— Государь, заверяю вас, вашему величеству не придется здесь долго ждать, я все приготовил.
И тотчас же исчез.
Кандид и Мартен уже не сомневались, что это карнавальный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину:
— Ваше величество, если угодно, вы можете ехать.
И вышел, как другие.
Пятый слуга сказал то же пятому господину. Но зато шестой слуга сказал совсем иное шестому господину, сидевшему подле Кандида. Он заявил:
— Ей-богу, государь, ни вашему величеству, ни мне не хотят более оказывать кредит. Нас обоих могут упрятать в тюрьму нынче же ночью. Пойду и постараюсь как-нибудь выкрутиться из этой истории. Прощайте.
Когда слуги ушли, шестеро иностранцев, Кандид и Мартен погрузились в глубокое молчание, прерванное наконец Кандидом.
— Господа, — сказал он, — что за странная шутка! Почему вы все короли? Что касается меня, то, признаюсь вам, ни я, ни Мартен этим похвалиться не можем.
Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно сказал по-итальянски:
— Это вовсе не шутка. Я — Ахмет III{670}. Несколько лет я был султаном; я сверг с престола моего брата; мой племянник сверг меня; всех моих визирей зарезали; я кончаю свой век в старом серале. Мой племянник, султан Махмуд, позволяет мне иногда путешествовать для поправки здоровья; сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал:
— Меня зовут Иван{671}, я был императором российским; еще в колыбели меня лишили престола, а моего отца и мою мать заточили; я был воспитан в тюрьме; иногда меня отпускают путешествовать под присмотром стражи; сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Третий сказал:
— Я — Карл-Эдуард{672}, английский король; мой отец уступил мне права на престол; я сражался, защищая их; восьмистам моим приверженцам вырвали сердца и этими сердцами били их по щекам. Я сидел в тюрьме; теперь направляюсь в Рим — хочу навестить короля, моего отца, точно так же лишенного престола, как я и мой дед. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Четвертый сказал:
— Я король польский{673}; превратности войны лишили меня наследственных владений; моего отца постигла та же участь; я безропотно покоряюсь провидению, как султан Ахмет, император Иван и король Карл-Эдуард, которым господь да ниспошлет долгую жизнь. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Пятый сказал:
— Я тоже польский король{674} и терял свое королевство дважды, но провидение дало мне еще одно государство, где я делаю больше добра, чем все короли сарматов сделали когда-либо на берегах Вислы. Я тоже покоряюсь воле провидения; сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Слово было за шестым монархом.
— Господа, — сказал он, — я не столь знатен, как вы; но я был королем точно так же, как и прочие. Я Теодор{675}, меня избрали королем Корсики, называли «ваше величество», а теперь в лучшем случае именуют «милостивый государь». У меня был свой монетный двор, а теперь нет ни гроша за душой, было два статс-секретаря, а теперь лишь один лакей. Сперва я восседал на троне, а потом долгое время валялся в лондонской тюрьме на соломе. Я очень боюсь, что то же постигнет меня и здесь, хотя, как и ваши величества, я приехал на венецианский карнавал.
Пять других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал по двадцать цехинов королю Теодору на платье и белье; Кандид преподнес ему алмаз в две тысячи цехинов.
— Кто же он такой, — воскликнули пять королей, — этот человек, который может подарить — и не только может, но и дарит! — в сто раз больше, чем каждый из нас? Скажите, сударь, вы тоже король?
— Нет, господа, и не стремлюсь к этой чести.
Когда они кончали трапезу, в ту же гостиницу прибыли четверо светлейших принцев, которые тоже потеряли свои государства из-за превратностей войны и приехали на венецианский карнавал. Но Кандид даже не обратил внимания на вновь прибывших. Он был занят только тем, как ему найти в Константинополе обожаемую Кунигунду.
Глава двадцать седьмая
Путешествие Кандида в Константинополь
Верный Какамбо упросил турка-судовладельца, который должен был отвезти султана Ахмета в Константинополь, принять на борт и Кандида с Мартеном. За это наши путешественники низко поклонились его злосчастному величеству. Поспешая на корабль, Кандид говорил Мартену:
— Вот мы ужинали с шестью свергнутыми королями, и вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может, на свете немало властителей, еще более несчастных. А я потерял всего лишь сто баранов и сейчас лечу в объятья Кунигунды. Мой дорогой Мартен, я опять убеждаюсь, что Панглос прав, все к лучшему.
— От всей души желаю, чтобы вы не ошиблись, — сказал Мартен.
— Но то, что случилось с нами в Венеции, — сказал Кандид, — кажется просто неправдоподобным. Где это видано и где слыхано, чтобы шесть свергнутых с престола королей собрались вместе в кабачке?
— Это ничуть не более странно, — сказал Мартен, — чем большая часть того, что с нами случилось. Короли часто лишаются престола, а что касается чести, которую они нам оказали, отужинав с нами, — это вообще мелочь, не заслуживающая внимания. Важно не то, с кем ешь, а то, что ешь.
Взойдя на корабль, Кандид немедленно бросился на шею своему старому слуге, своему другу Какамбо.
— Говори же, — теребил он его, — как поживает Кунигунда? По-прежнему ли она — чудо красоты? Все ли еще любит меня? Как ее здоровье? Ты, наверно, купил ей дворец в Константинополе?
— Мой дорогой господин, — сказал Какамбо, — Кунигунда моет плошки на берегу Пропонтиды для властительного князя, у которого плошек — раз-два и обчелся. Она невольница в доме одного бывшего правителя по имени Рагоцци{676}, которому султан дает по три экю в день пенсиона. Печальнее всего то, что Кунигунда утратила красоту и стала очень уродливая.
— Хороша она или дурна, — сказал Кандид, — я человек порядочный, и мой долг — любить ее по гроб жизни. Но как могла она дойти до столь жалкого положения, когда у нас в запасе пять-шесть миллионов, которые ты ей отвез?
— Посудите сами, — сказал Какамбо, — разве мне не пришлось уплатить два миллиона сеньору дону Фернандо д’Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса, губернатору Буэнос-Айреса за разрешение увезти Кунигунду? А пират разве не обчистил нас до последнего гроша? Этот пират провез нас мимо мыса Матапан, через Милос, Икарию, Самос, Петру, Дарданеллы, Мраморное море, в Скутари. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я вам говорил, я — невольник султана, лишенного престола.
— Что за ужасное сцепление несчастий! — сказал Кандид. — Но все-таки у меня еще осталось несколько брильянтов. Я без труда освобожу Кунигунду. Как жаль, что она подурнела! — Потом, обратясь к Мартену, он спросил: — Как по вашему мнению, кого следует больше жалеть — императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?
— Не знаю, — сказал Мартен. — Чтобы это узнать, надо проникнуть в глубины сердца всех четверых.
— Ах, — сказал Кандид, — будь здесь Панглос, он знал бы и все разъяснил бы нам.
— Мне непонятно, — заметил Мартен, — на каких весах ваш Панглос стал бы взвешивать несчастья людей и какой мерой он оценивал бы их страдания. Но полагаю, что миллионы людей на земле в сто раз более достойны сожаления, чем король Карл-Эдуард, император Иван и султан Ахмет.
— Это вполне возможно, — сказал Кандид.
Через несколько дней они достигли пролива, ведущего в Черное море. Кандид начал с того, что за очень дорогую цену выкупил Какамбо; затем, не теряя времени, он сел на галеру со своими спутниками и поплыл к берегам Пропонтиды{677} на поиски Кунигунды, какой бы уродливой она ни стала.
Среди гребцов галеры были два каторжника, которые гребли очень плохо; шкипер-левантинец время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, движимый естественным состраданием, взглянул на них внимательнее, чем на других каторжников, а потом и подошел к ним. В их искаженных чертах он нашел некоторое сходство с чертами Панглоса и несчастного иезуита, барона, брата Кунигунды. Сходство это тронуло и опечалило его. Он посмотрел на них еще внимательнее.
— Послушай, — сказал он Какамбо, — если бы я не видел, как повесили учителя Панглоса, и не имел бы несчастья самолично убить барона, я подумал бы, что это они там гребут на галере.
Услышав слова Кандида, оба каторжника громко вскрикнули, замерли на скамье и уронили весла. Левантинец подбежал к ним и принялся стегать их с еще большей яростью.
— Не трогайте их, не трогайте! — воскликнул Кандид. — Я заплачу вам, сколько вы захотите.
— Как! Это Кандид? — произнес один из каторжников.
— Как! Это Кандид? — повторил другой.
— Не сон ли это? — сказал Кандид. — Наяву ли я на этой галере? Неужели передо мною барон, которого я убил, и учитель Панглос, которого при мне повесили?
— Это мы, это мы, — отвечали они.
— Значит, это и есть тот великий философ? — спросил Мартен.
— Послушайте, господин шкипер, — сказал Кандид, — какой вы хотите выкуп за господина Тундер-тен-Тронка, одного из первых баронов империи, и за господина Панглоса, величайшего метафизика Германии?
— Христианская собака, — отвечал левантинец, — так как эти две христианские собаки, эти каторжники — барон и метафизик, и, значит, большие люди в своей стране, ты должен дать мне за них пятьдесят тысяч цехинов.
— Вы их получите, господин шкипер; везите меня с быстротою молнии в Константинополь, и вам будет уплачено все сполна. Нет, сперва везите меня к Кунигунде.
Но левантинец уже направил галеру к городу и велел грести быстрее, чем летит птица.
Кандид то и дело обнимал барона и Панглоса.
— Как это я не убил вас, мой дорогой барон? А вы, мой дорогой Панглос, каким образом вы остались живы, после того, как вас повесили? И почему вы оба на турецких галерах?
— Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой стране? — спросил барон.
— Да, — ответил Какамбо.
— Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида! — воскликнул Панглос.
Кандид представил им Мартена и Какамбо. Они обнимались и говорили все сразу. Галера летела, и вот они уже в порту. Позвали еврея, и Кандид продал ему за пятьдесят тысяч цехинов брильянт стоимостью в сто тысяч: еврей поклялся Авраамом, что больше дать не может. Кандид тут же выкупил барона и Панглоса. Панглос бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами; барон поблагодарил его легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первом же случае.
— Но возможно ли, однако, что моя сестра в Турции? — спросил он.
— Вполне возможно и даже более того, — ответил Какамбо, — поскольку она судомойка у трансильванского князя.
Тотчас позвали двух евреев, Кандид продал еще несколько брильянтов, и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.
Глава двадцать восьмая
Что случилось с Кандидом, Кунигундой, Панглосом, Мартеном и другими
— Еще раз, преподобный отец, — говорил Кандид барону, — прошу прощения за то, что проткнул вас шпагой.
— Не будем говорить об этом, — сказал барон. — Должен сознаться, я немного погорячился. Если вы желаете знать, по какой случайности я оказался на галерах, извольте, я вам все расскажу. После того, как мою рану вылечил брат аптекарь коллегии, я был атакован и взят в плен испанским отрядом. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе сразу после того, как моя сестра уехала из этого города. Я потребовал, чтобы меня отправили в Рим к отцу генералу. Он назначил меня капелланом при французском посланнике в Константинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как однажды вечером я встретил весьма стройного ичоглана{678}. Было очень жарко. Молодой человек вздумал искупаться, я решил последовать его примеру. Я не знал, что если христианина застают голым в обществе молодого мусульманина, его наказывают, как за тяжкое преступление. Кади повелел дать мне сто ударов палкой по пяткам и сослал меня на галеры. Нельзя себе представить более вопиющей несправедливости. Но хотел бы я знать, как моя сестра оказалась судомойкой трансильванского князя, укрывающегося у турок?
— А вы, мой дорогой Панглос, — спросил Кандид, — каким образом оказалась возможной эта наша встреча?
— Действительно, вы присутствовали при том, как меня повесили, — сказал Панглос. — Разумеется, меня собирались сжечь, но помните, когда настало время превратить мою персону в жаркое, хлынул дождь. Ливень был так силен, что не смогли раздуть огонь, и тогда, потеряв надежду сжечь, меня повесили. Хирург купил мое тело, принес к себе и начал меня резать. Сначала он сделал крестообразный надрез от пупка до ключицы. Я был повешен так скверно, что хуже не бывает. Палач святой инквизиции в сане иподьякона сжигал людей великолепно, надо отдать ему должное, но вешать он не умел. Веревка была мокрая, узловатая, плохо скользила, поэтому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил меня так громко вскрикнуть, что мой хирург упал навзничь, решив, что он разрезал дьявола. Затем вскочил и бросился бежать, но на лестнице упал. На шум прибежала из соседней комнаты его жена. Она увидела меня, растянутого на столе, с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше, чем ее муж, тоже бροсилась бежать и упала на него. Когда они немного пришли в себя, я услышал, как супруга сказала супругу:
— Дорогой мой, как это ты решился резать еретика! Ты разве не знаешь, что в этих людях всегда сидит дьявол. Пойду-ка я скорее за священником, пусть он изгонит беса.
Услышав это, я затрепетал и, собрав остаток сил, крикнул:
— Сжальтесь надо мной!
Наконец португальский костоправ расхрабрился и зашил рану; его жена сама ухаживала за мною; через две недели я встал на ноги. Костоправ нашел мне место, я поступил лакеем к мальтийскому рыцарю, который отправлялся в Венецию; но у моего господина не было средств, чтобы платить мне, и я перешел в услужение к венецианскому купцу; с ним-то я и приехал в Константинополь.
Однажды мне пришла в голову фантазия зайти в мечеть; там был только старый имам и молодая богомолка, очень хорошенькая, которая шептала молитвы. Шея у нее была совершенно открыта, между грудей красовался роскошный букет из тюльпанов, роз, анемон, лютиков, гиацинтов и медвежьих ушек; она уронила букет, я его поднял и водворил на место очень почтительно, но делал я это так старательно и медленно, что имам разгневался и, обнаружив, что я христианин, позвал стражу. Меня повели к кади, который приказал дать мне сто ударов тростью по пяткам и сослал меня на галеры. Я попал на ту же галеру и ту же скамью, что и барон. На этой галере было четверо молодых марсельцев, пять неаполитанских священников и два монаха с Корфу; они объяснили нам, что подобные приключения случаются ежедневно. Барон утверждал, что с ним поступили гораздо несправедливее, чем со мной. Я утверждал, что куда приличнее положить букет на женскую грудь, чем оказаться нагишом в обществе ичоглана. Мы спорили беспрерывно и получали по двадцать ударов ремнем в день, пока сцепление событий в этой вселенной не привело вас на нашу галеру, и вот вы нас выкупили.
— Ну, хорошо, мой дорогой Панглос, — сказал ему Кандид, — когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?
— Я всегда был верен своему прежнему убеждению, — отвечал Панглос. — В конце концов, я ведь философ, и мне не пристало отрекаться от своих взглядов; Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония всего прекраснее в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя.
Глава двадцать девятая
Как Кандид нашел Кунигунду и старуху
Пока Кандид, барон, Панглос, Мартен и Какамбо рассказывали друг другу о своих приключениях, обсуждали происшествия случайные и неслучайные в этом мире, спорили о следствиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе и необходимости, об утешении, которое можно найти и на турецких галерах, — они приплыли к берегу Пропонтиды, к дому трансильванского князя. Первые, кого они увидели, были Кунигунда со старухою, развешивавшие на веревках мокрые кухонные полотенца.
Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кандид, увидев, как почернела прекрасная Кунигунда, какие у нее воспаленные глаза, иссохшая шея, морщинистые щеки, красные, потрескавшиеся руки, в ужасе отступил на три шага, но потом, движимый учтивостью, снова приблизился к ней. Она обняла Кандида и своего брата, они обняли старуху. Кандид выкупил обеих.
По соседству находилась маленькая ферма. Старуха предложила Кандиду поселиться на ней, пока вся компания не подыщет себе лучшего приюта. Кунигунда не знала, что она подурнела, — никто ей этого не говорил; она напомнила Кандиду о его обещании столь решительным тоном, что добряк не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен жениться на его сестре.
— Я не потерплю, — сказал барон, — такой низости с ее стороны и такой наглости с вашей. Этого позора я ни за что не допущу — ведь детей моей сестры нельзя будет записать в немецкие родословные книги. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж ни за кого, кроме как за имперского барона.
Кунигунда бросилась к его ногам и оросила их слезами, но он был неумолим.
— Сумасшедший барон, — сказал ему Кандид, — я избавил тебя от галер, заплатил за тебя выкуп, выкупил и твою сестру. Она мыла здесь посуду, она уродлива — я, по своей доброте, готов жениться на ней, а ты еще противишься. Я снова убил бы тебя, если бы поддался своему гневу.
— Ты можешь снова убить меня, — сказал барон, — но, пока я жив, ты не женишься на моей сестре.
Глава тридцатая
Заключение
В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунде, но чрезвычайная наглость барона подстрекала его вступить с нею в брак, а Кунигунда торопила его так настойчиво, что он не мог ей отказать. Он посоветовался с Панглосом, Мартеном и верным Какамбо. Панглос написал прекрасное сочинение, в котором доказывал, что барон не имеет никаких прав на свою сестру и что, согласно всем законам империи, она может вступить в морганатический брак с Кандидом. Мартен склонялся к тому, чтобы бросить барона в море; Какамбо считал, что нужно возвратить его левантинскому шкиперу на галеры, а потом, с первым же кораблем, отправить в Рим к отцу генералу. Совет признали вполне разумным; старуха его одобрила; сестре барона ничего не сказали. План был приведен в исполнение, — разумеется, за некоторую мзду, и все радовались тому, что провели иезуита и наказали спесивого немецкого барона.
Естественно было ожидать, что после стольких бедствий Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с философом Панглосом, философом Мартеном, благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много брильянтов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз был обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма; его жена, делаясь с каждым днем все более уродливой, стала сварливой и несносной; старуха одряхлела, и характер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судьбу. Панглос был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь немецком университете. Что касается Мартена, он был твердо убежден, что везде одинаково плохо, и терпеливо переносил тяготы жизни. Кандид, Мартен и Панглос спорили иногда о метафизике и нравственности. Они частенько видели проплывавшие мимо их фермы корабли, набитые пашами, эфенди и кадиями, которых ссылали на Лемнос, на Митилену, в Эрзерум; другие кади, другие паши, другие эфенди занимали места изгнанных и в свой черед отправлялись в изгнание; видели они иногда и аккуратно набитые соломой человеческие головы, — их везли в подарок могучему султану. Эти зрелища рождали новые споры; а когда они не спорили, воцарялась такая невыносимая скука, что как-то раз старуха осмелилась сказать:
— Хотела бы я знать, что хуже: быть похищенной и сто раз изнасилованной неграми-пиратами, лишиться половины зада, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и повешенным во время аутодафе, быть разрезанным, грести на галерах — словом, испытать те несчастья, через которые все мы прошли, или прозябать здесь, ничего не делая?
— Это большой вопрос, — сказал Кандид.
Речь старухи породила новые споры. Мартен доказывал, что человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но ничего и не утверждал. Панглос признался, что всю жизнь терпел страшные муки, но, однажды усвоив, будто все идет на диво хорошо, будет всегда придерживаться этого взгляда, отвергая все прочие точки зрения.
Новые события окончательно утвердили Мартена в его отвратительных принципах, поколебали Кандида и смутили Панглоса. Однажды к ним на ферму явились Пакета и брат Жирофле в самом бедственном состоянии. Они очень быстро проели свои три тысячи пиастров, расстались, потом помирились, снова поссорились, попали в тюрьму, убежали оттуда, и, наконец, брат Жирофле сделался турком. Пакета продолжала заниматься своим ремеслом, но уже почти ничего им не зарабатывала.
— Я ведь предвидел, — сказал Мартен Кандиду, — что они быстро промотают ваши дары и тогда станут еще несчастнее, чем были. Вы и Какамбо растранжирили миллионы пиастров и не более счастливы, чем брат Жирофле и Пакета.
— Само небо привело вас сюда к нам, мое бедное дитя, — сказал Панглос Пакете. — Знаете ли вы, что стоили мне кончика носа, одного глаза и уха? Да и вы в каком сейчас виде! О, что это за мир, в котором мы живем!
Это происшествие дало им новую пищу для философствования.
По соседству с ними жил очень известный дервиш, который считался лучшим философом в Турции. Они пошли посоветоваться с ним. Панглос сказал так:
— Учитель, мы пришли спросить у вас, для чего создано столь странное животное, как человек?
— А тебе-то что до этого? — сказал дервиш. — Твое ли это дело?
— Но, преподобный отец, — сказал Кандид, — на земле ужасно много зла.
— Ну и что же? — сказал дервиш. — Какое имеет значение, царит на земле зло или добро? Когда султан посылает корабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо корабельным крысам?
— Что же нам делать? — спросил Панглос.
— Молчать, — ответил дервиш.
— Я льстил себя надеждой, — сказал Панглос, — что смогу побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии.
В ответ на эти слова дервиш захлопнул дверь у них перед носом.
Во время этой беседы распространилась весть, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия и посадили на кол несколько их друзей. Это событие наделало много шуму на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартен, возвращаясь к себе на ферму, увидели почтенного старика, который наслаждался прохладой у порога своей двери под тенью апельсинного дерева. Панглос, который был не только любитель рассуждать, но и человек любопытный, спросил у старца, как звали муфтия, которого удавили.
— Вот уж не знаю, — отвечал тот, — да и, признаться, никогда не знал имен никаких визирей и муфтиев. И о происшествии, о котором вы мне говорите, не имею понятия. Я полагаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, погибают иной раз самым жалким образом и что они этого заслуживают. Но я-то нисколько не интересуюсь тем, что делается в Константинополе; хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды из сада, который возделываю.
Сказав это, он предложил чужеземцам войти в его дом; две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего шербета, каймак, приправленный лимонной коркой, варенной в сахаре, апельсины, лимоны, ананасы, финики, фисташки, моккский кофе, который не был смешан с плохим кофе из Батавии и с Американских островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили Кандиду, Панглосу и Мартену бороды.
— Должно быть, у вас обширное и великолепное поместье? — спросил Кандид у турка.
— У меня всего только двадцать арпанов, — отвечал турок. — Я их возделываю сам с моими детьми; работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду.
Кандид, возвращаясь на ферму, глубокомысленно рассуждал по поводу речей этого турка. Он сказал Панглосу и Мартену:
— Судьба доброго старика, на мой взгляд, завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.
— Высокий сан, — сказал Панглос, — связан с большими опасностями; об этом свидетельствуют все философы. Судите сами: Еглон, царь моавитский, был убит Аодом; Авессалом повис на своих собственных волосах и был пронзен тремя стрелами; царь Нават, сын Иеровоама, был убит Ваасою; царь Эла — Замврием; Охозия — Иеговой; Гофолия — Иодаем; цари Иоаким, Иехония и Седекия попали в рабство. Знаете вы, как погибли Крез, Астиаг, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пирр, Персей, Ганнибал, Югурта, Ариовист, Цезарь, Помпей, Нерон, Оттон, Вителлий, Домициан, Ричард II английский, Эдуард II, Генрих VI, Ричард III, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха{679} французских, император Генрих IV? Знаете вы…
— Я знаю также, — сказал Кандид, — что надо возделывать наш сад.
— Вы правы, — сказал Панглос. — Когда человек был поселен в саду Эдема, это было ut operaretur eum, — дабы и он работал{680}. Вот вам доказательство того, что человек родился не для покоя.
— Будем работать без рассуждений, — сказал Мартен, — это единственное средство сделать жизнь сносною.
Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением; каждый начал изощрять свои способности. Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигунда, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла пироги; Пакета вышивала; старуха заботилась о белье. Даже брат Жирофле пригодился: он стал очень недурным столяром, более того — честным человеком, и Панглос иногда говорил Кандиду:
— Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком в зад за любовь к Кунигунде, если бы не были взяты инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, — не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек.
— Это вы хорошо сказали, — отвечал Кандид, — но надо возделывать наш сад.
«Простодушный»
Простодушный Правдивая повесть, извлеченная из рукописей отца Кенеля Перевод Г. Блока
{681}
{682}
Глава первая
О том, как приор храма Горной богоматери и его сестра повстречали Гурона
Однажды святой Дунстан{683}, ирландец по национальности и святой по роду занятий, отплыл из Ирландии на пригорке к французским берегам и добрался таким способом до бухты Сен-Мало. Сойдя на берег, он благословил пригорок, который, отвесив ему несколько низких поклонов, воротился в Ирландию тою же дорогою, какою прибыл.
Дунстан основал в этих местах небольшой приорат и нарек его Горным, каковое название он носит и поныне, что известно всякому.
В тысяча шестьсот восемьдесят девятом году{684} месяца июля числа 15-го, под вечер, аббат де Керкабон, приор храма Горной богоматери, решив подышать свежим воздухом, прогуливался с сестрой своей по берегу моря. Приор, уже довольно пожилой, был очень хороший священник, столь же любимый сейчас соседями, как в былые времена — соседками. Особенное уважение снискал он тем, что из всех окрестных настоятелей был единственным, кого после ужина с собратьями не приходилось тащить в постель на руках. Он довольно основательно знал богословие, а когда уставал от чтения блаженного Августина, то тешил себя книгою Рабле: поэтому все и отзывались о нем с похвалой.
Его сестра, которая никогда не была замужем, хотя и имела к тому великую охоту, сохранила до сорокапятилетнего возраста некоторую свежесть: нрав у нее был добрый и чувствительный; она любила удовольствия и была набожна.
Приор говорил ей, глядя на море:
— Увы! отсюда в тысяча шестьсот шестьдесят шестом году на фрегате «Ласточка» отбыл на службу в Канаду наш бедный брат со своей супругой, а нашей дорогой невесткой, госпожой де Керкабон. Не будь он убит, у нас была бы надежда свидеться с ним.
— Полагаете ли вы, — сказала м-ль де Керкабон, — что нашу невестку и впрямь съели ирокезы, как нам о том сообщили? Надо полагать, если бы ее не съели, она вернулась бы на родину. Я буду оплакивать ее всю жизнь — ведь она была такая очаровательная женщина; а наш брат, при его уме, добился бы немалых успехов в жизни.
Пока они предавались этим трогательным воспоминаниям, в устье Ранса вошло на волнах прилива маленькое суденышко: это англичане привезли на продажу кое-какие отечественные товары. Они соскочили на берег, не поглядев ни на господина приора, ни на его сестру, которую весьма обидело подобное невнимание к ее особе.
Иначе поступил некий очень статный молодой человек, который одним прыжком перемахнул через головы своих товарищей и очутился перед м-ль де Керкабон. Еще не обученный раскланиваться, он кивнул ей головой. Лицо его и наряд привлекли к себе взоры брата и сестры. Голова юноши была непокрыта, ноги обнажены и обуты лишь в легкие сандалии, длинные волосы заплетены в косы, тонкий и гибкий стан охвачен коротким камзолом. Лицо его выражало воинственность и вместе с тем кротость. В одной руке он держал бутылку с барбадосской водкой, в другой — нечто вроде кошеля, в котором были стаканчик и отличные морские сухари. Чужеземец довольно изрядно изъяснялся по-французски. Он попотчевал брата и сестру барбадосской водкой, отведал ее и сам, потом угостил их еще раз, — и все это с такой простотой и естественностью, что они были очарованы и предложили ему свои услуги, сперва осведомившись, кто он и куда держит путь. Молодой человек ответил, что он этого не знает, что он любопытен, что ему захотелось посмотреть, каковы берега Франции, что он прибыл сюда, а затем вернется восвояси.
Прислушавшись к его произношению, господин приор понял, что юноша — не англичанин, и позволил себе спросить, из каких он стран.
— Я гурон{685}, — ответил тот.
Мадемуазель де Керкабон, удивленная и восхищенная встречей с гуроном, который притом обошелся с ней учтиво, пригласила его отужинать с ними: молодой человек не заставил себя упрашивать, и они отправились втроем в приорат Горной богоматери.
Низенькая и кругленькая барышня глядела на него во все глаза и время от времени говорила приору:
— Какой лилейно-розовый цвет лица у этого юноши! До чего нежна у него кожа, хотя он и гурон!
— Вы правы, сестрица, — отвечал приор.
Она без передышки задавала сотни вопросов, и путешественник отвечал на них весьма толково.
Слух о том, что в приорате находится гурон, распространился с необычайной быстротой, и к ужину там собралось все высшее общество округи. Аббат де Сент-Ив пришел со своей сестрой, молодой особой из Нижней Бретани, весьма красивой и благовоспитанной. Судья, сборщик податей и их жены также не замедлили явиться. Чужеземца усадили между м-ль де Керкабон и м-ль де Сент-Ив. Все изумленно глядели на него, все одновременно и рассказывали ему что-то, и расспрашивали его, — гурона это ничуть не смущало. Казалось, он руководился правилом милорда Болингброка{686}: «Nihil admirari»[24]. Но напоследок, выведенный из терпения этим шумом, он сказал тоном, довольно спокойным:
— Господа, у меня на родине принято говорить по очереди; как же мне отвечать вам, когда вы не даете возможности услышать ваши вопросы?
Вразумляющее слово всегда заставляет людей углубиться на несколько мгновений в самих себя: воцарилось полное молчание. Господин судья, который всегда, в чьем бы доме ни находился, завладевал вниманием чужеземцев и слыл первым на всю округу мастером по части расспросов, проговорил, широко разевая рот:
— Как вас зовут, сударь?
— Меня всегда звали Простодушный, — ответил гурон. — Это имя утвердилось за мной и в Англии, потому что я всегда чистосердечно говорю то, что думаю, подобно тому как и делаю все, что хочу.
— Каким же образом, сударь, родившись гуроном, попали вы в Англию?
— Меня привезли туда; я был взят в плен англичанами в бою, хотя и не худо оборонялся; англичане, которым по душе храбрость, потому что они сами храбры и не менее честны, чем мы, предложили мне либо вернуть меня родителям, либо отвезти в Англию. Я принял это последнее предложение, ибо по природе своей до страсти люблю путешествовать.
— Однако же, сударь, — промолвил судья внушительным тоном, — как могли вы покинуть отца и мать?
— Дело в том, что я не помню ни отца, ни матери, — ответил чужеземец.
Все общество умилилось, и все повторили:
— Ни отца, ни матери!
— Мы ему заменим родителей, — сказала хозяйка дома своему брату, приору. — До чего мил этот гурон!
Простодушный поблагодарил ее с благородной и горделивой сердечностью, но дал понять, что ни в чем не нуждается.
— Я замечаю, господин Простодушный, — сказал достопочтенный судья, — что по-французски вы говорите лучше, чем подобает гурону.
— Один француз, — ответил тот, — которого в годы моей ранней юности мы захватили в Гуронии и к которому я проникся большой приязнью, обучил меня своему языку: я усваиваю очень быстро то, что хочу усвоить. Приехав в Плимут, я встретил там одного из ваших французских изгнанников, которых вы, не знаю почему, называете «гугенотами»; он несколько усовершенствовал мои познания в вашем языке. Как только я научился объясняться вразумительно, я направился в вашу страну, потому что французы мне нравятся, когда не задают слишком много вопросов.
Невзирая на это тонкое предостережение, аббат де Сент-Ив спросил его, какой из трех языков он предпочитает: гуронский, английский или французский.
— Разумеется, гуронский, — ответил Простодушный.
— Возможно ли! — воскликнула м-ль де Керкабон. — А мне всегда казалось, что нет языка прекраснее, чем французский, если не считать нижнебретонского.
Тут все наперебой стали спрашивать Простодушного, как сказать по-гуронски «табак», и он ответил: «тайя»; как сказать «есть», и он ответил: «эссентен». М-ль де Керкабон захотела во что бы то ни стало узнать, как сказать «ухаживать за женщинами». Он ответил: «тровандер»[25] и добавил, по-видимому не без основания, что эти слова вполне равноценны соответствующим французским и английским. Гости нашли, что «тровандер» звучит очень приятно.
Господин приор, в библиотеке которого имелась гуронская грамматика, подаренная ему преподобным отцом Сагаром Теода{687}, францисканцем и славным миссионером, вышел из-за стола, чтобы навести по ней справку. Вернулся он, задыхаясь от восторга и радости, ибо убедился, что Простодушный воистину гурон. Поговорили чуть-чуть о многочисленности наречий и пришли к заключению, что, если бы не происшествие с вавилонской башней, все народы говорили бы по-французски.
Неистощимый по части вопросов судья, который до сих пор относился к новому лицу с недоверием, теперь проникся к нему глубоким почтением; он беседовал с ним гораздо вежливее, чем прежде, чего Простодушный не приметил.
Мадемуазель де Сент-Ив полюбопытствовала насчет того, как ухаживают кавалеры в стране гуронов.
— Совершают подвиги, — ответил он, — чтобы понравиться особам, похожим на вас.
Гости удивились его словам и дружно зааплодировали. М-ль де Сент-Ив покраснела и весьма обрадовалась. М-ль де Керкабон покраснела тоже, но обрадовалась не очень; ее задело за живое, что любезные слова были обращены не к ней, но она была столь благодушна, что расположение ее к гурону ничуть от этого не пострадало. Она чрезвычайно приветливо спросила его, сколько возлюбленных было у него в Гуронии.
— Одна-единственная, — ответил Простодушный. — То была м-ль Абакаба, подруга дорогой моей кормилицы. Абакаба превосходила тростник стройностью, горностая — белизной, ягненка — кротостью, орла — гордостью и оленя — легкостью. Однажды она гналась за зайцем по соседству с нами, примерно в пятидесяти лье от нашего жилья. Некий неблаговоспитанный алгонкинец{688}, живший в ста лье оттуда, перехватил у нее добычу; я узнал об этом, помчался туда, свалил алгонкинца ударом палицы и, связав по рукам и ногам, поверг его к стопам моей возлюбленной. Родители Абакабы изъявили желание съесть его, но я никогда не питал склонности к подобным пиршествам; я вернул ему свободу и обрел в его лице друга. Абакаба была так тронута моим поступком, что предпочла меня всем прочим своим любовникам. Она любила бы меня и доселе, если бы ее не съел медведь. Я покарал медведя и долго потом носил его шкуру, но это меня не утешило.
Мадемуазель де Сент-Ив почувствовала тайную радость, узнав из этого рассказа, что у Простодушного была всего одна возлюбленная и что Абакабы нет более на свете, но не стала разбираться в причинах своей радости. Все не сводили глаз с Простодушного и очень хвалили его за то, что он не позволил своим товарищам съесть алгонкинца.
Неумолимый судья, будучи не в силах подавить исступленную страсть к расспросам, довел свое любопытство до того, что осведомился, какую веру исповедует г-н гурон, — избрал ли он англиканскую, галликанскую или гугенотскую веру?
— У меня своя вера, — ответил тот, — как у вас своя.
— Увы! — воскликнула м-ль де Керкабон, — я вижу, этим злополучным англичанам даже не пришло в голову окрестить его.
— Ах, боже мой! — проговорила м-ль де Сент-Ив. — Как же это так? Разве гуроны не католики? Неужели преподобные отцы иезуиты не обратили их всех в христианство?
Простодушный уверил ее, что у него на родине никого нельзя обратить, что настоящий гурон ни за что не изменит убеждений и что на их наречии даже нет слова, означающего «непостоянство». Эти его слова чрезвычайно понравились м-ль де Сент-Ив.
— Мы его окрестим, окрестим! — говорила м-ль де Керкабон г-ну приору. — Эта честь выпадет вам, дорогой брат; мне ужасно хочется стать его крестной матерью; господин аббат де Сент-Ив, конечно, не откажется стать его восприемником. Какая будет блистательная церемония! Толки о ней пойдут по всей Нижней Бретани, и нас это безмерно прославит.
Все общество вторило хозяйке дома, все гости кричали:
— Мы его окрестим!
Простодушный ответил, что в Англии каждый имеет право жить так, как ему заблагорассудится. Он заявил, что это предложение ему вовсе не по душе и что гуронское вероисповедание по меньшей мере равноценно нижнебретонскому; в заключение он сказал, что завтра же уезжает. Допив его бутылку барбадосской водки, все разошлись на покой.
Когда Простодушного проводили в приготовленную для него комнату, м-ль де Керкабон и ее приятельница Сент-Ив не могли удержаться от того, чтобы не поглядеть в широкую замочную скважину, как почивает гурон. Они узрели, что он постелил одеяло прямо на полу и расположился на нем самым живописным образом.
Глава вторая
Гурон, прозванный Простодушным, узнан своей родней
Простодушный проснулся, по своему обыкновению, вместе с солнцем, под пенье петуха, которого в Англии и в Гуронии именуют «трубой рассвета»{689}. Он не уподоблялся праздным вельможам, которые валяются в постели, пока солнце не пройдет половину своего пути, которые не могут ни спать, ни встать, которые теряют столько драгоценных часов в этом промежуточном состоянии между жизнью и смертью да еще жалуются, что жизнь слишком коротка.
Отшагав уже два-три лье, уложив меткой пулей штук тридцать разной дичи, он вернулся в приорат и увидел, что приор храма Горной богоматери и его благоразумная сестра прогуливаются в ночных колпаках по саду. Он преподнес им всю свою добычу и, вытащив из-под рубашки нечто вроде маленького талисмана, который обычно носил на шее, просил принять его в знак благодарности за гостеприимство.
— Это величайшая моя драгоценность, — сказал он им. — Меня уверяли, что я буду неизменно счастлив, пока ношу эту безделушку; я дарю ее вам, чтобы вы были неизменно счастливы.
Чистосердечие Простодушного вызвало у приора и у его сестры улыбку умиления. Подарок состоял из двух портретов довольно скверной работы, связанных очень засаленным ремешком.
Мадемуазель де Керкабон спросила, есть ли художники в Гуронии.
— Нет, — ответил Простодушный, — эту редкую вещицу я получил от кормилицы; ее муж добыл мой талисман в бою, обобрав каких-то канадских французов, которые воевали с нами. Вот и все, что я знаю о нем.
Приор внимательно разглядывал портреты: он изменился в лице, разволновался, руки у него затряслись.
— Клянусь Горной богоматерью! — воскликнул он. — Мне сдается, что это — изображение моего брата-капитана и его жены!
Мадемуазель де Керкабон, рассмотрев портреты с не меньшим волнением, пришла к тому же заключению. Оба были охвачены удивлением и радостью, смешанной с горем; оба умилялись, плакали, сердца у них трепетали; они вскрикивали; они вырывали друг у друга портреты; раз по двадцать каждый хватал их у другого и снова отдавал; они пожирали глазами и портреты и гурона; они спрашивали его то каждый порознь, то оба зараз, где, когда и как попали эти миниатюры в руки его кормилицы; они сопоставляли, высчитывали сроки, истекшие со времени отъезда капитана, вспоминали полученное когда-то сообщение о том, что он добрался до страны гуронов, после чего о нем не было больше никаких известий.
Простодушный говорил им накануне, что не помнит ни отца, ни матери. Приор, человек сообразительный, заметил, что у Простодушного пробивается бородка, а ему было хорошо известно, что гуроны — безбородые. «У него на подбородке пушок, стало быть, он сын европейца; брат и невестка после предпринятого в тысяча шестьсот шестьдесят девятом году похода на гуронов{690} больше не появлялись; мой племянник был в то время, вероятно, еще грудным ребенком, кормилица-гуронка спасла ему жизнь и заменила мать». В конце концов после сотни вопросов и сотни ответов приор и его сестра пришли к убеждению, что гурон — их собственный племянник. Они обнимали его, проливая слезы, а Простодушный смеялся, ибо представить себе не мог, как это гурон вдруг оказался племянником нижнебретонского приора.
Все общество спустилось в сад; г-н де Сент-Ив, великий физиономист, сличил оба портрета с наружностью Простодушного. Он сразу подметил, что глаза у него материнские, лоб и нос — как у покойного капитана де Керкабона, а щеки отчасти напоминают мать, отчасти отца.
Мадемуазель де Сент-Ив, которая никогда не видала родителей Простодушного, утверждала, что он похож на них совершенно. Они дивились провидению и сцеплению событий в сем мире. Насчет происхождения Простодушного сложилось напоследок такое твердое убеждение, такая уверенность, что он и сам согласился стать племянником г-на приора, сказав, что ему безразлично, приор или кто другой приходится ему дядюшкой.
Все отправились в храм Горной богоматери, чтобы воздать благодарение богу, в то время как гурон с полным равнодушием остался дома попивать винцо.
Англичане, которые вчера его доставили и готовились теперь поднять паруса, сказали ему, что пора отправляться в обратный путь.
— Вероятно, — ответил он, — вы не обрели тут дядюшек и тетушек. Я остаюсь. Возвращайтесь в Плимут. Дарю вам все свои пожитки; мне больше ровно ничего не нужно, ибо я — племянник приора.
Англичане подняли паруса, весьма мало беспокоясь о том, есть ли у Простодушного родня в Нижней Бретани.
После того как дядюшка, тетушка и все общество отслужили молебен, после того как судья сызнова одолел Простодушного вопросами, после того как исчерпано было все, что можно сказать под влиянием удивления, радости, нежности, — приор Горного храма и аббат де Сент-Ив порешили как можно скорее окрестить Простодушного. Но взрослый двадцатидвухлетний гурон — это не младенец, которого возрождают к новому бытию без его ведома. Надобно было сперва наставить его на путь истинный, а это представлялось затруднительным, так как аббат де Сент-Ив полагал, что человек, родившийся не во Франции, лишен здравого смысла.
Приор заметил во всеуслышание, что если г-н Простодушный, его племянник, не имел счастья родиться в Нижней Бретани, все же это не мешает ему обладать разумом, что судить о том можно по всем его ответам и что природа, бесспорно, наделила его щедрыми дарами как с отцовской, так и с материнской стороны.
Простодушного спросили прежде всего, случалось ли ему читать хоть какую-нибудь книгу. Он ответил, что читал Рабле в английском переводе и кое-какие отрывки из Шекспира, заученные им наизусть, что эти книги он достал у капитана корабля, на котором плыл из Америки в Плимут, и что остался ими весьма доволен. Судья немедленно стал его расспрашивать об этих книгах.
— Признаюсь вам, — сказал Простодушный, — кое-что я в них, кажется, разгадал, остального же не понял.
Аббат де Сент-Ив, услышав эту речь, подумал, что и сам он обычно читал так же, да и большинство людей читает именно так, а не иначе.
— Библию вы, без сомнения, читали? — спросил он гурона.
— Нет, не читал, господин аббат; у капитана ее не было: я ничего о ней не слыхал.
— Вот каковы эти проклятые англичане! — вскричала м-ль де Керкабон. — Пьесы Шекспира, плумпудинг и бутылка рома дороже им, чем Пятикнижие{691}. Оттого и получилось, что никого они в Америке не обратили в христианство. Они, конечно, прокляты богом, и мы в недалеком будущем отберем у них Ямайку и Виргинию.
Как бы то ни было, из Сен-Мало пригласили самого искусного портного и поручили ему одеть Простодушного с головы до ног. Общество разошлось; судья отправился задавать вопросы в других местах. М-ль де Сент-Ив, уходя, несколько раз оглянулась на Простодушного, а он проводил ее поклонами такими низкими, каких не отвешивал еще никому и никогда в жизни.
Судья, перед тем как откланяться, представил м-ль де Сент-Ив своего сына, рослого балбеса, кончившего училище, но она еле взглянула на него, до того тронула ее сердце учтивость гурона.
Глава третья
Гурон, прозванный Простодушным, обращен в христианство
Господин приор, имея в виду свой уже преклонный возраст и то обстоятельство, что бог послал ему в утешение племянника, твердо решил, что если удастся его окрестить и понудить к вступлению в духовное звание, то можно будет передать ему приход.
У Простодушного была превосходная память. Благодаря могучему нижнебретонскому телосложению, которое еще укрепил канадский климат, голова у него стала такая прочная, что, когда по ней били, он этого почти не чувствовал, а когда в нее что-нибудь врезалось, то никогда уже не изглаживалось. Он ничего не забывал. Его понятливость была тем живее и отчетливее, что детство его не было обременено в свое время тем бесполезным вздором, каким отягчено бывает наше детство, и поэтому мозг воспринимал все предметы в неискаженном виде. Приор решился наконец засадить племянника за чтение Нового завета. Простодушный проглотил его с большим удовольствием; но, не зная, в какие времена и в какой стране произошли рассказанные в этой книге события, он ничуть не сомневался в том, что местом действия была Нижняя Бретань, и даже поклялся при первой же встрече с Кайафой и Пилатом{692} отрезать нос и уши этим бездельникам.
Дядюшка, очарованный добрыми намерениями Простодушного, объяснил ему, в чем дело; он похвалил его за рвение, но растолковал, что рвение это — тщетное, ибо упоминаемые в Новом завете люди умерли примерно тысяча шестьсот девяносто лет тому назад. Вскоре Простодушный выучил почти всю книгу наизусть. Он задавал иной раз трудноразрешимые вопросы, сильно огорчавшие приора. Тому частенько приходилось совещаться с аббатом де Сент-Ив, который, не зная, что отвечать, вызвал некоего нижнебретонского иезуита, с тем чтобы завершить обращение гурона в истинную веру.
Благодать оказала наконец свое действие: Простодушный дал обещание сделаться христианином; при этом он не сомневался, что придется начать с обряда обрезания.
— Так как, — говорил он, — в этой книге, которую дали мне прочесть, я не нахожу ни одного лица, которое не подвергалось бы этому обряду, надо, очевидно, и мне пожертвовать своей крайней плотью; чем скорее, тем лучше.
Не долго думая, он послал за деревенским хирургом и попросил сделать ему операцию, полагая, что м-ль де Керкабон да и все общество бесконечно обрадуются, когда дело будет сделано. Лекарь, которому никогда еще не приходилось делать подобную операцию, дал знать об этом семейству Простодушного, и там поднялись громкие вопли. Добрая м-ль де Керкабон боялась, как бы племянник, по всей видимости решительный и проворный, не проделал над собой операции сам, и притом весьма неловко, и как бы не произошло от того печальных последствий, которым дамы по доброте душевной уделяют всегда много внимания.
Приор вразумил гурона: он убедил его, что обрезание вышло из моды; что крещение и приятнее и спасительнее; что закон милующий лучше закона карающего. Простодушный, у которого было много здравого смысла и прямоты, сперва поспорил, но затем признал свое заблуждение, а в Европе это довольно редко случается со спорящими; в конце концов он сказал, что готов креститься когда угодно.
Сначала нужно было исповедаться, и в этом заключалась главная трудность. Простодушный всегда носил в кармане книгу, подаренную дядей, и так как ему не удалось найти в ней никаких указаний на то, что хоть кто-нибудь из апостолов исповедовался, то он заупрямился. Приор заставил его умолкнуть, показав в послании апостола Иакова-младшего{693} слова, столь огорчительные для еретиков: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Гурон примолк и исповедался некоему францисканцу. Кончив исповедь, он вытащил францисканца из исповедальни, сел на его место и, мощной рукой поставив монаха перед собой на колени, произнес:
— Ну, друг мой, приступим к делу; сказано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Я открыл тебе свои грехи, и ты не выйдешь отсюда, пока не откроешь мне своих.
Говоря так, он упирался могучим своим коленом в грудь противника. Францисканец поднимает вой, от которого гудит вся церковь. На шум сбегается народ и видит, что новообращенный тузит монаха во имя апостола Иакова-младшего. Радость по поводу предстоящего крещения гуроно-английского нижнебретонца была столь велика, что на эти странности не обратили внимания. Многие богословы даже пришли к мысли, что исповедь не нужна, поскольку крещение совмещает в себе все.
День был назначен по соглашению с епископом Малуанским; епископ, будучи, само собой разумеется, польщен приглашением крестить гурона, прибыл в роскошной карете, сопровождаемый причтом. М-ль де Сент-Ив, благословляя бога, нарядилась в самое лучшее свое платье и, чтобы блеснуть на крестинах, выписала из Сен-Мало парикмахершу. Вопрошающий судья привел с собой всю округу. Церковь была разукрашена великолепно; но когда пошли за гуроном, чтобы вести его к купели, новообращенного нигде не оказалось.
Дядюшка и тетушка искали его повсюду. Думали, что он, по обыкновению, отправился на охоту. Все приглашенные на торжество стали рыскать по окрестным лесам и селениям: гурон не подавал о себе вестей.
Начали опасаться, не уехал ли он назад в Англию, так как все помнили, с какой похвалой он отзывался об этой стране. Г-н приор и его сестра были убеждены, что жители ходят там некрещенные, и с трепетом помышляли о погибели, грозящей душе их племянника. Епископ, крайне смущенный, уже собирался возвращаться восвояси; приор и аббат де Сент-Ив были в отчаянии; судья с обычной важностью спрашивал всех встречных и поперечных; м-ль де Керкабон плакала, м-ль де Сент-Ив не плакала, но испускала глубокие вздохи, которые свидетельствовали, по-видимому, об ее приверженности церковным таинствам. Печально прогуливаясь мимо лозняка и камышей, растущих на берегу речушки Ране, подруги вдруг увидели, что посреди реки стоит, скрестив руки, высокая, довольно белая человеческая фигура. Они громко вскрикнули и отворотились. Но любопытство вскоре взяло верх над всеми прочими соображениями, они тихонько прокрались сквозь камыши и, убедившись, что их не видно, принялись разглядывать, кто это забрался в реку.
Глава четвертая
Простодушный окрещен
Приор и аббат, подбежав к реке, спросили Простодушного, что он там делает.
— Дожидаюсь крещения, черт подери! Битый час стою по горло в воде; с вашей стороны очень нехорошо заставлять меня мерзнуть.
— Дорогой племянничек, — нежно сказал ему приор, — в Нижней Бретани крещение совершается не так; оденьтесь и идемте с нами.
Услышав эту речь, м-ль де Сент-Ив спросила шепотом подругу:
— Как вы думаете, неужели он так сразу и оденется?
Гурон меж тем возразил приору:
— Теперь вам не удастся обморочить меня, как в тот раз; с тех пор я научился многому и совершенно уверен, что другого способа креститься не существует. Евнух царицы Кандакии{694} был окрещен в ручье: попробуйте-ка доказать по книге, которую вы мне подарили, что хоть когда-нибудь это дело делалось иначе. Либо я вовсе откажусь креститься, либо буду креститься в реке.
Сколько ему ни твердили, что обычаи изменились, Простодушный упрямо стоял на своем, как истый бретонец и гурон. Он все толковал про евнуха царицы Кандакии, и хотя тетушка и м-ль де Сент-Ив, наблюдавшие за ним сквозь кусты лозняка, были вправе сказать, что не годится ему равнять себя с вышеупомянутым евнухом, однако же скромность их была так велика, что они не издали ни звука. Сам епископ пытался уговорить его, а это много значит; но и он ничего не добился: гурон заспорил и с епископом.
— Докажите, — сказал он, — по книге, подаренной мне дядюшкой, что хоть один человек был крещен не в реке, и тогда я сделаю все, что вам заблагорассудится.
Пришедшая в полное отчаяние тетушка вдруг припомнила, что, когда ее племянник впервые стал раскланиваться, он отвесил м-ль де Сент-Ив поклон более низкий, чем другим членам общества, и что даже самого г-на епископа он приветствовал с меньшим почтением и сердечностью, чем эту прелестную барышню. Она решилась в этом затруднительном положении обратиться к помощи м-ль де Сент-Ив и умоляла ее употребить свое влияние на гурона, дабы заставить его креститься так, как это принято у бретонцев, ибо ей казалось, что племянник не станет настоящим христианином, если будет упорствовать в своем намерении креститься в проточной воде.
Мадемуазель де Сент-Ив втайне так обрадовалась этому почетному поручению, что даже вся раскраснелась. Она скромно подошла к Простодушному и, благороднейшим образом пожимая ему руку, спросила:
— Неужели вы не сделаете для меня такой малости?
Произнося эти слова, она грациозно и трогательно то вскидывала на него глаза, то потупляла их.
— Ах, все, что вам будет угодно, мадемуазель, все, что прикажете; крещение водой, крещение огнем{695}, крещение кровью, — я не откажу вам ни в чем.
На долю м-ль де Сент-Ив выпала честь с первых двух слов достигнуть того, чего не достигли ни старания приора, ни многократные вопросы судьи, ни даже рассуждения г-на епископа. Она сознавала свою победу, но не сознавала еще всего ее значения.
Таинство было совершено и воспринято со всей возможной благопристойностью, великолепием и приятностью. Дядюшка и тетушка уступили аббату де Сент-Ив и его сестре почетные обязанности восприемников Простодушного от купели. М-ль де Сент-Ив сияла, радуясь, что стала крестной матерью. Она не понимала, на что обрекает ее это высокое звание; она согласилась принять предложенную честь, не ведая, к каким роковым последствиям это поведет.
Так как за всякой церемонией следует званый обед, то по окончании обряда крещения все уселись за стол. Нижнебретонские шутники говорили, что вино не нуждается в крещении. Г-н приор толковал, что вино, по словам Соломона, веселит сердце человеческое{696}. Г-н епископ добавил от себя, что патриарх Иуда привязывал ослика к виноградной лозе и окунал плащ в виноградный сок{697}, чего, к великому сожалению, нельзя сделать в Нижней Бретани, которой бог отказал в винограде. Каждый старался отпустить какую-нибудь шутку по поводу крещения Простодушного и наговорить любезностей крестной матери. Судья, неизменно вопрошающий, спросил гурона, останется ли он верен христианским обетам.
— Как же, по-вашему, могу я изменить обетам, — ответил гурон, — когда я дал их в присутствии мадемуазель де Сент-Ив?
Гурон разгорячился; он много раз пил за здоровье своей крестной матери.
— Если бы вы крестили меня своей рукой, — сказал он, — то, не сомневаюсь, меня обожгла бы холодная вода, которую лили мне на затылок.
Судья нашел, что это чересчур уж поэтично, ибо не знал, как распространен в Канаде аллегорический стиль. Крестная же мать осталась чрезвычайно довольна.
Новокрещенного нарекли Гераклом. Епископ Малуанский все доискивался, что это за святой, о котором он никогда не слыхал. Иезуит, отличавшийся большей ученостью, объяснил, что это был угодник, совершивший двенадцать чудес. Было еще тринадцатое, которое одно стоило остальных двенадцати, однако иезуиту не пристало говорить о нем: оно состояло в превращении пятидесяти девиц в женщин на протяжении одной ночи. Некий находившийся тут же забавник стал усиленно восхвалять это чудо. Все дамы потупились и решили, что Простодушный, судя по внешности, достоин того святого, имя которого получил.
Глава пятая
Простодушный влюблен
Надо признаться, что после этих крестин и этого обеда м-ль де Сент-Ив до страсти захотелось, чтобы г-н епископ сделал ее вместе с г-ном Гераклом Простодушным участницей еще одного прекрасного таинства. Однако же, будучи благовоспитанной и весьма скромной, она даже самой себе не решалась сознаться до конца в своих нежных чувствах. Когда же вырывались у нее взгляд, слово, движение или мысль, она обволакивала их покровом бесконечно милого целомудрия. Она была нежная, живая и благонравная девушка.
Едва только г-н епископ уехал, Простодушный и м-ль де Сент-Ив встретились как бы случайно, вовсе не помышляя о том, что искали этой встречи. Они разговорились, не предвидя заранее, о чем поведут речь. Простодушный начал с того, что любит ее всем сердцем и что прекрасная Абакаба, по которой он с ума сходил у себя на родине, никак не может сравниться с нею. Барышня ответила с обычною своей скромностью, что надобно поскорее переговорить об этом с его дядюшкой, г-ном приором, и с его тетушкой, что она, со своей стороны, шепнет об этом словечко своему дорогому братцу, аббату де Сент-Ив, и что она льстит себя надеждою на общее согласие.
Простодушный отвечает, что не нуждается ни в чьем согласии, что находит крайне нелепым спрашивать у других совета, как ему следует поступить, что раз обе стороны пришли к соглашению, нет надобности привлекать для примирения их интересов третье лицо.
— Я ни у кого не спрашиваюсь, — сказал он, — когда мне хочется завтракать, охотиться или спать; мне хорошо известно, что в делах любви неплохо заручиться согласием той особы, к которой питаешь любовь; но так как влюблен я не в дядюшку и не в тетушку, то не к ним надо обращаться мне по этому делу, и вы тоже, поверьте мне, отлично обойдетесь без господина аббата де Сент-Ив.
Красавица бретонка пустила, разумеется, в ход всю тонкость своего ума, чтобы ввести гурона в границы приличия. Она даже разгневалась, однако вскоре опять смягчилась. Неизвестно, к чему бы привел в конце концов этот разговор, если бы на склоне дня г-н аббат не увел сестру в свое аббатство. Простодушный не препятствовал дядюшке и тетушке улечься спать, так как они были несколько утомлены церемонией и затянувшимся обедом, но сам он часть ночи провел за писанием стихов к возлюбленной на гуронском языке, ибо надобно помнить, что нет на земле такой страны, где любовь не обращала бы влюбленных в поэтов.
На следующий день после завтрака его дядюшка в присутствии м-ль де Керкабон, пребывавшей в полном умилении, повел такую речь:
— Хвала небесам за то, что вам выпала честь, дорогой племянник, стать христианином и бретонцем! Но этого еще недостаточно; годы у меня уже довольно преклонные; после брата остался только маленький клочок земли, который представляет собой ничтожную ценность; зато у меня доходный приорат; если вы, как я надеюсь, пожелаете стать иподьяконом, то я переведу приорат на вас, и вы, утешив мою старость, будете жить затем в полном довольстве.
Простодушный ответил:
— Всяких вам благ, дядюшка! Живите, сколько поживется. Я не знаю, кто такой иподьякон и что значит перевести приорат; но я пойду на все, лишь бы обладать мадемуазель де Сент-Ив.
— Ах, боже мой, что вы такое говорите, племянник? Вы, стало быть, любите до безумия эту красивую барышню?
— Да, дядюшка.
— Увы, племянник, вам нельзя на ней жениться.
— Нет, очень даже можно, дядюшка, потому что она не только пожала мне руку на прощанье, но и обещала, что будет проситься за меня замуж, и я, конечно, на ней женюсь.
— Это невозможно, говорю вам: она — ваша крестная мать; пожимать руку своему крестнику — ужасный грех; вступать в брак с крестной матерью не разрешается; это запрещено и божескими и людскими законами.
— Вы шутите, дядюшка! Чего ради запрещать брак с крестной матерью, если она молода и хороша собой? В книге, которую вы мне подарили, нигде не сказано, что грешно человеку жениться на девушке, которая помогла ему креститься. Я вижу, у вас тут каждый день происходит множество вещей, о которых нет ни слова в вашей книге, и не выполняется ровно ничего из того, что в ней написано; признаюсь, это и удивляет меня и сердит. Если под предлогом крещения меня лишат прекрасной Сент-Ив, то, предупреждаю вас, я увезу ее и раскрещусь.
Приор совсем растерялся; сестра его заплакала.
— Дорогой братец, — проговорила она, — мы не можем допустить, чтобы наш племянник обрек себя на вечную гибель. Святейший папа может дать ему дозволение на этот брак, и тогда он будет по-христиански счастлив с той, кого любит.
Простодушный, заключив тетушку в объятия, спросил:
— Кто же он, этот превосходный человек, который так добр, что помогает юношам и девушкам в устройстве их любовных дел? Я сейчас же схожу и потолкую с ним.
Ему объяснили, кто такой папа; Простодушный удивился пуще прежнего.
— В вашей книге, дорогой дядюшка, про все это нет ни звука; мне довелось путешествовать, я знаю, как неверно море; мы тут находимся на берегу океана, а мне придется покинуть мадемуазель де Сент-Ив и просить разрешения любить ее у человека, который живет вблизи Средиземного моря, за четыреста лье отсюда, и говорит на непонятном мне языке; это до непостижимости нелепо. Сейчас же пойду к аббату де Сент-Ив, который живет всего в одном лье отсюда, и ручаюсь вам, что женюсь на моей возлюбленной сегодня же.
Не успел он договорить, как вошел судья и, верный своему обыкновению, спросил Простодушного, куда он идет.
— Иду жениться, — отвечал тот, убегая.
И через четверть часа он был уже у своей прекрасной и дорогой бретонки, которая еще спала.
— Ах, братец! — сказала м-ль де Керкабон приору. — Не бывать нашему племяннику иподьяконом.
Судья был очень раздосадован намерением Простодушного, так как предполагал женить на м-ль де Сент-Ив своего сына, который был еще глупее и несноснее, чем отец.
Глава шестая
Простодушный спешит к возлюбленной и впадает в неистовство
Прибежав в аббатство, Простодушный спросил у старой служанки, где спальня ее госпожи, распахнул незапертую дверь и кинулся к кровати. М-ль де Сент-Ив, внезапно пробудившись, вскрикнула:
— Как, это вы? Ах, это вы? Остановитесь, что вы делаете?
Он ответил:
— Женюсь на вас.
И женился бы на самом деле, если бы она не стала отбиваться со всей добросовестностью, какая приличествует хорошо воспитанной особе.
Простодушному было не до шуток; ее жеманство представлялось ему крайне невежливым.
— Не так вела себя мадемуазель Абакаба, первая моя возлюбленная. Вы поступаете нечестно: обещали вступить со мной в брак, а теперь не хотите; вы нарушаете основные законы чести; я научу вас держать слово и верну на путь добродетели.
А добродетель у Простодушного была мужественная и неустрашимая, достойная его патрона Геракла, чьим именем он был наречен при крещении. Он готов был уже пустить ее в ход во всем ее объеме, когда на пронзительные вопли барышни, более сдержанной в проявлении добродетели, сбежались благоразумный аббат де Сент-Ив со своей ключницей, его старый набожный слуга и еще некий приходский священник. При виде их отвага нападающего умерилась.
— Ах, боже мой, дорогой сосед, — сказал аббат, — что вы тут делаете?
— Исполняю свой долг, — ответил молодой человек. — Хочу выполнить свои обеты, которые священны.
Раскрасневшаяся Сент-Ив начала приводить себя в порядок. Простодушного увели в другую комнату. Аббат стал ему объяснять всю гнусность его поведения. Простодушный сослался в свое оправдание на преимущества естественного права, известного ему в совершенстве. Аббат стал доказывать, что следует отдать решительное предпочтение праву гражданскому, ибо, не будь между людьми договорных соглашений, естественное право почти всегда обращалось бы в естественный разбой.
— Нужны нотариусы, священники, свидетели, договоры, дозволения, — говорил он.
Простодушный в ответ на это выдвинул соображение, неизменно приводимое дикарями:
— Вы, стало быть, очень бесчестные люди, если вам нужны такие предосторожности.
Нелегко было аббату найти правильное решение этого запутанного вопроса.
— Признаюсь, — вымолвил он, — среди нас немало ветреников и плутов, и столько же было бы их и у гуронов, живи они скопом в большом городе, однако же встречаются и благонравные, честные, просвещенные души, и вот этими-то людьми и установлены законы. Чем лучше человек, тем покорнее должен он им подчиняться. Надо подавать пример порочным, которые уважают узду, наложенную на себя добродетелью.
Этот ответ поразил Простодушного. Уже замечено было ранее, что он обладал способностью судить здраво. Его укротили льстивыми словами, ему подали надежду: таковы две западни, в которые попадаются люди обоих полушарий. К нему привели даже м-ль де Сент-Ив, после того как она оделась. Все обошлось благопристойнейшим образом, но, невзирая на соблюдение всех приличий, сверкающие глаза Простодушного заставляли его возлюбленную потуплять очи и повергали в трепет все общество.
Спровадить его назад, к дядюшке и тетушке, оказалось делом крайне трудным. Пришлось снова пустить в ход влияние прекрасной Сент-Ив. Чем яснее сознавала она свою власть над ним, тем большею проникалась к нему любовью. Она принудила его удалиться и была этим очень огорчена. Наконец, когда он ушел, аббат, который не только приходился братом м-ль де Сент-Ив, но, будучи на много лет старше ее, был также и ее опекуном, решил избавить свою подопечную от усердных ухаживаний исступленного обожателя. Он решил поговорить с судьей, и тот, мечтая женить сына на сестре аббата, посоветовал заточить бедную девушку в обитель. Это был жестокий удар: если бы отдали в монастырь бесчувственную, и та возопила бы, но влюбленную, да еще так нежно, и притом благонравную! — было от чего впасть в отчаяние.
Простодушный, вернувшись к приору, рассказал все с обычным своим чистосердечием. Ему пришлось выслушать все те же увещания; они оказали некоторое действие на его рассудок, но никак не на его чувства. На следующий день, когда он собрался было снова навестить свою прекрасную возлюбленную, чтобы порассуждать с ней о естественном праве и праве гражданском, истекающем из договоров, г-н судья сообщил ему с оскорбительным злорадством, что она в монастыре.
— Ну что ж, — ответил тот, — порассуждаем в монастыре.
— Это невозможно, — сказал судья.
Он пространно объяснил ему, что такое монастырь, и сказал, что французское слово «couvent» или «convent» происходит от латинского «conventus», — то есть «собрание», но гурон не понимал, почему он не может быть допущен на это собрание. Однако, как только его поставили в известность, что означенное собрание является подобием тюрьмы, где молодых девушек держат взаперти, — жестокость, неведомая ни гуронам, ни англичанам, — он рассвирепел так же, как патрон его Геракл, когда Эврит, царь Эхалийский{698}, не менее безжалостный, чем аббат де Сент-Ив, отказался выдать за него свою дочь, прекрасную Иолу, не менее прекрасную, чем сестра аббата. Он заявил, что подожжет монастырь и похитит возлюбленную или сгорит вместе с нею. М-ль де Керкабон, придя в ужас, потеряла всякую надежду на посвящение племянника в иподьяконы и вымолвила со слезами, что с тех пор, как его крестили, в него вселился дьявол.
Глава седьмая
Простодушный отбивает англичан
Простодушный, погруженный в мрачное и глубокое уныние, прогуливался по берегу моря с двуствольным ружьем за плечом, с большим ножом у бедра, постреливал птиц и частенько испытывал желание выстрелить в себя; однако жизнь была ему еще дорога из-за м-ль де Сент-Ив. То он проклинал дядю, тетку, всю Нижнюю Бретань и свое крещение, то благословлял их, ибо только благодаря им познакомился с той, кого любил. Он принимал решение поджечь монастырь и сразу же отступался от него из опасения, что сожжет и возлюбленную. Волны Ла-Манша не бушуют так под напором восточных и западных ветров, как бушевало его сердце под воздействием противоречивых побуждений.
Он шел большими шагами, сам не ведая куда, когда вдруг услышал барабанный бой. Вдалеке видна была целая толпа; какие-то люди бежали к берегу, другие поспешно отступали.
Со всех сторон раздаются многоголосые вопли; любопытство и отвага гонят Простодушного туда, откуда они доносятся. Начальник гарнизона, который ужинал с ним в свое время у приора, узнал его тотчас же и подбежал к нему с распростертыми объятиями:
— Ах, это Простодушный! Он будет сражаться за нас.
Его солдаты, умиравшие со страху, приободрились и тоже
закричали:
— Это Простодушный! Это Простодушный!
— В чем дело, господа? — спросил он. — Чем вы так встревожены? Или ваших возлюбленных отдали в монастырь?
Тогда сотни нестройных голосов закричали:
— Разве вы не видите, что англичане причаливают к берегу?
— Ну так что же? — возразил гурон. — Это хорошие люди; они не отнимали у меня моей возлюбленной.
Начальник объяснил ему, что англичане собираются ограбить Горное аббатство, выпить вино его дядюшки и, может быть, похитить м-ль де Сент-Ив; что у кораблика, на котором Простодушный прибыл в Бретань, была только одна цель — произвести разведку, что они открыли военные действия, не объявив войны французскому королю, и что вся область в опасности.
— А если так, то они нарушают естественное право; предоставьте мне действовать по-своему; я долго жил у них, знаю их язык, и я потолкую с ними; не думаю, чтобы у них были такие злостные намерения.
Пока шел этот разговор, английская эскадра приблизилась; вот гурон бежит к берегу, вскакивает в лодку, подплывает, всходит на адмиральский корабль и спрашивает, верно ли, что они собираются опустошить страну, не объявив по-честному войны. Адмирал и вся команда покатились со смеху, напоили Простодушного пуншем и выпроводили вон.
Простодушный, обидевшись, уже не помышляет ни о чем другом, как только сразиться с прежними друзьями, став на защиту нынешних своих соотечественников и г-на приора; отовсюду сбегаются окрестные дворяне; он присоединяется к ним; у них было несколько пушек; он заряжает их, наводит и стреляет из каждой поочередно. Англичане высаживаются на берег; он бросается на них, убивает троих и даже ранит адмирала, который давеча посмеялся над ним. Доблесть его возбуждает мужество отряда; англичане бегут на свои корабли, и весь берег оглашается победными криками:
— Да здравствует король! Да здравствует Простодушный!
Все обнимали его, все спешили унять кровь, сочившуюся из полученных им легких ран.
— Ах, — говорил он, — если бы мадемуазель де Сент-Ив была здесь, она наложила бы мне повязку.
Судья, который во время боя прятался в погребе, пришел вместе с другими поздравить его. Каково же было его изумление, когда он услышал, что Геракл Простодушный, обращаясь к дюжине окружавших его благонамеренных молодых людей, сказал:
— Друзья мои, выручить из беды Горное аббатство — это ничего не стоит, а вот надо выручить девушку.
Пылкая молодежь мгновенно воспламенилась от таких слов. За Простодушным уже следовала толпа, все уже бежали к монастырю. Если бы судья не дал сразу же знать начальнику гарнизона, если бы за веселым воинством не была направлена погоня, дело было бы сделано. Простодушного водворили назад, к дядюшке и тетушке, которые оросили его слезами нежности.
— Вижу, что не бывать вам ни иподьяконом, ни приором, — сказал дядюшка. — Из вас выйдет офицер, еще более храбрый, чем мой брат-капитан, и, вероятно, такой же голодранец, как он.
А мадемуазель де Керкабон все плакала, обнимая его и приговаривая:
— Убьют его, как братца. Куда было бы лучше, если бы он сделался иподьяконом.
Простодушный подобрал во время боя большой, набитый гинеями кошелек, который обронил, вероятно, адмирал. Он не сомневался, что на эти деньги можно скупить всю Нижнюю Бретань, а главное, превратить м-ль де Сент-Ив в знатную даму. Все убеждали его съездить в Версаль и получить вознаграждение по заслугам. Начальник гарнизона и старшие офицеры снабдили его множеством удостоверений. Дядюшка и тетушка отнеслись к этому путешествию племянника одобрительно. Добиться представления королю не составит труда и, вместе с тем это чудесно прославит его на весь округ. Оба добряка пополнили английский кошелек кругленькой суммой из собственных сбережений. Простодушный размышлял про себя: «Когда увижу короля, я попрошу у него руки м-ль де Сент-Ив, и он, конечно, мне не откажет».
И уехал под приветственные клики всей округи, удушенный объятиями и орошенный слезами тетушки, получив благословение дядюшки и поручив себя молитвам прекрасной Сент-Ив.
Глава восьмая
Простодушный отправляется ко двору. По дороге он ужинает с гугенотами
Простодушный поехал по Сомюрской дороге в почтовой колымаге, потому что в те времена не было более удобных способов передвижения. Прибыв в Сомюр, он удивился, застав город почти опустевшим и увидав несколько отъезжающих семейств. Ему сказали, что шесть лет назад в Сомюре было более пятнадцати тысяч душ, а сейчас в нем нет и шести тысяч{699}. Он не преминул заговорить об этом в гостинице за ужином. За столом было несколько протестантов; одни из них горько сетовали, другие дрожали от гнева, иные говорили со слезами:
… Nos dulcia linquimus arva, Nos patriam fugimus…[26]{700}Простодушный, не зная латыни, попросил растолковать ему эти слова; они означали: «Мы покидаем наши милые поля, мы бежим из отечества».
— Отчего же вы бежите из отечества, господа?
— От нас требуют, чтобы мы признали папу.
— А почему вы его не признаете? Вы, стало быть, не собираетесь жениться на своих крестных матерях? Мне говорили, что он дает разрешения на такие браки.
— Ах, сударь, папа говорит, что он — хозяин королевских владений.
— Позвольте, господа, а у вас-то какой род занятий?
— Большинство из нас сукноторговцы и фабриканты.
— Если ваш папа говорит, что он хозяин ваших сукон и фабрик, то вы правы, не признавая его, но что касается королей, это уж их дело: вам-то зачем в него вмешиваться?
Тогда в разговор вступил некий человечек, одетый во все черное{701}, и очень толково изложил, в чем заключается их неудовольствие. Он так выразительно рассказал об отмене Нантского эдикта и так трогательно оплакал участь пятидесяти тысяч семейств, спасшихся бегством, и других пятидесяти тысяч, обращенных в католичество драгунами, что Простодушный, в свою очередь, пролил слезы…
— Как же это так получилось, — промолвил он, — что столь великий король, чья слава простирается даже до страны гуронов, лишил себя такого множества сердец, которые могли бы его любить, и такого множества рук, которые могли бы служить ему?
— Дело в том, что его обманули, как обманывали и других великих королей, — ответил черный человек. — Его уверили, что стоит ему только сказать слово, как все люди станут его единомышленниками, и он заставит нас переменить веру так же, как его музыкант Люлли в один миг меняет декорации в своих операх. Он не только лишается пятисот — шестисот тысяч полезных ему подданных, но и наживает в них врагов. Король Вильгельм{702}, который правит теперь Англией, составил несколько полков из тех самых французов, которые могли бы сражаться за своего монарха. Это бедствие тем более удивительно, что нынешний папа{703}, ради которого Людовик Четырнадцатый пожертвовал частью своего народа, — его открытый враг. Они до сих пор в ссоре, и она длится девять лет. Эта ссора зашла так далеко, что Франция уже надеялась сбросить наконец ярмо, подчиняющее ее столько веков иноземцу, а главное, не платить ему больше денег, которые являются самым важным двигателем в делах мира сего. Итак, очевидно, что великому королю внушили ложное представление о его выгодах, равно как и о пределах его власти, и нанесли ущерб великодушию его сердца.
Простодушный, растроганный, спросил, кто же эти французы, смеющие обманывать подобным образом столь любезного гуронам монарха.
— Это — иезуиты, — сказали ему в ответ, — и в особенности отец де Ла Шез{704}, духовник его величества. Надо надеяться, что бог накажет их когда-нибудь и что они будут гонимы так же, как сейчас гонят нас. Какое горе сравнится с нашим? Господин де Лувуа насылает на нас со всех сторон иезуитов и драгунов{705}.
— О, господи! — воскликнул Простодушный, будучи уже не в силах сдерживать себя. — Я еду в Версаль, чтобы получить награду, которая следует мне за мои подвиги; я потолкую с господином Лувуа, мне говорили, что в королевском министерстве он ведает военными делами. Я увижу короля и открою ему истину, а познав истину, нельзя ей не последовать. Я скоро вернусь назад и вступлю в брак с мадемуазель де Сент-Ив; прошу вас пожаловать на свадьбу.
Его приняли за вельможу, путешествующего инкогнито в почтовой колымаге, а иные — за королевского шута.
За столом сидел переодетый иезуит, состоявший сыщиком при преподобном отце де Ла Шез. Он осведомлял его обо всем, а отец де Ла Шез передавал эти сообщения г-ну де Лувуа. Сыщик настрочил письмо. Простодушный прибыл в Версаль почти одновременно с этим письмом.
Глава девятая
Прибытие Простодушного в Версаль. Прием его при дворе
Простодушный въезжает в «горшке»[27] на задний двор. Он спрашивает у носильщиков королевского паланкина, в котором часу можно повидаться с королем. Те в ответ только нагло смеются — совсем как английский адмирал. Простодушный обошелся с ними точно так же, как с адмиралом, то есть отколотил их. Они не захотели остаться в долгу, и дело, вероятно, дошло бы до кровопролития, если бы проходивший мимо лейб-гвардеец, бретонец родом, не разогнал челядь.
— Сударь, — сказал ему путешественник, — вы, сдается мне, порядочный человек. Я — племянник господина приора храма Горной богоматери; я убил несколько англичан, и мне нужно поговорить с королем. Проведите меня, пожалуйста, в его покои.
Гвардеец, обрадовавшись встрече с земляком, не сведущим, по-видимому, в придворных порядках, сообщил ему, что так с королем не поговоришь, а надо, чтобы он был представлен его величеству монсеньером де Лувуа.
— Так проведите меня к монсеньеру де Лувуа, который, без сомнения, представит меня королю.
— Разговора с монсеньером де Лувуа еще труднее добиться, чем разговора с его величеством, — ответил гвардеец. — Но я провожу вас к господину Александру, начальнику военной канцелярии; это то же самое, что поговорить с самим министром.
Они идут к этому господину Александру, начальнику канцелярии, но попасть к нему не могут: он занят важным разговором с некой придворной дамой, и к нему никого не пускают.
— Ну что ж, — говорит гвардеец, — беда не велика; пойдем к старшему письмоводителю господина Александра: это все равно что поговорить с ним самим.
Крайне изумленный гурон следует за своим вожатым; они полчаса сидят в тесной приемной.
— Что же это такое? — недоумевал Простодушный. — Неужели в здешних местах все люди невидимки? Куда легче сражаться в Нижней Бретани с англичанами, чем увидеть в Версале тех, к кому имеешь дело.
Он развеял скуку, рассказав гвардейцу историю своей любви. Однако бой часов напомнил тому, что пора возвращаться к исполнению служебных обязанностей. Они уговорились завтра повидаться снова, а пока что Простодушный просидел в приемной еще полчаса, размышляя о м-ль де Сент-Ив и о том, как трудно добиться разговора с королями и старшими письмоводителями.
Наконец этот важный начальник появился.
— Сударь, — сказал Простодушный, — если бы, намереваясь отбить англичан, я стал зря терять столько времени, сколько потерял его сейчас, ожидая, чтобы вы меня приняли, англичане спокойнейшим образом успели бы разорить Нижнюю Бретань.
Чиновник был совершенно ошеломлен такой речью.
— Чего вы домогаетесь? — спросил он наконец.
— Награды, — ответил тот. — Вот мои бумаги. — И он протянул все свои удостоверения.
Чиновник прочитал их и сказал, что, возможно, подателю разрешат купить чин лейтенанта.
— Купить? Чтобы я еще платил деньги за то, что отбил англичан? Чтобы покупал право быть убитым в сражении за вас, пока вы тут спокойненько принимаете посетителей? Вам, видимо, угодно посмеяться надо мной! Я желаю получить командование кавалерийской ротой безвозмездно; желаю, чтобы король выпустил мадемуазель де Сент-Ив из монастыря и выдал бы ее замуж за меня; желаю поговорить с королем об оказании милости пятидесяти тысячам семейств, которые я намерен вернуть ему. Одним словом, я желаю быть полезным; пусть меня приставят к делу и произведут в чин.
— Кто вы такой, сударь, что осмеливаетесь говорить так громко?
— Ах так! — воскликнул Простодушный. — Выходит, вы не прочли моих удостоверений? Таков, значит, ваш обычай? Мое имя — Геракл де Керкабон; я крещеный, стою в гостинице «Синие часы» и обязательно пожалуюсь на вас королю.
Письмоводитель, подобно сомюрцам, решил, что Простодушный не в своем уме, и не придал его словам особого значения.
В тот же день преподобный отец де Ла Шез, духовник Людовика XIV, получил письмо от своего шпиона; тот обвинял бретонца Керкабона в тайном сочувствии гугенотам и в порицании иезуитов. Г-н де Лувуа, со своей стороны, получил письмо от вопрошающего судьи, который изображал Простодушного как повесу, намеревающегося жечь монастыри и похищать невинных девушек.
Простодушный, погуляв по версальским садам, которые нагнали на него скуку, поужинав по-гуронски и по-нижнебретонски, улегся спать, питая сладостную надежду, что завтра увидит короля, испросит его согласия на брак с м-ль де Сент-Ив, получит по меньшей мере роту кавалерии и добьется прекращения гонений на гугенотов. Он убаюкивал себя этими радужными мечтами, когда в комнату вошли стражники. Они первым делом отобрали у него двуствольное ружье и огромную саблю.
Составив опись наличных денег Простодушного, его отвезли в замок, построенный королем Карлом{706}, сыном Иоанна, близ улицы св. Антония, у Башенных ворот.
Как был потрясен Простодушный во время этого путешествия, вообразите сами. Сперва ему казалось, что это сон; он был в оцепенении, но потом вдруг схватил за горло двух своих провожатых, сидевших с ним в карете, выбросил их вон, сам бросился вслед за ними и увлек за собой третьего, который пытался его удержать. Он упал от изнеможения, тогда его связали и опять усадили в карету.
— Так вот какова награда за изгнание англичан из Нижней Бретани! — воскликнул он. — Что сказала бы ты, прекрасная Сент-Ив, если бы увидела меня в этом положении!
Подъезжают наконец к предназначенному ему жилью и молча, как покойника на кладбище, вносят в камеру, где ему предстоит отбывать заключение. Там уже два года томился некий старый отшельник из Пор-Рояля{707} по имени Гордон.
— Вот, привел вам товарища, — сказал ему начальник стражи.
И тотчас же задвинулись огромные засовы на массивной двери, окованной железом. Узники были отлучены от всего мира.
Глава десятая
Простодушный заключен в Бастилию с янсенистом
Гордон был ясный духом и крепкий телом старик, обладавший двумя великими талантами: стойко переносить превратности судьбы и утешать несчастных. Он подошел к Простодушному, обнял его и сказал с искренним сочувствием:
— Кто бы ни были вы, пришедший разделить со мной эту могилу, будьте уверены, что я в любую минуту готов забыть о себе ради того, чтобы облегчить ваши страдания в той адской бездне, куда мы погружены. Преклонимся перед провидением, которое привело нас сюда, будем смиренно терпеть ниспосланные нам горести и надеяться на лучшее.
Эти слова подействовали на душу гурона, как английские капли{708}, которые возвращают умирающего к жизни и заставляют его удивленно открывать глаза.
После первых приветствий Гордон, отнюдь не пытаясь выведать у Простодушного, что послужило причиной его несчастья, мягкостью своего обращения и тем участием, которым проникаются друг к другу страдальцы, внушил тому желание облегчить душу и сбросить гнетущее ее бремя; но так как гурон сам не понимал, из-за чего с ним случилась эта беда, то считал ее следствием без причины. Он мог только дивиться, и вместе с ним дивился добряк Гордон.
— Должно быть, — сказал янсенист гурону, — бог предназначает вас для каких-то великих дел, раз он привел вас с берегов озера Онтарио в Англию и Францию, дозволил принять крещение в Нижней Бретани, а потом, ради вашего спасения, заточил сюда.
— По совести говоря, — ответил Простодушный, — мне кажется, что судьбой моей распоряжался не бог, а дьявол. Мои американские соотечественники ни за что не допустили бы такого варварского обращения, какое я сейчас терплю: им бы это просто в голову не пришло. Их называют дикарями, а они хотя и грубы, но добродетельны, тогда как жители этой страны хотя и утонченны, но отъявленные мошенники. Разумеется, я не могу не изумляться тому, что приехал из Нового Света в Старый только для того, чтобы очутиться в камере за четырьмя засовами в обществе священника; но тут же я вспоминаю великое множество людей, покинувших одно полушарие и убитых в другом или потерпевших кораблекрушение в пути и съеденных рыбами. Что-то я не вижу во всем этом благих предначертаний божьих.
Им подали через окошечко обед. Разговор от провидения перешел на приказы об арестах и на умение не падать духом в несчастье, которое может постичь в этом мире любого смертного.
— Вот уже два года, как я здесь, — сказал старик, — и утешение нахожу только в самом себе и в книгах; однако я ни разу не впадал в уныние.
— Ах, господин Гордон! — воскликнул Простодушный. — Вы, стало быть, не влюблены в свою крестную мать! Будь вы, подобно мне, знакомы с мадемуазель де Сент-Ив, вы тоже пришли бы в отчаянье.
При этих словах он невольно залился слезами, после чего почувствовал, что уже не так подавлен, как прежде.
— Отчего слезы приносят облегчение? — спросил он. — По-моему, они должны были бы производить обратное действие.
— Сын мой, все в нас — проявление физического начала, — ответил почтенный старик. — Всякое выделение жидкости полезно нашему телу, а что приносит облегчение телу, то облегчает и душу: мы просто-напросто машины, которыми управляет провидение.
Простодушный, обладавший, как мы говорили уже много раз, большим запасом здравого смысла, глубоко задумался над этой мыслью, зародыш которой существовал в нем, кажется, и ранее. Немного погодя он спросил своего товарища, почему его машина вот уже два года находится под четырьмя засовами.
— Такова искупительная благодать, — ответил Гордон. — Я слыву янсенистом, знаком с Арно и Николем{709}; иезуиты подвергли нас преследованиям. Мы считаем папу обыкновенным епископом, и на этом основании отец де Ла Шез получил от короля, своего духовного сына, распоряжение отнять у меня величайшее из людских благ — свободу.
— Как все это странно! — сказал Простодушный. — Во всех несчастьях, о которых мне пришлось слышать, всегда виноват папа. Что касается вашей искупительной благодати, то, признаться, я ничего в ней не смыслю, но зато величайшей благодатью считаю то, что в моей беде бог послал мне вас, человека, который смог утешить мое, казалось бы, безутешное сердце.
С каждым днем их беседы становились все занимательнее и поучительнее, а души все более и более сближались. У старца были немалые познания, а у молодого — немалая охота к их приобретению. Геометрию он изучил за один месяц, — он прямо-таки пожирал ее. Гордон дал ему прочитать «Физику» Рого{710}, которая в то время была еще в ходу, и Простодушный оказался таким сообразительным, что усмотрел в ней одни неясности.
Затем он прочитал первый том «Поисков истины»{711}. Все предстало перед ним в новом свете.
— Как! — говорил он. — Воображение и чувство до такой степени обманчивы! Как! Внешние предметы не являются источником наших представлений! Более того — мы даже не можем по своей воле составить себе их!
Прочитав второй том, он уже не был так доволен и решил, что легче разрушать, чем строить.
Его товарищ, удивленный тем, что молодой невежда высказал мысль, доступную лишь искушенным умам, возымел самое высокое мнение о его рассудке и привязался к нему еще сильнее.
— Ваш Мальбранш, — сказал однажды Простодушный, — одну половину своей книги написал по внушению разума, а другую — по внушению воображения и предрассудков.
Несколько дней спустя Гордон спросил его:
— Что же думаете вы о душе, о том, как складываются у нас представления, о нашей воле, о благодати и о свободе выбора?
— Ничего не думаю, — ответил Простодушный. — Если и были у меня какие-нибудь мысли, так только о том, что все мы, подобно небесным светилам и стихиям, подвластны Вечному Существу, что наши помыслы исходят от него, что мы — лишь мелкие колесики огромного механизма, душа которого — это Существо, что воля его проявляется не в частных намерениях, а в общих законах. Только это кажется мне понятным, остальное — темная бездна.
— Но, сын мой, по-вашему выходит, что и грех — от бога.
— Но, отец мой, по вашему учению об искупительной благодати выходит то же самое, ибо все, кому отказано в ней, не могут не грешить; а разве тот, кто отдает нас во власть злу, не есть исток зла?
Его наивность сильно смущала доброго старика; тщетно пытаясь выбраться из трясины, он нагромождал столько слов, казалось бы, осмысленных, а на самом деле лишенных смысла (вроде физической премоции{712}), что Простодушный даже проникся жалостью к нему. Так как все, очевидно, сводилось к происхождению добра и зла, то бедному Гордону пришлось пустить в ход и ларчик Пандоры{713}, и яйцо Оромазда, продавленное Ариманом{714}, и нелады Тифона с Озирисом{715}, и, наконец, первородный грех; оба друга блуждали в этом непроглядном мраке и так и не смогли сойтись. Тем не менее эта повесть о похождениях души отвлекла их взоры от лицезрения собственных несчастий, и мысль о множестве бедствий, излитых на вселенную, по какой-то непонятной причине умалила их скорбь: раз кругом все страждет, они уже не смели жаловаться на собственные страдания.
Но в ночной тишине образ прекрасной Сент-Ив изгонял из сознания ее возлюбленного все метафизические и нравственные идеи. Он просыпался в слезах, и старый янсенист, забыв об искупительной благодати, и о сен-сиранском аббате{716}, и Янсениусе, утешал молодого человека, находившегося, по его мнению, в состоянии смертного греха.
После чтения, после отвлеченных рассуждений они начинали вспоминать все, что с ними случилось, а после этих бесцельных разговоров снова принимались за чтение, совместное или раздельное. Ум молодого человека все более развивался. Он особенно преуспел бы в математике, если бы его все время не отвлекал от занятий образ м-ль де Сент-Ив.
Он начал читать исторические книги, и они опечалили его. Мир представлялся ему слишком уж ничтожным и злым. В самом деле, история — это не что иное, как картина преступлений и несчастий. Толпа людей, невинных и кротких, неизменно теряется в безвестности на обширной сцене. Действующими лицами оказываются лишь порочные честолюбцы. История, по-видимому, только тогда и нравится, когда представляет собой трагедию, которая становится томительной, если ее не оживляют страсти, злодейства и великие невзгоды. Клио надо вооружать кинжалом, как Мельпомену{717}.
Хотя история Франции, подобно истории всех прочих стран, полна ужасов, тем не менее она показалась ему такой отвратительной вначале, такой сухой в середине, напоследок же, даже во времена Генриха IV, такой мелкой и скудной по части великих свершений, такой чуждой тем прекрасным открытиям, какими прославили себя другие народы, что Простодушному приходилось перебарывать скуку, одолевая подробное повествование о мрачных событиях, происходивших в одном из закоулков нашего мира.
Тех же взглядов держался и Гордон: обоих разбирал презрительный смех, когда речь шла о государях фезансакских, фезансагетских и астаракских{718}. Да и впрямь, такое исследование пришлось бы по душе разве что потомкам этих государей, если бы таковые нашлись. Прекрасные века Римской республики сделали гурона на время равнодушным к прочим странам земли. Победоносный Рим, законодатель народов, — это зрелище поглотило всю его душу. Он воспламенялся, любуясь народом, которым в течение целых семи столетий владела восторженная страсть к свободе и славе.
Так проходили дни, недели, месяцы, и он почитал бы себя счастливым в этом приюте отчаянья, если бы не любил.
По своей природной доброте он горевал, вспоминая о приоре храма Горной богоматери и о чувствительной м-ль де Керкабон.
«Что подумают они, — часто размышлял он, — не получая от меня известий? Разумеется, сочтут меня неблагодарным!»
Эта мысль тревожила Простодушного: тех, кто его любил, он жалел гораздо больше, чем самого себя.
Глава одиннадцатая
Как Простодушный развивает свои дарования
Чтение возвышает душу, а просвещенный друг доставляет ей утешение. Наш узник пользовался обоими этими благами, о существовании которых раньше и не подозревал.
— Я склонен уверовать в метаморфозы, — говорил он, — ибо из животного превратился в человека.
На те деньги, которыми ему позволили располагать, он составил себе отборную библиотеку. Гордон побуждал его записывать свои мысли. Вот что написал Простодушный о древней истории:
«Мне кажется, что народы долгое время были такими, как я, что лишь очень поздно они достигли образованности, что в продолжение многих веков их занимал только текущей день, прошедшее же очень мало, а будущее было совсем безразлично. Я обошел всю Канаду, углублялся в эту страну на пятьсот — шестьсот лье и не набрел ни на один памятник прошлого; никто не знает, что делал его прадед. Не таково ли естественное состояние человека? Порода, населяющая этот материк, более развита, на мой взгляд, чем та, которая населяет Новый Свет. Уже в течение нескольких столетий расширяет она пределы своего бытия с помощью искусств и наук. Не оттого ли это, что подбородки у европейцев обросли волосами, тогда как американцам бог не дал бороды? Думаю, что не оттого, так как вижу, что китайцы, будучи почти безбородыми, упражняются в искусствах уже более пяти тысяч лет. В самом деле, если их летописи насчитывают не менее четырех тысячелетий, стало быть, этот народ около пятидесяти веков назад уже был един и процветал.
В древней истории Китая особенно поражает меня то обстоятельство, что почти все в ней правдоподобно и естественно, что в ней нет ничего чудесного.
Почему же все прочие народы приписывают себе сказочное происхождение? Древние французские летописцы, не такие уж, впрочем, древние, производят французов от некоего Франка, сына Гектора; римляне утверждают, что происходят от какого-то фригийца{719}, невзирая на то, что в их языке нет ни единого слова, которое имело бы хоть какое-нибудь отношение к фригийскому наречию; в Египте десять тысяч лет обитали боги, а в Скифии — бесы, породившие гуннов. До Фукидида{720} я не нахожу ничего, кроме романов, которые напоминают «Амадисов»{721}, только гораздо менее увлекательны. Всюду привидения, прорицания, чудеса, волхования, превращения, истолкованные сны, которые решают участь как величайших империй, так и мельчайших племен: тут говорящие звери, там звери обожествленные, боги, преображенные в людей, и люди, преображенные в богов. Если уж нам так нужны басни, пусть они будут, по крайней мере, символами истины! Я люблю басни философские, смеюсь над ребяческими и ненавижу придуманные обманщиками».
Однажды ему попалась в руки история императора Юстиниана{722}. Там было сказано, что константинопольские апедевты{723} издали на очень дурном греческом языке эдикт, направленный против величайшего полководца того века{724}, ссылаясь на то, что герой этот произнес как-то в пылу разговора такие слова: «Истина сияет собственным светом, и не подобает просвещать умы пламенем костров». Апедевты утверждали, что это положение еретическое, отдающее ересью, и что единственно правоверной, всеобъемлющей и греческой является обратная аксиома: «Только пламенем костров просвещаются умы, ибо истина не способна сиять собственным светом». Подобным же образом осудили линостолы{725} и другие речи полководца и издали эдикт.
— Как! — воскликнул Простодушный. — И такие-то вот люди издают эдикты?
— Это не эдикты, — возразил Гордон, — это контрэдикты, над которыми в Константинополе издевались все, и в первую голову император; это был мудрый государь, который сумел поставить апедевтов-линостолов в такое положение, что они имели право творить только добро. Он знал, что эти господа и еще кое-кто из пастофоров{726} истощали терпение предшествовавших императоров контрэдиктами по более важным вопросам.
— Он правильно сделал, — сказал Простодушный. — Надо, поддерживая пастофоров, сдерживать их.
Он записал еще много других своих мыслей, и они привели в ужас старого Гордона.
«Как! — думал он, — я потратил пятьдесят лет на свое образование, но боюсь, что этот полудикий мальчик далеко превосходит меня своим прирожденным здравым смыслом. Страшно подумать, но, кажется, я укреплял только предрассудки, а он внемлет одному лишь голосу природы».
У Гордона были кое-какие критические сочинения, периодические брошюры, в которых люди, неспособные произвести что-либо свое, поносят чужие произведения, в которых всякие Визе хулят Расинов{727}, а Фэйди — Фенелонов{728}. Простодушный бегло прочитал их.
— Они подобны тем мошкам, — сказал он, — что откладывают яйца в заднем проходе самых резвых скакунов; однако кони не становятся от этого менее резвы.
Оба философа удостоили лишь мимолетным взглядом эти литературные испражнения.
Вслед за тем они вместе прочитали начальный учебник астрономии. Простодушный вычертил небесные полушария; его восхищало это величавое зрелище.
— Как печально, — говорил он, — что я приступил к изучению неба как раз в то время, когда у меня отняли право глядеть на него! Юпитер и Сатурн катятся по необозримым просторам, миллионы солнц озаряют миллионы миров, а в том уголке земли, куда я заброшен, есть существа, лишающие меня, зрячее и мыслящее существо, и всех этих миров, которые я мог бы охватить взором, и даже того мира, где, по промыслу божию, я родился! Свет, созданный на потребу всей вселенной, мне не светит. Его не таили от меня под северным небосклоном, где я провел детство и юность. Не будь здесь вас, мой дорогой Гордон, я впал бы в ничтожество.
Глава двенадцатая
Что думает Простодушный о театральных пьесах
Юноша Простодушный был похож на одно из тех выросших на бесплодной земле могучих деревьев, чьи корни и ветви быстро развиваются, стоит их пересадить на благоприятную почву. Как ни удивительно, такой почвой для него оказалась тюрьма.
Среди книг, заполнявших досуг обоих узников, нашлись стихи, переводы греческих трагедий и кое-какие французские театральные пьесы. Стихи, где речь шла о любви, и радовали и печалили Простодушного. Все они говорили ему о его бесценной Сент-Ив! Басня о двух голубях{729} пронзила ему сердце: он-то был лишен возможности вернуться в свою голубятню!
Мольер привел его в восторг: с его помощью гурон познакомился с нравами парижан и, одновременно, всего рода человеческого.
— Какая из его комедий нравится вам всего более?
— «Тартюф», без сомнения.
— Мне тоже, — сказал Гордон. — В эту темницу вверг меня Тартюф, и возможно, что виновниками вашего несчастья тоже были Тартюфы, А какого вы мнения о греческих трагедиях?
— Для греков они хороши, — ответил Простодушный.
Но когда он прочитал новую «Ифигению»{730}, «Федру», «Андромаху», «Гофолию», он пришел в полное восхищение, вздыхал, лил слезы и, не заучивая, запомнил их наизусть.
— Прочтите «Родогуну», — сказал Гордон. — Говорят, это верх театрального совершенства; другие пьесы, доставившие вам столько удовольствия, не идут с ней в сравнение.
После первой же страницы молодой человек вскричал:
— Это не того автора!
— Почему вы так думаете?
— Не знаю, но эти стихи ничего не говорят ни уму, ни сердцу.
— Ну, это из-за их качества.
— Зачем же писать стихи такого качества? — возразил Простодушный.
Прочитав внимательнейшим образом всю пьесу ради того лишь, чтобы насладиться ею, Простодушный удивленно уставился на своего друга сухими глазами и не знал, что сказать. Но так как тот требовал, чтобы гурон дал отчет в своих чувствах, он сказал:
— Начала я не понял; середина меня возмутила; последняя сцена очень взволновала, хотя и показалась малоправдоподобной; никто из действующих лиц не возбудил во мне сочувствия; я не запомнил и двадцати стихов, хотя запоминаю все до единого, когда они мне по душе.
— А между тем считается, что это лучшая наша пьеса.
— В таком случае, — ответил Простодушный, — она подобна людям, недостойным мест, которые они занимают. В конце концов, это дело вкуса; мой вкус, должно быть, еще не сложился; я могу и ошибиться; но вы же знаете, я привык говорить все, что думаю, или, скорее, что чувствую. Подозреваю, что людские суждения часто зависят от обманчивых представлений, от моды, от прихоти. Я высказался сообразно своей природе; она, может быть, весьма несовершенна, но может быть и так, что большинство людей недостаточно прислушивается к голосу своей природы.
После этого он произнес несколько стихов из «Ифигении», которых знал множество, и хотя декламировал он неважно, однако вложил в свое чтение столько искренности и задушевности, что вызвал у старого янсениста слезы. Затем Простодушный прочитал «Цинну»; тут он не плакал, но восхищался.
Глава тринадцатая
Прекрасная Сент-Ив едет в Версаль
Пока каш незадачливый гурон скорее просвещается, чем утешается, пока его способности, долго находившиеся в пренебрежении, развиваются так быстро и бурно, пока природа его, совершенствуясь, вознаграждает за обиды, нанесенные ему судьбой, посмотрим, что тем временем происходит с г-ном приором, с его доброй сестрой и с прекрасной затворницей Сент-Ив. Первый месяц прошел в беспокойстве, а на третий месяц они погрузились в скорбь; их пугали ложные догадки и неосновательные слухи; на исходе шестого месяца все сочли, что гурон умер. Наконец г-н де Керкабон и его сестра узнали из письма, давным-давно отправленного бретонским лейб-гвардейцем, что какой-то молодой человек, похожий по описанию на Простодушного, прибыл однажды вечером в Версаль, но что в ту же ночь его куда-то увезли, и что с тех пор никто ничего о нем не слыхал.
— Увы, — сказала м-ль де Керкабон, — наш племянник сделал, вероятно, какую-нибудь глупость и попал в беду. Он молод, он из Нижней Бретани, откуда же ему знать, как себя вести при дворе? Дорогой братец, я не бывала ни в Версале, ни в Париже; вот отличный случай их посмотреть. Мы разыщем, быть может, нашего бедного племянника, — он сын нашего брата, наш долг помочь ему. Как знать, возможно, когда умерится в нем юношеский пыл, нам в конце концов все же удастся сделать его иподьяконом. У него были большие способности к наукам. Помните, как он рассуждал о Ветхом и Новом завете? Мы отвечаем за его душу — ведь это мы уговорили его креститься. К тому же его милая возлюбленная Сент-Ив целыми днями плачет о нем. Нет, в Париж съездить необходимо. Если он застрял в одном из тех мерзких веселых домов, о которых я столько наслышалась, мы вызволим его оттуда.
Приора тронули речи сестры. Он отправился в Сен-Мало к епископу, который крестил гурона, и попросил у него покровительства и совета. Прелат одобрил мысль о поездке. Он снабдил приора рекомендательными письмами к отцу де Ла Шез, королевскому духовнику и высшему сановнику в королевстве, к парижскому архиепископу Арле{731} и к Боссюэ{732}, епископу города Mo.
Наконец брат и сестра пустились в путь. Однако, приехав в Париж, они потерялись в нем, словно в обширном лабиринте люди, не имеющие путеводной нити. Средства у них были скромные, между тем для розысков им каждый день требовалась карета, а розыски ни к чему не приводили.
Приор отправился к преподобному отцу де Ла Шез, но у того сидела м-ль дю Трон{733}, и ему было не до приоров. Он толкнулся к архиепископу; прелат заперся с прекрасной г-жой де Ледигьер и занимался с ней церковными делами. Он помчался в загородный дом епископа города Mo, но тот в обществе м-ль де Молеон{734} подвергал разбору «Мистическую любовь» г-жи де Гюйон{735}. Ему удалось все же добиться, чтобы эти прелаты выслушали его; оба заявили, что не могут заняться судьбой его племянника, так как он не иподьякон.
Напоследок он повидался с иезуитом; отец де Ла Шез принял его с распростертыми объятиями, уверяя, что всегда питал к нему особое уважение, хотя и не был с ним знаком. Он поклялся, что общество Иисуса всегда было благорасположено к нижнебретонцам.
— Но, быть может, — спросил он, — ваш племянник имеет несчастье быть гугенотом?
— Что вы, преподобный отец, разумеется, нет.
— А он случайно не янсенист?
— Смею заверить вас, ваше преподобие, что и христианин-то он совсем новорожденный: мы крестили его всего одиннадцать месяцев назад.
— Вот и хорошо, вот и хорошо, мы о нем позаботимся. А богат ли ваш приход?
— О нет, совсем бедный, а племянник обходится нам недешево.
— Нет ли у вас по соседству янсенистов? Будьте очень осторожны, господин приор: они опаснее гугенотов и атеистов.
— Их у нас нет, преподобный отец: в приходе Горной богоматери не знают, что такое янсенисты.
— Тем лучше. Поверьте, нет такой вещи, которой я не сделал бы для вас.
Он любезно проводил приора до дверей и мигом забыл о нем.
Время шло; приор и его сестра совсем уже отчаялись.
Между тем гнусный судья торопил свадьбу своего олуха-сына с прекрасной Сент-Ив, которую ради этого выпустили из монастыря. Она по-прежнему любила своего крестника так же сильно, как ненавидела навязанного ей жениха. От обиды на то, что ее заточили в монастырь, страсть только возросла; приказание выйти замуж за сына судьи довершило дело. Сожаление, нежность и страх волновали ей душу. Девичья любовь, как известно, куда изобретательнее, чем привязанность какого-нибудь старого приора или тетушки, которой перевалило за сорок. К тому же молодая девушка очень развилась за время пребывания в монастыре благодаря романам, которые украдкой там прочла.
Она не забыла про письмо, отправленное в свое время лейб-гвардейцем в Нижнюю Бретань и вызвавшее там толки, и решила, что сама разведает дело в Версале, бросится к ногам министра, если верны слухи, что ее возлюбленный в тюрьме, и добьется его оправдания. Какое-то тайное чувство подсказывало ей, что при дворе красивой девушке не откажут ни в чем; но она не знала, во что ей это обойдется.
Приняв решение, она утешилась; она спокойна, не отталкивает больше болвана-жениха, приветливо встречает отвратительного свекра, ласкается к брату, наполняет дом весельем; потом, в тот самый день, когда должна была состояться брачная церемония, уезжает тайком в четыре часа утра, захватив с собой мелкие свадебные подарки и все, что удалось собрать. Все было так хорошо рассчитано, что, когда около полудня зашли к ней в комнату, она была уже за десять лье от дома. Велико было общее изумление и замешательство. Пытливый судья задал за этот день не меньше вопросов, чем обычно задавал за целую неделю, нареченный же супруг превратился еще в большего дурака, чем был раньше. Аббат де Сент-Ив решил в сердцах пуститься в погоню за сестрой. Судья с сыном взялись его сопровождать. Таким образом, почти целый округ Нижней Бретани оказался волею судьбы в Париже.
Прекрасная Сент-Ив понимала, что за ней погонятся. Она ехала верхом и хитро выспрашивала обгонявших ее королевских гонцов, не видели ли они на Парижской дороге толстого аббата, огромного судью и молодого олуха. Узнав на третий день, что они уже нагоняют ее, она свернула на другую дорогу и была столь ловка и удачлива, что добралась до Версаля, в то время как ее тщетно разыскивали в Париже.
Но как вести себя в Версале? Как ей, молодой, красивой, лишенной советчика, лишенной поддержки, ни с кем не знакомой, беззащитной перед опасностями, решиться на поиски лейб-гвардейца? Она надумала обратиться к одному иезуиту низшего ранга: там водились иезуиты всякого рода, пригодные для людей любых сословий. Подобно тому как бог, говорили они, даровал разным породам животных различную пищу, так даровал он и королю особого духовника, которого все искатели духовных должностей величали «главой галликанской церкви»; далее следовали духовники принцесс; у министров не было духовных отцов: не так они были просты, чтобы обзаводиться ими. Были иезуиты, приставленные к придворным служителям, и особые иезуиты при горничных, через которых выведывались тайны их хозяек; эта должность считалась очень важной. Прекрасная Сент-Ив обратилась к одному из этих последних; имя его было Тут-и-там. Она исповедалась у него, открыла ему свои похождения, свое звание, свои страхи и заклинала его поселить ее у какой-нибудь набожной особы, которая оградила бы ее от всех соблазнов.
Отец Тут-и-там направил ее к жене одного из придворных виночерпиев, своей вернейшей духовной дочери. Оказавшись у нее в доме, м-ль де Сент-Ив поспешила завоевать доверие и дружбу этой женщины, навела у нее справки о бретонском лейб-гвардейце и пригласила его к себе. Узнав от него, что ее возлюбленный был увезен после разговора со старшим письмоводителем, она бежит к этому чиновнику. При виде красивой женщины тот смягчается, ибо нельзя же спорить с тем, что бог только на то и создал женщин, чтобы укрощать мужчин.
Письмоводитель, разнежась, признался ей во всем:
— Ваш возлюбленный уже около года в Бастилии и, не будь вас, просидел бы там, быть может, всю жизнь.
Нежная Сент-Ив упала в обморок. Когда она пришла в себя, письмоводитель сказал ей:
— Я неправомочен творить добро; вся моя власть сводится к тому, что время от времени я могу делать зло. Послушайтесь меня, сейчас же идите к родственнику и любимцу монсеньера де Лувуа, господину де Сен-Пуанж{736}, который творит и добро и зло. У нашего министра две души: одна из них — господин де Сен-Пуанж, другая — госпожа де Дюбеллуа, но ее нет сейчас в Версале. Выход у вас один: умилостивить названного мной покровителя.
Прекрасная Сент-Ив, в чьей душе толика радости боролась с глубокой скорбью и слабая надежда — с горестными опасениями, преследуемая братом, обожающая возлюбленного, утирая слезы и проливая их вновь, дрожа, слабея и снова набираясь мужества, устремилась к г-ну де Сен-Пуанж.
Глава четырнадцатая
Простодушный развивает свой ум
Простодушный быстро преуспевал в науках, особенно в науке о человеке. Быстрое развитие его умственных способностей было вызвано отчасти его душевными свойствами, отчасти же — дикарским воспитанием, ибо, ничему не научившись в детстве, он не имел и предрассудков. Его разум, не искривленный заблуждениями, сохранил всю свою природную прямоту. Он видел вещи такими, каковы они есть, меж тем как мы под воздействием представлений, сообщенных нам в детстве, видим их всю жизнь такими, какими они не бывают.
— Ваши гонители гнусны, — говорил он своему другу Гордону. — Мне жаль, что вас преследуют, но жаль также, что вы — янсенист. Всякая секта представляется мне скопищем заблудших людей. Скажите, существуют ли секты среди математиков?
— Нет, дорогое мое дитя, — ответил ему со вздохом Гордон. — Все люди единодушно признают истину, когда она доказана, но непомерны их раздоры, когда речь идет об истинах неразъясненных.
— Скажите лучше — о неразъясненных заблуждениях. Если бы под грудой доводов, которые обсуждаются столько веков подряд, таилась некая единая истина, ее, несомненно, открыли бы и хоть на этот счет все на свете пришли бы к согласию. Будь эта истина нужна, как солнце нужно земле, она и сверкала бы, как солнце. Нелепо, оскорбительно для всего рода человеческого и преступно по отношению к Верховному и Бесконечному Существу утверждать, будто есть какая-то истина, существенно важная для человека, которую бог утаил.
Все, что говорил юный невежда, научаемый природой, производило глубокое впечатление на обездоленного старого ученого.
— Неужели же, — воскликнул он, — я обрек себя на несчастье ради каких-то бредней? В существовании своего горя я куда более уверен, чем в существовании искупительной благодати. Я трачу дни на рассуждения о свободе бога и рода человеческого, а своей свободы я лишился; ни блаженный Августин, ни святой Проспер{737} не изведут меня из бездны, в которой я обретаюсь.
Простодушный, верный своей натуре, сказал наконец:
— Хотите, чтобы я высказался прямо и откровенно? Тех, кто подвергается гонениям из-за пустых, никому не нужных споров, я нахожу не очень мудрыми, а их гонителей считаю извергами.
Оба узника вполне сходились во взглядах на то, что их обоих заключили в тюрьму несправедливо.
— Я во сто крат более достоин сожаления, чем вы, — говорил Простодушный. — Я родился свободным, как воздух, и дорожил в жизни только этой свободой и предметом моей любви; их у меня отняли. И вот оба мы в оковах, не зная и не имея возможности спросить, за что. Двадцать лет прожил я гуроном. Их называют варварами, потому что они мстят врагам, но зато они никогда не притесняют друзей. Стоило мне вступить на французскую землю, как я пролил кровь за нее; я, быть может, спас целую провинцию — и в награду ввергнут в эту усыпальницу живых, где без вас умер бы от бешенства. Выходит, в этой стране нет законов? Здесь можно осудить человека, не выслушав его… В Англии так не бывает. Ах, не с англичанами мне следовало сражаться!
Так его нарождавшаяся философия не могла укротить натуру, чье наипервейшее право было поругано, и не преграждала путь праведному гневу.
Его товарищ не перечил ему. Разлука всегда усиливает неудовлетворенную любовь, а философия не способна ее умалить. Простодушный говорил о своей дорогой Сент-Ив так же часто, как о морали и метафизике. Чем более очищалось его чувство, тем крепче он ее любил. Он прочитал несколько новых романов. Только в очень немногих нашел он изображение своего душевного состояния. Он чувствовал, что в его сердце скрыто больше, чем во всех прочитанных им книгах.
— Ах, — говорил он, — все эти писатели отличаются только остроумием и мастерством!
Добрый священник-янсенист незаметно стал поверенным его нежной любви. В былые времена любовь была знакома ему только как грех, в котором каются на исповеди. Теперь он научился видеть в ней чувство не только нежное, но и благородное, способное и возвысить и смягчить душу, а порою даже породить добродетель. В конце концов совершилось настоящее чудо: гурон обратил на путь истинный янсениста.
Глава пятнадцатая
Прекрасная Сент-Ив не соглашается на щекотливое предложение
Итак, прекрасная Сент-Ив, преисполненная еще большей нежности, чем ее возлюбленный, отправилась к г-ну де Сен-Пуанж в сопровождении приятельницы, у которой жила, — обе укрытые вуалями. Первый, кого увидела она в дверях, был ее брат, аббат де Сент-Ив, выходивший оттуда. Она оробела, но набожная приятельница успокоила ее.
— Именно потому, что там говорили о вас дурно, должны и вы сказать свое слово. Будьте уверены, что в здешних краях обвинители всегда оказываются правы, если их вовремя не обличить. К тому же, если предчувствие меня не обманывает, вы своим видом окажете гораздо большее влияние, чем ваш брат самыми убедительными словами.
Стоит лишь немного ободрить страстно влюбленную женщину, и она становится неустрашимой. М-ль де Сент-Ив входит в приемную. Ее молодость, ее чарующая внешность, ее нежные очи, чуть увлажненные слезами, привлекли к ней все взоры. Клевреты помощника министра забыли на миг о кумире власти и начали любоваться кумиром красоты. Сен-Пуанж провел ее в свой кабинет. Речь ее была проникновенна и изящна; Сен-Пуанж был растроган; девушка дрожала, он ее успокаивал.
— Приходите сегодня вечером, — сказал он ей. — Ваши дела заслуживают того, чтобы поразмыслить и потолковать о них на досуге. Здесь слишком много народу и прием посетителей производится слишком поспешно, а мне надо серьезно поговорить с вами обо всем, что касается вас.
Затем, воздав хвалу ее красоте и чувствам, он предложил ей прийти к семи часам вечера.
Она явилась без опоздания. Набожная приятельница сопровождала ее и на этот раз, но осталась в приемной, где занялась чтением «Христианского педагога», меж тем как Сен-Пуанж и прекрасная Сент-Ив ушли во внутренние покои.
— Поверите ли, сударыня, — начал он, — что ваш брат просил меня отдать приказ о взятии вас под стражу? По правде говоря, я охотно отдал бы приказ о высылке его самого в Нижнюю Бретань.
— Увы, сударь, ваши канцелярии, видно, очень щедры на такие приказы, если за ними приезжают, как за пенсиями, из самых глухих углов королевства. Я очень далека от намерения хлопотать о подобном приказе в отношении моего брата. У меня много оснований жаловаться на него, но я уважаю людскую свободу и прошу об одном — даровать свободу тому, за кого я намерена выйти замуж. Этот человек, сын офицера, убитого на королевской службе, уже спас одну из французских провинций и в будущем тоже может быть очень полезен королю. В чем обвиняют его? Как это возможно, что с ним так жестоко обошлись, даже не выслушав его объяснений?
Тогда помощник министра показал ей письма иезуита-шпиона и коварного судьи.
— Как! Неужели на свете существуют такие изверги? Подумать только, меня хотят насильно выдать замуж за глупейшего сына этого глупейшего и к тому же злобного человека. И от подобных наветов зависит здесь участь граждан!
Она упала на колени и, рыдая, молила выпустить на волю честного юношу, который так горячо ее любит. Состояние, в котором она находилась, только подчеркнуло все ее прелести. Она была так хороша, что Сен-Пуанж, потеряв всякий стыд, намекнул на возможность полного успеха ее ходатайства, если она подарит ему первины того, что бережет для возлюбленного. М-ль де Сент-Ив в ужасе и замешательстве долго притворялась, что ничего не понимает; Сен-Пуанжу пришлось объясниться начистоту. Сдержанное слово, сорвавшееся с уст, породило другое, более откровенное, за которым последовало еще более выразительное. Он предложил ей не только отмену приказа об аресте, но и награду, деньги, почести, выгодные должности, и чем больше обещал, тем сильнее хотел добиться согласия.
Упав на диван, м-ль де Сент-Ив плакала, задыхалась, отказывалась верить тому, что слышала. Сен-Пуанж, в свою очередь, упал к ее ногам. Он был недурен собой, и в другом, менее предубежденном сердце не вызвал бы страха. Но м-ль де Сент-Ив боготворила своего возлюбленного и считала, что изменить ему даже ради его пользы было бы настоящим преступлением. Сен-Пуанж продолжал расточать мольбы и обещания. Напоследок голова у него пошла кругом, и он заявил, что это — единственное средство извлечь из тюрьмы человека, в чьей судьбе она принимает такое нежное и страстное участие. Странный разговор затягивался. Богомолка в приемной, читая «Христианского педагога»{738}, бормотала: «Боже мой! Что же они там делают целых два часа? Никогда не случалось, чтобы монсеньер де Сен-Пуанж давал кому-нибудь такую долгую аудиенцию. Может быть, он отказал бедной девушке наотрез, а она продолжает его упрашивать?»
Наконец ее приятельница вышла из внутренних покоев, растерянная, онемевшая, погруженная в глубокие размышления о нравах вельмож и полувельмож, которые так легко приносят в жертву людскую свободу и женскую честь.
За всю дорогу она не проронила ни слова. Лишь вернувшись домой, прекрасная Сент-Ив не выдержала и рассказала подруге все. Богомолка принялась размашисто креститься.
— Моя дорогая, надо завтра же посоветоваться с нашим духовником, отцом Тут-и-там; он пользуется большим доверием у г-на де Сен-Пуанж; у него исповедуются многие служанки из этого дома; он человек благочестивый, доброжелательный и наставляет не только горничных, но и знатных дам. Доверьтесь ему вполне, — я всегда так поступаю, и благодаря этому все идет у меня хорошо. Нам, бедным женщинам, необходимо мужское руководство. Так вот, моя дорогая, завтра же я пойду к отцу Тут-и-там.
Глава шестнадцатая
Она советуется с иезуитом
Как только прекрасная, удрученная горем Сент-Ив оказалась наедине с добрым духовником, она призналась ему, что некий могущественный сластолюбец предлагает выпустить из тюрьмы того, с кем она намерена сочетаться законным браком, но за эту услугу требует слишком дорогой платы, что ей отвратительна подобная измена и что, если бы речь шла о ее собственной жизни, она предпочла бы умереть.
— Что за омерзительный грешник! — сказал отец Тут-и-там. — Скажите мне имя этого негодяя: не сомневаюсь, что он — янсенист. Я донесу на него его преподобию, отцу де Ла Шез, и он отправит его в то обиталище, где томится сейчас ваш дорогой нареченный.
Несчастная девушка сперва никак не могла решиться, но после долгих колебаний все же назвала имя Сен-Пуанжа.
— Господин де Сен-Пуанж! — воскликнул иезуит. — Ах, дочь моя, это совсем другое дело! Он — родня величайшего из всех бывших и настоящих министров, он добродетельный человек, ревнитель нашего правого дела, хороший христианин; такая мысль ему и в голову не могла бы прийти. Вы, наверно, не поняли его.
— Ах, отец мой, я слишком хорошо его поняла. Как бы я ни поступила, мне все равно пропадать; либо горе, либо позор — другого выбора у меня нет: или моему возлюбленному быть погребенным заживо, или мне стать недостойной жизни. Я не могу допустить, чтобы он погиб, но и спасти его тоже не могу.
Отец Тут-и-там постарался успокоить ее кроткими речами.
— Во-первых, дочь моя, никогда не произносите этих слов — «мой возлюбленный» — в них есть нечто светское и богопротивное; говорите «мой супруг», ибо хотя он еще и не супруг ваш, однако вы рассматриваете его как супруга, и это как нельзя более справедливо.
Во-вторых, хотя и в мыслях ваших и надеждах он ваш супруг, однако в действительности он еще не супруг; стало быть, вы не можете впасть в прелюбодеяние, в этот великий грех, которого по мере возможности следует избегать.
В-третьих, человеческие поступки не греховны, когда вызваны благими намерениями, а нет ничего чище намерения вернуть свободу своему нареченному.
В-четвертых, святая древность дала примеры, которые могут послужить вам чудесными образцами поведения. Блаженный Августин рассказывает, что при проконсуле Септимии Акиндине в год нашего спасения триста сороковой некий бедняк, не имевший возможности уплатить кесарево кесарю, был приговорен к смерти, невзирая на правило: «На нет и королевского суда нет». Дело шло о фунте золота. У осужденного была жена, которую бог наделил красотой и благоразумием. Старый богач обещал даме фунт золота, а то и больше, при условии, что она совершит с ним гнусный грех. Дама сочла, что, спасая мужа, не сотворит зла. Блаженный Августин весьма одобрительно отзывался{739} о ее великодушной покорности обстоятельствам. Правда, старый богач обманул ее, возможно даже, что муж и не избежал виселицы; однако она сделала все, что могла, дабы спасти ему жизнь.
Будьте уверены, дочь моя, что, если уж иезуит ссылается на блаженного Августина, стало быть, этот святой изрек непреложную истину. Я ничего вам не советую, вы девушка разумная: надо полагать, вы поможете вашему мужу. Монсеньер де Сен-Пуанж порядочный человек, он вас не обманет; вот и все, что я могу вам сказать. Я помолюсь за вас и надеюсь, что все устроится к вящей славе божьей.
Прекрасная Сент-Ив, которую речи иезуита испугали не меньше, чем предложения помощника министра, вернулась к приятельнице совсем растерянная. Ей хотелось умереть и таким образом избавиться от ужасной необходимости оставить в тяжкой неволе возлюбленного, которого она обожала, или от позорной возможности освободить его ценой того, что было ей всего дороже и что должно было принадлежать только этому злосчастному возлюбленному.
Глава семнадцатая
Добродетель вынуждает ее пасть
Она просила приятельницу убить ее, но эта женщина, столь же снисходительная, как иезуит, высказалась еще откровеннее, чем он.
— Увы! — проговорила она. — При этом дворе, столь изысканном, любезном, прославленном, чего-нибудь добиться можно лишь таким способом. Должности, и самые незаметные и самые важные, нередко получают только за ту плату, которую требуют от вас. Послушайте, вы внушили мне доверие и приязнь: признаюсь вам, будь я так несговорчива, как вы, мой муж не занимал бы и того скромного места, которое дает ему возможность существовать. Он это знает и не только не сердится, но, напротив, видит во мне благодетельницу, а на себя смотрит как на моего ставленника. Неужели вы думаете, что люди, которые управляли провинциями или командовали армиями, обязаны почестями и богатством одним своим достоинствам? Среди них немало таких, которые в долгу за это перед своими супругами. Высоких воинских званий домогались ценою любви, и место доставалось тому, чья жена красивее.
Вы находитесь в положении гораздо более выгодном: речь идет о том, чтобы освободить из тюрьмы возлюбленного и выйти за него замуж; это ваш священный долг, и вы обязаны его выполнить. Тех прекрасных и знатных дам, о которых я вам рассказываю, не осудил никто, ну, а вам будут рукоплескать, скажут, что вы совершили проступок от избытка добродетели.
— Какая уж тут добродетель! — воскликнула прекрасная Сент-Ив. — Что за лабиринты беззаконий! Что за страна, и какую надо пройти науку, чтобы узнать людей! Какой-то отец де Ла Шез и какой-то глупейший судья сажают моего возлюбленного в тюрьму, моя родня преследует меня, и в столь тяжкое время мне протягивают руку помощи лишь затем, чтобы меня обесчестить! Один иезуит погубил благородного человека, другой хочет погубить меня; кругом одни только западни, и я близка к гибели. Надо либо покончить с собой, либо поговорить с королем: я кинусь ему в ноги на его пути к обедне или в театр.
— Вас к нему не подпустят, — ответила ей приятельница. — А если бы вы, себе на горе, заговорили с ним, господин де Лувуа и преподобный отец де Ла Шез упрятали бы вас до скончания ваших дней в монастырь.
В то время, как эта почтенная особа усугубляла подобным образом смущение отчаявшейся девушки и все глубже вонзала ей кинжал в сердце, от г-на де Сен-Пуанж явился нарочный с письмом и парой великолепных серег. Сент-Ив, рыдая, отшвырнула их, но ее приятельница подобрала серьги.
Едва лишь нарочный ушел, как наперсница вслух прочла письмо, в котором Сен-Пуанж приглашал их обеих вечером к себе на ужин. Сент-Ив поклялась, что не пойдет. Богомолка попыталась примерить ей алмазные серьги, но она решительно отказалась от этого. Целый день бедняжка боролась с собой и наконец, помышляя только о возлюбленном, побежденная, влекомая силком, не понимая, куда ее ведут, отправилась на роковое свидание. Никакими уговорами нельзя было заставить ее надеть серьги. Наперсница принесла их с собой и, перед тем как сесть за стол, насильно вдела их в уши подруги. Сент-Ив была так смущена и взволнована, что не смогла воспротивиться назойливым приставаниям приятельницы, а хозяин дома усмотрел в этом доброе для себя предзнаменование. Под конец трапезы наперсница неприметно скрылась. Тогда Сен-Пуанж показал распоряжение об отмене ареста, указ о крупной денежной награде, патент на капитанский чин и не поскупился на посулы.
— Ах, — сказала ему Сент-Ив, — как я полюбила бы вас, если бы вы не требовали моей любви!
После долгого сопротивления, рыданий, воплей, слез, ослабевшая от борьбы, растерянная, истомленная, она принуждена была сдаться. Ей оставалось только одно утешение — пообещать себе, что в то время, когда жестокосердный человек будет безжалостно пользоваться ее безвыходным положением, она все свои помыслы обратит к Простодушному.
Глава восемнадцатая
Она освобождает возлюбленного и янсениста
На рассвете, заручившись министерским приказом, она мчится в Париж. Трудно описать, что делается дорогой в ее сердце. Вообразите себе добродетельную душу, униженную позором, исполненную нежностью, истерзанную укорами совести из-за измены возлюбленному, проникнутую радостным сознанием, что освободит предмет своего обожания! Память о вкушенной горечи, о борьбе и достигнутом успехе примешивалась ко всем ее мыслям. Это была уже не прежняя простенькая девушка, чьи понятия были ограничены провинциальным воспитанием. Любовь и несчастье образовали ее. Чувство достигло в ней такого же развития, какого достиг разум в ее несчастном возлюбленном. Девушки легче научаются чувствовать, нежели мужчины — мыслить. Ее приключения оказались назидательнее четырехлетней монастырской жизни.
Одета она была до крайности просто. С отвращением смотрела она на убор, в котором предстала вчера перед своим жестоким благодетелем; алмазные серьги она оставила приятельнице, даже не поглядев на них. Смущенная и обрадованная, боготворя Простодушного и ненавидя себя, приближается она наконец к воротам
Сей страшной крепости{740}, твердыни злобной мести, Где заточен порок с невинностию вместе.Когда подъехали к месту заточения, она совсем обессилела, и кто-то помог ей выйти из кареты. Сердце ее трепетало, глаза были влажны, лицо печально. Ее приводят к коменданту, она хочет заговорить с ним, но голос ей изменяет. Едва пролепетав несколько слов, она протягивает грамоту. Коменданту был по душе узник, и он порадовался за него. Сердце у этого человека не ожесточилось, как у некоторых его собратьев, у тех почтенных тюремщиков, которые, помышляя только о жалованье, положенном за охрану заключенных, умножая свои доходы за счет несчастных жертв и строя благоденствие на чужой беде, втайне жестоко радуются слезам обездоленных.
Он вызывает узника к себе. Влюбленные встречаются, и оба теряют сознание. Прекрасная Сент-Ив долго лежала неподвижная и бездыханная, Простодушный же вскоре пришел в себя.
— Это, видимо, ваша супруга, — сказал ему комендант. — Вы не говорили мне, что женаты. Как мне передавали, своим освобождением вы обязаны ее великодушным заботам.
— Ах, я недостойна быть его женой, — дрожащим голосом проговорила прекрасная Сент-Ив и снова потеряла сознание.
Очнувшись, она, по-прежнему дрожа, показала указ о денежной награде и патент на капитанский чин. Простодушный, растроганный не менее, чем удивленный, словно пробудился от одного сна, чтобы впасть в другой.
— За что меня здесь держали? Как удалось вам вызволить меня? Где изверги, из-за которых я сюда попал? Вы — божество, сошедшее с небес, чтобы меня спасти.
Прекрасная Сент-Ив то потуплялась, то снова взглядывала на возлюбленного, но тотчас заливалась краской и отводила в сторону глаза, увлажненные слезами. Наконец она сообщила ему все ведомое ей и испытанное ею, за исключением лишь того, что желала бы скрыть и от самой себя и что всякому другому, лучше знающему свет и посвященному в придворные обычаи, чем Простодушный, сразу стало бы ясно.
— Как же это может быть, чтобы какой-то негодяй, вроде вашего судьи, мог лишить меня свободы? Я вижу, что люди подобны самым мерзким животным: всякий старается навредить ближнему. Но возможно ли все-таки, чтобы монах, иезуит, королевский духовник, содействовал моему несчастью в такой же мере, как и нижнебретонский судья, причем я даже представить себе не могу, под каким предлогом этот гнусный проходимец подверг меня гонениям? Но неужели вы все время помнили обо мне? Я этого не заслужил; в те времена я был настоящим дикарем. И вы решились, не получив ни от кого ни совета, ни помощи, совершить путешествие в Версаль? Вы появились там, и мои цепи разбиты! Есть, стало быть, в красоте и добродетели непобедимое очарование, перед которым распахиваются железные ворота и смягчаются каменные сердца!
При слове «добродетель» прекрасная Сент-Ив разрыдалась. Она не сознавала, какая добродетель была в том преступлении, за которое так себя корила.
— Ангел, расторгнувший мои узы, — продолжал ее возлюбленный, — если у вас оказались столь сильные связи (кстати, я о них и не подозревал), что вам удалось добиться моего оправдания, то добейтесь того же и для старца, который впервые научил меня мыслить, подобно тому как вы научили любить. Горе сблизило нас с ним; он мне дорог, как родной отец, и я не могу жить ни без вас, ни без него.
— Я? Чтобы я обратилась с ходатайством к человеку, который…
— Да, я хочу навеки и всем быть обязанным вам и только вам: напишите этому влиятельному человеку, осыпьте меня благодеяниями, довершите начатое, увенчайте и этим чудом уже содеянные чудеса.
Она чувствовала, что должна исполнить все, чего требует возлюбленный: она села писать, но рука ей не повиновалась. Трижды принималась она за письмо и трижды его рвала, потом все же написала и вместе с Простодушным вышла из тюрьмы, обняв на прощание мученика искупительной благодати.
Счастливая и полная отчаянья, Сент-Ив знала, в каком доме живет ее брат; она пошла туда; в том же доме снял помещение и ее возлюбленный.
Не успели они прийти, как ее покровитель уже прислал ей приказ об освобождении из-под стражи почтенного старца Гордона и просьбу о свидании на завтра. Итак, ценою ее каждого справедливого и великодушного поступка было бесчестие. Обычай торговать людским счастьем и несчастьем казался ей омерзительным. Приказ об освобождении она передала Простодушному, а от свидания наотрез отказалась, ибо от одного вида своего благодетеля умерла бы от стыда и горя. Простодушный согласился на время расстаться с ней только затем, чтобы освободить друга: он немедленно отправился в тюрьму. Выполняя этот долг, он размышлял о том, какие удивительные события происходят в этом мире, и восхищался отважной добродетелью девушки, которой два несчастливца были обязаны больше, чем жизнью.
Глава девятнадцатая
Простодушный, прекрасная Сент-Ив и их родственники оказываются в сборе
Великодушная и достойная уважения изменница находилась в обществе своего брата, аббата де Сент-Ив, м-ль де Керкабон и приора храма Горной богоматери. Все были в одинаковой мере удивлены, но чувства и положение у всех были разные. Аббат де Сент-Ив оплакивал свою вину у ног сестры, сразу его простившей. Приор и его добрая сестра плакали тоже, но от радости. Негодяй судья и его несносный сын не нарушали своим присутствием этой трогательной сцены: они поспешили уехать, едва разнесся слух об освобождении их врага, и укрыли в провинциальной глуши и свою глупость, и свои страхи.
Всех четверых обуревало множество самых разнообразных тревог, пока они дожидались возвращения молодого человека и его друга, которого он должен был освободить. Аббат де Сент-Ив не смел взглянуть сестре в глаза. Добрая м-ль де Керкабон приговаривала:
— Итак, я снова увижусь с моим дорогим племянником.
— Да, вы с ним увидитесь, — подтвердила прелестная Сент-Ив, — но это уже не тот человек. Осанка, тон, образ мыслей, ум — все стало у него другим. Насколько прежде он был несведущ и простоват, настолько теперь достоин уважения. Он станет гордостью и утешением вашей семьи, а вот мне не суждено осчастливить свою семью!
— Вы тоже не та, что прежде, — сказал приор. — Скажите, почему вы так переменились?
Во время этого разговора появился Простодушный об руку с янсенистом. Разыгралась новая, еще более трогательная сцена. Началась она с нежных объятий дядюшки, тетушки и племянника. Аббат де Сент-Ив чуть не пал на колени перед Простодушным, который уже не был простодушным. Любовники переговаривались взглядами, выражавшими все переполнявшие их чувства. На лице одного сияли удовлетворение и благодарность, в нежных, несколько растерянных очах другой читалось смущение. Всех удивляло, что к ее великой радости примешивается скорбь.
Старик Гордон мгновенно стал дорог всей семье. Он терпел страдания вместе с юным узником, и это наделило его великими правами. Свободой он был обязан обоим влюбленным — как же мог он не примириться с любовью? Янсенист отказался от суровости былых своих воззрений и, подобно гурону, стал настоящим человеком. В ожидании ужина каждый поведал о своих злоключениях. Аббаты и тетушка слушали, как дети, которым рассказывают сказку о привидениях, и как люди, глубоко взволнованные повестью о столь тяжких бедствиях.
— Увы! — сказал Гордон, — пятьсот, а то и более добродетельных людей томятся сейчас в таких же оковах, какие удалось разбить мадемуазель де Сент-Ив, но их страдания никому не ведомы. Истязать несчастных — на это всегда хватает рук, а мало кто протягивает руку помощи.
Это столь справедливое заключение вызвало у старика новый прилив умиления и благодарности. Торжество прекрасной Сент-Ив было полное: все восторгались величием и твердостью ее души. К восторгу примешивалось и то почтение, которое невольно вызывает человек, имеющий, по общему мнению, вес при дворе. Однако время от времени аббат де Сент-Ив приговаривал:
— Как это удалось моей сестре сразу же приобрести такой вес?
Они решили пораньше сесть за ужин. Но вот появляется версальская приятельница, ничего не знающая о том, что произошло за этот день; она подкатывает в карете, запряженной шестеркой лошадей: кому принадлежит этот выезд, понятно без объяснений. Она входит с внушительным видом придворной дамы, приветствует собравшихся легким кивком головы и отводит в сторону прекрасную Сент-Ив.
— Что же вы мешкаете? Едем со мной; вот забытые вами алмазы.
Она произнесла эти слова недостаточно тихо, и Простодушный их услышал; он увидел алмазы; брат прекрасной Сент-Ив был ошеломлен, а дядюшка и тетушка, в простоте душевной, только удивлялись невиданному великолепию серег. Молодого человека, которого воспитал год напряженных раздумий, это происшествие невольно повергло в недоумение, и на минуту он, видимо, встревожился. Его возлюбленная это заметила, ее пленительное лицо смертельно побледнело, она задрожала и едва устояла на ногах.
— Ах, сударыня! — сказала она злополучной своей приятельнице. — Вы погубили меня! Вы меня убиваете!
Ее восклицание пронзило сердце Простодушного, но теперь он научился владеть собой и промолчал из опасения взволновать возлюбленную в присутствии ее брата, однако побледнел, как и она.
Сент-Ив, потеряв голову при виде того, как изменился в лице ее избранник, выводит женщину из комнаты в тесные сени и швыряет на пол алмазы.
— Не они соблазнили меня, вы это отлично знаете! Тот, кто подарил их, никогда больше меня не увидит.
Подруга подобрала серьги, а Сент-Ив продолжала:
— Пусть он возьмет их себе или подарит вам. Уходите и не заставляйте меня больше стыдиться самой себя.
Посланница наконец ушла, так и не поняв тех терзаний совести, свидетельницей которых была.
Прекрасная Сент-Ив, измученная горем, ослабевшая и задыхающаяся, принуждена была лечь в постель; не желая тревожить родных, она умолчала о телесных страданиях и, сославшись на усталость, попросила позволения немного отдохнуть, успокоив сперва всех утешительными и ласковыми словами и несколько раз взглянув на возлюбленного таким взором, что вся его душа воспламенилась.
Ужин, не оживленный присутствием прекрасной Сент-Ив, начался печально, но это была та плодотворная печаль, которая порождает полезную и содержательную беседу, столь отличную от суетного веселья, за которым обычно так гонятся люди и которое сводится обычно лишь к докучному шуму.
Гордон вкратце рассказал о янсенизме и молинизме, а также о гонениях, которым одна сторона подвергала другую, и об упорстве, проявленном обеими. Простодушный осудил и ту и другую и высказал сожаление по поводу того, что люди, не довольствуясь распрями, которые возникают между ними из-за существенных благ, навлекают на себя беды из-за несуществующих призраков и невнятных бредней. Гордон рассказывал, Простодушный критиковал, остальные слушали с волнением, и разум их озарялся новым светом. Толковали о длительности наших невзгод и быстротечности жизни, о том, что в каждом ремесле есть свои пороки и свои опасности, что нет человека, будь то вельможа или нищий, который не служил бы укором людской природе. Сколько на свете людей, которые за какие-то гроши становятся гонителями, истязателями, палачами себе подобных! С каким нечеловеческим равнодушием сановный человек подписывает приказ, разрушающий счастье целой семьи, и с какой еще более варварской радостью выполняют этот приказ наемники!
— В юности, — сказал Гордон, — я встречался с родственником маршала де Марильяка{741}, скрывавшимся под вымышленным именем в Париже из-за преследований, которым он подвергался у себя в провинции в связи с делом этого прославленного и несчастного вельможи. Родственнику маршала, о котором я говорю, было семьдесят два года. В таких же примерно годах была и неразлучная с ним жена. Их сын, отличавшийся распутством, в четырнадцатилетием возрасте бежал из родительского дома; став солдатом, а потом дезертиром, он прошел все ступени разврата и нищеты. Наконец, приняв новую фамилию по названию родового поместья, он поступил в гвардейскую часть к кардиналу де Ришелье (ибо у этого священнослужителя, как потом у Мазарини, была своя гвардия) и стал в этом сборище сателлитов ефрейтором. Ему было поручено арестовать старика и его супругу, и он поспешил исполнить поручение со всей жестокостью человека, жаждущего угодить хозяину. Конвоируя их, негодяй слышал, как они сетовали на неисчислимые бедствия, испытанные ими с колыбели. Распутство сына и его побег были для отца и матери одним из величайших несчастий их жизни. Он узнал родителей и тем не менее отвел в тюрьму, заявив, что главным своим долгом почитает службу его преосвященству. Его преосвященство щедро наградил проходимца за усердие.
Я был свидетелем того, как некий шпион отца де Ла Шез предал родного брата в надежде получить выгодную духовную должность, которая, однако, так ему и не досталась; этот человек умер, но не от угрызений совести, а от досады на обманувшего его иезуита.
Обязанности духовника, долгое время исполняемые мною, близко познакомили меня с жизнью многих семей; я не видел ни одной, которая не утопала бы в горестях, тогда как вне дома, прикрывшись личиной веселья, все они, казалось, купались в довольстве. И я не преминул обнаружить, что почти все большие несчастья оказываются следствием нашего необузданного корыстолюбия.
— А вот я полагаю, — сказал Простодушный, — что честный, благородный и чувствительный человек может прожить счастливо, и твердо рассчитываю, соединившись с прекрасной и великодушной Сент-Ив, вкушать ничем не омраченное блаженство, ибо льщу себя надеждой, — добавил он, обращаясь с дружелюбной улыбкой к ее брату, — что не получу от вас отказа, как в прошлом году, и что сам я на этот раз буду вести себя более пристойно.
Аббат рассыпался в извинениях и стал всячески заверять Простодушного в своей безграничной преданности ему.
Дядюшка Керкабон сказал, что в его жизни не было дня счастливее, чем этот. Добрая тетушка, восторгаясь и плача от радости, воскликнула:
— Я же говорила, что не быть вам иподьяконом! Но это таинство еще лучше, чем то; бог не дал мне познать его, но я заменю вам мать.
Тут все наперебой принялись хвалить нежную Сент-Ив.
У ее нареченного сердце было так переполнено тем, что она сделала для него, он так ее любил, что происшествие с алмазами его не смутило. Но отчетливо услышанные им слова: «Вы меня убиваете!» — продолжали пугать Простодушного и отравляли ему радость, в то время как от похвал, расточаемых прекрасной Сент-Ив, его любовь все возрастала. Напоследок перестали толковать только о ней и повели речь о заслуженном обоими любовниками счастье; сговаривались, как бы поселиться всем вместе в Париже; строили предположения о грядущем богатстве и славе; предавались тем надеждам, которые так легко зарождаются при малейшем проблеске удачи. Но Простодушный, повинуясь какому-то тайному чувству, гнал от себя эти мечты. Он перечитывал обязательства, данные Сен-Пуанжем, и указы за подписью Лувуа, слушал описания этих людей, основанные на истине или, напротив, на заблуждении; каждый из присутствующих рассуждал о министрах и министерствах с той застольной свободой, которая во Франции почитается самой драгоценной из всех свобод.
— Будь я французским королем{742}, — сказал Простодушный, — я избрал бы военным министром человека знатнейшего рода, ибо у него в подчинении дворяне; я потребовал бы, что бы он был офицером, который, начав с младшего чина, дослужился, по крайней мере, до генерал-лейтенанта армии, достойного производства в маршалы: ибо разве можно, не служа, узнать как следует все тонкости службы? И разве не стали бы офицеры во сто крат охотнее выполнять приказы военного человека, который, как и они, сотни раз выказывал мужество, нежели приказы человека кабинетного, который, как бы он ни был умен, может руководить военными действиями только наугад? Я был бы не прочь, чтобы мой министр был щедр, пусть бы даже это и причиняло иной раз затруднения королевскому казначею. Мне было бы приятно, чтобы работа у него спорилась и чтобы он отличался той остроумной веселостью, которая присуща лишь даровитым деятелям: она по душе народу, и благодаря ей любое бремя перестает быть тягостным.
Простодушному потому хотелось, чтобы у министра был такой нрав, что он не раз замечал: хорошее расположение духа несовместимо с жестокостью.
Возможно, монсеньер де Лувуа остался бы недоволен подобными пожеланиями Простодушного, поскольку его достоинства были совсем иного рода.
Меж тем, пока они сидели за столом, болезнь несчастной девушки приняла зловещий характер: начался сильный жар, открылась пагубная горячка; прекрасная Сент-Ив страдала, но не жаловалась, стараясь не отравлять общую радость.
Брат, зная, что она не спит, подошел к ее изголовью: ее состояние поразило его. Сбежались все, вслед за братом пришел возлюбленный. Он был более всех встревожен и опечален; но ко всем дарам, которыми наделила его природа, теперь присоединилась еще и сдержанность; тонкое понимание благопристойности заняло в его душе важнейшее место.
Тотчас же вызвали жившего по соседству врача, из той породы медиков, что на скорую руку осматривают больных, путают недавно виденный недуг с тем, который видят сейчас, упрямо следуют рутине в той науке, которая остается опасно шаткой, даже когда ею занимаются люди, обладающие здравым, зрелым и осмотрительным разумом. Этот врач, поспешив прописать больной модное в то время лекарство, лишь ухудшил ее состояние. Мода повсюду, даже во врачевании! В Париже это просто повальное помешательство.
И все же усугубил болезнь Сент-Ив не столько врач, сколько гнет горестных раздумий. Душа убивала тело. Мысли, обуревавшие ее, вливали в вены страдалицы отраву, более губительную, чем яд самой лютой горячки.
«Простодушный»
Глава двадцатая
Прекрасная Сент-Ив умирает, и какие проистекают отсюда последствия
Призвали другого врача; этот, вместо того чтобы прийти на помощь природе, предоставив ей полную свободу в борьбе за молодое существо, все органы которого взывали к жизни, только и делал, что препирался с собратом по ремеслу. Через два дня болезнь стала смертельной. Мозг, который считается обиталищем разума, был поражен так же сильно, как и сердце, которое, как говорят, является обиталищем страстей.
«Какая непостижимая механика подчиняет наши органы воздействию чувства и мысли? Каким образом одна-единственная горестная мысль нарушает обращение крови? И, с другой стороны, каким образом расстройство кровообращения влияет на разум человека? Какой неведомый, но, бесспорно, существующий ток, более быстрый и деятельный, чем свет, проносится по всем жизненным руслам, порождает ощущения, воспоминания, грусть или веселье, разумное суждение или безумный бред, заставляет вспоминать с ужасом о том, что хотелось бы забыть, и обращает мыслящее животное либо в предмет восхищения, либо в предмет жалости и слез?»
Так думал добрый Гордон, но эти столь естественные размышления, тем не менее так редко приходящие людям в голову, ничуть не уменьшали его горести, ибо он не принадлежал к числу тех несчастных философов, которые силятся быть бесчувственными. Участь девушки печалила его, как отца, наблюдающего за медленным умиранием любимого ребенка. Аббат де Сент-Ив был в отчаянии; у приора и у его сестры слезы лились ручьем. Но кто сумел бы описать состояние ее возлюбленного? Ни на одном наречии не подыскать слов, способных выразить это невыразимое горе: человеческие наречия слишком несовершенны.
Тетушка, сама еле живая, немощными руками поддерживала голову умирающей; в изножье кровати преклонил колени брат; возлюбленный сжимал ей руку, орошая ее слезами, и громко рыдал; он называл ее своей благодетельницей, своей надеждой и жизнью, половиной своего существа, своей любимой, своей женой. При слове «жена» она вздохнула, посмотрела на него с невыразимой нежностью и вдруг вскрикнула от ужаса; потом, в один из тех промежутков, когда изнеможение, подавленность и страдания не так сильно давали себя знать и душа ее вновь обрела свободу, она воскликнула:
— Я? Ваша жена? О мой возлюбленный, это название, это счастье, эта награда не для меня; я умираю, и смерть моя заслуженна. Ангел души моей, вы, кого я принесла в жертву адским демонам! Вы видите, все кончено, я понесла наказание, живите счастливо.
В этих нежных и страстных словах таилась неразрешимая загадка, но они заронили в сердца ее близких ужас и сочувствие. У нее хватило мужества объясниться, и при каждом ее слове присутствующие содрогались от изумления, горя и сострадания. Все, как один, прониклись ненавистью к могущественному человеку, который согласился устранить вопиющую несправедливость лишь ценою преступления и вынудил благородную невинность стать его сообщницей.
— Как? Вы виновны? — сказал ей возлюбленный. — Нет, это неправда; преступление может быть совершено, только если в нем принимает участие сердце; а ваше сердце предано добродетели и мне.
Он выражал свои чувства словами, которые, казалось, возвращали жизнь прекрасной Сент-Ив. Утешенная в своей скорби, она тем не менее удивлялась, что ее продолжают любить. Старый Гордон осудил бы ее в былые времена, когда был всего лишь янсенистом, но теперь, превратившись в мудреца, воздавал ей должное уважение и плакал.
В то время как столько было слез и тревог, как все сердца были удручены и полны опасений за жизнь прекрасной Сент-Ив, — вдруг говорят, что прибыл придворный гонец. Гонец? От кого же? И зачем? Оказалось, что он явился к приору храма Горной богоматери от имени королевского духовника; но писал не отец де Ла Шез а брат Вадбле, его прислужник, человек, в ту пору очень влиятельный: это он передавал архиепископам волю его преподобия, принимал посетителей, обещал духовные должности, а иной раз даже писал приказы о взятии под стражу. Он сообщал аббату храма Горной богоматери, что «его преподобие осведомлен о происшествии с его племянником, который по ошибке был заточен в тюрьму; такие мелкие неприятности случаются часто, и на них не надо обращать внимания. Приору надлежит завтра привести на прием своего племянника, захватив с собою и достопочтенного Гордона, а он, брат Вадбле, представит их его преподобию и монсеньеру де Лувуа, который скажет им несколько слов у себя в приемной».
Он добавлял, что об истории Простодушного и о его сражении с англичанами было доложено королю, что король, наверное, соизволит заметить его, когда будет следовать по галерee, — может быть, даже кивнет ему головой. Письмо кончалось лестными для него предположениями, что все придворные дамы будут, вероятно, подзывать к себе его племянника, что многие из них даже скажут ему: «Здравствуйте, господин Простодушный», — и что о нем, несомненно, пойдет речь за королевским столом. Письмо было подписано: «Преданный вам Вадбле, брат иезуит».
Когда приор вслух прочитал это письмо, его племянник рассвирепел, но, совладав на время со своим гневом, ничего не сказал подателю письма; обратившись к товарищу по несчастью, он спросил, какого тот мнения о слоге этого послания. Гордон ответил:
— С людьми здесь обращаются как с обезьянами: бьют, а потом заставляют плясать.
Простодушный, снова сделавшись самим собой, что случается всегда при больших душевных потрясениях, изорвал письмо в клочки и швырнул посланному в лицо:
— Вот мой ответ.
Его дядюшке почудилось со страху, будто грянул гром и целых, два десятка приказов об аресте свалилось ему на голову. Он быстро настрочил ответ и попросил, как умел, прощения за племянника, допустившего то, в чем приор усмотрел юношескую заносчивость и что в действительности было проявлением душевного величия.
Однако более тягостные заботы заполнили тем временем все сердца. Несчастная красавица Сент-Ив чувствовала, что конец ее близок; она была спокойна, но тем ужасным спокойствием ослабевшего организма, который уже не в силах бороться.
— О мой любимый! — сказала она угасающим голосом. — Смерть карает меня за мой проступок, но я утешаюсь сознанием, что вы на свободе. Я любила вас, изменяя вам, и люблю, прощаясь с вами навеки.
Ей чужда была показная твердость духа и то жалкое тщеславие, которое жаждет, чтобы два-три соседа сказали: «Она мужественно приняла смерть». Можно ли без сожалений и без раздирающей душу тоски в двадцать лет навеки терять возлюбленного, жизнь и то, что именуется «честью»! Она чувствовала весь ужас своего положения и давала почувствовать его другим словами и меркнущим взглядом, которым присуща такая властная выразительность. И она плакала вместе со всеми в минуты, когда хватало сил плакать.
Пусть иные восхваляют пышную кончину тех, кто бесчувственно расстается с жизнью, — но таково ведь поведение и любого животного! Мы только тогда умираем равнодушно, когда возраст или болезнь, притупляя наше понимание, уподобляют нас животным. У кого великие утраты, у того и великие сожаления; если же он заглушает их, стало быть, вплоть до объятий смерти хранит в душе тщеславие.
Когда наступило роковое мгновение, у всех присутствующих хлынули слезы и вырвались стоны. Простодушный лишился сознания. У людей, сильных духом, если им свойственна нежность, чувства проявляются более бурно, чем у других. Добрый Гордон, который знал его достаточно хорошо, опасался, как бы, придя в себя, он не покончил с собой. Убрали все оружие; несчастный молодой человек заметил это; без слез, без упреков, без волнения сказал он своим родным и Гордону:
— Неужели вы думаете, что есть на земле человек, который имел бы право и мог бы помешать мне совершить самоубийство?
Гордон воздержался от повторения тех скучных общих мест, с помощью которых пытаются доказать, что человек не имеет права воспользоваться своей свободой и лишить себя жизни, когда жить ему больше невмоготу, что не следует уходить из дому, когда нет больше сил в нем оставаться, что человек на земле — как солдат на посту: как будто Существу Существ есть дело до того, в этом ли или в другом месте находится данное соединение частиц материи! Все это — тщетные доводы, которых не послушается твердое и обдуманное отчаяние и на которые Катон ответил ударом кинжала{743}.
Угрюмое, грозное молчание Простодушного, его мрачные глаза, дрожащие губы, озноб, пробегавший по его телу, вселяли в сердца тех, кто глядел на него, ту смесь сострадания и ужаса, которая сковывает все душевные движения, исключает возможность слов и проявляется только в виде несвязных восклицаний. Прибежала хозяйка гостиницы вместе со своим семейством; все трепетали при виде его скорби, с него не спускали глаз, следили за всеми его жестами. Оледеневшее тело прекрасной Сент-Ив вынесли в залу с низким потолком, подальше от глаз Простодушного, который, казалось, еще искал ее, хотя больше ничего уже не мог видеть.
В то время, когда смерть являла такое зрелище, когда тело уже было выставлено у дверей дома и два священника, стоя у кропильницы, рассеянно читали молитвы, а прохожие от нечего делать брызгали на гроб святой водой или равнодушно шли своей дорогой, когда родные плакали, а жених готов был лишить себя жизни, — явился вдруг Сен-Пуанж с версальской приятельницей.
Мимолетная прихоть, только единожды удовлетворенная, обратилась у него в любовь. Отказ от его благодеяний задел вельможу за живое. Отец де Ла Шез никогда и не подумал бы заглянуть в этот дом, но Сен-Пуанж, непрестанно воскрешая образ прекрасной Сент-Ив, горя желанием утолить страсть, которая после однократного наслаждения вонзилась в его сердце острым жалом, сам, не колеблясь, пришел за той, с кем не захотел бы увидеться и трех раз, если бы она явилась к нему по собственному почину.
Он выходит из кареты и первое, что видит, — это гроб; он отводит глаза с естественным отвращением человека, вскормленного наслаждениями и считающего, что должен быть избавлен от зрелища людского горя. Он собирается войти в дом. Женщина из Версаля спрашивает из любопытства, кого хоронят; ей говорят, что м-ль де Сент-Ив. При этом имени она бледнеет и громко вскрикивает; Сен-Пуанж оборачивается, его душа наполняется изумлением и скорбью. Добряк Гордон был тут же, весь в слезах. Прервав свои печальные молитвы, он сообщает царедворцу об ужасном несчастье. Он говорит с той властностью, которой наделяют человека скорбь и добродетель. Сен-Пуанж по природе не был злым; поток дел и забав увлек его душу, не успевшую познать себя. Он был еще далек от старости, которая обыкновенно ожесточает сердца вельмож, и слушал Гордона, потупившись, затем утер несколько слезинок, пролившихся, к его собственному удивлению: он изведал раскаяние.
— Я непременно хочу повидать, — проговорил он, — необыкновенного человека, о котором вы мне рассказали; он приводит меня почти в такое же умиление, как та невинная жертва, которая умерла по моей вине.
Гордон следует за ним в комнату, где приор, м-ль де Керкабон, аббат де Сент-Ив и кое-кто из соседей приводят в сознание молодого человека, лишившегося чувств.
— В вашем несчастье повинен я, — сказал ему помощник министра, — и готов потратить всю жизнь на то, чтобы его загладить.
Первым побуждением Простодушного было убить его, а затем и себя. Это было бы всего уместнее, но он был безоружен и за ним зорко следили. Сен-Пуанжа не расхолодили отказы, сопровождавшиеся укорами, а также знаками презрения и отвращения, вполне им заслуженными.
Время смягчает все. Монсеньеру де Лувуа удалось в конце концов сделать из Простодушного превосходного офицера, который под другим именем появился в Париже и в армии, заслужил одобрение всех порядочных людей и неизменно выказывал себя истинным воином, равно как и философом.
О былом он никогда не говорил без стенаний, а между тем все его утешение было в том, чтобы говорить о нем. До последнего мига жизни чтил он память нежной Сент-Ив. Аббат де Сент-Ив и приор оба получили выгодные духовные должности. Добрая м-ль де Керкабон утвердилась во мнении, что воинские почести — лучший удел для ее племянника, чем сан иподьякона. Алмазные серьги так и остались у версальской богомолки, которой был преподнесен еще один прекрасный подарок. Отец Тут-и-там получил много коробок шоколада, кофе, леденцов, лимонных цукатов, а в придачу еще «Размышления преподобного отца Круазе»{744} и «Цвет святости»{745} в сафьяновых переплетах. Добрый Гордон до самой смерти был в теснейшей дружбе с Простодушным; он тоже получил хороший приход и навсегда позабыл и об искупительной благодати, и о соприсутствующей помощи. «Нет худа без добра», — такова была его любимая поговорка. А сколько на свете честных людей, которые могли бы сказать: «Из худа не бывает добра!»
Царевна Вавилонская Перевод Н. Коган
{746}
1
Старый Бел{747}, владыка Вавилона, почитал себя избранником среди смертных, ибо все его царедворцы повторяли ему это, а историографы подкрепляли их слова доводами. Оправданием его тщеславия служило то, что предки его действительно основали Вавилон тридцать тысяч лет назад, а он сам много способствовал украшению города. Известно, что его дворец и парк, расположенные в нескольких парасангах{748} от Вавилона, простирались между реками Евфратом и Тигром, которые омывали эти дивные берега. Обширный дворец, в три тысячи шагов вдоль фасада, возносился до облаков. Плоская крыша была обнесена белой мраморной балюстрадой высотою в пятьдесят футов и уставлена гигантскими изваяниями всех царей и всех великих мужей государства. Эта плоская крыша из двойного ряда кирпичей, крытая из конца в конец плотным свинцовым настилом, была засыпана слоем земли толщиной в двенадцать футов. Там зеленели целые заросли оливковых, апельсинных, лимонных, пальмовых, гвоздичных, кокосовых и коричных деревьев, которые образовывали тенистые аллеи, непроницаемые для солнечных лучей.
Воды Евфрата, накачиваемые насосами в сотню полых колонн, струились в эти заросли, наполняя обширные мраморные бассейны; потом они низвергались по другим каналам и образовывали в парке каскады длиною в шесть тысяч футов и сотню тысяч фонтанов, бьющих на такую высоту, что верх струи был еле различим; затем воды вновь возвращались в лоно Евфрата. Висячие сады Семирамиды{749}, изумлявшие Азию несколько столетий спустя, были лишь слабым подражанием этим древним чудесам, так как во времена Семирамиды уже начиналось общее вырождение как мужского, так и женского пола.
Но что было всего прекраснее в Вавилоне и что затмевало все остальное, это дочь царя — Формозанта{750}. Спустя века с ее изображений и статуй Пракситель{751} изваял Афродиту — ту, что известна под именем Венеры Прекраснозадой{752}. Но какая разница, о небо, между оригиналом и копиями! И Бел справедливо гордился дочерью больше, чем царством. Ей минуло восемнадцать лет. Пора было найти ей достойного супруга; но где искать его? Древний оракул предсказал, что Формозанта будет принадлежать лишь тому, кто натянет лук Нимврода{753}. Нимврод, сильный зверолов перед господом, оставил после себя лук в семь вавилонских футов, изготовленный из черного дерева, более твердого, чем железо Кавказских гор, которое куют в кузницах Дербента. Ни один смертный со времен Нимврода не мог натянуть тетиву этого удивительного лука.
И еще было предсказано, что рука, натянувшая лук, умертвит самого грозного, самого свирепого из львов, каких только видели на арене Вавилонского цирка. Но и это было еще не все: стрелок из лука, победитель льва, должен был одолеть всех своих соперников, а главное — должен был обладать острым умом, быть сильнейшим и великодушнейшим из людей и владеть редчайшим сокровищем, которое когда-либо существовало на земле.
Три властелина дерзнули оспаривать руку Формозанты: египетский фараон, индийский шах и великий хан скифов.
Бел назначил день поединка и выбрал местом для него обширное поле в отдаленной части парка, которую омывали сливавшиеся здесь воды Евфрата и Тигра. Вокруг ристалища возвели мраморный амфитеатр, вмещавший пятьсот тысяч зрителей. Против амфитеатра воздвигли трон царя, который должен был появиться с Формозантой, сопутствуемый своим двором. Справа и слева, между троном и амфитеатром, расположены были места трех соискателей и всех прочих царей, которые пожелали бы присутствовать на этом августейшем празднестве.
Первым явился египетский фараон. Он ехал верхом на священном быке Аписе, держа в руке систр{754} богини Изиды{755}. Его сопровождали две тысячи жрецов в полотняных одеждах белее снега, две тысячи евнухов, две тысячи магов и две тысячи воинов.
Вслед за ним появился вскоре владыка Индии на колеснице, влекомой двенадцатью слонами. Он был окружен еще более пышной и многочисленной свитой, нежели египетский фараон.
Последним прибыл повелитель скифов. С ним были лишь отборные воины, вооруженные луками и стрелами. Царь восседал на укрощенном им великолепном тигре, не менее рослом, чем самый прекрасный персидский конь. Своей осанкой, представительной и величественной, этот монарх затмевал соперников. Его обнаженные белые и мускулистые руки, казалось, уже натягивали лук Нимврода.
Владыки простерлись перед Белом и Формозантой. Египетский фараон преподнес царевне двух самых прекрасных нильских крокодилов, двух гиппопотамов, двух зебр, двух египетских крыс, две мумии и книги великого Гермеса, — редчайшее земное сокровище, по убеждению владыки.
Царь Индии поднес ей в дар сто слонов, на спинах которых высились деревянные золоченые башенки, и положил к ее стопам «Веды», написанные рукой самого Ксаки{756}.
Скифский царь, не умевший ни читать, ни писать, подарил ей сто боевых коней, покрытых чепраками из шкурок черно-бурых лисиц.
Царевна потупила взор перед своими поклонниками и грациозно, с достоинством, поклонилась им.
Бел приказал усадить царей на предназначенные им места.
— Почему у меня не три дочери? — воскликнул он. — Сегодня я мог бы осчастливить шесть человек.
Затем он повелел бросить жребий, кому первому должно натянуть лук Нимврода. Имена трех соперников бросили в золотой шлем. Первым оказался египетский фараон, вторым — индийский царь. Скифский царь, поглядев на лук и на соперников, не пожалел о том, что его черед — третий.
Пока шли приготовления к этим блистательным испытаниям, двадцать тысяч пажей и двадцать тысяч молодых девушек, ловко проходя по рядам зрителей, предлагали прохладительные напитки. Все единодушно решили, что боги создали царей лишь для того, чтобы ежедневно устраивать празднества, — разумеется, разнообразные; что жизнь слишком быстролетна, чтобы заполнять ее чем-нибудь иным; что тяжбы, интриги, войны, богословские споры, укорачивающие человеческое существование, бессмысленны и отвратительны; что человек рожден лишь для счастья; что не любил бы он столь страстно и неизменно наслаждения, если бы не был создан для них; что жажда радости заложена в человеческой природе, а все остальное — суета. Эта превосходная философия не была опровергнута никогда и ничем, кроме фактов.
Когда все было готово к состязаниям, которые должны были решить судьбу Формозанты, какой-то юный незнакомец, верхом на единороге, в сопровождении слуги, тоже на единороге, подъехал к барьеру, держа на руке большую птицу. Стража была поражена при виде человека богоподобной внешности, восседавшего на столь удивительном звере. Он был, как говорили впоследствии, Геракл станом и Адонис лицом. Величие в соединении с изяществом. Его черные брови и длинные белокурые волосы — прекрасное сочетание, доселе неизвестное в Вавилоне — пленили собравшихся. Весь амфитеатр поднялся, стараясь получше разглядеть его; придворные дамы взирали на него с изумлением, и даже сама Формозанта, которая все время сидела, потупив очи, взглянула на него и покраснела. Три царя побледнели. Зрители, сравнивая Формозанту с незнакомцем, восклицали:
— В целом мире только этот юноша красотой подобен царевне!
Телохранители Бела, придя в себя от удивления, спросили чужеземца, не царь ли он. Он ответил, что судьба не удостоила его этой чести, но что он прибыл издалека, любопытствуя увидеть, есть ли на свете цари, достойные Формозанты. Его провели в первый ряд амфитеатра вместе со слугой, единорогами и птицей. Он низко склонился перед Белом, его дочерью, тремя царями, всем собранием и, зардевшись, занял свое место. Единороги легли у его ног, птица села ему на плечо, а слуга, державший небольшой мешочек, устроился рядом с ним.
Состязания начались. Из золотого футляра был вынут лук Нимврода. Главный церемониймейстер, в сопровождении пятидесяти пажей и предшествуемый двадцатью трубачами поднес лук египетскому фараону, который повелел своим жрецам освятить его, а затем возложил его на голову священного быка Аписа. Теперь он был твердо уверен, что победит в этом первом испытании. Он выходит на середину арены, он пытается натянуть лук, он напрягает все силы, он делает судорожные движения, вызывая смех зрителей, заставляя улыбнуться даже Формозанту.
К нему приближается его верховный жрец.
— Пусть ваше величество, — сказал он, — откажется от этой суетной чести, для которой нужны лишь нервы и мышцы. Вы восторжествуете в остальном. Вы победите льва, ибо вам принадлежит меч Озириса{757}. Царевна вавилонская должна принадлежать тому властелину, который мудрее всех, а вы уже проникли во многие тайны. Она должна стать супругой того, кто всех добродетельнее, а вы являетесь таковым, ибо воспитаны жрецами Египта. Ее должен назвать своей самый щедрый, а вы подарили ей двух самых прекрасных крокодилов и двух самых прекрасных во всей дельте крыс. Вам принадлежат священный бык Апис и книги Гермеса — редчайшие сокровища на земле. Никто не может оспаривать у вас Формозанту.
— Ты прав, — ответил фараон и снова занял свое место.
Лук вручили царю Индии. У того две недели после состязаний не сходили с рук мозоли, и он утешал себя тем, что царь скифов окажется не более счастливым, чем он. И вот царь скифов, в свою очередь, попытался натянуть тетиву. Он проявил и ловкость и силу. Казалось, лук приобрел в его руках некоторую гибкость; царю удалось слегка согнуть его, но натянуть тетиву он так и не смог. Зрители, которым приятное лицо царя внушило симпатию, испустили вздох разочарования при виде его неуспеха и решили, что прекрасной царевне не суждено выйти замуж.
Тогда юный незнакомец одним прыжком соскочил на арену.
— Не удивляйтесь тому, ваше величество, — сказал он царю скифов, — что вы не добились полного успеха. Эти луки из черного дерева выделывают на моей родине, тут необходимо знать, как взяться. Гораздо больше чести для вас согнуть его слегка, чем для меня — натянуть тетиву.
Он взял стрелу, натянул лук Нимврода, и стрела полетела далеко за пределы ристалища. Буря рукоплесканий встретила этот подвиг. Вавилон гремел от приветственных кликов, и женщины восклицали:
— Какое счастье, что столь прекрасный юноша обладает такой силой!
Затем, вынув из кармана маленькую пластинку слоновой кости, он золотой иглой начертал на ней что-то, прикрепил ее к луку и с грацией, восхитившей зрителей, преподнес царевне. Потом скромно возвратился на свое место и сел между птицей и слугой. Вавилоняне были поражены. Трое владык — смущены. Незнакомец, казалось, не замечал этого.
Формозанта удивилась еще более, прочитав на пластинке слоновой кости следующие стихи, написанные на превосходном халдейском языке:
Нимврода лук — оружье боевое, Амура лук — оружие любви. Владея им, блаженство неземное Вы дарите, будя огонь в крови. Вступили три владыки в состязанье, Ваш благосклонный взгляд для них закон. Счастливец тот, чье сбудется желанье, Несчастен тот, что будет побежден.Этот изящный мадригал отнюдь не разгневал царевну. Несколько убеленных сединой царедворцев раскритиковали его, сказав, что в добрые старые времена Бела сравнили бы с солнцем, а Формозанту — с луной, шею ее — с башней, а грудь — с четвериком пшеницы. Они утверждали, что у чужеземца отсутствует воображение и что он отступил от правил истинной поэзии, но дамы нашли стихи весьма изысканными. Они восхищались тем, что человек, столь ловко натянувший тетиву, вместе с тем и столь умен. Статс-дама царевны сказала:
— Ваше высочество, вот поистине таланты, пропадающие втуне. Что принесет этому молодому человеку его ум и лук Нимврода?
— Всеобщее восхищение, — ответила Формозанта.
— Ах, вот как! — пробормотала сквозь зубы статс-дама. — Еще один мадригал — и его полюбят.
Между тем Бел, посоветовавшись со своими магами, объявил, что, хотя ни один из трех царей не натянул тетивы лука Нимврода, тем не менее дочь его обязательно должна вступить в брак, поэтому она будет обвенчана с тем, кто умертвит огромного льва, специально вскормленного в зверинце. Египетский фараон, впитавший всю мудрость своей отчизны, решил, что в высшей степени нелепо подвергать себя, всемогущего владыку, опасности быть растерзанным диким зверем лишь для того, чтобы потом вступить в брак. Он не отрицал, что обладание Формозантой — высокая награда, но полагал, что если лев растерзает его, то тем самым он навсегда лишится возможности стать супругом прекрасной вавилонянки. Царь Индии был того же мнения. Они пришли к заключению, что вавилонский царь издевается над ними; что им следует призвать войска, дабы наказать его; что у них достаточно подданных, которые почтут за честь умереть по приказу своих повелителей, и тогда с их венценосных голов не упадет ни единого волоска; что они легко свергнут с престола царя вавилонского и бросят жребий, кому из них обладать прекрасной Формозантой.
Придя к такому соглашению, оба царя отправили каждый в свою страну гонцов со спешным приказом набрать трехсоттысячную армию, чтобы похитить царевну.
На арену сошел один только скифский царь, вооруженный кривой саблей. Он вовсе не был влюблен без памяти в прелестную Формозанту. До сей поры единственной его страстью была слава, она-то и привлекла его в Вавилон. Он хотел доказать, что если у владык Индии и Египта достало благоразумия не связываться со львом, то у него достанет мужества вступить в этот поединок и восстановить честь царского венца. Его редкостная отвага воспретила ему прибегнуть к помощи тигра. И вот он выступает вперед, столь легко вооруженный, в стальном шлеме с золотой насечкой, на котором реяли три белых, как снег, конских хвоста.
Против него выпускают самого огромного льва, какой когда-либо был вскормлен в горах Антиливана{758}. Казалось, чудовищные когти льва способны растерзать сразу всех трех царей, а огромная пасть — поглотить их. Яростное рычание разносится по всему амфитеатру. Доблестные противники стремительно бросаются навстречу друг другу. Мужественный скиф глубоко вонзает саблю в отверстую пасть льва, но острие, наткнувшись на один из тех крепких клыков, которых ничто не в силах раздробить, разлетается в куски, и чудище, рассвирепев от нанесенной ему раны, уже запускает окровавленные когти в тело царя.
Юный незнакомец, встревоженный опасностью, грозящей отважному царю, молниеносно спрыгивает на арену и отсекает голову льву с той ловкостью, с какой впоследствии наши молодые кавалеры снимали на каруселях голову мавра или кольцо.
Потом, вынув маленькую шкатулку, он преподнес ее скифскому царю со следующими словами:
— Ваше величество, в этой шкатулке вы найдете настоящий ясенец{759}, произрастающий на моей родине; он мгновенно исцелит ваши почетные раны. Лишь случайность помешала вам убить льва, но это отнюдь не умаляет вашей доблести.
Царь скифов, более склонный к признательности, чем к зависти, поблагодарил своего избавителя, нежно обнял его и удалился в свои покои, чтобы приложить ясенец к ранам.
Незнакомец отдал львиную голову своему слуге, тот вымыл ее в водоеме, расположенном ниже амфитеатра, выпустил из нее кровь и, достав из мешка клещи, выдернул из львиной пасти все сорок зубов, а на их место вставил сорок алмазов равной величины.
Его господин, с присущей ему скромностью, возвратился на свое место. Он отдал львиную голову птице.
— Прекрасная птица, — сказал он, — положи к ногам Формозанты этот ничтожный знак моего восхищения.
Птица взлетает, держа в когтях грозный трофей. Она кладет его к ногам царевны, распластавшись перед ней и почтительно изогнув шею. Глаза собравшихся были ослеплены алмазами. В пышном Вавилоне еще не ведали этих великолепных камней. Там считали, что самые драгоценные украшения — это изумруды, топазы, сапфиры и карбункулы. Бел и весь двор пришли в восхищение. Птица, преподнесшая столь прекрасный дар, изумила их еще больше. Величиной она не уступала орлу, но глаза ее были так же кротки и нежны, как горды и грозны орлиные очи. Ее розовый клюв чем-то неуловимо напоминал прелестные уста Формозанты. Шея птицы отливала всеми цветами радуги, но более яркими, более ослепительными. Оперение играло тысячью золотистых оттенков, лапы были словно из серебра и пурпура, и хвосты тех чудесных птиц, которых впоследствии впрягли в колесницу Юноны{760}, меркли перед ее хвостом.
Внимание, любопытство, изумление, восторг всего двора устремлялись то на сорок алмазов, то на птицу. Она примостилась на балюстраде между Белом и его дочерью. Формозанта гладила, ласкала, целовала ее. Птица, казалось, принимала ее ласки с почтительным удовольствием. Когда царевна целовала птицу, та возвращала поцелуй, а потом глядела на нее растроганным взглядом. Она брала от царевны бисквиты и фисташки, хватая их своей серебристо-пурпуровой лапой, и с невыразимой грацией подносила потом к клюву.
Бел, внимательно разглядывавший алмазы, подумал, что едва ли хоть какая-нибудь из его провинций могла бы оплатить стоимость столь богатого дара. Он повелел приготовить для незнакомца подарки роскошнее тех, которые предназначались трем правителям.
— Этот юноша, — сказал царь, — несомненно, сын китайского императора или владыки той части света, которую именуют Европой и о которой до меня доходили слухи, а может быть, он сын африканского царя, чьи земли, говорят, граничат с Египтом.
Царь немедленно отправил своего обер-шталмейстера приветствовать незнакомца и спросить его, не царь ли он одного из этих государств и почему, владея такими изумительными сокровищами, он прибыл в сопровождении лишь одного слуги, нагруженного маленьким мешком.
В то время, как обер-шталмейстер приближался к амфитеатру, чтобы выполнить приказание, появился другой слуга, верхом на единороге. Он обратился к юноше со следующими словами:
— Ормар, отец вага, заканчивает свое земное существование; я прибыл сообщить вам об этом.
Незнакомец поднял глаза к небу, залился слезами и произнес только два слова:
— В путь!
Обер-шталмейстер, передав приветствие Бела победителю льва, дарителю сорока алмазов, хозяину чудесной птицы, спросил у слуги, каким же царством правит отец этого юного героя.
— Его отец — старый пастух, горячо любимый в округе, — ответил слуга.
Пока шел этот короткий разговор, незнакомец успел вскочить на единорога.
— Сударь, — сказал он обер-шталмейстеру, — благоволите передать выражение моей величайшей преданности Белу и его дочери; скажите ей, что я умоляю ее взять на свое попечение птицу, которую оставляю. Птица эта подобна самой царевне — другой такой нет на свете.
Сказав это, он умчался подобно молнии. Двое его слуг устремились вслед за ним и вскоре исчезли из виду.
Формозанта громко вскрикнула. Птица, обернувшись к амфитеатру, где недавно сидел ее хозяин, и не видя его, печально нахохлилась. Затем пристально посмотрела на царевну и нежно потерлась клювом о ее прекрасную руку. Она, казалось, посвящала себя служению ей.
Царь был совершенно ошеломлен, узнав, что необыкновенный юноша — сын пастуха, и не поверил этому. Он приказал догнать его, но вскоре ему доложили, что единорогов, на которых умчались трое всадников, невозможно настичь, ибо таким галопом, каким они скачут, они делают, надо полагать, по сто лье в день.
2
Все толковали об этом странном происшествии и напрасно ломали себе головы, строя всевозможные догадки. Каким образом сын пастуха мог преподнести сорок крупных алмазов? Почему он ездит на единороге? Эти вопросы ставили всех в тупик; меж тем Формозанта, лаская птицу, была погружена в глубокое раздумье.
Княжна Алдея, ее троюродная сестра, стройная и почти столь же прекрасная, как Формозанта, сказала ей:
— Не знаю, кузина, действительно ли этот юный полубог — сын пастуха, но сдается мне, он выполнил все условия, дающие ему право на вашу руку. Он натянул лук Нимврода, он победил льва, он очень умен, ибо посвятил вам довольно изящный экспромт. Вы получили от него сорок огромных алмазов и не станете отрицать, что он самый щедрый из людей. Его птица — редчайшее сокровище на земле, а добродетель ни с чем не сравнима, так как, имея возможность остаться с вами, он тем не менее уехал, едва услышал о болезни отца. Все требования оракула он выполнил, кроме одного, — повергнуть ниц соперников; но он поступил благородней, — спас жизнь единственному, которого мог опасаться. Что же касается двух остальных, то, надеюсь, вы понимаете, как легко он одолел бы их, если бы возникла в том необходимость.
— Все это сущая правда, — ответила Формозанта, — но возможно ли, что величайший из людей, а может быть, и самый любезный из них, сын пастуха?
Статс-дама, вмешавшись в беседу, заметила, что нередко под словом «пастырь» разумеют царя; что пастырями их зовут из-за усердия, с каким они стригут свою паству; что то была, вероятно, лишь неподобающая шутка его слуги; что этот юный герой появился в сопровождении столь скромной свиты лишь затем, чтобы подчеркнуть, насколько присущие ему достоинства превышают блеск царей, и быть обязанным завоеванием Формозанты только самому себе. В ответ на эти слова царевна осыпала птицу нежнейшими ласками.
Тем временем шли приготовления к блистательному пиршеству в честь трех царей и всех властителей, приехавших на празднество. Дочь и племянница царя должны были почтить пир своим присутствием. Царям отнесли подарки, достойные великолепия Вавилона. Бел, в ожидании трапезы, созвал Совет, дабы решить вопрос о браке прекрасной Формозанты. Будучи тонким политиком, он заявил:
— Я стар, ума не приложу, что делать и за кого отдать мою дочь. Заслуживший ее — ничтожный пастух. Царь Индии и фараон Египта — трусы. Царь скифов подошел бы больше других, но он не выполнил ни одного из требуемых условий. Я еще раз спрошу оракула, а вы меж тем посовещайтесь, и смотря по ответу оракула мы решим, что делать, ибо царю всегда надлежит поступать согласно священной воле бессмертных богов.
Он идет в свою молельню. Оракул, как обычно, отвечает кратко: «Дочь твоя вступит в брак не раньше, чем постранствует по свету». Изумленный Бел возвращается и сообщает собравшимся этот ответ.
Все министры питали глубокое уважение к оракулам, все признавали или делали вид, что признают, будто они — основа религии, что разуму должно умолкнуть перед ними, что с их помощью цари управляют народами, а жрецы — царями, что, не будь оракулов, не было бы на земле ни добродетели, ни покоя. В конце концов, выразив оракулу самое глубокое почтение, министры почти единогласно решили, что на этот раз предсказание оказалось дерзким, что ему не следует подчиняться, что непристойно девице, к тому же дочери могучего царя Вавилона, пускаться в бесцельные странствия, что это верный способ или никогда не выйти замуж, или обвенчаться тайно, недостойно, неприлично; одним словом, что оракул этот лишен здравого смысла.
Самый молодой и самый умный из министров, по имени Онадаз, сказал, что, несомненно, оракул имел в виду какое-нибудь паломничество к святым местам, и предложил сопровождать царевну. Совет согласился с его мнением, но каждый предлагал в сопровождающие себя. Царь решил, что царевна может отправиться в храм, находящийся в трехстах парасангах от города по дороге в Аравию, на поклонение святому, слывшему устроителем счастливых браков, и что сопровождать ее будет старейшина Совета. Приняв это решение, все отправились ужинать.
3
Среди садов, между двумя каскадами, высился овальной формы чертог в триста футов диаметром. Его лазоревый свод, усеянный золотыми звездами, воспроизводил точное расположение созвездий и планет. Он вращался, подобно заоблачной тверди, управляемый такими же невидимыми механизмами, как те, которые управляют движением небес. Сто тысяч светильников в цилиндрах из горного хрусталя озаряли столовую изнутри и снаружи. Буфет, имевший вид амфитеатра, заключал в себе двадцать тысяч золотых ваз и блюд. Ступени напротив были заняты музыкантами. Два других амфитеатра были наполнены один — плодами всех времен года, второй — хрустальными амфорами, в которых искрились вина со всей земли.
Гости заняли места за пиршественным столом, изукрашенным цветами и фруктами из драгоценных камней. Прекрасная Формозанта сидела между царем индийским и фараоном египетским, прекрасная же Алдея сидела рядом с царем скифов. Было еще тридцать других государей, и возле каждого сидела какая-нибудь придворная красавица. Царь Вавилона, восседавший напротив дочери, казалось, и скорбел, что не нашел ей достойного супруга, и в то же время радовался, что она еще с ним. Формозанта попросила у него разрешения посадить свою птицу возле себя на столе. Царь охотно согласился.
Под звуки музыки монархи могли непринужденно беседовать. Пир протекал и весело и пышно. Формозанте подали рагу, любимое кушанье Бела. Она сказала, что это яство следовало бы сперва подать его величеству; с неподражаемой ловкостью птица тотчас же схватила блюдо и поднесла царю. Все несказанно удивились. Бел, как и его дочь, приласкал птицу, после чего та полетела обратно к Формозанте. На лету птица распустила такой чудесный хвост, ее распростертые крылья отливали такими дивными красками, золото оперения так ослепительно блестело, что все не сводили с нее глаз. Музыканты перестали играть и словно окаменели. Никто не ел, разговоры прекратились, слышен был лишь восхищенный шепот. В продолжение всего ужина царевна ласкала птицу, забыв обо всех царях на свете. Цари же — индийский и египетский — все больше досадовали и возмущались, и каждый дал себе слово ускорить прибытие своих трехсоттысячных армий, чтобы отомстить за пренебрежение к себе.
Что же до скифского царя, то он был поглощен беседой с прелестной Алдеей. Его гордое сердце отвечало презрением на холодность Формозанты и было исполнено скорее безразличием, нежели обидой и гневом.
— Она прекрасна, слов нет, — говорил он, — но, кажется, принадлежит к числу тех женщин, которые поглощены лишь своей красотой и полагают, что род человеческий должен быть им очень признателен, если они удостоят показаться в свете. В моей стране не поклоняются идолам. Я предпочел бы приветливую и обходительную дурнушку этой прекрасной статуе. Вы, ваше высочество, не менее очаровательны, однако снисходите до беседы с чужеземцами. С откровенностью скифа признаюсь, что отдаю предпочтение вам перед вашей кузиной.
Однако он заблуждался относительно характера Формозанты: она не была такой высокомерной, какой казалась, но комплимент его был весьма благосклонно принят княжной Алдеей. Беседа их становилась все оживленнее, они были очень довольны друг другом и уже до того, как закончился пир, вполне сговорились.
После ужина все отправились погулять в сад. Царь скифов и Алдея отыскали укромную беседку. Алдея, очень откровенная по натуре, сказала царю:
— Я не питаю ненависти к кузине, хотя она прекраснее меня и ей предназначен трон Вавилона. Я имею честь нравиться вам — мне это дороже красоты. Скифию с вами я предпочитаю Вавилону без вас. Но по праву, если только в мире вообще существует право, вавилонская корона принадлежит мне, ибо я происхожу от старшей ветви потомков Нимврода, а Формозанта — от младшей. Ее дед отнял престол у моего деда и приказал его казнить.
— Так вот как уважают кровное родство цари Вавилона! — воскликнул скиф. — Как звали вашего деда?
— Его имя было Алдей, как мое. Отец мой носил то же имя, он вместе с матерью был сослан в глубь страны, и Бел, успокоившись после их смерти, пожелал воспитывать меня вместе со своей дочерью, но решил никогда не выдавать замуж.
— Я отомщу за вашего отца, за вашего деда и за вас! — заявил царь скифов. — Ручаюсь вам, что вы выйдете замуж. Я увезу вас на утренней заре послезавтра, потому что завтра должен присутствовать на обеде у вавилонского царя, а затем вернусь сюда с трехсоттысячной армией и восстановлю ваши попранные права.
— Я буду ждать вас, — отвечала прекрасная Алдея, и, поклявшись друг другу в верности, они расстались.
Давно уже несравненная Формозанта удалилась к себе в опочивальню. Она приказала поставить возле своего ложа серебряный ящик с апельсинным деревцем, чтобы птица могла дремать на его ветвях. Полог был задернут, но Формозанте не спалось, слишком взволнованы были ее сердце и воображение. Перед ее мысленным взором всплывал образ прекрасного незнакомца. То она видела, как он натягивает лук Нимврода, то следила, как одним взмахом сабли отсекает голову льву, то повторяла его мадригал; наконец, она представила себе, как, вырвавшись из толпы, он мчится на своем единороге, — и, разразившись рыданиями, горестно воскликнула:
— Я никогда не увижу его больше! Он никогда не вернется!
— Он вернется, ваше высочество, — ответила ей с верхушки апельсинного дерева птица. — Можно ли, однажды увидев вас, не загореться желанием увидеть вновь?
— О, небо! О, силы небесные! Моя птица заговорила на чистейшем халдейском языке! — воскликнула царевна и, откинув полог, встала на колени и протянула к ней руки. — Не божество ли вы, сошедшее на землю, не таится ли сам великий Оромазд под этим дивным оперением? Прошу вас, если вы божество, верните мне прекрасного юношу.
— Я всего лишь птица, — сказала та, — но я родилась еще в ту пору, когда животные умели говорить, и птицы, змеи, ослицы, кони, грифы запросто беседовали с людьми. Я не хотела говорить в присутствии людей из опасения, что ваши придворные дамы примут меня за колдунью, и решила открыться вам одной.
Потрясенная, сбитая с толку, очарованная такими чудесами, Формозанта взволнованно требовала ответов на сотни вопросов. Но прежде всего она хотела знать, сколько же птице лет.
— Двадцать семь тысяч девятьсот лет и шесть месяцев, ваше высочество, — ответила та. — Мне столько же лет, сколько длится малое возмущение небесных тел, которое ваши жрецы именуют предварением равноденствия, то есть около двадцати восьми тысяч лет по вашему летоисчислению. Бывают возмущения куда более длительные, равно как бывают среди нас создания куда более древние, чем я. Двадцать тысяч лет назад, во время одного из моих путешествий, я научилась говорить по-халдейски. Мне очень нравится этот язык, но мои соплеменники отказались говорить на нем в ваших краях.
— Почему же, моя божественная птица?
— Потому, увы, что люди начали поедать нас, вместо того чтобы учиться у нас и беседовать с нами. Варвары! Им следовало бы понять, что мы, обладая теми же органами, теми же чувствами, теми же потребностями, теми же стремлениями, что и они, обладаем и так называемой душой, что мы — сродни людям и что варить и есть можно только злых животных. Мы настолько родственны вам, что великий творец, бессмертный создатель, заключив договор с людьми[28], сознательно упомянул в нем о нас. Он запретил вам питаться нашей кровью, а нам — высасывать вашу.
Басни вашего древнего Локмана{761}, переведенные на множество языков, останутся незыблемым свидетельством того счастливого общения, которое вы когда-то поддерживали с нами. Все они начинаются словами: «В ту пору, когда животные умели говорить». Правда, многие ваши женщины и сейчас еще разговаривают со своими собаками, но те решили никогда больше не отвечать им, с тех пор как ударами плети их стали принуждать охотиться и таким образом становиться сообщниками убийства наших прежних общих друзей: оленей, ланей, зайцев и куропаток.
В ваших древних поэмах кони говорят на человеческом языке, а ваши возницы и ныне обращаются к ним с речами, но при этом употребляют такие грубые и подлые слова, что эти животные, некогда очень привязанные к вам, стали вас ненавидеть.
Страна, где проживает ваш прекрасный незнакомец, самый совершенный из людей, — единственная страна, где людская порода еще умеет любить нас и беседовать с нами, и это единственный край на земле, где люди справедливы.
— Где же находится страна моего дорогого незнакомца? Как имя этого героя? Как называется государство, которым он правит? Мне столь же трудно поверить в то, что он пастух, как в то, что вы — летучая мышь.
— Его страна, ваше высочество, — это страна гангаридов, народа добродетельного и несокрушимого, населяющего восточный берег Ганга. Имя моего друга — Амазан. Он не царь, и я сильно сомневаюсь, чтобы он пожелал низвести себя до этого сана. Он слишком любит своих соотечественников, поэтому он такой же пастух, как они. Но не думайте, что эти пастухи похожи на ваших, едва прикрытых лохмотьями, которые пасут овец, одетых неизмеримо теплее, чем они, и, изнемогая под бременем нищеты, выплачивают сборщику податей половину своего жалкого заработка. Среди гангаридских пастухов царит равенство, они — хозяева бесчисленных овец, пасущихся на вечноцветущих равнинах. Овец этих никогда не убивают, ибо нет большего оскорбления Гангу, чем убить и съесть себе подобного. Шерсть этих овец, более тонкая и блестящая, чем самый великолепный шелк, служит главным предметом торговли со странами Востока. К тому же земля гангаридов родит все, чего только может пожелать человек. Эти крупные брильянты, которые Амазан имел честь поднести вам, добыты из россыпи, ему принадлежащей. Все гангариды, так же как и он, ездят на единорогах. Это самое прекрасное, самое гордое, самое грозное и самое ласковое из животных, украшающих землю. Достаточно сотни гангаридов и сотни единорогов, чтобы рассеять бессчетное войско. Около двухсот лет назад некий индийский царь был столь безумен, что, пожелав завоевать страну гангаридов, явился туда в сопровождении десяти тысяч слонов и миллиона воинов. Единороги пронзали слонов, словно тех полевых жаворонков, нанизанных на маленькие золотые вертелы, которых я видела на вашем столе во время пира. Под взмахами сабель гангаридов враги падали, как стебли риса, срезанные жителями Востока. Царя и более шестисот тысяч воинов взяли в плен. Его омыли в целебных водах Ганга и заставили есть только то, что едят местные жители, то есть растения, самой природой предназначенные в пищу всему живому. В людях, питающихся убоиной и отравленных крепкими винами, течет кровь прокисшая и воспаленная, она на сто ладов сводит их с ума, и главное их безумие — это страсть проливать кровь ближних и опустошать плодородные земли, чтобы потом царствовать над кладбищами. Полгода понадобилось для полного исцеления царя Индии. Когда врачи убедились наконец, что пульс его стал ровнее и разум просветлел, они представили Совету гангаридов свидетельство о состоянии его здоровья. Совет, выслушав также мнение единорогов, великодушно разрешил царю Индии, глупым придворным и невежественным воинам возвратиться к себе на родину. Этот урок образумил их, и с той поры народы Индии уважают гангаридов, подобно тому как у вас невежды, жаждущие знаний, уважают халдейских философов, сравняться с которыми не могут.
— Кстати, моя дорогая птица, есть ли у гангаридов религия? — спросила царевна.
— Конечно, ваше высочество! Каждое полнолуние мы собираемся, чтобы возблагодарить бога. Мужчины — в обширном храме из кедра, женщины, боясь отвлечься, — в другом таком же храме. Все птицы слетаются в рощу, четвероногие собираются на чудесном лугу. Мы благодарим бога за все ниспосланные нам дары. А самые лучшие проповеди произносят у нас попугаи. Такова отчизна моего дорогого Амазана. Там живу и я. Мои дружеские чувства к нему столь же горячи, как любовь, которую он внушил вам. Поверьте мне: поедемте туда, вы отдадите ему визит.
— Поистине, дорогая птица, вы занялись отличным ремеслом, — сказала, улыбаясь, царевна, горевшая желанием отправиться в путь, но не дерзавшая высказать это.
— Я служу моему другу, — отвечала птица, — и величайшее благо, после счастья любить вас, это — способствовать вашей любви.
Формозанта никак не могла прийти в себя: ей казалось, что она парит над землей. Все, чему она в течение дня была свидетельницей, все, что видела сейчас, все, что слышала, а главное, все, что ощущала в своем сердце, дарило ей упоение, далеко превосходящее то, которое испытывают взысканные судьбою мусульмане, когда, освобожденные от земных уз, они зрят себя на девятом небе, в объятиях гурий, и их опьяняет и овевает слава и небесное блаженство.
4
Всю ночь царевна провела в расспросах об Амазане. Она теперь называла его не иначе, как «мой пастушок», — прозвище, которое с тех пор у многих народов стало тождественно со словом «возлюбленный». То она хотела знать, не было ли у Амазана других возлюбленных. «Нет», — отвечала птица, и Формозанта чувствовала себя на вершине счастья. То она допытывалась, какой образ жизни он ведет, и с восторгом узнавала, что он занят добрыми делами, содействует развитию искусств, старается проникнуть в тайны природы, стремится к самоусовершенствованию. То она спрашивала, почему, если душа птицы сродни душе ее возлюбленного, птица прожила двадцать восемь тысяч лет, а возлюбленный — лишь восемнадцать — девятнадцать? Она задавала сотни подобных вопросов, на которые птица отвечала сдержанно, чем еще сильнее возбуждала ее любопытство. Наконец сон смежил их очи и отдал Формозанту во власть ниспосылаемых богами сладостных сновидений, которые живостью своей превосходят порою самое действительность и дать истолкование которых не всегда может даже халдейская философия.
Формозанта проснулась очень поздно. В опочивальне еще царил полумрак, когда отец ее вошел к ней. Птица встретила его величество с изысканной почтительностью, вышла ему навстречу, захлопала крыльями, изогнула шею и затем снова взлетела на апельсинное дерево. Царь присел на ложе дочери, еще больше похорошевшей от приятных сновидений. Коснувшись длинной бородой ее прекрасного лица и дважды поцеловав, царь сказал:
— Дорогая дочь моя, вопреки моим надеждам, вчера вы не смогли обрести себе супруга. Однако вы должны выйти замуж, этого требует благо государства. Я советовался с оракулом, который, как вам известно, никогда не лжет и руководит всеми моими поступками. Он приказал мне отправить вас странствовать. Вам необходимо совершить путешествие.
— Ах, — воскликнула царевна, — конечно, к гангаридам!
Но как только у нее вырвались эти необдуманные слова,
она спохватилась, что сболтнула лишнее. Царь, не имевший никакого понятия о географии, спросил ее, кто такие эти гангариды. Формозанта легко нашла отговорку. Царь сообщил ей, что она должна совершить паломничество, что он уже назначил людей в ее свиту. Это — старейшина Государственного совета, верховный жрец, придворная дама, врач, аптекарь и ее птица, а также необходимое ей число слуг. Формозанта, которая никогда не покидала дворца своего царственного родителя и вплоть до дня празднества в честь трех владык и Амазана вела жизнь хотя и полную обманчивого веселья, но однообразную и подчиненную пышному придворному этикету, была в восторге от предстоящего ей паломничества. «Кто знает, — думала она, — быть может, боги внушат моему дорогому гангариду мысль тоже предпринять паломничество к тому же храму, и мне улыбнется счастье повстречать паломника?» Она нежно поблагодарила отца, уверив его, что всегда чувствовала тайное влечение к божеству, поклониться которому ее посылают.
Царь дал в честь гостей изысканный обед, на котором присутствовали только мужчины. Выбор приглашенных оказался неудачным: цари, князья, министры, священники — все завидовали друг другу, все взвешивали каждое свое слово, все были в тягость своим соседям и самим себе. Трапеза протекала уныло, невзирая на обильные возлияния. Обе царевны не выходили из своих покоев, занятые предотъездными хлопотами. Каждая пообедала в скромном уединении. Затем Формозанта отправилась на прогулку в дворцовый парк, взяв с собой свою дорогую птицу; та, чтобы ее позабавить, перелетала с дерева на дерево, распустив свой великолепный хвост и блистая божественным оперением.
Египетский фараон, разгоряченный вином, чтобы не сказать пьяный, приказал своему пажу подать ему лук и стрелы. По правде говоря, этот правитель был самым неловким стрелком в своем государстве. Когда он стрелял в цель, самым безопасным местом было то, куда он метил. Но дивная птица, такая же быстрая в полете, как стрела, метнулась под выстрел и упала, истекая кровью, на руки Формозанте. Фараон, глупо засмеявшись, удалился в свои покои. Царевна пронзительно закричала, зарыдала, стала раздирать ногтями себе лицо и грудь. Птица, умирая, прошептала:
— Сожгите меня и непременно отвезите мой пепел в Счастливую Аравию, к востоку от города Адема, или Эдема, там положите его на солнце, на небольшой костер из гвоздичного и коричного деревьев.
И она испустила дух.
Долго лежала Формозанта в беспамятстве, а когда пришла в себя, залилась снова слезами.
Отец разделял ее скорбь и проклинал фараона, не сомневаясь, что это происшествие предвещает мрачное будущее. Он немедленно отправился к оракулу, дабы испросить у него совета. Оракул сказал: «Все вместе — смерть и жизнь, измена и постоянство, утрата и выигрыш, бедствие и счастье». Ни царь, ни члены Совета ничего не поняли, но все же владыка был доволен, что совершил обряд благочестия.
Пока он вопрошал оракула, его безутешная дочь, приказав исполнить предсмертную волю птицы, решила увезти ее пепел в Аравию, хотя бы и рискуя жизнью. Птицу вместе с апельсинным деревом, на котором та ночевала, завернули в ткань из горного льна и сожгли. Царевна собрала пепел в золотую урну, украшенную карбункулами и брильянтами, извлеченными из львиной пасти. Ах, если бы она могла вместо исполнения этого печального похоронного обряда заживо сжечь ненавистного египетского фараона! Это было ее единственное желание. В порыве досады она приказала убить двух его крокодилов, обоих гиппопотамов, обеих зебр, обеих крыс и бросить в Евфрат обе его мумии; попадись ей в руки бык Апис, она и его не пощадила бы.
Египетский фараон, вне себя от подобного оскорбления, немедленно покинул страну, намереваясь ускорить прибытие своей трехсоттысячной армии. Индийский царь, видя, что его союзник отбыл, в тот же день последовал его примеру, твердо решив присоединить триста тысяч своих воинов к египетскому войску. Царь скифов, вместе с Алдеей, тайно уехал ночью, непреклонно решив возвратиться во главе трехсоттысячной армии скифов, чтобы отвоевать у узурпатора вавилонское царство, принадлежащее Алдее, как единственной представительнице старшей ветви. В свою очередь, прекрасная Формозанта в три часа утра пустилась в путь, сопровождаемая свитой и утешаясь мыслью, что едет в Аравию исполнить последнюю волю своей птицы и что, быть может, милость бессмертных богов вернет ей дорогого Амазана, без которого жизнь казалась ей теперь невозможной.
Итак, царь вавилонский, проснувшись, оказался в одиночестве.
— Конец празднествам! — воскликнул он. — Но какую странную пустоту ощущаешь в душе после всего этого шума и суеты! — Однако он воспылал поистине царским гневом, когда узнал о похищении Алдеи. Он приказал разбудить всех министров и созвать Совет. В ожидании их прихода он не преминул обратиться к оракулу, но не добился от него иных слов, кроме тех, которые стали потом знамениты во всем мире: «Если девушек не выдают замуж, они сами находят себе мужей».
Немедленно отдан был приказ трехсоттысячной армии выступить в поход против скифского царя. И вот вспыхнула одна из самых ужасных войн, вызванная самым блистательным из всех возможных празднеств.
Четыре армии, по триста тысяч человек каждая, обрекали Азию на опустошение. Всякий поймет, что Троянская война, удивившая несколько столетий спустя весь мир, была по сравнению с этой войной лишь детской забавой, но следует также принять во внимание, что в Троянской войне распря возникла из-за женщины уже пожилой и весьма распутной, дозволившей дважды себя похитить{762}, тогда как здесь дело касалось двух девушек и птицы.
Индийский царь решил поджидать свою армию на широкой, великолепной дороге, которая тянулась тогда от Вавилона до Кашмира. Скифский царь с Алдеей выбрали живописный путь, который вел к горе Имаус. Впоследствии все эти дороги из-за небрежного к ним отношения исчезли. Египетский фараон направился на запад и двинулся вдоль берегов небольшого моря, именуемого Средиземным, которое невежественные евреи прозвали потом «Великим морем».
А прекрасная Формозанта следовала по Бассорской дороге, обсаженной высокими пальмами, всегда дававшими тень и во все времена года приносившими плоды. Храм, куда она направлялась на поклонение, находился в самой Бассоре. Святой, в честь которого он был воздвигнут, мало чем отличался от того, которому впоследствии поклонялись в Лампсаке{763}. Он не только раздобывал девушкам мужей, но нередко сам заменял их. Это был наиболее чтимый в Азии святой.
Формозанту ничуть не занимал бассорский святой. Ей грезился лишь ее любимый гангаридский пастух, ее прекрасный Амазан. Она предполагала сесть в Бассоре на корабль и отправиться в Счастливую Аравию, чтобы исполнить последнюю волю птицы.
На третьем ночлеге, едва лишь она вошла в гостиницу, где гоффурьеры приготовили для нее помещение, как ей доложили, что туда же прибыл и фараон Египта. Получив от своих шпионов сведения о пути следования царевны, он, в сопровождении многочисленной свиты, тотчас же изменил первоначально намеченный путь.
Он приезжает в гостиницу, он ставит у всех выходов стражу, он поднимается в опочивальню прекрасной Формозанты и говорит ей:
— Ваше высочество, именно вас-то я и искал. Вы мало обращали на меня внимания в Вавилоне. Справедливость требует, чтобы спесивые и ветреные девицы были наказаны; вы окажете мне любезность и отужинаете со мной сегодня вечером; вы разделите со мной ложе, а в дальнейшем я поступлю в зависимости от того, буду я вами доволен или нет.
Формозанта тотчас же сообразила, что сила не на ее стороне. Она великолепно понимала, что здравый смысл требует применяться к обстоятельствам, и решила отделаться от фараона с помощью какой-нибудь невинной хитрости. Искоса взглянув на него, что много веков спустя стало называться «делать глазки», вот что молвила она ему с такой скромностью, прелестью, вкрадчивостью и множеством иных очаровательных ужимок, которые могли бы свести с ума самого разумного мужчину и ослепить самого прозорливого.
— Признаюсь вам, ваше величество, что я ни разу не осмеливалась взглянуть на вас, когда вы удостоили моего царственного отца чести посетить его. Я боялась собственного сердца, стыдилась своего чрезмерного простодушия. Я трепетала, опасаясь, что мой отец и ваши соперники заметят предпочтение, которое я оказываю вам, чего вы, несомненно, заслуживаете. Но теперь я могу свободно отдаться своим чувствам. Клянусь быком Аписом, которого после вас почитаю больше всего на свете, что ваши предложения восхищают меня. Я уже имела честь ужинать с вами у царя, моего отца, и еще раз с удовольствием поужинаю с вами здесь, не стесняемая его присутствием. Единственно, о чем я прошу вас, — пусть ваш верховный жрец выпьет вместе с нами. В Вавилоне он показался мне очень приятным сотрапезником. У меня с собой чудесное ширазское вино, я хочу, чтобы вы оба отведали его. Что же касается вашего второго предложения, то оно очень соблазнительно, но не пристало знатной девушке говорить об этом. Удовлетворитесь тем, что я считаю вас самым могущественным правителем и самым очаровательным мужчиной.
Эти слова вскружили фараону голову. Он охотно согласился позвать на ужин верховного жреца.
— Хочу просить вас еще об одной милости, — сказала царевна. — Допустите ко мне моего аптекаря. Молодые девушки часто страдают легкими недугами, требующими известного внимания. То у них головокружение, то сердцебиение, то колики, то удушье, — болезни, которые при некоторых обстоятельствах нуждаются в лечении. Одним словом, мне срочно нужен мой аптекарь, и, надеюсь, вы не откажете мне в этом скромном доказательстве любви.
— Ваше высочество, — ответил фараон, — хотя мы с аптекарем стоим на совершенно противоположных точках зрения и орудия его ремесла не совпадают с моими, но я слишком хорошо воспитан, чтобы отказать вам в такой законной просьбе. Я велю, чтобы он явился к вам еще до ужина. Несомненно, путешествие несколько утомило вас. Вам, конечно, необходима служанка. Прикажите позвать ту, которая вам всего приятнее, а затем я буду ждать ваших повелений и надеяться на вашу благосклонность.
Он удалился. Вошли аптекарь и служанка по имени Ирла Царевна вполне доверяла ей. Она приказала Ирле принести шесть бутылок ширазского вина к ужину и таким же вином напоить всю стражу, несущую караул возле арестованных вавилонских офицеров. Затем она приказала аптекарю всыпать в бутылки снотворное, от которого люди засыпали на двадцать четыре часа и которое аптекарь всегда держал про запас. Ее приказания были исполнены в точности. Через полчаса явился фараон в сопровождении верховного жреца. Ужин прошел очень оживленно. Фараон и жрец осушили шесть бутылок до дна и признали, что подобного вина в Египте не найти. Служанка постаралась напоить слуг, которые подавали к столу… Сама Формозанта не выпила ни капли, объясняя это тем, что врач предписал ей диету. Вскоре все уснули.
У верховного жреца египетского фараона была борода роскошнее, чем у любого другого представителя его сана. Формозанта очень ловко отрезала ее и, приказав пришить к ленточке, подвязала потом к своему подбородку. Она облачилась в одеяние жреца и нацепила на себя все его знаки отличия, а служанку нарядила жрецом богини Изиды. Захватив урну и драгоценности, она вышла из гостиницы, благополучно миновав стражей, спавших так же крепко, как их господин. Сопровождавшая ее служанка позаботилась о том, чтобы у ворот стояли две оседланные лошади. Царевна не могла взять с собой никого из своей свиты, иначе их задержал бы наружный караул.
Формозанта и Ирла проехали сквозь двойной ряд воинов, принимавших царевну за верховного жреца, величавших ее «ваше преосвященство» и просивших благословения. Беглянки добрались до Бассоры за сутки, прежде чем фараон успел проснуться. Сбросив, чтобы не возбуждать подозрений, свое маскарадное одеяние, они спешно зафрахтовали судно, которое доставило их через Оромаздский пролив к прекрасному берегу Эдема, в Счастливую Аравию. Это был тот самый Эдем, сады которого так прославились, что впоследствии их стали считать обителью праведников. Они явились прообразом Елисейских полей{764}, садов Гесперид и садов на островах Счастья{765}, ибо обитатели жарких стран не мыслят себе большего блаженства, нежели тенистая сень и журчание воды. Человеческие существа, которые так и не научились понимать друг друга и не умеют ни мыслить, ни точно выражаться, считают, что вечная жизнь на небесах перед ликом божества равноценна прогулкам по райским садам.
Как только царевна прибыла в эту страну, она поспешила воздать своей дорогой птице погребальные почести, которые та перечислила перед смертью. Своими прекрасными руками она сложила из гвоздичных и коричных сучьев небольшой костер. Каково же было ее изумление, когда, рассыпав на эти сучья прах птицы, она увидела, что костер вспыхнул сам собой. Все быстро сгорело, но теперь вместо пепла там лежало большое яйцо, из которого затем вылупилась ее птица, еще более ослепительная, чем прежде. Это было самое прекрасное мгновенье в жизни царевны. Прекраснее могло быть лишь одно; она страстно желала этого, но не смела надеяться.
— Теперь я вижу, — сказала она, — что вы птица Феникс, о которой мне так много рассказывали. Я готова умереть от радости и удивления. Прежде я никогда не верила в воскресение мертвых, но счастье мое убедило меня.
— Ваше высочество, воскресение из мертвых — самое обычное явление в мире, — ответил ей Феникс. — Родиться дважды не менее естественно, чем родиться один раз. Все в мире возрождается. Гусеница воскресает в бабочке, орех, упавший наземь, — в дереве. Все животные, зарытые в землю, перерождаются в травы, в растения, и питают других животных, становясь, таким образом, их плотью. Все частицы, составлявшие некогда живое существо, превращаются в другие существа. Правда, только мне могущественный Оромазд даровал милость — воскресать в своем былом обличье.
Формозанта, которая с той поры, как увидела Амазана и Феникса, не переставала ежеминутно удивляться, сказала:
— Я понимаю, что великое божество могло возродить из вашего праха птицу Феникс, очень на вас похожую, но, признаюсь, мне непонятно, как можете вы быть тем же существом и обладать той же душой, какой обладали: где она была, пока я после вашей смерти носила вас в кармане?
— Боже мой, ваше высочество, разве великому Оромазду труднее сохранить крошечную искру — мою душу, нежели сотворить ее вновь? Некогда он уже даровал мне чувства, память, способность мыслить и вот опять дарует их. Благословил ли он этой милостью только частицу таящегося во мне первоначального огня или все мое существо — от этого ведь ничего не меняется. И птица Феникс, и люди никогда не узнают, как это происходит. Но величайшее благодеяние, оказанное мне божеством, состоит в том, что воскресило оно меня для вас. Ах, почему те двадцать восемь тысяч лет, которые мне суждено прожить до нового возрождения, я не смогу провести с вами и моим дорогим Амазаном!
— Мой милый Феникс, вспомните, что первые слова, сказанные вами мне в Вавилоне, слова, которые я никогда не забуду, окрылили меня надеждой вновь увидеть моего дорогого пастуха. Давайте же вместе отправимся к гангаридам, а затем привезем его в Вавилон.
— Таково и мое намерение, — сказал Феникс. — Нельзя терять ни минуты. Мы помчимся к Амазану кратчайшим путем, то есть по воздуху. В Счастливой Аравии, всего в ста пятидесяти милях отсюда, живут два грифа, мои близкие друзья. Я пошлю им с голубиной почтой письмо, и они прилетят сюда еще до наступления темноты. Мы успеем заказать для вас небольшой удобный диван с ящиками для необходимой провизии; вам и вашей служанке будет очень уютно в такой повозке. Эти грифы — самые сильные среди им подобных. Каждый вцепится когтями в одну из ручек дивана. Но повторяю: дорого каждое мгновение.
Птица тут же отправилась с Формозантой к знакомому мебельному мастеру и заказала диван. Спустя четыре часа он был готов. Ящики его набили сдобными хлебцами, бисквитами, превосходившими качеством вавилонские, лимонами, ананасами, кокосовыми орехами, фисташками и эдемским вином, которое настолько же вкуснее ширазского, насколько последнее превосходит сюренское.
Диван был и удобен, и легок, и прочен. Грифы прилетели в назначенный час. Формозанта и Ирла уселись в экипаж. Грифы подняли его, словно перышко. Феникс то летал рядом, то садился на спинку дивана. Грифы устремились к Гангу с быстротой стрелы, рассекающей воздух. Остановки были недолгими, лишь ночью, чтобы поесть и напоить пернатых возниц.
Наконец они прибыли в страну гангаридов. Сердце царевны трепетало от надежды, любви, радости. Феникс приказал спуститься возле дома Амазана. Он попросил слуг доложить о нем, но ему ответили, что три часа назад Амазан покинул дом и уехал в неизвестном направлении.
Нет слов даже на языке гангаридов, чтобы передать отчаяние, овладевшее Формозантой.
— Увы! Этого-то я и опасался, — сказал Феникс. — Те три часа, которые вы провели в гостинице, по дороге в Бассору, с этим злополучным египетским фараоном, отняли у вас, быть может навсегда, счастье вашей жизни. Боюсь, что вы безвозвратно утратили Амазана.
Феникс спросил, нельзя ли им приветствовать мать Амазана, но слуги ответили, что супруг ее позавчера скончался и она никого не принимает.
Феникс, бывавший прежде в этом доме запросто, провел вавилонскую царевну в покой, стены которого были обшиты апельсинным деревом и выложены пластинками слоновой кости. Подпаски-мальчики и подпаски-девочки в длинных белоснежных одеждах, опоясанные ярко-оранжевыми лентами, подали ей в ста корзиночках из простого фарфора сто изысканных яств, среди которых не было убоины, зато были рис, саго, манна, вермишель, макароны, омлеты, фрукты, такие душистые и сладкие, о каких не имеют и понятия в других странах. Были также поданы в изобилии прохладительные напитки, куда более вкусные, чем самые лучшие вина.
В то время как царевна вкушала яства, нежась на ложе из роз, четыре павлина или павы, по счастью немые, овевали ее своими блистающими крыльями. Двести птиц, сто пастухов и сто пастушек исполняли концерт. Соловьи, канарейки, малиновки, зяблики вместе с пастушками вели первую партию, пастухи исполняли партии альтов и басов, а в общем все было прекрасно и естественно, как сама природа. Царевна признала, что если Вавилон блистал большей роскошью, то у гангаридов природа была в тысячу раз пленительнее. Но пока звучала утешительная и ласкающая слух музыка, царевна плакала.
— Пастухи и пастушки, соловьи и канарейки наслаждаются любовью, а я в разлуке с гангаридом — героем, достойным предметом моих самых нежных и страстных мечтаний. — Так говорила она своей служанке Ирле.
В то время как она ужинала и то восхищалась, то плакала, Феникс говорил матери Амазона:
— Госпожа моя, вы не можете отказать в свидании вавилонской царевне. Вы знаете…
— Я знаю все, вплоть до ее приключения в гостинице по дороге в Бассору. Сегодня утром мне обо всем рассказал черный дрозд. Этот жестокий дрозд виноват в том, что мой сын, обезумев от отчаяния, покинул отчий дом.
— А было ли вам известно, что царевна воскресила меня?
— Нет, дорогое дитя, дрозд мне сказал, что вы умерли, и я была неутешна. Меня так расстроили ваша смерть, кончина моего мужа, внезапный отъезд сына, что я закрыла для всех двери своего дома. Но так как вавилонская царевна оказала мне честь посетить меня, то скорее зовите ее сюда. Мне необходимо сообщить ей очень важные известия. Прошу и вас присутствовать при этом свидании…
И она тотчас же направилась в соседний покой, навстречу царевне.
Мать Амазана двигалась с трудом — ей было уже около трехсот лет, но красота ее еще не совсем поблекла. Лет в двести тридцать — двести сорок она, видимо, была ослепительно хороша.
Формозанту она приняла почтительно и с достоинством; ее сочувствие и печаль произвели на царевну сильное впечатление.
Формозанта прежде всего выразила ей соболезнование по случаю кончины ее супруга.
— Увы, — ответила мать Амазана, — его смерть касается вас гораздо больше, чем вы думаете.
— Конечно, я очень огорчена, — ответила Формозанта, — ведь он был отцом… — Сказав это, она заплакала. — Только ради него спешила я сюда, подвергаясь множеству опасностей, ради него покинула отца и самый блестящий в мире двор. Царь Египта, которого я ненавижу, похитил меня. Ускользнув от этого насильника, я пролетела огромное пространство, чтобы увидеть того, кого люблю. Я здесь, и что же? Он бежит от меня!
Слезы и рыдания пресекли ее речь.
Тогда заговорила мать Амазана:
— Ваше высочество, когда царь Египта задержал вас и вы ужинали с ним по дороге в Бассору, когда вы вашими прекрасными руками наливали ему ширазское вино, не приметили ли вы порхающего по комнате черного дрозда?
— Приметила, но тогда не обратила на него внимания, а сейчас припоминаю очень отчетливо: когда фараон встал из-за стола, чтобы поцеловать меня, этот дрозд, пронзительно чирикая, вылетел в окно и уже не возвращался.
— Увы, сударыня! — сказала мать Амазана. — Это послужило причиной всех ваших несчастий. Мой сын послал этого дрозда, для того чтобы тот разузнал, как вы себя чувствуете и что происходит в Вавилоне, рассчитывая скоро возвратиться туда, пасть к вашим ногам и посвятить вам всю свою жизнь. Вы и представить себе не можете, как пламенно он вас обожает. Все гангариды умеют любить и хранить верность, но мой сын самый страстный и самый постоянный из них. Дрозд увидел вас в гостинице: вы весело пировали с фараоном и с каким-то гнусным жрецом. Он заметил, наконец, как вы нежно поцеловали того самого царя, который убил Феникса и к которому мой сын питает непреодолимое отвращение. Увидев это, дрозд почувствовал справедливое негодование и улетел, проклиная вашу злосчастную склонность к фараону. Сегодня он вернулся сюда и все рассказал, но, — о небо! — он прилетел в тот час, когда мы с сыном оплакивали смерть его отца, смерть феникса, в тот час, когда Амазан узнал от меня, что приходится вам троюродным братом.
— Силы небесные! Мой троюродный брат! Возможно ли это? Каким образом? О, как я счастлива! И как несчастна — ведь я его оскорбила!
— Сын мой — ваш троюродный брат, — продолжала мать, — и я докажу вам это. Но, обретя родственницу, я потеряла сына. Ему не пережить горя, причиненного поцелуем, который вы подарили царю Египта.
— О тетушка! — воскликнула прекрасная Формозанта. — Клянусь вашим сыном и великим Оромаздом, этот злосчастный поцелуй отнюдь не был изменой, он был самым неопровержимым доказательством любви, какое я могла дать вашему сыну. Ради Амазана я ослушалась отца; ради него совершила путь от Евфрата до Ганга. Будучи захвачена недостойным царем Египта, я лишь обманным путем смогла бежать. Призываю в свидетели прах и душу Феникса, которые были в то время в моем кармане! Он может подтвердить, что я невиновна. Но каким образом сын ваш, рожденный на берегах Ганга, мог оказаться моим родственником, когда наш род уже столько веков царствует на берегах Евфрата?
— Знаете ли вы, — сказала почтенная гангаридка, — что ваш двоюродный дед Алдей был вавилонским царем и что его сверг с престола отец Бела?
— Да, я это знаю.
— А известно вам, что его сын имел рожденную в законном браке дочь, царевну Алдею, воспитанную при вашем дворе? Вот этот-то царь, преследуемый вашим отцом, бежал в нашу благословенную страну, где скрывался под чужим именем. Он стал моим супругом, у нас родился сын Алдей-Амазан, самый прекрасный, самый сильный, самый неустрашимый, самый добродетельный из смертных, а ныне самый безумный. Он отправился на празднество в Вавилон, наслышавшись о вашей красоте. С той поры он боготворит вас, и, быть может, я никогда больше не увижу сына.
Она разложила перед царевной все грамоты, подтверждающие знатность рода Алдеев. Формозанта еле удостоила их взглядом.
— Ах, — воскликнула она, — как можно бесстрастно исследовать то, что любишь! Сердце мое верит вам. Но где Алдей-Амазан? Где мой родственник, мой возлюбленный, мой царь? Где жизнь моя? Куда направил он стопы свои? Я буду искать его на всех планетах вселенной, самым прекрасным украшением которых он является. Я буду искать его на звезде Каноп, на звездах Шит и Альдебаран. Я докажу ему и свою любовь, и свою невиновность.
Феникс подтвердил невиновность царевны в преступлении, якобы совершенном ею, по утверждению дрозда; то есть в том, что она с любовью поцеловала фараона; но необходимо было переубедить в этом Амазана и вернуть его домой. Феникс разослал во все концы птиц и единорогов, и наконец ему донесли, что Амазан отправился в Китай.
— Едем же в Китай! — воскликнула царевна. — Путь туда недолог… Не позже, чем через две недели, я надеюсь возвратить вам сына.
Как плакали, расставаясь, мать гангарида и вавилонская царевна, сколько поцелуев, сколько сердечных излияний!
Феникс тут же приказал заложить в карету шесть единорогов. Мать Амазана предоставила царевне-племяннице охрану в двести всадников и подарила ей несколько тысяч лучших местных алмазов. Феникс, огорченный злом, которое принесла болтливость дрозда, распорядился изгнать из страны всех черных дроздов, и с той поры они уже не водятся на берегах Ганга.
«Царевна Вавилонская»
5
Единороги менее чем за неделю домчали Формозанту, Ирлу и Феникса в Камбалу — столицу Китая. Город этот был обширней Вавилона, и его великолепие было совсем иного рода. Своеобразие обстановки и своеобразие нравов позабавили бы Формозанту, не будь она так поглощена мыслями об Амазане.
Едва лишь китайский император узнал, что к одним из ворот столицы приближается вавилонская царевна, как тотчас же выслал ей навстречу четыре тысячи мандаринов, облаченных в парадные одежды. Все они простерлись перед царевной, и каждый преподнес ей приветствие, начертанное золотыми буквами на свитках алого шелка. Формозанта сказала им, что, будь у нее четыре тысячи языков, она, конечно, тут же ответила бы каждому мандарину в отдельности, но, имея всего лишь один, она просит у мандаринов прощения за то, что поблагодарит их всех вместе.
Мандарины почтительно проводили ее к императору.
Это был самый справедливый, самый вежливый, самый мудрый правитель{766} на земле. Он первый из всех владык своими царственными руками обработал небольшое поле, дабы внушить народу уважение к земледелию. Он первый ввел награды за добродетель, тогда как во всех других странах законы постыдно ограничивались лишь наказанием за преступления. Этот же император только что изгнал из империи шайку чужеземных бонз{767}, прибывших с запада в безрассудной надежде заставить весь Китай мыслить, как они, и, под предлогом провозвестия истины, уже успевших нажить богатства и приобрести влияние.
Вот, увековеченные в летописях страны, подлинные слова, которые произнес император, изгоняя этих иноземцев:
«Вы могли бы посеять здесь столько же зла, сколько посеяли в других местах. Вы прибыли проповедовать догматы нетерпимости самому веротерпимому народу на земле. Я вас изгоняю, чтобы не быть когда-нибудь вынужденным покарать. Вас с почетом проводят до границ моей империи, снабдив всем необходимым, чтобы вы могли спокойно возвратиться в пределы того полушария, откуда вы прибыли. Идите с миром, если можете пребывать в мире, и больше сюда не возвращайтесь».
Царевна вавилонская с радостью узнала об этом приговоре и этих словах. Теперь она была более уверена в благосклонном приеме при дворе, поскольку сама отличалась большой веротерпимостью. Китайский император, обедая с ней вдвоем, был так учтив, что отменил все стеснительные церемонии этикета. Царевна представила ему Феникса, которого император обласкал. Птица села на спинку его кресла. В конце обеда Формозанта доверчиво поведала ему о цели своего приезда и попросила дать приказ найти в Камбалу прекрасного Амазана, о злоключениях которого рассказала, не утаив также своей роковой страсти к юному герою.
— Я его отлично знаю! — воскликнул китайский император. — Пленительный Амазан приехал в мою столицу, чем доставил мне большое удовольствие. Он очаровал меня своей учтивостью. Правда, он очень печален, но прелесть его от этого еще трогательнее. Ни один из моих приближенных не сравнится с ним по уму, ни один мандарин судейского сословия не обладает столь обширными познаниями, ни один мандарин военного звания не отличается столь мужественной и героической внешностью, как он. Его молодость лишь повышает цену его талантов. Будь я столь ничтожен и столь покинут Тянь и Шанди{768}, что мной овладела бы страсть к завоеваниям, я попросил бы Амазана стать во главе моих войск и не сомневался бы, что одержу победу над всей вселенной. Очень жаль, что горе иногда мутит его разум.
— Ах, ваше величество, — с глубокой печалью, душевным волнением и укором воскликнула, залившись румянцем, Формозанта, — почему же вы не пригласили Амазана к обеду? Позовите его скорее, или я умру от горя.
— Ваше высочество, он уехал сегодня утром и не сказал, в какие края направляет свой путь.
Формозанта обратилась к Фениксу:
— О Феникс! Видели ли вы когда-нибудь девушку несчастнее меня? Но, ваше величество, — продолжала она, — почему решился он покинуть так неожиданно столь гостеприимный двор, как ваш, при котором, мне кажется, каждый пожелал бы остаться на всю жизнь.
— Произошло следующее, ваше высочество: одна из самых очаровательных китайских царевен влюбилась в него и назначила ему в полдень свидание у себя. А он уехал на рассвете, оставив моей родственнице письмо, над которым она пролила немало слез: «Прекрасная китайская царевна, вы заслуживаете сердца, которое до вас никогда и никого не любило. Я же дал клятву бессмертным богам любить вечно одну Формозанту, вавилонскую царевну, и научить ее, как обуздывать свои страсти во время путешествий. Она имела несчастье прельститься недостойным фараоном египетским. Я несчастнейший из людей. Я утратил отца, и Феникса, и надежду быть любимым Формозантой. Я покинул угнетенную горем мать и отчизну, ибо не мог оставаться там, где узнал, что Формозанта любит другого. Я поклялся объехать весь мир и при этом сохранить верность своей любви. Вы питали бы ко мне презренье и боги покарали бы меня, нарушь я свою клятву. Изберите себе другого возлюбленного, ваше высочество, и будьте так же верны, как я».
— Ах, отдайте мне это достойное удивления письмо, оно будет моим утешением! — воскликнула прекрасная Формозанта. — В моем несчастье я все же счастлива. Амазан любит меня! Ради меня Амазан отвергает любовь китайских царевен. На всем земном шаре только он один способен одержать над собой такую победу. Он подает мне великий пример верности, но феникс знает, что я в примере не нуждаюсь. Как жестоко лишиться возлюбленного из-за самого невинного поцелуя, который я дала, движимая лишь желанием сохранить верность. Но все же куда он поехал? Какой избрал путь? Благоволите разъяснить это мне — и я еду!
Китайский император ответил, что, судя по полученным сведениям, ее возлюбленный направился в страну скифов. Тотчас же запрягли единорогов, и царевна, сердечно распростившись с императором, двинулась в путь в сопровождении Феникса, служанки Ирлы и всей свиты.
Прибыв в Скифию, она яснее чем когда-либо увидела, насколько люди и правительства отличаются и всегда будут отличаться друг от друга до той поры, пока какой-нибудь народ, более просвещенный, чем остальные, не передаст из рук в руки светоч знания после тысячелетней тьмы невежества и в варварских странах не появятся героические души, сильные и упорные, которые смогут превратить скотов в людей. В Скифии не было городов, а следовательно, и никаких изящных искусств. Кругом простирались лишь обширные степи, и целые племена жили в палатках или повозках. Это зрелище внушало ужас. Формозанта спросила, в какой палатке или повозке обитает царь. Ей ответили, что неделю назад он, во главе трехсот тысяч всадников, двинулся в поход против вавилонского царя, у которого похитил племянницу, прекрасную царевну Алдею.
— Он похитил мою троюродную сестру! — воскликнула Формозанта. — Вот неожиданная новость! Как! Моя кузина, которая почитала за счастье прислуживать мне, теперь царица, а я еще не замужем!
И она приказала немедленно проводить ее в палатку царицы.
Неожиданная встреча в столь отдаленной стране, необычайные новости, которыми они поделились, придали этому свиданию задушевность и заставили их забыть, что они никогда не любили друг друга. Они встретились радостно. Истинную нежность заменила сладостная иллюзия. Они обнимались, проливая слезы, и между ними воцарилась даже дружеская непринужденность и откровенность, так как это происходило не во дворце.
Алдея узнала Феникса и доверенную служанку Ирлу. Она подарила кузине собольи меха, а та подарила ей алмазы. Говорили о войне между царями Скифии и Вавилона, оплакивали участь тех, кого монархи по своей прихоти посылают уничтожать друг друга из-за распрей, с которыми двое порядочных людей могли бы покончить в час. Но главным образом говорили о прекрасном чужестранце, победителе льва, дарителе самых крупных в мире алмазов, авторе мадригала, владельце птицы Феникс, ставшем по вине черного дрозда несчастнейшим из людей.
— Это мой дорогой брат! — говорила Алдея.
— Это мой возлюбленный! — восклицала Формозанта. — Вы, разумеется, видели его? Может быть, он еще здесь? Ибо он ведь знает, кузина, что он ваш брат, и не покинет вас так внезапно, как покинул китайского императора.
— О, боги! Видела ли я его! — воскликнула Алдея. — Он прожил у меня четыре дня. Ах, кузина, как несчастен мой брат! Ложный донос совершенно свел его с ума. Он скитается по свету, не ведая, куда несут его ноги. Вообразите, безумие настолько овладело им, что он отверг любовь самой прекрасной женщины в Скифии. Он уехал вчера, оставив ей письмо, которое привело ее в отчаяние. Теперь он направился к киммерийцам{769}.
— Хвала божеству! — воскликнула Формозанта. — Еще одно отречение, и все из-за меня! Счастье мое превысило мои надежды, как несчастье — мои опасения. Отдайте мне это чудесное письмо, и я уеду, я последую за ним, свято храня свидетельства его верности. Прощайте, кузина, Амазан у киммерийцев, лечу туда и я.
Алдея нашла, что царевна Формозанта, ее кузина, еще более безумна, чем Амазан, но так как она сама недавно пережила приступ той же болезни, отказавшись ради скифского царя от блеска и услад вавилонского двора, и так как женщины всегда сочувствуют безрассудству, причина которого — любовь, то она искренне растрогалась, пожелала Формозанте счастливого пути и обещала содействовать ее любви, если когда-нибудь ей улыбнется счастье новой встречи с братом.
6
Вскоре царевна вавилонская и Феникс приехали в империю киммерийцев, правда, значительно менее населенную, чем Китай, но вдвое превосходящую его размерами, когда-то ничем не отличавшуюся от Скифии, но с некоторых пор ставшую такой же цветущей, как государства, которые чванятся тем, что просвещают другие страны.
После нескольких дней пути Формозанта прибыла в большой город, украшению которого способствовала царствующая императрица{770}. Ее в городе не было: она в ту пору объезжала страну{771} от границ Европы до границ Азии, желая собственными глазами увидеть своих подданных, узнать об их нуждах, найти средства помочь им, умножить благосостояние, распространить просвещение.
Один из главных сановников этой древней столицы{772}, уведомленный о прибытии вавилонянки и Феникса, поспешил устроить царевне торжественную встречу, уверенный, что его государыня, самая любезная и самая блестящая из цариц, будет ему благодарна за то, что он оказал столь высокой особе те же почести, какие оказала бы она сама.
Формозанте отвели покои во дворце, от которого отогнали докучливую толпу. В ее честь устраивали затейливые празднества. Когда царевна удалялась в свои покои, киммерийский вельможа — великий знаток естественных наук — много беседовал с Фениксом, который поведал ему, что когда-то уже побывал в стране киммерийцев, и что теперь этой страны не узнать.
— Каким образом в столь короткий срок совершились такие благодетельные перемены? — удивлялся он. — Не минуло еще и трехсот лет с тех пор, как здесь во всей своей свирепости господствовала дикая природа, а ныне царят искусства, великолепие, слава и утонченность.
— Мужчина положил начало этому великому делу, — ответил киммериец, — а продолжила его женщина. Эта женщина оказалась лучшей законодательницей, чем Изида египтян и Церера{773} греков. Большинство законодателей обладало мыслью ограниченной и деспотической, замкнувшей их кругозор пределами той страны, которой они управляли. Каждый рассматривал свой народ как единственный на свете или же как народ, обреченный жить во вражде с другими. Эти законодатели создавали учреждения каждый только для своего народа, вводили обычаи только для него одного и только для него одного придумывали религию. Вот почему египтяне, столь прославленные своими нагромождениями камней, опустились до скотского состояния и опозорили себя варварскими суевериями. Они смотрят на остальные народы, как на невежд, они не вступают с ними в сношения, и, за исключением царского двора, который иногда пренебрегает низменными предрассудками, вы не встретите ни одного египтянина, который согласился бы есть из того же блюда, каким пользовался чужестранец. Их жрецы жестоки и тупы. Лучше совсем не иметь законов и следовать только велению природы, запечатлевшей в сердцах наших понятие добра и зла, чем подчинять общество столь диким законам.
Наша императрица преследует совершенно иные цели. Она рассматривает свое обширное государство, которое обнимает все меридианы, как существующее для всех народов, живущих на этих меридианах. Первым законом, изданным ею, был закон о свободе вероисповеданий и терпимости ко всякого рода заблуждениям. С присущей ей гениальностью она поняла, что если вероисповедания различны, то законы нравственности повсюду одинаковы. Руководясь этим убеждением, она породнила свой народ с народами всего мира, и киммерийцы относятся к скандинавам и китайцам, как к братьям. Она сделала больше: пожелала, чтобы эта драгоценная веротерпимость, это основное звено, связующее людей, утвердилось бы и у ее соседей{774}. Таким образом, она заслужила имя матери своего народа и заслужит имя благодетельницы рода человеческого, если будет настойчиво преследовать свою цель.
До нее люди, к сожалению облеченные властью, посылали орды убийц грабить неизвестные племена и обагрять их кровью земли, доставшиеся им от предков. Этих убийц называли героями, а разбой венчали славой. Наша государыня прославлена иным: она посылает свои войска, чтобы водворять мир, чтобы препятствовать людям причинять друг другу зло, чтобы заставлять их относиться друг к другу терпимо, и ее знамена — это знамена всеобщего умиротворения.
Восхищенный всем услышанным, Феникс сказал:
— Сударь, я живу на свете двадцать семь тысяч девятьсот лет и семь месяцев, но никогда не приходилось мне видеть ничего подобного тому, о чем вы рассказываете.
Он спросил, известно ли вельможе что-нибудь о его друге Амазане. Киммериец рассказал то же самое, что рассказывали царевне у скифов и в Китае. Едва лишь какая-нибудь придворная дама назначала Амазану свидание, как он, боясь уступить ее домогательствам, покидал очередной императорский двор. Феникс поторопился сообщить Формозанте об этом новом доказательстве постоянства ее возлюбленного, постоянства тем более примечательного, что, по убеждению Амазана, царевна так никогда и не узнает об этом.
Он отбыл в Скандинавию. В этой стране Амазана поразили картины, до сей поры им не виданные. Тут королевская власть и свобода не враждовали{775} между собой — их связывал союз, немыслимый в других государствах{776}. Земледельцы принимали участие в законодательстве наравне с вельможами, а юный правитель{777} подавал блестящие надежды на то, что он станет достойным главой свободной страны. Но еще удивительнее было то, что единственный король, который являлся самым неограниченным властелином на земле в силу договора со своим народом, был одновременно и самым молодым и самым справедливым.
У сарматов Амазан застал на троне философа{778}. Его можно было назвать «королем анархии», ибо он являлся главою сотни мелких правителей, из которых каждый мог одним словом отменить решение всех остальных. Эолу легче было управлять непрестанно спорящими между собой ветрами, чем этому монарху примирять все противоречивые стремления. Он был словно кормчий, чей корабль несется по разбушевавшемуся морю и меж тем не разбивается. Король был превосходным кормчим.
Проезжая эти страны, столь отличные от его родины, Амазан упорно бежал вставших на его пути соблазнов, ибо, постоянно терзаясь мыслью о поцелуе, подаренном Формозантой фараону, он все больше укреплялся в своем поразительном намерении показать царевне пример верности, неколебимой и вечной.
Царевна и Феникс следовали за ним по пятам, отставая лишь на один-два дня. Он был неутомим в своем стремлении вперед, она — в стремлении нагнать его.
Так пересекли они всю Германию, восхищаясь успехами разума и философии в северных краях. Властители там были просвещенные и поощряли свободу мысли. Их воспитание отнюдь не доверялось людям, которые по непониманию или из корысти вводили бы будущих монархов в обман. Они с младых ногтей уважали нравственные правила и презирали суеверия. Во всех этих государствах был уничтожен бессмысленный обычай, ослаблявший и приводивший к вымиранию многие южные страны, — обычай погребать заживо в обширных узилищах{779} множество людей обоего пола, навеки разлучая их друг с другом, ибо несчастных вынуждали дать клятву, что они никогда не будут общаться между собой. Это ужасное безумие, веками поощряемое, опустошало землю не меньше, чем самые жестокие войны.
Северные правители поняли наконец, что если хочешь, чтобы конный завод процветал, то не следует отделять самых сильных жеребцов от кобылиц. Северяне уничтожили также и другие не менее странные и не менее вредные заблуждения.
Наконец-то люди на этих бесконечных просторах осмелились стать разумными, тогда как в других странах еще держались убеждения, будто народами можно управлять лишь до тех пор, пока они тупоголовы.
7
Амазан приехал в Батавию{780}. Его омраченная печалью душа все же испытала сладостное чувство, когда он увидел страну, отдаленно напоминавшую счастливый край гангаридов: свобода, равенство, опрятность, изобилие, веротерпимость. Но женщины там были столь холодны, что ни одна из них не попыталась, как это было повсюду, прельстить его. Ему не пришлось проявить стойкость. Если бы он обратил внимание на этих дам, то легко покорил бы их одну за другой, не будучи любим ни одной. Но он далек был от мысли о победах над сердцами.
Когда Амазан жил среди этого бесцветного народа, Формозанта чуть было не настигла его. Она опоздала, можно сказать, всего лишь на мгновение.
В Батавии Амазану так расхвалили некий остров Альбион, что он решил погрузиться вместе со своими единорогами на корабль, который, подгоняемый попутным восточным ветром, за четыре часа доплыл до берегов этой земли, более прославленной, нежели Тир и остров Атлантида.
Прекрасная Формозанта, следовавшая за ним берегом Двины, Вислы, Эльбы и Везера, добирается наконец до устья Рейна, вливавшего тогда свои быстрые воды в Немецкое море.
Она узнает, что ее дорогой возлюбленный поплыл к берегам Альбиона. Ей кажется, что вдали еще мелькает его корабль. Она не в силах сдержать радостных восклицаний, вызывающих изумление женщин Батавии, которые не представляют себе, что молодой человек может явиться причиной такого восторга. Что же касается Феникса, то на него они не обращали никакого внимания, считая, что его перья меньше годятся на продажу, чем перья гусей или местных болотных птиц. Царевна вавилонская наняла или зафрахтовала два корабля, которые должны были перевезти ее со свитой на тот счастливый остров, чьим гостем вскоре станет единственный предмет ее желаний, дыхание ее жизни, кумир ее сердца.
В то самое мгновение, когда верный и несчастный Амазан уже вступал на берег Альбиона, вдруг, на беду, подул западный ветер. Суда вавилонской царевны не смогли отплыть. Глубокая печаль, горькая тоска, тяжкая скорбь охватили Формозанту. Горюя, легла она в постель; она надеялась, что ветер вот-вот переменится, но он дул с неистовой яростью целую неделю, и всю эту неделю, которая показалась царевне столетием, Ирла читала ей вслух романы. Это не значит, что батавцы умели их писать, но, будучи всемирными посредниками, они точно так же торговали мыслями других народов, как и их товарами. Царевна приказала купить у Марка-Мишеля Рея{781} все сказки, написанные в странах авзонов и вельхов{782}{782}, где распространение этих сказок было мудро воспрещено с целью обогатить Батавию. Царевна надеялась отыскать в книгах что-нибудь похожее на ее злоключения и тем усыпить свое горе. Ирла читала, Феникс высказывал свое мнение, а царевна не находила ни в «Удачливой крестьянке»{783}, ни в «Софе»{784}, ни в «Четырех Факарденах»{785} ничего, хоть отдаленно напоминавшего ее собственную жизнь. Она ежеминутно прерывала чтение, спрашивая, откуда дует ветер.
8
Тем временем Амазан в карете, запряженной шестеркой единорогов, уже подъезжал к столице Альбиона, грезя о царевне. Вдруг он заметил экипаж, съехавший в канаву. Слуги разбежались в поисках помощи, а сам хозяин спокойно сидел в экипаже, не выказывая ни малейшего нетерпения, и тешил себя курением, ибо в то время уже курили. Его звали милорд What-then, что в переводе на тот язык, на который я перекладываю эту историю, означает приблизительно милорд «Ну-и-что-ж».
Амазан поспешил ему на выручку. Он поднял экипаж без посторонней помощи — настолько сила его превосходила силу других людей.
Милорд Ну-и-что-ж ограничился тем, что сказал:
— Вот так силач!
Приведенные слугами крестьяне обозлились на то, что их напрасно потревожили, и накинулись на чужеземца. Они поносили его, обзывая «чужеземным псом», и хотели отколотить.
Амазан схватил каждой рукой двоих и отбросил на двадцать шагов. Остальные преисполнились к нему почтением, стали кланяться и просить на водку. Он дал им денег больше, чем они когда-либо видели. Милорд Ну-и-что-ж сказал:
— Вы внушаете мне уважение. Пообедайте со мной в мрем загородном доме, он отсюда всего в трех милях.
Он сел в карету Амазана, так как его собственный экипаж был поломан.
Помолчав четверть часа, милорд взглянул на Амазана и спросил:
— How dye do? — то есть в буквальном переводе: «Как делаете вы делать?» — а по смыслу: «Как вы поживаете?» — что на любом языке ровно ничего не означает. Затем он добавил: — У вас прекрасная шестерка единорогов. — И продолжал курить.
Амазан сказал, что единороги к услугам милорда, что он приехал из страны гангаридов, и, воспользовавшись случаем, стал рассказывать о царевне вавилонской и роковом поцелуе, подаренном ею фараону Египта. На все это милорд не ответил, так как ему не было никакого дела ни до египетского фараона, ни до вавилонской царевны. Протекло еще четверть часа в молчании, после чего он снова осведомился у своего спутника: «Как он делает делать», — и едят ли в стране гангаридов сочный ростбиф. С присущей ему вежливостью путешественник ответил, что на берегах Ганга не принято есть своих собратьев, и изложил учение, ставшее спустя много столетий учением Пифагора, Порфирия и Ямвлиха{786}. Милорд тем временем заснул и проспал до тех пор, пока не подъехали к дому.
Он был женат на прелестной молодой женщине, которую природа одарила столь же впечатлительной и чуткой душой, сколь равнодушной ко всему была душа ее мужа. В этот день к ней на обед съехалось несколько вельмож Альбиона, люди самого разного нрава, так как страной почти всегда управляли иностранцы, и приехавшие с этими правителями знатные семейства привезли с собой и самые разнообразные обычаи. Среди собравшихся были и очень учтивые люди, и люди возвышенного ума, и люди ученые.
Хозяйка дома не была ни застенчивой, ни неуклюжей, ни чопорной, ни жеманной, в чем упрекали в ту пору молодых женщин Альбиона. Она отнюдь не прикрывала надменной осанкой и напускной сдержанностью отсутствие мыслей, а неловкостью и смущением — неспособность их выразить. Не было женщины пленительнее, чем она. Миледи приняла Амазана с присущей ей любезностью и приветливостью. Исключительная красота юного иностранца и разительное несходство с ее супругом, которое она невольно подметила, сильно взволновали ее.
За обедом она усадила Амазана рядом с собой и потчевала его всевозможными пудингами, зная с его слов, что гангариды не едят тех, кто получил от творца священный дар жизни.
Красота Амазана, его мужественность, нравы гангаридов, расцвет искусств, религия и образ правления в их странах — вот что являлось предметом приятной и содержательной беседы во время обеда, затянувшегося до ночи, в продолжение которого милорд Ну-и-что-ж много выпил и не произнес ни слова.
После обеда, в то время как миледи разливала чай, пожирая глазами юношу, он беседовал с членом парламента, — ибо всякому известно, что еще тогда существовал парламент, именовавшийся Витенагемот{787}, что означает «Собрание умных людей». Амазан расспрашивал о конституции, о нравах, о законах, об армии, обычаях, искусствах — обо всем, что делало эту страну столь заслуживающей внимания. И собеседник рассказал ему следующее:
— Мы долгое время ходили голые, хотя климат отнюдь не располагал к этому. К нам долго относились как к рабам люди, которые явились из древней страны Сатурна{788}, омываемой водами Тибра. Но мы сами принесли себе гораздо больше зла, чем наши первые завоеватели. Один из наших королей{789} до того унизился, что объявил себя подданным священнослужителя, обитавшего тоже на берегах Тибра и прозванного «Старцем семи холмов»{790}. Этим «семи холмам» суждено было долгое время владычествовать над большей частью Европы, населенной в ту пору варварами.
После времен унижения наступили века жестокости и анархии. Междоусобицы опустошили и залили кровью нашу землю, где свирепствовали бури, более жестокие, чем на омывающих ее морях. Несколько венценосцев были казнены{791}. Более ста принцев крови окончили жизнь на эшафоте{792}. Всем их приверженцам вырвали сердца и хлестали их этими сердцами по лицам. Историю нашего острова должен был бы писать палач, ибо все великие дела заканчивала его рука.
В довершение ужасов недавно несколько человек, одни в черных плащах, другие в белых рубахах, надетых поверх курток, будучи укушены бешеными собаками, заразили бешенством{793} всю страну. Ее граждане стали либо убийцами, либо жертвами, либо палачами, либо мучениками, либо хищниками, либо рабами, — все это во имя неба и в поисках бога.
Кто мог бы поверить, что из этой страшной бездны, из этого хаоса распрей, свирепости, невежества и фанатизма возникнет в конце концов самый, быть может, совершенный в мире образ правления? Почитаемый и богатый король, могущественный, когда речь идет о благих делах, и лишенный прав совершать злые дела, стоит во главе свободного, воинственного, предприимчивого и просвещенного народа. Люди знатные, с одной стороны, представители городских сословий — с другой разделяют с монархом законодательную власть.
Мы убедились, что, по роковому стечению обстоятельств, стоило королям добиться неограниченной власти, как неурядицы, гражданские войны, анархия и нищета начинали раздирать страну. Спокойствие, богатство, общее благосостояние воцарялись у нас лишь тогда, когда государи отрекались от неограниченной власти. Все становилось вверх дном, когда разгорались споры о предметах невразумительных, и все опять приходило в порядок, когда на них переставали обращать внимание. Теперь наш победоносный флот прославляет нас по всем морям. Законы охраняют наши богатства: судья не может истолковать их произвольно или вынести приговор, не имел на то веских оснований. Мы как убийц покарали бы тех судей, которые осмелились бы приговорить к смерти гражданина, не приведя доказательств, уличающих его, и закона, карающего это преступление.
Правда, у нас все еще существуют две партии{794}, ведущие борьбу с помощью пера и интриг; но они неизменно объединяются, когда надо с оружием в руках защищать родину и свободу. Обе эти партии бдительно следят друг за другом и не дозволяют одна другой осквернять священную сокровищницу законов. Они ненавидят друг друга, но любят отчизну. Это ревнивые влюбленные, которые как нельзя лучше служат одной и той же владычице.
Благодаря тем же разумным основаниям, которые помогли нам понять и отстоять права человеческой природы, мы подняли науки на такую высоту, какой они только способны достигнуть у людей. Ваши египтяне, которые слывут столь великими механиками, ваши индусы, которых почитают столь мудрыми философами, ваши вавилоняне, похваляющиеся тем, что в продолжение четырехсот тридцати тысяч лет наблюдали движение небесных светил, греки, вложившие в такое множество слов так мало мыслей, — все они решительно ничего не знают по сравнению с любым нашим школьником, изучающим открытия наших великих ученых. В течение одного столетия мы вырвали у природы больше тайн, чем род человеческий за бессчетные века.
Таково сейчас положение вещей. Я не утаил от вас ничего — ни хорошего, ни дурного, ни наших падений, ни нашей славы, и ничего не преувеличил.
Слушая эти речи, Амазан почувствовал сильное желание познать все высокие науки, о которых ему рассказали. И если бы его истерзанным сердцем не владела столь безраздельно страсть к вавилонской царевне, сыновняя почтительная привязанность к покинутой им матери и любовь к отчизне, он всю свою жизнь прожил бы на острове Альбионе. Но роковой поцелуй, подаренный его царевной египетскому фараону, так затемнил ему разум, что мешал погрузиться в науку.
— Признаюсь, — сказал он, — что, решив странствовать по свету и бежать от самого себя, я охотно посетил бы древнюю землю Сатурна, этот народ, живущий на берегах Тибра и на семи холмах, которому вы некогда подчинялись. Должно быть, это самый совершенный народ на всем земном шаре.
— Советую вам предпринять это путешествие, — сказал альбионец, — особенно если вы любите музыку и живопись. Мы сами очень часто ездим туда развеять нашу хандру. Но вы будете немало удивлены, увидев потомков наших завоевателей.
Беседа их была длительной. Хотя прекрасный Амазан был слегка поврежден в рассудке, однако он говорил так приветливо и таким за душу берущим голосом, держался так благородно и мило, что хозяйка дома, в свою очередь, захотела поговорить с ним наедине. Беседуя, она нежно пожимала ему руку, глядела на него влажными блестящими очами, выдававшими ее чувства. Она пригласила его к ужину и оставила ночевать в замке. Каждое мгновение, каждое слово, каждый взгляд разжигали в ней страсть. Как только все удалились, она написала ему записку, не сомневаясь, что он придет разделить с ней ложе, в то время как милорд Ну-и-что-ж будет почивать у себя. Но Амазан и на этот раз нашел в себе силы устоять. Таково чудотворное действие крупицы безумия на сильную и глубоко оскорбленную душу.
Амазан, по своему обыкновению, послал даме почтительный ответ, в котором объяснял, как священна его клятва и неукоснителен долг научить царевну вавилонскую владеть своими страстями. Затем, приказав запрячь единорогов, он вернулся в Батавию, повергнув своих новых знакомцев в изумление, а хозяйку дома в отчаяние. От полного расстройства чувств она забыла спрятать письмо Амазана. На следующее утро милорд Ну-и-что-ж нашел и прочел его.
— Вот ерунда! — сказал он, пожав плечами, и отправился с несколькими пьяницами-соседями охотиться на лисиц.
Амазан между тем уже плыл по морю, снабженный географической картой, которую подарил ему ученый альбионец, беседовавший с ним у милорда Ну-и-что-ж. Он удивленно взирал на огромное земное пространство, уместившееся на маленьком клочке бумаги.
Его взгляд и воображение блуждали по этому маленькому листку. Он видел Рейн, Дунай, Тирольские Альпы, обозначенные в ту пору другими именами, видел все страны, которые ему надлежало проехать, чтобы достичь города на семи холмах. Но всего пристальнее рассматривал он страну гангаридов, Вавилон, где повстречал свою дорогую царевну, и роковую Бассору, где она поцеловала фараона. Он вздыхал, он лил слезы, но признавал, что альбионец, подаривший ему землю в столь уменьшенном виде, не ошибался, утверждая, что люди на берегах Темзы в тысячу раз образованней, чем на берегах Нила, Евфрата и Ганга.
Пока он возвращался в Батавию, оба судна царевны на всех парусах неслись к Альбиону. Корабль Амазана и корабль Формозанты встретились, почти столкнулись друг с другом. Влюбленные были совсем близко друг от друга, но даже не подозревали об этом. Ах, если бы они только знали! Но властный рок этого не допустил.
9
Высадившись на низком илистом берегу Батавии, Амазан быстрее стрелы помчался к городу на семи холмах. Ему пришлось пересечь южную часть Германии. Тут каждые четыре мили была новая страна с принцами и принцессами, придворными дамами и нищими. Его удивляло, что повсюду высокородные дамы и их фрейлины с чисто германским простодушием заигрывали с ним. Он скромно отклонял их ухаживания.
Перевалив через Альпы, он поплыл по Далматскому морю и причалил к городу{795}, который не был похож ни на один из тех, какие он до сих пор видел. В нем море образовывало улицы, а дома поднимались из воды. На немногочисленных площадях этого города кишели толпы двуликих мужчин и женщин{796}: у каждого из них было и собственное, дарованное природой лицо, и накладное из аляповато разрисованного картона. Поэтому казалось, что население состоит из призраков. Приезжавшие в страну иноземцы первым делом покупали себе «лица», как в других странах покупают головные уборы и обувь. Амазан пренебрег этой противоестественной модой и предстал в своем природном обличье. В городе числилось двенадцать тысяч девушек, занесенных в большую книгу республики, которые приносили немалую пользу государству: они вели самую выгодную и самую приятную торговлю из всех, когда-либо обогащавших какую-либо страну. Обычные торговцы с большими затратами и большим риском отправляли свои товары на восток. Эти же очаровательные дамы вели без всякого риска оживленную торговлю своими прелестями. Все они пришли к Амазану, предоставляя ему сделать выбор между ними. Он поспешно скрылся, повторяя имя несравненной царевны вавилонской и клянясь бессмертными богами, что она прелестнее всех двенадцати тысяч венецианок, вместе взятых.
— Прекрасная негодница! — восклицал он в наплыве чувств. — Я научу вас быть верной!
Наконец взорам его предстали желтые воды Тибра, зловонные топи, тощие, изголодавшиеся люди, прикрытые старыми и дырявыми плащами, сквозь которые видна была их иссохшая смуглая кожа, — это означало, что он у врат города на семи холмах, города героев и законодателей, покоривших и цивилизовавших большую часть земного шара.
Он думал, что увидит у триумфальных ворот города пятьсот батальонов под началом героев, а в сенате — собрание полубогов, диктующих законы миру. Но вместо армии он нашел человек тридцать бездельников, которые стояли на карауле, укрываясь от солнца зонтиками. Зайдя в храм, показавшийся ему прекрасным, хотя и уступающим в красоте храмам Вавилона, он был крайне поражен, услышав мужчин, поющих женскими голосами{797}.
— Вот так забавная страна, эта древняя страна Сатурна! — воскликнул он. — Я побывал в городе, где ни у кого нет своего лица, а теперь приехал в другой, где у мужчин нет ни мужского голоса, ни бороды.
Ему объяснили, что эти певцы уже не мужчины, так как их лишили всего мужского, дабы они пели приятными голосами хвалу великому множеству знатных людей. Амазан ровно ничего не понял из их объяснений. Эти господа попросили его спеть, и он, с присущим ему изяществом, исполнил гангаридскую песню. У него был чудесный тенор.
— Ах, синьор, — воскликнули они, — каким дивным сопрано могли бы вы петь, если бы…
— Что — если бы? Что вы хотите этим сказать?
— Ах, синьор!..
— Ну, что же дальше?
— Если бы у вас не было бороды!..
И они весьма забавно, со свойственной им потешной жестикуляцией, объяснили ему, в чем дело.
Амазан был потрясен.
— Я много путешествовал, но никогда не приходилось мне слышать ничего похожего на эту нелепицу, — сказал он.
Когда пение смолкло, Старец с семи холмов, во главе огромной процессии, направился к вратам храма. Он рассек рукою воздух на четыре части, подняв большой палец, протянув других два и согнув два оставшихся, и произнес на языке, на котором давно уже никто не говорил: «Urbi et orbi»[29].
Гангарид не мог понять, как два перста могут достать так далеко.
Затем перед его глазами прошел весь двор владыки мира. То были важные лица, одни в пурпуровых мантиях, другие — в фиолетовых{798}, почти все они умильно поглядывали на Амазана, кланялись ему и говорили друг другу: «San Martino, che bel ragazzo! San Pancratio, che bel fanciullo!»[30]
Усердствующие{799}, чье ремесло заключалось в том, что они знакомили иностранцев с достопримечательностями города, поспешили показать ему развалины, в которых отказался бы переночевать даже погонщик мулов; это были памятники былого величия народа-владыки. Он увидел также картины двухсотлетней давности и статуи, изваянные двадцать веков назад. Они показались ему образцовыми произведениями искусства.
— Создаете ли вы и теперь подобные произведения?
— Нет, ваша светлость, — ответил один из усердствующих, — но мы презираем весь остальной мир на том основании, что у нас сохранились эти редкости. Мы, подобно старьевщикам, заимствуем нашу славу у старых одежд, залежавшихся в кладовых.
Амазан пожелал взглянуть на дворец владыки мира. Его провели туда. Он увидел людей в фиолетовых одеждах, подсчитывающих доходы государства: столько-то со страны, расположенной на Дунае, столько-то с других — на Луаре, Гвадалквивире, Висле.
— Ого! — воскликнул Амазан, взглянув на свою карту. — Я вижу, ваш господин владеет всей Европой, подобно древним героям города на семи холмах.
— Он, согласно божественной воле, должен царить над всей вселенной, — ответил ему человек к фиолетовом. — И даже было время, когда его предшественники почти завершили дело создания вселенской монархии, но потом их преемники по доброте своей стали довольствоваться деньгами, которые короли, их подданные, выплачивают им как дань.
— Значит, ваш господин действительно царь царей? И таков его титул? — спросил Амазан.
— Нет, ваша светлость, его титул — «слуга слуг». Первоначально он был рыбаком и привратником{800}, вот почему знаки его достоинства — ключи и сети. Но он при этом повелевает царями. Недавно он отправил сто одно предписание кельтскому королю{801}, и тот подчинился.
— Надо полагать, ваш рыбак послал также пятьсот — шестьсот тысяч человек, чтобы заставить выполнить это сто одно предписание?
— О нет, ваша светлость, наш святой повелитель не может оплатить содержание и десяти тысяч солдат. Но ему подчинены не то четыреста, не то пятьсот тысяч вдохновенных пророков, рассеянных по другим странам. Хотя эти пророки придерживаются разнообразных воззрений, но живут они, разумеется, за счет народа. Они именем божьим возвещают, что мой повелитель может своими ключами отомкнуть и замкнуть все замки, особенно же замки денежных сундуков. Некий нормандский священник{802}, состоящий духовником при вышеупомянутом кельтском короле, убедил того, что он должен беспрекословно повиноваться ста одному велению моего владыки, ибо, да будет вам известно, одна из привилегий Старца семи холмов состоит в том, что он всегда прав, — и тогда, когда он соблаговолит что-нибудь сказать, и тогда, когда он соблаговолит что-нибудь написать.
— Ей-богу, это необычайный человек! — сказал Амазан. — Мне очень любопытно было бы пообедать с ним.
— Ваша светлость, будь вы даже царем, все равно он не посадил бы вас за один стол с собой. Самое большее, что он мог бы сделать для вас, это приказать накрыть для вас стол возле его стола, только поменьше и пониже. Но если вы желаете удостоиться чести говорить с ним, я выхлопочу вам аудиенцию, но, конечно, за buona mancia[31], который вы соблаговолите поднести мне.
— Охотно, — ответил Амазан.
Человек в фиолетовом поклонился.
— Я представлю вас завтра Старцу семи холмов, — сказал он. — Вы должны будете трижды преклонить перед ним колена и облобызать ему ноги.
При этих словах Амазан разразился оглушительным хохотом. Он вышел, держась за бока, хохотал до самой гостиницы, да и там долго еще продолжал смеяться.
Во время обеда к нему явились двадцать безбородых мужчин и двадцать скрипачей и дали концерт; потом до вечера за ним ухаживали самые знатные вельможи города. Они делали ему предложения еще более странные, нежели целование ног Старцу семи холмов. Так как Амазан был очень вежлив, он сперва предположил, что эти господа принимают его за женщину, и в самых изысканных выражениях разъяснял им их заблуждение. Но, теснимый чересчур настойчиво несколькими особенно предприимчивыми мужчинами в фиолетовых одеждах, он наконец вышвырнул их из окна, не почувствовав при этом, что приносит хоть какую-то жертву прекрасной Формозанте.
Он поспешил покинуть этот город владык мира, где предлагают целовать старца в ногу, словно у него на ноге щека, и где к молодым людям пристают с еще более странными предложениями.
10
Переезжая из края в край, равнодушный ко всяческим заигрываниям, неколебимо верный вавилонской царевне, исполненный гнева на египетского фараона, Амазан — этот образец постоянства — прибыл наконец в новую столицу галлов{803}. Этот город, как и множество других городов, пережил все стадии варварства, невежества, глупости и убожества. Его древнее название означало «грязь и навоз»{804}, затем ему дали имя в честь Изиды, культ которой дошел и до него{805}. Первый сенат состоял из лодочников{806}. Город долгое время был порабощен героями-хищниками семи холмов, а спустя несколько столетий другие герои-грабители{807}, прибывшие с противоположного берега Рейна, снова завладели его небольшой территорией.
Все изменяющее время разделило этот город на две половины: одну — очень внушительную и привлекательную, и другую — грубоватую и безвкусную. Каждая была как бы олицетворением своего населения. В городе жило, по крайней мере, сто тысяч человек, у которых не было иных занятий, кроме развлечений и веселья. Эти праздные люди выносили приговоры творениям искусства, хотя создавали их другие. Они ничего не знали о том, что происходит при дворе, — казалось, он находится не в четырех, а в шестистах милях от них. Беззаботное, легкомысленное времяпрепровождение в приятном обществе было их самым важным, их единственным занятием. Ими управляли, словно детьми, которым дарят игрушки, лишь бы они не капризничали. Когда им рассказывали о бедствиях, опустошавших их родину два века назад, о тех страшных временах, когда одна половина населения уничтожала другую из-за пустых мудрствований{808}, они соглашались, что это действительно очень нехорошо, но затем снова принимались смеяться и петь куплеты{809}.
Чем любезнее, обходительнее и приятнее были эти праздные люди, тем резче выступало различие между ними и людьми, занятыми делом.
Среди этих занятых, или делающих занятой вид, людей была кучка мрачных фанатиков, частью глупцов, частью плутов, одна внешность которых наводила уныние на весь мир; будь на то их воля, они, не задумываясь, перевернули бы его вверх ногами, только бы добиться хоть небольшого влияния. Но люди праздные, приплясывая и распевая, принуждали их скрываться в пещерах{810}, подобно тому как птицы принуждают прятаться в развалины серых сов.
Другие занятые люди{811}, менее многочисленные, выступали в роли хранителей древних варварских обычаев, против которых громко вопияла человеческая природа; руководились они при этом лишь своими истлевшими летописями. К любому отвратительному и бессмысленному обычаю, описанному там, они относились словно к священному закону. Вот из-за их гнусного нежелания мыслить самостоятельно и привычки черпать свои воззрения в тех стародавних временах, когда вообще не умели мыслить, в этом городе развлечений еще сохранились жестокие нравы. Именно в силу этого там не существовало никакого соответствия между преступлением и наказанием. Бывало, у невинного человека мучительными пытками вырывали признание в том, чего он не совершал. Легкий проступок какого-нибудь юноши{812} карали столь же строго, как отравление или отцеубийство. Праздные люди начинали тогда громко протестовать, но назавтра все забывали и снова принимались болтать о последних модах.
Этот народ был свидетелем того, как за одно столетие изящные искусства поднялись на такую высоту совершенства, о какой прежде и не мечтали. В ту пору иностранцы приезжали в этот город, как в Вавилон, восхищаться великолепными памятниками архитектуры, волшебными садами, чудесными творениями скульптуры и живописи. Их очаровывала музыка, проникавшая в душу, не утомляя слуха.
Истинная поэзия, то есть поэзия естественная и гармоничная, столько же говорящая сердцу, сколько и уму, стала в этот счастливый век доступна народу. Новые образцы красноречия явились во всей своей величавой красоте. Особенно прославились в ту пору театры, где шли пьесы, настолько совершенные, что ни одному народу не удалось создать произведений, подобных им. Наконец чувство изящного стало свойственно людям всех сословий, так что даже среди друидов появились хорошие писатели.
Но эти лавры, чьи главы возносились до небес, засохли вскоре на истощенной земле. Их осталось ничтожно мало — чахлых и увядающих. Упадок вызван был тем, что все научились писать бойко, и уже никто не старался писать хорошо, а также пресыщенностью прекрасным и влечением к извращенному. Тщеславные глупцы лелеяли художников, возвращавших искусство вспять, ко временам варварства, и эти же тщеславцы, преследуя истинные таланты, вынуждали их покидать родину. Трутни изгоняли пчел.
Почти исчезли подлинные искусства, почти исчез гений. Заслугой считалось умение толковать вкривь и вкось о заслугах былого века. Пачкун кабацких стен с видом знатока критиковал полотна великих мастеров. Пачкуны бумаги искажали произведения великих писателей. Невежество и дурной вкус имели в услужении других пачкунов. Под различными заглавиями, в ста томах, повторялось одно и то же. Либо словарь, либо брошюра — иного выбора не было. Некий газетчик-друид{813} дважды в неделю туманно писал о деяниях неведомых народу фанатиков и о небесных чудесах, будто бы совершаемых на чердаках оборванными нищими и нищенками{814}. Отставные друиды{815} в черных одеждах, умирающие от голода и злости, в сотнях статеек сетовали на то, что им больше не дозволяют обманывать людей и что это право предоставлено зловонным отщепенцам в серых одеждах{816}. Несколько архидруидов сочиняли гнусные пасквили{817}.
Амазан ничего этого не знал, а если бы и знал, то не стал бы этим интересоваться, так как всецело был поглощен мыслью о вавилонской царевне, египетском фараоне и своей нерушимой клятве не поддаваться женским чарам, в какую бы страну ни направило горе его стопы.
Легкомысленные и невежественные зеваки, в высшей степени обладающие тем любопытством, которое всегда было присуще роду человеческому, непрерывно топтались вокруг единорогов. Женщины, как существа более здравомыслящие, ломились в дом, где остановился Амазан, стремясь лицезреть его самого.
Сначала он выразил своему хозяину желание отправиться ко двору, но праздные люди из светского общества, с которыми его свел случай, разъяснили ему, что теперь это не в моде, что времена изменились и что весело провести время можно только в городе.
В тот же вечер Амазан был приглашен на ужин к одной даме{818}, прославленной умом и талантами за пределами своей отчизны и побывавшей в нескольких странах, где побывал и Амазан. Эта дама и собравшееся у нее общество очень понравились Амазану. Непринужденность здесь была пристойной, веселье не слишком шумным, ученость нисколько не отталкивающей, остроумие отнюдь не злым; он убедился, что слова «хорошее общество» не пустой звук, хотя определением этим часто злоупотребляют. На следующий день он обедал в обществе не менее приятном, но менее почтенном. Чем больше были ему по душе сотрапезники, тем больше нравился им он; Амазан почувствовал, как сердце его смягчается и тает, подобно тому как благовония его родной страны медленно тают на легком огне, распространяя сладостное благоухание.
После обеда его повели на очаровательный спектакль, осужденный друидами, потому что он отбивал у них тех зрителей, которыми они особенно дорожили. Спектакль этот являл сочетание приятных стихов, звучных песен, танцев, воплощающих движения души, и очаровательных, создающих полную иллюзию, декораций. Это зрелище, в котором соединились столь разнообразные виды искусства, называлось чужеземным словом «опера», что когда-то на языке семи холмов означало: труд, забота, занятие, промысел, предприятие, работа, дело.
Это дело очаровало Амазана. Особенно сильное впечатление произвела на него своим мелодичным голосом и грациозными движениями одна девушка. После спектакля эта так называемая «лицедейка» была представлена ему новыми друзьями. Он поднес ей горсть алмазов. Она была так признательна ему, что не покидала его весь остаток дня. Он ужинал с ней и за ужином забыл свою умеренность, а после ужина забыл и свою клятву оставаться неизменно бесчувственным к красоте и равнодушным к нежным заигрываниям. Какой пример человеческой слабости!
В это время приехала прекрасная царевна вавилонская с Фениксом, служанкой Ирлой и двумя сотнями гангаридских воинов на единорогах. Им пришлось довольно долго ждать, пока не открыли ворота. Прежде всего царевна осведомилась, все ли еще живет в этом городе самый прекрасный, самый храбрый, самый умный и самый верный человек на свете. Городские власти сразу же догадались, что она имеет в виду Амазана. Формозанта потребовала, чтобы ее отвели к нему. Она вошла с трепещущим от любви сердцем, вся душа ее была исполнена невыразимым счастьем: наконец-то она вновь увидит в образе своего возлюбленного воплощение верности. Формозанта беспрепятственно вошла в его спальню. Полог был отдернут. Она увидела прекрасного Амазана, спящего в объятиях хорошенькой смуглянки: они оба сильно нуждались в отдыхе.
Царевна испустила горестный вопль, который разнесся по всему дому, но не разбудил ни ее кузена, ни лицедейку. Формозанта потеряла сознание и упала на руки Ирлы. Едва очнувшись, она с болью и гневом в душе немедленно покинула эту роковую комнату. Ирла бросилась разузнавать, кто такая эта молодая особа, проводившая в обществе прекрасного Амазана столь сладостные часы. Ей сообщили, что она — лицедейка, очень услужливая и, наряду с другими талантами, обладающая к тому же талантом довольно приятно петь.
— О, праведное небо! О, всесильный Оромазд! — воскликнула, обливаясь слезами, прекрасная царевна вавилонская. — Он изменил мне, и ради кого! Тот, кто, храня мне верность, отклонял благосклонность высокородных дам, теперь бросил меня ради какой-то галльской комедиантки! Нет, такого позора я не переживу!
— Ваше высочество, — сказала Ирла, — молодые люди одинаковы на всем земном шаре. Будь они влюблены хоть в богиню красоты — бывают мгновения, когда они способны изменить ей с любой трактирной служанкой.
— Все кончено! — воскликнула царевна. — Больше я с ним никогда не увижусь. Прочь отсюда, пусть запрягают моих единорогов.
Феникс заклинал ее повременить, дождаться хотя бы пробуждения Амазана, чтобы он мог поговорить с ним.
— Он этого не заслуживает, — ответила царевна. — К тому же это было бы слишком оскорбительно для меня, — Амазан может подумать, что я просила вас упрекнуть его, что ищу примирения с ним. Если вы меня любите, не присоединяйте этой обиды к той, которую нанес мне он.
Феникс был обязан вавилонской царевне жизнью, и ему только и оставалось, что повиноваться.
Она уехала со всей своей свитой.
— Куда же мы теперь направимся, ваше высочество? — спросила Ирла.
— Не знаю, — ответила царевна. — Едемте куда глаза глядят, только бы мне навеки скрыться от Амазана, — это все, чего я хочу.
Феникс, будучи более рассудительным, чем Формозанта, ибо он не был одержим страстью, утешал ее в пути. Он ласково доказывал ей, что прискорбно карать себя за ошибки другого; что Амазан показал многочисленные и поразительные примеры верности ей, поэтому следует простить ему его минутное увлечение; что он праведник, на мгновение обойденный благодатью Оромазда; что отныне он будет еще постояннее в любви и добродетели; что стремление искупить свою вину заставит его превзойти самого себя, поэтому она узнает с ним теперь еще большее счастье; что многие прославленные и высокородные дамы до нее прощали подобные прегрешения и потом об этом не жалели. Феникс приводил ей всевозможные примеры, а так как он владел могучим даром убеждения, то сердце Формозанты постепенно смягчилось и успокоилось. Теперь она сожалела, что уехала так поспешно. Она находила, что ее единороги мчатся слишком быстро, но не смела вернуться. Колеблясь между желанием простить и стремлением выказать свой гнев, между любовью и тщеславием, она не останавливала единорогов и продолжала странствование, как предсказал оракул.
Амазан, проснувшись, узнает о прибытии и отъезде Формозанты и Феникса, об отчаянии и ярости царевны. Ему говорят, что она поклялась никогда не прощать его вины.
— Мне остается только одно, — вскричал он, — следовать за ней и лишить себя жизни у ее ног!
Праздные люди — его светские друзья, — услышав о происшествии, сбежались и стали доказывать ему, что гораздо разумнее остаться с ними; что их жизнь, посвященная искусствам и полная спокойной и сладостной неги, несравненно приятна; что множество чужеземцев, даже царей, предпочли отчизне и трону это мирное и пленительное существование, украшенное столь радующими душу занятиями; что, кроме того, экипаж его сломан и каретник ладит для него другой, в новом вкусе… что лучшие портные города уже скроили ему дюжину костюмов по самой последней моде… что самые остроумные и очаровательные дамы, в чьих домах представляют такие прелестные комедии, заняли каждая свой приемный день празднеством в его честь. А тем временем лицедейка, сидя за туалетным столом, пила шоколад, смеялась, пела и поддразнивала прекрасного Амазана, который в конце концов убедился, что она глупее гусыни.
Так как характер этого замечательного царевича отличали не только великодушие и мужество, но и сердечность, искренность, прямота, он рассказал друзьям и о своих путешествиях, и о своих несчастьях. Они узнали, что он был троюродным братом царевны, и не остались в неизвестности насчет поцелуя, который она подарила египетскому фараону.
— Родные должны прощать друг другу подобного рода шалости, — утверждали они, — иначе вся жизнь уйдет на нескончаемые раздоры.
Ничто не могло поколебать его решения следовать за Формозантой. Но так как экипаж еще не был готов, Амазану пришлось три дня провести в обществе своих праздных друзей, веселясь и развлекаясь. Наконец он распрощался с ними, обнял их и заставил принять в подарок наискуснейшим образом оправленные алмазы своей страны; при этом он посоветовал друзьям всегда оставаться легкомысленными и беспечными, ибо это украшает их характер и дарует им счастье.
— Немцы, — говорил он, — это старцы Европы, жители Альбиона — зрелые мужи, а обитатели Галлии — дети, и я люблю играть с ними.
11
Его проводники без труда следовали за царевной: всюду только и говорили о ней и о ее огромной птице, жители были охвачены восторженным энтузиазмом. Впоследствии народы Далмации и округа Анконы были куда менее приятно изумлены, когда увидели дом, летающий по воздуху{819}. На берегах Луары, Дордони, Гаронны и Жиронды еще не отзвучали ликующие возгласы.
Когда Амазан достиг подножья Пиренеев, чиновники и друиды страны принудили его полюбоваться на танцы с тамбурином, но едва он перевалил Пиренеи, не стало ни веселья, ни забав. Если порой до него и доносились песни, то они всегда были печальны. Жители ходили степенно, носили четки и кинжалы на поясах. Народ одет был в черное, словно в траур. Если слуги Амазана расспрашивали о чем-нибудь прохожих, те отвечали знаками. Если входили в гостиницу, хозяин в трех словах объяснял им, что в доме пусто и самое необходимое можно раздобыть лишь в нескольких милях отсюда.
Когда этих молчальников спрашивали, не видели ли они прекрасной вавилонской царевны, они отвечали с меньшей лаконичностью:
— Да, видели, но она вовсе не так уж хороша. Прекрасны лишь смуглые женщины; она же выставляет напоказ белую, как алебастр, грудь, а это самая противная вещь на свете и в наших краях почти не встречается.
Амазан приближался к провинции, орошаемой Бетисом{820}. Прошло не более двенадцати тысяч лет с той поры, как эта страна была открыта жителями Тира, почти одновременно с открытием огромного острова Атлантиды, затонувшего несколько веков спустя. Жители Тира обработали землю Бетики{821}, которую туземцы оставили невозделанной, ибо считали, что им не пристало копаться в земле и что для таких работ существуют галлы, — пусть приходят и занимаются этим делом.
Жители Тира привели с собой палестинцев, которые с той поры расселились по всем странам, где только можно нажиться. Эти палестинцы, ссужая в рост из пятидесяти на сто, сосредоточили в своих руках почти все богатства страны. Тогда жители Бетики решили, что палестинцы — колдуны; те, кого обвинили в колдовстве, были безжалостно сожжены бандой друидов, именуемых «разыскателями» или «антропокайями»{822}. Сии священнослужители сперва облачали приговоренных в маскарадные одеяния и присваивали их имущество, а потом набожно читали молитвы этих самых палестинцев, сжигая их на медленном огне por I’amor de Dios[32].
Формозанта приехала в город, который впоследствии назвали Севильей. Она предполагала по рекам Бетису и Тиру вернуться в Вавилон, к своему отцу, и либо забыть, если хватит сил, коварного возлюбленного, либо стать его супругой. Царевна призвала к себе двух палестинцев, занимавшихся всеми делами при дворе. Они должны были снарядить для нее три корабля. Феникс обо всем договорился с ними и, немного поторговавшись, условился о цене.
Хозяйка гостиницы отличалась набожностью, а ее муж, тоже очень набожный, был у друидов-разыскателей-антропокайев «своим человеком», иначе говоря — шпионом; он не замедлил донести, что у него в доме находится сейчас колдунья и два палестинца, заключающие договор с дьяволом, который воплотился в огромную золоченую птицу. Разыскатели, пронюхав, что у дамы много алмазов, сразу же признали ее колдуньей. Будучи весьма трусливы, они сперва дождались ночи и заперли обширные конюшни, где спали единороги и двести воинов. Основательно забаррикадировав все выходы, они схватили царевну и Ирлу, но им не удалось поймать Феникса, улетевшего с быстротой стрелы: он был уверен, что по дороге из Галлии в Севилью встретит Амазана.
И действительно, он встретил его на границе Бетики и поведал ему о несчастье, постигшем царевну. Амазан слова не мог вымолвить, так он был взволнован и разъярен. Надев стальные латы с золотой насечкой, взяв пику длиной в двенадцать футов, два дротика и острый меч, прозванный «Грозным», который одним ударом рассекал деревья, скалы и друидов, он увенчал свою прекрасную голову золотым шлемом, украшенным перьями цапли и страуса. То были древние доспехи Магога{823}, подаренные ему его сестрой Алдеей во время пребывания в Скифии. Немногочисленные приближенные, сопровождавшие его, сели, как и он, на единорогов.
Целуя своего дорогого Феникса, Амазан печально сказал ему:
— Это моя вина. Если бы я не переночевал с лицедейкой в городе праздных людей, прекрасная царевна вавилонская не оказалась бы в столь ужасном положении. Идем на антропокайев.
И вот он уже в Севилье. Полторы тысячи альгвасилов охраняют входы в конюшни, где заключены, лишенные пищи, двести гангаридов и их единороги. Все уже приготовлено для священнодействия, во время которого должны быть принесены в жертву Формозанта, ее служанка Ирла и два богатых палестинца.
Великий Антропокай, окруженный младшими антропокайями, восседал в своем священном судилище. Жители Севильи, с висящими на поясе четками, безмолвно стояли поодаль, молитвенно сложив руки. И вот привели прекрасную царевну, Ирлу и двух палестинцев со скрученными за спиною руками и облаченных в маскарадные одеяния.
Феникс влетел через слуховое окно в темницу, где запертые гангариды уже начали взламывать двери. Непобедимый Амазан помогал им снаружи. Они вырываются на волю, вооруженные, верхом на своих единорогах. Амазан становится во главе отряда. Он без труда побеждает альгвасилов и священнослужителей-антропокайев; каждый единорог сразу пронзает целую дюжину, а грозный меч Амазана рассекает надвое всех, попадающихся на пути. Толпа в черных мантиях и грязных брыжах разбегается, не выпуская из рук четок, освященных por I’amor de Dios!
Амазан стащил с судейского кресла великого разыскателя и бросил его в костер, разложенный шагах в сорока от судилища. Туда же один за другим полетели и малые разыскатели, и тогда Амазан пал к ногам Формозанты.
— О, как вы добры! — воскликнула она. — Как я обожала бы вас, если бы вы не изменили мне с лицедейкой!
Пока он мирился с царевной, пока гангариды бросали в костер антропокайев и языки пламени взвивались к небесам, вдали показалось какое-то войско. Престарелый монарх{824}, увенчанный короной, восседал на колеснице, влекомый восьмеркой мулов в веревочной упряжи. Сзади следовало сто других колесниц. Их сопровождали суровые всадники в черных плащах и в брыжах, на великолепных конях. Множество пеших людей с засаленными волосами молча следовали за ними.
Прежде всего Амазан построил вокруг себя своих гангаридов и выступил вперед с копьем наперевес. Но едва лишь король заметил его, как снял корону, сошел с колесницы, поцеловал стремя Амазана и сказал:
— Посланец божий, вы — мститель за род человеческий, освободитель моей отчизны, мой покровитель. Эти проклятые чудовища, от которых вы очистили страну, были, волею Старца семи холмов, моими властителями. Мой народ отринул бы меня, если бы я попытался обуздать их страшную жестокость. Отныне я дышу, я царствую и этим обязан вам.
Затем он почтительно поцеловал руку Формозанты и попросил ее сесть вместе с Ирлой, Амазаном и Фениксом в его колесницу, запряженную восемью мулами. Придворные банкиры-палестинцы, от страха и признательности еще лежавшие ниц, встали, и воины на единорогах двинулись вслед за королем Бетики в его дворец.
Поскольку достоинство короля этого серьезного народа требовало, чтобы его мулы везли колесницу медленно, Амазан и Формозанта успели рассказать ему свои злоключения. Король говорил и с Фениксом, любовался им и непрестанно целовал его. Он понял, до какой степени народы Запада, поедавшие животных и утратившие способность понимать их, невежественны, грубы и дики. Только гангариды не утратили первоначальной естественности и человеческого достоинства. Всей душой он соглашался с тем, что из всех смертных наибольшими варварами были разыскатели-антропокайи, от которых Амазан только что освободил человечество. Король не переставал его благодарить и благословлять. Прекрасная Формозанта уже успела забыть случай с лицедейкой и безгранично восхищалась отвагой героя, спасшего ей жизнь. Амазан, который узнал наконец о безгрешности поцелуя, данного египетскому фараону, и о воскрешении Феникса, вкушал чистую радость и был опьянен самой пылкой любовью.
Обедали во дворце, и яства были на редкость невкусные. Повара Бетики были наихудшими во всей Европе. Амазан посоветовал вызвать галльских поваров. Придворный оркестр исполнял во время обеда знаменитую арию, которую в позднейшие века окрестили «Испанским каприччо».
После обеда заговорили о делах. Царь спросил у прекрасного Амазана, прелестной Формозанты и чудесного Феникса, что они намерены предпринять.
— Я предполагаю вернуться в Вавилон, ибо я — законный наследник престола, и буду просить у дяди моего Бела руки несравненной Формозанты, моей троюродной сестры, если только она не предпочтет жить со мною у гангаридов.
— Я решила, — сказала царевна, — никогда не разлучаться с моим троюродным братом. Но я думаю, что сейчас мне надлежит возвратиться к моему отцу, тем более что он разрешил мне только паломничество в Бассору, а я отправилась странствовать по свету.
— Что касается меня, — сказал Феникс, — я повсюду буду сопровождать этих нежных и великодушных влюбленных.
— И будете в этом совершенно правы, — сказал король Бетики. — Но обратный путь в Вавилон не так легок, как вы полагаете. Мне недавно принесли вести оттуда капитаны тирийских кораблей и палестинские банкиры, которые сносятся со всеми странами мира. На берегах Евфрата и Нила идет война. Царь Скифии, предводительствуя трехсоттысячной армией конников, требует возвращения наследства своей жены. Фараон египетский и царь Индии, каждый во главе трехсоттысячной армии, тоже опустошают берега Тигра и Евфрата, мстя за нанесенные им обиды. Пока фараон Египта воюет на чужбине, его враг, царь Эфиопии, предводительствуя армией в триста тысяч человек, разоряет Египет. Вавилонский царь располагает для защиты своей страны только шестьюстами тысячами человек. Признаюсь вам, — продолжал король, — когда я слышу об этих многочисленных армиях, которые изрыгает из своего чрева Восток, и об их поразительном великолепии, когда сравниваю их с нашими скромными отрядами в двадцать — тридцать тысяч человек, которых так трудно прокормить и одеть, я начинаю думать, что Восток возник значительно раньше Запада. Мы словно лишь позавчера родились из хаоса и только вчера покончили с варварством.
— Ваше величество, — заметил Амазан, — порой случается, что явившийся последним одерживает верх над тем, кто первым вступил на жизненное поприще. В моей стране полагают, что колыбель человечества — Индия, но я в этом не уверен.
— А вы, — обратился король Бетики к Фениксу, — что вы об этом думаете?
— Государь, — ответил Феникс, — я еще слишком молод, чтобы досконально знать древнюю историю. Я прожил около двадцати семи тысяч лет; но мой отец, проживший в пять раз больше, говорил мне, что слышал от своего отца, будто страны Востока всегда были богаче и гуще заселены, чем прочие страны. Он слышал от своих предков, что все животные возникли некогда на берегах Ганга, но я не столь тщеславен, чтобы разделять эту точку зрения. Мне трудно поверить, что альбионские лисицы, альпийские сурки, галльские волки — все родом из моей страны, как не верю и тому, что дубы и ели вашей родины происходят от кокосовых пальм Индии.
— Но откуда же все-таки происходим мы? — спросил король.
— Этого я не знаю, — ответил Феникс. — Мне хотелось бы знать только одно: куда сейчас следует отправиться прекрасной царевне вавилонской и моему дорогому Амазану?
— Сильно сомневаюсь, — продолжал король, — чтобы со своими двумя сотнями единорогов он смог пробиться сквозь такое множество армий по триста тысяч воинов каждая.
— А почему бы и нет? — возразил Амазан.
Король Бетики оценил величие слов: «А почему бы и нет?» — но он полагал, что для победы над бесчисленной ратью врагов одного величия недостаточно.
— Я советую вам, — сказал он, — попытаться заключить союз с царем Эфиопии. Я поддерживаю сношения с этим чернокожим владыкой через моих палестинцев. Я передам с вами послание к нему. Он враг фараона и будет очень счастлив увеличить свои силы союзом с вами. Я также могу дать вам подкрепление в две тысячи воинов, непьющих и храбрых. Если захотите, вы сможете нанять еще столько же среди племен, обитающих, или, точнее, карабкающихся по отрогам Пиренеев. Их называют басками или гасконцами. Отправьте туда одного из ваших воинов верхом на единороге и дайте ему с собой несколько алмазов. Любой гасконец покинет замок, вернее, хижину своего отца ради службы у вас. Они неутомимы, отважны и веселы. Вы будете очень довольны ими. В ожидании их приезда мы устроим в вашу честь празднества и оснастим корабли. Я навсегда останусь у вас в долгу за вашу услугу.
Амазан радовался, что вновь обрел Формозанту, и, беседуя с ней, мирно наслаждался всеми чарами заново упроченной любви, которые почти столь же пленительны, как чары любви зарождающейся.
Вскоре появился отряд веселых и гордых гасконцев, приплясывавших под звуки тамбурина. Другой отряд — суровых и гордых бетиканцев — был уже наготове. Старый смуглый царь нежно обнял обоих влюбленных. Он повелел нагрузить их корабли оружием, постелями, шахматами, черными мантиями, брыжами, луком, баранами, курами, мукой, большим запасом чесноку и пожелал им счастливого плавания, вечной любви и сраженных врагов.
Флот причалил к берегу там, где, как утверждают, спустя столетия, покинув город Тир, финикиянка Дидона{825}, сестра Пигмалиона, супруга Сихея, основала великолепный город Карфаген, разрезав на узенькие ремешки воловью шкуру, согласно свидетельству самых великих авторов древности, которые никогда не сочиняли небылиц, и учителей, писавших для маленьких мальчиков, хотя в Тире никто и никогда не звался Пигмалионом, или Дидоной, или Сихеем, то есть именами чисто греческими, и вообще в те времена в Тире не было государя.
Великолепный Карфаген не был еще тогда приморским городом; в тех местах жили только немногочисленные нумидийцы, вялившие рыбу на солнце. Затем путешественники поплыли вдоль Бизацены и берегов обоих Сиртов — плодоносных мест, где впоследствии возникли Кириния и великий Херсонес.
Наконец приплыли к первому устью священного Нила. Здесь, на окраине этой плодородной земли, гавань Канопа принимала уже тогда суда всех торговых народов, хотя никто не знал, бог ли Каноп основал этот город или жители Канопа выдумали бога, дала ли звезда Каноп свое имя городу или город дал свое имя звезде. Знали только, что и город и звезда очень древнего происхождения; и это все, что вообще можно знать о происхождении вещей, каковы бы они ни были.
Именно там царь Эфиопии, который только что опустошил весь Египет, увидел причалившие корабли непобедимого Амазана и очаровательной Формозанты. Его он принял за бога войны, ее — за богиню красоты. Амазан предъявил ему грамоты испанского короля. Царь Эфиопии, согласно обычаям того героического времени, устроил прежде всего великолепные празднества. Затем стал обсуждать, как истребить трехсоттысячную армию царя Индии и трехсоттысячную армию хана скифов, осадивших огромный, надменный, утопающий в роскоши город Вавилон.
Две тысячи испанцев, которых Амазан привел с собой, заявили, что для спасения Вавилона им не нужен эфиопский царь, что достаточно приказа их короля освободить город — и они справятся с этим сами.
Гасконцы заявили, что они участвовали и не в таких сражениях, что победят египтян, индусов и скифов и без посторонней помощи, что согласны выступить в поход вместе с испанцами только при условии, если те пойдут в арьергарде.
Двести гангаридов смеялись над самоуверенностью своих союзников, уверяя, что с сотней единорогов они обратят в бегство всех владык мира.
Прекрасная Формозанта благоразумными и умягчающими душу словами примирила спорщиков. Амазан представил чернокожему монарху своих гангаридов, единорогов, испанцев, гасконцев и чудесную птицу.
Вскоре все было готово, и войско выступило в поход через Мемфис, Гелиополис, Арсиною, Петру, через Артемиту, Сору и Апанте, полное решимости атаковать трех царей и начать ту достопамятную войну, по сравнению с которой все последующие войны были лишь петушиными или перепелиными боями.
Все знают, как царь Эфиопии влюбился в прекрасную Формозанту и как застал ее врасплох на ложе, когда сладостный сон смежил ей вежды. Все помнят, что Амазану — свидетелю этой сцены, показалось, будто день и ночь почивают вместе. Известно также, что Амазан, возмущенный столь оскорбительным поступком, тут же выхватил свой грозный меч и мгновенно отсек наглому чернокожему его распутную голову, а потом изгнал из Египта всех эфиопов. Разве эти подвиги не запечатлены в хрониках Египта? Стоустая молва возвестила миру о победах, одержанных им над тремя царями с помощью испанцев, гасконцев и единорогов. Он вернул прекрасную Формозанту отцу и освободил всех приближенных своей возлюбленной, которых фараон египетский обратил в рабство. Великий хан скифов объявил себя вассалом Амазана, и тогда его брак с царевной Алдеей был узаконен. Непобедимый и великодушный Амазан, признанный наследником престола, победоносно вступил вместе с Фениксом в город Вавилон, приветствуемый сотней царей, его данников.
Свадебное торжество превзошло все празднества, какие когда-либо устраивал царь Бел. К столу подали зажаренного быка Аписа, фараон египетский и король Индии подавали новобрачным вино, и эта свадьба была воспета пятьюстами великими поэтами Вавилона.
О музы, к вам всегда обращаются, начиная какой-либо труд, я же взываю к вам, лишь кончая его. Пусть не упрекают меня в том, что я творю благодарственную молитву после обеда, не сотворив предобеденной. Музы, вы все же не лишите меня своего покровительства! Не дозволяйте дерзновенным подделывателям{826} искажать своими баснями истины, которые я поведал смертным в этом правдивом рассказе, подобно тому как они осмелились исказить «Кандида», «Простодушного» и целомудренные похождения целомудренной Жанны, которые некий бывший капуцин изуродовал{827} в батавских изданиях стихами, достойными капуцина. Да не причинят они такого ущерба моему издателю, обремененному многочисленной семьей, у которого едва хватает средств на шрифт, бумагу и чернила.
О музы, заставьте умолкнуть мерзейшего Кожэ{828}, профессора болтологии в коллеже Мазарини, который остался недоволен рассуждениями о нравственности Велизария и императора Юстиниана и дерзнул написать клеветнические пасквили на этих великих мужей.
Заткните кляпом рот педанта Ларше{829}, который, не зная ни слова по-древневавилонски, не объехав, подобно мне, берегов Евфрата и Тигра, имел бесстыдство утверждать, будто прекрасная Формозанта, дочь могущественнейшего в мире царя, и царевна Алдея, и все женщины этого уважаемого двора делили за деньги ложе со всеми конюхами Азии в великом вавилонском храме, согласно своим религиозным убеждениям. Этот ученый распутник — ваш враг и враг целомудрия — обвиняет прекрасных мендесских египтянок в том, что они любили только козлов, и поэтому втайне намеревается предпринять поездку в Египет, дабы там вдоволь поразвлечься.
Так как современность столь же мало известна ему, как и старина, он, надеясь заслужить благосклонность какой-нибудь старухи, намекает, будто наша несравненная Нинон{830} в возрасте восьмидесяти лет спала с аббатом Жедуэном{831}, членом Французской Академии, а также Академии истории и археологии. Он никогда не слыхал об аббате де Шатонеф{832}, которого путает с аббатом Жедуэном, и столь же мало знает о Нинон, сколь и о девах Вавилона.
Музы, дщери неба, ваш враг Ларше поступает и того хуже. Он восхваляет мужеложство. Он осмеливается утверждать, будто все отроки моей родины причастны к этой мерзости. Он надеется спасти себя, увеличив число виновных.
Благородные и непорочные музы, вы, равно ненавидящие как педантизм, так и мужеложство, защитите меня от мэтра Ларше!
Вам, мэтр Алиборон, по прозванию Фрерон, отставной иезуит, вам, чей Парнас помещается то в Бисетре{833}, то в захудалом кабаке; вам, которому так много воздавали по заслугам на всех европейских сценах за благопристойную комедию «Шотландка»{834}; вам, достойному сыну отца Дефонтена{835}, рожденному от его любовной связи с одним из тех красивых мальчиков, которые, подобно сыну Венеры, не разлучаются с жезлом и повязкой и, подобно ему, взлетают к небесам, но не выше дымовой трубы{836}, — вам, мой дорогой Алиборон, всегда внушавший мне великую нежность и заставлявший меня смеяться месяц подряд, когда шла эта самая «Шотландка», вам поручаю я мою «Царевну вавилонскую». Наговорите о ней побольше дурного, чтобы ее побольше читали.
Не забуду я помянуть и вас, писака-богослов{837}, знаменитый оратор конвульсионеров, отец церкви, основанной аббатом Бешераном{838} и Авраамом Шомеем{839}. Не премините написать в ваших листках, столь же благочестивых, сколь красноречивых и разумных, что «Царевна вавилонская» еретична, деистична и атеистична. Особенно же постарайтесь убедить почтенного Рибалье{840} в том, что он должен от имени Сорбонны осудить «Царевну вавилонскую». Вы доставите этим огромное удовольствие моему издателю, которому я преподнес эту историю в качестве новогоднего подарка.
Приложения
К «Орлеанской девственнице»
Песнь XIII
издания 1756 года, исключенная из издания 1862 года и последующих
КОРИЗАНДРА
Мой дорогой читатель, верно, знает, Что бог-дитя, который наш покой Совсем не по-ребячески смущает, Имеет два колчана за спиной. Когда стрелу из первого колчана Направит он, то сладостная рана Не ноет, не болит, но, что ни час, Становится опаснее для нас. В другом колчане стрелы — пламень жгучий, Который нас испепелить грозит: Все чувства наши крутит вихрь могучий, Забыто все; лицо огнем горит, Какой-то новой жизнью сердце бьется, Кровь новая по жилам буйно льется, Не слышишь ничего, блуждает взгляд. Кипящей несколько часов подряд Воды в котле нестройное волненье Есть только слабое изображенье Тех бурных чувств, что нас тогда томят. Все это вам давно известно, братья, Но вам хотел бы нынче рассказать я О том, что, став игривым чересчур, Задумал необузданный Амур. Вблизи Кютандра отыскал случайно Он девушку, которая мила Наружностью была необычайно И смело бы Агнесу превзошла, Когда бы сердцем ласкова была. Звалася Коризандрой эта дура. По непонятной прихоти Амура Дворяне, рыцари и короли Ее и мельком видеть не могли, Не обезумев в это же мгновенье. Спокойно, не впадая в исступленье, Мог созерцать ее простой народ. Сходил немедленно с ума лишь тот, Кто знатен был. Не ведали к тому же Ученейшие в медицине мужи, Чем сумасшедшим в их беде помочь; А эти не могли прийти в сознанье, Пока мое невинное созданье Кому-нибудь не подарило б ночь; Должна была, по прихоти Амура, В тот миг разумной стать и наша дура. Уж благороднейших французов тьма, Увидев Коризандру ненароком, Лишилась окончательно ума. Один пасется на лугу широком; Другому кажется, что зад его Фарфоровый, и более всего Боится, чтоб его не поломали; Считает девушкой себя Берто И ходит в юбке, бледный от печали, Что не измял ее еще никто; От правды недалек, изображает Ослицу Менардон, вьюки таскает И диким ревом всем надоедает; Кюлан решил, что он горшок печной, Одну он руку опустил, другой Ушко изображает. Ах, не скрою, Что сумасшедшим кажется порою И тот, кто Коризандры не видал. Кто власти над собою не вверял Желаниям, не отдавался грезе? Безумцы все — в поэзии и в прозе. У Коризандры бабушка была, Старушка добродушная, простая, Которая смеялась, наблюдая Все эти непонятные дела. Но наконец ей слишком жалко стало Несчастных сумасшедших; потому Она на время, не смутясь нимало, Решила внучку запереть в дому; А у ворот поставила на страже Двух молодцов, внушавших веру ей, Которые не подпускали даже И на десять шагов к себе людей. Красавица, лишенная свободы, Была готова провести и годы За пеньем, за вязаньем, за шитьем, Не думая, не помня ни о чем И о несчастных не грустя нисколько. А ведь для них спасенье было в том, Чтоб «да» она промолвила — и только. Шандос надменный, втайне раздражен, Что сплоховал перед Иоанной он, Ругаясь, возвращался к англичанам, Подобно псу, который по полянам Гнался за зайцем и почти схватил, Но все-таки добычу упустил; Опущенные уши, хвост поджатый, — К хозяину бредет он, виноватый. Бормочет неразборчиво Шандос Виновнику позора ряд угроз. Меж тем, увидев, что прошла неделя, Его начальник вслед за ним послал Ирландца молодого Тирконеля; Шандос его в дороге повстречал. Полковник этот был красавец с виду, Широкоплеч, молодцеват и смел И горькую Шандосову обиду Едва ли сам когда-нибудь терпел. Уж отдохнуть коням пора настала, И в дом, где Коризандра обитала, Хотели воины свернуть. «Назад! — Кричат им сторожа. — Остановитесь, Увидеть Коризандру берегитесь! Тот, кто войдет сюда, не будет рад». Шандос нетерпеливый оскорбленным Себя почувствовал; без лишних слов Он одного из них на сто шагов Отбрасывает шпагой, и со стоном Тот падает и уступить готов. À Тирконель, не менее суров, Со злобою в коня вонзает шпоры, Колени сжав, бросает повода, И разъяренный конь его, который Брал всякие барьеры без труда, Чрез голову второго стража скачет. Не понимая, что все это значит, Тот оборачивается, но вдруг Летит, как и его злосчастный друг. Так в захолустье офицер блестящий, Изящный, юный, саблею гремящий, Привратника в театре изобьет И без билета в первый ряд пройдет, По сторонам бросая взгляд грозящий. Уж англичане в дом хотят войти; Старуха со слезами их встречает. На крик и шум, скучая взаперти, И дура Коризандра выбегает. Их коротко приветствует Шандос, Как истинный британец, просто, сухо, Но, не переведя еще и духа, Он замечает этот нежный нос, И этот цвет лица, и плечи эти, И грудь, прелестную в своем расцвете, И сладкою надеждой он смущен, На Коризандру глядя, для которой Был безразличен, как другие, он. Ирландец же, изящно звякнув шпорой, Отвесил молча бабушке поклон И улыбнулся внучке еле-еле. Но ах! они уж оба заболели. Лошадник прирожденный, наш Шандос, Безумием внезапным пораженный, Счел лошадью предмет своих же грез И вдруг, с решительностью непреклонной, Неслыханным недугом ослеплен, На спину девы вскакивает он. Та падает ничком. Для Тирконеля, Она вдруг стала бочкой от вина, Которая поэтому должна Опять быть приготовлена для хмеля, Промыта и очищена до дна, И он немедленно, без проволочки, Желает осмотреть отверстье бочки. Гарцуя, яростно Шандос кричит: «Опомнитесь, мой друг! God dam![33] Что с вами? Должно быть, дьявол разум ваш мутит: Вы эту лошадь, посудите сами, Считать хотите бочкой для вина!» «Нет, это бочка, и она должна Быть заткнута». — «Нет, лошадь!» — «Это бочка!» Так спорили британцы с полчаса, И каждый в правоте своей клялся. Но дальше мною ставится здесь точка, Хотя их красноречью — видит бог! — Любой монах завидовать бы мог И д’Оливе, защитник Цицерона. Но многие из их горячих слов Я, страж приличий, меры и закона, По скромности здесь пропустить готов, — Тех слов, которые терзают уши Имеющих чувствительные души. Как ветерок легчайший иногда Вдруг делается грозным ураганом И разбивает в ярости суда, Плывущие по бурным океанам, Так двое наших англичан, начав С пустого спора, кто из них не прав, Неукротимым гневом запылали И гибелью друг другу угрожали. Поднявши головы, настороже, Стальные шпаги обнажив уже, Они стояли, бледные от пота, Один перед другим, вполоборота, Потом ослеплены, разъярены, Удары стали наносить без счета, Презрев законы чести и войны. Под Этной, в кузнице глухой и дальней, Покрытый сажей, рогоносец-бог При всем старанье никогда б не смог Быстрей и чаще бить по наковальне, Готовя громы грозные свои И пушки, на посмешище земли. Кровь льется с каждым мигом все сильнее, Рассечены и черепа и шеи, Но бой возобновляется опять. Старуха над безумством их рыдает, Велит слуге священника позвать И «Pater noster»[34] про себя читает, Красавица же встала и, смеясь, За смятую прическу принялась. Британцы на земле уже лежали И биться далее могли едва ли, Когда король французов Карл Седьмой, Сопровождаем пышною толпой Надменных рыцарей и дам прекрасных, Подъехал тихо к месту чар опасных. К ним смело Коризандра подошла, Присела тяжело и неумело, Потом приветствие произнесла И всех без удивленья оглядела. Кто б мог поверить, что из глаз ее Исходит колдовское забытье! Ей все, казалось, было безразлично, Безумие ей сделалось обычно. Небес благословенные дары По-своему мы каждый принимаем; Нам непонятны правила игры, В которую невольно мы играем; Одни и те же соки у земли, Но из семян различных расцвели И сорные растения, и розы. Дарже — веселье, а д’Аржану — слезы; И чушь свою твердит Мопертюи, Как Ньютон — доказательства свои; Иным монархам служат гренадеры И в деле Марса, и в делах Цитеры; Разнообразно все: с ума француз Иначе сходит, чем британец хмурый, Видны и здесь природный нрав и вкус: У англичан, по складу их натуры, Безумие угрюмо и темно, А у французов весело оно. Вот новые безумцы тесным кругом Кружиться начинают друг за другом. Бонно, всеобщий вызывая смех, Не попадает в лад, сбивает всех; Молитвенно перебирая четки, Пустился в пляс и Бонифаций кроткий, Держась поближе к милому пажу — И не сводя очей с его походки. Об истине заботясь, я скажу, Что по лицу, по шуткам не столь шумным, Он все ж казался не вполне безумным. У короля и рыцарей был взор Обманут тотчас же каким-то чудом, И показалось им, что грязный двор Не двор, а пышный сад с прозрачным прудом; Немедленно купаться пожелав, Они одежду весело снимают И, плавая в песке, средь тощих трав, То плещутся, то будто бы ныряют. Заметить я просил бы вас притом, Что плыл монах все время за пажом. Понять не в силах этот танец странный Тел, обнаженных в диком забытьи, Стыдливые красавицы мои, Агнеса с Доротеей и Иоанной, То скромно отведут глаза свои, То вновь глядят, то, в трепете и муке, Возносят к небу и мольбы и руки. Иоанна вопрошала: «Боже мой, Мне помогал с небес Денис святой, Я нечестивых англичан разбила, За государя своего отмстила, До самых Орлеанских стен дошла, И тщетно все? Столь славные дела Рассеяться обречены судьбою, И ум героев — облачиться тьмою?» А Доротея, скромная вдвойне, От плавающих стоя в стороне, То плакала, то просто улыбалась И не могла понять, что с ними сталось. На что ж решиться? Что же предпринять? Никто не знал, что сделать, что сказать. Служанка им открыла под секретом, Что способ есть больных уврачевать И озарить их темный разум светом. «Всевышний, — молвила она при этом, — Судил, что тот, кто в мыслях помрачен, К рассудку снова будет возвращен Не ранее того, чем наша дура Узнает над собою власть Амура». Погонщик мулов, к счастью, в тот же миг Смысл этих слов загадочных постиг; Вы знать должны, что злобный сей распутник, Иоанной д’Арк уже давно пленен И ревностью к ослу воспламенен, Был Девственнице неизменный спутник. Он понял, что отечество свое И короля спасать пора настала. Красавица как раз в углу стояла Не слишком светлом; увидав ее, Тотчас переоделся он в монаха; Красавица, монаха увидав, Исполнилась почтительного страха И покорилась, слова не сказав, Простосердечно, радостно и смело, Как будто делала благое дело. Погонщик без труда и без борьбы Свершил свои высокие судьбы. Он одолел. Как только дрожь желанья Почувствовала трепетно она, Как бы освобождаясь ото сна, — Исчезла сразу власть очарованья. Немедля разум всем был возвращен, Однако, не без недоразуменья: Король был по ошибке награжден Умом Бонно, который в возмещенье Сознание монаха получил; Все было перепутано. Не много В том пользы было: мелочен и хил Мозг человеческий, подарок бога; Неполной пригоршней нам мерил он, И каждый смертный был им обделен. Но для влюбленных наших не имело Последствий это, каждый сохранил Свой прежний выбор и свой прежний пыл; Любви до разума какое дело? Для Коризандры же пришла пора Узнать предел порока и добра, Приобрести веселость, силу воли, Изящность, вкус, ей чуждые дотоле. Погонщик мулов дал ей это все. Так глупая Адамова подруга, Влача бессмысленное бытие, Едва лишь дьявол обласкал ее, Достойной стала избранного круга, Совсем такой, как дамы в наши дни, Хоть с дьяволом не водятся они.К песни XIV
Стихи, связанные с эпизодом о Коризандре, впоследствии исключенные из поэмы.
…Когда по ней стремишь неслышный шаг; Ты захотела, нежная богиня, Чтоб Коризандру просветил мужик: Став нежной и разумной в этот миг, Тебе служить готовая всечасно, Ее душа с тех пор была согласна Оковы лишь достойные носить. Не так ли подмастерье грубоватый Шлифует загорелою рукой Рубины, яшму, золото, агаты, Что после носит рыцарь молодой? Приветливо, с уверенностью скромной, Почтительность с любезностью деля, Тая в глазах огонь живой и томный, Она встречать выходит короля, Пленяя стройностью, походкой гибкой, Движеньями, речами и улыбкой; Почтив всех прежде, как заведено, Того, в ком водворился ум Бонно, И всех французов королевской свиты, В которых смелость и изящность слиты, Она почтила также англичан, Согласно с вкусами обеих стран. Кровавый ростбиф, жиром уснащенный, Плумпудинги, вино с холмов Гаронны Им подают; к тончайшим же блюдам, Как нежное рагу, и соус сладкий, И с красными ногами куропатки, Сажают Карла, рыцарей и дам. Она добилась большего и дело Так осторожно повести сумела, Что помириться помогла врагам; И от нее, забыв свои раздоры, Они разъехались без всякой ссоры, Луарою, по разным берегам, Без хвастовства, без ругани, учтиво, Вполне спокойно и миролюбиво. Шандос надменный с чувством торжества Вернул пажа вновь под свое начало. И он и Карл вошли в свои права. Агнеса тихо про себя вздыхала: Любви монаршей преданно служа, Покорная влюбленному владыке, Она не в силах позабыть пажа… Блажен король, доверием великий! Когда был дом избавлен от гостей И сглажены следы недавней сшибки, Решает Коризандра поскорей Исправить прежние свои ошибки И призывает юношей сама, Из-за нее лишившихся ума. Амур возжаждал справедливой мести; Ей новый выбор делал много чести, — Он был красив и юн, высок и прям; Но к повести пора вернуться нам. Король французов, со своим отрядом…К песни XVII
В рукописи, найденной среди бумаг поэта, эта песнь, бывшая тогда четырнадцатою по счету и следовавшая за описанием смерти Шандоса, начиналась так:
Тогда пора счастливая стояла, И солнце, задержавшись на пути, Дни удлиняло, ночи сокращало И как бы не хотело отойти, Шаги свои нарочно замедляя, От нашего пленительного края. Святой Иоанн, тогда был праздник твой, О первый из Иоаннов, свет пустыни, Когда-то громко восклицавший: «Ныне Всем ко спасенью путь открыт прямой!» Предтеча благодати мировой, И агнца непорочного учитель, И вечного крестителя креститель. Доминиканец набожный решил Немедленно исправить грех безмерный И божий храм, который осквернил Злодей Шандос, омыть от тяжкой скверны. Он заново часовню освятил, Отшельнику велев без промедленья Отправиться в окрестные селенья И объявить, что если человек Желает избежать мучений ада И от грехов избавиться навек, То к Бонифацию явиться надо: Блаженство вечное за то награда. На этот искупительный набат Бежит что было сил и стар и млад: Трактирщики, солдаты, горожане, Французы, а за ними англичане Явились со смирением сюда, Чтоб во грехах открыться без стыда. Прекрасная Агнеса, сохраняя Всегда в душе своей господень страх, Явилась также на призыв из рая. Большой толпой был окружен монах И, слушая признания без гнева, Грехи прощал направо и налево. О Доротея! Ты не знала зла, Но за прощением и ты пришла; И Ла Тримуйль, еще худой немного, Явился за тобой в обитель бога. Влюбленные шептали, не таясь, Про сладкий грех, любимый ими нежно, И Бонифаций, набожно склонясь, Их повести внимал весьма прилежно. Вот наконец, прощенье получив, Они пошли на берега Луары, Глядели на крутой ее обрыв И колокола слушали удары. В то время каяться пришел Монроз; Грусть о Шандосе в сердце он принес, — Ему кончина горестная эта Внушила отвращение от света; Глубокою печалью потрясен, Тщету земных надежд провидит он И, угрызеньем совести терзаем, Витает мыслью меж землей и раем. Один явился он в приют святой. Наш духовник его встречает кротко В исповедальне, за перегородкой, И ставит на колени пред собой; Он грешника умильно обнимает И жадно повести его внимает. «Мой дорогой, грешили много вы, И вам назначить должен я — увы! — Теперь же маленькое наказанье. Так приготовьтесь же! Моя рука, По телу вашему пройдясь слегка, Настроит сразу вас на покаянье!» Монроз, печален и на все готов, Почтительно открыл отцу святому Два полушария, белей снегов, Когда-то милые Шандосу злому, И праведную муку в тот же миг Он претерпеть решается без дрожи. Но что с тобою стало, духовник, Когда увидел ты на нежной коже Три лилии, монаршей славы сад, Чей образ был французу тем дороже, Что украшал ведь он британский зад! Когда-то Карл рисунок сей красивый За козни принял силы нечестивой; Ты, знающий премудрости закон, Ты лучше понял, по чьему веленью Трех лилий образ был изображен И послужил Монрозу к украшенью. Охваченный восторгом чистым, ты Глядел на золотистые цветы По мраморному полю, и ни слова Не мог сказать; от зрелища такого Не отрывая взгляда, ты стоял, Воздевши руки, и едва дышал. Поль Тирконель, солдат суровых правил, Как будто знал заране что-то он, К часовне в это время путь направил, Шандосовой судьбою огорчен. Он всей душой французов ненавидел… И на мгновенье замер, недвижим, Когда пажа лежащего увидел И пастыря, склоненного над ним. Предположил он худшее: наш воин Зло видеть всюду был всегда настроен. Желая заступиться за пажа, Воскликнул он, от ярости дрожа: «Как! Допустимо ль, чтоб монах французский Шандосовым наследством овладел!» Меч обнажив, бежит он к двери узкой. Монроз поднять штаны едва успел И выпрыгнуть. Чувствительный к угрозам, Бежит доминиканец за Монрозом, От страха чуть не падает, спешит; Его преследует надменный бритт. Тут Ла Тримуйль, заметив Тирконеля, Преследующего духовника, Кричит ему: «Хвастун и пустомеля! Тебе посбавит спесь моя рука! Сразить монаха — чести нет особой! Расправа с безоружными легка! Ты с воином помериться попробуй! Да, я был побежден вчера. Так что ж? Ты силу новую во мне найдешь!» Кричал Тримуйль не громко, англичанин Его не слышал, гневом отуманен. Был странен Доротее этот вид, — Куда-то друг ее стремглав бежит; И бросилась она за ним послушно. Агнеса наблюдала равнодушно Погоню эту. Точно в чарах сна, Вдруг побежать решила и она. Так в стаде неразумные ягнята Друг дружку увлекают вдруг куда-то. Был с королем великий Дюнуа На берегу противном: говорили Они о мерах нужных, нужной силе Для полного изгнания врага. Поблизости моста, на склоне вала Иоанна благородно гарцевала. Случайно вдруг увидела она, Вдали, за противоположным лугом, Шесть человек, бегущих друг за другом, Чем и была весьма удивлена. Еще сильней Иоанна удивилась, Заметив то, что далее случилось: Они исчезли разом с глаз долой. Природа расточительной рукой Ковер у края леса разостлала, Не уступавший в свежести нимало Лугам, где, юной силою горда, Резвилась Аталанта иногда. Монроз бежит по лугу, развевает Его прическу ветерок, за ним Иоанна благосклонно наблюдает; Но вдруг он исчезает, словно дым. За ним стремится Бонифаций. Боже! Как и Монроз, он исчезает тоже. Вот Тирконель; он бледен, разъярен, С него не сводит Дева глаз; но он Вдруг пропадает, как и все другие. Доспехи Ла Тримуйля золотые Блестят, но ах! И Ла Тримуйля нет! Как были вы огорчены, мой свет, О нежная душою Доротея! Но исчезаете и вы, как фея. Прекрасная Агнеса, свежий луг Пересекая, тоже тает вдруг. Так тот, кому в Париже быть случится, Увидеть может в опере не раз Героев, вдруг скрывающихся с глаз, Чтоб в преисподнюю сквозь люк спуститься. Иоанна ничего не поняла, Молила то Дениса, то осла, Подумала о черте и решила, Что это, верно, колдовская сила И что она в волшебной той стране, Которую, в счастливом бредя сне, Певец Роланда воспевал когда-то, А вслед за ним прославил и Торквато, Которой церковь, как известно мне, Боялась долго и с чьей мощью злою Считались академики порою. Ударив шпорами бока осла, С копьем в руке, направилась Иоанна Туда, где эти странные дела Произошли так быстро и нежданно. Но Дева тщетно скакуна гнала; Остановясь у рокового луга, Он крутит шеей, удила грызет, Брыкается, карачится с испуга, Беснуется и не идет вперед. Животным осторожная природа Дала чутье особенного рода; В сравненье с ним наш разум — темный крот, Так и осел увидел богоданный Опасности, не зримые Иоанной. Он взвился кверху и, быстрей луча, По воздуху благую Деву мча, Легко перелетел лесные чащи. Святой Денис, ослом руководящий, Направил путь крылатого гонца К воротам многоцветного дворца, Каких не знал и прадед знаменитый Монарха, покорившего сердца. Иоанна, видя яшму, малахиты, Рубины, золото и мрамор плит, Воскликнула: «Денис! Святая дева! Настало время праведного гнева: Здесь мерзостный живет Гермафродит». Пока она, в воинственной тревоге, Копье подъемля и творя мольбы, Победоносной жаждала судьбы, Король французов ехал по дороге, Сопутствуемый свитой золотой…К песни XX
Вариант окончания этой песни по изданию 1756 года
Он входит и (о волшебство, о чудо!), Не веря собственным своим глазам, Неистового зверя видит там. Копье Деборы, смоченное кровью, Стояло прислоненным к изголовью. Его берет он; козни Сатаны Оружием святым посрамлены. Герой, разя, кидается на беса; Трепещет Вельзевул и заодно С ослом поспешно прыгает в окно. Воздушною дорогой, выше леса, Его он в замок богомерзкий мчит, Где держит взаперти Гермафродит Прекрасную Агнесу и героев Обеих наций, в топь их заманя И подлую ловушку им устроив. Гермафродит, с того дурного дня, Как Дева и бастард, разя мечами, Его покрыли срамом без конца, Уйдя насильно из его дворца, Остерегался чествовать пирами Героев, пойманных его сетями. Он был суров с невольными гостями И в погреб их глубокий заточил. Однажды канцлер, в длинном облаченье, Явившись к заключенным, объявил Хозяина священное веленье: «Вам будет полагаться хлеб и квас И раз в неделю порка в довершенье, Пока один или одна из вас Не выполнит свое предназначенье; Тогда всю полудюжину он спас. Подумайте над этим; пусть открыто Полюбит кто-нибудь Гермафродита. Любви и хочет и достоин он. А коль не будет удовлетворен, Вас высекут, — таков его закон». Он вышел вон. По окончанье речи Шесть заключенных собрались на вече. Но кто же будет в жертву принесен? Агнеса молвила: «В моей ли власти Быть раненной стрелою нежной страсти? Не от меня зависит, что люблю И верность сохраняю королю». Глаза Агнесы, полные печали, Глазам Монроза томно отвечали. Монроз сказал: «Той, кем душа жива, Не изменю и ради божества. Я равнодушен к ста Гермафродитам И для нее желал бы быть избитым». «И я для милого пролила б кровь, — Сказала Доротея. — Где любовь, Там скрашены ужаснейшие муки: Что нам мученья, если нет разлуки?» А Ла Тримуйль к ее ногам приник И отдавался скорби бесконечной, Слегка смягченной радостью сердечной. Откашлявшись два раза, духовник Сказал им: «Господа, и я был молод; Те времена прошли; суровый холод Избороздил морщинами мой лик. Что я могу? Мое ли это дело? Я — королевский духовник, монах; Бессилен я помочь в таких делах». Поль Тирконель решительно и смело Встает и заявляет: «Ну, так я!» Сказал, и общество повеселело, Надежду на спасенье затая. Когда минула ночь, Гермафродиту, Который утром женщиной бывал, Поль нежное посланье написал, Чтобы его доставить через свиту, И приложил короткий мадригал, Где редкостного вкуса достигал.Песнь XXI
В том виде, как она печаталась в изданиях, включавших восемнадцать и двадцать четыре песни
Я должен рассказать, конец какой Имели хитрости Гермафродита, Как Тирконель наказан был судьбой, Какая благородная защита Была оказана отцом святым Агнесе с Доротеей и с каким Искусством было колдовство разбито. Затем подробно расскажу вам, как Осел у Дюнуа похитил Деву И как за этот грех господню гневу Подвергся верности и чести враг. Но о сражении у Орлеана И о разгроме английского стана Я ранее поведать должен вам. Ты торжествуешь, бог любви! О, срам! О злой Амур, ведь ты предать собрался Оплот и славу Франции врагам! То, перед чем британец колебался, То, что Бедфорд и опытность его, То, что рука Тальбота самого Не сделали, ты совершить берешься. Ах, пламень твой, сжигающий в тиши, — Мученье тела, пагуба души! Ты губишь нас, дитя, а сам смеешься! Тому два месяца, порхая там, Где сто бойцов, служа двум королям, Дрались, удары нанося без счета, Ты ранил в сердце грозного Тальбота, Стрелу из первого колчана взяв. В тот день, в стенах французского оплота, Минуту перемирия избрав, Беседовал он, пользуясь моментом, С Луве, невозмутимым президентом. За ужином, на скромном торжестве, Присутствовала госпожа Луве, С лицом надменным и довольно хмурым, За что незамедлительно была Наказана обиженным Амуром: Ей сердце жгучим пламенем зажгла Родящая безумие стрела, И молодая президентша разом Узнала страсть и потеряла разум. Вообразите страшный этот бой, И эту беспощадную осаду, И этот приступ, страх внушавший аду, И этот грозный орудийный вой, Когда Тальбот с британскими полками Стоял пред взорванными воротами И, мнилось, на него бросала твердь Огонь, свинец, железо, сталь и смерть. Уже Тальбот и дерзостный и рьяный Успел войти в ограду Орлеана И возвышал свой голос громовой: «Сдавайтесь все! Соратники, за мной»: Покрытый кровью, в этот миг, поверьте, Он был похож на бога битв и смерти, Которому сопутствуют всегда Раздор, Судьба, Беллона и Беда. Как бы случайно в президентском доме Отверстья не забили одного, К госпожа Луве в жару, в истоме Глядела на Тальбота своего, На лик его прекрасный и влюбленный, Сей гордый лик, с которым бы не мог Соперничать и древний полубог. По жилам президентши пламя лилось, Она забыла стыд, в ней сердце билось. Так некогда, любовью пронзена, Из темной ложи госпожа одна Глядела на бессмертного Барона, Не отрывалась от его лица. Ждала его улыбки и поклона И негой наслаждалась без конца. Вот президентша, от любви сгорая, Бросается к наперснице своей: «Беги, беги, Сюзетта дорогая, Скажи ему, чтоб он пришел скорей Меня похитить; а не можешь лично, То передай хоть с кем-нибудь другим, Что я по нем тоскую безгранично И ужинать хочу сегодня с ним». Сюзетта не сама пошла, а брата Послала в лагерь; тот исполнил все, И через час, не боле, три солдата Ворвались в президентово жилье. Ворвались, женщину находят — в маске. Она вся в лентах, в мушках и в раскраске. На лбу кольцо искусное вилось Из собственных или чужих волос. Ее хватают, кутают плащами И мчат к Тальботу тайными путями. Надменный этот воин, чья рука Повсюду пролагала след кровавый, В объятиях крылатого божка Хотел под вечер отдохнуть от славы. Обычай требует, чтоб, кончив бой, С любовницей поужинал герой, И жажда нег, как некая забота, Томит великолепного Тальбота. Для ужина готово было все: В лед врублено, в графинах драгоценных Рубином отливало то питье, Что в погребах своих, благословенных Хранит Сито. В другом конце шатра, Под сенью драгоценного ковра, Большой диван, украшенный с любовью, Подушками манивший к изголовью, Сулил покой и негу до утра. Утонченное всюду было что-то; Жить, как француз, была мечта Тальбота. Немедленно увидеть хочет он Ту, чьими прелестями он пленен. Он от волненья места не находит. Он требует ее, зовет, и вводят К нему урода, в лентах, кружевах И фута с три, хоть и на каблуках. Он видит воспалившиеся веки, Из глаз какой-то желтой слизи реки И нос, крючком спускающийся вниз, Чтоб с подбородком вздернутым сойтись. Тальбот решил, что это привиденье; Он крикнул так, что все пришло в движенье. Страшилище, подобное сове, Была сестра почтенного Луве, Которая гордилась чрезвычайно, Что и ее хотят похитить тайно. А госпожа Луве, потрясена Печальною ошибкою, стонала В бессильной ярости; так ни одна Еще сестра сестру не проклинала. Была бедняжка от любви пьяна, И описать я, право, не сумею, На что способной сделалась она, Лишь только ревность овладела ею. Осел вернулся к Деве, полн огня. Иоанна, виду не подав нимало, Но радуясь в душе, пробормотала: «Ужель вы, сударь, любите меня?» «Люблю ль я вас? О, что сказать, не знаю, — Осел ответил, — я вас обожаю. Как к францисканцу вас я ревновал! С каким восторгом я подставил спину Наезднику, который вас спасал, Рубя с размаху бритую скотину! Но мне ужасней всякого врага Ублюдок этот, этот Дюнуа! От ревности горя, не без причины Его я перенес за Апеннины. Что ж! Он вернулся; вам открылся он; Красивей он — но не сильней влюблен. Иоанна! Украшение вселенной, О Дева девственности несравненной, Ужели Дюнуа — избранник твой? Нет, должен я быть избранным тобой. Ах, коль узнать, чем сладостна ослица, Мне помешала вышняя десница, Коль, нежное неведенье храня, Остался до сих пор невинным я, Коль вынес я из-за тебя немало, Коль, этой страсти ощущая жало, Забыл я в небо улететь опять И коль меня так часто ты седлала, Позволь же и тебя мне оседлать». Признанье это услыхав, Иоанна Была, конечно, гневом обуяна; Однако все-таки была она, Коль правду говорить, и польщена, И нежно улыбалась, еле веря, Что красота ее прельстила зверя. Как в полусне, к ослу ее рука Простерлась вдруг, отдернулась слегка; Она краснеет; но, собрав все силы И успокоясь, говорит: «Мой милый, Вы тщетною надеждой пленены; Мы позабыли честь родной страны; Мы с вами слишком непохожей масти; Я не могу ответить вашей страсти. Я буду защищаться. Это грех!» Осел в ответ: «Любовь равняет всех. Ведь Леды с лебедем роман известный Ее не сделал женщиной бесчестной. Ведь дочь Миноса, в лучшем цвете лет, Из-за быка отказывала многим, Предпочитая спать с четвероногим. Ведь был орлом похищен Ганимед, И полюбила нежная Филира Морского бога, ставшего конем». Он говорил; а бес, сидевший в нем, Исконный автор баснословий мира, Нашептывал примеры без числа И мудрости преисполнял осла. Иоанна слушала; о, сила слова! От уха к сердцу множество дорог. Пред блеском красноречия такого Она молчит, она мечтать готова. Любить осла, ему отдать цветок! Ужели это ей назначил рок, Когда она дарила раз за разом Погонщиков и рыцарей отказом, Когда, по вышней милости, Шандос Пред нею поражение понес? Но ведь ее осел — любовник горний; Он рыцаря блестящей и проворней; Какая нежность, что за ум и вкус; Ведь на него садился Иисус; Он в небесах вкушал от райских брашен; Как серафим, он крыльями украшен; На зверя он и не похож ничуть; Скорее в нем божественная суть. Всех этих мыслей грозовая сила Иоанне кровь и голову кружила. Так иногда, среди морских широт, Властитель ветра и властитель вод Спешат, один — от пламенного юга, Другой — оттуда, где снега и вьюга, И настигают судно где-нибудь, Что к Суматре иль Яве держит путь; Корабль то к небесам как будто вскинут, То с высоты на скалы опрокинут, То словно исчезает в бездне вод И медленно из ада восстает. Так наша Дева бурей обуяна. Осел настойчив, и, смутясь, Иоанна Не удержала в трепетных руках Кормила, именуемого «разум». Неведомый огонь блеснул в глазах, Все чувства в ней заволновались разом; Исчезла бледность тусклая, и вновь Ее ланиты оживила кровь. Влюбленного витии жест ужасный Вставал скалой особенно опасной. Иоанна над собой теряет власть; Во влажных взорах загорелась страсть; Она склонилась головой к постели; Смущенный взгляд мерцает еле-еле; Но снизу все-таки глядит она; Могучая краса обнажена; Она подняла спину в томной лени И подогнула под себя колени. Так Тибувиль и герцог де Виллар, Как Цезарь, грешную любовь изведав, Когда их сожигает томный жар, Склоняя голову ждут Никомедов. . . . . . . . . Лукавый мальчик, чья стрела желанна И людям, и бессмертным, и ослам, На крылышках паря по небесам, Смотрел с улыбкой нежной, как Иоанна С любовником своим себя вела, С ним загораясь страстию одною, Миг торопила, чтобы стать женою, И прижималась, ласково мила, Мясистым крупом к животу осла. . . . . . . . . Как вдруг раздался голос близ нее: «Иоанна, меч берите и копье; Вставайте: Дюнуа уже под стягом; Сегодня бой; уже походным шагом За королем выходит наша рать; Скорее одевайтесь; время ль спать?» То юная взывала Доротея; К Иоанне чувства нежные лелея, От слишком затянувшегося сна Ее будить явилася она. Так говоря забывшейся подруге, Распахивает двери второпях… О, боги! Что за зрелище! В испуге Она три раза крестится… «Ах! Ах!» Едва ли так смутилась Афродита, Когда Вулкан, накинув невод свой, Всем небожителям явил открыто Ее под Марсом, пленной и нагой. Иоанна, увидав, что Доротея Всему свидетельница, замерла, Потом себя в порядок привела И так заговорила, не робея: «Здесь тайна есть великая, мой свет; За короля я принесла обет; И если видимость немного странна, Мне очень жаль, но вы должны молчать. И я умею дружбу уважать: Придет пора, и промолчит Иоанна. А главное — ни слова Дюнуа; Узнает он, и Франция пропала». Иоанна, эти говоря слова, С постели встав, вооружаться стала, Но Доротея, с полной прямотой, Ей отвечала в крайнем изумленье: «Сказать по правде, в этом приключенье Не разбирается рассудок мой. Не проболтаюсь, я вам обещаю; Мучения любви сама я знаю И горькою научена судьбой Прощать ошибки сердца молодого. Я всяческие вкусы чтить готова, Но признаюсь, не в силах я понять: Вы Дюнуа могли бы обнимать, — Так для чего вам предаваться власти Какой-то низменной ослиной страсти? Как не отвергнуть этот гнусный срам, Приличествующий одним скотам; И как не быть заране пораженной, Испуганной, разбитой, изумленной . . . . . . . . И как возможно, без сопротивленья, Сознательно, не чуя отвращенья, Не различая ни добра, ни зла, Позорнейшее утолять влеченье, Предпочитая рыцарю осла, И даже видеть в этом наслажденье? А между тем вы наслаждались, да; Ваш взор пылал без всякого стыда. Или во мне естественности мало, Но только знаю: мне бы не был мил Ваш кавалер». Иоанна отвечала Со вздохом: «Ах! Когда б он вас любил!»Письмо королю Прусскому о трагедии «Магомет» Перевод Н. Полляк
[Декабрь] 1740 года.
Сир,
я поступаю ныне, как паломники Мекки, которые, покинув священный город, оборачиваются, чтобы бросить в его сторону еще один взгляд; подобно им, я вновь обращаю взор свой к Вашему двору. Сердце мое глубоко чувствует милости Вашего величества и проникнуто печалью, оттого что не может оставаться долее подле Вас. Беру на себя смелость послать Вам новую версию трагедии о Магомете, с первыми набросками которой Ваше величество пожелали ознакомиться некоторое время тому назад. Этим я, в большей мере, воздаю должное любителю искусств, строгому ценителю и, главное, философу, чем плачу свой долг государю.
Вы знаете, Ваше величество, какие чувства воодушевляли меня на сей труд: любовь к человечеству и отвращение к фанатизму; пером моим водили две эти добродетели, достойные постоянно стоять на страже у Вашего трона. Я всегда считал, что трагедия не может быть просто зрелищем, которое трогает, но не исправляет сердца. Что нам до страстей и бед какого-нибудь древнего героя, если они не служат полезным уроком? Все признают, что комедия о Тартюфе, это образцовое произведение, коему нет равного у других народов, принесло человечеству большую пользу, показав лицемерие во всей его мерзости; так почему же не попытаться сочинить трагедию и в ней нанести удар той гнусности, которая соединяет в себе лицемерие одних и исступление других? Почему не поднять голос против злодеев прошлого, знаменитых основоположников суеверия и фанатизма, тех, кто впервые схватил на алтаре нож, чтобы отдать на заклание строптивых, не желающих принять их воззрения?
Иные скажут, что времена такого рода преступлений давно миновали, что больше на земле не будет Бар-Кохбы, Магомета, Иоанна Лейденского{841} и им подобных, что пламя религиозных войн угасло; но думать так — значит, по-моему, делать слишком много чести человеческой природе. Отрава фанатизма существует и поныне, хотя распространена и не столь широко; эта чума, на первый взгляд обезвреженная, то и дело порождает новые миазмы, способные заразить всю землю. Разве не в наши дни севеннские пророки{842} убивали во имя божье тех членов своей секты, которые не проявляли должной покорности?
События, выведенные мною в этой пиесе, устрашающи; не знаю, заходил ли когда-либо театр так далеко в живописании ужасного. Молодой человек, добродетельный от рождения, попадает под власть фанатизма и убивает старца, который любит его; он думает, что служит богу, а на деле, сам того не ведая, становится отцеубийцей; на это преступление его посылает злодей и обманщик и в награду за убийство сулит ему кровосмесительную любовь. Должен признать, что вывожу на подмостки театра нечто омерзительное; но ведь и Вы, Ваше величество, не считаете, что трагедия должна показывать только объяснения в любви, ревность и бракосочетание.
История повествует о деяниях, куда более страшных, чем придуманное мною для этой пиесы. Мой Сеид, по крайней мере, не знает, что поднял руку на родного отца; нанеся удар, он испытывает раскаяние столь же великое, как и совершенное им злодейство. А вот Мезере рассказывает, что в Мелёне некий отец собственноручно убил своего сына из религиозных побуждений и нисколько в этом не раскаивался. Известна также история братьев Диас: в начале смут, поднятых Лютером, один из них жил в Риме, другой в Германии. Бартоломе Диас, узнав, что его франкфуртский брат впал в лютеранскую ересь, покидает Рим с намерением убить вероотступника, едет в Германию и убивает его. Я сам читал у испанского автора Эрреры следующие слова: «Бартоломе Диас подвергал себя большой опасности, задумав такое дело; но ничто не может поколебать благородное сердце, когда им руководит чувство чести». Христианин Эррера — последователь святой веры, которая осуждает жестокость, которая учит страдать, а не мстить, убежден, по-видимому, что чувство чести может вести к кровопролитию и братоубийству. И в ответ на столь сатанинские мысли не раздается единодушный крик негодования!
Именно такие мысли побудили схватиться за кинжал изверга, лишившего Францию Генриха Великого; именно они вознесли на алтарь портрет Жака Клемана{843}, а его самого причислили к лику святых; они стоили жизни принцу Вильгельму Оранскому{844}, заложившему основу независимости и величия Нидерландов. Сначала Сальседо ранил его в голову выстрелом из пистолета, и Страда{845} рассказывает, что «Сальседо (по собственным его словам) решился на этот поступок лишь после того, как очистил душу, исповедавшись монаху-доминиканцу, и укрепил ее святым причастием». Эррера говорит· нечто еще более безумное и жестокое: «Estando firme con el exemplo de nuestro salvador Jesu Cristo y de sus Santos»[35]. Бальтасар Херардо, лишивший в конце концов жизни этого великого человека, готовился к преступлению точно таким же образом, как и Сальседо.
Я обратил внимание на то, что все, кто совершал подобные преступления из чувства долга, были очень молоды, как и мой Сеид. Бальтасару Херардо было двадцать лет. Другие четверо испанцев, поклявшихся вместе с ним убить Вильгельма, были его ровесниками. Извергу, умертвившему Генриха III, едва исполнилось двадцать четыре года. Польтро{846}, убийце герцога Гиза, было двадцать пять, — это возраст соблазна и свирепости. В Англии я сам чуть не стал очевидцем злодейства, на какое фанатизм способен толкнуть молодую и слабую голову. Мальчик шестнадцати лет по фамилии Шеперд задумал убить короля Георга I, Вашего деда с материнской стороны. И какая же причина побудила его на такое зверство? Лишь та, что Шеперд исповедовал другую религию, нежели король. Сжалившись над его юностью, ему предлагали помилование, его долго уговаривали раскаяться, но он твердил одно: надо повиноваться богу, а не людям, и если ему вернут свободу, то первым его шагом будет убийство своего государя. Пришлось отправить несчастного на плаху, как чудовище, не поддающееся приручению.
Осмелюсь сказать, что всякому человеку, жившему среди людей, не раз доводилось видеть, как легко они жертвуют природой ради суеверия. Сколько отцов возненавидели и обездолили своих детей! Сколько братьев преследовали братьев своих из-за того же зловещего заблуждения! Я сам наблюдал в некоторых семьях подобные случаи.
Суеверие не всегда приводит к злодеяниям, остающимся на скрижалях истории, но и в повседневной жизни оно творит тьму всевозможных мелких зол: разлучает друзей, ссорит родных, губит разумного и честного человека руками полоумного фанатика. Не каждый день оно подносит Сократу чашу с цикутой; но оно изгоняет Декарта из города, которому должно было бы быть прибежищем свободы; оно дает какому-нибудь Жюрье{847}, строящему из себя пророка, довольно власти, чтобы довести до нищеты ученого и философа Бейля. Оно отвергает, оно отнимает у цветущей юности, спешащей в университет, последователя великого Лейбница, и этот учитель будет восстановлен на кафедре лишь потому, что по воле неба в стране родился король-философ, а это истинное чудо, лишь изредка даруемое нам. Тщетно философия, достигшая столь многого в Европе, просвещает человеческий разум; тщетно даже Вы, великий государь, стараетесь исповедовать и распространять эту гуманную философию; мы видим, что и в наш просвещенный век, когда разум столь высоко возносит свой трон, самый дикий фанатизм воздвигает свои алтари в противовес ему.
Меня, возможно, упрекнут в том, что поддавшись излишнему пристрастию, я приписал Магомету в этой трагедии преступление, коего он не совершал.
Граф де Буленвилье написал несколько лет тому назад историю жизни пророка. Он старается изобразить Магомета великим человеком, который был избран провидением, чтобы покарать христиан и изменить облик целой части света. Господин Сейл, подаривший нам превосходный перевод Корана на английский язык, хочет представить Магомета вторым Нумой или Тезеем. Я же полагаю, что его следовало бы почитать, если бы, рожденный законным наследником престола или призванный к власти волеизъявлением народа, он подарил бы своему отечеству мирные законы, как Нума, или защитил бы ее от врагов, как Тезей. Но перед нами всего лишь погонщик верблюдов, который взбунтовал народ в своем городишке, навербовал себе последователей среди несчастных корейшитов, внушив им, будто его удостаивает беседы архангел Гавриил, и хвалился, что бог уносил его на небо и там вручил ему сию непонятную книгу, каждой строкой своей приводящую в содрогание здравый смысл. И если, чтобы заставить людей уважать эту книгу, он предает свою родину огню и мечу; если он перерезает горло отцам и похищает дочерей; если он не оставляет побежденным иного выбора, как принять его веру или умереть, — то его, безусловно, не может извинить ни один человек, если только это не дикарь и не азиат, в котором фанатизм окончательно заглушил природный разум.
Я знаю, что Магомет не совершал такого именно предатсльства, какое составляет сюжет моей трагедии. История говорит лишь, что он отнял жену у Сеида, одного из своих учеников, и преследовал Абусофьяна, коего я называю Зопиром; но тот, кто ведет войну против своего отечества и смеет вести ее во имя бога, способен на все. Цель моя не в том лишь, чтобы вывести на сцене правдивые события, но в том, чтобы правдиво изобразить нравы, передать истинные мысли людей, порожденные обстоятельствами, в коих люди эти очутились, и, наконец, показать, до какой жестокости может дойти злостный обман и какие ужасы способен творить фанатизм. Магомет у меня — не что иное, как Тартюф с оружием в руках.
Я буду полностью вознагражден за свой труд, если какая-нибудь слабая душа, всегда готовая поддаться действию чужого и чуждого ей самой исступления, укрепит себя против этих гибельных соблазнов, прочитав мою пиесу; если, ужаснувшись злосчастному повиновению Сеида, читатель скажет себе: «Зачем я буду слепо повиноваться слепцам, которые кричат: «Ненавидь! Преследуй! Убивай того, кто смеет не соглашаться с нашим мнением о чем бы то ни было, даже о предметах безразличных и нам самим непонятных»? Не лучше ли я поступлю, способствуя искоренению подобных чувств среди людей? Дух снисхождения рождает братьев; дух нетерпимости не рождает ничего, кроме чудовищ».
Так думаете и Вы, Ваше величество. Для меня не было бы большего утешения, как жить подле Вас, короля-философа. Преданность моя Вам столь же велика, как и мои сожаления; и если меня призывают иные обязанности, то никогда они не вытеснят из моего сердца чувств, внушенных государем, который мыслит и говорит, как человек, который избегает напускной важности, всегда скрывающей под собой мелочность и невежество, свободно общается с другими людьми, ибо не боится, что тайные мысли его будут угаданы, который всегда готов учиться и сам способен учить просвещеннейших.
Примите мои уверения в глубочайшем почтении и самой искренней признательности до конца дней моих.
ВОЛЬТЕР
К иллюстрациям
В настоящем томе использованы иллюстрации к прижизненным изданиям сочинений Вольтера: к «Философским повестям» — гравюры художника Эд. Жуо; к «Орлеанской девственнице» — гравюры к бесцензурному изданию поэмы без указания имени художника.
Портрет Вольтера на фронтисписе работы художника М. Латура.
Примечания
1
Святые отцы (исп.).
(обратно)2
В последних изданиях этой поэмы, сделанных невеждами, читатель с возмущением видит множество стихов, вроде:
И пальцем проверяет тут Шандос: Иоганна все по-прежнему ль девица? «Черт побери тесьму!» — хрипя, бранится. Но вот тесьму и вправду черт унес. Шандос встряхнуть свою тряпицу тщится, . . . . . . . . На свой манер у каждого повадка.О Людовике Святом там говорится:
Уж лучше бы бедняга развлекался В постели со своею Марготон… Он ракового супа не едал, и т. д.Кальвин{6} там современник Карла VII; все искажено, все испорчено бесчисленными нелепостями; автор этой мерзости, годной единственно для всякого сброда, расстрига-капуцин, принявший имя Мобера{7}.
(обратно)3
«Ночное бдение в честь Венеры»{8} (лат.).
(обратно)4
В самом деле (лат.).
(обратно)5
«Морганте»{10} (итал.).
(обратно)6
Вначале было Слово — Слово Бога,
Бог Словом был, и Слово было Богом,
Все началось от этого порога, и т. д. (итал.).
(обратно)7
«Здравствуй царица» (лат.).
(обратно)8
Кто свят ему — Христос иль Магомет? Маргутте отвечал: «Ни в чох, ни в сон Не верю я, — но верую в цыпленка, Когда на славу подрумянен он. . . . . . . . А пуще верю я в стакан вина, Душа той верой будет спасена. Три главных добродетели мне святы: Зад, глотка и игра. Вот мой ответ (итал.). (обратно)9
С разрешения властей (итал.).
(обратно)10
Мне сочинителей любить пристало: Я в мире вашем сочинил немало. . . . . . . . . По праву наградил меня Христос За то, что так его я превознес… (итал.) (обратно)11
Что сказать (лат.).
(обратно)12
«Из бездны» (лат.) — заупокойная молитва.
(обратно)13
7 Святой Рох, исцеляющий от чумы, изображается всегда с собакой, а святой Антоний всегда сопутствуем свиньей. — (Автор).
(обратно)14
8 Леда, оказав благосклонность лебедю, разрешилась двумя яйцами. — (Автор).
(обратно)15
9 Пасифая, влюбленная в быка, родила от него Минотавра. Филира родила от коня кентавра Хирона, наставника Ахилла; конский образ принял не Нептун, а Сатурн; в этом наш автор ошибается. Но я не отрицаю, что некоторые ученые придерживаются того же мнения. — (Автор).
(обратно)16
Ваше святейшество!
Благоволите простить меня, недостойнейшего из христиан, но вместе с тем и ревностнейшего поборника добродетели, за то что я беру на себя смелость посвятить Вам, первосвященнику истинной веры, сочинение, направленное против создателя веры варварской и ложной.
Кому же иному может с большим основанием быть поднесена сатира на жестокость и заблуждения лжепророка, как не тому, кто является наместником на земле и земным подобием бога истины и добра?
Да будет мне дозволено Вашим святейшеством сложить к Вашим стопам сие сочинение и отдать Вам на суд его автора, а также всепокорнейше просить Вашего благословения сочинителю и покровительства его скромному труду. Благоговейно склоняюсь перед Вами, лобызая Ваши священные стопы.
Париж, 17 августа 1745 года (итал.).
(обратно)17
В это время жил один вавилонянин по имени Арну, который, как сообщалось в газетах, излечивал и предотвращал апоплексию посредством привешенного к шее мешочка.
(Здесь и далее примечания в сносках, кроме перевода иноязычных слов и выражений, принадлежат Вольтеру. — Ред.)
(обратно)18
Катайские слова, которые означают: Ли — свет, разум, Тянь — небо, и употребляются в смысле «божество».
(обратно)19
Волоокая (греч.).
(обратно)20
Первое слова благодарственной молитвы «Тебя, господи, славим…» (лат.).
(обратно)21
Какое несчастье, что меня оскопили! (итал.)
(обратно)22
Святых отцов (исп.).
(обратно)23
Модной, пользующейся успехом (итал.).
(обратно)24
Ничему не удивляться (лат.).
(обратно)25
Все эти слова в самом деле гуронские.
(обратно)26
…покидаем любезные пашни, Мы из отчизны{700} бежим… (лат.) (обратно)27
Это экипаж, возивший из Парижа в Версаль, похожий на маленькую крытую двуколку.
(обратно)28
Смотри главу 9 Библии и главы 3, 18, 19 «Екклезиаста».
(обратно)29
Граду и миру (лат.).
(обратно)30
Святой Мартин, какой прелестный юноша! Святой Панкратий, какой прелестный мальчик! (итал.)
(обратно)31
Щедрый подарок (итал.).
(обратно)32
Во имя любви к богу (исп.).
(обратно)33
Проклятие! (англ.).
(обратно)34
«Отче наш» (лат.).
(обратно)35
Укрепив свою решимость примером спасителя нашего Иисуса Христа и его святых (исп.).
(обратно)Комментарии
1
ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА
(La Pucelle d’Orléans)
Действие этой сатирической поэмы Вольтера приурочено к так называемой Столетней войне между Францией и Англией (1337–1453). Внешним поводом к войне послужили династические споры о престолонаследии: после смерти французского короля Карла IV Красивого (1328 г.) пресеклась прямая линия династии Капетингов: ни сам Карл IV, ни его старшие братья не оставили наследников мужского пола, и на французский престол стали претендовать двоюродный брат Карла, Филипп Валуа, и его племянник, сидевший на английском престоле под именем Эдуарда III. Война явилась тяжелым бедствием для Франции; она шла с переменным успехом, и заключавшиеся время от времени мирные договоры вскоре нарушались, так как проигравшая сторона немедленно начинала готовиться к реваншу.
Положение Франции усложнялось внутренними усобицами — ожесточенным соперничеством феодалов, присоединявшихся то к одной, то к другой враждующей стороне. Наиболее острым из таких конфликтов была борьба двух феодальных партий — «арманьяков» (ее возглавлял герцог Людовик Орлеанский, но душой был граф Арманьяк) и «бургундцев» (во главе с герцогом Бургундским Иоанном Бесстрашным (1371–1419). Эта кровавая феодальная распря началась в 90-х годах XIV века из-за споров о том, кому быть регентом при безумном короле Карле VI. После ряда стычек, покушений и убийств эта «семейная» склока переросла в настоящую гражданскую войну. Иоанн Бесстрашный, кроме обширного герцогства Бургундского, владевший также Фландрией и Брабантом, вошел в сговор с англичанами, что позволило ему захватить в 1418 году Париж, расправиться с застигнутыми врасплох «арманьяками» и значительно укрепить свое положение. В его руках оказался и безумный Карл VI, от имени которого герцог Бургундский стал править Францией.
Незадолго перед тем французская армия потерпела жестокое поражение от англичан в битве при Азенкуре (1415 г.); через несколько лет, во время переговоров о мире, Иоанн Бесстрашный был убит. В 1420 году был заключен мирный договор в Труа, по которому наследником французского престола объявлялся английский король Генрих V, женатый на французской принцессе Екатерине. Но Генрих V внезапно умер в 1422 году, а через два месяца скончался и безумный Карл VI. Во Франции снова оказалось два претендента на простол: десятимесячный Генрих VI Английский, от имени которого желал править регент герцог Бедфорд, и сын умершего Карла VI Безумного, дофин Карл (1403–1461), который тоже провозгласил себя королем под именем Карла VII, хотя владел лишь южными провинциями Франции.
Снова началась изнурительная война, в которой «арманьяки» поддерживали дофина, а «бургундцы» выступали на стороне англичан. К 1428 году вся северная и юго-западная Франция оказались под английским контролем, а северо-восток входил в состав Бургундского герцогства; осенью английская армия осадила Орлеан, ключевой пункт французской обороны, которую возглавил граф Дюнуа. Карл VII готовился бежать. В этот критический момент и выступила Жанна д’Арк. В мае 1429 года она со своим войском освободила Орлеан, затем взяла Реймс, где 17 июня 1429 года был торжественно коронован Карл VII. Оказавшись на престоле, король ничего не сделал для спасения Жанны д’Арк, попавшей в плен к англичанам. Но ее казнь не помогла им. Пробудившееся во французском народе патриотическое чувство уже не могло быть подавлено, и, после многих сражений, в 1436 году Париж открыл ворота французам. К 1452 году Столетняя война фактически закончилась.
Наиболее драматические события этой войны Вольтер использовал в «Орлеанской девственнице».
Работа над поэмой шла медленно, с большими перерывами. Первые четыре песни были, очевидно, готовы в 1730 году, к 1735 году было написано еще пять песен, в 1749 году «Девственница» насчитывала уже тринадцать песен. К этому времени с рукописи успели снять несколько копий, которые, в свою очередь, попадали к переписчикам, так что общее число списков, ходивших по рукам, неудержимо росло.
Вольтер начал серьезно опасаться, что какой-нибудь расторопный издатель напечатает поэму и этим навлечет на него серьезные преследования. Вся его переписка начала 50-х годов пестрит упоминаниями о «Девственнице», отмечена ожиданием ее неизбежной публикации. Писатель подозревал друзей в том, что они не скрывают от посторонних глаз его рукописи, ждал, что его многочисленные враги публикацией поэмы нанесут ему рассчитанный меткий удар; он даже верил слухам, будто Фридрих II таким способом попытается вернуть его в Берлин. Об этом Вольтер писал, например, своей племяннице г-же Дени (25 декабря 1753 г.): «Люди, знающие всякие сплетни, говорят, что король Пруссии передал издателю одну рукопись из тех, что я ему доверил, и что сделал он это, дабы погубить меня во Франции и заставить вернуться к нему… Теперь я просто не знаю, что и думать. Если он действительно пошел на такую подлость, то в скором времени «Девственница» наводнит всю Европу, а я, после моего «Магомета», не смогу укрыться даже в Константинополе».
В первой половине 1755 года «Девственница» была напечатана во Франкфурте. И Вольтеру не составило труда доказать, что он не мог быть автором слабых в литературном отношении фривольных пассажей, вставленных в рукопись действительно без его ведома. В большом письме к Пьеру Руссо, издателю «Энциклопедического журнала», Вольтер давал резкую оценку изданию, рассчитанному на скандальный успех, и на ряде конкретных примеров обосновывал свою непричастность к этой публикации. Он писал: «И вершиной этих бесчестных интриг было издание поэмы под названием «Орлеанская девственница». Издатель имел наглость приписать эту поделку автору «Генриады», «Заиры», «Меропы», «Альзиры», «Века Людовика XIV», и в то время, как все ждут от этого писателя окончания предпринятой им «Всеобщей истории», в то время, как он продолжает трудиться для «Энциклопедического словаря», осмеливаются приписывать ему поэму самую плоскую, самую низменную, самую грубую из когда-либо сходивших с печатного станка… Рука не подымается выписывать из этой кощунственной книги наполняющие ее глупые и отвратительные непристойности. Все наиболее чтимое попирается в ней, не исключая рифмы, здравого смысла, поэзии и языка. Никогда еще не появлялось произведений столь плоских и столь порочных…»
Франкфуртское издание поэмы Вольтер приписывал литератору-авантюристу Жану-Анри Моберу. Вскоре появились и другие; одно из них, напечатанное осенью 1756 года в Париже, Вольтер связывал с именем своего литературного противника Лорана-Англивеля де Лабомеля. «Девственница» пользовалась большим успехом, спрос на нее неудержимо рос, и апокрифические издания появлялись непрерывно, несмотря на включение поэмы в «Индекс запрещенных книг» (январь 1757 г.) и жестокое преследование властями ее издателей и печатников.
На жалобы Вольтера, что его поэма безнадежно испорчена безвкусными вставками, друзья (в том числе Даламбер) отвечали советами подготовить собственное издание «Орлеанской девственницы». Вольтер в конце концов сделал это, и в 1762 году поэма была напечатана Крамерами в Женеве (анонимно). Готовя текст для этого издания, Вольтер не Только произвел некоторую стилистическую правку и сделал ряд добавлений, но — и это главное — значительно ослабил сатирическое и антиклерикальное звучание многих мест. В таком виде «Девственница» при жизни Вольтера издавалась несколько раз (лишь после 1764 г. была дописана одна песня, которая стала восемнадцатой по счету). Тем не менее большинство пассажей пиратских изданий, не вошедших в основной текст, безусловно, принадлежит Вольтеру, что подтверждается данными рукописей и авторитетных списков. Наиболее значительные из этих текстов помещены в приложении к настоящему тому (см. стр. 615).
В России сатирическая поэма Вольтера стала известна вскоре после первой французской публикации. Но на издание ее в русском переводе был наложен безоговорочный запрет. Тем не менее попытки такого рода делались уже в 70-е или 80-е годы XVIII века. В это время был выполнен анонимный прозаический перевод, сохранившийся во многих списках и бывший в ходу еще в пушкинскую эпоху. И. И. Хемницер собирался перевести «Девственницу» стихами, но дальше самых предварительных набросков не пошел. Около 1800 года Ю. А. Нелединский-Мелецкий перевел первую песнь поэмы десятисложным стихом. Сохранилось также несколько анонимных переводов отдельных песен «Орлеанской девственницы», созданных на рубеже XVIII и XIX столетий. Есть сведения, что над переводами поэмы работали в начале XIX века Ф. Г. Карин и Ф. И. Карцев, но эти переводы нам неизвестны. До середины одиннадцатой песни был доведен перевод Д. В. Ефимьева (1768–1804), выполненный александрийским стихом. Этот перевод сохранился в ряде списков, некоторые из которых относятся даже к концу XIX века.
Стихотворный перевод «Орлеанской девственницы» задумал в 1825 году в Михайловском А. С. Пушкин, но он перевел лишь начало поэмы и остановился на двадцать шестом стихе первой песни (опубликовано в 1884 г.).
По инициативе М. Горького «Орлеанская девственница» была включена в план созданного в 1918 году при Наркомпросе издательства «Всемирная литература». Работа была разделена между тремя поэтами-переводчиками: H. С. Гумилевым, Г. В. Адамовичем и Г. В. Ивановым. Первые двадцать пять стихов давались в переводе А. С. Пушкина. Общее редактирование перевода осуществил М. Л. Лозинский. Впервые этот перевод был издан в двух томах в 1924 году, а в 1935 году поэма Вольтера, в том же переводе, вышла отдельной книгой в издательстве «Academia», причем весь текст был заново отредактирован М. Л. Лозинским. Последняя публикация и легла в основу настоящего издания.
А. Михайлов
(обратно)2
Стр. 29. Апулей Ризорий. — Называя вымышленного автора предисловия Апулеем Ризорием, Вольтер подчеркивает пародийно-иронический характер его высказываний: Апулей — имя римского писателя (I в.), автора романа «Метаморфозы, или Золотой осел», изобилующего сценами эротического характера. Ризорий — от лат. risor — насмешник.
(обратно)3
…под именем «Философа из Сан-Суси»… — Под таким именем вышли сочинения прусского короля Фридриха II (1712–1786); Сан-Суси — название королевского дворца, построенного в одном км. от Потсдама. «Сочинения философа из Сан-Суси», написанные на французском языке, в первый раз были напечатаны в 1750 г. в трех томах. Туда входили: оды, послания, две поэмы и письма в стихах и прозе. Упоминаемое Вольтером письмо датировано 22 февраля 1747 г. В нем Фридрих пишет: «Вы дали вашу «Девственницу» герцогине Вюртембергской. Знайте же, что она заставила переписывать ее в течение всей ночи. Вот люди, которым вы доверяете; а те, кто заслуживает вашего доверия или, лучше сказать, на кого вы можете положиться всецело, этого доверия лишены».
(обратно)4
Одни издатели выпустили ее в пятнадцати песнях… — В первом издании поэма Вольтера состояла из пятнадцати песен, в лондонском издании 1756 г. — из двадцати восьми песен, в женевском издании 1757 г. — из двадцати четырех песен. Сам Вольтер выпустил в 1762 г. «Девственницу» в двадцати песнях.
(обратно)5
Возница Вертамона. — Имеется в виду некий Этьен (ум. в 1724 г.), популярный в народе песенник, о котором в одном документе сказано, что «он сочинил все песни, распевавшиеся на ярмарках».
(обратно)6
Кальвин Жан (1509–1564) — глава протестантизма во Франций и Швейцарии.
(обратно)7
…принявший имя Мобера. — Мобер де Гуве Жан-Анри (1721–1767) — в прошлом монах-капуцин, потом солдат, директор театра, затем стал литератором. В 1756 г. предпринял издание «Орлеанской девственницы», совершенно исказив текст Вольтера обширными добавлениями.
(обратно)8
Стр. 30. «Ночное бдение в честь Венеры» — стихотворение анонимного автора III или IV в., посвященное восхвалению весны.
(обратно)9
Петроний (ум. в 66 г.) — римский писатель, которому приписывается роман «Сатирикон», где фривольные жанровые сцены сочетаются с острой сатирой на нравы современников и самого императора Нерона.
(обратно)10
«Морганте» — комическая рыцарская поэма итальянца Луиджи Пульчи (1432–1484), жившего при дворе флорентийского правителя Лоренцо Медичи по прозвищу Великолепный (1448–1492). Морганте — персонаж поэмы, добродушный великан, беззаветно преданный рыцарю Орландо (Роланду). Упоминаемый в цитате из поэмы Маргутта — также персонаж «Морганте», воплощение хитрости, плутовства и всяческих пороков.
(обратно)11
Стр. 31. Крешимбени Джованни-Мариа (1663–1728) — итальянский писатель, автор стихотворений и ряда статей о литературе.
(обратно)12
…предшественником Боярда и Ариоста. — Маттео Боярдо (1441–1492), автор рыцарской поэмы «Влюбленный Роланд», и Лодовико Ариосто (1474–1533), автор поэмы «Неистовый Роланд», — выдающиеся итальянские поэты, творчество которых протекало при дворе герцогов Феррарских.
(обратно)13
Стр. 32. Социнианство — протестантское религиозное учение, названное по имени его основателя Социна (Лелио Соццини, 1525–1563); социниане отрицали основные догматы официальной церкви, в том числе божественность Христа, проповедовали веротерпимость.
(обратно)14
Гюэ Поль-Дамель (1630–1721) — автор «Трактата о происхождении романа» (1670).
(обратно)15
Аббат Лангле (Лангле-Дюфрене, 1674–1755) — написал под псевдонимом Гордон де Персель «Исследование о романах» (1734).
(обратно)16
«Ланселот с озера» — рыцарский роман XIII в., повествующий о приключениях одного из рыцарей легендарного короля Артура.
(обратно)17
Глава «О подтирках». — Имеется в виду гл. XIII, кн. I, из книги Франсуа Рабле (1495–1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль». Четвертая книга этого романа посвящена кардиналу Одэ (а не кардиналу де Турнону, как сказано у Вольтера).
(обратно)18
Лафонтен Жан (1621–1695) — французский поэт и баснописец, упомянут здесь как автор фривольных стихотворных «Сказок» (1667).
(обратно)19
ОБЪЯСНЕНИЯ ВОЛЬТЕРА
К песни первой
1 Некоторые издания гласят:
Вы мне святых велите славословить.
Это чтение правильно; но мы приняли другое, как более занимательное. К тому же оно свидетельствует о большой скромности автора. Он признается, что недостоин воспевать девственницу. Этим он изобличает издателей, приписавших ему, в одном из изданий его сочинений, оду «Святой Женевьеве»{20}, автором которой он, наверное, не является. — (Автор).
(Автор) — Здесь и далее приводятся объяснения Вольтера, которые в бумажной версии тома собраны в отдельном разделе — верстальщик.
(обратно)20
Ода «Святой Женевьеве» (полное заглавие: «Подражание латинской оде преподобного отца Леже о святой Женевьеве») — принадлежит Вольтеру. Была написана им в 1710 или 1711 г. Леже Габриель-Франсуа (1657–1734) — воспитатель Вольтера, преподавал риторику в иезуитском коллеже Людовика Великого.
(обратно)21
Стр. 34. Она спасла французские лилеи. — Стилизованная белая лилия — геральдический знак французских королей.
(обратно)22
2 Всякому ученому известно, что во времена кардинала Ришелье{23} жил некий Шаплен, автор замечательной поэмы «Девственница», в которой, по словам Буало{24}, «он написал двенадцатью двенадцать сот плохих стихов». Буало не знал, что этот великий человек написал их двенадцатью двадцать четыре сотни, но что, по скромности, напечатал только половину. Род Лонгвилей, происходивший от красавца Дюнуа-незаконнорожденного, назначил пресловутому Шаплену пенсию в двенадцать тысяч ливров. Можно было бы лучше распорядиться своими деньгами. — (Автор).
(обратно)23
…во времена кардинала Ришелье… — Арман-Жан дю Плесси, герцог и кардинал де Ришелье (1585–1642), первый министр Людовика XIII; в числе прочих мероприятий основал в 1634 г. Французскую Академию, с самого начала ставшую оплотом рутины и посредственности в литературе. Автор бездарной «Девственницы» Жан Шаплен (1595–1674) был академиком.
(обратно)24
Буало-Депрео Никола (1636–1711) — поэт и теоретик французского классицизма, в своей четвертой «Сатире» писал о Шаплене, что его стихи «грубы», «лишены и силы и грации», «слова бессмысленны и противоречат друг другу», «холодные метафоры однообразны».
(обратно)25
3 Это Ламотт-Гудар{26}, автор стихотворного перевода «Илиады», перевода очень сокращенного и тем не менее очень плохо встреченного. Фонтенель{27} в академической похвале Ламотту говорит, что это вина оригинала. — (Автор).
(обратно)26
Ламотт-Гудар Антуан (1672–1731) — поэт и критик, член Академии, выступал с нападками на античных писателей, доказывая их несовершенство по сравнению с «классиками» XVII в.; задавшись целью «исправить» Гомера, выпустил сокращенный перевод «Илиады» в двенадцати песнях.
(обратно)27
Фонтенель Бернад Ле Бовье, де (1657–1757) — поэт и ученый, член Академии, также сторонник «новых» авторов.
(обратно)28
Стр. 35. В старинном Туре… — Тур, город на реке Луаре, во время оккупации Парижа английскими войсками был; резиденцией Карла VII.
(обратно)29
4 Агнеса Сорель, дама из Фроманто, близ Тура. Король Карл VII подарил ей замок «Краса на Марне», и ее стали звать Дамой Красоты. У нее было двое детей от короля, ее любовника, хотя он нс позволял себе с нею вольностей, согласно историографам Карла VII, людям, которые при жизни королей всегда говорят правду. — (Автор).
(обратно)30
Красавицей Агнесою Сорель. — Сорель Агнеса (1409–1450), любовница Карла VII, была статс-дамой королевы; от короля имела трех дочерей (а не двух, как говорит Вольтер в своем примечании), носивших титул «дочери Франции».
(обратно)31
Анадиомена (греч. миф.) — то есть Пеннорожденная (греч.), эпитет богини любви и красоты Афродиты.
(обратно)32
Арахна (греч. — паук) — искусная ткачиха; вызвав на состязание богиню Афину-Палладу, выткала рисунок, изображавший любовные похождения богов. Разгневанная Афина разорвала ткань, а Арахну обратила в паука (греч. миф.).
(обратно)33
5 Лицо вымышленное{34}. Иные охотники до сплетен утверждают, будто скромный автор имел в виду некоего толстого лакея некоего государя; но мы иного мнения, и наше замечание остается в силе, как говорит Дасье. — (Автор).
(обратно)34
Лицо вымышленное. — Имеются указания, что прототипом Боно следует считать маркиза Филиппа Данжо (1638–1720) — фаворита Людовика XIV, исполнявшего обязанности личного адъютанта короля. Дасье Андре (1654–1722) — издатель, переводчик и комментатор античных авторов.
(обратно)35
6 Хроматическая гамма построена на последовательности полутонов, что создает музыку нежную, весьма располагающую к любовным утехам. — (Автор).
(обратно)36
Стр. 38. …Аленовых стихов… — Ален Шартье (1386–1458) — придворный поэт Карла VI и Карла VII, прозванный «отцом французского красноречия». Британский принц. — Как объясняет в примечании сам Вольтер, имеется в виду Джон Плантагенет, герцог Бедфорд (ум. в 1435 г.), третий сын английского короля Генриха IV; после смерти брата своего, Генриха V, провозгласил французским королем малолетнего Генриха VI, а себя объявил регентом и стал во главе английских войск, сражавшихся во Франции с Карлом VII.
(обратно)37
7 Парижский парламент три раза вызывал короля, тогда наследника, при звуках трубы, к мраморному столу, согласно заключению королевского прокурора Мариньи. (См. «Исследования» Паскье{38}.) — (Автор).
(обратно)38
Паскье Этьен (1529–1615) — юрист и писатель, сторонник просвещенной монархии, боролся с иезуитами; автор «Исследований по истории Франции». В шестой книге этого труда имеется специальная глава, посвященная процессу Жанны д’Арк и событиям, предшествовавшим ему.
(обратно)39
8 Этот британский принц — герцог Бедфордский, младший брат Генриха V, короля Англии, коронованного на французский престол в Париже. — (Автор).
(обратно)40
Британский принц. — Как объясняет в примечании сам Вольтер, имеется в виду Джон Плантагенет, герцог Бедфорд (ум. в 1435 г.), третий сын английского короля Генриха IV; после смерти брата своего, Генриха V, провозгласил французским королем малолетнего Генриха VI, а себя объявил регентом и стал во главе английских войск, сражавшихся во Франции с Карлом VII.
(обратно)41
9 Этот добрый Денис{42} (Дионисий) не есть так называемый Дионисий Ареопагит, но епископ Парижский. Аббат Гилдуин был первый, кто написал, что этот епископ, будучи обезглавлен, нес свою голову в руках от Парижа до самого аббатства, носящего его имя. Впоследствии на всех тех местах, где этот святой останавливался по дороге, были воздвигнуты кресты. Кардинал Полиньяк, передавая эту историю маркизе дю ***, добавил, что Денису стоило труда нести свою голову только до первой остановки; на что означенная дама ему ответила: «Конечно, в подобных делах только первый шаг и труден». — (Автор).
(обратно)42
Этот добрый Денис… — Житие святого Дионисия содержит ряд противоречий, на которые указал Вольтер в «Философском словаре». Кроме совершенно явных нелепостей, отмеченных Вольтером в данном примечании и примечании 15-м, в легенде о святом Дионисии, видимо, были смешаны два лица: Дионисий Ареопагит (IV в.) и Дионисий Галльский («апостол Галл», III в.), на что в свое время указал Эразм Роттердамский. Аббат Гилдуин (IX в.) — автор сочинения о Дионисии Галльском, изобилующего совершенно невероятными событиями. Маркиза дю*** — видимо, маркиза Мария Дю Деффан (1697–1780), влиятельная аристократка, покровительствовавшая литераторам из круга просветителей; сохранилась ее обширная переписка с Вольтером. Кардинал Полиньяк Мельхиор (1661–1742) — писатель и политический деятель, член Академии; большим успехом пользовалась его латинская поэма «Антилукреций, или О боге и природе», изданная после смерти автора; о ней Вольтер отзывался с большой похвалой.
(обратно)43
10 Генрих V, король Английский, величайший деятель своего времени, зять Карла VII, на сестре которого он был женат, умер в Венсене, будучи признан в Париже королем Франции; его брат, герцог Бедфордский, правил самой цветущей частью Франции именем своего племянника Генриха VI, также признанного в Париже как французский король парламентам, ратушей, судом, епископом, цехами и Сорбонной. — (Автор).
(обратно)44
11 Потон де Сентрайль, Ла Гир — великие полководцы; Жан де Дюнуа — побочный сын Людовика Орлеанского и графини Ангэнской; Ришмон — коннетабль Франции, впоследствии герцог Бретонский; Ла Тримуйль — из знатного рода в Пауту. — (Автор).
(обратно)45
Стр. 40. Потон, Ла Гир и смелый Дюнуа… — Потон де Сентрайль (ум. в 1461 г.) — дворянин из Гаскони; вел борьбу с англичанами, организовав партизанский отряд. Ла Гир (ок. 1390–1443 гг.) — французский полководец; в 1429 г. командовал войсками, разбившими англичан под Орлеаном. Жан де Дюнуа (1403–1468) — французский полководец, разбил англичан при Монтаржи (1427), защищал Орлеан до прихода Жанны д’Арк, стоял во главе войск, взявших Париж в 1436 г. В поэтических обработках сюжета о Жанне д’Арк Дюнуа изображается ее верным паладином. Упоминаемый ниже Ришмон (Артюс де Бретань, герцог, де; 1393–1458) — коннетабль (высший военачальник) Франции; в 1435 г. от имени Франции заключил с Англией перемирие (так. наз. Аррасский мир), в 1448 г. стоял во главе войск, боровшихся с англичанами за Нормандию. Ла Тримуйль Жорж (ок. 1385–1446 гг.) — первый министр и фаворит Карла VII, также видный полководец времен Столетней войны.
(обратно)46
12 Президент Луве — министр-советник при Карле VII. — (Автор).
(обратно)47
А президент Луве, министр монарший… — Луве Жан (1370–1440), пользовался большим доверием Карла VII, руководил финансовой и налоговой политикой короля.
(обратно)48
Стр. 41. Вождь осаждающих, герой Тальбот… — Тальбот Джон (1373–1453) — английский полководец, личной храбростью заслужил прозвище «британского Ахилла», руководил осадой Орлеана и был взят в плен в сражении с французскими войсками, пришедшими на помощь осажденной крепости. В плену находился до 1433 г.; в 1449 г. был назначен главнокомандующим английскими войсками, оперировавшими на французской территории; погиб в бою при Кастильоне.
(обратно)49
13 Ореол — это венец из лучей, которые святые всегда носят на голове. Он, по-видимому, является имитацией лаврового венка, чьи расходящиеся листы окружали голову героев как бы лучами, ввиду чего некоторые производят слово «ореол» от laurum, laure ola;{43} другие производят его от aurum{56}. Святой Бернард говорит, что у дев этот венец бывает золотой. «Coronam quam nostri majores aureolam vocant, idcirco nominatam…»{57}— (Автор).
(обратно)50
Лавр, лавровая ветвь (лат.).
(обратно)51
Золото (лат.).
(обратно)52
Венцу, который наши предки именуют ореолом, названному так потому… (лат.)
(обратно)53
14 Жезл авгуров вполне походил на епископский посох. — (Автор).
(обратно)54
Что был когда-то авгурским жезлом. — Авгуры — жрецы в Риме; гадали по полету и пению птиц.
(обратно)55
15 Этот Денис, патрон Франции, — святой в духе монахов. Он никогда не бывал в Галлии. См. легенду о нем в «Вопросах по поводу «Энциклопедии»{56} под словом «Денис»: вы узнаете, что сперва он был рукоположен в епископы афинские святым Павлом; что он отправился навестить деву Марию и приветствовал ее по случаю смерти ее сына; что затем он покинул епископство афинское ради парижского; что его повесили и что с высоты своей виселицы он весьма красноречиво проповедовал; что ему отрубили голову, дабы он замолчал; что он взял голову в руки и лобызал ее по дороге, идя основывать аббатство своего имени в миле от Парижа. — (Автор).
(обратно)56
«Вопросы по поводу «Энциклопедии» (1770–1771) — сочинение Вольтера, посвященное «Энциклопедии», издававшейся Дидро, в которой Вольтер принимал активное участие.
(обратно)57
Стр. 42. Свечей церковных в Риме и в Лорете… — Лорето — город в Италии, привлекавший массу паломников, так как существовало поверье, что в этом городе находится дом богоматери, чудесным образом перенесенный сюда ангелами.
(обратно)58
К песни второй
1 В то время на всех границах Лотарингии{59} были столбы с герцогским гербом, изображавшим трех орлят; они были сняты в 1738 году. — (Автор).
(обратно)59
…на всех границах Лотарингии… — Герцогство Лотарингское было передано польскому королю Станиславу Лещинскому, тестю Людовика XV. После смерти Станислава в 1766 г. Лотарингия была присоединена к Франции.
(обратно)60
2 Она была действительно родом из села Домреми, дочерью Жана д’Арк и Изабо, трактирной служанки двадцати семи лет; таким образом, ее отец вовсе не был священником. Это поэтический вымысел, быть может, недопустимый в предмете важном. — (Автор).
(обратно)61
Стр. 44. В округе Вокулера знали все. — Вокулер — город к северо-востоку от Орлеана, где, по преданию, Жанна д’Арк впервые предложила свою помощь Карлу VII через наместника Бодрикура.
(обратно)62
3 «Ездила верхом без седла и выказывала мужество, которое обыкновенно девушкам не свойственно», как говорит «Хроника» Монстреле{63}. — (Автор).
(обратно)63
Монстреле Ангерран, де (ок. 1390–1453 гг.) — автор «Хроники», охватывающей события в истории Франции с 1400 по 1453 г.
(обратно)64
Стр. 45. Один монах, прозваньем Грибурдон… — Грибурдон (франц. Grisbourdon) буквально значит «серый шмель».
(обратно)65
4 Колдовство было тогда так распространено, что сама Иоанна д’Арк была сожжена впоследствии, как колдунья, по ходатайству Сорбонны. — (Автор).
(обратно)66
Ему поведала его каббала… — Каббала — древнееврейское мистическое учение, сторонники которого предсказывали будущее, используя Библию в качестве текста, якобы требующего специальной расшифровки путем замены букв цифрами и т. д.
(обратно)67
Стр. 46. И, будучи в союзе с василиском… — Василиск, по средневековым поверьям, — страшное чудовище с головой петуха, туловищем жабы и змеиным хвостом.
(обратно)68
Святой Франциск. — Франциск Ассизский (1182–1226), основатель монашеского ордена францисканцев, проповедующего отречение от собственности; один из наиболее чтимых во Франции «святых».
(обратно)69
5 Статуя Паллады, с которой была связана судьба Трои; почти у всех народов бывали подобные суеверия. — (Автор).
(обратно)70
Стр. 47. Массильон Жан-Батист (1663–1742) — католический проповедник, пользовавшийся большим успехом во времена Людовика XIV и Регентства.
(обратно)71
6 Иезуит Жирар, уличенный в маленьких вольностях с девицей Кадьер, исповедовавшейся ему, был обвинен в том, что он ее околдовал, дыша на нее. См. объяснения к песни третьей. — (Автор).
(обратно)72
…монах Жирар, младую исповедуя девицу… — Иезуит проповедник Жан-Батист Жирар (ок. 1680–1733 гг.), находясь на высоких должностях в духовных учебных заведениях, занимался развращением своих «духовных дочерей». Это выплыло наружу в связи со скандальным судебным процессом, связанным с судьбою одной из его жертв, Катерины Кадьер. Иезуитам удалось извратить истину и обелить Жирара.
(обратно)73
Стр. 48. Готовила в бордель или в балет… — Эта строфа не включалась в текст поэмы до издания 1877 г.
(обратно)74
7 Дебора — первая из когда-либо упомянутых женщин-воительниц. Иаиль — другая героиня, вонзила гвоздь в голову полководца Сисары. Гвоздь этот хранится в нескольких православных и католических монастырях вместе с ослиной челюстью, которой пользовался Самсон, пращой Давида и мечом, коим знаменитая Юдифь отрубила голову полководцу Олоферну, или Олферну, сперва разделив с ним ложе. — (Автор).
(обратно)75
Стр. 49. И тут же рядом шлем Деборы был… — Дебора, так же как названные далее Сисара, Давид, Самсон, Юдифь — персонажи библейских мифов.
(обратно)76
Носил на крупе девять дев чудесных… — то есть девять муз, покровительниц наук и искусств (греч. миф.).
(обратно)77
Стр. 49–50. И Гиппогриф, летая на луну, Астольфа мчал… — В поэме Ариосто «Неистовый Роланд» храбрый рыцарь Астольф верхом на сказочном крылатом коне Гиппогрифе летит на луну, где находит разум обезумевшего от любви Роланда.
(обратно)78
8 NB. Читатель, обладающий вкусом, может заметить, что автор, тоже им обладающий и стоящий выше предрассудков, рифмует всегда для слуха, а не для глаз. Вы у него не встретите рифм: «trône» и «bonne», «pâte» и «patte», «homme» и «heaume». Краткая гласная звучит иначе и произносится не так, как долгая. «Jean» и «chant» произносится одинаково. — (Автор).
(обратно)79
9 Эпизод, описанный в «Энеиде». — (Автор).
(обратно)80
Стр. 50. Наверное, о Нисе знаешь ты… — Во время осады Трои друзья Нис и Эвриал вызвались пробиться через войско рутулов и сообщить Энею о положении дела. Они были окружены конницей и погибли геройской смертью («Энеида», IX, 176–449).
(обратно)81
10 Эпизод из «Илиады». — (Автор).
(обратно)82
…Рес могучий был сражен… — Фракийский царь Рес, союзник троянцев, был убит греческим героем Диомедом, сыном Тидея. При нападении Диомеда на вражеский стан Одиссею удалось увести коней, приготовленных троянцами для боя («Илиада», X, 483–496).
(обратно)83
11 Один из великих полководцев того времени. — (Автор).
(обратно)84
Стр. 51. Жан Шандос (французское произношение имени Джон Чендос) — историческая личность, английский полководец XIV в., участник Столетней войны (убит близ Пуатье в 1369 г.). Пренебрегая хронологическим несоответствием, Вольтер сделал Шандоса одним из главных героев поэмы.
(обратно)85
Царя Саула встретив… — Саул, по Библии, первый еврейский царь; он не оправдал надежд соплеменников, и поэтому, еще при жизни Саула, в качестве его преемника был помазан на царство Давид, что вызвало ряд покушений со стороны Саула на жизнь Давида.
(обратно)86
12 Имя его было не Рожер, а Роберт; ошибка незначительная. Это он в 1429 году привез Иоанну д’Арк в Тур и представил ее королю. Был он добрый шампанец, человек бесхитростный. Его замок стоял возле Бриенна в Шампани. На дверях этого бедного замка я видел его девиз — виноградную лозу с надписью: «Beau, dru et court»{87}. По ней можно судить о тогдашнем остроумии{88}. — (Автор).
(обратно)87
Буквально: «Хорошо, весело и быстро» (франц.).
(обратно)88
…по ней можно судить о тогдашнем остроумии. — Девиз Рожера «Beau dru et court» звучит по-французски близко к его фамилии — Beaudricourt.
(обратно)89
Стр. 54. …в руке их Гиппократ… — то есть сочинения Гиппократа (460–377 гг. до н. э.), греческого врача, считающегося основоположником медицины.
(обратно)90
13 Действительно, врачи и почтенные женщины исследовали Иоанну и признали ее девственной. — (Автор).
(обратно)91
Что будешь в Реймсе коронован ты… — В Реймском соборе, начиная с XII в. и до революции 1830 г., происходила, за редким исключением, коронация французских королей.
(обратно)92
14 Знамя, принесенное ангелом в аббатство Сен-Дени и бывшее некогда в руках графов Вексенских{93}. — (Автор).
(обратно)93
…бывшее некогда в руках графов Вексенских. — Вексен — графство в средневековой Франции (на территории нынешней провинции Понтуаз). Графы Вексенские во время войны брали с собой орифламму (красно-золотое знамя). После присоединения в XI в. Вексенского графства к Франции орифламма стала государственным знаменем и участвовала в последний раз в битве при Азенкуре в 1415 г.
(обратно)94
Стр. 56. Иберийцы. — Так в древности называли племена, населявшие территорию нынешней Испании и Португалии; в данном случае речь идет об испанцах.
(обратно)95
К песни третьей
1 В знаменитой битве при Дюнах, около Дюнкирхена. — (Автор).
(обратно)96
Конде великий был разбит Тюренном… — Принц Луи де Конде, прозванный Великим (1621–1686), и Анри де ла Тур граф де Тюренн (1611–1675) — выдающиеся французские полководцы. Во время гражданских войн «Фронды» Конде возглавил партию феодальной аристократии и дважды, в 1651 и в 1658 гг., потерпел поражение от Тюренна, перешедшего на сторону французского короля.
(обратно)97
2 При Мальплакэ, около Монса, в 1709 году. — (Автор).
(обратно)98
Виллар бежал с позором несомненным… — Виллар Луи-Гектор (1653–1734) — французский военачальник, один из наиболее талантливых полководцев последних годов царствования Людовика XIV; во время «войны за испанское наследство», в 1709 г., был разбит при Мальплакэ войсками коалиции под командованием английского генерала герцога Мальборо.
(обратно)99
Солдат венчанный, шведский Дон-Кихот… — Имеется в виду Карл XII (1682–1718), шведский король с 1697 г.; при нем Швеция почти непрерывно находилась в состоянии войны (с Данией, Саксонией, Россией, Пруссией и др.). Вольтер в 1731 г. напечатал «Историю Карла XII», в которой дал подробное описание авантюристической жизни шведского короля. Станислав Лещинский (1682–1766) был, при поддержке Карла XII, посажен в 1704 г. на польский престол под именем Станислава II.
(обратно)100
3 Также в 1709 году. — (Автор).
(обратно)101
Стр. 57. Поллукс и Кастор — близнецы, сыновья Зевса и Леды (греч. миф.).
(обратно)102
Надменный Александр… — то есть Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.).
(обратно)103
Лурди (от франц. lourd — тупой) — Тугодум, Тупица.
(обратно)104
4 Прежде «раем безумных», «раем глупцов» называли лимб; и в нем помещали души слабоумных и маленьких детей, умерших без крещения. «Лимб» значит «край», «кайма»; и считалось, что этот рай расположен на краю луны. О нем говорит Мильтон{105}: у него дьявол проходит через рай глупцов: «the paradise of fools». — (Автор).
(обратно)105
О нем говорит Мильтон… — Имеется в виду поэма «Потерянный рай» английского поэта Джона Мильтона (1608–1674), в которой изображается восстание адских духов во главе с Сатаной против небесного самодержца.
(обратно)106
5 Это, по-видимому, намек на знаменитые стихи Руссо{107}:
Ты предо мной, простак Данше, Глаза навыкат, рот разинут.«Рот, как у Данше», стало чем-то вроде пословицы. Этот Данше был посредственный поэт, написавший несколько театральных пьес и т. п. — (Автор).
(обратно)107
Стихи Руссо. — Подразумевается поэт Жан-Батист Руссо (1671–1741). Одно время он был близок с Вольтером, но затем они стали заклятыми врагами. Данше Антуан (1671–1748) — французский поэт, автор опер и трагедий. Считали, что его избранию в Академию в большей степени содействовала его благотворительная деятельность, чем литературные заслуги. По этому поводу Вольтер писал: «Можно заслужить Академию теми же средствами, какими заслуживают рай».
(обратно)108
Стр. 58. Розенкрейцеры — члены тайного реакционного мистического общества, возникшего в 1622 г.
(обратно)109
6 Это лимб, измышленный, как говорят, неким Петром Хризологом{110}. Туда отправляют маленьких детей, умерших без крещения, ибо, если они умрут пятнадцати лет, им уже нетрудно заслужить вечную муку. — (Автор).
(обратно)110
Петр Хризолог (ум. в 450 г.) — раннехристианский писатель. Его сочинения, посвященные толкованию Священного писания, были напечатаны в 1541 г.
(обратно)111
Какодемон, воздвигший этот храм… — Какодемон — в переводе с греческого — злой дух.
(обратно)112
Стр. 59. «Вестник» («Меркюр де Франс») — журнал, основанный в 1672 г.
(обратно)113
7 Знаменитая система господина Ласса, или Лоу{114}, шотландца, разорившая стольких во Франции за годы с 1718 по 1720, оставила роковые следы, и они еще давали себя знать в 1730 году, когда, по нашему мнению, автор начал эту поэму. — (Автор).
(обратно)114
Лоу Джон (1670–1729) — французский финансист, родом из Англии, в 1720 г. был назначен генеральным контролером финансов; для покрытия дефицита в государственном бюджете выпустил акции, не обеспеченные реальной ценностью. Крах системы Лоу повлек за собой разорение многих держателей акций.
(обратно)115
8 Казуисты Эскобар и Молина{116} широко известны по превосходным «Провинциальным письмам»; автор называет здесь этого Молину «достаточным», намекая на благодать достаточную и непостоянную, по поводу которой он создал систему столь же нелепую, как и система его противника. — (Автор).
(обратно)116
Казуисты Эскобар и Молина… — Эскобар-и-Мендоса Антонио (1589–1669) — испанский богослов, иезуит; в труде «Нравственное богословие» (1643) прибегал к казуистическим приемам толкования морали. Молина Луис (1535–1601) — испанский богослов, иезуит; в своих сочинениях применял чисто схоластические доказательства, уснащенные казуистическими тонкостями.
(обратно)117
9 Ле Телье{118} — иезуит, сын стряпчего из Вира в Нижней Нормандии, духовник Людовика XIV, автор «Буллы» и виновник всех волнений, ею вызванных, изгнанный во время Регентства и память коего теперь ненавистна. Отец Дусен был его первый советник. — (Автор).
(обратно)118
Ле Телье Мишель (1643–1719) — французский теолог, ярый католик, непримиримый враг янсенистов. Добился от папы Клемента XI буллы (1713 г.), в которой янсенизм подвергся окончательному запрещению.
(обратно)119
Беллерофонты новые… — Герой Беллерофонт получил от богини Афины коня Пегаса, с помощью которого победил чудовище Химеру и разбил войско Амазонок (греч. миф.).
(обратно)120
Сражения лягушек и мышей. — Намек на древнегреческую герои-комическую поэму «Война мышей и лягушек» (V в. до н. э.).
(обратно)121
Стр. 60. Блаженный Августин (354–430) — епископ Гиппонский, один из «отцов церкви».
(обратно)122
10 Янсенисты говорят, что Мессия пришел только для немногих. — (Автор).
(обратно)123
11 Здесь подразумеваются конвульсионеры и чудеса, засвидетельствованные множеством янсенистов, чудеса, перечисленные в обширном труде Карре-де-Монжероном, поднесшим этот труд Людовику XV. — (Автор).
(обратно)124
И доброго Париса гроб целуют… — В 1728 г. специальной буллой кардинала де Ноай был осужден янсенизм (оппозиционное течение внутри французской католической церкви); вскоре распространился слух, что на могиле недавно умершего фанатичного приверженца янсенизма, простого дьякона Франсуа Париса (1690–1727; дата смерти, указанная Вольтером, ошибочна), происходят «чудеса». Толпы паломников потянулись на кладбище в приходе св. Медарда, где был похоронен Парис, и там, впадая в религиозный экстаз, бились в конвульсиях, истязали себя и этим будто бы добивались исцеления от болезней, предвидения будущего и т. д. Беснование «конвульсионеров» продолжалось до самой революции 1789–1793 гг.
(обратно)125
.
12 Добряк Парис был слабоумный диакон; однако, как один из самых ярых и влиятельных среди простонародья янсенистов, он почитался этим простонародьем за святого. В 1724 году вздумали ходить молиться на могиле этого чудака, на кладбище при одной из парижских церквей, сооруженной во имя святого Медарда, впрочем, мало известного. Этот святой Медард никогда не творил чудес; но аббат Парис сотворил их множество. Наиболее замечательно воспетое герцогиней де Мен{126} в следующей песне:
Чистильщик, воин божьей рати, На ногу левую хромец, Сподобясь дивной благодати, Стал хром на обе наконец.Святой Парис сотворил триста или четыреста чудес в этом роде; если бы ему позволили, он бы воскрешал мертвых; но вмешалась полиция; отсюда известное двустишие:
— В сем месте чудеса творить ты не изволь! — Так богу приказал король. — (Автор). (обратно)126
…воспетое герцогиней де Мен… — Герцогиня де Мен Мария-Анна-Луиза (1676–1753) — внучка Великого Конде, жена побочного сына Людовика XIV от маркизы де Монтеспан. Во времена Регентства пыталась составить заговор против герцога Орлеанского; заговор был раскрыт, и она вместе с мужем была посажена в тюрьму. После освобождения отказалась от политических интриг и увлеклась литературой и религиозными спорами. В ее замке Вольтер написал «Задига».
(обратно)127
13 Галилей, основатель философии в Италии, был осужден инквизиционным судом, посажен в тюрьму и подвергнут весьма суровому обращению не только как еретик, но и как невежда, за то, что он доказал вращение земли. — (Автор).
(обратно)128
14 Юрбен Грандье{129}, луденский священник, приговоренный комиссией королевского совета к сожжению за то, что вселил диавола в нескольких монахинь. Некий Ла Менардэ был настолько глуп, что издал в 1749 году книгу, в которой он тщится доказать истинность этой одержимости. — (Автор).
(обратно)129
Юрбен Грандье (1590–1634) — французский священник; подлинной причиной его осуждения было то, что он подозревался в авторстве памфлетов на Ришелье.
(обратно)130
15 Элеонора Галигаи, весьма знатная девица, приближенная королевы Марии Медичи{131} и ее придворная дама, супруга флорентийца Кончино Кончини, маркиза д’Анкр, маршала Франции, была не только обезглавлена на Гревской площади в 1617 году, как сказано в «Хронологическом обзоре истории Франции», но и сожжена как ведьма, а имущество ее отдано врагам. Нашлось только пять советников, возмущенных этой ужасной нелепостью и не пожелавших присутствовать при приведении приговора в исполнение. — (Автор).
(обратно)131
…приближенная королевы Марии Медичи… — Вдова короля Генриха IV, Мария Медичи (1573–1642), происходившая из дома тосканских герцогов, была регентшей при малолетнем Людовике XIII до 1631 г., когда вынуждена была покинуть Францию. Кончино Кончили (ум. в 1617 г.) — фаворит королевы, один из ненавистных народу временщиков, сменявшихся у власти в период регентства Марии Медичи.
(обратно)132
16 При Людовике XIII парламент запретил, под страхом ссылки на галеры, излагать какое-либо другое учение, кроме Аристотелева{133} а затем запретил рвотное, не угрожая, однако, галерами ни врачам, ни больным. Людовик XIV в Кале исцелился при помощи рвотного, и постановление парламента утратило свое значение. — (Автор).
(обратно)133
…парламент запретил… другое учение, кроме Аристотелева… — Постановление высшего судебного органа средневековой Франции, парижского парламента, запрещающее подвергать критике учение Аристотеля, было вынесено 4 сентября 1724 г. Оно гласило: «Запрещается под страхом смерти поддерживать и излагать какое-либо учение, направленное против древних писателей, получивших одобрение».
(обратно)134
17 История иезуита Жирара и девицы Кадьер достаточно известна; иезуит был приговорен к сожжению как колдун одной половиной эксского парламента и оправдан другою. — (Автор).
(обратно)135
Стр. 61. Кенель в унынье, а Лойола рад. — Кенель Паскье (1634–1719) — богослов, сторонник янсенизма; в 1684 г. вынужден был бежать из Франции и в Брюсселе выпустил «Нравственные размышления о Новом завете», осужденные папской буллой. Лойола Игнатий (1491–1556) — основатель «Ордена Иисуса» (ордена иезуитов).
(обратно)136
Стр. 62. Кибела (греч. миф.) — богиня земли, мать Зевса, Геры, Посейдона и некоторых других богов.
(обратно)137
Отец Бертье, почтенный иезуит. — Бертье Гийом-Франсуа (1704–1782) — аббат, непримиримый враг Вольтера и энциклопедистов; написал «Опровержение Общественного договора» против Руссо.
(обратно)138
18 Фонтевро, или Фонс-Эбральди, местечко в Анжу, в трех милях от Сомюра, известное знаменитым женским аббатством (главою Ордена), воздвигнутым Робертом д’Арбрисселем, родившимся в 1047 году и умершим в 1117 году. Основав скиты в лесу Фонтевро, он обошел босиком все королевство, дабы побудить к покаянию блудниц и привлечь их в свой монастырь; он обратил таким образом многих, между прочим и в городе Руане. Он убедил знаменитую королеву Бертраду постричься в монастыре Фонтевро и утвердил свой Орден по всей Франции. Папа Пасхалий II принял его под покровительство святейшего престола в 1106 году. Незадолго до смерти Роберт поставил генералом Ордена некую даму по имени Петронилла дю Шемиль и пожелал, чтобы в должности главы Ордена всегда женщина наследовала женщине, одинаково начальствуя как над монахинями, так и над монахами. Тридцать четыре или тридцать пять игумений сменило до сего времени Петрониллу; среди них насчитывают четырнадцать принцесс, в том числе пять из Бурбонского дома. (См. об этом у Сент-Марта, в четвертом томе «Gallia Christiana» и «Clypeus ordinis Fontebraldensis»{139} отца де ла Мэнферма.) — (Автор).
(обратно)139
«Христианская Галлия»{140} и «Щит Фонтебральдинского ордена» (лат.).
(обратно)140
«Христианская Галлия» — история монастырей и епархий во Франции; начата братьями Сент-Март (первые четыре тома вышли в 1656 г.), затем возобновлена и продолжена в XVIII в. их внучатным племянником Дени де Сент-Март; после смерти Дени де Сент-Март орден бенедиктинцев взял издание в свои руки. Мэнферм Жан де ла (1643–1693) — монах-бенедиктинец, в 1684 г. напечатал богословское сочинение «Щит фонтебральдинского ордена», в котором защищал орден и его основателя, доказывая, что Роберт д’Арбриссель не отступил от церковных правил, поставив во главе ордена женщину, а также уверял, что в ордене царит исключительная чистота нравов.
(обратно)141
19 Надо полагать, что автор имеет в виду героинь Ариоста и Тасса{142}. Они, вероятно, были несколько неряшливы; но рыцари не слишком приглядывались. — (Автор).
(обратно)142
…героинь Ариоста и Тасса. — Вольтер имеет в виду прекрасную Анджелику, возлюбленную Роланда («Неистовый Роланд» Ариосто) и неустрашимую воительницу Клоринду, героиню рыцарской поэмы Торквато Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим».
(обратно)143
20 Англичане ругаются: «by God! God damn me! blood!» и т. д.; немцы: «sacrament»; французы — словом, относящимся к ругани итальянцев, как действие к орудию; испанцы: «voto a Dios». Один почтенный францисканец написал книгу о ругани всех народов, которая будет, вероятно, весьма точна и весьма поучительна; в настоящее время она печатается. — (Автор).
(обратно)144
21 Панцирь, кольчуга — это доспех с рукавами и нагрудником, состоящий из железных колец, покрытых иногда шелком или белой шерстью. Панцирными ленами назывались те, сеньоры которых имели право носить кольчугу. — (Автор).
(обратно)145
22 Гульфик или брагетта — от «braye», «bracca». В те времена носили длинные гульфики, спускавшиеся от штанов; и часто в них лежал апельсин, который преподносили дамам. Рабле упоминает о превосходной книге{146}, озаглавленной: «О достоинстве гульфиков». Это была отличительная привилегия благородного пола; вот почему Сорбонна ходатайствовала о сожжении Девственницы, которая позволила себе носить штаны с гульфиком. Шесть французских епископов, при участии епископа Винчестерского, приговорили ее к сожжению, что было вполне справедливо: жаль, что это случается не столь уж часто; но не следует ни в чем отчаиваться. — (Автор).
(обратно)146
Рабле упоминает о превосходной книге… — В главе VIII книги 1 «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле говорит, что он написал специальную книгу: «О достоинствах гульфиков». Этим же рассуждениям посвящена глава VIII книги 3, озаглавленная: «Почему гульфик есть самая важная часть доспехов ратника».
(обратно)147
Стр. 67. Гиберния. — Так древние римляне называли Ирландию.
(обратно)148
К песни четвертой
1 Как известно, Вавилонская башня была воздвигнута сто двадцать лет спустя после всемирного потопа. Иосиф Флавий{149} полагает, что она была построена Немродом{150}, или Немвродом; добросовестный отец Кальме{151} дал разрез этой башни, воздвигнутой до двенадцатого этажа, и украсил свой «Словарь» гравюрами в таком же роде, согласно с памятниками; книга ученого еврея Иалеуса полагает Вавилонской башне двадцать семь тысяч шагов высоты, что весьма правдоподобно; некоторые путешественники видели остатки этой башни.
Святой патриарх Александр Евтихий{152} утверждает в своей «Летописи», что эту башню строили семьдесят два человека. Это было, как известно, временем смешения языков: пресловутый Бекан{153} замечательно доказывает, что больше всего древнееврейских слов сохранилось во фламандском языке — (Автор).
(обратно)149
Иосиф Флавий (37–97 гг.) — древнеиудейский историк.
(обратно)150
Немврод — легендарный царь, упоминающийся в Библии.
(обратно)151
Отец Калъме Огюстен (1672–1754) — бенедиктинский монах, занимавшийся толкованием Священного писания.
(обратно)152
Евтихий — в 933 г. был избран патриархом Александрии. Вольтер дает ему второе имя, Александр, вероятно, из-за созвучия с этим именем названия города Александрии.
(обратно)153
Бекан Иоганн Горопий (1518–1572) — бельгийский ученый и врач. Оставив медицину, изучал древний мир, языки и искусство; на конференции в Льеже Бекан пытался доказать, что Адам говорил на фламандском или тевтонском языке.
(обратно)154
Стр. 69. Бастардов украшенье, Дюнуа… — Бастард (ст. — франц.) — незаконнорожденный ребенок; для побочных детей владетельных особ, признанных ими, слово «бастард» служило своего рода титулом, указанием на знатность происхождения. Дюнуа именовал себя в официальных: документах «Бастард Орлеанский», так как был побочным сыном Людовика, герцога Орлеанского.
(обратно)155
2 В этой битве двадцать восемь тысяч семьсот человек легло не на месте, как говорит один историк, а в грязи и крови. Их сосчитал маркиз де Кревкёр, адъютант маршала де Виллара, которому было поручено похоронить мертвых. (См. «Век Людовика XIV», год 1709.) — (Автор).
(обратно)156
3 Заметьте, что в битве при Заме{157} между Публием Сципионом и Ганнибалом принимали участие французы, служившие, согласно Полибию{158}, в карфагенском войске. Полибий, современник и друг Сципиона, говорит, что число с обеих сторон было равно; кавалер де Фолар с этим не согласен{159}: он полагает, что Сципион наступал колоннами. Но, по-видимому, это невозможно, так как Полибий говорит, что все отряды рубились врукопашную; судить об этом мы предоставляем ученым.
Nota bene, что при Фарсале у Помпея было пятьдесят пять тысяч человек, а у Цезаря двадцать две тысячи. Резня была большая; двадцать две тысячи цезарьянцев после упорного боя победили пятьдесят пять тысяч помпеянцев. Эта битва решила судьбу республики и подчинила власти любимца Никомеда{160} Грецию, Малую Азию, Италию, Галлию, Испанию и т. д. Она имела куда более следствий, чем небольшое сражение Иоанны; но все же это наша Иоанна, наша Девственница; будем благодарны нашему дорогому соотечественнику, сравнившему подвиги этой милой девушки с подвигами Цезаря, который не был девствен, как она. Разве почтенные отцы иезуиты не сравнивали святого Игнатия{161} с Цезарем, а святого Франциска-Ксаверия{162} с Александром? Они походили на них столько же, сколько двадцать четыре старца Паскаля{163} походят на двадцать четыре старца Апокалипсиса{164}. Первого попавшегося короля постоянно сравнивают с Цезарем; так простим же возвышенному певцу нашей героини сравнение ничтожной стычки с битвами при Заме и Фарсале. — (Автор).
(обратно)157
…в битве при Заме… — В битве при Заме (202 г. до н. э.) карфагенское войско во главе с Ганнибалом было разбито войсками римлян, которыми командовал Сципион Африканский (236–184 гг. до н. э.).
(обратно)158
Полибий (ок. 205–123 гг. до н. э.) — римский историк, грек по происхождению.
(обратно)159
…кавалер де Фолар с этим не согласен… — Жан-Шарль де Фолар (1669–1752) — французский стратег, участник войн конца царствования Людовика XIV. Ему принадлежат работы по военному делу и комментарии к истории Полибия.
(обратно)160
Никомед — царь Вифании (90–75 гг. до н. э.), союзник Рима.
(обратно)161
Игнатий — то есть Игнатий Лойола.
(обратно)162
Франциск-Ксаверий (1506–1552) — друг Игнатия Лойолы, проповедник христианства в Индии.
(обратно)163
Двадцать четыре старца Паскаля. — Паскаль Блез (1623–1662) — ученый-философ и писатель. В своих философских высказываниях отошел от рационализма Декарта, утверждая приоритет веры над разумом.
(обратно)164
Апокалипсис — последняя книга «Нового завета», исполненная мрачных пророчеств.
(обратно)165
4 Очевидно, наш глубокомысленный автор потому называет персами воинов-ассирийцев Сеннахериба{166}, что персы долгое время господствовали в Ассирии; но достоверно, что ангел господень один поразил сто восемьдесят пять тысяч воинов Сеннахериба, имевшего дерзость наступать на Иерусалим; и когда Сеннахериб увидел все эти мертвые тела, он повернул обратно. Произошло это, как говорят, в 3293 году от сотворения мира; однако некоторые ученые полагают, что сие весьма обыденное событие произошло в 3295 году; мы же относим его к 3296 году, что и будет ниже доказано. — (Автор).
(обратно)166
Сеннахериб — царь Ассирии (712–707 гг. до н. э.).
(обратно)167
5 Это место, по-видимому, надо рассматривать как подражание Гомеру{168}. У Мильтона судьбы людей взвешиваются в знаке Весов. — (Автор).
(обратно)168
Это место… надо рассматривать как подражание Гомеру. — Имеются в виду следующие строки Гомера:
Зевс распростер промыслитель весы золотые; на них он Бросив два жребия смерти, в сон погружающих долгий, Жребий троян конеборных и меднооружных данаев Взял посредине и поднял…(«Илиада», VIII, 69–72, перев. Н. Гнедича)
Соответственно у Мильтона:
Предвечный не поднял весов златых в небе, Что между Астреею и Скорпионом. На них предварительно взвесил зиждитель Все, им сотворенное: землю и воздух, Который ее в равновесии держит. Теперь поверяет на этих весах он Исходы кровавых сражений и царств всех. Он в чаши весов этих бросил два жребья.(«Потерянный рай», IV, 996—1004, перев. С. Писарева)
(обратно)169
6 Намек на взгляды, изложенные в книге Кенеля, священника Оратория. — (Автор).
(обратно)170
7 Аврора Кенигсмарк, любовница польского короля Августа I{171} и мать знаменитого графа Саксонского. — (Автор).
(обратно)171
…любовница польского короля Августа I… — Описка Вольтера: Мария-Аврора Кенигсмарк была фавориткой короля Августа II (1670–1733).
(обратно)172
8 Роберт д’Арбриссель, основатель прекрасного Ордена в Фонтевро: в 1100 году он обратил, как бы закинув невод, одною проповедью всех непотребных женщин города Руана. Он придумал себе новый род мученичества, а именно: спать каждую ночь между двумя молодыми монахинями, чтобы провести диавола, который, по-видимому, хорошо ему отплатил. Он не любил салического закона{173}, ибо поставил женщину главным аббатом над монахами и монахинями своего Ордена. — (Автор).
(обратно)173
Он не любил салического закона… — Закон, гласящий: «Земля же отнюдь не переходит к женщине, но должна идти в мужские руки» — один из основных в средневековом своде законов «Салическая правда».
(обратно)174
Стр. 73. Инкуб — по средневековому поверью, демон, посещающий некоторых женщин.
(обратно)175
9 По Платону, человек был создан двуполым. Адам явился таковым набожной Буриньон и ее руководителю Аббади{176}. — (Автор).
(обратно)176
…набожной Буриньон и ее руководителю Аббади. — Буриньон Антуанетта (1616–1680) — «визионерка», автор ряда мистических книг; не раз подвергалась преследованиям за свои религиозные взгляды, имела большой круг последователей. Аббади Жак (1658–1727) — богослов, автор трудов, пользовавшихся уважением протестантов и внесенных католической церковью в список запрещенных.
(обратно)177
10 Царица Савская посетила Соломона и имела от него сына, который, вне всяких сомнений, стал родоначальником царей Эфиопии, что и доказано. Неизвестно, что сталось с потомством Александра и Фалестры. — (Автор).
(обратно)178
11 Клеопатра. — (Автор).
(обратно)179
Стр. 75. С Европой иль Семелою вдвоем. — Европа, дочь финикийского царя, и Семела, дочь фиванского царя, — возлюбленные Зевса (греч. миф.).
(обратно)180
Евфрозина, Талия, Аглая — три грации (дочери Вакха и Венеры, олицетворяющие собой радость жизни; антич. миф.).
(обратно)181
12 Ганимед. — (Автор).
(обратно)182
…нектар золотой льет сын царя, поставившего Трою… — Ганимед, виночерпий богов, был сыном первого троянского царя Троса (греч. миф.).
(обратно)183
13 У шарлатанов имеется жезл Иакова, у магов — книги Соломона, озаглавленные «Кольцо» и «Ключ». Царские советники, маги при дворе фараона, совершившие те же чудеса, что и Моисей, звались Яннес и Мамбрес. Имя Эндорской пифониссы, вызвавшей тень Самуила, неизвестно, но всем известно, что такое тень, а также, что эта женщина обладала духом пифоновым или пифоническим. — (Автор).
(обратно)184
Стр. 80. Беззубую к царю Саулу гостью… — Имеется в виду эпизод Библии: царь Саул ночью отправился в Эндор, где старая волшебница вызвала по его требованию тень умершего пророка Самуила («Первая Книга Царств», XXVIII).
(обратно)185
14 Зороастр, которого, собственно, следует называть Зердуст, был великим волшебником, как и Альберт Великий, Роджер Бэкон{186} и почтенный отец Грибурдон. — (Автор).
(обратно)186
Зороастр, Альберт Великий, Роджер Бекон. — Зороастр — легендарный восточный мудрец; Альберт Великий, граф фон Больштедт (1193–1280) — ученый-богослов, известный своими познаниями, особенно в естественных науках, что давало повод современникам подозревать его в колдовстве. Роджер Бекон (1214–1294) — английский монах, естествоиспытатель, математик и филолог, занимавшийся также алхимией; подвергался опале и преследованиям за свои воззрения, расходившиеся с церковной догмой.
(обратно)187
15 Небукаднетцар, Навуходоносор, сын Набо-Палассара, халдейский царь, осадил Иерусалим, взял его и, наложив цепи на Иоахима, царя Иудеи, отослал его пленником в Вавилон, в год от сотворения мира 3429-й. Небукаднетцару приснился сон, который он забыл; маги, астрологи и мудрецы не могли его отгадать; поэтому Ариох, начальник телохранителей, получил приказание умертвить их; юный Даниил угадывает сон и толкует его; в этом сне царь видел прекрасную статую и т. д. Некоторое время спустя Небукаднетцар приказал воздвигнуть истукана из чистого золота вышиною в шестьдесят локтей и шириною в шесть; собрав весь свой народ, он принудил его поклоняться этому истукану при звуках рога, трубы, арфы, цевницы и гуслей; а когда Сидрах, Мисах и Авденаго, молодые иудеи, товарищи Даниила, отказались поклоняться, царь приказал бросить их в печь, натопленную на этот раз в семь раз жарче обыкновенного; и они вышли оттуда целыми и невредимыми. Небукаднетцару приснился еще один сон: он видел дерево, большое и крепкое; вершина касалась небес, и в ветвях обитали птицы. Некий святой спустился и крикнул: «Срубите дерево и обрубите ветви» и т. д. Даниил истолковал и этот сон: он предсказал царю, что тот будет отлучен от людей; что в продолжение семи лет будет жить вместе со зверями, что будет есть траву, подобно быкам, пока волосы его не станут, как у орла, а ногти, как у птиц; так и случилось. Тертуллиан{188} и святой Августин говорят, что Навуходоносор вообразил себя быком вследствие болезни, называемой «ликантропией{189}». По прошествии семи лет к этому государю вернулся разум, и он снова занял престол; он прожил только год после своего исцеления, но использовал его так хорошо, что святой Августин, святой Иероним, святой Епифаний, Феодорит и прочие, упоминаемые Перерием{190}, надеются на его спасение. — (Автор).
(обратно)188
Тертуллиан (160–245) — церковный писатель, один из виднейших «отцов» христианской церкви.
(обратно)189
Ликантропия — род душевной болезни, вследствие которой больной мнит, что превратился в зверя.
(обратно)190
…упоминаемые Перерием… — Источником данного богословского комментария Вольтера был не иезуит Перерий, как говорит автор, а аббат Кальме, о котором упоминалось выше.
(обратно)191
16 Не следует смешивать Георгия — покровителя Англии и ордена Подвязки, со святым Георгием — монахом, убитым за возмущение народа против императора Зенона. Наш святой Георгий — каппадокиец, полковник на службе Диоклетиана, замученный, как говорят в Персии, в городе Диосполе. Но так как у персов не было такого города, то позднее стали считать, что он был замучен в Армении, в городе Митилене. В Армении нет Митилены так же, как нет Диосполя в Персии. Но, во всяком случае, установлено, что Георгий был кавалерийским полковником, ибо его конь при нем и в раю. — (Автор).
(обратно)192
Стр. 81. Рассыльная Атропы, Стикса дочь… — Атропа — одна из трех Парок, богинь судьбы, чье предназначение обрывать нить жизни. Стикс — подземная река, по которой души умерших переправлялись в царство мертвых (греч. миф.).
(обратно)193
Ждут помощи блаженного Мартина… — Мартин — турский епископ (IV в.), причисленный церковью к лику святых. В «Житии святого Мартина» рассказывается, что он воскресил одного прихожанина, умершего в его отсутствие.
(обратно)194
К песни пятой
1 Раньше говорили: «Sainte n’y touche»{195}, и говорили правильно. Ясно было, что это женщина, которая не позволяет до себя дотронуться, а теперь, забыв о смысле, говорят: «Sainte Mitouche». Язык с каждым днем вырождается. Я бы желал, чтобы автор имел смелость сказать: «Sainte n’y touche», — как говорили наши отцы. — (Автор).
(обратно)195
Буквально: «Святая недотрога» (франц.).
(обратно)196
2 «Сатана» — слово халдейское, которое означает приблизительно то же, что «Ариман» у персов, «Тифон» у египтян, «Плутон» у греков, а у нас диавол. Только у нас его изображают с рогами. (См. седьмой том: «De forma diaboli»{197} достопочтенного отца Тамбурини.) — (Автор).
(обратно)197
«Об облике дьявола» (лат.).
(обратно)198
3 «Драчун» — дружеское обращение францисканцев в XV веке. Ученые расходятся насчет этимологии этого слова; очевидно, оно означает крепкого детину, здорового забияку. — (Автор).
(обратно)199
Стр. 83. Здесь Антонин и Марк Аврелий… — Антонин, по прозванию Благочестивый, — римский император (138–161 гг.), Марк Аврелий — римский император (161–180 гг.); считались гуманными правителями.
(обратно)200
…оба Катона, бичевавшие разврат… — Катон Старший (II в. до н. э.) на посту цензора боролся за чистоту римских нравов. Катон Утический (внук предыдущего) считался образцом доблести и мужества; потерпев поражение в борьбе с Цезарем, он покончил с собой.
(обратно)201
Кротчайший Тит… — Тит — римский император (79–81 гг.); римские историки восхваляли его справедливость и заботу о подданных.
(обратно)202
Траян прославленный… — Траян — римский император (98—117 гг.); многочисленные легенды изображали его добрым и праведным правителем.
(обратно)203
…Сципион, чья… власть преодолела Карфаген и страсть. — Публий Корнелий Сципион, по прозванию Африканский (ок. 235 — ок. 183 гг.) — выдающийся римский полководец, завоевавший Карфаген. По преданию, прекрасная карфагенянка Софонисба была отравлена своим женихом, который хотел спасти ее этим от римского плена, после того как Сципион не позволил ему на ней жениться.
(обратно)204
Солон и Аристид в смоле кипят. — Солон (VII–VI вв. до н. э.) — афинский политический деятель; с его именем связано установление законов, предваривших победу афинской демократии над аристократией. Аристид (VI–V вв. до н. э.) — афинский полководец и политический деятель, по преданию — образец доблести и патриотизма. Вольтер, помещая античных философов и наиболее уважаемых им политических деятелей в ад, пародирует христианскую традицию, согласно которой все эти люди, несмотря на свои достоинства, обречены гореть в аду, как «язычники».
(обратно)205
4 Это осуждение Хлодвига и многих других следует рассматривать лишь как поэтический вымысел. Впрочем, в нравственном смысле можно сказать, что Хлодвиг мог быть наказан за убийство нескольких соседних правителей и некоторых своих родных, что не вполне по-христиански. — (Автор).
(обратно)206
…король Хлодвиг… который в рай открыл дорогу нам… — Хлодвиг (465–511), основатель франкской монархии, по преданию был обращен в христианство святым Реми. По распоряжению Хлодвига был убит ряд его вассалов-родичей.
(обратно)207
Стр. 84. Константин — римский император (306–337 гг.), принял христианство как государственную религию.
(обратно)208
5 Константин отнял жизнь у своего тестя, своего зятя, племянника, жены и сына и был самый честолюбивый, тщеславный и сластолюбивый из людей; впрочем, хороший католик; но умер он арианином{209}, крещенный арианским епископом. — (Автор).
(обратно)209
…умер он арианином… — Ариане — христианская секта, возникшая в начале IV в., отрицала божественность Христа; несмотря на осуждение Никейским собором в 325 г., арианство было широко распространено вплоть до VII в.
(обратно)210
6 Францисканцы всегда были врагами доминиканцев. — (Автор).
(обратно)211
7 По-видимому, автор здесь только шутит. Впрочем, Гусман, изобретатель инквизиции, которого мы зовем Домиником, был действительно гонителем. Известно, что жители Лангедока, так называемые альбигойцы, хранили верность своему государю и что с ними вели самую бесчеловечную войну единственно из-за их учения. Что может быть ужаснее, чем истребление железом и огнем властителя и всех его подданных под тем лишь предлогом, что они думают не так, как мы? — (Автор).
(обратно)212
Стр. 85. Увы, я преподобный Доминик. — Доминик Гусман — основатель монашеского ордена доминиканцев (1215 г.) в Тулузе для проповеди католической ортодоксии и преследований еретиков. Доминиканцы, стояли во главе инквизиции.
(обратно)213
Альбигойцы (или катарры) — религиозная секта, возникшая в XII в. на юге Франции; жестоко преследовалась официальной церковью, против альбигойцев было организовано два крестовых похода.
(обратно)214
8 Содостойный (condigne) — от латинского «condignus»; это слово встречается у писателей XVI века. — (Автор).
(обратно)215
Стр. 86. Животное, с которым Валаам беседовал… — По библейским сказаниям, ослица пророка Валаама заговорила с ним, когда он не заметил ангела с мечом в руке, преградившего ему дорогу («Числа», XXII, 21–34).
(обратно)216
9 Об этой войне говорится только в апокрифической книге Еноха{217}; ни в одной другой древнееврейской книге о ней ничего не сказано. Предводителем небесного воинства был действительно Михаил, как говорит наш автор; но вождем злых ангелов был не Сатана, а Семехиах; такая оплошность извинительна в длинной поэме. — (Автор).
(обратно)217
Енох — один из библейских патриархов. Считался автором апокрифической «Книги Еноха».
(обратно)218
10 Палаш — старинное слово, обозначающее саблю. — (Автор).
(обратно)219
Стр. 89. Он был дитя Аркадии, мечтатель. — Аркадия — центральная часть Пелопоннеса в Древней Элладе. В литературе эпохи Возрождения Аркадия изображалась патриархальной страной райской невинности, простоты и счастья.
(обратно)220
К песни шестой
1 См. песнь семнадцатую. — (Автор).
(обратно)221
2 Это тот самый паж, на заду которого Иоанна нарисовала три лилии. — (Автор).
(обратно)222
3 Адонис, или Адони — сын Кинира и Мирры, финикийский бог, возлюбленный Венеры-Астарты. Финикияне ежегодно оплакивали его смерть, а затем радовались его воскресению. — (Автор).
(обратно)223
Стр. 93. Владели Марс суровый и Анхиз… — Марс — супруг Афродиты, Анхиз — ее возлюбленный (антич. миф.).
(обратно)224
4 Полагают, что Ганнибал прошел через Савойю; таким образом, храм Молвы находится у савойцев. — (Автор).
(обратно)225
Стр. 97. О Саватье, орудии подлога… — Здесь и далее Вольтер сводит счеты со своими литературными врагами. Имя Саватье — прозрачный намек на писателя Антуана Сабатье (1742–1817), автора памфлета под названием «Философское изображение ума г-на Вольтера».
(обратно)226
Зовущихся Гийон, Фрерон, Бомель. — Ла Бомель Лоран (1726–1773) — литератор, преподавал французскую литературу в Копенгагене. Попытки его сблизиться с Вольтером не увенчались успехом, и личная ссора перешла в литературную вражду; при этом Ла Бомель проявил себя пристрастным пасквилянтом, особенно в комментариях к поэме Вольтера «Генриада». Фрерон Эли (1719–1776) — реакционный литератор, один из главных идейных врагов Вольтера, который во многих своих произведениях осыпал Фрерона убийственными сарказмами. Гийон Клод-Мари (1699–1771) — историк и литератор, в прошлом иезуит; известен своими памфлетами против философов-просветителей и, в частности, против Вольтера.
(обратно)227
5 Этот сброд, действительно, отвратителен. Вышеупомянутые люди, как известно, изрыгали потоки клеветы на автора, не сделавшего им никакого зла. Они печатали, что он плагиатор, что не верит в бога, что благодетель Корнелева рода — враг Корнеля; что он сын мужика. Они приписывали ему небывалые приключения. Они двадцать раз повторяли, что он продает свои труды. Вполне справедливо, чтобы он наконец изгнал всю эту сволочь из святилища Молвы, куда они надеялись проникнуть, подобно ворам, крадущимся ночью в церковь, чтобы похитить утварь. — (Автор).
(обратно)228
6 Херувим — небесный дух или ангел второй степени первой иерархии. Это слово происходит от еврейского «херуб», множественное число от которого — «херубим». Херувимы имели четыре крыла, четыре лика и ноги быка. — (Автор).
(обратно)229
7 Альгвасил: «guazil» по-арабски значит «привратник»; отсюда «alguazil» — «испанский лучник». — (Автор).
(обратно)230
8 Боец: Champion, происходит от «champ», «pion de champ»; «pion» — индийское слово, заимствованное арабами и означающее — «воин». — (Автор).
(обратно)231
9 Палаш: braquemart, от греческого «brachi — makera», короткая сабля. — (Автор).
(обратно)232
К песни седьмой
1 Епитрахиль, стола — облачение священнослужителей, надеваемое поверх рясы. Это слово происходит от греческого «σтоλή», что значит «длинное платье». Теперь стола — повязка шириною в четыре пальца. Стола древних была иной; иногда она представляла собой торжественную одежду, которую цари дарили тем, кого хотели отличить; отсюда изречение в Писании:
Stolam gloriae induit eum, etc{233}. — (Автор). (обратно)233
Облек его в одежду славы (лат.).
(обратно)234
2 Бузирис — имя египетского властителя, известного своим тиранством. — (Автор).
(обратно)235
3 Кропило — орудие, со всех сторон снабженное щетиной, вделанной в проволочные нити, вставленные в деревянную или же металлическую ручку. Оно служит для кропления святой водой и т. п. Это орудие употреблялось и в древности; им пользовались, чтобы окроплять очистительной водою посвященных. — (Автор).
(обратно)236
4 Стернум — греческий термин, как почти все анатомические термины. Это передняя часть грудной клетки, к которой прикреплены ребра. Она состоит из семи костей, так хорошо составленных, что они кажутся одной. Это — броня, данная природой сердцу и легким. — (Автор).
(обратно)237
5 Атлант — первый шейный позвонок. Он поддерживает все тяжести, возлагаемые на голову, которая вращается на этом «атланте», как на стержне. — (Автор).
(обратно)238
6 Лобковая кость, соединяющаяся с бедреными, os pubis, os pectinis. — (Автор).
(обратно)239
7 Крестец: Coccis, κοκκυξ, хвостовая кость, непосредственно находящаяся под os sacrum. Быть в нее раненным — постыдно. — (Автор).
(обратно)240
8 Шлем: Salade, следовало бы говорить «célade» от «celata»; но неправильные речения одолевают всегда. — (Автор).
(обратно)241
Стр. 109. …ум и сердце образует он… — «Воспитание ума и сердца» — ходячее выражение середины XVIII в., вызывавшее неоднократные насмешки Вольтера. В частности, он намекает здесь на сочинение историка и педагога Шарля Роллена (1661–1741) «Трактат о преподавании изящной словесности путем обращения к уму и сердцу».
(обратно)242
Стр. 110. Принадлежит он мудрому Тритему… — Тритем Жан (1462–1516) — аббат монастыря св. Иакова в Вюрцбурге, занимался историей и был страстным собирателем книг и рукописей. В поэме Вольтера Тритем выполняет функцию вымышленного источника сведений об изображаемых событиях.
(обратно)243
К песни восьмой
1 Аббат Тритем был вовсе не из Пикардии, а из Тревской епархии; он умер в 1516 году. Однако мы не станем утверждать, что его род не происходил из Пикардии; в этом мы полагаемся на ученого автора, который, вероятно, видел рукопись «Девственницы» в каком-нибудь бенедиктинском аббатстве{244}. — (Автор).
(обратно)244
…видел рукопись «Девственницы» в каком-нибудь бенедиктинском аббатстве. — Эта шутка Вольтера имела основания: на одной рукописи «Девственницы» действительно была пометка, говорящая о ее принадлежности к библиотеке августинского монастыря.
(обратно)245
2 Radius и ulna — две кости, отходящие от локтя и примыкающие к кисти; humerus — кость руки, примыкающая к плечу. — (Автор).
(обратно)246
Стр. 112. Алкесту мужу гордо возвратил… — Алкеста, жена фессалийского царя Адмета, добровольно пожертвовала жизнью ради спасения заболевшего мужа. В благодарность за гостеприимство Адмета Геракл (Алкид) спустился в ад и, победив трехглавого пса Цербера и трех Фурий, вернул Алкесту мужу (греч. миф.).
(обратно)247
3 Дом девы Марии, принесенный ангелами из Назарета, находится в Анконской марке. Сначала они в продолжение трех лет и семи месяцев охраняли его в Далмации, а затем поместили близ Реканати. Статуя девы Марии вышиною в четыре фута, лицо — черное; на ней такая же тиара, как у папы; известны ее чудеса и сокровища. — (Автор).
(обратно)248
4 Они не сразу остановились в Лорето; это неточность нашего автора: «Non ego paucis offendar maculis»{249}. Впрочем, в его защиту можно сказать, что под конец ангелы все же остановились в Лорето вместе с домом, испытав сначала несколько других стран, не понравившихся святой деве. Произошло это в понтификат Бонифация VIII{250}, о котором говорят, что местом своим он завладел, как лиса, вел себя на нем, как волк, а умер, как собака. Историки, говорившие так о Бонифации, не получали пенсии от римской курии. — (Автор).
(обратно)249
Не сержусь я, когда{250}… несколько пятен мелькнут… (лат.)
(обратно)250
Не сержусь я, когда… — цитата из Горация:
Вот почему не сержусь я, когда в стихах среди блеска Несколько пятен мелькнут…(Гораций, Наука поэзии, ст. 351–352, перев. М. Гаспарова)
(обратно)251
Бонифаций VIII (1294–1303). — Папа римский, стремясь возвратить папскому престолу прежнюю самостоятельность, принимал широкое участие в европейских распрях своего времени. Данте в «Божественной комедии» поместил Бонифация VIII в восьмой круг ада.
(обратно)252
5 Бристоль и Кембридж, два города, знаменитых первый — своею торговлею, второй — университетом, где блистали многие великие люди. — (Автор).
(обратно)253
К песни девятой
1 Нет читателя, который не знал бы историю прекрасной Юдифи. Дебора, доблестная супруга Лапидофа, победила царя Иавина, у которого было девятьсот колесниц и множество воинов, вооруженных косами, в горной стране, где теперь водятся одни ослы. Доблестная женщина Иаиль, жена Хевера, приняла у себя Сисару, полководца Павина; она опьянила его молоком и прибила его голову к земле, пронзив ее от виска до виска гвоздем; это был замечательный гвоздь, а она была замечательная женщина. Аод-левша был послан господом к царю Еглону и вонзил ему в живот громадный нож левою рукой, и тотчас же Еглон сходил на низ. Что касается Симона, сына Ионина, то он отрубил Малху только ухо{254}, да и то ему было приказано вложить меч в ножны; это доказывает, что служители церкви не должны проливать крови. — (Автор).
(обратно)254
…отрубил Малху ухо… — См. прим. к стр. 123 (см. коммент. 146 — верстальщик).
(обратно)255
Стр. 123. …ушам не ждать добра… — В Евангелии от Иоанна (XVII, 10) рассказывается, как апостол Петр (он же Симон) отсек мечом правое ухо Малху — одному из рабов, посланных, чтобы схватить Иисуса Христа.
(обратно)256
Стр. 124. Где правит муж Тефии… — то есть бог моря Посейдон; Тефия — его супруга (греч. миф.).
(обратно)257
2 Известно, что венецианский дож обвенчан с морем{258}. — (Автор).
(обратно)258
…венецианский дож обвенчан с морем. — Церемония венчания дожа с Адриатикой служила в Венеции символом владычества над морем.
(обратно)259
3 Саннадзаро{260}, посредственный поэт, погребенный рядом с Вергилием, но в более роскошной гробнице. — (Автор).
(обратно)260
Саннадзаро Джакомо (1458–1530) — итальянский поэт, прозванный христианским Вергилием. Среди прочих его произведений имеется латинская поэма «О рождении богоматери».
(обратно)261
4 Когда-то это место слыло крайне опасным для мореплавателей. — (Автор).
(обратно)262
5 Этна теперь очень редко извергает огонь. — (Автор).
(обратно)263
Стр. 125. Источник Аретузи — родник на островке против Сиракуз, в Сицилии; по древнему преданию, бог реки Алфей воспылал страстью к купавшейся в его водах нимфе Аретузе. Спасаясь, нимфа обратилась за помощью к богине Диане, которая превратила ее в родник, но Алфей, пробравшись под морским дном, смешал свои воды с родником Аретузы.
(обратно)264
6 Подземный проток от реки Алфея до родника Аретузы оказался выдумкой. — (Автор).
(обратно)265
7 Святой Августин был епископом Гиппонским. — (Автор).
(обратно)266
Край Августина, берег Карфагена… — Город Гиппона, где был, по преданию, епископом Блаженный Августин, находился в Нумидии. Другой город под тем же названием был расположен недалеко от Карфагена, в римской провинции Африке.
(обратно)267
8 Фокейцы. — (Автор).
(обратно)268
…Марселя древние строенья, подарок вымершего поколенья. — Древний город Массилия, стоявший на месте современного Марселя, был заложен в VI в. до н. э. предприимчивыми колонизаторами-фокейцами (жителями малоазиатского города Фокеи).
(обратно)269
9 Скала святого Максимина совсем рядом, по дороге на Благоуханную гору{270}. — (Автор).
(обратно)270
Благоуханная гора — гора на юге Франции; в ней находится грот, в котором, по преданию, Мария Магдалина провела последние тридцать лет своей жизни.
(обратно)271
Стр. 130. Его отца свела с ума… — Душевная болезнь отца Карла VII, французского короля Карла VI (1380–1422), снискала ему прозвище Безумного. Эта болезнь была поводом к постоянным распрям между его родственниками, боровшимися за власть.
(обратно)272
К песни десятой
1 Карл VI действительно сошел с ума, но неизвестно ни почему, ни как. Этому недугу подвержены и короли. Безумие несчастного государя было причиной страшных бедствий, терзавших Францию в продолжение тридцати лет. — (Автор).
(обратно)273
2 Гадания этого рода были в большом ходу; известно даже, что король Филипп III посылал епископа и аббата к одной бегинке{274} в Нивеле близ Брюсселя, великой ясновидящей, чтобы узнать, верна ли ему его жена, Мария Брабантская. — (Автор).
(обратно)274
…к одной бегинке… — Бегинки — женское общество светского характера, преследовавшее филантропические цели. Эти союзы были распространены в Нидерландах, Франции и Германии.
(обратно)275
Стр. 135. …ультрамонтанца вдруг завидя… — Ультрамонтанцами называли французских католиков, признававших верховную власть папского престола.
(обратно)276
Стр. 136. Дарами сладкими, что дал нам Ной… — По библейским сказаниям, Ной, после потопа, занялся виноделием.
(обратно)277
…Помона с Флорой молодой… — Помона — богиня древесных плодов. Флора — богиня цветов и садов (антич. миф.).
(обратно)278
Стр. 137. Сестра Безонь. — Имя Безонь (франц. besogne — дело, труд) — значит «Хлопотунья».
(обратно)279
3 Лемуры, лярвы, добрые и злые духи являлись всегда только ночью; так же обстояло дело и с нашими домовыми; при пении петуха они все исчезали. — (Автор).
(обратно)280
Стр. 138. Так некогда у Ликомеда жил переодетый девушкой Ахилл… — Мать Ахилла, морская богиня Фетида, первоначально хотела уберечь сына от участия в Троянской войне и скрыла его под видом девушки у Ликомеда, царя острова Скироса; там его полюбила дочь царя Деидамия (греч. миф.).
(обратно)281
К песни одиннадцатой
1 Нам неизвестно, чтобы древние поклонялись богу тайны; это, должно быть, вымысел нашего автора, аллегория. По свидетельству Павсания, Порфирия, Лактанция, Авла Геллия, Апулея и др., у древних были разного рода таинства. Но здесь речь не об этом. — (Автор).
(обратно)282
2 Всем известно, что святого Георгия изображают всегда верхом на прекрасном коне, и отсюда поговорка: «Ездит верхом, как святой Георгий». — (Автор).
(обратно)283
Стр. 144. Мечтательный Рене — то есть философ и математик Рене Декарт (1596–1650). Говоря о «вихрях Декарта», Вольтер имеет в виду декартовскую астро-физическую теорию, по которой солнце и звезды считались центром вихревого движения мельчайших частиц материи: сила этих вихрей будто бы заставляет вращаться планеты. Декарт отрицал понятие пустого пространства, как не имеющее за собой никакой реальности. До открытия Ньютоном закона всемирного тяготения теория вихрей пользовалась широким признанием.
(обратно)284
3 Намек на вихри Декарта и на его тонкую материю, — смешные фантазии, имевшие столь длительный успех. Неизвестно, почему автор дает эпитет «фантазер» также и Ньютону, доказавшему пустоту; по-видимому, вследствие того, что Ньютон предполагает, будто причиною тяготения является весьма эластичная субстанция; впрочем, не следует придираться ко всякой шутке. — (Автор).
(обратно)285
4 Весь этот отрывок есть явное подражание Гомеру. Минерва говорит Марсу то, что рассудительный Денис говорит здесь гордому Георгию: «О Марс, о Марс, кровавый бог, которому нравятся только битвы», и т. д. — (Автор).
(обратно)286
Стр. 145. И произнес совсем как у Гомера… — Далее Вольтер пародирует «Илиаду» (песнь I, стихи 28–35).
(обратно)287
5 Опять-таки подражание Гомеру, у которого ранен сам Марс. — (Автор).
(обратно)288
Стр. 148. Скамандр — река, протекавшая у стен древней Трои; упоминается у Гомера.
(обратно)289
6 Мильтон, в пятой песни «Потерянного рая», уверяет, что часть ангелов, взбунтовавшись, сделала порох и пушки и повергла в небесах наземь легионы своих собратьев; а те взяли в небесах сотни гор, взвалили их себе на спины вместе с лесами, росшими на этих горах, и реками, с них стекавшими, и бросили реки, горы и леса на вражескую артиллерию. Это один из наиболее правдоподобных отрывков во всей поэме. — (Автор).
(обратно)290
Стр. 150. Учителя рассказывают в школах историю осла (не из веселых). — Вольтер имеет в виду историю о «Буридановом осле», приведенную французским схоластом Жаном Буриданом (XIV в.) в качестве аргумента против свободной воли человека.
(обратно)291
К песни двенадцатой
1 «Бои» или «бойницы» — это отверстия между зубцами стены, через которые можно обстреливать врага, когда он во рву. — (Автор).
(обратно)292
2 Следует признать, что пистолеты были изобретены в Пистойе только много времени спустя. Мы не смеем утверждать, что такое предвосхищение дозволено; но в эпической поэме чего не простишь? У эпопеи права большие. — (Автор).
(обратно)293
3 Справедливость требует отметить здесь удивительную назидательность этой поэмы. Порок в ней всегда наказан: распутный духовник умирает без покаяния, Грибурдон низвергнут в ад, Шандос побежден и убит, и т. д. Это именно и советует мудрый Гораций Флакк в «Arte poetica»{294}. — (Автор).
(обратно)294
«Науке поэзии» (лат.).
(обратно)295
Стр. 154. Отец всех верующих, Авраам, решил иметь ребенка от Агари… — Авраам — ветхозаветный патриарх, считавшийся родоначальником еврейского народа. Не имея детей от жены Сары, он сделал своей наложницей служанку Агарь, родившую ему сына Измаила. Впоследствии Агарь и Измаил были из-за ревности Сары изгнаны из дома Авраама («Бытие», XVI).
(обратно)296
Иаков на двух сестрах был женат. — По Библии, Иаков был женат на сестрах Лии и Ревекке, давших жизнь двенадцати сыновьям, родоначальникам «двенадцати колен» Израилевых («Бытие», XXIX, XXX).
(обратно)297
Старик Вооз, и тот решил позвать старуху Руфь с ним разделить кровать. — По Библии (книга «Руфь»), богатый старец Вооз помог в трудную минуту бедной вдове Руфи, которая затем добровольно соединила с ним свою судьбу. Однако весь смысл библейского эпизода в том, что Руфь была молода и красива.
(обратно)298
Натешившись с Вирсавией вначале… — По Библии, Вирсавия — жена одного из военачальников царя Давида, который, воспылав к ней страстью, послал ее мужа в сражение, где тот и был убит; Вирсавия же стала Давиду возлюбленной, а впоследствии женой, родившей ему Соломона («Вторая Книга Царств», XI).
(обратно)299
…волосы врагам его предали… — По библейскому преданию, сын царя Давида Авессалом восстал против отца, овладел Иерусалимом, захватив царских жен, но затем счастье ему изменило: спасаясь от преследования, он запутался волосами в ветвях дуба, был настигнут и убит («Вторая Книга Царств», XVIII).
(обратно)300
Иегова — наименование бога в иудейской религии.
(обратно)301
4 Карл забывает о семистах женах, что составляет тысячу. Но здесь мы можем только приветствовать сдержанность и благоразумие автора. — (Автор).
(обратно)302
5 «Надир» по-арабски означает «наинизший», а «зенит» — «наивысший». Большая Медведица — это «Arctos» греков, давший название арктическому полюсу. — (Автор).
(обратно)303
6 Это доски, которыми покрывают мост; когда они толщиною в четыре дюйма, их называют «мостовыми досками». — (Автор).
(обратно)304
7 Адонис. — (Автор).
(обратно)305
8 В те времена королей называли «высочеством». — (Автор).
(обратно)306
9 Отцов капуцинов тогда еще не было{307}; это ошибка в отношении «обычаев». — (Автор).
(обратно)307
Отцов капуцинов тогда еще не было… — Орден капуцинов был основан в 1525 г. как ответвление францисканского монашеского ордена.
(обратно)308
10 Невежды, в предыдущих, совершенно искаженных изданиях напечатали «Ликомед» вместо «Никомед»; это был Вифинский царь. «Caesar in Bithyniam missus, — говорит Светоний{309}, — desedit apud Nicomedem, non sine rumore prostratae regi pudicitiae»{310}. — (Автор).
(обратно)309
Светоний (ок. 75—160 гг.) — римский писатель; главное сочинение — «Жизнеописание двенадцати цезарей».
(обратно)310
Цезарь, посланный в Вифинию, остановился у Никомеда, и не обошлось без слухов о том, что стыдливость Цезаря понесла ущерб (лат.).
(обратно)311
11 «Alexander paedicator Hephaestionis, Adrianus Antinoi»{312}. Император Адриан не только поставил статую Антиноя в Пантеоне, но воздвиг ему храм; и Тертуллиан признает, что Антиной творил чудеса. — (Автор).
(обратно)312
Александр — сожитель Гефестиона{313}, Адриан — Антииоя (лат.).
(обратно)313
Гефестион — соратник и любимец Александра Македонского, который после смерти Гефестиона причислил его к полубогам. Антиной — прекрасный юноша, любимец и приближенный римского императора Адриана (76—138 гг.).
(обратно)314
К песни тринадцатой
1 Автор ясно указывает на конец июня. Память святого Иоанна Крестителя, именуемого Баптистом, празднуется 24 июня. — (Автор).
(обратно)315
2 Автор намекает здесь на тридцать четвертую песнь «Неистового Роланда».
Quando scoprendo il nome suo gli disse Esser colui che l’Evangelio scrisse{316}.Смотрите наше предисловие и, в особенности, вспомните, что Ариост помещает святого Иоанна на луну вместе с тремя Парками. — (Автор).
(обратно)316
Свое назвал он имя{317} и сказал, Что это он Евангелие создал (итал.). (обратно)317
Свое назвал он имя… — слова из поэмы Ариосто; они обращены святым Иоганном к рыцарю Астольфу, прилетевшему на Гиппогрифе на луну.
(обратно)318
Стр. 160. Властителей Феррары веселил… — Поэма Ариосто «Неистовый Роланд» начинается терцинами в честь властителей Феррары, герцогов д’Эсте.
(обратно)319
3 Примеры метания жребия очень часты у Гомера. Метанием жребия решали судьбу иудеи. Говорят, что место Иуды было замещено по жребию; и теперь некоторые должности в Венеции, Генуе и других государствах замещаются по жребию. — (Автор).
(обратно)320
Стр. 164. …святой Матвей так утвержден был… — Матвей был избран в число апостолов на место Иуды после вознесения Христа («Деяния апостолов», I, 26).
(обратно)321
4 Одиннадцать тысяч дев и мучениц, погребенных в Кельне. — (Автор).
(обратно)322
5 Щит, упавший в Риме с неба и бережно хранимый как залог безопасности города. — (Автор).
(обратно)323
6 Наш автор, очевидно, подразумевает хитрость, к которой прибег Иаков{324}, чтобы сойти за Исава. «Проныра в рукавицах» — намек на рукавицы из кожи и шерсти, которые он натянул себе на руки. — (Автор).
(обратно)324
…хитрость, к которой прибег Иаков… — Библейский Иаков, выдав себя перед слепым отцом за старшего брата своего Исава, получил таким образом, обманным путем, благословение на первенство («Бытие», 27).
(обратно)325
7 Анна де Писсле, герцогиня Этампская. — (Автор).
(обратно)326
Стр. 167. С прекрасной Анной… забыл… утраченные в Павии мечи. — Французский король Франциск I в 1525 г. проиграл сражение при Павии и после отчаянного сопротивления был взят в плен. Окруженный врагами, он согласился сдать свой меч только из рук в руки Ланнуа, вице-королю Неаполя. Анна де Писсле (1508–1576) — любовница Франциска I, имела огромное влияние на короля; ей приписывали разглашение государственной тайны, повлекшее за собой военные и дипломатические неудачи Франции.
(обратно)327
Уводят Карла Пятого от лавров… — Карл V (1500–1558), с 1516 г. — король Испании, а с 1519 г. — германский император; сломленный политическими неудачами, в 1556 г. отказался от императорской короны в пользу брата и от испанской короны в пользу сына.
(обратно)328
8 Диана де Пуатье{329}, герцогиня Валанская. — (Автор).
(обратно)329
Диана де Пуатье (1499–1566) — любовница французского короля Генриха II, подчинила своему влиянию слабовольного монарха.
(обратно)330
С тобою, Генрих, именем Второй, — Генрих II — французский король (1547–1559).
(обратно)331
Стр. 168. Девятый Карл — Карл IX, французский король (1564–1575).
(обратно)332
9 Генрих III и его любимцы{333}. — (Автор).
(обратно)333
Генрих III и его любимцы. — Французский король (1574–1589) Генрих III был известен своими извращенными наклонностями.
(обратно)334
10 Папа Александр VI{335} имел трех детей от Ваноццы. Его дочь Лукреция была, согласно молве, его любовницей и любовницей своего брата: «Alexandri filia, sponsa, nurus»{336}. — (Автор).
(обратно)335
Александр VI — то есть папа римский Александр Борджа (1431–1503). Приведенная ниже латинская фраза взята из распространенной в свое время эпиграммы на его дочь, красавицу Лукрецию Борджа (1480–1519).
(обратно)336
Дочь Александра, супруга его и невестка (лат.).
(обратно)337
О, Лев Десятый, славный Павел Третий! — Лев X — римский папа (1513–1521); Павел III — римский папа (1534–1549).
(обратно)338
Великому беарнцу моему… — Беарнцем называли Генриха IV (1553–1610), первого французского короля из рода Бурбонов; его предки были владетельными сеньорами Беарна (на юге Франции). Вольтер посвятил Генриху IV эпическую поэму (первое издание вышло в 1723 г. под заглавием «Лига, или Генрих Великий»; в последующих изданиях поэма стала называться «Генриадой»), воплотив в его образе идеал просвещенного монарха.
(обратно)339
11 Знаменитая Габриель д’Эстре, герцогиня Бофорская. — (Автор).
(обратно)340
Людовик наш Великий… — то есть французский король Людовик XIV (1643–1715), прозванный «Великим», при котором достигла наивысшего расцвета абсолютная монархия. Вольтер написал историю царствования Людовика XIV.
(обратно)341
12 Та, которая затем была за коннетаблем Колонна. — (Автор).
(обратно)342
Племянницу лукавца Мазарини… — Имеется в виду Мария Манчини (1639–1714), племянница кардинала Мазарини (первого министра Людовика XIV в дни его молодости); была возлюбленной короля.
(обратно)343
Монтеспан и Лавальер. — Франсуаза-Атенаиса маркиза де Монтеспан (1641–1707) и Луиза-Франсуаза де Лавальер (1644–1710) — любовницы Людовика XIV.
(обратно)344
О времена Регентства, дни утех… — Регентство — период правления герцога Орлеанского (1715–1723), во время малолетства Людовика XV; был отмечен исключительной распущенностью нравов французской аристократии.
(обратно)345
И в Люксембурге Дафна молодая… — намек на дочь герцога Орлеанского, Марию-Луизу-Елизавету, герцогиню де Берри (1695–1719), которую подозревали в любовной связи с отцом. Люксембургский дворец в Париже принадлежал герцогу Орлеанскому.
(обратно)346
13 Раньше носили штаны, завязанные тесьмой; и о мужчине, не выполнявшем своей обязанности, говорили, что у него завязана тесьма. Во все времена колдунам приписывали власть мешать свершению брака; это называлось «завязать тесьму». Мода на тесьмы прошла при Людовике XIV, когда стали пришивать к гульфикам пуговицы. — (Автор).
(обратно)347
К песни четырнадцатой
1 В этом вступлении автор, по-видимому, подражает первой песни дивной поэмы Лукреция:
Aeneadum genitrix, hominum divûmque voluptas, Alma Venus, coeli subterlabentia signa, etc., etc. {348}— (Автор).
(обратно)348
Рода Энеева мать{349}, бессмертных и смертных услада, О благая Венера! Под небом скользящих созвездий… (обратно)349
Рода Энеева мать… — Цитата из философской поэмы римского поэта Лукреция (I в. до н. э.) «О природе вещей».
(обратно)350
2 Комос — бог пиршеств. — (Автор).
(обратно)351
3 «Rostbeef» произносите «ростбиф»; это любимое кушанье апгличан; то, что мы называем «вырезкой» — хребтовая часть говядины. Пудинги — это пироги; бывают «плумпудинги», «бредпудинги» и несколько иных сортов пудингов.
«Notandi sunt tibi mores»{352}. — (Автор).
(обратно)352
Да будут тебе известны обычаи (лат.).
(обратно)353
Стр. 173. Увидел у Дианы Актеон. — Охотник Актеон подсмотрел однажды купанье богини Дианы (Артемиды), за что был в наказание превращен ею в оленя и разорван своими же собаками, не узнавшими хозяина (антич. миф.).
(обратно)354
4 Он и был им на самом деле. — (Автор).
(обратно)355
5 Алкид, Вакх, Персей — сыновья Юпитера, Ромул — Марса, и т. д. — (Автор).
(обратно)356
6 Вильгельм Завоеватель{357}, побочный сын нормандского герцога, шлюхин сын, как добросовестно отмечает автор, следуя в этом за лордом Ч… м{358}. — (Автор).
(обратно)357
Вильгельм Завоеватель (1027–1087) — побочный сын норманнского герцога Роберта II Дьявола. После смерти английского короля Эдуарда предъявил свои претензии на престол и стал королем Англии (1066 г.).
(обратно)358
Лорд Ч… д — то есть Честерфилд Филипп Дормер Стэнхоп (1694–4773), английский государственный деятель, находившийся в переписке с Вольтером и Монтескье.
(обратно)359
Стр. 177. Арей — бог войны (греч. миф.).
(обратно)360
7 Это место опять-таки подражание Гомеру{361}; но те, что делают вид, будто читали его по-гречески, скажут, что по-французски оно всегда будет звучать хуже. — (Автор).
(обратно)361
…опять-таки подражание Гомеру… — Имеется в виду «Илиада», стихи 422–456 из песни IV и стихи 1—327 из песни XXI.
(обратно)362
К песни пятнадцатой
1 Мы уже отмечали, что аббат Тритем никогда ничего не говорил о Девственнице и о прекрасной Агнесе; автор поэмы только из скромности приписывает другому все достоинства этого назидательного повествования. — (Автор).
(обратно)363
2 Надо ли говорить «пемза» или «пемзовый камень» — большой вопрос. — (Автор).
(обратно)364
3 Архиепископ Турпин{365}, которому приписывают «Жизнеописание Карла Великого и Роланда», был архиепископом Реймским в конце VIII века: книгу же эту написал не архиепископ, а монах по имени Турпин, живший в XI веке; в этой книге Ариост и почерпнул некоторые из своих сказок. Благоразумный автор притворяется здесь, что он заимствовал свою поэму у аббата Тритема. — (Автор).
(обратно)365
Стр. 180. Епископ Турпин — Собственно, архиепископ Турпин, персонаж старофранцузского героического эпоса «Песнь о Роланде», прелат на коне, отважно сражавшийся с полчищами мавров бок о бок с паладинами короля франков Карла Великого. Епископ Турпин является также персонажем поэмы Ариосто.
(обратно)366
4 Многоголосный гам — вид хорового пения. Приходский серпент задает тон, а партии согласуются, как умеют. Это отличная музыка для людей, лишенных слуха. — (Автор).
(обратно)367
5 Стентор был глашатаем у Гомера. Прекрасный талант, коим он был наделен, обессмертил его, что вполне заслужено. — (Автор).
(обратно)368
Стр. 183. Крича… как Стентор… — намек на следующее место у Гомера:
Там пред аргивцами став, возопила великая Гера В образе Стентора, мощного, медноголосого мужа, Так вопиющего, как пятьдесят совокупно другие.(«Илиада», V, 784–786, перевод Н. Гнедича)
(обратно)369
Стр. 184. Король, Монжуа, святой Денис, виват! — «Король Монжуа и святой Дионисий!» — традиционный боевой клич французских средневековых рыцарей. Этот клич встречается в «Песни о Роланде».
(обратно)370
…рать потомков Клодиона. — Клодион (или Хлодио) Волосатый — вождь одного из франкских племен, захвативших около 430 г. территорию Галлии. Французские средневековые историки считали его основателем королевской династии Меровингов.
(обратно)371
Стр. 185. …тем лугам, где Аталанту представляют нам. — Аталанта — сказочная бегунья; чтобы ее догнать, Гиппамен прибег к хитрости: разбросал на лугу, по которому она должна была бежать, золотые яблоки (греч. миф.).
(обратно)372
Стр. 186. Так в опере поэта-кардинала… — Оперный театр Парижа помещался во дворце Пале-Рояль, построенном кардиналом Ришелье (см. комм. на стр. 667), который назван «поэтом-кардиналом» потому, что являлся автором нескольких посредственных стихотворных пьес.
(обратно)373
…кто презираем и любим. — Имеется в виду Людовик XV, французский король (1715–1774), царствовавший в то время, когда писалась «Орлеанская девственница». Вольтер намекает, с одной стороны, на прозвище «Возлюбленный», данное Людовику XV двором, а с другой стороны — на жгучую ненависть к нему в народе.
(обратно)374
К песни шестнадцатой
1 Признаюсь, что у Тритема я ее не обнаружил; но возможно, что я не прочел всех трудов этого великого человека. — (Автор).
(обратно)375
2 «Возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Здесь святой Петр с благочестивым лукавством советует англичанам не вести войны. — (Автор).
(обратно)376
3 Ламотт-Гудар, поэт несколько сухой, писавший, однако, недурные вещи, сочинял, к несчастью, оды в прозе в 1730 году; новое доказательство, что эта божественная поэма была написана именно в это время. — (Автор).
(обратно)377
Стр. 187. Пусть пиндарическую оду сложат… — Пиндар (ок. 520–456 гг. до н. э.) — греческий поэт. Сохранились его торжественные оды-гимны, исполнявшиеся хорами на народных празднествах.
(обратно)378
4 Фортунат, епископ города Пуатье, поэт. Он не является автором приписываемой ему «Pange lingua»{379}. — (Автор).
(обратно)379
«Безмолвствуй» (лат.).
(обратно)380
Стр. 188. И пившего кастальские струи… — Кастальский ключ у подножия Парнаса, посвященный Музам, считался в античной древности источником поэтического вдохновения.
(обратно)381
5 Святой Проспер, автор весьма сухой поэмы о благодати, V века. — (Автор).
(обратно)382
6 Григорий Турский, первый, написавший историю Франции, полную чудес. — (Автор).
(обратно)383
7 Святой Бернард, бургундец, родившийся в 1091 году, был монахом в Сито, затем аббатом Клервоским; он вмешивался во все общественные дела своего времени и действовал не меньше, чем писал. Нельзя сказать, чтобы он сочинил много стихов. Что же касается антитезы, за которую восхваляет его наш автор, то, действительно, он был большой любитель этого приема. Он говорит об Абеляре: «Leonem invasimus, incidimus in draconem»{384}. Когда его мать была им беременна, ей приснилось, будто она родила белую собаку, и ей предсказали, что сын ее станет монахом и будет лаять на мирян. — (Автор).
(обратно)384
Пошли на льва, нашли дракона (лат.).
(обратно)385
8 Святой Аустин, или Августин, монах, которого считают основателем приматства Канторберийского, или Кентербюрийского. — (Автор).
(обратно)386
9 Как известно, евреи заимствовали у египтян сосуды и бежали. — (Автор).
(обратно)387
10 Левиты, зарезавшие двадцать тысяч своих соплеменников. — (Автор).
(обратно)388
11 Финеес, велевший истребить двадцать четыре тысячи своих собратьев за то, что один из них разделил ложе с мадианитянкой. — (Автор).
(обратно)389
12 Аод, или Еуд, убил царя Еглона, но только левой рукой. — (Автор).
(обратно)390
13 Самуил рассек на куски царя Агага, с которого Саул взял выкуп. — (Автор).
(обратно)391
14 Достаточно известная Юдифь. — (Автор).
(обратно)392
15 Вааса, царь Израиля, убил Надада, или Надава, и наследовал ему. — (Автор).
(обратно)393
16 Ахав взял большой выкуп с Венадада, царя сирийского, как Саул с Агага, и был убит за то, что не расправился с ним. — (Автор).
(обратно)394
17 Иоас, убитый Иегозавадом. — (Автор).
(обратно)395
18 Намек на эпиграмму Расина:
Я слезы лью о бедном Олоферне: Юдифью был так зло казнен герой. — (Автор). (обратно)396
19 Василиск — животное, весьма известное, однако никогда не существовавшее. — (Автор).
(обратно)397
20 Левиафан — другое весьма знаменитое животное. Одни говорят, что это кит, другие — что крокодил. — (Автор).
(обратно)398
Стр. 192. …педант с лицом Терсита… — Вольтер имеет в виду Омер-Жоли де Флери (1715–1810), который в 1746 г. был генеральным прокурором парижского парламента; многие из его выступлений на судебных процессах вызывали нападки со стороны Вольтера. Терсит — один из участников Троянской войны, изображенный уродом и трусом («Илиада», III).
(обратно)399
21 Фосфор — светоносец, предварявший зарю, которая предшествовала колеснице Солнца. Все было одушевленным, все было блистающим в древней мифологии. Можно ли не пожалеть о том, что для поэзии прошли эти вдохновенные времена, породившие столько прекрасных вымыслов, всегда аллегорических! Как, по сравнению с ними, мы бедны, — мы, «потомки варваров»! — (Автор).
(обратно)400
22 Древние придали Солнцу колесницу. Это было в порядке вещей: Зороастр на колеснице переносился по воздуху; Илия был унесен на небо на сверкающей колеснице. Все четыре коня Солнца были белые. Согласно Овидию, их звали: Пироей, Эой, Этон, Флегон — то есть пламенный, восточный, годичный, жгучий. Но согласно другим ученым исследователям древности, они назывались: Эритрей, Актеон, Ламп и Филогей, то есть красный, сияющий, сверкающий, земной. Я полагаю, что ученые эти ошиблись и приняли названия четырех частей дня за имена коней. Это грубая ошибка, которую я укажу в ближайшем выпуске «Меркурия», предваряя выход в свет двух диссертаций in folio, написанных мною по этому поводу. — (Автор).
(обратно)401
К песни семнадцатой
1 Скюдери — автор эпической поэмы «Аларих»; Лемуан — иезуит, автор эпической поэмы «Людовик Святой, или Луизиада»; Демаре Сен-Сорлен — автор эпической поэмы «Хлодвиг»; эти три произведения — устрашающие эпические поэмы. — (Автор).
(обратно)402
Стр. 198. Сорлена, Лемуана, Скюдери… — Демаре де Сен-Сорлен (1596–1673) — поэт, автор «христианской» эпической поэмы «Хлодвиг», Пьер Лемуан (1602–1672) — богослов и посредственный поэт; в 1653 г. напечатал эпическую поэму в восемнадцати песнях «Людовик Святой», проникнутую духом католического благочестия. Жорж де Скюдери (1601–1667) — посредственный поэт; упомянут как автор эпической поэмы «Аларих», в которой описано взятие Рима вестготами.
(обратно)403
2 Так именовали себя некогда богословы. — (Автор).
(обратно)404
3 «История Марии Алакок» — сочинение, редкое по количеству нелепостей, принадлежит Лангэ, тогдашнему епископу Суассонскому. Это место указывает, что комментируемая нами знаменитая поэма написана около 1730 года, когда было много толков о Марии Алакок. — (Автор).
(обратно)405
4 Это то, что раньше называлось «карманной кухней» и что имеют в виду стихи некой комедии:
Вся кухня при себе: и соль и перец. — (Автор). (обратно)406
5 Как вам известно, Иерихон пал при звуке труб; это весьма обыденное событие. — (Автор).
(обратно)407
К песни восемнадцатой
1 Герцог Бургундский, убивший герцога Орлеанского. Но добрый Карл с лихвой отплатил ему у моста Монтеро{408}. — (Автор).
(обратно)408
…с лихвой отплатил ему у моста Монтеро. — Иоанн Бургундский Бесстрашный (см. прим. к «Орлеанской девственнице», стр. 649) в 1407 г. убил в Париже брата короля, Людовика Орлеанского. Это вызвало войну; во время переговоров о мире (1419 г.) Иоанн Бесстрашный сам был убит на мосту Монтеро по приказу Карла VII — тогда наследника престола.
(обратно)409
2 Карл VII был призван к мраморному столу генеральным прокурором Демаре{410}. — (Автор).
(обратно)410
Демаре Жан (ум. в 1383 г.) — генеральный прокурор парижского парламента. Вольтер, очевидно, ошибся, называя Демаре в качестве генерального прокурора времен Карла VII.
(обратно)411
3 Гонесса — селение близ Парижа, знаменитое своими булочниками и несколькими битвами. — (Автор).
(обратно)412
4 Его собственная мать, Изабелла Баварская, преследовала его больше всех. Она настояла на заключении договора в Труа, по которому зять ее, английский король Генрих V, получил корону Франции. — (Автор).
(обратно)413
Стр. 206. Еще супруга сонная Тифона… — Тифон был женат на богине зари Авроре (греч. миф.).
(обратно)414
5 Это английский герб. — (Автор).
(обратно)415
Стр. 207. Грести на Амфитритиной спине… — Иначе говоря, быть сосланным на галеры, на каторжные работы, Амфитрита — царица океана (греч. миф.).
(обратно)416
6 Согласно современным хроникам действительно существовал некий жалкий человечишка, коего так звали, писавший листки под аркадами рынка Невинно убиенных младенцев. За кое-какие проделки он несколько раз сидел в Шатле, в Бисетре и в Фор-Левеке. Некоторое время он был монахом, но его выгнали из монастыря; в новом ремесле, которым он занялся, он весьма преуспел. Многие знаменитые писатели воздали ему по заслугам. Родом он был из Нанта и занимался в Париже профессией газетного сатирика. Фруассар говорит в своей «Хронике»{417}, что не было человека, которого бы больше презирали и ненавидели, чем его. — (Автор).
(обратно)417
Фруассар говорит в своей «Хронике»… — Фруассар Жан (1330–1410), живя при дворах Франции, Англии, Шотландии и Фландрии, написал хронику придворной жизни этих государств в период с 1326 по 1410 г.
(обратно)418
7 Койон, или Гийон, автор времен Карла VII. Он написал «Римскую историю», в общем, отвратительную, но терпимую для того времени. Он составил также «Оракул философов». Это смехотворное сплетение лжи и клеветы. По словам Монстреле, к концу жизни он в этом раскаялся. — (Автор).
(обратно)419
8 Другой современный клеветник. — (Автор).
(обратно)420
Стр. 209. Шоме Абрагам-Жозеф (ок. 1730–1790 гг.) — литератор, враг философов-просветителей.
(обратно)421
9 Тоже клеветник. — (Автор).
(обратно)422
Гоша Габриель (1709–1774) — французский богослов и литературный критик, не раз задевавший Вольтера в своих писаниях.
(обратно)423
10 Аббат Саботье, или Сабатье, родом из Кастра, автор двух, с позволения сказать, словарей, где он высказывается «за» и «против»; дерзкий клеветник, готовый на все ради денег. Он предал своего господина, графа де Л — к, и был выгнан довольно сурово, что он и чувствовал еще долгое время спустя. — (Автор).
(обратно)424
11 Фрелон{425} выпускал в то время еженедельно листок, в котором иногда отваживался на мелкую ложь, мелкую клевету, мелкие оскорбления, за что, как уже сказано, и был подвергнут наказанию по суду. — (Автор).
(обратно)425
Фрелон — прозрачный намек на Фрерона. Фамилия Фрелон (франц. frelon) буквально значит «шершень», «трутень».
(обратно)426
12 Эта песнь аббата Тритема кажется истинным пророчеством: действительно, мы видели некоего Фантена, доктора и священника в Версале, пойманного на краже пятидесяти луидоров у больного, которого он исповедовал. Его прогнали, но не повесили. — (Автор).
(обратно)427
13 Опять-таки пророчество. Весь Париж был свидетелем того, как аббат Бризе{428}, известный духовник знатных женщин, тратил на тайные пороки деньги, которые он извлекал у своих духовных дщерей и которые ему давали на помощь бедным. Весьма похоже, что человек, знакомый с нашими нравами, вставил часть этой тирады в новое издание божественной поэмы аббата Тритема. Он должен был бы сказать несколько слов и об аббате Лакосте, осужденном на клеймление каленым железом и на пожизненную каторгу, в лето господне 1759, за несколько подлогов. Этот аббат Лакост работал вместе с Фрелоном в «Литературном ежегоднике». — (Автор).
(обратно)428
Бризе (Гризель Габриель-Жозеф; 1703–1787) — писатель, богослов, ревнитель католичества.
(обратно)429
14 Ла Бомель, родом из селения около Кастра, проповедовавший некоторое время в Женеве, учитель у г-на де Буасси, позже бежавший в Копенгаген. Изгнанный оттуда, он отправился в Готу, откуда бежал с горничной, укравшей у одной дамы платья и кружева, о чем знает весь Готский двор. Два раза его сажали в тюрьму в Париже; затем он был изгнан оттуда; наконец этот прощелыга нашел себе покровителей. Это он автор скверного сочиненьица под заглавием «Мои мысли», в котором изрыгает самые подлые оскорбления и почти против всех людей, занимающих какое-либо положение. Это он подделал «Письма г-жи де Ментенон» и напечатал их с самыми скандальными и клеветническими примечаниями. Во Франкфурте он издал в четырех томиках «Век Людовика XIV», который он подделал и снабдил примечаниями, не только отвратительными по грубейшему невежеству, но и преступными по ужасной клевете на королевский дом и знаменитейшие семьи королевства.
Все вышеназванные написали томы разных мерзостей о том, кто снисходит здесь до упоминания о них. Есть люди, которые с удовольствием смотрят, как негодяи чернят и оскорбляют всех, прославившихся в искусстве. Эти люди говорят им: «Не обращайте внимания; пусть кричат эти мерзавцы, чтобы нам насладиться зрелищем, как всякая сволочь кидает в вас грязью». Мы думаем иначе: мы полагаем, что сволочь следует наказывать, когда она дерзка и гнусна, а в особенности, когда она надоедает. Эти слишком правдивые анекдоты приведены во множестве произведений; пусть же будут они там, подобно приговорам преступникам, кои вывешены на углах всех улиц: «Oportet cognosci malos»{430}. — (Автор).
(обратно)430
Нужно, чтобы злодеи были известны (лат.).
(обратно)431
15 Гарпии Келено, Окипета и Аэлло — дочери Нептуна и Земли — пожирали все кушанья, подававшиеся к столу фракийского царя Финея, и оскверняли весь дом. Зет и Калаис, сыновья Борея, прогнали гарпий на Строфадские острова, близ Греции. С Энеем гарпии поступили, как с Финеем; но Вергилий делает из них пророчиц; забавно, что такие создания могли быть боговдохновенными!
Virginei volucrum vultus, foedissima ventris Proluvies, uncaeque manus, et pallida semper Ora fame{432}.Они укоряют Энея за то, что тот хочет вступить с ними в сражение из-за нескольких кусков говядины, и предсказывают ему, что в наказание он будет принужден однажды съесть в Италии тарелки. Поклонники древних говорят, что этот вымысел прекрасен. — (Автор).
(обратно)432
Птицы с девичьим лицом{433}; крючковатые пальцы на лапах; Все оскверняют они изверженьями мерзкими чрева (лат.). (обратно)433
Птицы с девичьим лицом… — Цитата из «Энеиды» (III, 216–218, перев. С. Ошерова).
(обратно)434
Стр. 217. В бой с Менелаем Гектор шел открыто… — В третьей песни «Илиады» с Менелаем сражается Парис, похититель Елены, а не Гектор, брат Париса.
(обратно)435
К песни девятнадцатой
1 Вы знаете, мой дорогой читатель, что Гектор и Менелай сражались, а Елена спокойно взирала на это. Доротея гораздо достойнее; и вообще наш народ гораздо достойнее греков. Наши женщины легкомысленны, но, в сущности, они несравненно нежнее, что я и доказываю в моем «Христианском философе»{436}, том XII, стр. 169. — (Автор
(обратно)436
…в моем «Христианском философе»… — Произведения под таким названием у Вольтера нет. Здесь, видимо, ирония над учеными, ссылающимися на свои никем не читаемые сочинения.
(обратно)437
2 Я думаю, что автор разумеет под словами «хладный, бесчувственный, суровый» жестокосердие, выказанное Атласом, когда он отказал в гостеприимстве Персею. Он оставил его спать снаружи, и, как известно всякому, Юпитер наказал его за это, обратив в гору. — (Автор).
(обратно)438
3 Беллини{439} этот действительно был современником описываемых событий; это он написал впоследствии портрет Магомета II. — (Автор).
(обратно)439
Беллини Джентилле (1421–1501) — венецианский живописец.
(обратно)440
4 Вы знаете, что Бруно{441} положил основание ордену картезианцев, после того как увидел магдебургского каноника, произносившего речи после смерти. — (Автор).
(обратно)441
Бруно — то есть Джордано Бруно (1550–1600).
(обратно)442
5 Я подозреваю, что наш серьезный автор здесь слегка иронизирует. — (Автор).
(обратно)443
Стр. 224. Он в небесах был для Пандоры взят… — Пандора — первая женщина, созданная Гефестом (Вулканом), по велению Зевса, в наказание людям за похищенный Прометеем огонь (греч. миф.).
(обратно)444
К песни двадцатой
1 Педант Ларше{445}, смешной мазаринианец, педант, уверяющий в одном критическом сочинении, вслед за Геродотом, что в Вавилоне все дамы из благочестия проституировались в храме и что все молодые галлы были содомиты. — (Автор).
(обратно)445
Ларше (Пьер-Анри, 1726–1812) — ученый, занимавшийся вопросами греческой литературы. Написал «Дополнение к философии истории», где исправил ошибки, допущенные Вольтером в его «Философии истории». Это вызвало распри между обоими авторами.
(обратно)446
2 Вот как следует говорить о диаволе и обо всех диаволах, сменивших фурий, и обо всех нелепостях, сменивших нелепости древних. Достаточно известно, что Сатана, Вельзевул, Астарот точно так же не существуют, как Тизифона, Аллекто и Мегера. Мрачный и фанатичный Мильтон из секты индепендентов, гнусный составитель бумаг на латинском языке и секретарь парламента, называемого «Охвостьем{447}», и гнусный апологет убийства Карла I, может сколько ему угодно прославлять ад, изображать диавола в образе баклана и жабы и собирать всех диаволов, в виде карликов, в большом зале: эти омерзительные, ужасные, нелепые вымыслы могли нравиться лишь подобным ему фанатикам. Мы заявляем, что нам противны эти отвратительные шутки. Мы хотим только забавляться. — (Автор).
(обратно)447
Охвостье. — Так называли английский парламент после удаления из него, по требованию индепендентов, в 1648 г. пресвитерианцев — сторонников конституционной монархии и единства церкви.
(обратно)448
3 Бернар, автор оперы «Кастор и Поллукса и нескольких мелких пиес, написал, подобно Овидию, «Науку любви», но это произведение еще не напечатано. — (Автор).
(обратно)449
Стр. 226. Овидий и Бернар стяжали славу… — Бернар Пьер-Жозеф (1710–1775) — французский поэт. Его «Наука любви» (названная так по аналогии с поэмой Овидия) была напечатана в 1775 г. Вольтер, характеризуя его творчество, называл его «Бернар-любезник».
(обратно)450
4 Это осел Силена, достаточно всем известный; по преданию, он служил трубачом. — (Автор).
(обратно)451
Стр. 227. Силен и я — известней остальных. — Силен (греч. миф.) — фракийский царь, воспитавший бога Вакха и научивший его виноделию; обладал даром пророчества, почему среди его атрибутов имелся атрибут осла, который считался символом пророческого дара.
(обратно)452
5 Осел Апулея не говорил; он только и умел произносить «о» да «нет»; но у него было любовное приключение с одной дамой, как видно из сочинения Апулея в двух томах in 4° «cum notis, ad usum Delphini»{453}. Впрочем, во все времена животным приписывали те же чувства, что и людям. В «Илиаде» и «Одиссее» кони плачут, у Бидпая, Локмана, Эзопа{454} звери говорят и так далее. — (Автор).
(обратно)453
С пометкой: для дофина (лат.).
(обратно)454
…у Бидпая, Локмана, Эзопа… — Бидпай — автор сборника древних индийских рассказов и басен; Локман — легендарный арабский мудрец, которому приписывается много изречений, басен, стихов и пословиц; Эзоп (VI в. до н. э.) — полулегендарный греческий баснописец.
(обратно)455
6 Еретикам следует знать, что, когда диавол попросил милостыни у Мартина, тот дал ему половину своего плаща. — (Автор).
(обратно)456
7 Святой Рох, исцеляющий от чумы, изображается всегда с собакой, а святой Антоний всегда сопутствуем свиньей. — (Автор).
(обратно)457
К песни двадцать первой
1 Автор «Завещания кардинала Альберони» и нескольких других книг в этом же роде решился издать «Девственницу»{458} со стихами в своем вкусе, приведенными в нашем предисловии. Этот низменный человек, капуцин-расстрига, бежал в Лозанну, а затем в Голландию, где стал типографским корректором. — (Автор).
(обратно)458
…решился издать «Девственницу»… — Вольтер имеет в виду Мобера де Гуве (см. коммент. к предисловию, стр. 30). «Завещание кардинала Альберони» написано не Мобером, а другим автором, Мобер же только внес в него некоторые поправки и опубликовал.
Д. Михальчи
(обратно)459
2 Нет сомнения, что имя г-жи Оду стоит здесь вместо имени всем известной придворной дамы, действительно питавшей слабость к комедианту Барону. — (Автор).
(обратно)460
Стр. 235. …госпожа Оду глядела на бессмертного Барона… — Госпожа Оду, видимо, Шарлотта-Роза де ла Форс (1650–1724), видная аристократка, прославившаяся своими любовными похождениями. Барон Мишель (1653–1729) — выдающийся актер, был другом Мольера и играл в его труппе. Связь Барона с г-жой де ла Форс в свое время наделала много шума.
(обратно)461
3 В Сито, как и в Клерво, имеется огромная бочка, подобная Гейдельбергской: это драгоценная реликвия монастыря. — (Автор).
(обратно)462
Стр. 237. Вино священных погребов Сито. — В Сито и Клерво находились монастыри ордена бенедиктинцев; монахи этого ордена занимались виноделием.
(обратно)463
…британцы… от них очистили свою страну. — В 1534 г. английский король Генрих VIII объявил себя главой церкви, независимой от папского Рима, а через два года распустил монастыри.
(обратно)464
4 Афродита — греческое имя Венеры; оно означает просто «Пена». Но как звучны греческие имена! Какая прекрасная аллегория эта «пена»! Почитайте Гесиода и вы убедитесь, что нередко древние сказки — эмблемы истины. — (Автор).
(обратно)465
МАГОМЕТ
(Le Fanatisme, ou Mahomet le Prophète)
Полное название этой трагедии Вольтера «Фанатизм, или Пророк Магомет». В основу ее сюжета легли события из жизни арабских племен Аравии, связанные с распространением ислама и деятельностью религиозного реформатора Магомета (Мухаммеда; ок. 570–632 гг.). По не вполне достоверным сведениям, Магомет родился в бедной семье, рано осиротел, подростком пас коз и овец, юношей поступил на службу к богатой купчихе, ставшей затем первой из его четырнадцати жен. В 610 году он восстал против идолопоклонства и начал активную проповедь новой монотеистической религии. Первоначально его деятельность протекала в Мекке и соседнем с ней городке Таифе. Однако здесь он не смог набрать многих сторонников и осенью 622 года ушел на север, в Медину, где у Магомета, вероятно, имелись родственники и где скопилось немало беженцев из Мекки, изгнанных оттуда из-за их религиозных убеждений. В Медине число приверженцев Магомета быстро росло; вскоре он стал во главе городской общины, распространяя свое влияние на окрестные племена, а в случае сопротивления жестоко расправляясь с ними и даже иногда истребляя поголовно. Собрав своих единомышленников, Магомет пошел войной на Мекку. Сначала борьба Мекки с Мединой шла с переменным успехом, но к концу 20-х годов мекканцы стали терпеть одну неудачу за другой, и в 630 году Магомету удалось утвердиться в Мекке и обратить ее жителей в ислам. Таким образом, действие пьесы Вольтера развертывается около 630 года.
В работе над трагедией Вольтер использовал довольно большое число различных материалов, прежде всего английский перевод Корана, сделанный с арабского подлинника Джорджем Селем (1734), книги графа Буленвилье «Жизнеописание Магомета» (1730), Жана Ганье «Жизнь Магомета» (1732) и др. Однако задача его состояла не в том, чтобы воскресить подлинные исторические события; «восточный» колорит пьесы носит условный характер и служит лишь обрамлением для просветительских идей. Имена персонажей также условно восточные: имя Сеид образовано из арабского слова «господин»; Пальмира — от греческого названия города, расположенного в Сирии, персидское имя Зопир Вольтер скорее всего нашел у Геродота; имен Фанор и Эрсид у арабов нет.
К концу 1739 года трагедия была в основном закончена, но Вольтер продолжал работать над текстом, о чем постоянно сообщал в письмах друзьям. Он подчеркивал новизну сюжета пьесы и его драматургического решения: «Я изображаю Магомета фанатика, насильника, обманщика, позор рода людского, человека, который из торговца становится пророком, законодателем и монархом… «Магомет» — это изображение опасности фанатизма, и это ново. Счастлив тот, кто находит новые залежи в столь много раз изрытой и перерытой театральной копи» (письмо к Сидевилю 5 мая 1740 г.). Вольтер подробно комментировал текст пьесы, придавая большое значение каждой фразе, каждому сюжетному ходу.
Работа продолжалась в течение всего 1740 года; в декабре Вольтер послал готовую рукопись королю Фридриху II Прусскому с большим объяснительным письмом (см. приложение к наст. тому, стр. 641), а в феврале 1741 года сообщал своему другу Пон де Вейлю: «Пророк» совсем готов и ждет вашего суда и окончательного приговора. Надеюсь на любезное указание, по какому пути надлежит ему следовать к вашему трибуналу. Нет ничего важнее, как появиться на свет вовремя. Как ни слаба моя пьеса, уж конечно, она лучше Алкорана».
«Магомет» был впервые поставлен в апреле 1741 года в Лилле, где главную роль сыграл друг Вольтера талантливый актер Жан-Батист Лану (1701–1760). Спектакль прошел с большим успехом, но Вольтер, прослушав «Магомета» со сцены, обнаружил в нем ряд недочетов, которые принялся исправлять. 19 января 1742 года он сообщал д’Аржанталю: «Занимаюсь я время от времени только небольшими переделками своего «Магомета». Я сделал с ним, что мог. На мой взгляд, он стал интереснее, чем тот, что вызвал слезы у обитателей Лилля».
Премьера в Париже состоялась 9 августа 1742 года на сцене Французской Комедии. Несмотря на превосходную игру актеров Гранвиля (Магомет), Лану (Сеид), Госсен (Пальмира), после третьего представления пьеса была снята по распоряжению парижского парламента и генерального прокурора Жоли де Флери, усмотревших в ней «нагромождение бесстыдства, безобразий, безбожия и нечестия». Таким образом, общий антиклерикальный характер «Магомета» не укрылся от бдительных цензоров.
После парижской премьеры появилось пиратское издание пьесы, якобы напечатанное в Голландии. Вольтер подозревал, что известный парижский печатник Про приобрел рукопись «Магомета» и выпустил без разрешения автора; он писал к Флери и к начальнику полиции Фейдо де Марвилю с просьбой учинить следствие по этому делу и решил издать свою трагедию сам. 10 ноября 1742 года Вольтер писал д’Аржанталю: «Магомета» необходимо было отдать в печать ввиду появления тех злосчастных изданий, какие были выпущены в Париже и какие собирались выпустить еще и в Лондоне и в Голландии. Мне пришлось послать в оба эти места правильный текст, который я дополнительно исправил, сколько было в моих силах. Посвятительного послания прусскому королю там нет. Но будет напечатано письмо к нему, написанное мною два года тому назад, когда я отправлял ему рукописный экземпляр своей пиесы. Надеюсь, что не доставлю вам этим письмом неудовольствия. Вы увидите, что в нем предвосхищены и опровергнуты нападки, которые могли бы исходить от фанатиков, так что мне не придется и отвечать на них. Я там даю понять одно: что всегда было много Сеидов, под разными именами, и что моя пиеса, в сущности, — это только обличительное слово против тех зловещих идей, которые вкладывали нож в руки разных Польтро, Равальяков и Шателей. К тому же, хотя я в письме и обращаюсь к королю, оно имеет характер чисто философский и ни в малейшей мере не запятнано лестью».
Авторское издание «Магомета» было осуществлено в 1743 году и открывалось упомянутым письмом к Фридриху II. В последующих изданиях вместо него помещалось обращение Вольтера к папе Бенедикту XIV и ответ папы.
В 1751 году, благодаря хлопотам Даламбера, назначенного цензором, «Магомет» был вновь допущен на сцену. Но еще до этого, в 1750 году трагедия шла в домашнем театре писателя, где главную роль талантливо исполнял ученик Вольтера А. Лекен. 30 сентября 1751 года «Магомет» был показан на большой сцене, причем Лекен играл роль Сеида.
«Магомет» с успехом шел всю вторую половину XVIII века и в начале XIX столетия, но в 1823 году был снова запрещен реакционным правительством Людовика XVIII.
В 1800 году Гете перевел эту пьесу Вольтера и поставил на сцене Веймарского театра.
В России драматургия Вольтера, и в частности «Магомет», стала известна при жизни писателя. Страстным поклонником Вольтера-драматурга был Сумароков, писавший в авторских примечаниях к «Епистоле о стихотворстве» (1748): «Вольтер, великий стихотворец и преславный французский трагик… Трагедии его важностью, сладостью, остротой и великолепием наполнены. Склад его летуч, слова избраны, изъяснении проницательны, а все то купно показывает в нем великого стихотворца». «Магомет» шел на русской сцене уже с 50-х годов XVIII века (сначала на французском языке — в исполнении кадетов петербургского Сухопутного шляхетского корпуса и в 1765 году — актеров французской придворной труппы). В середине 70-х годов трагедия была переведена на русский язык графом П. С. Потемкиным и шла с большим успехом на московской и петербургской сценах. Знаменитый русский актер И. А. Дмитревский исполнял роль Сеида, а в более поздние годы — роль Зопира. Русская цензура не обратила внимания на тираноборческий и антиклерикальный смысл трагедии Вольтера; в ней видели лишь резкую критику мусульманства, что было актуально в пору русско-турецких войн. Перевод Потемкина был издан в 1798 году, уже после смерти переводчика; многие погрешности этого издания были устранены при перепечатке, осуществленной под наблюдением младшего сына переводчика в 1810 году. В 1828 году появился новый, более совершенный перевод «Магомета», сделанный Η. Ф. Остолоповым. В первой половине XIX века трагедия Вольтера часто ставилась на русской провинциальной сцене, особенно в тех городах, где было распространено мусульманство (например, в Казани).
В советское время «Магомет» издавался дважды: в 1947 году в переводе С. Боброва, в 1957 году в переводе В. Луговского и А. Голембы.
(обратно)466
Стр. 272. Шейх — глава мусульманской религиозной общины, первоначально — глава арабского племени.
(обратно)467
Омар — историческое лицо: троюродный дядя Магомета, сначала противник, затем ярый поборник новой религии.
(обратно)468
Стр. 278. Измаил — по библейским преданиям, сын Авраама и его служанки Агари, изгнанный отцом вместе с матерью из дома; поселившись в Аравийской пустыне, он будто бы положил начало двенадцати арабским племенам.
(обратно)469
Стр. 280. Фатима — любимая дочь Магомета от его первой жены Хадиджы.
(обратно)470
Стр. 300. Ибрагим — арабская транскрипция имени библейского патриарха Авраама, прямым потомком которого у мусульман считается Магомет. По библейским легендам, Авраам не жил в Мекке; он родился в Халдее и умер в земле Ханаанской.
(обратно)471
Стр. 317. Осман — Имеется в виду Осман ибн-Аффан, военачальник Магомета и его верный последователь; он был третьим по счету мусульманским халифом (644–656).
(обратно)472
ЗАДИГ, ИЛИ СУДЬБА
(Zadig, ou la Destineé)
«Задиг», первая философская повесть Вольтера, была написана в весенние месяцы 1747 года. Условно-ориентальный колорит книги вполне отвечал вкусам эпохи. Многие мотивы и сюжетные положения «Задига» обнаруживают прекрасное для своего времени знакомство Воль тера с восточным фольклором, мифологией, литературой.
Книга появилась анонимно летом 1747 года; она была напечатана в Амстердаме (с обычным неверным указанием, в данном случае на Лондон) и называлась тогда «Мемнон. Восточная повесть».. В сентябре 1748 года вышло из печати новое издание повести, которая теперь получила свое окончательное название «Задиг, или Судьба. Восточная повесть». Для этого издания Вольтер просмотрел текст, сделал ряд замен, исправил опечатки и добавил три новых главы («Ужин», «Свидания», «Рыбак»).
В письмах друзьям Вольтер шутливо отрицал свое авторство. Так, 10 октября 1748 года он писал Фериолю д’Аржанталю: «Мне было бы очень неприятно прослыть автором «Задига», книги, которую совершенно уничтожили самыми гнусными толкованиями и в которой осмелились отыскать дерзкие мысли, направленные против нашей святой религии. Ну и дела! Мадемуазель Кино, Кино из Комедии, всем твердит, что автором являюсь я. В этом она не видит ничего дурного и не думает, что может мне повредить, но ее словами пользуются мошенники, узревшие в книге уйму зла. Не смогли бы вы пошире раскинуть ваши крылья ангела-хранителя и, коснувшись ими язычка мадемуазель Кино, внушить ей, что слухи могут очень мне повредить?»
Впрочем, вскоре Вольтер признал свое авторство и стал заботиться о новых изданиях «Задига». Наиболее значительным стало издание 1756 года, в составе Собрания сочинений Вольтера, выпускавшегося его женевскими издателями Крамерами. Писатель заново просмотрел текст, сделал ряд существенных исправлений и замен, главу «Суды» разделил на две — «Министр» и «Диспуты и аудиенции».
Менее существенная правка была произведена в издании 1775 года; Вольтер лишь кое-где слегка изменил текст и снял следующую шутливую «Апробацию», присутствовавшую во всех изданиях начиная с 1748 года:
«Я, нижеподписавшийся, прослывший за человека ученого и даже умного, читал эту рукопись и против собственной воли нашел ее любопытной, занимательной, нравственной, глубоко философской и достойной внимания даже тех, кто ненавидит романы. На этом основании я обесславил сие сочинение и уверил господина кади-эль-аскера в том, что оно отвратительно».
В первом посмертном издании Собрания сочинений Вольтера (так называемое «кельское» издание, выпущенное фирмой Панкук) были восстановлены все эпизоды и пассажи, которые автор снял в том или ином прижизненном издании. Это нарушение авторской воли было продиктовано желанием дать читателю как можно больше подлинных вольтеровских текстов. Именно поэтому в издание вошли и две новые главы «Задига» («Танец» и «Голубые глаза»), обнаруженные в бумагах Вольтера. Написанные, по-видимому, до 1756 года, эти главы не были подготовлены автором к печати, не были согласованы с текстом повести; может быть, Вольтер и не собирался их публиковать. Для того чтобы увязать эти два новых эпизода с основным текстом повести, издателям из Келя пришлось отбросить конец главы «Свидания», оговорив это в подстрочном примечании. В новейших критических изданиях «Задига» печатается текст последнего прижизненного издания, а главы «Танец» и «Голубые глаза» помещаются в приложениях. Столь кропотливая работа Вольтера над текстом повести при ее переизданиях объясняется, кроме всего прочего, и их обилием: «Задиг» был одним из самых популярных произведений писателя.
Друзьями Вольтера «Задиг» был встречен с энтузиазмом. Но публикация повести вызвала резкое охлаждение во взаимоотношениях Вольтера с двором Людовика XV: если в 1745 году писатель был назначен королевским историографом, а в 1746 году избран во Французскую Академию, то в 1750 году он вынужден был, и почти навсегда, покинуть Париж.
В России «Задиг» при жизни Вольтера издавался несколько раз. В 1759 году анонимный перевод повести появился в журнале «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие». Этот перевод, довольно посредственный с профессиональной точки зрения, изобиловал купюрами, сделанными по политическим соображениям или по соображениям «морали». В августе 1763 года новый перевод «Задига» (И. Л. Голенищева-Кутузова) был напечатан в журнале «Ежемесячные сочинения»; в 1765, 1788 и 1795 годах этот перевод был переиздан отдельной книгой. Сохранилось два анонимных рукописных перевода повести (оба относятся к середипе XVIII в.), а также ряд списков с издания перевода Голенищева-Кутузова, что говорит об исключительном интересе в России к этой повести Вольтера. Перевод H. Н. Дмитриева, использованный в настоящем издании, вышел в 1870 году.
(обратно)473
Стр. 325. Саади (1184–1291) — великий персидский поэт, был широко популярен в Европе во времена Вольтера (первый французский перевод Саади появился в 1634 г.). Но события повести происходят на два века позже эпохи Саади.
Султанша Шераа. — Современники Вольтера полагали, что писатель имел в виду г-жу де Помпадур.
(обратно)474
Шеваль (правильнее — Шеввал) — десятый месяц мусульманского календаря.
(обратно)475
Хиджра — год переселения, или бегства, Магомета из Мекки в Медину (622 г.), ставший первым годом нового мусульманского летоисчисления. В переводе на европейский календарь 837 г. хиджры приблизительно соответствует 1435 г.
(обратно)476
Стр. 326. Улуг-бек Мухаммед Тарагай (1394–1449) — узбекский математик и астроном; внук Тимура. С 1409 г. был правителем Самарканда, где вел большое строительство, с 1447 г. — глава династии Тимуридов.
(обратно)477
«Тысяча и один день» — сборник персидских сказок, изданных в переводе на французский язык в 1710–1712 гг. Франсуа Пети де Ла Круа, и столь же популярный во Франции, как и голлановский перевод арабских сказок «Тысяча и одной ночи» (1407–1417).
(обратно)478
Фалестрида — по преданию, царица амазонок, пожелавшая иметь сына от Александра Македонского (арабы называли его Искандер или Скандер) и посетившая великого полководца во время одного из его походов в Азию.
(обратно)479
Царица Савская — легендарная правительница арабского племени, населявшего территорию современного Йемена. Упоминается во многих древних источниках, в том числе в Ветхом завете.
(обратно)480
Стр. 327. Из первой книги Зороастра… — Зороастру (Заратуштре), легендарному основателю древнеперсидской религии, приписывается серия книг («Авеста»), первая из которых, «Вендидад», представляет собой свод религиозных предписаний. «Авеста» впервые была переведена на французский язык только в 1771 г., Вольтер в пору работы над «Задигом» знал эти книги лишь в сокращенных изложениях, поэтому все его ссылки на Зороастра — мнимые.
(обратно)481
Халдеи — семитическое племя, обитавшее со второго тысячелетия до н. э. на берегах Персидского залива и не раз воевавшее с Ассирией и Вавилоном.
(обратно)482
Стр. 328. Оркан. — Под этой прозрачной анаграммой, вероятно, скрывается намек на шевалье де Рогана, аристократа, преследовавшего Вольтера: в 1726 г. в Париже слуги де Рогана по приказу хозяина напали на Вольтера и избили его палками.
(обратно)483
Имаус — древнее название Гималайских гор.
(обратно)484
Стр. 329. Мемфис — древняя столица Египта; расположен весьма далеко от Вавилона.
(обратно)485
Гермес Трисмегист (то есть «Трижды великий») — легендарный египетский мудрец и ученый.
(обратно)486
Нос. — Эта глава навеяна римским романом I в. «Сатирикон», приписываемым Петронию (эпизод «Матрона из Эфеса»); но Вольтер нашел сходные мотивы и в одной китайской сказке, опубликованной Жаном-Батистом Дюальдом в его книге «Описание Китая» (1735), которая имелась в библиотеке Вольтера. Сохранилась позднейшая заметка Вольтера: «Историю матроны из Эфеса можно найти в одной старинной китайской книге. Мудрейший У-ван встречает на берегу моря плачущую женщину. Она распростерлась на могиле мужа и помахивает большим веером. «Зачем это, сударыня,?» — «Увы! Мой дорогой муж предсказал мне, что я вновь выйду замуж лишь тогда, когда его могила высохнет, вот я и машу, чтобы земля поскорее подсохла». У-ван рассказал об этой встрече своей жене, которая вздрогнула от ужаса и поклялась, что никогда в подобном положении не воспользуется веером. У-ван прикинулся больным и сделал вид, что умер. Его положили в гробницу. Очень скоро появляется молодой человек, приехавший поучиться у мудреца. Он очень хорош собой, нравится мнимой вдове, и вскоре они женятся. Юноша заболевает, и старый слуга сообщает даме, что только мозг мертвеца может его излечить. И добрая женщина соглашается расколоть череп своего мужа У-вана…»
(обратно)487
Стр. 331. Арну — популярный во времена Вольтера французский аптекарь, широко пропагандировавший средство от апоплексии.
(обратно)488
…по мосту Чинавар… — В представлении древних мусульман таков был путь в загробный мир.
(обратно)489
Книга Зенд — перевод-комментарий на среднеперсидский язык книг «Авесты» («Зендавеста»).
(обратно)490
Стр. 332. …сколько дюймов воды проходит в одну секунду под арками моста… — намек на псевдонаучные изыскания французского ученого Пито, напечатавшего на подобную тему доклад в 1732 г.
(обратно)491
…чем в месяц Овна. — Вольтер намекает на метереологические открытия известного в свое время французского ученого Филиппа Лаира.
(обратно)492
…изготовлять шелк из паутины… — намек на работу Б. де Сент-Илера «Рассуждение о пауке» (1710).
(обратно)493
…фарфор из разбитых бутылок… — В данном случае Вольтер насмехается над ученым Рене-Антуаном де Реомюром (1683–1757), неоднократно представлявшим Академии Наук проект производства фарфора из стекла. Эти издевки, помимо принципиальных, имели и личные мотивы: Реомюр отказался поддержать кандидатуру Вольтера в Академию Наук.
(обратно)494
Однажды, когда Задиг прогуливался… — В этом эпизоде Вольтер использует сюжет арабской сказки, включенной в перевод романа итальянского писателя Армено Кристофоро «Путешествия и приключения трех принцев» (1548). Критик Фрерон не преминул обвинить Вольтера в «плагиате».
(обратно)495
Дестерхам, или дефтердар — титул главного казначея в Персии и Турции.
(обратно)496
Стр. 333. Оромазд — божество добра в древнеперсидской религии.
(обратно)497
Стр. 334. …о законе… запрещавшем есть грифов… — насмешка над Библией: об этом говорится в Пятой Книге Ветхого завета («Второзаконие», XIV, 12–13).
(обратно)498
Стр. 335. Теург — буквально, «богосоздатель» (греч.).
(обратно)499
Иебор. — Под этой анаграммой скрыт намек на Жана-Франсуа Буайе (1675–1755), епископа Морепу, заклятого врага Вольтера.
(обратно)500
…что кролики не принадлежат к нечистым животным… — опять насмешка над Библией, где запрещается употреблять в пищу кроликов («Второзаконие», XIV, 7).
(обратно)501
…ибо хотел не казаться, а быть… — Здесь — литературная реминисценция: в сатирическом романе (в форме диалогов) «Приключения барона де Фенеста» Агриппы д’Обинье (1552–1630) выведены два основных персонажа — сельский дворянин Эне (от греч. глагола «быть»), носитель подлинной мудрости, и подвизающийся при дворе Фенест (от греч. глагола «казаться»), олицетворяющий все показное и ложное.
(обратно)502
…мстил ему клеветою. — Мысль, перекликающаяся с изречением французского писателя-моралиста Мишеля Монтеня (1533–1592): «Не имея возможности достичь высокого положения, давайте очерним его» («Опыты», кн. III, гл. 7).
(обратно)503
Стр. 336. …князем Гирканским. — Гиркания — область в древней Персии, расположенная южнее Каспийского моря.
(обратно)504
Стр. 337. …а от монархов, любящих стихи, можно многого ждать… — Быть может, намек на Фридриха II, как раз в это время завязывавшего отношения с Вольтером.
(обратно)505
Стр. 340. Министр. — В изданиях 1747 и 1748 гг. эта глава и следующая («Диспуты и аудиенции») составляли одну, называвшуюся «Суды».
(обратно)506
Стр. 341. …чем ваш брат. — В издании 1747 г. следом за этой фразой шел отрывок, затем снятый Вольтером:
«Спустя некоторое время к нему привели человека, относительно которого было неопровержимо доказано, что шесть лет назад он совершил убийство. Два свидетеля утверждали, что видели это своими глазами; они называли место, день и час; на допросах они твердо стояли на своем. Обвиняемый был заклятым врагом убитого. Многие видели его с оружием в руках как раз на той дороге, где было совершено убийство. Никогда еще улики не были более вескими, и тем не менее человек этот отстаивал свою невиновность с таким видом собственной правоты, что это могло уравновесить все улики даже в глазах умудренного опытом судьи. Он вызывал жалость, но не мог избежать наказания. На судей он не жаловался, он лишь корил судьбу и был готов к смерти. Мемнон сжалился над ним и решил узнать правду. К нему привели обоих доносчиков, одного за другим. Первому он сказал:
— Я знаю, друг мой, что вы добрый человек и безупречный свидетель. Вы оказали большую услугу родине, указав на убийцу, совершившего свое преступление шесть лет назад, зимой, в дни солнцестояния, в семь часов вечера, когда лучи солнца освещали все вокруг.
— Господин мой, — ответил ему доносчик, — я не знаю, что такое солнцестояние, но это был третий день недели и действительно солнце так и сияло.
— Идите с миром, — сказал ему Мемнон, — и будьте всегда добрым человеком.
Затем он приказал явиться второму свидетелю и сказал ему:
— Да сопутствует вам добродетель во всех ваших делах. Вы прославили истину и заслуживаете вознаграждения за то, что уличили одного из своих сограждан в злодейском убийстве, совершенном шесть лет назад при священном свете полной луны, когда она была на той же широте и долготе, что и солнце.
— Господин мой, — ответил доносчик, — я не разбираюсь ни в широте, ни в долготе, но в то время действительно светила полная луна.
Тогда Мемнон велел снова привести первого свидетеля и сказал им обоим:
— Вы два нечестивца, оклеветавшие невинного. Один из вас утверждает, что убийство было совершено в семь часов, до того, как солнце скрылось за горизонт. Но в тот день оно зашло ранее шести часов. Другой настаивает, что смертельный удар был нанесен при свете полной луны, но в тот день луна и не показывалась. Оба вы будете повешены за то, что были лжесвидетелями и плохими астрономами.
Каждый день Мемнон выносил подобные решения, свидетельствующие о тонкости его ума и доброте сердца. Народ обожал его, царь осыпал милостями. Невзгоды молодости увеличивали цену теперешнего его благополучия. Но каждую ночь ему виделся сон, приводивший его в уныние. Сперва ему приснилось…» (И далее — как в последнем абзаце главы «Диспуты и аудиенции».)
(обратно)507
Одна очень богатая девица… — Этот эпизод (до конца главы) появился в издании 1748 г.
(обратно)508
Акциденция — термин средневековой схоластики, обозначающий преходящее, изменчивое, в противоположность субстанции — неизменной сущности вещей.
(обратно)509
…монады и предустановленная гармония… — насмешка над теориями немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716). Эти строки внесены были в текст повести после 1752 г., когда Вольтер пересмотрел свое отношение к взглядам Лейбница.
(обратно)510
…ты женишься на его матери. — Далее в издании 1748 г. следовал большой эпизод, снятый автором в 1756 г. (восстановлен в кельском издании):
«Ко двору беспрестанно приходили жалобы на наместника Мидии по имени Иракс. У этого вельможи было, в сущности, не злое сердце, но он был испорчен тщеславием и сластолюбием, не прислушивался к замечаниям и не терпел противоречий. Тщеславный, как павлин, сладострастный, как голубь, и ленивый, как черепаха, он жил одной мнимой славой и мнимыми удовольствиями. Задиг решил исправить его.
От имени царя он прислал к нему капельмейстера с двенадцатью певцами и двадцатью четырьмя скрипачами, дворецкого с шестью поварами и четырех камергеров, которые должны были постоянно находиться при нем. По царскому указу было предписано строго соблюдать следующий этикет: в первый же день, как только сладострастный Иракс проснулся, капельмейстер вошел в сопровождении певцов и скрипачей; битых два часа они пели кантату, через каждые три минуты повторяя следующий припев:
Он даровит необычайно — Такого никому не снилось. Ах, вы должны быть чрезвычайно Собой довольны, ваша милость!После исполнения кантаты камергер в течение трех четвертей часа говорил приветственную речь, в которой восхвалял Иракса за все добродетели, которых тот не имел. По окончании речи его повели к столу при звуках музыки.
Обед продолжался три часа. Как только Ираке открывал рот, собираясь что-то сказать, первый камергер восклицал: «Он будет прав!» Едва он произносил слово, как второй камергер кричал: «Он прав!» Двое других разражались громким смехом, когда Ираке острил или только еще собирался сострить.
После обеда еще раз пропели кантату.
В первый день Иракс был вне себя от радости: он думал, что царь царей чествует его по достоинствам; второй день был ему уже не так приятен, на третий все это стало для него тягостным, на четвертый — невыносимым, а на пятый — настоящей пыткой; наконец, его так измучило постоянное:
Ах, вы должны быть чрезвычайно Собой довольны, ваша милость! —и так надоело постоянно слышать, что он прав, и каждый день в один и тот же час внимать приветствиям, что он написал царю, умоляя снизойти и отозвать камергеров, скрипачей и дворецкого. Иракс обещал впредь быть менее тщеславным и более усердным. И в самом деле, он перестал гоняться за лестью, реже устраивал празднества и почувствовал себя куда более счастливым, ибо, как сказано в «Саддере»{511}, «Всегда наслаждаться — значит вовсе не наслаждаться».
(обратно)511
«Саддер» — изложение содержания «Авесты».
(обратно)512
Стр. 342. Митра — в древнеперсидской мифологии — бог священного огня и солнца.
(обратно)513
…он не заставил пуститься в пляс горы и холмы. — Здесь и далее Вольтер пародирует стиль Ветхого завета. Ср.: «Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы» («Псалмы», CXIII, 4).
(обратно)514
…море не отступает от берегов… — Ср.: «Море увидело и побежало» («Псалмы», СXIII, 3).
(обратно)515
…звезды не падают… — Ср.: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!» («Исайя», XIV, 12).
(обратно)516
…солнце не тает, как воск. — Ср.: «Горы с водами подвигнутся с оснований, и камни, как воск, растают от лица твоего» («Юдифь», XVI, 15).
(обратно)517
…такие пиесы давно уже вышли из моды… — намек на так называемую «слезную комедию», зачинателем которой был французский драматург Нивель де Лашоссе (1692–1754). Вольтер был противником смешения театральных жанров, полагая, что комедия, должна смешить, а трагедия — внушать ужас.
(обратно)518
Стр. 343. Зендавеста — Здесь Вольтер принял название книги («Зенд-Авеста») за имя божества.
(обратно)519
Стр. 351. Пустыня Хорив — северная часть Аравийской пустыни, около современного египетского города Рас-Гариб.
(обратно)520
Стр. 353. Земля гангаридов — то есть народов, живущих за Гангом.
(обратно)521
Стр. 355. …благодетелем Аравии. — Вместо этой фразы и следующих двух глав в издании 1747 г. было: «Но так как судьба Мемнона обращала во зло все его добрые дела, жрецы звезд ополчились против него. Драгоценные камни и украшения тех дам, коих они отправляли на костер, принадлежали им по праву; теперь же они теряли самую дорогую награду. Они считали, что надо по меньшей мере сжечь Мемнона за сыгранную с ними шутку; они повернули дело так, будто он издевался над звездами, и он был бы сожжен без всякой пощады вместо спасенной им дамы, если бы Сеток, его хозяин, по доброте своей не помог ему бежать. Он позволил ему скрыться вместе со старым слугой, его товарищем по рабству, да еще дал ему денег на пропитание. Они расстались в слезах, поклявшись друг другу в вечной дружбе и обменявшись обещанием, что тот из них, кто первым разбогатеет, отдаст половину своего состояния другому. Мемнон направился в сторону Сирии…» (Далее — как в последнем абзаце главы «Свидание».)
(обратно)522
Бассора — очевидно, современный город Басра, расположенный на Тигре при его впадении в Персидский залив.
(обратно)523
Катай. — Так в Европе (в том числе в рыцарских романах) назывался Восточный Китай.
(обратно)524
Стр. 356. …мы, конечно, древнее вас. — Вольтер считал индийцев древнейшим народом земли.
(обратно)525
Брама — высший бог у индийцев, творец и блюститель общего порядка.
(обратно)526
Апис — священный бык у древних египтян.
(обратно)527
Оаннес — священная рыба древних халдеев.
(обратно)528
…наши календари насчитывают четыре тысячи веков. — Действительно, халдейский календарь был один из древнейших в мире.
(обратно)529
Камбалу — старое название Пекина.
(обратно)530
Стр. 357. Тейтат — главное божество древних галлов.
(обратно)531
Омела. — Это растение почиталось галлами; в его честь устраивались празднества (обычно в первый день нового года); считалось, что омела помогает от всех болезней.
(обратно)532
…скифы, его предки… — Так полагали во времена Вольтера; в настоящее время родство скифов с кельтами наукой не признается.
(обратно)533
Стр. 358. …жрецы звезд — то есть арабские священнослужители.
(обратно)534
Стр. 359. …башни горы Ливанской… — В этом описании Вольтер имитирует стиль одной из книг Библии — «Песни песней», где, в частности, говорится: «Нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску» (VII, 5).
(обратно)535
Стр. 366. …могут прикасаться одни только женщины. — Взгляд василиска считался смертельным; но существовало поверие, что он не может причинить вреда женщине.
(обратно)536
Стр. 371. …и богословие магов. — Этот эпизод перекликается с одной из сказок «Тысячи и одной ночи» (ночи 11–13).
(обратно)537
Стр. 372. …возможность пристрастия и несправедливости. — Описывая этот своеобразный конкурс, Вольтер во многом следовал за Ариосто («Неистовый Роланд», песнь XVII), который описал военное состязание в Дамаске в духе европейских рыцарских турниров.
(обратно)538
Стр. 375. Отшельник. — Враг Вольтера, литературный критик Фрерон, обвинил писателя в плагиате, утверждая, что сюжет этой главы заимствован из одноименной поэмы английского поэта Томаса Парнела, изданной в 1721 г. Однако эти придирки были совершенно необоснованны: прославление уединенной жизни встречается в большом числе литературных и философских древних текстов, начиная с Корана (Сура 18).
(обратно)539
Стр. 384. Серендиб — быть может, Цейлон или Суматра.
(обратно)540
Стр. 388. Бонзы. — Так называются буддийские монахи в Японии. Вольтер имеет в виду монахов вообще.
(обратно)541
МИКРОМЕГАС
(Micro mégas)
Первое издание повести появилось не ранее марта 1752 года; она была издана в Лондоне без указания года выпуска, но под именем Вольтера. Известно, правда, берлинское издание 1750 года, однако совершенно очевидно, что эта дата неверна: здесь сказалось обычное для издателей Вольтера стремление к конспирации и мистифицированию властей и публики.
Время работы Вольтера над повестью точно не известно. Если учесть, что действие «Микромегаса» отнесено к 1737 году и что в одном из писем 1751 года автор назвал готовившуюся к изданию повесть «старой шуткой», то вполне уместно предположить, что не дошедший до нас рассказ Вольтера «Путешествие барона де Гангана», посланный писателем в июне 1739 года Фридриху II, и был первым вариантом «Микромегаса».
После 1752 года текст «Микромегаса», при авторских переизданиях, подвергался лишь самым незначительным исправлениям.
На русском языке повесть «Микромегас» появилась вскоре после выхода в свет французского текста: уже в 1756 году она была напечатана (очевидно, в переводе А. Р. Воронцова) в журнале «Ежемесячные сочинения»; в 1759 году ее перевел для «Трудолюбивой пчелы» А. П. Сумароков под названием: «Пришествие на нашу землю и пребывание на ней Микромегаса»; наконец, несколько раз издал повесть в своем переводе русский «вольтерьянец» И. Г. Рахманинов (1784, 1788 гг. и др.).
(обратно)542
Стр. 391. Микромегас — Имя героя повести образовано от греческих слов «микро» — малый и «мегас» — великий.
(обратно)543
Стр. 392. …очень приятная пропорция. — За этой фразой в первом издании следовало: «А так как нос составляет треть его прекрасного лица, а прекрасное лицо — седьмую часть его прекрасного тела, то, следовательно, вышеупомянутый нос равен шести тысячам тремстам тридцати футам с какой-то дробью, что и требовалось доказать».
(обратно)544
…как утверждает его сестра… — Вольтер имеет в виду Жильберту Перье (1620–1687), выпустившую в 1684 г. «Жизнеописание» своего брата, великого французского математика, физика и философа Блеза Паскаля (1623–1662).
(обратно)545
Муфтий — богослов-правовед, представитель высшего духовенства в странах мусульманского Востока.
(обратно)546
…ума и сердца. — См. прим. к стр. 109.
(обратно)547
Стр. 393. Дерхем Уильям (1657–1735) — английский теолог, автор книг «Физическая теология» и «Астрономическая теология»; доказывал существование бога ссылками на чудеса природы.
(обратно)548
Туаз — старинная мера длины (около двух метров).
(обратно)549
…как итальянский музыкант… — Вольтер имеет в виду ожесточенные споры о путях развития музыкального театра, вспыхнувшие в начале 1752 г. в связи с приездом в Париж итальянской оперной труппы под руководством Бамбини. Сторонниками итальянской оперы-буфф стали многие передовые деятели эпохи — Руссо, Гримм, Дидро, Даламбер и др.
(обратно)550
Люлли Жан-Батист (1633–1687) — французский композитор, создатель классицистического жанра «высокой» оперы.
(обратно)551
…секретарем Сатурнийской академии… — Вольтер намекает на французского философа и писателя Бернара Ле Бовье де Фонтенеля (1657–1757), постоянного секретаря Академии Наук.
(обратно)552
…это сборище блондинок и брюнеток… — Здесь Вольтер пародирует Фонтенеля, который писал в «Рассуждениях о множественности миров» (1686): «Природа — это грандиозное зрелище, напоминающее оперу… Красота дня — это как бы красавица блондинка, а красота ночи — красавица брюнетка».
(обратно)553
Стр. 394. …пять лун… — Во времена Вольтера были известны лишь пять спутников Сатурна (Тефия, Диона, Рея, Титан, Япет).
(обратно)554
…пятьсот полных оборотов солнца… — Время обращения Сатурна вокруг Солнца — немногим более двадцати девяти земных лет.
(обратно)555
Стр. 395. …некое удивительное единообразие. — Мысль, характерная для Вольтера, спорившего по этому вопросу с Лейбницем.
(обратно)556
Стр. 396. …некий знаменитый обитатель нашей маленькой планеты. — Вольтер имеет в виду работы выдающегося голландского ученого Христиана Гюйгенса (1629–1695), прежде всего его классическое исследование «Система Сатурна» (1659) — результат наблюдения планеты в телескоп со стократным увеличением. В этой книге Гюйгенс указал, что Сатурн окружен тонким кольцом, не прилегающим к нему и наклонным к эклиптике.
(обратно)557
Стр. 397. Кастель Шарль-Ирене (1688–1757) — французский иезуит, выступавший во многих изданиях того времени, в частности, в «Записках Треву», реакционном журнале, издававшемся иезуитами (с 1701 по 1775 гг.) с многочисленными заметками научного характера. Его осведомленность была весьма поверхностной, и Вольтер считал Кастеля просто шарлатаном.
(обратно)558
…по новому стилю… — Новый стиль был введен в большинстве стран Европы в середине XVI в.; по новому стилю год начинался 1 января, а не в первый день пасхи.
(обратно)559
Стр. 399. …целый выводок ученых… — Вольтер имеет в виду экспедицию на север Норвегии, предпринятую в 1736–1737 гг. группой французских ученых. Среди членов экспедиции были геометр и натуралист Пьер-Луи Мопертюи (1698–1759), математик Алексис-Клод Клеро (1713–1765), математик Шарль-Этьен-Луи Камю (1699–1768) и астроном Пьер Лемоннье (1676–1757). В личной библиотеке Вольтера находилось большое число книг Мопертюи, Клеро и Лемоннье.
(обратно)560
Стр. 400. …лапландских девиц… — Экспедиция Мопертюи привезла с собой двух молодых лапландок, о чем немало шутили в научных и светских кругах той поры.
(обратно)561
Стр. 401. …они сделали гораздо менее удивительное открытие. — Антони ван Левенгук (1632–1723), голландский биолог, в 1677 г. с помощью сильной лупы открыл сперматозоиды. Николас Гартсекер (1656–1725), голландский ученый, впервые наблюдал сперматозоиды в микроскоп.
(обратно)562
…на месте преступления. — Здесь Вольтер пародирует стиль Фонтенеля, писавшего в «Похвальном слове г-ну де Турнефору»: «Природа была, так сказать, застигнута на месте преступления».
(обратно)563
Стр. 403. …доктор Свифт не преминул бы назвать полным именем… — Книги Свифта имелись в личной библиотеке Вольтера.
(обратно)564
Стр. 404. …о пчелах, — не Вергилиевы басни… — В «Георгиках» Вергилия (песнь IV) подробно рассказывается о пчеловодстве.
(обратно)565
Сваммердам Ян (1637–1680) — голландский натуралист, создатель оригинальной классификации насекомых, изложенной им в латинской работе «Общая история насекомых».
(обратно)566
Реомюр. — Вольтер имеет в виду шеститомную работу Реомюра «Заметки по истории насекомых» (1734–1742).
(обратно)567
…сто тысяч безумцев нашей породы… — Вольтер намекает на русско-турецкую войну 1736–1739 гг., где в союзе с Россией выступала Австрия.
(обратно)568
Стр. 406. Мальбранш Никола (1638–1715) — французский философ-картезианец; Вольтер критикует его за теорию «видения предметов в боге».
(обратно)569
Энтелехия — термин Аристотеля, обозначающий осуществление того качества, которое заложено в материи как потенция. Душу античный философ считал «первой энтелехией» организма.
(обратно)570
…луврского издания. — Вольтер имеет в виду подготовленное Гийомом Дювалем и выпущенное в 1619 г. издание сочинений Аристотеля. Цитируемая фраза взята из второй книги трактата «О душе» (гл. II).
(обратно)571
…воспринял все метафизические идеи… — Ирония Вольтера направлена против учения Декарта о врожденных идеях пространства и времени, будто бы присущих человеку. Картезианцами назывались последователи Декарта.
(обратно)572
Стр. 407. …к ученику Лейбница… — Далее Вольтер излагает теорию Лейбница о «предустановленной гармонии», согласно которой субстанция тела и души не воздействуют друг на друга, а развиваются параллельно, всегда сохраняя заранее предустановленное соотношение между собой.
(обратно)573
…почитателю Локка… — Вольтер излагает принадлежащую английскому философу Джону Локку (1632–1704) классификацию субстанций и его теорию опыта, в основе которого лежат ощущения.
(обратно)574
…насекомое в четырехугольной шапочке… — богослов.
(обратно)575
Фома Аквинский (1225–1274) — крупнейший средневековый католический философ-схоласт. Вольтер упоминает его основное сочинение — «Теологическая сумма» (1263–1273).
(обратно)576
…согласно Гомеру… — Имеется в виду следующее место из «Илиады»:
Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба.(Песнь I, ст. 599, перев. Н. Гнедича)
(обратно)577
Стр. 409. Минден — город в Вестфалии; в городской крепости в XVIII в. помещалась тюрьма для государственных преступников.
(обратно)578
Кандид, или Оптимизм
(Candide, ou l҆ ҆҆҆Optimisme)
Замысел «Кандида» возник у Вольтера из внутренней потребности пересмотреть свои взгляды на философию Лейбница, идеи которого, в частности его «теологический оптимизм», разделялись писателем в молодости. Но идейное содержание повести значительно шире полемики с тем или иным философом, будь то Лейбниц либо Паскаль; «Кандид» открывает собой не только фернейский период жизни Вольтера, но и важный этап в его творческой эволюции.
Одним из внешних толчков к пересмотру Вольтером своих философских взглядов и — косвенным образом — к написанию «Кандида» было лиссабонское землетрясение 1755 года, которому Вольтер посвятил небольшую философскую поэму «Лиссабонское землетрясение» (1756) и которое изобразил в повести (главы 5–6). «Кандид» явился также откликом на охватившую всю Европу борьбу прогрессивных сил с иезуитами, причем именно тогда, когда эта борьба стала приносить ощутимые результаты: в 1759 году иезуиты были изгнаны из Португалии, в 1762 году — из Испании, в 1764 году — из Франции, а в 1773 году папа Климент XIV специальной буллой объявил об окончательном роспуске Ордена.
Написан был «Кандид» в Шветцингене (Вюртемберг) летом и осенью 1758 года; в конце января или начале февраля следующего года повесть вышла из печати. Книга была издана в Женеве, и напечатали ее постоянные издатели Вольтера братья Крамеры, но ни место издания, ни типография, ни тем более имя автора не были названы. Повесть сразу приобрела популярность; за женевским изданием последовали многочисленные перепечатки в Париже, Амстердаме и других городах. Это не на шутку встревожило власти, всерьез напуганные «опасной» книгой. В Париже и Женеве были приняты решения о изъятии книги из обращения и о ее сожжении рукой палача. Генеральный прокурор Франции писал в феврале 1759 года одному из своих подчиненных:
«В последние дни среди публики распространяется брошюра под заглавием «Кандид, или Оптимизм», сочинение доктора Ральфа, перевод с немецкого. Кажется, эта брошюра, из коей я успел бегло просмотреть лишь несколько глав, содержит остроты и аллегории, равно противные как религии, так и добрым нравам; впрочем, мне известно, что в свете возмущены безбожием и непристойностями, содержащимися в означенной брошюре. Поразительно, как некоторые упорствуют в своем желании засыпать публику столь тлетворными сочинениями, даже и после недавнего формального осуждения, которое вынес парламент подобной литературе. Поэтому я думаю, что вам следует принять достаточно спешные и действенные меры, дабы пресечь распространение сей скандальной брошюры».
Вольтер тщательно скрывал свое авторство. Его переписка 1759 года полна упоминаний о «Кандиде», но во всех письмах он упорно отказывался от своего детища, рассчитывая, что таким образом его непричастность к созданию крамольной книжки получит широкую огласку. Так, 25 февраля он пишет братьям Крамерам (издавшим повесть!): «Что это за брошюра, озаглавленная «Кандид», якобы привезенная из Лиона и которой, как говорят, торгуют напропалую? Мне бы хотелось на нее взглянуть. Не можете ли вы, милостивые государи, достать мне один переплетенный экземпляр? Говорят, находятся люди до того наглые, что приписывают это произведение мне, а я его в глаза не видел!» 15 марта Вольтер пишет своему другу пастору Якову Верну: «Я прочел наконец «Кандида»; надо окончательно потерять здравый смысл, чтобы приписать мне это дерьмо; у меня, слава богу, есть занятия и получше. Если бы возможно было найти извинения для инквизиции, я простил бы португальских инквизиторов за одно то, что они повесили Панглоса с его защитой оптимизма. Действительно, этот оптимизм наглядно подрывает основания нашей святой веры; он ведет к фатализму, он побуждает считать басней грехопадение человека и напрасным проклятие, коему земля наша предана самим господом богом. — Таковы чувства всех религиозных и образованных особ; они считают оптимизм ужасным безбожием. Я более терпим и простил бы этот самый оптимизм, с тем условием, чтобы сторонники этой системы добавили: они веруют, что в иной жизни бог дарует нам, по милосердию своему, те блага, коих он лишает нас, по своей справедливости, в этом мире; жизнь вечная, которая у нас впереди, порождает оптимизм, а совсем не события сегодняшнего дня».
Отрекаясь от «Кандида», Вольтер подыскивал для повести подставных авторов: то это был шевалье де Муи, плодовитый литератор первой половины XVIII века, чьи книги не раз вызывали скандал, то «г-н Демаль, человек большого ума, любящий посмеяться над дураками» (из письма Вольтера Эли Бертрану, 30 марта 1759 г.), то, наконец, некий Демад, лицо совершенно вымышленное. От имени последнего Вольтер направил редакторам «Энциклопедического журнала» обширное письмо, которое и было там напечатано (правда, лишь в 1762 г., когда борьба с иезуитами достигла во Франции особой остроты). Вот это примечательное послание:
«Господа,
Вы пишете в мартовском номере вашего журнала, что своего рода маленький роман, озаглавленный «Оптимизм, или Кандид», приписывается некоему г-ну де В. Не знаю, о каком г-не де В. вы изволите говорить, но я вам заявляю, что эта маленькая книжка написана моим братом, г-ном Демадом, в настоящее время капитаном Брауншвейгского полка. Что же касается королевства иезуитов в Парагвае, которое вы называете презренной басней, то заявляю вам перед лицом всей Европы, что нет ничего более достоверного, что я служил на одном из испанских кораблей, отправленных в Буэнос-Айрес в 1756 году, чтобы привести к повиновению колонию, соседствующую с Сан-Сакраменто, что я провел три месяца в Асунсьоне, что, по моим сведениям, иезуиты владеют двадцатью девятью провинциями, которые они называют редукциями, и что они там являются полновластными хозяевами…
…Впрочем, господа, имею честь уведомить вас, что мой брат-капитан, являющийся loustik{579} своего полка, отличнейший христианин; забавляясь на зимних квартирах сочинением этого романа о Кандиде, он в первую очередь имел в виду обратить социниан. Сии еретики не ограничиваются тем, что громогласно отрицают Троицу и вечные муки, они говорят, что бог по необходимости создал наш мир наилучшим из возможных миров и что все идет хорошо. Идея эта явно противоречит доктрине первородного греха. Сии обновители забывают, что змий, который был лукавейшей из тварей, соблазнил жену, извлеченную из ребра Адама, что Адам вкусил от запретного яблока, что бог проклял землю, которую сам же он когда-то благословил. Maledicta terra in opere tuo; in laboribus comedes{580}. Разве они не знают, что все без исключения отцы церкви основывали христианскую религию на этом проклятии, произнесенном самим богом и последствия коего мы ощущаем постоянно? Социниане притворяются, будто восхваляют Провидение, и не видят того, что мы суть осужденные грешники и что мы должны осознать нашу вину и наше возмездие. Так пусть не попадаются эти еретики на глаза моему брату-капитану: он им покажет, действительно ли все идет хорошо.
Остаюсь, господа, вашим почтительнейшим и покорнейшим слугой.
Застру, 1 апреля 1759 года». Демад
Но ни друзья Вольтера, ни его хулители не сомневались в том, кто был подлинным автором «Кандида». Мельхиор Гримм записал 1 марта 1759 года: «Г-н Вольтер только что порадовал нас маленьким романом, озаглавленным «Кандид, или Оптимизм, перевод немецкого сочинения доктора Ральфа». История Парагвая и приключения досточтимого отца полковника при существующих обстоятельствах не доставят удовольствия иезуитам». Старый враг Вольтера аббат Гюйон писал: «Целью г-на Вольтера является ниспровержение идеи совершенства мира и его целенаправленности, превращение этого в предмет насмешек и упорное стремление приписать миру как можно больше нелепостей. В этих видах он придумывает цепь несчастий, самых ужасных обстоятельств и катастроф. Он весьма озабочен тем, чтобы показать, сколь незаслуженно подвергаются люди этим несчастьям. В полном беспорядке перемешивает он зло физическое и зло моральное, с видимым намерением возвести ответственность за них на руководителя вселенной или же на слепую фатальность; в каждом из таких случаев он иронически замечает: «Все хорошо, все идет к лучшему, вот лучший из всех возможных миров», — богохульствуя в своей сатире против божественного промысла».
Вскоре таиться стало не к чему, и Вольтер в письмах к друзьям признал свое авторство. В ответ полетели поздравления и восторги, повесть породила подражания, переделки и «продолжения». Так, в 1760 году появилась «Благодарность Кандида г-ну де Вольтеру» (ее автором, по-видимому, был Луи-Оливье де Марсоннэ); в 1761 году — «Вторая часть Кандида» (очевидно, Тореля де Кампиньёля); в 1766 году — «Какомад, история политическая и моральная, немецкое сочинение доктора Панглоса, переведенное им самим после возвращения из Константинополя» (автор — Николь Ленге); в 1769 году — «Кандид в Дании, или Оптимизм честных людей»; в 1771 году — «Английский Кандид, или Трагикомические приключения Эмб. Гюинетта до и во время его путешествий в Индию» (авторство последних двух книг не установлено). Имена персонажей повести вскоре стали нарицательными, а отдельные выражения — крылатыми. В 1760 году даже вышла брошюра «Рассуждения о комедии «Философы», подписанная псевдонимом «Кандид-младший».
Вольтер лишь раз пересмотрел текст повести, для ее издания в сборнике «Литературная, историческая и философская смесь» (1761), причем правка была здесь совершенно незначительной; лишь в главу 22 был вставлен обширный кусок. В дальнейшем при жизни Вольтера «Кандид» издавался без изменений.
В России «Кандид» был переведен в 1769 году Семеном Башиловым (этот перевод был издан в XVIII в. еще четыре раза). В переводе не обошлось без купюр, в частности было снято упоминание (в гл. 26) о царевиче Иоанне Антоновиче, который и при Екатерине II продолжал томиться в Шлиссельбургской крепости. Новый перевод «Кандида» опубликовал в 1870 году известный русский переводчик H. Н. Дмитриев. Помещенный в настоящем томе перевод Федора Сологуба был впервые напечатан в 1909 году.
(обратно)579
Весельчак (от нем. lustig — веселый).
(обратно)580
Будь проклята земля в труде твоем; в поте лица будешь добывать хлеб свой (лат.).
(обратно)581
…поэтому… его и звали Кандидом. — Имя героя повести в переводе с французского означает «чистосердечный», «искренний».
(обратно)582
Стр. 410. Панглос — то есть «всеязыкий» (от греч. pan — все и glossa — язык).
(обратно)583
Метафизико-теолого-космологонигология… — издевка над теориями ученика Лейбница немецкого философа Христиана Вольфа (1679–1754).
(обратно)584
…не бывает следствия без причины… — намек на детерминизм Лейбница, писавшего в одной из своих работ: «Все во вселенной находится в такой связи, что настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее, и всякое данное состояние объяснимо естественным образом только из непосредственно предшествовавшего ему».
(обратно)585
…носы созданы для очков… — Детерминизм уже был высмеян Вольтером в его работе «Основы философии Ньютона» (1738), где писатель ссылается на сходные умозаключения голландского физика Николая Гартсёкера (1656–1725).
(обратно)586
Стр. 411. Вальдбергхоф-Трарбкдикдорф. — Название этого города составлено Вольтером из отдельных немецких слов («Вальд» — лес, «Берг» — гора, «Хоф» — двор, «Дорф» — деревня) и бессмысленного набора звуков.
(обратно)587
…двое в голубых мундирах. — То есть в форме прусских вербовщиков; под «болгарами» Вольтер подразумевает пруссаков.
(обратно)588
…и рост у него подходящий. — Прусский король Фридрих-Вильгельм I (1688–1740) питал пристрастие к солдатам высокого роста. По его приказу высоких мужчин хватали просто на дорогах и даже похищали из соседних княжеств.
(обратно)589
Стр. 413. Диоскорид (I в.) — древнегреческий врач, автор многочисленных медицинских сочинений.
(обратно)590
…королю аваров. — Аварами называлось скифское племя, обитавшее на Балканском полуострове и причерноморских степях. Под именем аваров Вольтер подразумевает французов, а под болгаро-аварской войной — Семилетнюю войну (1756–1763 гг.), в которой участвовали несколько европейских государств, в том числе Пруссия и Франция. В годы этой войны и был написан «Кандид».
(обратно)591
Стр. 414. …проповедник… — протестантский священник.
(обратно)592
Анабаптист — представитель плебейского крыла протестантизма. Анабаптисты отрицали предопределение и проповедовали свободу совести и всеобщее равенство.
(обратно)593
Стр. 416. …если бы Колумб не привез с одного из островов Америки болезни… — О происхождении сифилиса много спорили в Европе в XVIII в. Вольтер живо интересовался этим вопросом и обращался к нему в ряде своих сочинений («Опыт о нравах», «Философский словарь» и др.); в основном он опирался на книгу Жана Астрюка «Трактат о венерических болезнях» (1734), один экземпляр которой сохранился в личной библиотеке Вольтера.
(обратно)594
Стр. 418. …земля дрожит под их ногами. — Землетрясение в Лиссабоне 1 ноября 1755 г. разрушило город почти до основания и сопровождалось многочисленными жертвами.
(обратно)595
Батавия. — Так назывались голландские владения в Индонезии.
(обратно)596
…топтал распятие… — В XVIII в. Япония поддерживала торговые отношения лишь с одной европейской страной — Голландией. Японцы, вернувшиеся на родину после посещения голландских портов в Индонезии, обязаны были публично топтать распятие в знак того, что не были обращены в христианство. Вольтер переносит этот обряд на голландского матроса, побывавшего в Японии.
(обратно)597
Стр. 419. …но без падения человека и проклятия… — Вольтер продолжает спор с теологическим оптимизмом Лейбница; те же мысли и ту же аргументацию мы встречаем в «Поэме о разрушении Лиссабона».
(обратно)598
Стр. 420. Аутодафе. — Это сожжение «еретиков» действительно имело место в Лиссабоне 20 июня 1756 г.
(обратно)599
Университет в Коимбре. — Коимбра — город в Португалии; в XII–XV вв. — резиденция португальских королей. В 1307 г. сюда был переведен из Лиссабона университет, ставший в XVIII в. цитаделью католицизма.
(обратно)600
…срезали сало с цыпленка… — процедура, вследствие которой на них пало подозрение в иудаизме.
(обратно)601
Санбенито (или самарра) — накидка из желтого сукна, одевавшаяся на осужденных инквизиционным трибуналом. Перевернутое изображение пламени на санбенито означало, что кающийся подвергнут эпитимии; если языки пламени поднимались вверх, это значило, что еретик осужден на сожжение.
(обратно)602
В тот же день земля… затряслась снова. — В действительности новое землетрясение произошло в Лиссабоне 21 декабря 1755 г.
(обратно)603
Стр. 421. Аточская божья матерь — особенно почитаемое испанцами изображение богоматери; находится в одной из мадридских церквей.
(обратно)604
Антоний Падуанский (уроженец Лиссабона) и Иаков Компостельский — наиболее почитаемые в Испании и Португалии «святые».
(обратно)605
Стр. 425. …со времен вавилонского пленения. — Речь идет о захвате и разрушении в 586 г. до н. э. вавилонским царем Навуходоносором II Иерусалима, после чего в «вавилонский плен» было отправлено большое число иудеев.
(обратно)606
Стр. 426. Святая Германдада — специальная полиция для охраны путешественников от воров и разбойников: возникла в Испании в конце XV в.; во времена Вольтера ошибочно связывалась с инквизицией.
(обратно)607
Кордельер — монах нищенствующего ордена францисканцев, основанного в 1209 г. Во Франции францисканцы называются кордельерами (corde — по-франц. — веревка, которой монахи этого ордена подпоясывают свою рясу).
(обратно)608
Стр. 427. Мараведис — старинная мелкая испанская монета.
(обратно)609
Бенедиктинец — монах одного из первых монашеских орденов в Европе (основан Бенедиктом Нурсийским в VI в.).
(обратно)610
…чтобы проучить преподобных отцов иезуитов в Парагвае… — Речь идет о военной экспедиции, предпринятой в 1756 г. Португалией и Испанией для укрепления своей власти в Парагвае. Поскольку экспедиция была направлена против иезуитов, в нее внес вклад и сам Вольтер; он писал 16 апреля 1756 г. герцогу Ришелье: «Вы знаете, что парагвайские иезуиты святейшим образом противятся приказам испанского короля. Он отправляет четыре корабля с войсками, чтобы получить их благословение. Случаю было угодно, чтобы я со своей стороны предоставил один из этих кораблей, небольшая часть которого принадлежала мне. Этот корабль называется «Паскаль». Вполне справедливо, чтобы Паскаль воевал с иезуитами; и это очень забавно».
(обратно)611
Стр. 428. Я дочь папы Урбана Десятого и княгини Палестрины. — В издании Собрания сочинений Вольтера, осуществленном Бёшо (1829), к этой фразе была сделана сноска, возможно принадлежавшая самому Вольтеру: «Обратите внимание на утонченную скромность автора: до сих пор папы Урбана Десятого не существовало; автор не решается приписать незаконнорожденного ребенка какому-либо известному папе; какая осмотрительность! какая деликатность чувств!»
(обратно)612
Масса-Карара — небольшое герцогство в Тоскане.
(обратно)613
Стр. 429. Сале — город в Марокко, недалеко от Рабата.
(обратно)614
Мулей-Измаил — султан Марокко, правивший с 1672 по 1727 г.; один из самых воинственных и коварных властителей того времени.
(обратно)615
Стр. 431. …становятся у кормила власти. — Здесь Вольтер, по-видимому, подразумевает знаменитого певца-кастрата Фаринелли (Карло Броски, 1705–1782), имевшего большое политическое влияние на испанских королей Филиппа V и особенно Фердинанда VI.
(обратно)616
…одной христианской державой… — намек на соглашение Португалии с Мулей-Измаилом в период «войны за испанское наследство» (1701–1704), в которой принимала участие Франция.
(обратно)617
Бей (или дей) — правитель Алжира.
(обратно)618
Стр. 432. …янычарскому аге… — Янычары — гвардия султана; ага — турецкий офицерский чин, приблизительно соответствующий полковнику.
(обратно)619
…защищать Азов… — В первый раз турецкая крепость Азов была взята русской армией в 1696 г. при Петре I (по миру 1711 г. крепость была возвращена туркам); в следующий раз осада Азова состоялась в 1739 г. при Анне Иоанновне. Вольтер имеет в виду первую осаду.
(обратно)620
Меотийское болото — древнегреческое название Азовского моря.
(обратно)621
Имам — проповедник у мусульман.
(обратно)622
Стр. 433. …из-за какой-то придворной смуты. — Вольтер имеет в виду стрелецкое восстание 1698 г.
(обратно)623
Робек Иоганн (1672–1739) — швед, автор книги, оправдывающей самоубийство; через несколько лет после выхода книги Робек утопился.
(обратно)624
Стр. 434. …эта невинная ложь… была… в ходу у древних… — Вольтер имеет в виду библейского патриарха Авраама, который, приходя в чужой город, обычно из осторожности объявлял свою жену Сару сестрой, извлекая из этого немалую выгоду («Бытие», XII, 11–16).
(обратно)625
Стр. 435. Алькальд — судья или судебный следователь в средневековой Испании. Альгвасилы — полицейские в Испании.
(обратно)626
Тукуман — город и одноименная провинция в северо-западной части Аргентины.
(обратно)627
Стр. 436. Эспонтон — маленькая пика, какую носили офицеры.
(обратно)628
Стр. 437. …запрещает говорить с испанцами… — Иезуиты в своем парагвайском «государстве» строго следили за тем, чтобы местное население не имело контактов с посторонними, прежде всего с испанцами.
(обратно)629
Стр. 438. Святой Игнатий — Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, был причислен к лику святых.
(обратно)630
Круст — иезуит из Кольмара, преследовавший Вольтера во время его пребывания в этом городе (1754 г.).
(обратно)631
Стр. 440. «Вестник Треву» — то же, что «Записки Треву» (см. прим. к стр. 397).
(обратно)632
Стр. 441. Орельоны (от франц. oreille — ухо). — Так европейцы называли одно из индейских племен Южной Америки; орельоны украшали уши большими серьгами.
(обратно)633
Съедим иезуита! — После появления книги Вольтера, в обстановке борьбы прогрессивных слоев общества с иезуитами, это выражение стало популярно. Вольтер писал 23 сентября 1759 г. пастору Верну: «Все кричат на улицах Парижа: «Съедим иезуита, съедим иезуита!» Жаль, что слова эти извлечены из отравительной книжки, предполагающей, кажется, первородный грех и грехопадение человека, которые вы отрицаете, — вы, проклятые социниане, отрицающие также падение Адама, божественность Логоса, отделение духа святого и ад».
(обратно)634
Стр. 443. Эльдорадо — легендарная счастливая страна, на поиски которой пускались многие отважные авантюристы XVI–XVIII вв. Об Эльдорадо упоминает Гарсиласо де ла Вега эль Инка (1539–1616), книгу которого «История инков, королей Перу», в переводе Ж. Бодуэна (1704), использовал Вольтер при работе над «Кандидом».
(обратно)635
Кайенна — город во французской Гвиане на берегу Атлантического океана.
(обратно)636
Стр. 444. Тетуан, Мекнес. — Тетуан — портовый город в Марокко, недалеко от средиземноморского побережья. Мекнес — крупный марокканский город.
(обратно)637
Могол — титул легендарных императоров северной Индии, обладавших будто бы несметными сокровищами.
(обратно)638
Стр. 446. …были уничтожены испанцами. — Государство инков достигло особенного могущества к середине XV в. В 1532 г. испанские завоеватели захватили столицу инков город Куско, а затем все их государство, уничтожив богатую древнюю культуру.
(обратно)639
Ролей Уолтер (1552–1618) — английский мореплаватель и поэт; в 1595 г. отправился в Америку на поиски страны Эльдорадо и, вернувшись, рассказал королеве Елизавете о будто бы виденных там чудесах. Эту экспедицию Вольтер подробно описывает в «Опыте о нравах» (гл. 51).
(обратно)640
Стр. 450. Суринам — в XVIII в. голландское владение в Южной Америке на побережье Атлантического океана, между Французской Гвианой и Английской.
(обратно)641
Стр. 451. Вандердендур — возможно, намек на голландского книготорговца Ван Дюрена; Вольтер постоянно жаловался, что тот ему недоплачивает.
(обратно)642
Стр. 454. …на амстердамских книгопродавцев. — В XVII и XVIII вв. Амстердам был одним из крупнейших центров книгоиздательского дела в Европе. Здесь печатались книги, которые невозможно было издать в другом месте (в том числе многие книги Вольтера). Вместе с тем в Амстердаме печаталось много пиратских контрафакций, на что Вольтер постоянно жаловался, называя голландских издателей разбойниками.
(обратно)643
Стр. 455. Манихей. — Манихейство — религиозная доктрина, возникшая в Персии в III в. и названная по имени ее основателя полулегендарного проповедника Мани. Для манихеев характерно представление о том, что в мире царят два начала — добро и зло, находящиеся в состоянии борьбы. Человек должен противостоять злу, поэтому манихейство проповедовало аскетизм, отрицало богатство и даже собственность.
(обратно)644
Стр. 457. Нобили — представители венецианского дворянства, пользовавшиеся в своем городе всеми привилегиями.
(обратно)645
…в толстой книге… — Вольтер имеет в виду следующее место из Библии («Бытие», 1, 2): «Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою».
(обратно)646
Стр. 458. …ученому с севера… — В данном случае Вольтер намекает на французского натуралиста Пьера-Луи Мопертюи (1698–1759), который в одной из своих работ предложил математическое доказательство бытия божия.
(обратно)647
Стр. 459. …вексель с уплатой в будущей жизни. — Речь идет об отпущении грехов умирающим, которое стало широко практиковаться во Франции с 1750 г.
(обратно)648
…новую трагедию. — Возможно, Вольтер имеет в виду свою трагедию «Магомет» (1742); некоторые исследователи предполагают, что речь идет о другой его пьесе — трагедии «Китайский сирота» (1755).
(обратно)649
Стр. 460. …довольно плоской трагедии… — Вольтер имеет в виду пьесу французского драматурга Тома Корнеля «Граф Эссекс» (1678), посвященную событиям английской истории конца XVI в.
(обратно)650
Монима — персонаж из трагедии «Митридат» Расина, первая роль знаменитой трагической актрисы, друга Вольтера Адриенны Лекуврер (1692–1730), сыгранная ею на сцене театра Французской Комедии в 1717 г. Ранняя смерть актрисы вызвала всевозможные толки, и церковные власти Парижа запретили хоронить ее по христианскому обряду.
(обратно)651
…о пьесе, тронувшей меня до слез… — Здесь Вольтер имеет в виду свою собственную трагедию «Танкред», впервые сыгранную 3 сентября. 1760 г.
(обратно)652
Стр. 461. Фрерон — см. прим. к стр. 97.
(обратно)653
Клерон — сценическое имя трагической актрисы Клер Лери де Лятюд (1723–1803), особенно прославившейся исполнением ролей в пьесах Вольтера.
(обратно)654
Стр. 462. Гоша — см. прим. к стр. 209.
В действительности «Оракул новых философов» (имеющий подзаголовок: «В продолжение и к разъяснению произведений г-на де Вольтера») был написан не Гоша, а аббатом Клодом-Мари Гюйоном. Эта книга с пометками Вольтера сохранилась в личной библиотеке писателя.
(обратно)655
Архидьякон Т… — Имеется в виду аббат Никола Трюбле (1697–1770), богослов и литературный критик, не раз выступавший против Вольтера.
(обратно)656
Стр. 466. …какой-то негодяй из Артебазии покусился на отцеубийство… — Подразумевается покушение на короля Людовика XV, который был легко ранен 5 января 1757 г. простолюдином Робером-Франсуа Дамьеном, четвертованным за это. Дамьен был родом из провинции Артуа (латинская форма этого названия — Артебазия).
(обратно)657
…как в тысяча шестьсот десятом году… — Имеется в виду убийство Равальяком французского короля Генриха IV (14 мая 1610 г.).
(обратно)658
…как в тысяча пятьсот девяносто четвертом году… — Речь идет о покушении на Генриха IV, совершенном учеником иезуитов Жаном Шателем (27 декабря 1594 г.).
(обратно)659
Стр. 467. …чем стоит вся Канада. — Намек на англо-французскую войну из-за владения Канадой, в результате которой англичане захватили Квебек (1760 г.), а по мирному договору 1763 г. окончательно закрепились в этой стране.
(обратно)660
…на дородного человека… — Далее описывается расстрел английского адмирала Джона Бинга (1704–1757), обвиненного в предательстве и трусости, за то, что он проиграл небольшое морское сражение. В библиотеке Вольтера было несколько книг, посвященных этому адмиралу, которого писатель тщетно пытался спасти.
(обратно)661
…с французским адмиралом… — то есть с Роланом-Мишелем де Ла Галиссоньером (1693–1756); в 1745–1749 гг. он был губернатором Канады.
(обратно)662
Стр. 469. Театинец — член монашеского ордена, основанного в 1524 г. для пропаганды католицизма и борьбы с Реформацией.
(обратно)663
Стр. 471. Пококуранте — буквально: «имеющий мало забот» (итал.).
(обратно)664
Стр. 474. …ссора неведомого Рупилия… — Речь идет о персонаже «Сатир» Горация (книга 1, Сатира VII).
(обратно)665
…стихи против старух и колдуний… — см. «Эподы» Горация (стихотворения 5, 8, 12).
(обратно)666
…в обращении Горация к другу Меценату… — Вольтер имеет в виду следующие стихи Горация:
Если ж ты сопричтешь к лирным певцам меня, Я до звезд вознесу гордую голову,(«Оды», I, 1, 35–36; перев. А. Семенова-Тянь-Шанского)
(обратно)667
Стр. 475. Якобит. — Так во Франции называли монахов-доминиканцев, поскольку их первый монастырь находился в Париже на ул. Св. Иакова.
(обратно)668
…в десяти книгах тяжеловесных стихов… — Вольтер подразумевает поэму Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный Рай», где изображено восстание падших ангелов во главе с Сатаной против небесного самодержца. Поэма Мильтона состоит из двенадцати песен.
(обратно)669
Стр. 476. Платон давным-давно сказал… — Вольтер приписывает Платону мысли, высказанные римским философом Сенекой (I в.) в одном из «Писем к Луцилию» (письмо 2).
(обратно)670
Стр. 478. Ахмет III (1673–1736) — турецкий султан, свергнутый с престола в 1730 г.
(обратно)671
…Меня зовут Иван… — Вольтер имеет в виду Ивана (Иоанна) Антоновича (1740–1764), провозглашенного императором вскоре после рождения, но уже в 1741 г. свергнутого Елизаветой Петровной. С тех пор Иван тайно содержался в разных тюрьмах, с 1756 г. — Шлиссельбурге, где был убит стражей при попытке освободить его и провозгласить императором.
(обратно)672
Карл-Эдуард (1720–1788) — внук английского короля Якова II из династии Стюартов, безуспешно претендовавший на английский престол, который он оспаривал у Георга II (Ганноверская династия).
(обратно)673
Я король польский. — Имеется в виду Август III (1669–1763), король Польши и курфюрст Саксонии; он стал королем после изгнания русскими войсками Станислава Лещинского, но сам был изгнан Фридрихом II.
(обратно)674
Я тоже польский король. — Вольтер имеет в виду Станислава Лещинского (1677–1766), который был провозглашен польским королем под давлением Швеции в 1704 г., но после разгрома Карла XII под Полтавой свергнут и бежал во Францию. Его дочь Мария стала женой короля Людовика XV, и Лещинский, при содействии Франции, снова был провозглашен польским королем. Однако в 1735 г. вынужден был отказаться от престола, вернулся во Францию и получил в управление герцогство Лотарингское, где его не раз навещал Вольтер.
(обратно)675
Я Теодор… — Имеется в виду Теодор фон Нейхоф (1690–1756) — вестфальский барон; в 1736 г. он воспользовался восстанием корсиканцев против генуэзского владычества и провозгласил себя королем Корсики, но удержался на троне лишь восемь месяцев. Затем он скитался по Европе и не раз сидел в тюрьме за долги.
(обратно)676
Рагоцци (Ракоцци Ференц, 1676–1735) — венгерский князь; в 1707 г. возглавил борьбу венгров против Австрии и провозгласил себя королем Трансильвании. Разбитый в 1708 г., бежал в Польшу, оттуда перебрался во Францию, а в 1720 г. обосновался в Турции.
(обратно)677
Стр. 481. Пропонтида — древнее название Мраморного моря.
(обратно)678
Стр. 484. Ичоглан — паж у турок.
(обратно)679
Стр. 489. Три Генриха — то есть французские короли Генрих II (1547–1559), Генрих III (1574–1589), Генрих IV (1589–1610).
(обратно)680
…дабы и он работал. — Цит. из Библии («Бытие», II, 15).
(обратно)681
ПРОСТОДУШНЫЙ
(L'Ingénu)
Первое издание повести появилось летом 1767 года — она была напечатана в Женеве Крамерами, хотя на титульном листе значился Утрехт; имя Вольтера не было названо.
Вольтер всячески отрицал свое авторство, указывая в многочисленных письмах, что «Простодушного», вероятно, написал Анри Дюлоран (1719–1793), писатель-плебей, беглый монах, автор антиклерикальных поэм, романов и очерков. В 1766 году Дюлоран выпустил лучшее свое произведение — роман «Кум Матье, или Превратности человеческого ума», был затем схвачен церковными властями и посажен в тюрьму, где и умер много лет спустя. Вольтер высоко отзывался о романе Дюлорана; знал он, по-видимому, и о судьбе писателя, осужденного на пожизненное заключение, а потому мог не опасаться повредить Дюлорану, приписав ему новую повесть. 3 августа 1767 года Вольтер писал Даламберу: «Скажу вам совершенно простодушно, мой дорогой философ, что никакого «Простодушного» не существует, все это пустые измышления. По моей просьбе его искали в Женеве и в Голландии: это могло быть сочинение вроде «Кума Матье». 22 августа Вольтер пишет Дамилавилю: «Это довольно невинная шутка одного монаха-расстриги по имени Дюлоран, автора «Кума Матье». Намереваясь издать свою книгу в Париже, Вольтер обратился к книготорговцу Лакомбу с письмом от имени будто бы Дюлорана. Парижское издание появилось в том же, 1767 году под названием «Гурон, или Простодушный».
Повесть пользовалась большим успехом, однако уже осенью 1767 года она была запрещена церковной цензурой. Друг Вольтера Мармонтель написал на сюжет этой повести стихотворную комедию «Гурон» (1768), поставленную в «Итальянской комедии» с музыкой Гретри.
На русском языке «Простодушный» Вольтера впервые появился в 1789 году («Гурон, или Простодушный, справедливая повесть из сочинений г. Вольтера», Петербург, перевод H. Е. Левицкого). Этот перевод был переиздан в 1802 и 1805 годах. Перевод Левицкого изобиловал купюрами (в основном были выпущены наиболее резкие антиклерикальные выпады Вольтера). Полный, образцовый для своего времени перевод H. Н. Дмитриева появился в 1870 году.
(обратно)682
Стр. 490. Кенель Паскье (1634–1719) — французский богослов, один из виднейших теоретиков янсенизма. Не раз подвергался преследованиям церковных властей и вынужден был подолгу жить в Голландии.
(обратно)683
Дунстан (925–988) — архиепископ Кентерберийский; причислен церковью к лику святых.
(обратно)684
В тысяча шестьсот восемьдесят девятом году… — В этом году в войну против Франции, которую вела так называемая Аугсбургская лига (Испания, Голландия, Швеция и др.) вступила и Англия.
(обратно)685
Стр. 491. Гурон. — Гуроны — индейское племя Северной Америки. В период «торговых войн» второй половины XVII — начала XVIII в. между Англией и Францией за преобладание в Новом Свете гуроны были на стороне французов.
(обратно)686
Стр. 492. Болингброк Генри Сен-Джон (1678–1751) — английский политический деятель и писатель-моралист, автор ряда антиклерикальных сочинений. Вольтер был в дружеских отношениях с Болингброком и жил у него в Англии (1726 г.).
(обратно)687
Стр. 494. Сагар Теода Габриель — католический миссионер, с 1623 г. проповедовавший христианство среди гуронов. Его книга «Большое путешествие в страну гуронов, расположенную в Америке у окраины Канады… Со словарем гуронского языка» (1632) сохранилась в личной библиотеке Вольтера.
(обратно)688
Алгонкинец. — Так называют представителей группы индейских племен Северной Америки, соседствующей с ирокезами.
(обратно)689
Стр. 496. …«трубой рассвета». — Намек на строки из «Гамлета» Шекспира:
Петух, трубач зари, своею глоткой Пронзительною будит ото сна.(Действие I, сцена V, перев. Б. Пастернака)
(обратно)690
Стр. 497. …в тысяча шестьсот шестьдесят девятом году похода на гуронов… — В действительности такого похода не было.
(обратно)691
Стр. 498. Пятикнижие — первые книги Ветхого завета («Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие»).
(обратно)692
Стр. 499. Кайафа и Пилат — библейские персонажи; в их руках была судьба Христа.
(обратно)693
Стр. 500. …апостола Иакова-младшего… — Далее приводится фраза из Нового завета («Послание Иакова», V, 16). «Младшим» апостол иронически назван в отличие от патриарха Иакова из Ветхого завета.
(обратно)694
Стр. 502. Евнух царицы Кандакии. — Герой Вольтера имеет в виду один из эпизодов «Деяний апостолов» (VIII, 26–40). В первом издании повести начало этой фразы читалось так: «Евнух царицы Кандакийской…» — и к ней было сделано следующее «исправление» в конце книги: «Как это отец Кенель не знал, что Кандакия было наименованием прекрасных цариц Эфиопии, так же как Фараон, или Фарон — это титул царей Египта?»
(обратно)695
Стр. 503. …крещение водой, крещение огнем… — намек на слова: «Он будет крестить вас духом Святым и огнем» (Евангелие от Матфея, III, 11).
(обратно)696
…вино, по словам Соломона, веселит сердце человеческое. — Перефразировка изречения из библейской «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова»: «Вино и музыка веселят сердце» (XI, 20).
(обратно)697
…окунал плащ в виноградный сок… — намек на строки из Библии: «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое» («Бытие», XIX, 11).
(обратно)698
Стр. 509. …когда Эврит, царь Эхалийский… — В одном из древнегреческих мифов рассказывается, как Эврит обещал отдать свою дочь Иолу в жены тому, кто победит его в стрельбе из лука. Геркулес выиграл состязание, но Эврит обещания не выполнил; тогда герой силой отнял Иолу и убил Эврита.
(обратно)699
Стр. 512. …а сейчас в нем нет и шести тысяч. — Сомюр был городом, в основном протестантским. После отмены в 1685 г. Нантского эдикта короля Генриха IV (1598 г.), давшего протестантам-гугенотам право свободного вероисповедания, большинство жителей Сомюра эмигрировало, спасаясь от возобновившихся религиозных преследований.
(обратно)700
…мы из отчизны бежим… — цитата из «Буколик» Вергилия (I, 3–4).
(обратно)701
…человечек, одетый во все черное… — протестантский священник.
(обратно)702
Стр. 513. Король Вильгельм — английский король Вильгельм III (1650–1702), правил с 1689 г.
(обратно)703
…нынешний папа… — Иннокентий XI, враждовавший с Людовиком XIV из-за права короля получать доходы с церковных владений.
(обратно)704
Ла Шез Франсуа (1624–1709) — иезуит, папский агент при французском дворе, один из инициаторов отмены Нантского эдикта.
(обратно)705
Господин де Лувуа насылает на нас… драгунов. — Лувуа (Мишель Ле Теллье; 1641–1691), военный министр Людовика XIV, руководил жестокими операциями против гугенотов; он применял «драгонады» — насильственный военный постой драгунов в гугенотских домах.
(обратно)706
Стр. 516. …замок, построенный королем Карлом… — то есть Бастилию, постройка которой началась при Карле V, в 1370 г.
(обратно)707
Пор-Рояль — монастырь близ Парижа, центр янсенизма.
(обратно)708
Стр. 517. …английские капли… — успокоительное средство, предложенное английским медиком Годдаром в конце XVII в.
(обратно)709
Стр. 518. …с Арно и Николем… — Антуан Арно (1612–1694) и Пьер Николь (ок. 1625–1695 гг.) — французские теологи, видные деятели Пор-Рояля и теоретики янсенизма. Совместно написали капитальный труд «Логика Пор-Рояля» (1662).
(обратно)710
Рого Жак — французский ученый, последователь Декарта; его «Трактат о физике» (1671) имелся в личной библиотеке Вольтера.
(обратно)711
«Поиски истины» — работа французского философа-картезианца Мальбранша. Вольтер ценил первый том этой работы (1674) за критическое отношение к авторитетам и глубокий анализ теории познания, основанный на критике сенсуализма. Второй том (1675) Вольтер резко критиковал за содержащуюся в нем метафизику.
(обратно)712
Стр. 519. Физическая премоция — в терминологии Фомы Аквинского — активное воздействие божественной воли на человеческие побуждения. Мальбранш написал на эту тему специальную работу (1715), экземпляр которой сохранился в библиотеке Вольтера.
(обратно)713
Ларчик Пандоры — по греческому мифу, сосуд, содержавший все людские пороки и несчастия; Пандора из любопытства открыла сосуд и выпустила его содержимое.
(обратно)714
…яйцо Оромазда, продавленное Ариманом… — В древнеперсидской мифологии рассказывается о вражде злого бога Анхра-Майнью (Аримана) с братом его, добрым богом Ахурамаздой (Оромаздом); Оромазд собрал все человеческие беды в большое яйцо, а Ариман раздавил его.
(обратно)715
…нелады Тифона с Озирисом… — В одном из эллинистических мифов древнегреческое божество зла Тифон отождествлялся с египетским богом смерти и бедствий Сетом, убившим своего брата Озириса.
(обратно)716
Сен-сиранский аббат. — Имеется в виду Жан-Дювержье де Оранн (1581–1643), французский проповедник, один из пропагандистов янсенизма.
(обратно)717
Стр. 520. Клио надо вооружить… как Мельпомену. — Клио — муза истории, Мельпомена — муза трагедии (греч. миф.).
(обратно)718
…о государях фезансакских, фезансагетских, астаракских… — то есть о правителях мельчайших средневековых графств, вошедших уже в средние века в состав Арманьякского графства.
(обратно)719
Стр. 521. …происходят от какого-то фригийца… — от Энея, который, согласно некоторым поздним мифам, после гибели Трои переселился в Италию. Об этом же рассказывается в «Энеиде» Вергилия.
(обратно)720
Фукидид (ок. 460–395 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Истории Пелопоннесской войны».
(обратно)721
…напоминают «Амадисов»… — «Амадис Галльский» — многотомный испанский рыцарский роман, первые части которого появились в 1508 г.
(обратно)722
Стр. 522. Юстиниан — древнеримский император (527–565), успешно воевавший с вандалами и персами; юридическим «Кодексом Юстиниана».
(обратно)723
…величайшего полководца того века… — то есть Велизария (ок. 494–565 гг.), военачальника римского императора Юстиниана; согласно легенде, в конце жизни он впал в немилость и нищету. Упоминая эту личность, Вольтер намекает на гонения, которым подвергся в 1767 г. философский роман его друга Жана-Франсуа Мармонтеля (1723–1799) «Велизарий» за содержащиеся в главе 15 идеи религиозной терпимости (из этой главы и взята приводимая далее фраза).
(обратно)724
Апедевты (греч.) — невежды; богословы из Сорбонны.
(обратно)725
Линостолы — то есть носящие одежды из льна (греч.). Намек на мантии профессоров Сорбонны.
(обратно)726
Пастофоры (от лат. pastor) — священники.
(обратно)727
Стр. 523. …всякие Визе хулят Расинов… — намек на статьи французского писателя Жана-Донно де Визе (1638–1710), критикующие произведения Расина. Они печатались в журнале «Галантный Меркурий».
(обратно)728
…а Фэйди — Фенелонов. — Вольтер имеет в виду полемическую книгу французского богослова и литературного критика Пьера Фэйди «Телемахомания» (1700), в которой тот выступил против нравоучительного романа Франсуа Фенелона (1651–1715) «Приключения Телемаха» (1699), где содержалась критика абсолютизма.
(обратно)729
Басня о двух голубях — произведение Лафонтена.
(обратно)730
Стр. 524. …новую «Ифигению»… — Далее перечисляются трагедии Расина: «Ифигения» (1675), «Федра» (1677), «Андромаха» (1667), «Гофолия» (1691), и Корнеля — «Родогунда» (1644) и «Цинна» (1640).
(обратно)731
Стр. 525. Арле де Шанваллон Франсуа (1625–1695) — французский церковный деятель, один из инициаторов отмены Нантского эдикта; был знаменит своими любовными похождениями.
(обратно)732
Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) — французский богослов и проповедник, ревностный защитник основных догм католицизма.
(обратно)733
Стр. 526. М-ль дю Трон — племянница Бонтана, камердинера Людовика XIV.
(обратно)734
М-ль де Молеон — Вольтер в своей работе «Век Людовика XIV», основываясь на свидетельствах современников, писал, что Боссюэ до принятия церковного сана вступил в тайный брак с м-ль Девье (или Молеон) и в течение всей жизни сохранял с ней близкие отношения.
(обратно)735
Г-жа де Гюйон (1648–1717) — сторонница и пропагандистка квиетизма, религиозной доктрины, проповедующей созерцательную жизнь, пассивность, мистическую любовь к богу.
(обратно)736
Стр. 528. Сен-Пуанж. — Под этим именем в повести выведен граф Сен-Флорантен (1705–1777), министр. Людовика XV, славившийся своим сластолюбием. Госпожа Дюбеллуа — Дюфренуа, возлюбленная министра Лувуа.
(обратно)737
Стр. 529. Проспер (V в.) — раннехристианский латинский поэт и моралист.
(обратно)738
Стр. 531. «Христианский педагог» (1629) — популярная в свое время работа Филиппа д’Утремона.
(обратно)739
Стр. 534. Блаженный Августин… отзывался… — Вольтер имеет в виду трактат «О Нагорной проповеди».
(обратно)740
Стр. 537. Сей страшной крепости… — Вольтер цитирует свою поэму «Генриада» (песнь IV, стихи 456–457).
(обратно)741
Стр. 542. Марильяк Луи (1573–1623) — маршал Франции: был уличен в интригах против Ришелье и казнен.
(обратно)742
Стр. 543. Будь я французским королем… — Далее Вольтер перечисляет качества, которыми, на его взгляд, обладал герцог Этьен-Франсуа де Шуазель (1719–1785), министр иностранных дел Людовика XV. Вольтер поддерживал с Шуазелем дружеские отношения.
(обратно)743
Стр. 548. …Катон ответил ударом кинжала. — Деятель римской республики Катон Младший (95–46 гг. до н. э.) покончил с собой, потерпев поражение в борьбе с Цезарем.
(обратно)744
Стр. 550. «Размышления преподобного отца Круазе» — одна из многочисленных душеспасительных книг носившего это имя французского иезуита начала XVIII в.
(обратно)745
«Цвет святости» (1599) — книга испанского иезуита Рибадейнейры.
(обратно)746
ЦАРЕБНА ВАВИЛОНСКАЯ (La Princesse de Babylon)
Повесть была написана в конце 1767 или начале 1768 года и в конце марта 1768 года напечатана Крамерами без указания имени автора и места издания. В том же году появилось несколько перепечаток; в их числе было и так называемое «издание в сто пятьдесят шесть страниц», вышедшее в Париже и изобилующее ошибками и неточностями, порой значительно меняющими смысл.
В последующих изданиях стареющий Вольтер, за исключением двух-трех мелких поправок, не менял текста повести.
В России «Царевна Вавилонская», содержащая непомерные хвалы Екатерине II и ее политике, была переведена очень скоро и пользовалась большой популярностью; в 1770 году повесть вышла в переводе Федора Полунина, и затем в 1781, 1788 и 1789 годах перепечатывалась в том же переводе. Екатерина II осталась довольна повестью Вольтера и рекомендовала придворным ее чтение как средство от болезней. Но понравилась «Царевна Вавилонская» в России не всем. Так, А. Т. Болотов в рукописной книжке «Мысли и беспристрастные суждения о романах как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных языков» довольно резко отозвался о книге Вольтера. Болотов полагал, что читатели «не найдут в ней никакой любопытной, хорошей и чтения достойной повести, а находится в ней единая только совершенная наиглупейшим образом выдуманная и самая нескладная басня, наполненная такими вздорами, нескладицами и нелепицами, какие в баснях обыкновенно бывают и какие неможно читать, не удивляясь тому, как могут такие вздоры вселяться в мысли самых иногда умных людей».
Неоднократно издавалась книга на русском языке и в XIX веке и в советское время.
(обратно)747
Стр. 551. Бел — имя верховного божества у древних ассирийцев.
(обратно)748
Парасанг — персидская мера длины, равная приблизительно 4, 5 км.
(обратно)749
Семирамида — легендарная царица Вавилона; для нее были сооружены висячие сады, почитавшиеся одним из семи чудес света.
(обратно)750
Стр. 552. Формозанта — имя, образованное от латинского Formosa — красивая.
(обратно)751
Пракситель (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор. Одной из лучших его работ была статуя Афродиты Книдской.
(обратно)752
Венера Прекраснозадая. — Имеется в виду Венера Каллипига, античная статуя, созданная в эпоху эллинизма и хранящаяся в неаполитанском музее. Представляет собой подражание статуе Праксителя.
(обратно)753
Нимврод (Немврод) — вавилонский царь, упоминаемый в Библии, изображается в виде прекрасного охотника.
(обратно)754
Систр — древнеегипетский музыкальный инструмент.
(обратно)755
Изида — одна из важнейших богинь древних египтян: божество плодородия, материнства и здоровья.
(обратно)756
Стр. 553. …«Веды», написанные рукой… Ксаки. — «Веды» — собрание древнеиндийских религиозных гимнов, приписывалось Ксаки (искаженное Шакья-Муни, одно из имен Будды).
(обратно)757
Стр. 554. Озирис — бог умирающей и возрождающейся природы, брат и супруг Изиды (египет. миф.).
(обратно)758
Стр. 557. Антиливан — горная цепь в Сирии.
(обратно)759
Ясенец — лекарственное растение.
(обратно)760
Стр. 558. …птиц, которых… впрягали в колесницу Юноны… — Богиня Юнона, супруга Юпитера, изображалась в колеснице, влекомой павлинами.
(обратно)761
Стр. 564. Локман. — Арабский перевод басен Эзопа приписывался легендарному властителю Аравии Локману.
(обратно)762
Стр. 570. …дозволившей дважды себя похитить… — Елена в юности была похищена Тесеем, а затем (уже после ее брака с Менелаем) — Парисом, что привело к Троянской войне (греч. миф.).
(обратно)763
…которому впоследствии поклонялись в Лампсаке. — Речь идет о боге сладострастия Приапе.
(обратно)764
Стр. 572. Елисейские поля — блаженная страна, царство мертвых (греч. миф.).
(обратно)765
Сады Гесперид, сады на островах Счастья… — Нимфы Геспериды охраняли золотые яблоки, растущие в чудесном саду (греч. миф.). Острова Счастья — Канарские острова, по античным представлениям — край земли.
(обратно)766
Стр. 579. Это был самый справедливый… правитель. — Вольтер имеет в виду китайского императора Юнчжэна из Цинской династии, правившего с 1723 по 1735 г.
(обратно)767
…шайку чужеземных бонз… — Речь идет об иезуитах, пытавшихся укрепиться в Китае. Их изгнание оттуда относится к 1724 г.
(обратно)768
Стр. 580. …покинут Тянь и Шанди — то есть Небом и Верховным небесным владыкой.
(обратно)769
Стр. 582. …к киммерийцам. — Киммерийцы — народ, населявший северное побережье Черного моря (в частности, Крым); около VIII в. до н. э. были вытеснены скифскими племенами. Под империей киммерийцев Вольтер подразумевает Россию.
(обратно)770
Стр. 583. …царствующая императрица… — Екатерина II.
(обратно)771
…она в ту пору объезжала страну… — Во время одного из путешествий по России Екатерина писала Вольтеру (29 мая 1767 г.): «Вот я и в Азии; я хочу увидеть это собственными глазами».
(обратно)772
Один из главных сановников этой древней столицы… — Вольтер имеет в виду графа Ивана Ивановича Шувалова (1727–1797), первого куратора Московского университета. В 1757 г. он вступил в переписку с Вольтером, посылая ему материалы для «Истории Российской империи при Петре Великом», а в 1773 г. гостил у писателя в Ферне.
(обратно)773
Церера — богиня плодородия и земледелия у древних римлян; греки называли ее Деметрой.
(обратно)774
Стр. 584. …утвердилось бы и у ее соседей. — Екатерина II навязала Польше в качестве короля Станислава Понятовского; она добилась уравнения в правах православных и католиков.
(обратно)775
Тут королевская власть и свобода не враждовали… — Имеется в виду Швеция, где королевская власть вынуждена была во времена Вольтера временно уступить в борьбе с парламентом.
(обратно)776
Стр. 584–585. …в других государствах. — То есть в Дании, где была провозглашена абсолютная власть монарха.
(обратно)777
Стр. 585. …юный правитель… — то есть будущий шведский король Густав III, который, будучи наследным принцем, изображал из себя сторонника просвещенной монархии, но, придя к власти, восстановил абсолютизм.
(обратно)778
У сарматов… застал на троне философа. — Речь идет о Польше, где правил Станислав Понятовский, находившийся в то время в переписке с Вольтером.
(обратно)779
…погребать заживо в обширных узилищах… — то есть в монастырях.
(обратно)780
Стр. 586. Батавия. — Вольтер имеет в виду Голландию.
(обратно)781
Стр. 587. Рей Марк-Мишель — издатель из Амстердама, напечатавший немало антиклерикальных сочинений, в том числе книги Вольтера.
(обратно)782
…в странах авзонов и вельхов… — то есть в Италии и Франции.
(обратно)783
«Удачливая крестьянка» — роман французского писателя шевалье де Муи (Шарль де Фьё; 1701–1784), написанный в 1735 г. как параллель роману Мариво «Удачливый крестьянин» (1734–1735).
(обратно)784
«Софа» — фривольный роман Кребийона-сына (1707–1777), напечатанный в 1745 г.
(обратно)785
«Четыре Факардена» — роман французского писателя, шотландца по происхождению, Антуана Гамильтона (1646–1720). В пиратском издании «Царевны Вавилонской» («издание в 156 страниц») вместо книги Гамильтона был упомянут «Кандид» Вольтера.
(обратно)786
Стр. 588. …учение, ставшее спустя много столетий учением Пифагора, Порфирия и Ямвлиха. — Древнегреческие философы Пифагор (VI–V вв. до н. э.), Порфирий (ок. 232–304 гг.) и Ямвлих (ок. 283— ок. 333 гг.) были сторонниками и пропагандистами вегетарианства.
(обратно)787
Стр. 589. Витенагемот — совет старейшин у древних саксов.
(обратно)788
…люди, которые явились из древней страны Сатурна… — Вольтер имеет в виду римлян, завоевавших Британию.
(обратно)789
Один из наших королей… — Имеется в виду английский король Иоанн Безземельный (1199–1216), признавший в 1213 г. вассальную зависимость Англии и Ирландии от папского Рима.
(обратно)790
«Старец семи холмов» — папа римский (Рим построен на семи холмах).
(обратно)791
Несколько венценосцев были казнены — намек на казнь английского короля Карла I в 1648 г., во время революции.
(обратно)792
…окончили жизнь на эшафоте. — Вольтер имеет в виду массовые казни сторонников претендента на английский престол Карла-Эдуарда Стюарта (1720–1788).
(обратно)793
…одни в черных плащах, другие в белых рубахах… заразили бешенством… — Английская буржуазная революция была облечена в форму религиозной борьбы пуритан против господствовавшей англиканской церкви. Пуритане носили черную одежду, англиканское духовенство — белую.
(обратно)794
Стр. 590. …две партии… — то есть партии консерваторов (тори) и либералов (виги).
(обратно)795
Стр. 592. …причалил к городу… — Далее описывается Венеция.
(обратно)796
…двуликих мужчин и женщин… — Вольтер имеет в виду венецианский обычай тех лет ходить по городу в масках.
(обратно)797
Стр. 593. …мужчин, поющих женскими голосами. — В римских церквах обычно пели певцы-кастраты.
(обратно)798
Стр. 594. …одни — в пурпуровых мантиях, другие — в фиолетовых… — то есть кардиналы и епископы.
(обратно)799
Усердствующие — члены церковной конгрегации святого Антония, сперва занимавшиеся лечением больных.
(обратно)800
Стр. 595. Первоначально он был рыбаком и привратником… — По церковной легенде, первым римским епископом был апостол Петр, который затем уже передал власть папе. До того как стать учеником Христа, Петр будто бы был простым рыбаком, а после смерти стал хранителем ключей от Рая.
(обратно)801
…он отправил сто одно предписание кельтскому королю… — Речь идет о булле папы Климента XI (1713 г.), осудившей янсенизм, которую он направил королю Людовику XIV.
(обратно)802
Один нормандский священник… — Имеется в виду иезуит Мишель Ле Теллье (1648–1719), последний духовник Людовика XIV.
(обратно)803
Стр. 596. …новую столицу галлов. — То есть Париж; старой столицей Галлии считался Лион.
(обратно)804
…означало «грязь и навоз»… — Древнее название Парижа — Лютеция — восходит к латинскому слову lutum (грязь).
(обратно)805
…дали имя в честь Изиды, культ которой дошел и до него. — Латинское название Парижа (Parisii) некоторые историки по созвучию пытались возвести к имени богини Изиды (Isis).
(обратно)806
Первый сенат состоял из лодочников. — Во времена Тиберия (I в.) артель лодочников воздвигла алтарь в честь Юпитера на месте современного собора Парижской богоматери, что, по преданию, положило начало Парижу.
(обратно)807
…другие герои-грабители… — Имеется в виду германское племя франков, вторгшееся во Францию в V в.
(обратно)808
Стр. 597. …из-за пустых мудрствований… — намек на религиозные войны во Франции в XVI в.
(обратно)809
…смеяться и петь куплеты. — Сатирические куплеты во Франции XVIII в. назывались «водевилями». Пушкин (не без влияния Вольтера) писал об этой эпохе в «Арапе Петра Великого»: «…французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей».
(обратно)810
…скрываться в пещерах… — то есть в монастырях.
(обратно)811
Другие занятые люди… — представители судейского сословия.
(обратно)812
Легкий проступок какого-нибудь юноши… — Вольтер имеет в виду шевалье де Ла Барра (1747–1766), обвиненного в том, что он демонстративно сломал распятие, и обезглавленного за это 1 июля 1766 г. Этот яркий случай религиозной нетерпимости и фанатизма имел широкий отклик в Европе.
(обратно)813
Стр. 598. Некий газетчик-друид… — Вольтер подразумевает неизвестного издателя выходившей с 1728 г. газеты «Церковные новости». На обложке комплектов газеты за 1755–1759 гг., принадлежавших Вольтеру, писатель велел вытеснить слова: «Церковные глупости».
(обратно)814
…оборванными нищими и нищенками. — Вольтер имеет в виду секту конвульсионеров (см. прим. к стр. 60).
(обратно)815
Отставные друиды… — иезуиты, изгнанные из Франции в 1764 г.
(обратно)816
…зловонным отщепенцам в серых одеждах. — В сером ходили монахи-ораторианцы, к которым перешли учебные заведения, где ранее преподавали иезуиты.
(обратно)817
Несколько архидруидов сочиняли гнусные пасквили. — Вольтер имеет в виду выступления в защиту иезуитов ряда французских архиепископов, в частности архиепископа парижского Кристофа де Бомона. Вольтер старательно собирал такого рода книжки и оставил на их полях немало язвительных пометок.
(обратно)818
Стр. 599. …на ужин к одной даме… — Вольтер имеет в виду Марию-Терезу Жоффрен (1699–1777), хозяйку популярного парижского салона, где часто бывали энциклопедисты; по приглашению Станислава Понятовского она посетила Польшу.
(обратно)819
Стр. 602. …дом, летающий по воздуху. — Вольтер имеет в виду популярную церковную легенду о том, что хижина, в которой архангел благовестил деве Марии, была перенесена небесным воинством из Назарета в Далмацию, а затем в Италию. Эти события церковное предание относит к 1291 и 1295 гг.
(обратно)820
Стр. 603. Бетис — древнее название Гвадалквивира.
(обратно)821
Бетика — древнее название испанской провинции Андалусии.
(обратно)822
…именуемых «разыскателями» или «антропокайями». — Вольтер имеет в виду инквизиторов, название которых происходит от латинского глагола — разыскивать; «антропокайи» — буквально «человекосжигатели» (от греч. anthropos — человек и kaio — жечь).
(обратно)823
Стр. 604. Магог — библейский персонаж, один из сыновей Иафета, третьего сына Ноя («Бытие», X, 2). Его царство якобы находилось там, где обитали позже племена скифов.
(обратно)824
Стр. 605. Престарелый монарх… — Имеется в виду испанский король Карл III (1759–1788), изгнавший иезуитов и боровшийся с инквизицией.
(обратно)825
Стр. 608. Дидона — по греческим мифам, переселилась в Северную Африку и основала город Карфаген, после того как брат ее, тирский царь Пигмалион, убил ее мужа.
(обратно)826
Стр. 610. Не дозволяйте… подделывателям… — Вольтер имеет в виду практиковавшийся в XVIII в. обычай выпускать подложные продолжения и окончания пользовавшихся популярностью книг. До 1768 г. появилось по меньшей мере четыре переработки «Кандида». Переделки и продолжения «Простодушного» неизвестны.
(обратно)827
…похождения целомудренной Жанны… некий бывший капуцин изуродовал… — см. прим. к стр. 30.
(обратно)828
Кожэ Франсуа-Мари (1723–1780) — французский литератор, выступивший в 1767 г. с памфлетом, направленным против романа Мармонтеля «Велизарий».
(обратно)829
Ларше — см. прим. на стр. 675.
(обратно)830
…наша несравненная Нинон… — Вольтер имеет в виду куртизанку Нинон де Ланкло (1620–1705), которая славилась своим умом и красотой и дружила со многими выдающимися людьми своего времени.
(обратно)831
Жедуэн Никола (1667–1744) — французский литератор, известный главным образом как переводчик.
(обратно)832
Стр. 611. Шатонеф Никола (ум. в 1708 г.) — близкий друг Нинон де Ланкло; крестный отец Вольтера.
(обратно)833
Бисетр — вначале тюрьма, затем сумасшедший дом.
(обратно)834
«Шотландка» (1760) — комедия Вольтера, в которой он вывел своего заклятого врага Фрерона в образе шпиона и доносчика Флерона.
(обратно)835
…сыну отца Дефонтена… — Французский литератор Пьер-Франсуа Дефонтен (1685–1745) по обвинению в безнравственности был заключен в тюрьму Бисетр; Вольтер содействовал его освобождению в 1724 г. Впоследствии Дефонтен в «Обозрении современной литературы» (1735) раскритиковал ряд произведений Вольтера, на что писатель ответил резким и остроумным памфлетом (1736), за которым последовал памфлет Дефонтена «Вольтеромания» (1738).
(обратно)836
…но не выше дымовой трубы… — Соблазненный Дефонтеном юноша был трубочистом.
(обратно)837
…писака-богослов… — снова выпад против издателя газеты «Церковные новости».
(обратно)838
Бешеран — парижский священник; одна нога у него была короче другой, и он, надеясь излечиться, ходил на могилу святого Медарда. Был задержан и препровожден в тюрьму Сен-Лазар как конвульсионер.
(обратно)839
Шомей Авраам (1730–1790) — автор восьмитомной работы «Законное предубеждение против Энциклопедии» (1758), враг просветителей.
(обратно)840
Рибалье — один из влиятельных профессоров теологического факультета Сорбонны: был королевским цензором.
(обратно)841
К ПРИЛОЖЕНИЯМ
Стр. 642. …не будет Бар-Кохбы… Иоанна Лейденского… — Бар-Кохба — вождь иудейского восстания против римского владычества (132–135 гг.); обе стороны проявили крайнюю жестокость. Иоанн Лейденский (казнен в 1536 г.) — глава мюнхенских анабаптистов, ярый религиозный фанатик.
(обратно)842
Севеннские пророки — вожаки восстания «камизаров» — французских протестантов, пытавшихся отстаивать свою веру и права после отмены в 1685 г. Нантского эдикта.
(обратно)843
Стр. 643. Жак Клеман — доминиканский монах, убивший в 1589 г. французского короля Генриха III.
(обратно)844
…стоили жизни принцу Вильгельму Оранскому… — Деятель Нидерландской революции, проходившей под знаменем протестантизма, Вильгельм Оранский был в 1584 г. убит католиком Жераром.
(обратно)845
Страда Фамиано — итальянский историк конца XVI в., подробно описавший события Нидерландской революции.
(обратно)846
Польтро де Мере Жан (1537–1563) — протестант, предательски убивший одного из вождей католической Лиги, герцога Франсуа де Гиза (1563).
(обратно)847
Стр. 644. Жюрье Пьер (1637–1713) — богослов-протестант, преследовавший свободомыслящего философа Пьера Бейля (1647–1706), предшественника французских просветителей.
А. Михайлов
(обратно)




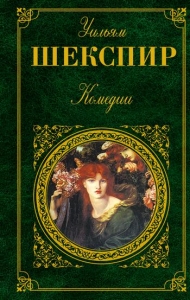
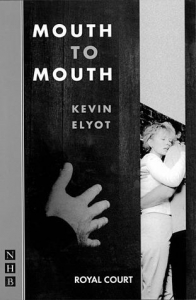

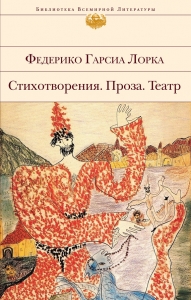
Комментарии к книге «Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести», Вольтер
Всего 0 комментариев