Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Посвящается великому русскому артисту
Юрию Богатыреву
Комната, похожая на больничную палату. Три постели; куда-то окно; дверь в туалетную комнату.
Двое мужчин.
1-й (с полотенцем на шее). Доброе, утро. Как поспалось?
2-й. Скверно. А впрочем… поначалу будто и хорошо – привиделись просторы наши – луга с лесами наперемешку. Зелень… как не видел я больше в другой природе – мир написан одною зеленою краской, но столько у нее оттенков, что и не надобно другой никакой.
1-й. От слов ваших мелькнуло в воображении. Там ближе к северу ведь?
2-й. Уж и север почти.
1-й. Лишайник попадается?
2-й. Да, самый растительный долгожитель. Глядишь на него – утягивает в глубину времен… даже где самих времен еще нет, где начиналось всё только – коснешься вдруг самого что ни на есть начала! К вам ощущенье такое не приходило?
1-й. Не-ет, в другую, скорее, сторону: что все когда-то было, что во многий раз повторяется.
2-й. (Разочаровано). А не скучно ли?
1-й. Случается. (Оба смеются). Все-же не так плохо ночь на новом месте прошла?
2-й. Под утро стал урывками спать с дурным чувством, что просыпаться не к чему. Назад в сон стремлюсь, да выходит совсем ненадолго…
1-й. От нового места. С непривычки и беспокойство.
2-й. Нет, знакомо оно. В последние полтора, этак, года себя обнаружило – что вот бы не просыпаться.
1-й. Что в этот мир не надо уже?
2-й. Да, точно очень.
1-й. Тревожное состояние, называется. Пройдет, здесь спокойно у нас.
Второй человек смотрит исподлобья слегка, с недоверием.
2-й. Дай-то Бог.
Берет полотенце, щетку зубную в футляре.
1-й. Там паста хорошая прямо на полочке. Ее много, вы пользуйтесь.
2-й. Благодарю за приятное одолжение. Вы хороший товарищ.
1-й. (Вдруг занервничав). Пустяки-пустяки, не стоит, тут нет ничего.
Второй уходит.
Пауза небольшая, входит санитар Ваня.
– А где… который?
1-й. В туалетной комнате.
Ваня. И как у вас с ним? Научились отличать?
1-й. Легко совсем. Жаловался – под утро сон был прерывистый, беспокойный.
Ваня. (Вынимает блокнотик, делает быстро запись). Сон нормализуем. … А нынче вам в компанию третий поступит.
1-й. Кто таков?
Ваня. Неизвестно. Вот выведайте у него, и в понедельник доктору скажем.
1-й. (Улыбается, кивает слегка головой). Вань, я всё хотел спросить – ты почему такую работу выбрал?
Ваня. Старшим санитаром? (Садится, на стул задом наперед). Я почти два курса медицинского закончил.
1-й. Вон как! А спорт этот велосипедный, у тебя, значит, попутным был?
Ваня. То и плохо, что вышел на первое место. Шанс появился попасть на всемирную универсиаду. На «отборочных» я в тройку легко попадал. Ну и пришел бы себе вторым-третьим.
1-й. Хватало?
Ваня. Вполне. Да кураж появился, чувствую – больше могу, тут виражик подвел… а скорость за пятьдесят… Думали сначала рука, потом, оказалось – отек правой стволовой части мозга.
1-й. Операцию делали?
Ваня. Да, но запоминание стало для учебы негодное. Сейчас, хотя, восстанавливается. Только уже никакого спорта. Стипендия по спорту тоже – тю-тю. И сразу никому стал не нужен.
1-й. А родители?
Ваня. Мать в автокатастрофе погибла, когда мне было четыре года. Отец давно женат вторым браком. В квартире тесновато, я и так проживал больше не с ними, а в общежитии. А теперь двоюродная бабка меня к себе забрала.
1-й. С ней и живешь?
Ваня. С ней.
1-й. И ничего?.. Материально?
Ваня. Хорошо даже, можно сказать. Ну, по сравнению. У нее пенсия не такая уж маленькая. Я здесь за выходные дежурства еще полставки имею. Питаюсь.
1-й. Тоже сейчас не пустяк.
Ваня. И спокойно. В нашем отделении не буйные какие-нибудь.
Дверь из туалетной комнаты широко растворяется, появляется человек; от того – сгорбленного и понурого – нет следа; этот – с улыбкой веселой, блеск в подвижных глазах.
2-й. Ваня, здравствуйте, друг мой!
Подходит быстро, пожимает вставшему навстречу руку.
Ваня. Как спали, э, Жорж?
1-й одобрительно ему кивает.
Жорж. Спасибо, друг мой, спал хорошо. Под утро, правда, от нового, должно быть, места, беспокойство явилось некоторое.
1-й. Жорж рассказывал мне вчера перед сном про их кавалергардский полк, забавного очень много.
Жорж. Заболтал вас. Но воспоминания всегда начинаются с пустяка, да позволь, дай им щелочку, хлынут таким потоком, что возможности нет совладать. (Хлопает Ваню по плечу). А из вас отличный бы вышел кавалергард – рост, статность… и глаза у вас, друг мой, умные.
Ваня. Ну уж…
1-й. Два года в медицинском отучился, да спортивная травма серьезная подвела.
Жорж. О, не унывайте, мой друг! Скольких офицеров я знал с раненьями в войнах, иные едва выжили, да выжили и выправились потом. Не унывайте, кавалергард! Цель ставьте и дорога откроется. Я вот, выброшенный отовсюду, и обязанный заботиться уже о семье, понял вдруг: опускает голову человек – и нет скоро его. Наоборот следует: превзойти себя. Превзойти, чтобы стать собою самим!
Ваня. Превзойти себя, чтобы собою стать?
Жорж. Именно. Иначе и не поймешь никогда – кто ты.
1-й. Неплохо замечено.
Жорж. Уж верно, не мною первым.
1-й. Замечено очень немногими, а выполнено почти что никем. Хотя вот вам удалось.
Жорж вдруг задумывается…
Ваня. А ведь на завтрак уже пора. Отправляйтесь, господа.
Жорж. (На лице снова улыбка). На завтрак? И очень кстати! Ужин, помнится, вчерашний нехитрым был, но для пищеваренья здоровым. (Берет коллегу за плечи). Идемте, мой друг.
Комната перед палатой.
Входят из коридора, уходящего в глубину сцены, Ваня и человек лет сорока пяти – высокого роста, худощавый.
Ваня , показывая на дверь в палату: Там ваша диван-кровать, тумбочка, а здесь и холодная вода, и кипяток – если чая попить, в шкафчике чай – черный, зеленый, сахар… Я до утра понедельника тут на дежурстве, обращайтесь по любому поводу. Зовут меня Иван. А к вам как обращаться?
Человек. Да как угодно. … Меня по-разному называли. А собственного имени, сколько себя помню, и не было.
Ваня. А в детстве?
Человек. (Вздрагивает и смотрит несколько секунд удивленно). Как интересно ты спросил.
Ваня. Что же особенного?
Человек. (Оживленно, всё с тем же легким удивлением; глядит в сторону уже не на Ивана). Мне почему-то в голову не приходила тема эта – про детство. (Пауза. И с недобрым теперь выражением). Нет, придумать же надо, чтобы вообще не было детства!
Ваня. Я, извините, вас недопонял – тяжелые очень годы? Или вы их совсем не помните?
Человек. Да что же помнить, если вовсе их не было. (Хлопает в ладоши). Ну, гениально! Нет детства – нет человека, ха!
Ваня. (Обеспокоенно). Не волнуйтесь, пожалуйста. У нас отличный зав. отделением. Всё вспомните – и детство, и имя.
Человек. (Уже спокойно и равнодушно). Ах имя… имя… Зови меня, Ваня, «князь». Если тебе это не претит, разумеется.
Ваня. (Улыбается). Не претит совсем.
Человек. Ну и славно.
Ваня. А сейчас завтрак, как раз. Сходите-покушайте.
Человек . Спасибо, есть не хочу. А чая бы выпил.
Ваня. Отлично, и я с вами попью.
Быстро достает чашки из шкафа, спрашивает за спину:
– Вам черный или зеленый?
Человек. По утреннему времени лучше черный.
Ваня проворно кладет на стол сахарницу, пакетики в чашки, заливает в них кипяток.
– Прошу.
Где-то в глубине пробуют гитару и голос, раздается пение приятным высоким баритоном:Поговори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная.
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная.
Человек. Это кто? Ваня. Цыган. То есть по жизни он бухгалтер. Вы потом в столовой увидите – толстый такой в очках.
Вот там звезда одна горит
Так ярко и мучительно.
Лучами сердце шевелит,
Дразня его язвительно.
Убыстряя:
Чего от сердца нужно ей,
Ведь знает без того она,
Что к ней тоскою долгих лет
Вся жизнь моя прикована.
Ваня. Говорит, сбежал из табора, не поладил с их цыганским бароном – вор, дескать, бандит.
Человек. Барон?
Ваня. Ну, или генеральный директор компании этой, и заместитель его. И проверяющая организация.
Человек. От здешней жизни не убежишь. Места тут много, а бежать некуда.
Ваня. (Кивая в неопределенное). Там проще?
Человек. Там интереснее.
Ваня. Чем?
Человек. Есть за что погибать.
Ваня. А здесь разве… войны у нас такие страшные.
Человек. Страшного много, красивого мало. Подвиг, Ваня, бывает от горя, от нужды безысходной, а бывает от счастья стать выше себя самого.
Ваня. Это как, например?
Человек. Примеров много… вот, Себастьян Элькано… (Ваня, качнув головой, показывает – не знает) мелкородовытый испанец, как и многие в то время, ищет успеха в войнах, в мореплаваниях… Добился попасть в команду Магеллана.
Ваня. На первое кругосветное? А сам Магеллан ведь убит был где-то туземцами?
Человек. Случилось. И убиты были многие из команды, а кто-то в дороге погиб от болезней… Когда корабль «Викто́ра» подходил к родным испанским берегам, старшим среди офицеров остался лейтенант Элькано. Плыть совсем немного, им уже палили из пушек с берега, и тогда Элькано велел своим семнадцати товарищам приспустить паруса – не спешить, длить мгновения: «друзья, сейчас мы как Бог творим великое из ничего, а «ничего» это вечность, потом будут деньги и слава, но сейчас у нас вечность». Чувствуешь, Ваня?
Ваня. Если честно, не до конца.
Человек. А они все разрыдались.
Ваня. Потом их наградили?
Человек. Деньгами? Конечно. А Элькано получил еще самое большое из возможного – Король Испании подарил ему герб – Земной шар с латинской надписью: «Ты первый обогнул меня».
Ваня. Я все-таки понял – главными для него все равно были те последние минуты, да?
Человек улыбается и начинает пить чай маленькими глотками…
Человек. Ну а как тебе здесь с ненормальными?
Ваня. Неплохо. … Познавательно даже. У нас метод лечения – ничего не скрывать от пациентов. И не считать их ненормальными.
Человек. А чем их считать?
Ваня. Наш зав. отделением диссертацию докторскую пишет – новая категория в психиатрии: «предпочтение другой личности».
Человек хмыкает.
Ваня. Это как бы творческое самопреобразование.
Человек. Так что – не болезнь?
Ваня. Доктор считает, что термин «болезнь» мешает понять суть.
Человек. Ну-да, а которую?
Ваня. Поиск другой судьбы, и проживание в ней. А потребность такая имеет полные личностные права.
Человек опять хмыкает с видом «ни за ни против».
Ваня. Вы все-таки с чем к нам пожаловали?
Человек. У-у, не преувеличу, Иван, сказав, что черт знает с чем.
Входят вернувшиеся с завтрака, Ваня встает:
– Познакомьтесь, ваши соседи.
Вошедшие смотрят на человека, тот на них.
Жорж (Приветливо улыбаясь). Жорж.
Человек. (Сидя нога на ногу). Князь. Если вас не затруднит такое ко мне обращение.
Жорж. Вовсе не затруднит.
1-й. Иуда.
Человек. (Смотрит секунду, садится прямо) То есть, я правильно понимаю…
Иуда. Вы правильно понимаете.
Человек. Любопытная встреча.
Смотрят друг на друга, Жорж в этой паузе чувствует себя неловко, обращается к Человеку:
– Что же вы, князь, пустой чай пьете, там завтрак вполне недурной.
Человек. А пожалуй, что и схожу.
Ваня. (Поощрительно). Да, не поздно еще.
Человек поднимается и уходит.
Иуда улыбается всем, и в воздух, и идет в палату.
Жорж. (В ту сторону). Мне его жаль.
Ваня. Почему?
Жорж. Всё время переживает события те. Отвлечется ненадолго и снова туда к ним уходит.
Ваня. А зачем, вы думаете, он так поступил? Тридцать серебряников не крупная сумма. Тут выступал один историк по телевизору, говорил – за такие деньги можно было купить не более десятка хороших овец.
Жорж. Мы не знаем, как было на самом деле. (Морщит лоб, разговор, похоже, ему неприятен). Возможно, Иуда боялся, что римляне начнут репрессии против евреев, решил – лучше пожертвовать одним ради многих.
Ваня. Я, когда после травмы вылеживался, читал Евангелие – Бабушка приносила. Ничего там, вроде, про репрессии от римлян не сказано, наоборот – Пилат хорошо был настроен.
Жорж. Евангелие эти устанавливались при Императоре Константине, когда римляне обращались массово в христианство. Происходило это, друг мой, через триста лет после Христа. Триста лет (грустнеет очень)… Вот как обо мне стали нелепые сказки рассказывать, и трех лет не прошло.
Ваня. В каком смысле сказки?
Жорж. В том, что я во всех видах злодей – разве забыли придумать, чьих-то денег не крал. (Смотрит в пол, нервно вздыхает). Эко им в голову не пришло!
Ваня. (Торопясь успокоить). Не похожи вы совсем на злодея.
Жорж. (Порывисто). Спасибо, вы искренне сказали! (И снова погружаясь в обиду). Додумались даже, что я на дуэль поддел под мундир кольчугу.
Ваня. Помню, учитель в школе так нам и говорил. Только не очень уверенно. Как гипотезу.
Жорж. Помилуй, ну что за гипотеза. Если у обвиненья нет совести, ум, хотя малый, надо иметь. Где ж в Петербурге найти за два дня кольчугу, разве из музея украсть? Да и как бы вышло удержать такое в секрете?
Ваня. Правда. Ха, я еще сейчас знаете что представил? Вот он первый бы выстрелил и попал. Вышло б: стоит человек с дыркой в мундире, еще от удара пули бы качнуло…
Жорж. Непременно.
Ваня. И стоит невредимый.
Жорж. Позор хуже смерти, – сразу и застрелиться. Как полагаете, друг мой, отчего одни люди измышляют грязное, другие же никогда такого не сделают?
Ваня выжидательно смотрит.
Жорж. Оттого, что первые могут представить себя совершающими подобное, а вторые не могут – им и фантазия о таком невдомек.
Ваня. (Радостно). Верно!
Жорж. А еще придумали, что я относился к произошедшему, как счастливому повороту судьбы.
Ваня. (Не уверенно, что стоит задавать этот вопрос). А дальше как было?
Жорж. Жену через семь лет потерял.
Ваня. Это во Франции уже?
Жорж. Да, меня почти сразу выслали.
Ваня. И не женились больше?
Жорж. (Отрицательно качает головой). Потом другая кара Господня. Одна из дочерей моих – Леони – ненавистью стала ко мне проникаться. Почти уже с детских лет.
Ваня. А по какой причине?
Жорж. Не могу объяснить. Видно, Господь так назначил. Я не меньше ее любил, не меньше внимания уделял. Как-то прознала она про ту дуэль… Русские корни ее завораживали, рано начала учить русский язык и, по способностям своим огромным, одолела его до полноценного понимания. Выговаривала, правда, смешно. Да… а меня в глаза убийцею называла. Мог ли я радоваться таким обстоятельствам жизни?
Ваня. Как потом она, дочка ваша, не одумалась?
Жорж отрицательно качает головой. (После паузы). Умерла в сумасшедшем доме.
Ваня. Вот тебе…
Жорж. Извините, что подверг невеселой истории из жизни своей. Пойду прилягу, сон под утро был беспокойный. Картинки из прошлого: холодно, я на крыльцо выбежал – проводить. Отношения находились еще совсем неиспорченными.
(Входит Человек)
Бал кончался у Трубецких. Пушкины на санях уже отъехали. У нее сзади был виден только капор меховой, а он повернулся ко мне и зубы скалил, и взгляд как у зверя, который показывает – может напасть. Сани уезжают, а я всё вижу эти зубы и этот звериный взгляд…
Человек. Ну что вы, Жорж, хотите от черномазого?
Жорж. Как вы князь… там, право, крови этой почти ничего.
Человек. М-м, искра тоже – «почти ничего». А что иной раз получается – сами знаете.
Ваня. Вы, Жорж, зеваете. Правда, прилягте, раз плохо спалось.
Жорж. Пожалуй что, да не на долго. (Уходит).
Человек. Проходит и садится к Ване за столик. (В сторону двери, за которой скрылся Жорж). Что, есть проблемы?
Ваня. (Посмотрев туда, наклоняется слегка к Человеку). Тут сложный случай. Вы поняли, кто он?
Человек. Догадался уже – Жорж Дантес.
Ваня. Не только. Раздвоение личности. Полярное. Осторожнее надо быть, потому что второй…
Человек. Что?! Пушкин?! (Встает… снова садится). Этому непременно надлежало когда-то произойти.
Ваня. Почему непременно?
Человек. По двум причинам. Во-первых, создатель наш зачем-то решил, что лучше не ограничивать мир и предоставить ему все возможности. То есть – всё имеет право случиться… Ты морщишься?
Ваня. Да как-то это… не чересчур?
Человек. По моему мнению – тоже. А поскольку всему предоставлено право присутствия, выскажу мысль, что нельзя исключать Его (показывает пальцем вверх) недоработку. Она ведь тоже имеет право на существование.
Ваня задумывается.
Человек. Нелогично разве? Э, ты опять недоволен?
Ваня. Выходит тогда, недоработка…
Человек. Ну, правильно-правильно, продолжай.
Ваня. (Смутившись). Нет, вы поняли, вы лучше скажите.
Человек. Выходит, что недоработки не может не быть, и рано или поздно она обнаружится.
Ваня. Здорово! Нет, я в том смысле, что вы здорово объяснили, мысль тут очень глубокая.
Человек. (Пренебрежительно). Ну, не из самых глубоких.
Человек вытягивает ноги, закидывает голову…
В Петербурге было много красивых женщин, Ваня. Однако красота в привычном для нас виде есть ни что иное как привлекательность. (Смотрит на Ваню, тот не очень уверенно кивает). Привлекательность – субъективное впечатление, поэтому разных мужчин тянет к разным женщинам… а?
Ваня кивает более уверенно.
Но Наталья Гончарова была идеальным произведеньем. Значит, тем, что не может существовать на земле, потому что материя всегда огрубляет идею. … «Всегда», «Никогда» – их не бывает. «Всегда» вдруг сбивается с твердой поступи, «Никогда» замечает, что неприступный рубеж оказался с изъяном, видит щелку, куда скользнуть… Однако же я отвлекся – раздумья уводят от главного. Так вот – многие вздрагивали, когда видели Гончарову в первый раз… да и не только в первый. А женщины, тот редкий случай в истории, ей не завидовали.
Ваня. Как это сказать, из-за слишком сильной разницы?
Человек. Именно, в самую точку.
Ваня. А как у нее… ну, было что-нибудь с Жоржем?
Человек. Нет. Она мужу изменить не могла. По религиозным своим убеждениям, во-первых. Да и что бы эта связь ей давала? Она Жоржа любила, а физической связью – да воровскою еще – любовь удовлетворить нельзя. Понимаешь?
Ваня. М-м…
Человек. Любовь – она повыше. Вот и жила так, стиснутая религиозной моралью и горечью от невозможности любить любимого человека.
Ваня. Мне показалось, он человек занимательный.
Человек. Жорж?
Ваня. Да. Сказал: надо превзойти себя, чтобы стать самим собой. Похоже, вроде, как тренеры у нас говорили – преодолеть себя?
Человек. Нет, Ваня, похоже, но вовсе не то.В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороге троечка мчится.
Его выслали, он писал приемному отцу Геккерену как ехал в открытых санях, держал под шинелью простреленную болевшую руку и смотрел на бедное звездами ночное небо России. И что под ним, наверно, вообще не положено быть человеческому счастью.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь —
Колокольчик звенит,
Этот звук, этот звон
О любви говорит.
И хотя та любовь покинула его душу, он не пустит на ее место горькое чувство.
С молодою женой
Мой соперник стоит.
Будет напрягать силы, чтобы стать другим человеком, который уже никогда не позволит сделать себя игрушкою обстоятельств.
В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороге троечка мчится.
Ваня. И удалось?
Человек. А?
Ваня. Ему превзойти себя?
Человек. Да-а! Получив в юношестве лишь поверхностное образование, и почти не добавив к нему ничего на придворной военной службе, однако стал не только французским сенатором и крупным политиком, а представь – одним из лучших ораторов Франции. Одолел в политическом споре самого Виктора Гюго.
Ваня. (Присвистнув). Не сла-бо! А Гюго тоже в политику лез?
Человек. Все образованные французы в нее лезли, и даже не очень образованные. Крайне подвижная нация, Ваня, в отличие от… ну, знаешь кого.
Ваня. А про недоработку вы говорили (показывает кивком вверх), к этому она какое отношение имеет?
Человек. Очень имеет. Выхода из положения не было. У всех троих.
Ваня. Получается, кто-то один из них…
Человек. Угу. (Показывает пальцами открытой руки вверх). Ну, чего, вот, хотел? А скажут – «не этого», дескать: «вот они сами».
Ваня. Странно получается, тут один священник выступал… (Появляется Иуда). Что-то вы мало поспали. Чаю хотите?
Иуда. Крепкого немножко бы выпил. Я перебил разговор, вы продолжайте.
Ваня. (Налаживая чай). Священник один по телевизору… что Бог знает вперед всю жизнь каждого человека.
Человек и Иуда оба вздрагивают.
Человек. Именно так и сказал?
Ваня. Вот именно так. Я удивился, получается – совсем программа какая-то. И кто ее для каждого написал. Опять же вы говорили про «все возможности». Они тогда для кого?
Человек. И для кого, добавь, история человеческая. Дурак он, этот поп.
Иуда. Ну, князь, глупость не грех ведь.
Человек. Умнеть не хотят.
Иуда. (Обращаясь к Ивану). Тут на простом примере лучше всего объяснить. Вот океан, он свою предельную глубину имеет?
Ваня. Мариинская впадина. Одиннадцать километров, с чем-то.
Иуда. Получается – глубина всего океана совпадает с глубиной одного лишь какого-то места. Одно место всего, а в нем и есть глубина океана.
Человек. (Одобрительно кивает). Пример удачный. Не догадался еще Ваня?
Ваня. (Напрягается, щелкает пальцами). В том смысле…
Иуда. Что вопрос человеческой жизни равен по глубине всему вероучению. А само вероучение еще не закончилось, то есть океана этого мы до конца не знаем.
Человек. А я бы добавил, что и Он (тыкает пальцем вверх) его не знает. (Иуда хочет, кажется, возразить, но Человек опережает): Потому что сам сделал себя частью истории. Ввязался в борьбу, так уж знай, что не всё от тебя дальше зависит, есть другая сторона, а ты только часть поединка. Так, Ваня?
Ваня не успевает сказать.
Иуда . Наверное, князь, нельзя выражать всё высшее частными примерами.
Человек. Ну, высшее-низшее… Да всё абсолютно суть частные примеры, а уж складывать из них можно любую конструкцию. Что не частное, скажи мне, пожалуйста?.. И главное – раз есть в частном, оно есть вообще.
Иуда. Приходится согласиться, но про «поединок» ты зря сказал. Бог с миром не борется. Это Его создание, Он всесилен над ним.
Человек. У-у, крайне распространенное заблуждение, не виню тебя за него. Коль уж мир создан во всей полноте, к нему нельзя ничего добавить. А раз Он не может ничего добавить, значит – созданное не меньше Его самого.
Ваня. А почему, всё-таки, должна быть борьба?
Человек. Ладно, отношения, если так вам больше нравится. (Иван подает Иуде заварившийся чай, тот сразу пробует пить). Только равные отношения, равные!
Иуда вздрагивает, ставит чашку на стол, смотрит на брюки – не пролил ли на себя. Или делает вид, не умея на сказанное ответить.
Ваня. А у меня, вот, видение было, и недавно совсем.
Иуда. Видение?
Ваня. Или иллюзия, не знаю, как правильнее…
Иуда. Ты расскажи.
Ваня. С месяц назад, примерно. Иду я сюда на работу. Утро такое еще, что мало людей. Тепло, погода ясная. Небо, замечаю, бездонное стало – гляжу, и всё дальше вижу и дальше, и даже страшно немного, что я так в него ухожу… потом вдруг исчезло всё, миг какой-то – я себя вижу маленькой золотой точкой – искрой сияющей, а рядом со мной огромное, не огромное даже, а ощущением – бесконечное, и всё оно золотое, как я. Только сравнить нельзя мою песчинку с этим…
Иуда. Необъятным.
Ваня. Да.
Человек. Ну-ну?
Ваня. Чувство такое двойное. (Смущенно). Будто счастье, что есть вот бесконечное, и горечь, оттого что я с ним рядом ничто. И понял вдруг: раз есть бесконечное – оно же и вечное, не может быть одно без другого. Очень ясно понял тогда.
Человек. Или тебе так показалось. Человек не может чувствовать бесконечное.
Иуда. Не может, но хочет. А в чем по большому счету разница?
Человек. Неглупо сказано, Иуда… Но слишком философично, а истина, как известно, конкретна. И вот вам сравнение – капля и море. Море никаким числом капель не измеришь. С точностью до капли ведь не получится, так? И вывод просится: есть эта капля или нет – не имеет значения. А всё равно море состоит из капель, и никакое оно не бесконечное. В мире бесконечного нет.
Пушкин. Есть, князь, есть! Простите, что услышал конец разговора вашего и проник в него без спроса. Э-э, да чай! Но тут я со спросом: угостишь, Ваня?
Ваня. Черного крепкого?
Пушкин. Угадал, любезный Иван-царевич! А про море, князь, правильно, да лишь с одной стороны – не в том только дело, что исчислить его в каплях точно нельзя.
Человек. А в чем еще?
Пушкин. Дух морской не сложишь из капель – он от всего вместе – стихия чудная: то ласковая и манящая, а вдруг ужасная! ничему не знающая пощады.
Человек. (Задумчиво). Стихия по-гречески – первоначало…
Пушкин. И вот она, князь, в живом виде! Не в философии… а то слушаешь как Канта-Гегеля хвалят, и неловко – зевота одолевает. (Смеется весело, Ваня подвигает ему чай). Пушкин , указывая рукой: В одном глотке хорошего чая больше правды, чем в иной философии. А мысль философская не окрашенная чувством – разве не есть секулярность? Становится не жива, и правдою быть не может.
Иуда. Похоже очень – как Он говорил.
Пушкин. (Сразу живо). Каким Он был Иуда?
Иуда задумывается.
Пушкин. (Горячо). Уж верно совсем не таким же, как мы?
Иуда. Таким же… почти.
Пушкин. Нет, расскажи! Про чувства его, смеялся? А гневался?.. Ну же!
Иуда. Не гневался, не умел. А удручался. Потому что любовь, которая не ради себя, она сострадает и мучается. (Пауза). Смеялся редко… улыбался много, что день завтра будет, а утром – что он наступил.
Человек. И в тот последний, перед арестом?
Иуда. (Небольшая пауза). В последний я его утром не видел.
Человек. Зато видел, как Он шел, обливаясь слезами.
Иуда. Лож! Слезы были порой. Не за себя слезы, а за мрак людской, за который много большим заплатить им придется.
Человек. И что?
Пушкин. А что же еще оставалось?
Человек (Отмахивается и обращается к Иуде). Три года ты был с ним, и каждое утро он улыбался, знал новый день, но не знал, каким будет следующий, так?
Пушкин. Что же из этого, князь?
Человек. Но каким будет его конец, и что скоро будет, он знал. Вот так, в ожидании, день ото дня… А что в итоге, Иуда? Ты, любимый ученик, его предал. И за копейки какие-то. Тридцать серебряников – половина цены раба. Иуда, Он стоил половину цены раба?
Пушкин. Я не знал, что это так мало… хотя, право, нужно ли сейчас вспоминать…
Ваня. (Озабоченно). Да, князь, не стоит.
Человек. Нет, понять хочу – ты функцию выполнял? Вы, попросту, сговорились, да?
Пушкин. А для какой нужды им было сговориться, князь?
Человек. Как же, создать образ отступника, чтобы любому потом в харю тыкать – вот до какой низости вы способны.
Иуда. Мы не сговаривались.
Слышен гитарный строй
Пушкин. Чу!Поговори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная.
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная.
Пушкин. До чего свободна цыганская песня. А у нас всегда принуждение, всё выходит решенье какой-то задачи. Разве иной только раз проскользнет само из души, оттого что корсет на ней где-то ослаб.
Ваня. У вас-то, Александр Сергеевич, оно и проскальзывало часто.
Иуда. Чаще, чем у других.
Пушкин. (Не обращая внимания). И одинокого сколько в цыганских песнях. Я всегда с удивленьем цыган наблюдал – табор, все вместе, а свобода у каждого своя, и попробуй ее отыми – убьет. Не тебя, так себя.
Человек. Не так там всё идеально, Сергеич, но ощутил ты верное: свобода и одиночество как две стороны монеты, и потому, что свободу нельзя ни с кем разделить, пить сей напиток можно лишь каждому одному. И вкус его переменчив от раза – от сладости упоительной, а вот в нестерпимую горечь – что хочет вдруг человек сам свободно свою жизнь оборвать.
Пушкин. Метко, князь… и страшно. Вот чувствуешь-чувствуешь, да несколько точных слов – и окончательно смысл является. (Задумывается). Я, помню, в юности замирал вдруг при многолюдности, при теплоте окружающей – что не моё оно, мне не надобное, что я скиталец между миров, а отчего-то задержан в этом случайном, маленьком и вовсе мне непонятном. Страшно становилось: как в топь зашел, и дальше ступлю – меня глубже потянет, а там, недолго, – и вовсе уж засосет.
Человек. Поэтому написал: «Поэт, живи один»?
Пушкин. (Горько – вниз головой). Другим легко советы давать, а самому не получилось.
Человек. А у тебя, Иуда, получилось, да? Один, в стороне от всего человечества… и как оно?
Иуда. (Мотает головой). Неправда.
Человек. В чем?
Иуда. Что отдельно от человечества – неправда. Скорбь и вина единят всех людей, одни это в малости чувствуют, другие – больше… А чувствуют одно совершенно самое.
Человек. А-а, и последний в этом чувстве скорби-вины – он же и первый. Вы такую диалектику с Ним разработали для объединения человечества, да?.. Только оно, вишь, не хочет на этом объединяться, нос воротит.
Ваня. Князь, не стоит о грустном. Может, чайку?
Человек. … а и приму – зелененького на этот раз! Нет, о грустном, Ваня, я еще не начинал. Если б к примеру, вот в то время, когда ты, Сергеич, на Черной речке, и перед этим (крутит в воздухе пальцами), в это самое время в Латинской Америке, междоусобие шло – са-амый разгар.
Пушкин. Интересно очень, князь.
Ваня. Да, очень интересно.
Человек. Нет, дорогие, если я про интересное это начну рассказывать в деталях, вы на коленях молить станете, чтоб я прекратил.
Пушкин. Отчего так?
Человек. От того, например, что в очередной местной войне Парагвая с Аргентиной и Перу, за два года в Парагвае в живых остался лишь каждый пятый.
Ваня. То есть… не среди военных?
Человек. Вообще, Ваня, вообще. И что даже с самыми маленькими девочками делали, вы догадались?
Пушкин. Бр-р, да как же это Бог допустил!
Человек. (Указывая на Иуду). Ты у него спроси – он непосредственно общался. А так как Бог триедин – какая разница с кем именно.
(Пауза).
Ваня. (Глядя через плечо в окно). Ой, что за явление?
Человек тоже заглядывает в окно. Ваня быстро снимает телефонную трубку.
Ваня. (В трубку). Почему на территорию пропустили?
Человек. Ба-а, цыганки!
Ваня (Улыбается) … понял-понял. (Смотрит на Пушкина). Вы что, Александр Сергеевич?
Пушкин. Желанье есть пойти посмотреть.
Ваня. Пойдите, тут по садику вообще можно гулять. Только свитерок накиньте, прохладно сегодня.
Пушкин поспешно идет в палату. К Иуде: Не угодно ли за компанию?
Тот согласно кивает.
Оба скрываются за дверью палаты.
Ваня. (Негромко Человеку). Доктор пригласил – как бы из табора пришли навестить своего любимца.
Человек. А ну-ну, неплохо задумано… оригинально весьма.
Человек подходит к окну, открывает, слышны взахлеб голоса:
Ай, милый-дорогой наш! Солнце, как здоров-жив, алмазный?!.. Дай, господин, поцелую тебя!..
Мужской голос им отвечает, возгласы продолжаются.
Человек (в окно). Здравствуйте, ромалы!
Ему отвечают.
Пушкин с Иудой быстро выходят и скрываются в коридоре.Слышен голос к Человеку:
– Красивый, кто будешь?
Человек. (Весело). Буду?! Какой есть – всегда такой буду.
– Позолоти ручку!
Человек. Ой, ну что у вас за интерес – одно и то же всегда. Я вам лучше всяких денег подарок сделаю.
– Золото дашь, камней самоцветных?!
Человек (В комнату Ване). Вот народ однозначный, и чего он их воспевал? (В окно). Лучше золота, ромалы, лучше – сейчас Пушкин к вам придет!
Голоса:
Сам Пушкин?!.. Правду, говоришь?!.. Ай, радость, все от зависти умрут – мы Пушкина видели!
Человек. Вон, гляньте, уже и идет! (Высовывается, показывает вбок рукой).
Шум радостных голосов.
Гитара пробует мотив, голоса чуть вначале расходятся, но быстро сливаются:
К нам приехал, к нам приехал Сан Сергеич до-рогой!
Саша-Саша-Саша,
Саша-Саша-Саша,
Саша-Саша… Саша-Саша, Са-аша будь здоров
Будь здоров, Будь здоров, Будь…
Ваня. Эй, чегой-то они!
Человек. (Уступая ему у окна). Стаканчик шампанского, всего. Не повредит.
Голоса спрашивают, почему долго к ним не приезжал, про памятник нерукотворный, куда не зарастет тропа и проч.
Человек. Оставь их, Вань, ты чаю мне налить собирался. И окно лучше прикрой – голоса эти канальские только для песен пригодны, а мелят всегда одно и то же.
Ваня закрывает окно, становится тихо.
– Двойную заварку?
– Спасибо.
– Князь, вот вы намекали на сговор между Иудой…
– Не намекал, я прямо спросил – что за спектакль?
– Ну-да, и вроде бы для того они, чтоб низость человеческую показать. А чего тут специально показывать-то… пейте, пожалуйста, князь… меньше ее-подлости разве было в то время?
– Никогда не было меньше. (Отпив с удовольствием). Да и больше не было – потому что всегда под самую завязку. (Напряженно и недовольно). Вот не могу понять, чего они тогда замутили.
Пауза.
Ваня. Действительно, зачем нужен крайний?
Человек (Вздрагивает). Стоп!.. Как недавно поэт произнес – от правильного слова окончательный смысл является?
Ваня. Вроде того.
Человек. Ты сейчас это правильное слово нащупал.
Ваня. Э… шутка, да, князь?
Человек. Нет, в самый серьез. «Крайний», ты сказал, зачем им «крайний». А по-другому – «нижний». Это что получается, каждый, сколько он не напакостит, может сказать: «Всё ж я не самый в этом мире дурной. Вон, Иуда, вот это гад, ух, мерза-авец! А я еще ничего». Между прочим, так при еврейских погромах и говорили, крестами себя осеняя, – и в Европе, и здесь. Для чего, скажи пожалуйста, нужно, чтобы любой негодяй утешался – есть еще хуже меня?
Ваня. (Подумав). Ну, не знаю. Сказано ведь, что «пути неисповедимы».
Человек. Это о другом сказано. Не всё можно разъяснить до конца обычному человеку. «Ис-поведать» означает поведать полностью – исчерпывающе. Нет, тут другое, и никак не могу ниточку ухватить – зачем мерзавцам самодовольное утешенье давать?
Ваня. Чтобы надежда оставалась.
Человек. Как?
Ваня. Ну, чтоб человек окончательно себя не зачеркивал.
Человек. Не получается, Ваня. Из практики не получается – никакой низости не стесняются.
Ваня. (Заметив что-то в окне). Цыгане уходят, вон уже у ворот.
Человек. А наши?
Ваня. Вроде сюда направились. И разговор у них… э, если не ошибаюсь…
Человек. Что?
Ваня. Да кажется… опять изменения будут.
Человек. Ну увидим сейчас. Кипяточку немного плесни.
Ваня добавляет в полу отпитый стакан; передает, Человек делает глоток.
– У… хороший чай.
Делает еще глоток.
В коридоре слышны неразборчивые голоса.
Входят Иуда и…
Иуда. Вот Жорж (слегка усиливая имя голосом) говорит: цыгане водятся по всему миру, но только в России имеют религиозное почти значение.
Ваня. В каком смысле?
Жорж. К ним ездят как в храм, потому что с теми же целями – душу раскрыть. В церкви она робка и стыдлива, а у цыган – требовательная, жалуется на всё, а то и слезы льет, что мало ей.
Человек. Метко, Жорж! А самое любопытное – всё в один день: утром в церковь, вечером к цыганам. И никак эта душа предпочтенье сделать не может. Оттого что темную волю любит? Или рабства божьего света боится?
Жорж. (Взволновано). Я совсем к такому не вел, князь, вы мои слова слишком вольно трактуете. И как это, помилуйте, свет поработителем может быть?
Человек. Может… если освещает, чего видеть не хочется. Если от него невтерпеж, а деваться некуда. Так, Иуда?
Аккорды гитары:
тара-тара-та-та-та,
тара-тара-та-ра,
Две-е гитары, за стеной, жалобно заныли, эх, вся душа, полна тобой – ты ли это, ты ли-и!
Жорж. Как простотой сердца глубокого смысла можно достичь!
Человек. Вы о чем, Жорж? Тут на несколько пьяных слез.
Жорж. Нет, тут гораздо более – «вся душа полна тобой» – ведь глубже и страшнее не скажешь.
Человек вскидывает брови; Ваня тоже удивленно смотрит и робко спрашивает:
– Страшнее?
Жорж. Что страшнее, Ваня, когда собственной души уже вовсе нет?
Человек. Э-то интересно.
Жорж. Вот как почувствовал, что вся душа моя отдана ей, что места мне самому там нет никакого, а и ей не надо, ей измена – грех и погибель, так не страх даже, не отчаянье, а тело от пустоты жить не хочет, бьется в горячке… и дьявол нашептывает – ты возьми пистолет, во-он в кобуре.
Человек. Ой, Жорж, никто никому не нашептывал, ну зачем?
Жорж. (Чуть задумывается и кивает): Верно, князь, это всё от отчаянья. Спряталось оно в глубине, а памятью коснусь – насквозь болью пронзает.
Человек. (Успокаивая). Я понимаю.
Жорж. Вряд ли, князь, и не дай Бог понимать. Отчаянье – это чаянья нет – не ждешь уже ничего, а без ожиданья исчезает и самая вера – способность к ней.
Человек. У-у, интересно, да-а… Незадолго до дуэли произошло? Горячка вот эта.
Жорж. За три месяца. Тело словно и не моё, в голове бред… и вот в этом бреду…
Иуда. Вы, Жорж, не волнуйтесь.
Жорж. Я не волнуюсь, горечь одна… В бреду этом приходит вдруг поэма его «Цыгане», недавно только мною прочитанная – там ясность такая, там прямо ответ нашему случаю сказан – отпустить он должен ее, отпустить – дать развод.
Иуда. Что цыганку, полюбившую другого, отпустить надо?
Жорж. И дважды об этом – отец Земфиры ведь отпустил ее мать!
Человек. И вы, Жорж, охватились этой наивной идеей?
Жорж. Почему же наивной? Она любила меня и горячо в этом призналась! И Императрица, благоволившая ко мне, уговорила бы Императора поддержать. Только надо было мне самому говорить об этом с Натальей.
Иуда. А вы попросили приемного отца Геккерена?
Жорж. Даже и не просил, а сказал ему свою мысль, он предложил себя как посредника. За плохим еще самочувствием я согласился, и с радостью. Ах, неправильно оценил я дело – что нельзя пугать ее третьим лицом.
Человек. Милый Жорж, не дело, а ее вы неправильно оценили. Любила вас, любила… но не более высшего света, балов, в особенности дворцовых. Она, что, не видела каждый раз, входя в залу, взглядов на себя устремленных? А? И даже самого Императора Николая?.. Да, денег нет, а если являлись, он в карты проигрывал, – так тетка, Закревская, ей вполне на наряды давала. Муж некрасивый, к тому ж шалопут – но поэтический гений России. И тоже приятно, между прочим, первым поэтом России крутить-вертеть, а то и по морде въехать, как он сам не скрывал – «тяжеленька рука у моей супружницы».
Жорж. Да, помню в компании дружеской говорил, когда отношенья у нас еще к разрыву не шли. Смеялся.
Ваня. Жорж, а можно было на дуэль его не вызывать? Что там в письме такого особенного, ну, обругал он вас – в печку письмо, и всё.
Человек. Наивный ты, не с тем письмо было писано.
Жорж. Да, Ваня, не с тем. С оскорбляющих писем делали копии, показывали потом всем, если не следовал вызов. И письмо было не мне, а приемному отцу Геккерену, который по возрасту и дипломатическому статуту драться на дуэли не мог. А до чего же грязное было письмо, низкое во всех отношениях – словно один извозчик другому писал! И это первый поэт России…
Человек. Первый, первый… а обезьянью кровь не удержишь.
Жорж. (Не обращая внимания). Присутствие его часто чувствую – где-то, вот, рядом совсем.
Иуда. Вы ведь его убивать не хотели, верно?
Жорж. (Горячо). Клянусь, не хотел! И стрелять, заранье решил, ему в ногу. А вышло всё против воли моей…
Ваня. Как вышло?
Человек. Жорж, вы ведь хороший стрелок, а он – посредственный очень.
Жорж. Стали по команде сходится, мысль – посмотреть ему прямо в лицо, а рыхлый снег глядеть заставляет под ноги, ловлю взглядом лишь силуэт мне навстречу… он не стреляет, надежда вспыхнула – подойдем, вот, к барьеру с поднятыми вверх дулами, да всё и обойдется – два выстрела в воздух… вдруг нет, он спешно достиг своего барьера – бить в меня с близи наверняка, и пистолет уже поднят почти…
Ваня. Тут вы и поторопились?
Жорж. Если б не эти бугры под ногами всё равно бы в бедро попал, да дернуло выше чуть…
Человек. Что скажешь, Иуда, провидение Божие?.. Или как?
Иуда. Не знаю.
Ваня. Вы, князь, недавно сказали: тут такая самая глубина, что от Бога ли, от человека… от всего вместе выходит.
Человек. Говорил-говорил… а иногда сомненья берут – может, и нет никакой глубины, а так – насотворяли вместе и вместе (кивает вверх) уже и запутались? А?.. Ясности с годами что-то не прибавляется.
Иуда. Глубина, она ведь для тяжелых предметов, князь, а мелочь поверху плавает.
Человек. Уязвил. Только дурного вкуса колкость.
Пушкин. (Оскаливается и смеется). Браво, Иуда! Что, князь, против грубости нет приема? А где цыгане?.. Ах, мы вернулись уже. До чего, господа, незаботливый они о завтрашнем дне народ, ум вперед ничем не отягощенный. Оттого-то минуте каждой чувства все отданы. Как, друзья, завидовал я, встречая таборы их в Молдове, или в полынных степях одесских. Умеют вот сейчас жить, мгновение чувствовать!
Иуда. Вы, Александр Сергеевич, сами к чувству мгновения приспособлены, оттого и стихи по-настоящему выходили.
Пушкин. Да полно, друзья, много ли стало людям от этого толку.
Человек. Как сказать…
Ваня. Много, Александр Сергеевич. Наш учитель литературы Евгения Онегина наизусть почти знал.
Пушкин. Как можно, Ваня! Я сам его, бывало, спутаю – из какой что главы.
Ваня. Правда-правда. А у многих, и до сих пор, настольная эта книга.
Пушкин. …нет, брат, настольной книгой Евангелие быть должно… прости меня Господи.
Человек. Простит. Но я Сергеич, о произведении твоем, этом главном, немного иначе скажу. Если ты без обиды встретить готов?
Пушкин. Отчего же, князь, говори.
Человек. Да за пятки ты там всех покусал – всех и каждого. Это как нужно было всяк раз нагибаться. Ты на полу, что ли, раскладывал бумаги писать?.. Ну все там у тебя ничтожества, всех мордой свозил по грязи. Ленский, вот, в Германии философии обучался – всё равно вышел восторженный какой-то дурак, а прочие – так дальше романов Ричардсона и не дошли. Чмо, если по-современному!
Ваня. (Просительно и пытаясь смягчить). Татьяна, однако ж, князь…
Человек. Вот! Шура, ну что ты с ней сотворил, а?
Пушкин. (Неуверенно). Что же?
Человек. Согнул ее, и так согнутой на всю жизнь оставил. Ты ее даже в конце за толстого генерала замуж выдал – а что, других не было?! Хоть малость бы ей оставил – нелюбимого пусть, но бравого-импозантного, этакого вояку а-ля Милорадович.
Пушкин. (Робко). Я хотел…
Человек. Как лучше хотел, знаем. А суеверной до дури зачем ее выставил?.. Было?
Пушкин. Так все они…
Человек. А в дом уехавшего Онегина как потерявшая разум она таскалась, чуть ли не портки его забытые нюхала. Плохо, брат.
Ваня, Иуда наперебой:
Ваня. Но сколько крылатых фраз!
Иуда. Природа везде описана замечательно.
Человек. (С иронией). Галки на крестах особенно. Иль вот: «Едва ль найти на всю Россию три пары стройных женских ног». Совра-ал, Шура. Дурного много, но только не в этом.
Ваня. «Мы все глядим в Наполеоны»… или: «Почитаем всех нулями, а единицами себя».
Человек. Добавь: «Нас всех учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь» – это публике особенно нравится. Ха, а еще лучше: «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю». Ведь тоже оттуда?
Пушкин. (Смущенно, и делая вид, что занят размешиванием сахара в стакане). М-м, вольность веселого настроенья… шутка…
Человек. Ты пошутил, а они всерьез взяли, вот умора!
Ваня. Князь, в этом Александр Сергеевич не виноват.
Человек. Я тоже шучу, Ваня. В мире этом без шутки… действительно, можно повеситься.
Пушкин. Нет-нет, господа, князь важное говорит, я не глядел сам под этим углом. «За пятки покусал»… значит, до них самих и опустился.
Ваня. А учитель наш говорил: «Татьяна – не женщина». (И к Пушкину). Что вы писали ее как собственную судьбу.
Пушкин вздрагивает, задумывается… встает… снова садится.
Пушкин. Умом-то не сознавал… а впрямь… чувства связывали нас неутешной судьбой… и что счастье – иллюзия некая… вот сейчас подумал – вредная, может быть даже, иллюзия. Я так внутри себя и видел Татьяну – с пустыми мечтаньями… прав ты, князь, – «за пятки покусал» – низко, где нет ничего… тьмы не вышло, оттого и свет Танин получился маленький.
Ваня. И про слова Белинского вспомнилось.
Пушкин. Знаю, со способностями молодой человек.
Ваня. Что Татьяна – жертва собственных превосходств.
Человек. Оп-ля, интересно как получается, Шура, если соединить: судьба твоя, стало быть, – жертва твоих превосходств.
Пушкин. (С досадой). Фу, как нескладно! Человек не может пострадать от сильных своих сторон.
Человек. Не должен… но может.
Звонит телефон, Ваня берет трубку.
Человек успевает произнести:
– Дурное – всегда сделать может.
Ваня говорит в трубку «да-да», кладет и сообщает:
– Я за новым постельным бельем отлучусь. Минут на десять.
Как только он скрывается, Человек встает:
Седьмым чувством чую – тут в аптечном фонде у Ванечки этиловый спирт должен быть… О, вот и ключик (начинает отпирать большой настенный шкаф).
Иуда. Нехорошо, князь.
Человек. Это кто мне говорит про «нехорошо», вы не слышали, Александр Сергеевич?
Пушкин. (Смеется). Я тоже в некотором смущении.
Человек. (Взглянув внутрь). Ба-а, тут пузырь полный. И не мене, как литр (вынимает, ставит на стол). Мы по чуть-чуть – по две ложечки в чай. Ваше окончательное мнение, господа?
Пушкин. Полагаю, грех невелик.
Человек . (Начинает быстро хозяйствовать по готовке чая). А вот любопытная сценка вспомнилась по поводу греха.
Пушкин. Какая?
Человек. С черным козлом.
Пушкин. Для отпущенья грехов?
Человек. С ним. Представь себе, Шура… представь себе городскую площадь, посередине привязанного копытами к колышкам черного козла… вкруг него тройным кольцом очередь из евреев, а хвост ее уходит в глубину ближней улицы…
Пушкин. Постой, князь, я этакого количества евреев враз никогда не видел, и представить себе даже несколько опасаюсь…
Оба смеются.
Иуда. К чему насмешничать. Подобный обряд у многих был: и у арабов сирийских, и у иорданских.
Человек. Их тоже не похвалю. Ну-с, козел желтыми глазами на всё это таращится и понимает, что не к добру идет. Тишина, торжественно очень! Потому что час желанный для каждого – грехи можно сбросить и, стало быть, снова начать. А после ведут козла за пределы города, и дальше в пустыню… и выгоняют, милостивцы, от без еды и питья подыхать.
Иуда. Фарисейское мракобесие.
Пушкин . Отчего, князь, ты про этот нонсенс заговорил?
Человек. Так, к козлу сочувствие просыпается. И еще, когда первый раз увидел, подумал – раз с безответным козлом так могут, с человеком тоже сделают. Да еще с бо́льшим удовольствием.
Открывает пузырь со спиртом и начинает наливать в чашку через ложечку.
Забирай, брат-Пушкин. Иуда…
Иуда. Мне не надо.
Человек. Ты нас уважаешь?
Тот, после секундной паузы, показывает, чтоб наливал.
Человек. (Наливая уже себе). Ты, Шура, в «Полтаве» сказал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». «Воля»… не умом ты это слово поставил, само из глубины пришло? А с каким смыслом оно явилось?
Пушкин. (Помешивая ложкой). Само пришло, верно… а про смысл сейчас думаю…
Человек. (Берет плетеную сеточку с ванильными сухарями и подходит к Иуде). Ты непременно с макания сухаря начинай, увидишь небо в алмазах.
Тот берет сухарь, благодарно кивает. Замечает выпавший из шкафа на пол бинт в обертке, подходит поднимает… шкаф уже закрыт – сует в карман.
Человек одаривает сухарем Пушкина, тот берет почти механически.
Пушкин. Утром с Иудою говорили про наши михайловские края, где севера уже близко, а в них природа себя боле всего сохраняет. И должно же сохраниться чему-то от первоздания, от его первого дня. Вот лишайник у нас или валуны такие непонятные водятся – взгляд притягивают и дальше уводят – за грань, откуда сами взялись. Воля настоящая, где и отсчету времени нет, и всякое событье живет без подчиненья другому. Воля – когда сам неподчинен и не видишь подчиненья нигде ни в чем, так что и мысли об нем уже неоткуда взяться.
Человек. Глубоко твоя воля лежит… и далеко. Да, Иуда?
Иуда. (Кивает, задумчиво, несколько раз)…Только темная она. Сама живет по себе.
Пушкин. И тянуло меня куда-то, где б я мог сам по себе.
Человек. Теперь только понял твою поэму «Цыгане». Всё-то она мне лубком казалась – так ласково ты этот ухватистый народ описал. А стало быть, ты просто на главное указал – свобода человека ничем ограничена быть не может?
Пушкин. Указать на это словами нельзя – а только передать чувством. Не знаю, как получилось…
Человек. (Задумчиво). Получилось… особенно в картинке той, когда со скарбом, ослами идут они ниоткуда и в никуда.
Пушкин. Спасибо, князь, за чуткое ощущенье, определил хорошо: «ниоткуда… в никуда», у свободы нет адресов.
Человек. Да вот вопрос – может быть не очень приятный…
Пушкин. Спрашивай.
Человек. С твоей жизнью противоречие есть. Там свобода эта прежде всего в том показана, что женщина в чувствах вольна и, если что, ее отпустить до́лжно. Наталью, однако же, ты отпускать не думал.
Пушкин. Так не просилась, князь, а вот тебе крест – отпустил бы!.. без злобы и без малого даже укора. Ах, господа! с первых дней – еще женихом, когда с браком уж всё решилось, – тревожило, что похитителем судьбы ее становлюсь, что чужой я, случайный, на помеху другим… Ушла тревожность в первые годы, и с появленьем скорым детей, хлопоты отвлекали о достатке семейном… А потом снова явилось, хотя не было еще врага моего…
Иуда. Дантеса?
Пушкин. (Кивает). И добавилось к этому – вот как нынешним утром, и теперь почти во все дни: просыпаться мне незачем, и вот бы не просыпаться…
Иуда. Хороший вышел чаек, уже можно пить.
Пушкин опускает кончик сухаря, Человек делает тоже самое.
Пушкин. А чай, впрямь, недурен!
Все трое с удовольствием пьют.
Пушкин. «А счастье было так возможно!» Когда в конце «Онегина» так сказал, ведь не про огромное что-то думал, я без метафизики всякой, – о минутах светлых, которые жизнь дари́т, о спокойствии радостном, как сейчас у нас: когда, не заботясь ни о чем, ощущаешь мгновенья до глубины – в них чувство правды, от которого она идет всюду насквозь. Разве сейчас, друзья, мы не счастливы?!
Человек. Даже меня задело. (Допивает чай).
Иуда. Правда и счастье… правда и истина… получается: истина-правда-счастье.
Человек. Три ипостаси? Твой комментарий к догмату о Святой Троице, дружище?
Пушкин. А потом таких светлых минут делалось меньше да меньше. А оттого, что стали отдельно жить друг от друга – поэзия моя и я многогрешный. Даже друзья различать завели манеру: вот Пушкин-поэт, с ним хорошо прогуляться по Невскому или еще где у всех на виду беседу вести, а тот – просто Пушкин, и ну его: еще денег взаймы попросит, зол может стать, невоздержан. За спиной о нем можно сказать… вот, например, карикатурою смотрится рядом с женой.
Человек. Она, Шура, так не считала. И гордилась тобой. Ветреность светская у нее сочеталась с умом вполне основательным.
Пушкин. Ай да князь! Ты словно доглядывал за нами, подслушивал разговоры – совсем неглупа была Наташа, особенно там, где серьезного очень касалось, иной раз удивляла, будто не знаю ее до конца. (Мрачнеет). А эти, (презрительно) свет высший… всё ждали, что закрутиться она – осрамит и себя и меня; с нетерпением ждали, так что у иных разочарованье являлось и гнев – отчего мучит долго их ожиданьем. В лицах у них читал, как по бумаге, и о себе и о ней.
Иуда. Трудно одному против всех.
Пушкин. Трудно, брат, да не сразу я это понял. Думал, как Руслан мой, размету поганое войско. Ан, войска этого столько – оглядеть зренья не хватит.
Человек. Оригинальная картина для баталиста, вид издали: Пушкин на лошади – в сюртуке, прогулочных сапожках легких, в руке дрянь-копьецо, а напротив – слитное, непонятно сколько их, войско, и доспехи, щиты, там, и прочее. Но напасть готовится Пушкин. Любопытно…
Иуда. Что же, если по-другому нельзя?
Человек. Один против всех, по-другому нельзя… Шура, а ты ведь с молодых лет так чувствовал, дуэльничал-то, всё витязей звал на бой от «той стороны»? И наконец, один отыскался.
Пушкин. Удивительно, князь, догадки твои мне лучше понять самого себя помогают – а так и было: две стороны, и на моей пусто; разве кто из друзей иногда там побудет, или милая женщина вдруг заблудится… да всё равно я вполне им не верил. А другая сторона, хорошо ты сравнил, вся в оружии и доспехах: дворцы, именья богатые, властная сила, и презрение ко всему остальному… великий, русский… да приятно, что есть, однако ж без поэзии его без затруднениев проживать можно.
Человек. Оскорбленьем был сам факт их жизни?
Иуда. Нечеловечно, князь!
Человек. Да?.. Вопрос снимается.
Пушкин. (Не обращая внимания, к себе памятью). Ах, как всё не удалось – пал, убит! Уж победитель я на той батальной картине!.. А враг вдруг встает невредимый почти! Ах, не он встал, а судьба моя с черным пятном вместо лица…
После небольшого струнного перебора:
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Пушкин. (Под струнный перебор последних двух строк). Как просто и больно!
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Пушкин. (Опять под струнный повтор). Кто таков, жив он?
Человек. Удавился.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
Пушкин. Как светло у него в конце – благословляет сразу и жизнь, и смерть – завидная высота!
Иуда. Ну не вам, Александр Сергеевич, завидовать.
Человек. Да, Шура.
Иуда. И ваш свет высокий, всех, и врага своего, простили.
Человек. (С успокаивающей интонацией). Да.
Пушкин. (С досадой). Не свет высокий ко мне пришел, а с пораженьем смирился, как мне его любезная судьба поднесла. (Встает, говорит напряженно). Что простил, оно так – простил. Чувства свои, однако, куда девать? Поступки могли быть ложные, а чувства, они жизнь моя, они истинные: то радостное, что показалось – убил врага своего, и горькое сразу, оттого что пуля лишь с ног его сбила. Для чего мне такая обида?.. И прощеньем, Иуда, тут ничего не поправишь.
Человек. Я тебя, Сергеич, сочувственно понимаю. Обида, она, в самую глубину бьет. Оскорбление пропустить можно – потому что гадость всегда внизу располагается – для плевка место удобное. Обида – другое совсем, она от измены – будь то близкий кто… иль, как у тебя вот, – судьба. Она защитницей должна быть, а не обидчицей.
Иуда. Обида от непризнания за тобою права естественного. Так ведь эта ошибка чья-то, а не твоя.
Пушкин. (Вздыхая). А враг, прощенный, нейдет от меня, словно еще хочет чего-то… бывает и отдалиться, да совсем не уходит… а то близко-близко… (мучительно напрягается, ищет спинку стула) рядом вот… (садится… и разгибается – глубокий, но легкий, делает вздох): Грустную песню цыган этот спел. Однако удовольствие от вашего отличного чая, князь, этим не отменилось! Да-с, только сбил он меня с мысли какой-то… про что мы?
Человек. (Быстро переглянувшись с Иудой). Мы, Жорж, о дуэльном сопернике вашем. О странной жизни его – одного против всех. И Иуда не видит в этом ничего неестественного.
Жорж. Я тоже не вижу неестественного, господа. (Как бы припоминая…). Тут две сразу причины. Первая – что он очень хотел быть со всеми, тянулся душой, да ум имел слишком глубокий и требовательный…
Иуда. Слишком?
Жорж. Для людей круга своего. Что ж, если правду говорить, барышни высшего света и языка своего родного толком не знали. В первые года полтора в России часто я спрашивал – как то ли иное с французского на русский выйдет. Так путались, к маменькам-тетенькам за справкой бегали. Романы чувствительные были, пожалуй, умственно главным занятьем.
Человек. Да-а, неприятность.
Жорж. А господа офицеры?.. Меня бесконечные обсуждения лошадей да амуниций весьма утомляли, и ограниченность многих – нежеланье шагу ступить за обыденные пределы. Он, когда в первый год знакомства еще добрые отношения были, проговаривался мне, что в вымыслах своих видит и чувствует ярче, что там у него жизнь настоящая, а сюда возвращается как на повинность.
(Замолкает, углубясь в память).
Человек. Вы, Жорж, про две причины сказали.
Жорж. Да… Вторая банальна совсем – недостаточное положение в обществе. Род Пушкиных хотя лет на двести старше рода Романовых, но не преуспели в больших чинах государственных. Очень его коробило, оттого что эти «выскочки» – Александр, Николай – имеют свою волю над ним. И денежная недостаточность постоянной причиной неудобства была. За поэзию свою получал до обидного мало.
Человек. (Соглашаясь). Трудом здесь много не зашибешь. И таланты любые перед деньгами и званиями мало ценятся.
Жорж. Я сказал ему как-то: отчего не пишите по-французски – у нас общество благодарней гораздо к искусству, и книгопечатание поставлено сравнить даже нельзя как высоко.
Иуда. А он что?
Жорж. Развел руками: «Все мысли мои, глубокие сколько-нибудь, по-русски».
Иуда. А в Европе им скоро заинтересовались.
Жорж. Скоро. «Руслана и Людмилу» перевели уж через год или два, как написана им была.
Человек. Схоже у вас выходит, Иуда: один против всех, а хотел быть со всеми… Или ты не хотел быть со всеми?
Иуда. Странно ты говоришь, князь, да по-другому и не бывает – как со всеми хотеть.
Человек. Новости… почему ж не бывает?
Иуда. Человек сотворен Богом по образу и подобию своему.
Человек. Мы чё-то такое слыхали. Да, Жорж?
Жорж. Не язвите, князь. Что ж из того, Иуда?
Иуда. Что люди в основе своей одинаковы.
Человек. Да в какой основе?
Быстро входит Ваня, улыбчиво обводит взглядом компанию.
Ваня. Дискуссия?
Человек. Вроде того. (К Иуде). Ну, объясни, без заморочек.
Иуда. Понятнее будет начать – в чем люди разные.
Человек. Угу, что называется – от противного.
Иуда. Из простого всё вытекает – люди различаются по интересам, каждый по своему именно. (Спешит продолжить, видя пренебрежительную гримасу у Человека). А интерес, когда о нем думают, а тем паче уж достигают, дает радость, а в сильном очень состоянии – счастье.
Жорж. Любопытно, я уж дальнейший шаг предвижу.
Иуда. Скажите, Жорж.
Жорж. В радостях различье людей, каждый счастлив по-своему.
Человек. Один писатель пря-мо наоборот сказал, что несчастливы каждый по-своему.
Иуда. Не про то несчастье – про мелкое, бытовое.
Человек. А ты про какое?
Иуда. Про скорбною. Оно у Бога – и у человека, у матери казненного убийцы – и у матери его жертвы, оно у всех одинаково. Тут корень всего мироздания.
(Короткая пауза)
Ваня. Моя бабушка в детстве на оккупированной территории оказалась – немецкие бомбежки-обстрелы сначала, потом наши… вспоминает-говорит: «беда всех равняет».
Человек. Ох, Ваня, беда-то равняет, да не на нее равняются. Чуть жизнь получше кому – он уже маленький король, и плевать, что другим плохо, и гордится даже, что он сытый перед голодными.
Иуда. Не все люди таковы, князь.
Человек. А сколько их, которые «не таковы»?.. И много ли их больше стало, вот за эти две тысячи лет?
Иуда. Еще ничего не закончилось.
Человек. Этак-то по любому поводу можно сказать.
Жорж. Я, князь, не совсем согласен…
Человек. Простите, Жорж, тут важное есть. Он (показывает на Иуду) вот чего выдумал: дескать, все будут беспокоиться о спасенье души, а это всё то же желание радости – чувство мелкое, как мы сейчас слышали, людей только разъединяющее. А вот он нарочно самый тяжкий грех на себя возьмет, не допустит стремиться к благополучию, нижней точки униженья достигнет…
Ваня. (Удивленно). Для чего?
Человек. Просто: одни горные пики штурмуют, другие – глубины морские или пещерные. Те же причины – одолеть, превозмочь. Красиво. Только уж больно мрачная романтика, Иуда.
Иуда. Нафантазировал ты, князь.
Человек. Ой ли?
Иуда. Не хотел я таким способом возвысить себя. И вообще никаким не хотел.
Человек хмыкает, хочет что-то сказать, но вмешивается Ваня.
Ваня. Князь, вы Жоржа перебили.
Человек. Виноват, будьте любезны, Жорж.
Жорж. За людское сообщество заступлюсь. Много, много всякого дурного, тут возражать вряд ли кто станет. А вместе, и хорошего не может быть мало, иначе это дурное всё б поглотило.
Человек. Да может быть, и поглотит – не в момент всё делается. Иуда правильно сказал: «Еще ничего не закончилось».
Иуда. Я не в том смысле сказал.
Человек. Э, брат, тут смысл в обе стороны.
Жорж. Нет, друзья, нет, тут не две стороны – их больше. Тут на хорошо-плохо не делится. (Взволновано). Я порою не понимаю, вот что же такое – жизнь моя. И каждый раз теряю от этого представление – а кто я сам. И мысли витают никак до конца не ясные.
Ваня. Поделитесь, Жорж. А мы, так сказать, коллективно…
Человек. Посодействуем. Однако в чем тут неясность?.. Да, случилось несчастье, однако ж не вы, а он вас провоцировал на дуэль. (Делает знак, что хочет продолжить). А потом вы во Франции жизнь с нуля начинали и шли вверх как мало кому в истории удавалось, титул пожизненного сенатора получили…
Ваня. Не слабо!
Человек. Да, Вань, перед тобою крупный европейский политик – даже переговоры тайные вел между четырьмя европейскими императорами. И один из лучших ораторов Франции… хотя не «один из», а самый лучший. Эх, самого Виктора Гюго по полной программе отделал, да-а, отпорол за милую душу. Тот с горя стихотворение написал «Сойдя с трибуны» – это после полемики с Жоржем. А выросло всё (показывает на Жоржа) из младшего лейтенанта, выброшенного с молодой женой из России, разжалованного, без званий-чинов… И Геккерен ведь не очень богат был, чтоб хорошо помогать?
Жорж. Не очень. (И после паузы). Как оказался я ни с чем, и Катя моя уже была беременна, постановил себе в непременное – хоть чуть каждый день быть сильней дня вчерашнего.
Ваня. (С горечью). У меня не выходит.
Жорж. А что с жизнью моей окончательно вышло, этого вот, понять не могу! Будто утыкаюсь каждый раз в стену, и ни одолеть, ни обойти.
Раздается:
Сколько счастья, сколько муки
Ты, любовь, несёшь с собой,
Час свиданья, ча-ас разлуки-и…
Иуда (сделав быстро два шага к дверям): Цыган, будь любезен, повремени!
Музыка дает аккорд и замолкает.
Жорж. Гюго – гордость Франции, первейший в ее литературе. Пушкин – то же самое для России. Я ведь понял, понял тогда, что пуля выше бедра пошла, что свершилось непоправимое! И пустоту внутри ощутил, словно нету меня, осталась одна телесная оболочка – он приподнялся, целится – вот ладно, думаю, сейчас ничего не станет. Вдруг глас мне повелевающий – стать боком, прикрыться… И вот с того момента сам начал отдавать себе по жизни приказы.
Ваня. И выполняли их, Жорж, побеждали!
Человек. А победителей не судят.
Жорж. Суда людей не страшусь – что могут, если не выходил я за пределы их правил. А вот кого победил?.. Двух гениев двух великих империй? И зачем не допустили мне погибнуть тогда в России?
Иуда. Ну… затем, например, что у вас уже была молодая жена, любившая вас.
Человек. И любившая, Жорж, больше собственной жизни.
Жорж. Увы, князь, вы правильно подчеркнули.
Иуда. Отчего же «увы»?
Жорж. Оттого что моя к ней любовь была самой обыкновенной.
Ваня. Разве любовь может быть «обыкновенной»?
Жорж. В том смысле, Ваня, что разница между ее и моей несравнимо была велика. Знала она про ту мою первую любовь – безумную – к ее сестре, сгоревшую, едва не вместе со мной, понимала, что отдаю ей только скудные уже угольки.
Иуда. Так отдали, Жорж, что могли – всё и отдали!
Ваня. Когда до последнего – тут «мало» не бывает.
Жорж. Нет-нет, друзья, не хвалите – всегда от этого неловко. И последнее, которым делится человек, у каждого неодинаковое. Три девочки, и ждали четвертого ребенка. Катя знала, я хочу очень мальчика – наследника фамилии. Захотела его для меня больше чем сам я, обратила в такую цель, за которой стала теряться сама ее жизнь. (Пауза). Там монастырь у нас за городом, по поверию – если женщина пройдет туда босиком и помолится, Бог ей поможет родить ребенка, или того пола ребенка, которого пожелает. Босиком, ноябрь, дожди холодные… Подорвала себя, и хотя родить мальчика сил хватило, для жизни дальнейшей уж не осталось у ней ничего.
Ваня. Почему вы позволили, Жорж?
Иуда. Не догадывались, что она о придании знает?
Жорж. О нем все знали. Не спросясь сделала. Чувствовал я это ее намерение, но бессилие приходило, оттого…
Человек. Что не знали, имеете ли право ей помешать?
Жорж. Спасибо, князь, что почувствовали от тепла дружеского. А запрещать ей без надобности было, и не помню, чтобы так делал, – достаточно попросить. Только как лишить ее действовать против желанья души…
Иуда приподнимает руку, желая сказать… однако раздумывает.
Жорж. И глаза – смотрели на меня уже не отсюда, не из этого мира.
Ваня. «Не из этого» в каком смысле?
Жорж. (Жмет плечами, дергает головой). Словами не передать – видеть надо. Видел с болью-тоской, потому что прощание в глазах, и вместе радость – от исполненного, которое знала уже наперед.
Ваня. (С сомнением). Что будет точно мальчик?
Иуда. Что сделала для этого всё до конца.
Жорж. Спасибо тебе, Иуда. Как легко мне, друзья, от понимания вашего. (Кивает еще Ване и князю). А еще не могу забыть других глаз: когда, лежа на снегу, он в меня целился… сколько там было желанья убить, и только оно и было.
Человек. Во-во.
Жорж. И глаза моей дочери – ненависть – непризнание самого существования моего. Это же и есть Страшный суд. Ну какой еще Суд Небесный, если здесь состоялся невыносимый такой.
Человек. (Иронично). Нет, там еще будут судить, мало им. Да, Иуда?
Иуда. Кому «им»?
Человек. Сам знаешь кому. А у него (на Жоржа) только и было: взгляд прощальный жены и любовь та к Наталье, когда бился в горячке. (Обращаясь к тому). Так оно по большому счету?
Жорж. (Тихо совсем). Выходит так.
Ваня. А мне мысли приходят – может, всё это для очень отдельных людей? И в моей жизни никакого большого счета вообще не будет, проживу… никак.
Человек. Лично я, Ваня, не стану бодрить тебя радостными обещаниями – радости не по ведомству моему. Я тут сам не на празднике жизни.
Ваня. (Грустно кивнув ему, другим): Вот у князя тоже плохо сложилось.
Жорж. А что?
Ваня. Да детства вообще никакого не было.
Жорж. (Удивленно). Полно, как возможно такое? (К Ване и Человеку). Вы шутите?
Иуда. Возможно… такое. (Напряженно вглядывается в Человека). В одном только единственном случае.
Человек. Ну?!.. Ну что ты во мне увидеть хочешь? Ну, правильно догадался.
Ваня и Жорж смотрят на них с тревогой.
Иуда. Перед вами Князь мира сего. По-другому – Князь тьмы.
Человек. Ой, браво-браво.
Ваня. (Удивленно). То есть Сатана? (И тут же смущаясь). Извините, князь, я обидного ничего не имел…
Человек. А ничего обидного, мой дорогой. Сатана на древнееврейском означает «враг», «противник». То же самое Дьявол – только по-древнегречески.
Жорж. Еще «обвинитель» или Падший ангел.
Человек. Вот это к правде поближе.
Жорж. Удивительно, мне раньше не приходило в голову, что вы оказались без детства.
Человек. Готовеньким, да, сотворили. А чего, там, спрашивать какого-то ангела, херувима какого-то, извините за выражение, когда такие великие замыслы, ну, та-кие великие!
Ваня. А как получилось…
Человек. Что?
Ваня. Ну, изгнали вас.
Человек. Меня никто не изгонял – глупые выдумки. И про яблоко – будто я змея подослал Еве – ерунда полная. Сами яблоки жрали. Потом – он валит на жену, она – на змея. Тот просто под деревом спал, просыпается – ничего не понимает: шум-гам, на него тычут… Представь, Ваня, себя на его месте – идиотское положение. И не за яблоки выгнали их, а за хамство – за подлую ложь.
Ваня. По такой мелочи…
Человек. Ложь, Ваня, не имеет размера. (Пауза, Человек несколько успокаивается). Понятное дело (показывает вверх), обидно стало – по образу и подобию своему их слепил, и на тебе! (Встает, начинает прогуливаться). А вот двинемся теперь от обратного, так сказать – от продукта к производителю. Если в образе обнаружились дефекты, значит – в прообразе что-то не так? Два всего варианта: либо сделано неумело, либо дефекты в самом образце – и перенеслись на продукт. Я прав, Ваня?
Ваня. Ну-у…
Человек. Ты не стесняйся.
Ваня. А почему я?
Человек. Жорж, вы как думаете?
Жорж. Формально согласен. Хотя думать об этом мне неприятно – слова ваши на ту мысль наводят, что во всяком большом очень деле нельзя избежать случайного. И кажется мне теперь – я к этому случайному отношусь. От диспута моего политического, и победного над Гюго, не сдвинулся ход истории ни на чуть. Искавшему смерти русскому гению я убийцей попался – он жить, друзья, ведь никак не мог, постоянно ссору искал, особенно в пьяном состоянии, которое, в последние год-полтора, нередко случалось. Не я, так другой, непременно б его убил. Тем боле, стрелял он довольно скверно.
Человек. Он всё делал скверно, кроме стихов.
Жорж. (Не обратив внимания). Случайность моя теперь так понятна, что лучше, коли бы вообще меня не было.
Ваня. Неправда, Жорж, тут что-то не так!
Жорж. (Почти мечтательно). Витал бы я там – в добытийной стихии…
Ваня. Вы столько преодолели, Жорж, вы всё равно победили! Скажите же, князь!
Человек. Тут, Ваня, не борьба спортивная Бывают победы без всякого от них удовольствия.
Иуда. Так что живешь и понять не можешь – победа она была или другое совсем…
Ваня. (К Жоржу). Не слушайте их. Когда вас любовь к Наталье до смерти почти довела, разве любовь такая не вершина для человека? Я непонятно, может быть, говорю…
Человек. Понятно, Ваня, понятно.
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
И в аравийском урагане…
Жорж. Знаю, эти его стихи. Дочь их любила, и при последнем свидании пробормотала… Она уже не понимала, кто я, или было ей всё равно…
Ваня. Я не про упоение – это кураж, я про любовь.
Жорж. Да ведь когда об нее ударяешься, свет с тьмою путается, и когда женщина ради тебя собой жертвует, и когда Бог отнимает дочь…
Иуда. Это не Бог отнимает.
Человек. (Иронично). Это от общего беспорядка вещей, за который Он ответственности не несет, да? Или я опять виноват? Плохое всё от меня людям, так?
Иуда. Не так.
Человек. Уже спасибо.
Иуда. И до людей тебе вообще дела мало. У тебя не с ними, а с Богом счеты.
Человек. Ух, сказанул! Ты прямо в душу лезешь. У меня ее, правда, нет, но ты сумел.
Сколько счастья, сколько муки
Ты, любовь, несёшь с собой…
Ваня, Иуда вместе: Цыган, замолчи! Уймись!
Жорж. (Ёжась). Прохладно, накину что-нибудь.
Человек. Слушай, Иуда. А почему ты всё время их сторону держишь?
Иуда. Чью?
Человек. (Показывает вверх). Их. Ты же (крутит рукой, подыскивая слова)… ну, одним словом – Иуда.
Иуда. Я исправился.
Человек. Нет, Ваня, каков он тебе?!
Ваня. А разве не может?
Человек. Я в другое не верю – в эти тридцать серебряников. Смешная ж цена!
Ваня. (Смущенно). Там любая цена… как бы это, неподходящая.
Человек. Ну предположим, что срочно деньги понадобились, а продать, ха-ха, больше нечего было. (К Иуде): А на что, позволь спросить, тебе вдруг деньги понадобились? Тем более, Ваня, он у них казначеем был – мог взять на мелкие расходы. Мог ведь?
Иуда. (Без злобы). Изыди.
Человек. Щ-ас, как же.
Ваня. (Просительно). Князь, решили ведь уже этот вопрос.
Человек. Не совсем, не-е совсем. Тут (щелкает пальцами)… не понимаю пока, но есть ключик какой-то. Так, ладно. Сознательно ты погубление души, как высшую форму, тоже не выбирал.
Иуда. Какая же это высшая форма?
Человек. Отказ от всякого благополучия. Ты сам заявлял: объединяющим, всечеловеческим является только горе. Вот и захотел тут самую нижнюю точку занять. (Неуверенно). А-а?
Иуда. Сам знаешь, что говоришь ерунду. До чего ж ты, однако, любишь озорничать.
Человек. Хм…
Ваня. (С улыбкой). Что, князь, поймал вас Иуда?
Человек. Да-а, прямо в сердце осиновый кол. Так и надо нас – нечисть, так и надо!
Иуда. Не обиделся, не представляйся.
Человек. Нет, конечно. И в общем – правильно. Только от озорства моего людям вреда немного, а сравнительно, что сами друг с другом творят, так и совсем пустяки. Во-вторых, где-то ж мне надо быть между вами и не вами. Имею я право на свою территорию?
Ваня. Имеете.
Человек. Значит, радоваться, после того как меня, э, как я… и опять же глядя на вас дорогих, мне нечему. В горе пребывать не научен. И с какой стати? Я нигде не подписывался. Ну и куда деваться-то – вот и озорничаю слегка. (Видит появившегося и грозит ему пальцем): М-м… Шу-ра! Уф, ты вовремя. У меня к тебе поэтическая претензия есть одна.
Пушкин. Изволь, только дай мне сначала сказать. Вспомнил вдруг, и ясно – будто вчера, как в детстве дознавался у взрослых какой он – черт. И сильно хотелось свидеться, да так что страх одолевал – а если не будет случая. И копились вопросы – помню, много (хлопает себя по бедрам). Досада, не помню нынче ни одного!
Человек. Ну а взрослые что тебе говорили?
Пушкин. (Смеется). Что с рогами ты и хвостом. Да я и тогда им не верил.
Человек. Жалко, вопросы забыл.
Пушкин. Ан, вспомнил сейчас один! (Вскидывает голову). Так ведь главный самый и вспомнил.
Человек. Ой любопытно, Шура, я весь внимание.
Пушкин. А что мы с тобой будем делать, когда ты людей всех погубишь?
Ваня. Вот это да!
Иуда тихо смеется.
Человек. Спасибо за хороший вопрос, м-м… однако почему, погубив всех, я тебя был должен оставить? Ты к этому причину какую видел?
Пушкин. (Смешливо пожимая плечами): А без всякой причины. Вот сижу у себя в детской в сумерек при незажженных еще свечах, и чувствую – оно так случилось и сейчас ты войдешь.
Человек. Эх, видно плохой из меня погубитель, а то б я всё провернул задолго до детской твоей.
Раздается не рядом, а дальше, кажется – за окном:
Сколько счастья, сколько муки
Ты, любовь, несёшь с собой,
Час свиданья, ча-ас разлуки-и…
Иуда. Где это он?
Ваня. (Глядит в окно). На улицу вышел.
Человек. (Пушкину). А почему ты думал, что от меня непременно погубленье людям произойдет?
Пушкин. Да сомнений даже не было – столько чепухи от них, глупостей, дряни…
Ваня. А хорошее?
Пушкин. Ах милый Ваня, как его много тоже было! Когда в первый раз увидел Наталью, мир исчез – она, я и Бог. Как я просил у Него – всё что угодно! Пусть маленький мне будет кусочек жизни, но только бы с ней!
Человек. И допросился.
Пушкин. А не шло оно дальше мечты. И когда на второе предложение мне согласьем ответили, вот возникло оно в первый раз – а моё ли? Не чужой ли я судьбы добытчик?
Человек. Шура, как сейчас говорят: не парся. Вышла б она за другого, всё равно через четыре года началось бы то же самое и закончилось бы дуэлью, только с другим участником.
Пушкин. Так… наверное.
Ваня. Разве вдохновения вашего, поэтического, не прибавилось от супружества с такой женщиной?
Пушкин. (С легким смехом). Добрый Ваня, вдохновение от другого совсем является, и почти всегда от того, что бежишь из этого мира. Там, в вымыслах, жизнь протекает другая – без фальши, приспособленья, и можно любую чужую почувствовать как свою. (Задумывается на секунду). Получается вот – жизнь моя лишь собранье стихий. (Снова чуть умолкает). И оставались бы они там, где свобода витает между светом и тьмою… для какой я здесь надобности?
Иуда. Для людей.
Ваня. Без вас и представить нельзя литературу русскую.
Человек. А без Гёте и Шиллера литературу немецкую. Что, сильно помогло через сто лет?.. Шура, ты не грузись, радуйся, во-первых, что тебе доверили роль подопытного кролика, а во-вторых, значенье твое возрастает.
Пушкин. Отчего же оно возрастает?
Человек. Оттого что своего всё меньше и меньше. Сейчас говорят: «Пушкин наше всё», а скоро скажут: «Всё наше (разводит руки и гримасой делает – пшик) Пушкин».
Пушкин запрокидывает голову и смеется.
Иуда. Ну вот эти издевки твои самому не надоели?
Пушкин. И правда, смех – да сквозь слёзы.
Человек. А теперь претензию дай сказать.
Пушкин. Покорен выслушать.
Человек. Ты зачем изобразил мою встречу в аду с Иудой, будто я на радостях его в уста целовал?
Пушкин. … постой… так то маленькое совсем стихотворение.
Человек. Что ж, маленькая неправда – всё равно неправда. Перво-наперво, в аду я не проживаю – место не моё, и до крайности неудобное. А главное, с какой это больной головы я бы стал его в уста целовать? Даже если бы он очень просил. Как там у тебя, Шура: «И Сатана, привстав, с веселием на лике лобзанием своим насквозь прожег уста» (Жестом предлагает продолжить).
Пушкин. (Неохотно очень). «В предательскую ночь лобзавшие Христа»… Не принимай близко, князь, фантазия иногда такое вытворит, сам потом удивляешься – к чему и зачем.
Человек. Однако сочно изобразил нашу с ним встречу! Иуда, тебе понравилось?
Иуда. Стихосложение отличное как всегда.
Человек. Нет, сюжет?
Иуда. (Мотнув головой). Тьфу!
Человек. Это от души! Что доказывает – душа у Иуды есть. Значит, тебе такой поцелуй – ну никак?.. А за тридцать серебряников?
Ваня. (Укоризненно). Князь, снова за своё!
Человек. А за сорок?
Пушкин. (Со смехом). Нянька б сказала: бедовый ты, князь!
Человек. Мы, Шура, такие оба. (К Иуде): За пятьдесят?… Поторопись, пока не раздумал! (Хочет еще что-то сказать, но застывает). Стоп… вот оно как… (Удивленно и больше себе самому). Так, я понял.
Пушкин. Что понял?
Ваня. Что поняли?
Человек. (Еще не до конца отойдя от удивления). А вот то самое главное… Да как я раньше?!.. (К Пушкину и Ване). Теперь понятно, почему тридцать, почему мизер такой.
Пушкин. И почему?
Человек. (Тыкая пальцем в Иуду). Почувствовал, что Он (палец вверх) дрогнул, что может от своей миссии отказаться, – и побежал срочно с доносом – готовиться, де, мятеж, и он (указывая на Иуду) готов открыть всё за небольшую плату. Плату маленькую и назвал, чтобы не отпугнуть, чтобы выслушали, не отказались. Но и видимость корысти хотел соблюсти.
Иуда. (Заметно волнуясь). Уйми свои домыслы.
Человек. (Иуде). Там, на Вечере, ты понял, что Он не уверен в себе! И решил отрезать Ему путь к отступлению!
Иуда. Замолчи!
Человек. Он дрогнул, я чувствовал – так должно было быть!
Иуда. Не смей так о нем! Ты грязное животное!
Ваня спешит оказаться между ними, хотя никто не сближается.
Иуда. (Спокойнее и с презрением). Зверь.
Ваня. (Иуде). Пожалуйста, без грубых слов. И вам, князь, хватит на эту тему.
Человек. А я всё ждал, когда мне укажут место под солнцем, когда мне его укажут… Нд-а, зверь. Вот так вот, Шура, я б тоже хотел – там где стихии. Только не спрашивали. А зачем животное спрашивать.
Ваня. (Растеряно). Постойте, князь… почему животное?
Пушкин. Увы, это меня тоже всегда печалило: ангелы звероподобными сотворены. Ты не знал?
Ваня. Не знал… Почему их так?
Человек. Не почему, а для чего, Ваня. Назначенье почетное дали – человеку служить. И решили, не сильно обременяясь мыслю, слуга должен быть чем-то пониже. Вот я, стало быть, по положению – зверь. А нравится мне – не нравится, никто и не спрашивал.
Ваня. Иуда, нехорошо как-то…
Иуда. А почему должно быть хорошо? Вот что вы с этим «хорошо» собираетесь делать?
Человек. Опять завел – объединимся лучше все в горе?
Пушкин. (Иуде). Почувствовать бы это хорошее не мгновеньями, не искрой мелькнувшей, а побыть с ним… Разве это плохо, Иуда?
Человек. Как же, позволят они тебе. А проще-то сказать (ведет вверх указательным пальцем по кругу), когда дело всё затевали, сами не знали как что получится.
Иуда. Да!
Ваня. Как не знали?!
Иуда. Сказано ведь: со-творение мира. «Со» означает вместе, и во всех языках так сказано. Это общее дело, и незаконченное еще.
Человек. Слышал, Ваня! Заварили кашу, не спросив никого… а меня, так, прямо в рыло – в звериное. И теперь говорят: надо вместе расхлебывать. Нормально, да? Только слезы льют здесь, а не там.
Иуда. Врешь, и там они пролиты!
Пушкин. Да, князь, сыном своим, который всё на кресте претерпел.
Человек. Сын, сын!.. А почему только он?! Я б тоже мог! (К Иуде). Что?! Я бы смог, понял! Смог!!
Иуда. Не кричи. Ведь не спорю с тобой.
Человек. Вот!.. А дали мне?!
Иуда. Дали не меньше.
Человек. Шуточки?.. Он издевается!
Иуда. Дали выбор. И ты воспользовался своим правом выбора.
Человек. Это из чего же мне было выбирать (показывает пальцем вверх), а, из чего – любить Его или не любить? Так если мне сразу в рыло… (К Пушкину). Я уже говорил?
Пушкин. Говорил.
Человек. Да, не успев, значит, понять где-что… «скотина ты», говорят. И почему выбор такой, кому вообще нужно оно – «не любить».
Пушкин. Верно-верно, словно жизнь понуждает на нелюбовь. Тут неправильное в ней устройство.
Иуда. Правильное вот и зависит от нас. И ты, князь, помнишь слова: «Ветвь не может приносит плода сама собою, если не будет на лозе». Хватит тебе одному болтаться.
Человек. То есть… ты что предлагаешь, к вам, что ли?!
Иуда кивает.
Человек. С церкви, может, начать?!
Бросается к окну, отодвигая Ваню, распахивает:
Человек. Цыган, я к тебе на исповедь!
Акробатично почти выносит корпус во вне и спрыгивает.
Ваня. Эк, ловок.
Слышен голос Человека: «Цыган, гитару!».
Начинается струнный настрой и два голоса вступают:
В сон мне жёлтые огни, и хриплю во сне я,
Повремени, повремени, утро мудренее.
Но и утром всё не так, нет того веселья,
Или куришь натощак, или пьёшь с похмелья.
Да, эх, раз, да ещё раз,
Да ещё много, много, много, много раз,
Да ещё раз, ещё много много раз.
Ваня. Нашли друг друга – цыган и дьявол.
Иуда. Самый сильный ангел, самый умный из всего, что было создано.
Пушкин. Да вот, жизнь не задалась. (Уходит).
В кабаках зелёный штоф, белые салфетки,
Рай для нищих и шутов, мне ж, как птице в клетке.
В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан,
Нет, и в церкви всё не так, всё не так, как надо.
Да, эх, раз, да ещё раз,
Да ещё много, много, много, много раз,
Да ещё раз, всё не так, как надо.
Ваня. А коленца выделывает, будто и сам цыган.
Иуда. Всё может, но сможет ли главное? Как много от этого зависит, Ваня, как много!
Небоскребы-небоскребы, а я маленький такой!
Ваня. Много зависит?
Иуда. Очень. Ведь если ему удастся…
Ваня. Что?
Иуда. Не умею всё тебе до конца объяснить.
Ваня. … похоже, сюда двинулись. А как он из положения выйдет?
Иуда. Может быть и не выйдет. Не знаю, Ваня. Всё происходит, и ничего еще не произошло. Симон еще поднимет крест, чтобы помочь нести Христу, Катя попрощается с Жоржем последним взглядом, Пушкин напишет свое чудесное: «Но строк печальных не смываю»…
Ваня. А Себастьян Элькано будет просить команду не спешить входить в бухту?
Иуда. Чтобы удержать вечность.
Человек. (Входит). И в этот момент он не меньше Господа Бога!
Иуда. А Бог и не против!
Человек кладет руки на плечи Вани и Иуды.
Человек. Стихов захотелось, друзья! Где Пиит наш великий?!
Быстро идет в палату.
Через несколько секунд выходит, делает два медленных шага от косяка… лицо не похоже ни на какое прежнее… Слабое движение рукой в сторону палаты…
Иуда. Что?!
Быстро идет туда. Ваня через секунду устремляется следом.
Человек медленно подходит к столу, тяжело садится.
Появляется Ваня за ним Иуда.
Ваня . (Дрожащим голосом). Откуда он бинт этот взял?
Человек показывает на шкафчик:
– Когда за спиртом лазали… случайно.
Иуда. Я, сдуру, в туалете на полку положил.
Ваня поворачивается к нему:
– Да как же я не доглядел… упирается лицом в плечо Иуде.
Вздрагивает… плачет.
Иуда неуклюже пытается погладить его по голове, но сам начинает тяжело прерывисто дышать…
Ваня. Как же это… Жоржик… Александр Сергеевич…
Иуда, отвернув лицо, стирает слезы.
Человек. Ну разберутся там (рукой вверх), может, так лучше ему… им обоим. Иуда, разберутся… ты же сам говорил: еще ничего не закончилось. (Пауза). Ну плачьте, вы люди, вы хоть поплакать можете… плачьте…
В час роковой, когда встретил тебя,
Трепетно сердце забилось во мне.
Страстно, безумно тебя полюбя,
Весь я горю, как в огне.
Занавес медленно опускается.
Сколько счастья, сколько муки
Ты, любовь, несешь с собой!
Час свиданья, час разлуки, —
Дышит всё тобой одной.
Звук удаляется:
Сколько счастья, сколько муки…
Переборы совсем далеко
ОглавлениеАлекс НоркЛьется с кленов листьев медь

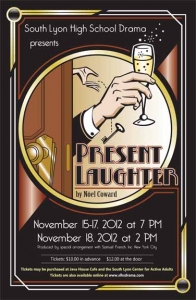




Комментарии к книге «Льется с кленов листьев медь», Алекс Норк
Всего 0 комментариев