Лев Фридланд За закрытой дверью Записки врача-венеролога
От автора
О чем говорится во всех случаях, рассказанных в этой книге? По существу, о венерических болезнях. Но ведь о них уже столько написано! Нужен ли еще один том повторений?
Я думаю, нужен. До сих пор существует мнение, что больные всегда знают о своей болезни. Но это неверно. Достаточно сказать, что в огромном большинстве женщины — не проститутки — жены и матери — понятия не имеют о том, что они заражены. Они искренне убеждены в безупречности своего здоровья. Да они никогда и не болели.
Между тем, они заражают.
А в результате? В результате — утраченное здоровье и драмы, которые вырастают на почве этого неведения.
Сифилис имеет свои тайны. Гонококк в живом человеческом организме приобретает иногда загадочные свойства. Очень часто триппер настигает женщину в замаскированном до неузнаваемости виде. Но кто знает об этом? Почти никто. Во всяком случае, немногие. Нужно ли об этом говорить? Нужно. Ибо живая действительность знакомится со всем этим, к сожалению, только в венерологических кабинетах, уже после слез и страданий.
Все эпизоды, описанные в этой книге, взяты из реальной жизни. Они не выдуманы. Поэтому они красноречивы сами по себе, без всяких прикрас автора. Это — во-первых. И во-вторых: при объяснении явлений я старался держаться на уровне современных знаний.
Меня могут обвинить в пессимизме. Не отрицаю. Может быть, этой книге и не чужда некоторая сгущенность красок. Но те, кто работает в области социальных дефектов, знают, что о некоторых вещах надо не только говорить, но и кричат. Если я крикнул несколько громче, чем следует, не беда. Тревога и даже паника нередко служат для людей моментом, сигнализирующим опасность, — то-есть тем самым, к чему я и стремился, выполняя этот труд.
Автор
Предисловие (к 1-му изданию)
Увеличилась ли заболеваемость венерическими болезнями в связи с империалистической войной и ее последствиями или нет — с точки зрения охраны населения от этих заболеваний, по моему мнению, не имеет большого значения, ибо даже довоенные цифры настолько велики, и последствия этих заболеваний настолько ужасны, что они являются настоящим общественным бедствием, борьба с которым должна вестись самым энергичным образом в общегосударственном масштабе. В искоренении их карательные средства играют наименьшую роль; наибольшее значение имеют меры экономического и социального характера и ознакомление широких масс с сущностью этих заболеваний, главным образом со способами предупреждения их. Одной из лучших форм популяризации медицинских знаний, легко воспринимающейся широкими кругами, является повествовательная форма.
Не считая себя достаточно компетентным, чтобы судить о литературных достоинствах книги Л. С. Фридланда, я воздерживаюсь от суждения о ней с этой стороны, но с удовольствием констатирую, что с научно-медицинской точки зрения все изложенные в ней клинические данные и этиологические моменты соответствуют действительности. Видно, что автор широко использовал свой многолетний врачебный опыт. Мне кажется, что этой книге следует пожелать самого широкого распространения среди неврачебной читающей публики.
Проф. Б. Л. Хольцов
Вместо введения
Это не книга для поучений, не дневник. И, конечно, не ученый труд, не медицинский трактат.
Множество людей проходило и проходить мимо меня. Я вижу их, выслушиваю, говорю с ними у себя дома, в кабинете, в амбулатории больницы. Иногда кое-кто из них раскрывает предо мной самую сокровенную тайну. В этих случаях вместе с платьем как бы сбрасывается ненужная шелуха, вся эта манерность, нарочитость, все наносное. Остается человеческий стержень с его страданиями, опасениями, обидами.
В повседневной жизни Сидоров или Иванов безнадежно машет рукой: «Что это за жизнь, пустая жизнь, ни к чему она!» Но вот Сидоров или Иванов заболел. И тогда, все становится иначе. Мир ощущается так, словно существование Сидорова или Иванова для вселенной дороже жизни величайшего поэта или ученого.
Каждый больной — это кусок огромной жизни. Жизни не вообще, а в тот момент, когда грянула катастрофа, когда гложет нестерпимая тоска, когда хочется умереть, когда яд в крови, когда нет как будто исхода.
Но вот пострадавший излечен. Все ли кончилось тогда? Это еще проблема. Нередко болезнь не исчезает бесследно. Конечно, не у всех и не всегда. Но очень часто. Ученые полагают, что в какой-либо предстательной железе или лимфатическом аппарате навсегда остаются кой-какие дефекты. И это неустранимо. Невропатолог стукнет молоточком спустя несколько лет после выздоровления человека и отыщет какую-нибудь неврастению.
Конечно, все это, может быть, тонкости, детали. В жизни мы большей частью наблюдаем широкие мазки, яркие линии.
Впрочем, кто что видит.
Я рассказываю то, что видел я.
Это было на генеральной репетиции «Дальнего звона». Театр был полон избранных зрителей. Вход был по приглашению.
Среди многих сотен людей, которых вместила тогда Мариинка, не было видно ни одного нездорового лица, ни одного усталого взгляда.
В антрактах все эти люди ходили, говорили, улыбались, оживленно спорили. Словно они все были чему-то ужасно рады.
Да и почему бы, собственно, им не радоваться?
Одни из них имели славу, другие были красивы, третьи — умны, четвертые — богаты, пятые — имели власть. Те — жажду жизни. Эти — любовь.
Мой спутник сказал, указывая на толпу:
— Вероятно, все эти люди живут интересно я красиво. Посмотрите, как они здоровы и беззаботны!
— Относительно многих: вы ошибаетесь, — возразил я. — Часть этих людей только выглядит здоровыми и беззаботными. Некоторые из них завтра с утра разбегутся по амбулаториям, по врачебным кабинетам и будут сидеть там в креслах и лежать на столах. И мы, врачи, армия в несколько тысяч человек, будем промывать, прижигать, перевязывать, присыпать, чистить, удалять гной, выделения, тампоны, чтобы освобождать их от болезней.
Если какой-нибудь Эдиссон изобрел пластинку, которая позволила бы запечатлеть минуту жизни целого города, вы увидели бы, что дело обстоит именно так.
Мой спутник, как-бы в испуге, отодвинулся от меня.
— Но это неправдоподобно! Вы преувеличиваете. Вы сейчас просто раздражены.
— Нисколько! Я совершенно спокоен. И я думаю, что я глубоко прав, особенно в отношении венерических болезней. Не забудьте, что я говорю о жителях города, о тех слоях, представители которых находятся здесь. Это очень важное соображение.
Я скажу вам больше. Посмотрите кругом. Вы видите беспечные, довольные, улыбающиеся лица. А ведь среди них есть носители болезни, о которой не подозревают. Если бы многим из них, из тех, кто, в сущности, здоров, мы открыли глаза на ущерб, который они наносят близким, дорогим им людям, они пришли бы в смятение. Потому что на деле они творят, хотя и не ведая того, большое зло.
— Не удивляйтесь моим словам. В них нет ничего загадочного. Видите ли, почти все знают, что такое венерические болезни, что такое, скажем, сифилис или триппер. Но о том, как иногда эти болезни отражаются на человеческих отношениях, знают очень немногие. Знать же это небесполезно и порой даже необходимо…
Недавно один ученый выпустил книгу о «Биологической трагедии женщины». Это — исследование о половом созревании, менструациях, зачатии, беременности, климоктерии и т. п.
Но есть еще одно свойство строения женского организма. О нем мало кто осведомлен. А между тем оно нередко вносит в существование людей тяжелые осложнения. Оно составляет то, что можно назвать «анатомической трагедией» женщины.
Мой собеседник был не только наивен, но и любопытен. И я рассказал ему ряд фактов из повседневной жизни, обрисовав их так, как они происходят за закрытой дверью кабинета врача-венеролога.
Искаженные схемы
То, что я сейчас расскажу, тоже имеет, между прочим, некоторое отношение к театру, правда, довольно отдаленное.
Однажды ко мне в амбулаторию явился на прием очень красивый юноша. У него были большие, светлые глаза и румяные щеки. Крупный нос, прямой и точеный, и резко очерченный подбородок свидетельствовали об его аристократическом происхождении. Революция уничтожила носителей голубой крови. Но это был, по-видимому, один из последних могикан.
У него была восхитительная фигура. И неспроста. Он был учеником балетной школы.
Юношу беспокоили пятна на теле. Он вытянул руки и указал мне на несколько розовых точек у локтевого сгиба. Пятна не зудели и не болели, но они были ему очень неприятны, так как профессиональные занятия требовали обнаженных рук.
Я попросил его раздеться.
— Но зачем, доктор? — возразил он. — У меня ведь больше ничего нет.
Я настоял.
Он нехотя стал расстегиваться. Делал он это застенчиво, видимо смущаясь меня.
У него были упругие мускулы. Линии рук, плеч, спины и живота были безупречны. Его тело было воплощением мужской силы и молодости, еще не достигших расцвета.
Я тотчас же увидел сыпь на его груди и животе, что заставило меня исследовать паховые сгибы.
Он густо покраснел, повторив недовольным тоном.
— Доктор, у меня же там ничего нет. Меня беспокоят только руки.
Под пальцами я нащупал вздутия, походившие на крупные бусы. Это были пакеты зараженных желез. Сомневаться в том, что юноша был болен сифилисом, не приходилось.
Должно быть, я не сумел скрыть выражения тревоги. Глаза молодого человека были устремлены на меня и неотступно следили за мной.
Ему было шестнадцать лет. С самого начала жизненного пути ему предстояло влачить груз, более тяжелый, чем свинец и камень.
Пусть это с врачебной точки зрения не так. Пусть это такая же болезнь, как и всякая другая, как экзема, малярия, болезнь, которая вполне поддается излечению, если она обнаружена. Наконец, она не позор, а несчастье. Но это знаем мы, врачи. Для многих же сифилис — пугало. Это то, хуже чего не бывает. Это — провалившиеся носы, язвы, от которых нет спасенья, разъеденные челюсти, щеки, ноги, губы.
Я долго мыл руки, обдумывая, как ослабить удар.
Одно обстоятельство несколько смущало меня. Я размышлял о нем, пока струйки воды медленно стекали с пальцев моих рук. Это то, что я не обнаружил признаков склероза.
Сейчас я объясню, в чем дело.
Железы у юноши были всюду увеличены: и у локтя, и под мышками, и на шее. Везде я их ясно ощупывал. Это показывало, что процесс успел генерализоваться. Яд проник всюду. Сыпь доказывала то же самое. Но железы не везде были одинаковой величины. Это очень важный признак. Где железы крупнее всего, там и находятся «ворота инфекции».
Это обстоятельство имеет иногда решающее значение, особенно при судебно-медицинской экспертизе в делах об изнасиловании. По этому признаку, когда других нет или они неясны, мы различаем половое и внеполовое заражение. Если женщина утверждает, что она стала жертвой насилия, а самые крупные железы врачи-эксперты находят, например, на шее, то они дают заключение в пользу обвиняемого.
В случае с учеником балетной школы железы — резче всего обозначались на пахах. Это указывало, во-первых, что заражение было половое, и, во-вторых, что микроб проник в организм где-то здесь.
Место проникновения яда представляет собой небольшую язвочку, сидящую на очень плотном и своеобразном основании. Тот, кто ощупывал пальцами это почти хрящевое образование, всегда сумеет отличить данное ощущение от сотни других.
Это и есть склероз.
Язвочка может исчезнуть, закрыться, зажить. Но след склероза, доступный глазу — или пальцу, обычно исчезает не скоро, если больной не лечится.
У моего пациента я не нашел никакого следа склероза. Это была загадка, над которой я размышлял у умывальника.
После того, как я вытер руки, я достал книгу для записи больных и стал заносить в нее сведения о пациенте. Как бы вскользь, я спросил его;
— Вы имеете дело с женщинами?
— Нет, — лаконично ответил он.
— Я вас прошу быт со мной откровенным, — оказал я. — Я задаю вам этот вопрос не из любопытства; речь идет о нашем здоровье. Дело не в пятнах и гораздо серьезнее, чем вы думаете. Говорите же правду.
Юноша в упор смотрел на меня.
— Я никогда не имел дела с женщинами, — повторил он.
Его голос внушал доверие. Но ведь и факты не лгали. В чем же дело?
Я попробовал подойти к нему другим путем. Я спросил, живет ли он один или в семье, любят ли его родные.
— Вы слыхали о венерических болезнях? Не болели ли вы ими раньше?
— Да, слыхал, — живо ответил он, — но у меня их никогда не было. Да и откуда взялись бы они у меня?
Я сделал вид, что поверил ему. Захлопнув книгу, я встал.
— Между прочим, — оказал я, — не было ли у вас недавно язвочки где-либо на теле, — в нижней части живота, на губах, на языке?
Юноша уклончиво покачал головой:
— Не было.
Я начал выходить из себя. Не могло же быть так, как он говорил! И к чему эта явная несуразная ложь.
Вдруг мне пришла в голову одна мысль… Это была совсем неожиданная, нечаянная мысль. Я сам не знаю, почему я остановился на ней. Может быть тому была причиной его стыдливость, которая показалась мне очень странной.
Но, как бы то ни было, я не хотел оттолкнуть соображение, которое могло привести к разгадке. Я знал, что, как врач, я всецело несу ответственность за свои слова, И я хотел полной ясности. Ведь я выносил приговор на многие годы, на всю жизнь, быт может.
— Разденьтесь, — сказал я, — я должен вас снова осмотреть.
На этот раз он не сопротивлялся. Очевидно, он уже был встревожен моими расспросами.
Я повернул его к себе спиной и заставил нагнуться. И тотчас же в глубине между ягодичными буграми, у самого анального отверстия, я увидел пятнышко. Оно было величиной с кнопочную шляпку и пигментировано. Я ощупал его пальцами. Оно было твердо, как хрящ.
Это было то, что я искал. Это был инфильтрат, то ничтожное скопление клеток, которое едва можно было разглядеть.
Это был склероз.
Но как он мог туда попасть?
Теперь я скажу вам о моей неожиданной мысли.
Я вспомнил театральные нравы. Правда, уже отживающие нравы.
И, как видите, я не ошибся. Этот мальчик начал опыт любви с любви педераста.
Одно мгновение, меньшее, чем мгновение молнии, осветило мне то, что называется душой и телом человека. Брезгливость, темная, почти инстинктивная, смешалась во мне с жалостью.
Я назвал юноше болезнь.
Он вздрогнул, издав какой-то странный звук, внезапно сорвавшийся. И замер на месте.
Я говорил долго. Это была лекция, смысл которой заключался в том, что ничего ужасного тут нет, что это болезнь, от которой надо лечиться. Это случается и с другими, и все вылечиваются. Надо только выполнять все указания врача, и тогда болезнь будет побеждена.
Юноша стоял, опустив голову и потупив взор. Я не знал, о чем он думал, но он, несомненно, думал не о том, что я ему внушал.
Он что-то прошептал.
— Ну, получайте первый укол, — деловито сказал я, обжигая на спиртовке иглу.
Молодой человек повернулся с видом сомнамбулы.
После укола он застегнулся.
— Значит, можно вылечиться? — спросил он негромко, уже стоя у двери.
— Конечно! — я похлопал его ласково и ободряюще по плечу. — Я вам гарантирую исцеление.
Вас, может быть, удивляет, почему я вспомнил театральные нравы?
Очень просто. Среди артистов однополая любовь широко распространена. По крайней мере, так было еще недавно.
Известно, что однополая связь широко распространена в тюрьмах и среди матросов. Понятно почему. Ограничение физиологической нормы ведет к извращениям.
Но отчего в театральной среде мы встречаемся с тем же самым явлением, с таким огромным числом адептов гомосексуализма? Ведь не есть же, в самом деле, артистичность одно из свойств гомосексуализма!
Напрашивается такое объяснение: извращение от пресыщения. Нервы требуют остроты ощущений. С этой точки зрения педерастия считалась проявлением дурной воли, и во многих государствах уголовный кодекс отводил этим преступлениям против нравственности особый ряд статей.
Современная наука не совсем согласна с этим взглядом. Вернее, она совсем с ним не согласна.
Гомосексуалистом, оказывается, может быть не каждый. Конечно, можно воспитать и привить какие угодно вкусы. Но в огромном, подавляющем большинстве случаев гомосексуалистом надо родиться, как поэтом или как сиамскими близнецами. И за тяготение к образу и подобию пола своего карат не следует, как нельзя карать человека за то, что он родился блондином, а зрачок у него черный.
Медицина и физиология открыли нам тайну гомосексуализма.
Теперь в моде учение о внутренней секреции. Вероятно, многие слышали о железах, гормонах, корреляции. Учение о секреции есть, так сказать, учение об интимных лабораториях организма.
Но что такое организм?
Это есть соотношение частей. — то есть не только туловище и конечности, различные ткани, жидкая и полужидкая среда, органы, клетки и прочее. Это есть, кроме того, и связь. Гармония частей, включая сюда и гармонию психики, — это основа нормального организма.
Когда растет организм, все его ткани, вплоть до самых микроскопических разветвлений, обычно развиваются пропорционально.
Кто из нас не задавался вопросом, кто не задумывался над этой чудесной тайной творения! Отчего у нас правая и левая рука, например, одинаковы и соответствуют во всякий момент жизни длине и объему головы, ног, туловищу? Кто следит за этой соразмерностью с точностью часового механизма и с совершенно непогрешимой бдительностью?
Теперь мы знаем, что об этом заботятся железы внутренней секреции. Я назову вам некоторые из них. Щитовидная железа на шее, зобная, надпочечники, паратиреоидные железы. Анатомически их объединяет одно свойство: они не имеют выводного протока, как напр., слюнная или слезная железа. Отсюда и название: внутренняя секреция.
Эти небольшие мясистые кусочки представляют собой колоссальные источники энергии, заряды подлинной жизненной силы. Они вырабатывают гормоны, которые поступают в кровь. Взаимодействие, и влияние последних на организм и на все интимные отправления нашей психики и тела, определяют в конечном счете и наше существо, и наши особенности.
Это и есть пресловутая корреляция органов.
Попробуйте вообразить себе, что получится, если одна из этих желез сдаст, или если выпадет функция.
Сейчас же произойдет катастрофа.
Мы знаем подобные случаи. Вот, напр., у стройного юноши начинают непомерно вытягиваться руки и ноги. Кисти и стопы внезапно резко увеличиваются. Получается уродливая форма гигантского роста. Это — болезнь: акромегалия. А происходит она от того, что передняя доля шишковидной железы мозга по неизвестной причине начинает обнаруживать чрезмерную деятельность.
Задержимся немного на этом примере.
Гигантизм может быть вызван искусственным путем. Удалите половую железу, скажем, яичко, кастрируйте мужчину в периоде возмужалости, и вы получите в результате тот же непомерный рост.
Это объясняется тем, что рост есть результат взаимодействия нескольких желез, при чем одна из них усиливает или ограничивает деятельность другой. Функция половой железы, например, парализует функцию мозгового придатка. При отсутствии первой организм приобретает ничем не сдерживаемый стимул к росту.
В этом случае человек может, на самом деле, перерасти самого себя.
И наоборот.
Это о железах внутренней секреции вообще. Теперь о том, что есть пол.
Ведь мы не можем теперь ограничиваться первичными и вторичными половыми признаками. Волосы, борода, бюст, подкожный жир и органы деторождения — это очень мало.
Рамки раздвигаются всеобъемлюще. Это уже и строение скелета, и рост его, и плотность костяка, и ширина плеч, и ширина таза, строй всего тела, и мозговые полушария, и извилины коры. Это уже вся физика, физиология, анатомия и психика.
Или почти вся.
Пол — это настройка человека на ту ноту, которую он берет в мире. И его тембр и диапазон. В конце концов — пол это все. Но пол — это половая железа. И человек есть то, что есть его железа.
У мужчины — это яички и предстательная железа. У женщины — яичники.
Таково в общих, грубых чертах учение о внутренней секреции и о гормонах.
Отсюда становится понятным остальное. Гомосексуалист — это жертва недоразумения. Если вам противно однополое влечение, то не воображайте, что это плод вашей чистоты, брезгливости или добродетели. И тех, кому оно приятно, не забрасывайте камнями. Ибо они ни в чем не виноваты.
Силы, созидавшие их во чреве матери, допустили ошибку. Внутриутробный архитектор попросту просчитался. В результате мужской зародыш получает в какой-то доле своей половой железы деталь, соответствующую особенностям женской половой железы.
И подобно тому, как земная скважина неразрывно тянется через все геологические наслоения, так через все существо человека, на протяжении всей его жизни проникает след этой роковой ошибки.
В повседневности это явление объясняется просто; изменение направления полового влечения. А такого человека мы называем гомосексуалистом.
Если вы наблюдательны, то вы, вероятно, уже сами обратили внимание на талию гомосексуалиста: она коротка, как у женщины.
Вейль произвел множество измерений. У нормального мужчины соотношение длины верхней половины туловища к длине нижней составляет 100:100, а у гомосексуалистов — 100:108. Это и есть женский тип.
Я не знаю, был ли я вам ясен. Мне хотелось сделать понятным одно: гомосексуализм — не извращение вкуса, не только дурная привычка.
Очень часто это рождается.
Можно ли восставать тогда против этой нелепости природы?
Раньше с этим приходилось мириться или бороться репрессией. Теперь эту эмбриологическую ошибку может исправить часто нож хирурга. Стоит отыскать дефект в строении органа и оперативно удалить его из организма, чтобы восторжествовала норма. Искаженный пол выправляется. Могучее развитие хирургии, нужно думать, скоро сделает это вмешательство науки ординарным.
Там же, где вкусы привиты дурным воздействием, сексуальные неправильности должны лечиться по общему принципу: рациональным воспитанием и оздоровлением среды. Среды даже в самом широком смысле.
Социальной среды.
Мы договорились чуть ли не до социальных задач. И совсем забыли юношу из балетной школы.
Знаете, что с ним произошло дальше?
Я лечил его в продолжении месяца. Ко мне пришла однажды его сестра, которой он все рассказал. Она тоже была до замужества балериной. Она разрыдалась у меня в кабинете, потрясенная печальной новостью. «Мой бедный брат, мой дорогой мальчик…», — повторяла она сквозь слезы. К тому же она боялась за себя, за мужа, за детей. Я успокоил ее и дал ей необходимые наставления.
На середине курса лечения больной однажды не явился. Я не придал этому значения.
Прошло несколько дней.
Вечером, когда я уже кончил работу, пришла женщина в черном. Я узнал бывшую балерину.
В соседней комнате шаркала ногами и щеткой санитарка. Она хлопала форточкой, очищая прокуренный и промозглый воздух ожидальни. Звуки уборки доносились из-за двери тускло и стонуще, как будто жалуясь. Осенний вечер скучно смотрел в окно.
Я помню этот час сумерек. И эта женщина в трауре еще очень долго потом не уходила из памяти.
Маленький артист был в могиле. Он повесился.
Он оказался слитком впечатлительным. Сестра передала мне его письмо с несколькими словами благодарности.
«Вы были так добры ко мне»… И он почти извинялся, что умирает.
Мне больно и грустно всегда, когда я вспоминаю этот эпизод. Что-то бередит и беспокоит мою мысль. И мне часто кажется, что тяжесть этой смерти, какая-то часть ее, лежит и на моей совести. Все ли я сделал, чтобы остановить на пороге могилы эту поскользнувшуюся молодость? Сумел ли я достаточно ясно сказать ему, что вся его жизнь ведь впереди, и что неудачное начало, быть может, нисколько, или очень мало испортит ее расцвет и радости?
И что-то смутное, тревожащее иногда бродит во мне, как не развеянный призрак забытого искупления.
Между молотом и наковальней
Интересное совпадение. Актера, наградившего этого мальчика сифилисом, я тоже знал. И он посещал амбулаторию, в которой я работал. Когда я открывал дверь, чтобы пригласить очередного больного, я всегда видел его сидящим на одном и том же месте. Он жался на краю скамьи, как бы боясь запачкать свой поношенный, но еще щеголеватый, пиджачок о грязные рабочие куртки своих соседей. С брезгливой гримасой входил он в кабинет. В одно из обоих последних посещений наложивший на себя руки юноша назвал мне его имя.
Брезгливый актер продолжал лечиться у меня. Аккуратно, два раза в неделю, приходил он ко мне.
Я ничем не обнаруживал знания тайны и смотрел на это полное, энергичное, бритое лицо с молчаливой враждебностью. Знал ли он об опасности, которую представляло для окружающих его прикосновение? Конечно, знал.
Я неоднократно говорил ему о сущности, о последствиях его заболевания, о необходимости изоляции.
Я думаю, что у него была слабая воля, а не злая. О таких людях говорят, что они слепое орудие своих страстей. Но что же из этого следует? Ведь преступление всегда остается преступлением. И сколько еще жизней будет им разрушено и отравлено!
Что я мог ему теперь сказать? Его жертва была уже в могиле. Никакое обличение виновника уже не могло вернут ее снова к существованию.
Допустим, что у этого актера есть девушка невеста. И я бы узнал о готовящейся свадьбе, назначенной через две недели. Это значит, я узнал бы о предстоящем неизбежном новом заражении. Как поступил бы я в этом случае? Побежал бы к невесте? Сообщил прокурору? Разгласил бы о болезни пациента? Первым моим движением, конечно, было бы предупредит девушку, повинную разве только в своей любви.
Но ведь болезнь больного это чужая тайна! Секрет, который мне доверен, потому что я обязался своей университетской присягой молчать. Могу ли я распоряжаться им по своему усмотрению?
Нет.
Ибо это есть врачебная тайна.
Впрочем, с врачебной тайной обстоит не так просто, как это может показаться с первого взгляда.
Это одно из наших больных мест. Если раньше спорили о том, что такое врачебная тайна, каков ее объем, ее смысл, ее пределы, то теперь все это волнует еще больше, потому что охрана коллективного здоровья, как социального блага, выдвинута сейчас на первый план.
Но социальный организм состоит из людей, отдельных единиц. Человек имеет свои неотторжимые вкусы, непреодолимые мнения, привычки, иногда крепкие, как инстинкты. Ближайшим непосредственным объектом медицины и является этот человек. Не всегда интересы человека, как он есть, конкретного человека, и мыслимого, так сказать, коллектива совпадают. Но наука не может не думать и о социальной безопасности.
Вот почему здесь, в этом этическом вопросе, есть множество спорных моментов, крупных и мелких. Врач же попадает как бы в тиски между молотом и наковальней. И это положение иногда бывает совершенно трагическим.
Представьте себе, что весенним вечером вы сидите в совершенно пустынном сквере. К вашей скамье подходит приличного вида субъект и садится рядом с вами. Завязывается разговор. Ваша физиономия внушает незнакомцу доверие, и вам приходится выслушать длинную исповедь преступника. Для вас ясно, что ваш сосед — жертва жестоких обстоятельств, голодный и загнанный человек, который скитается, как собака, и готов наброситься на кого угодно.
За себя вы, конечно, спокойны: у вас достаточно крепкие мышцы. Но в это время мимо вас проходит женщина. На руке у нее сверкает золотой браслет с крупным бриллиантом. Когда она скрывается в глубине аллей, ваш собеседник внезапно поднимается и направляется в ту же сторону. Глаза его блестят, как глаза волка.
Вы будете молчать, будете раздумывать? Вас будет удерживать мысль, что тайна открылась пред вами случайно, и что нечестно злоупотреблять доверчивостью преступника? Конечно нет!
Мы же, врачи, иногда скрещиваем руки на груди и молчим. Поза зрителя, может быть, и не равнодушного, взволнованного, но все же зрителя — это наша поза. Мы в таких случаях, как Понтий Пилат, по существу, умываем руки.
Этого требует от нас тогда врачебная тайна.
Много лет назад, когда я проезжал через Францию, в том городке, где я остановился, еще не смолк шум, поднявшийся вокруг одного громкого дела.
Если хотите, это — история современной любви, история современной семьи, конечно, семьи на Западе, и в то же время история одного врачебного преступления.
Жервэ, молодой человек, был счастлив по двум причинам. Во-первых, шеф перевел его на более ответственную должность с окладом в 550 франков. Во-вторых, он сделался женихом Люси.
Мосье Жервэ был коммивояжер очень солидной фирмы. После обручения ему предстояща последняя служебная поездка, по окончании которой он должен был занять в той же конторе должность заведующего отделом заказов и перейти к оседлому образу жизни.
Через два дня после помолвки Жервэ заказал себе место в купе 1-го класса и отправился в путь.
На одной из промежуточных станций в купе вошла молодая женщина и заняла место напротив счастливого коммивояжера.
Французы, как известно, народ, крайне разговорчивый. Через пять минут пассажиры знакомы. Через десять минут они уже почти друзья.
Мосье Жервэ не сводит глаз с хорошенькой женщины и говорит:
— Мадам, вы мне ужасно напоминаете одну мою знакомую.
Незнакомка смеется.
— Разве я такая старая? Я вовсе не мадам, я — мадемуазель. А вы, мосье Жервэ, напоминаете мне моего жениха, в имение родителей которого я сейчас еду. У вас точно такая же фигура и улыбка.
Мосье Жервэ был далек от мысли, преждевременно изменить своей Люси. Однако, его спутница показала себя более смелой, чем он. Она прекрасно сумела совместить положение невесты с потребностями любительницы альковных приключений. Открытие это мосье Жервэ сделал как-то совершенно неожиданно для себя.
Как это произошло, он почти не помнил. Должно быть, в этом был виноват весенний вечер.
Во всяком случае, жалеть о подобных сюрпризах не принято. Не пожалел о случившемся и мосье Жервэ, самодовольно улыбнувшийся, когда рано утром он провожал взглядом грациозную фигуру своей спутницы. Сходя со ступенек вагона, она послала ему прощальный привет. И исчезла навсегда.
Но не навсегда исчезла память о ней у мосье Жервэ. Через три недели, еще в пути, он заметил у себя на одном очень щекотливом месте крошечный прыщик. Он его содрал. Получилась ранка круглой формы, вроде царапины.
Жервэ прибегнул к помощи йода. Когда через несколько недель он вернулся в родной город, на месте невинного прыщика образовалась язва с расползшимися краями и с незначительным слизисто-кровянистым отделяемым. Основание язвы было плотное. Мосье Жервэ это не понравилось.
Утром он выпил кофе без особого удовольствия. Сперва он посетил Люси, потом пошел на службу, а вечером отправился к доктору Николаи.
Доктор Николаи был знающий врач. Ему не стоило большого труда окончательно испортить аппетит мосье Жервэ. Он внимательно осмотрел пациента и безошибочно установил наличие сифилиса.
Ошеломленному коммивояжеру невольно пришлось вспомнить свою кокетливую соседку по купе.
Мосье Жервэ замер в испуге. Ведь через два месяца должна была состояться его свадьба. Через два месяца должны были стать его собственностью и обожаемая Люси, и не менее обожаемые акции на сумму в 50 000 франков, ее приданое. Что делать? Потерять Люси и ее акции? Нет, лучше пустить себе пулю в лоб!
Впрочем, мысль о самоубийстве не казалась ему совершенно неотложной. И между мосье Жервэ и доктором Николаи произошел следующий диалог:
— Доктор, неужели нет возможности вылечиться в два месяца?
— Никакой! Помилуйте, мосье Жервэ, ведь эта болезнь очень серьезная и коварная, она требует многих лет лечения. Раньше чем через пять лет вы не сможете считать себя здоровым, да и то при строго регулярном лечении. Если же вы будете относиться к лечению халатно, вам будут угрожать инвалидность, паралич, психические болезни, разложение. К тому же вы опасны для окружающих. Вы должны проделать 6–8–10 курсов лечения и только после этого вы сможете думать о вашей личной жизни.
— Но это невозможно, доктор! Тогда дайте мне яд, убейте меня! Через два месяца должно состояться мое бракосочетание с Люси Бергонье. Потерять ее — значит потерять жизнь. Возьмите все мое состояние, но сделайте меня здоровым. Неужели наука бессильна?
Кончился этот диалог тем, что мосье Жервэ удалился, испытывая неприятное ощущение в одном месте чуть пониже спины, куда доктор ввел первый шприц ртути.
В тот же вечер мосье Жервэ хотел отправиться к Люси, пасть перед ней на колени и рассказать ей о случившемся, а потом покончить с собой.
Он пробродил несколько часов по самым темным улицам засыпавшего города, обдумывая предстоящее объяснение с невестой и способы самоумерщвления.
В конце концов он решил, что нужно пощадить Люси и переговорить с самим мосье Бергонье, ее отцом.
Когда он приблизился к дому Бергонье, в окнах было уже темно. Все спали.
Мосье Жервэ вернулся к себе и, не поужинав, лег спать.
На следующий день утром он был занят службой, делами. Вечером в доме Бергонье объясниться ему тоже не удалось. Были гости, и отца Люси никак нельзя было застать наедине.
На другой день опять что-то помешало. Так шли дни за днями. Некоторая сдержанность, обратившая на себя внимание Люси, была оправдана перегруженностью служебными обязанностями.
Через две недели лечения от язвы не осталось и следа. Болезнь оказалась, по мнению мосье Жервэ, вовсе не такой страшной. И если бы не необходимость посещать доктора Николаи в поздние часы, весь эпизод был бы вскоре забыт, как дурной сон.
Доктор Николаи знал семью Бергонье. Делая жениху последний укол дня за три до свадьбы, он сказал:
— Молодой человек, вы совершаете преступление. Пока не поздно, подумайте о том, что вы делаете. Чистое существо, которое вам доверяют, вы наградите ужасной болезнью. В ад, моральный и физический, превратится ваш дом, когда это обнаружится. Я уже не говорю о потомстве, участь которого будет предопределена с самого рождения.
Мосье Жервэ был глубоко потрясен энергичной проповедью доктора. До глубокой ночи он бродил по улицам, погруженный в размышления. А через три дня была отпразднована свадьба мосье Жервэ с Люси Бергонье.
Год спустя у молодой четы Жервэ родился ребенок.
Приблизительно в это же время на прием к доктору Николаи явилась цветущая крестьянка лет двадцати пяти.
— Господин доктор, осмотрите меня, — сказала она. — Здорова ли я? Нет ли у меня какой-либо прилипчивой болезни?
Доктор Николаи осмотрел ее. Она оказалась вполне здоровой.
— Зачем вы пришли ко мне? — спросил доктор женщину.
— Видите ли, господин доктор, я нанялась кормилицей в один дом, к господам Жервэ. Молодая хозяйка боится, не страдаю ли я дурною болезнью. Она послала меня к вам за записочкой по этому поводу.
Тут доктор Николаи вспомнил, что дня три тому назад его пригласили к Жервэ, которые были обеспокоены появлением каких-то пятен на стопе у новорожденного. Родильница чувствовала себя очень слабой, и проводить доктора пришлось мосье Жервэ, которому почтенный врач, по поводу сына, еще раз напомнил горькую истину.
«Слава Богу», — подумал удрученный доктор Николаи, — что хот мадам Люси, согласно закону Колля, приобрела невосприимчивость и ей не грозит опасность заражения».
Колль был видным специалистом по наследственному люэсу. Путем наблюдений он установил закон, согласно которому сифилис может передаваться через яйцо матери и через семя отца. Здоровая мать, родившая от отца-сифилитика больного ребенка, остается здоровой и приобретает невосприимчивость. Она может даже кормить грудью ребенка, не боясь заражения.
Надо оказать, что закон Колля давно уже сдан в архив, как устаревший. Но в те годы сифилидология еще не знала ни теперешних способов распознавания люэса, ни реакции Вассермана, и учение Колля считалось непогрешимым.
Выслушав объяснение крестьянки, доктор Николаи пришел в ужас. В лице этой женщины он увидел перед собой новую жертву мосье Жервэ. Новорожденный сифилитик, конечно, заразит кормилицу, и та передаст эту ужасную болезнь своему ребенку или мужу.
— Послушайте, — сказал доктор Николаи женщине, стоявшей перед его столом в ожидании свидетельства, — заклинаю вас именем вашего собственного ребенка и всем дорогим для вас — не берите вы этого места.
— Но, господин доктор, — пробормотала крестьянка, — я…
— Дайте мне слово, что вы будете молчать, и я вам объясню: в чем дело. Вы поймете тогда, что я прав.
— Но, господин доктор…
— Имейте в ввиду, — перебил женщину взволнованный доктор, — что у ребенка дурная болезнь, очень опасная. Вы тоже заболеете, если будете кормить его грудью. И вы, и ваш ребенок, и ваш…
В этот момент женщина вскрикнула и, закрыв лицо руками, бессильно опустилась на стул.
— Во как же так, господин доктор? — промолвила она после длительной паузы глухим голосом. — Значит я пропащая? Ведь я уже четыре дня, как служу у господ Жервэ!
Деревенская кормилица была не дура. Она поспешила сейчас же с кем-то посоветоваться, и уже на следующий день к судье поступило заявление от пострадавшей с иском к мосье Жервэ на сумму в 30 000 франков. В своем заявлении истица ссылалась на слова доктора Николаи.
В маленьком городке не существует тайн. Случай в доме Жервэ был у всех на устах. Мосье Жервэ встречали и провожали взглядами, полными страха и возмущения.
Через несколько дней шеф мосье Жервэ вызвал его к себе в кабинет и указал ему на неудобство его дальнейшего пребывания в должности заведующего отделом заказов конторы.
Тесть, обрушившийся на мосье Жервэ с кулаками, забрал к себе свою дочь, оставив ребенка отцу, и потребовав немедленного возвращения акций на сумму в 50 000 франков.
Таким образом мосье Жервэ очутился один, без жены, без службы и без акций. В его душе, освобожденной роковыми ударами судьбы от всяких семейных наслаждений, оказалось много пустого места. Эту пустоту он заполнил ненавистью к тому, кто разрушил его счастье и карьеру, к доктору Николаи. И он обратился к прокурору, требуя предания суду доктора Николаи за нарушение врачебной тайны.
Закон был на стороне мосье Жервэ, и делу был дан надлежащий ход. Доктор Николаи сел на скамью подсудимых.
Беспристрастная Фемида вынесла свой приговор. Гражданский иск мосье Жервэ за потерянную им службу был, правда, отвергнут, но двери приемной доктора Николаи были закрыты для пациентов ровно на два года. Впрочем, они больше не открывались. Вскоре после осуждения доктор Николаи, не выдержав удара судьбы, скончался.
Если вы спросите меня, заслуживает ли подражания пример этого французского врача, я, пожалуй, отвечу: нет, с принципиальной точки зрения.
Правда, сохранение в тайне того, что нам, врачам, доверяют больные, ставит нас иногда как бы в положение соучастников преступления. Но я не знаю, было ли бы всего лучше для врачей, если бы им было предоставлено право нарушать врачебную тайну.
Кто должен был бы тогда устанавливать эту необходимость нарушения? Врачи? Но тогда в каждом отдельном случае им пришлось бы руководствоваться велениями морали, по-своему понимаемыми, и предписаниями науки, не совсем определившимися. Мне кажется, положение врача было бы при этих условиях затруднительным, тем более, что при решении подобных вопросов долга, совести и человечности врачу приходится иногда не только углубляться в прошлое и настоящее болезни и больного, но и прорицать, предугадывать будущее!
У одного известного ленинградского сифилидолога был пациент-бухгалтер, сифилитик. Больной лечился у него около полугода. С точки зрения науки это означало, что он почти совсем не лечился. Во всяком случае, не долечился.
Вскоре этот бухгалтер решил жениться. Доктор был возмущен до глубины души. Он пытался отговорить своего пациента от этого шага, но тот не послушался его. От этого брака пошли дети. Дети выросли и, в свою очередь, дали жизнь новому потомству.
Тридцать лет наблюдал доктор эту семью во всех ее поколениях.
Это был счастливый, здоровый, цветущий род. Никаких следов заражения ни у кого из детей и внуков бухгалтера, не обнаружилось. Как будто ничего не было.
О болезни же родоначальника знал только он сам и его врач.
Особенности ли организма, действие ли лекарства, неведомые ли пока еще законы индивидуальности сыграли в данном случае решающую роль, — сказать трудно. Но вообразите себе, что произошло бы, если бы доктор не остановился на полпути и открыл бы невесте своего пациента тайну жениха. Какие слезы и рыдания, а может быть, и еще более печальные последствия вызвал бы этот акт человечности и доброты! Вспоминая этот случай, врач, быть может, и теперь еще благословляет судьбу за то, что в свое время он не огласил тайны своего пациента-бухгалтера.
Проф. Тарновский пользовал одного сифилитика. Это был очень видный юрист. Лечение шло успешно. Оно длилось несколько лет. Пациент был чрезвычайно пунктуален в исполнении всех предписаний профессора.
Через четыре года профессор нашел дальнейшее лечение излишним. Два года спустя больной сообщил профессору о своем намерении жениться.
В виду того, что никаких следов заболевания у пациента не осталось, профессор санкционировал его решение.
Через месяц после свадьбы муж привел на прием к профессору свою молодую жену. На малой губе у нее появилась язвочка.
Профессор Тарновский констатировал сифилис в первичной стадии.
Допустим, что так было раньше, что это были ошибки еще не созревшей науки, что тогда врачи бродили еще в потемках. Теперь же мы, конечно, далеко шатнули вперед, и многое, когда-то неясное, темное, ныне у нас, как на ладони. Достаточно упомянуть о Вассермане. Открытая им реакция дает возможность контролировать весь ход внутренней борьбы человека с люэсом. Но все-таки и в настоящее время мы, врачи, не можем быть пророками.
Больной приходит к нам, скажем, с сифилитической сыпью. Мы исследуем кровь. Реакция получается положительная, — кресты. Мы лечим пациента. Через два-три года лечения мы снова производим исследование крови. Если Вассермановская реакция опять дает кресты, значит, надо продолжать лечение.
А если крестов нет, значить, человек здоров? Ничего подобного! Может быть, здоров, а может быть и нет.
Проходит еще год. Новый анализ крови дает минус. Повторные анализы тоже дают благоприятные для пациента результаты.
По прошествии нескольких лет мы говорим пациенту: «Вы, вероятно, здоровы».
Вероятно! Сказать больше мы пока не имеем права. А как же быть с той, которая собирается стать его женой? Вот она является к нам и спрашивает нас: «Мой будущий муж здоров?» Что ответить ей? Прочесть ей лекцию о сущности Вассермановской реакции? Да она убежит от нас, едва только мы произнесем слово «сифилис»!
И в результате брак будет расстроен. А между тем, сам пострадавший, может быть, совершенно здоров. Дальнейшим наблюдением и исследованием это вполне подтверждается. Беда же в том, что установить это своевременно без всяких оговорок мы не в состоянии.
Таких примеров может, набраться довольно много. Вот почему права разглашения врачебной тайны, если бы даже таковое и было нам предоставлено, все же оставляет много неразрешенного, запутанного, ибо не легко в каждом отдельном случае установить с достаточной достоверностью наличие реальной и существенной опасности.
К тому же надо иметь В виду, что, помимо медицинских соображений, тут играет чрезвычайно важную роль и момент чисто бытовой. Для людей, окруженных себе подобными, он часто является решающим.
Регистрация в амбулаториях нередко отпугивает посетителей. Почему? Потому что надо предъявить документы, потому что тайна ускользает из рук заболевшего, и хотя она и покоится в толстой книге канцелярии, но она уже не в его власти, она идет своими путями.
Проф. Вальтер рассказывает своей книге «Врачебная тайна» об одном немолодом сифилитике в третичном периоде, т. е. в периоде, безвредном для окружающих. Как только фабзавкому через врача медпункта стало известно о болезни рабочего, последний оказался окруженным атмосферой опасения и недоброжелательства. Не помогло представление врачебных удостоверений о том, что это лицо не представляет никакой опасности заразы. Рабочий в конце концов должен был покинуть завод и искать другого заработка. Но теперь он уже тщательно скрывал от всех свою болезнь.
А вот что рассказал мне однажды мой монтер Василий. Это был задумчивый, тихий человек, лет 32-х, с небольшой русой бородкой. Говорок у него был с придыханием. Меняя проводку моей квартиры, он громоздился на стремянке то в одном, то в другом углу комнаты, и что-то еле слышно напевал себе в усы, что-то печальное и унылое. В этот день он работал в передней и, сидя на последней верхней ступеньке лестницы, привинчивал к стене у самого потолка белые изоляторы.
Я пришел из больницы и сидел в кабинете за столом над книгой. Вдруг раздался звонок. Горничной не было. Я пошел открывать. В это время Василий начал торопливо опускаться сверху.
— Сидите, Василий, работайте. — сказал я ему. — Вы мне не мешаете, это пришел больной.
Но он продолжал сходить с лестницы.
— Нет доктор, — качнул он головой, уже стоя на полу. — Разве же можно? Ваши болезни известно какие. Разве я могу вроде как бы здесь оставаться?
И в голосе его мелькнуло и тотчас погасло что-то грустное, оттенок, почти неуловимый, какой-то жалобы. И вслед за этим он удалился в коридор, соединявший переднюю с кухней.
Когда пациент закончил свой визит и ушел, Василий снова завозился под потолком, а вечером, когда все было приведено в порядок, он пришел в кабинет за платой.
Майский день расплывался сумерками. На столе у меня горела лампа под абажуром и бросала голубой круг света. Одна половина лица Василия была освещена, а другая пряталась в тени, отчего взгляд его стал странным, необычным, ускользающим. Потом он шевельнулся, все так же держа в руке свою кепку, и ушел весь в тень, и теперь было заметно, что глаза его смотрели с невеселым выражением. Я вспомнил вдруг недавний короткий разговор. Мне захотелось его продолжить.
— Разве эти болезни так ужасны или позорны, Василий, — спросил я, — что вы боялись или не хотели быть в одной комнате с больным?
Он поднял удивленно голову.
— Это я говорю о вас, — пояснил я. — О том, что вы ушли, когда пришел больной.
Он посмотрел на меня, склонив голову несколько набок, как смотрят, когда пытаются понять, серьезны ли слова или все это шутка. Потом переступил с ноги на ногу и сказал:
— Нет, я не боялся, и болезнь, как я понимаю, вроде как нестыдная. Но, может, ему, больному-то, неловко чужого человека, — меня, значит. Вот я и ушел. А ежели он меня будет стесняться, то это правильно. Может, я ему окажусь вроде как знакомый и беды ему болтовней натворю? Разные бывают люди, гражданин доктор, — добавил он со вздохом. — Каждый вроде как по-своему понимает. Есть такие, что готовы обессудить человека на всю жизнь за дурную болезнь, со света сжить. А чем человек виноват? Несчастие с ним приключилось, а его травить начинают.
Говорил Василий как-то кротко, будто с каким-то всепрощением, но очень выразительно, точно страдал за кого-то близкого. И часто вставлял слова «вроде как». Бледные щеки его потемнели, покраснев в сумерках.
— Если так бывает, — сказал я, — то только от темноты, от несознательности. Сифилис или триппер такие же болезни, как и всякая другая болезнь, как экзема или туберкулез, или тиф. Кто читает книги, бывает на лекциях, те знают, что эти болезни не позор, а заболевшего не надо избегать или преследовать. Мой больной не стеснялся бы вас.
Монтер ничего не ответил. Он смотрел мимо меня, в окно, на небо, где над крышей противоположного дома по вечернему горела под надвинувшимся облаком последняя светлая полоса.
— Есть и вроде как образованные, — наконец, сказал он. — Которые и книжки читают, а понять этого все равно не могут. Должно быть, очень уж это в человеке сидит, не вынешь скоро, гражданин доктор.
Он остановился и поднял на меня глаза. Заметив, что я внимательно слушаю, он продолжил:
— У меня товарищ был, скромный быль из себя парень, Никому не вредил. Гулял с одной барышней, но вроде как любовь была промеж них. Ну, гуляли, гуляли, а потом стали жить, хоть на разных квартирах — служила она прислугой где-то — а вроде как-бы муж и жена. И только на который то день приметил мой товарищ у себя нелады, прыщик, сказать, не прыщик, а так вроде. Пошел он в больницу. А там и определили: сифилис.
Василий остановился, проглотил слюну, точно у него сразу пересохло во рту. В комнате постепенно темнело. Полоска зари погасла. Окна напротив осветились.
— Работал товарищ на заводе. Дали ему в больнице бюллетень, и начал он лечиться. Аккуратно ходил он на прием. Попервоначалу сильно запечалился, вроде как о смерти призадумался, а потом доктор объяснили, что это, мол, болезнь хоть и сурьезная, но такая же, как и все болезни, никакого зазору в ней нет, — вроде, как вы объясняете. Ежели, мол, правильно пользоваться, да все исполнять, то обязательно вылечится можно. Недели три-четыре, говорит, вы и неопасный будете, вреда никому причинить не сможете, значит, никто от вас не заболеет. Ну, хорошо, вроде как легче стало товарищу.
Благодарит он докторов за внимание и все положенное выполняет, вроде как по завету.
Приходить раз он к себе домой, отворяет ему дверь хозяйка. Увидала его, так и порскнула прочь, вроде как нечистого увидала. «Заприте, — кричит издали, — дверь, да за ручку не беритесь». — Что такое? — думает товарищ, — никогда за два года такого разговору не было.
Пошел он к себе, комната маленькая у него, темная, без умывальника. Берет товарищ полотенце и на кухню. Там няня хлопочет у печи. Выпучилась она на товарища, вроде как на супостата «Нету тебе сюда дороги, — говорит, опамятовавшись, — не велела хозяйка пущать тебя никоим образом. А в уборную ходи куда хочешь, и уборной для тебя здесь нету. Ты, — говорит, — порченный и всех нас тут перепортишь».
Ну и пошло. В квартире все бегут от него, вроде как от зачумленного. За что возьмется — сейчас крик. Никто близко и не подходит. Требуют с квартиры съездить. Потерял совсем голову товарищ. Откуда знать дали? Кто? Стал мрачнее тучи. Прямо вроде как вешаться надо.
Пошел товарищ в больницу и рассказал все доктору своему как на духу. Тот объясняет, что бояться нечего им насчет заразы, и что не имеют они никакого права гнать с квартиры. Это, говорит, самодурство, по суду ответить могут. Дал товарищу свидетельство с печатью. Вернулся он к себе, сует бумагу хозяйке, а та боится даже взяться за нее, да и вообще вроде как и слушать не желает. Съезжай да и только.
А вскорости и весь дом узнал про этого товарища, что он в такой болезни обретается. Совсем житья не стало. По двору пройтись невозможно. Чуть ли не пальцами в него тыкают. И шепчутся. Так и пробирается, вроде как тать, по застеночкой, чтобы никто не приметил. Что перестрадал товарищ — сказать невозможно. И пришлось бросить квартиру. А вы, гражданин доктор, говорите про книжечки. Столько эта хозяйка книжек перечитала. Сама ведь учительша, а не баба темная вроде как из деревни.
Василий отвернулся, как бы рассматривая цветы на обоях, и последние слова он произнес все так же тихо и кротко, без всякой укоризны, точно рассказывал он о стихии, о роке, о том, перед чем ничтожны наши усилия. Тогда я сказал резко;
— Пусть ответила бы по суду. Я бы ей не уступил, как ваш товарищ.
Он слабо улыбнулся.
— Это я неправду придумал про товарища, — сказал он виновато своим мягким голосом. — Не было у меня такого товарища. Этот парень я самый и был. А только, гражданин доктор, — убедительно добавил он, — и суд не помог бы. Ну, засудили бы хозяйку, а дальше? Все равно ходил бы среди людей вроде как нечистый. Знаю я; что нету дурных болезней. Да другие знать этого не хотят.
Он опустил плечи и стоял, задумавшись.
Врачебной тайны не должно быть. Но если так цепко еще за наш быт держатся косность и пережитки, то к ломке всего этого надо подходит осторожно.
Тайны не должно быть. Но не сейчас. А вот тогда, когда не будет обывателя, когда в массах, в обществе, изменится взгляд на так-называемые «дурные» болезни.
Этот вопрос актуален не только для нас, врачей. Над ним размышляют и те, кто составляет население наших городов: рабочие, служащие, учащиеся, словом, те, кто являются сами объектом и содержанием этой тайны.
Харьковская Научная Ассоциация провела среди широких кругов анкету о врачебной тайне и венерических болезнях. Было выпущено 5000 опросных листков. В результате получился чрезвычайно интересный материал.
Как же представляет себе разрешение этой проблемы неврачебный слой?
«Семья может и должна повлиять на больного, побуждая его к регулярному лечению, поэтому она должна быть оповещена», — пишет рабочий-печатник. «Громадное большинство больных малодушны. Задача врача сохранить здоровье окружающих и поставить их в известность о грозящей им опасности», — отвечает один служащий. А другой рабочий, партиец, выражается резче: «Лучше пожертвовать спокойствием и даже жизнью одного, нежели погубить многих».
А вот те, кто возражает.
«Тайна больного не должна быть разглашена, мы до этого еще не доросли», — указывает рабочий-металлист. «Укоренившийся в обывательской массе взгляд на венерические болезни, как на позорное явление, внесет в случае оповещения разлад в семью и разрушит ее», — объясняет учащийся, рабочий-швейник, сам болевший сифилисом. «Сифилитик, тайна которого разглашена, превратится в заклейменного позором человека», — говорить другой. «В ответ на это он будет мстить», — как бы дополняет рабочий-пищевик, сифилитик. «Сифилис нужно скрывать, ибо разглашенная тайна может еще и теперь повредить служебному и общественному положению больного», — высказывается одна работница-партийка, не принятая в партшколу после своего признания о болезни. «Больной должен быть уверен в сохранении своей тайны, ибо в противном случае он будет избегать лечения у врача и обратится к помощи знахарей, чем погубит и себя и семью», — пишет работница-швея. И, как мрачный рефрен, звучат слова одного служащего, сифилитика: «Если бы мои сослуживцы узнали, что я болен, я покончил бы жизнь самоубийством».
Как мы видим, мотивы, толкования, выводы здесь различны, но, в сущности, бой идет вокруг одного: вокруг вопроса об обывателе, который опозорит за болезнь. Этот обыватель еще прочно сидит в каждом из нас, во всяком случае, во многих. Он мертвит наши лучшие намерения. Особенно остро чувствует его тот, кого постигло несчастье заразиться. Недаром из анкетеров почти все, кто болел или болен, были сторонниками сохранения тайны.
Следовательно, надо прежде всего выбить из нас обывателя. Кто же, однако, должен воевать с ним? Конечно, и лекции и брошюры. Но на первый план выступает диспансер.
Диспансер приобретает особое значение потому, что перед ним стоит не аудитория, иногда безразличная, иногда уставшая, иногда скучающая. Диспансер видит того самого человека, который оглушен, растерян, весь в смятении, и этот человек панически хватается за тайну, за гарантированное молчание. И от того, насколько удастся панику эту сбить и вразумить оглушенного человека, зависит вредность или полезность сохранения секрета болезни.
А что же делать с теми, у кого злая воля, кто ни с чем не желает считаться?
Жил-был в одном крупнейшем городе человек, по фамилии, скажем, Семенов. Ничем особенным он не отличался, был, как все, служил бухгалтером кооператива. О венерических болезнях знал очень отдаленно, потому что нрава и привычек был устойчивых, спокойных, и всякого подозрительного общения избегал. Да и вообще женщины мало его занимали. Кроме одной. У него была жена, молодая, как и он сам, которую он любил.
Не знал он и ревности, потому что вера в жену была в нем сильна.
Имел Семенов еще и приятеля Кузьмина. Тот заведывал огромным гастрономическим магазином, с большим штатом служащих.
Бухгалтеру выпала месячная командировка. Раньше таких поездок у него не было, а известно, что служебная командировка большое движение вперед для бюджета. Ждал он ее, как манны небесной. Словом — не командировка, а событие. Провожали Семенова на вокзале жена и Кузьмин.
Когда поезд исчез в ночной дали и перрон опустел, заведующий магазином и Семенова использовали остаток вечера в прогулке. Усталость привела их в ресторан. Они заняли отдельный кабинет, ужинали, пили вино. И вышло как-то так, что жена бухгалтера слегка опьянев, отдалась своему спутнику.
Спустя несколько дней, этот же ресторан посетила еще одна пара. Предупредительный официант отвел им отдельный кабинет. Пришедшие ужинали, пили вино и говорили о разном, а потом о службе. Молодая женщина очень просила устроить ей место продавщицы, а мужчина клялся, что это он предоставит обязательно. Как заведующий огромным магазином, добиться этого он сможет в два счета. Но она должна доказать, что ценит такое отношение и такую готовность. Она должна отдаться ему.
И молодая женщина, видевшая уже над собой призрак нужды и голода, выполнила требуемое.
Месяц истек, вернулся Семенов. Жена радостно встретила утомленного поездкой мужа. Еще через месяц бухгалтер открыл у себя что-то подозрительное. В амбулатории диагноз был поставлен категорический: сифилис.
Бухгалтер мог заболеть только от жены. Он ей сказал об этом. От веры в безупречность жены уже ничего не осталось. Семенов был подавлен несчастьем, но говорил с женой без угроз, без проклятий, без кулаков, потому что любил он ее по-прежнему. И та, ошеломленная открытием, которое не предполагалось, назвала ему виновника ее единственного и случайного падения.
Надо было лечится обоим. Супружеской четой решено было обратиться к лучшим врачам. По распространенному еще кое-где предрассудку, частная помощь считалась наилучшим лечением. Но частную помощь нужно оплачивать. И тогда Семенов пришел к Кузьмину и потребовал денег на лечение.
Тот обругал своего бывшего приятеля шантажистом, клеветником и выгнал вон.
За этот описываемый промежуток времени отдельный кабинет ресторана видел у себя не однажды заведующего магазином с молодыми, красивыми спутницами. И каждый раз — с новой. Эти женщины с тревогой в глазах говорили ему — всякая по своему, но говорили об одном и том же. О том, что нужда сильна, что жить необходимо, что они готовы трудиться и работать. А он отвечал, что он это прекрасно понимает, у него же есть сердце, что устроит непременно. Ибо он человек с положением, со связями. Он завмаг. Только необходимо оценить такое отношение и готовность. Надо отдаться.
Кузьмин болел сифилисом в заразительной стадии. И всех этих женщин он превращал в сифилитичек.
Жертв было много, не одна и не две. Число их, может быть, все росло бы и росло. Как вдруг в дело вмешалось одно обстоятельство.
Уголовный кодекс. Ст. 150.
Бухгалтер возмутился наглостью Кузьмина и обратился к прокурору. Заявлению был немедленно дан ход. Следствие выяснило, что заведующий магазином действительно в это время лечился в амбулатории и, следовательно, был осведомлен об опасности, которую он представляет. Но если бы он и не был осведомлен, то суть от этого не менялась.
Было это в Ленинграде. Года два тому назад. В результате суда Кузьмин, получил шесть лет тюремного заключения.
Так закон борется с теми, кто является действительно настоящими преступниками. От таких персонажей приходится ограждаться принудительной изоляцией их.
На очереди стоит вопрос и о принудительном лечении.
Таким образом, санитарная обработка обывательской несознательности, вместе с обязательностью пользования медицинской помощью, и статья 150-я вдобавок — вносят свои коррективы к взгляду на «дурные болезни» и на врачебную тайну. Если последняя и не окажется совсем погребенной, то лишится, во всяком случае, той сложности, какую она сейчас представляет.
И это будет нашим огромным счастьем. То положение, которое имеется в настоящем, еще делает нас, врачей, иногда молчаливыми и невольными соучастниками преступления.
Совсем недавно была у меня молодая женщина. У этой работницы с текстильной фабрики были живые движения и блестящие, слегка задорные глаза. Стояли ранние осенние месяцы, и смуглая, почти бронзовая кожа пришедшей говорила о горячем солнце лета, впитанном на морском побережье. Она только что вернулась из дома отдыха, где-то на юге.
— Видите ли, доктор, — сказала она, устремив на меня свои блестящие глаза, — я сама не больна. Я пришла договорить не о себе. Я хочу узнать у вас об Афанасьеве. Чем болен он? (Это имя и все имена в дальнейшем — вымышленные).
Я приблизил к себе регистрационную карточку. Там было написано: Вишневецкая, Анна Степановна, 32 лет, съемщица фабрики «Красная Заря».
— А зачем вам это? — спросил я.
— Он мой муж. Я вернулась из отпуска и узнала от знакомых, что он болен чем-то нехорошим и лечился тут у вас. Правда ли это? Можно ли мне с ним жить?
Я знал Афанасьева. Он аккуратно посещал амбулаторию, лечась от гонореи. Клинических симптомов болезни уже не было, но за ним нужно было еще следить месяца два.
Могу ли я каждому, кто обращается ко мне, давать оправки о другом? Вы сами понимаете, что должен был ответит я пришедшей. И я сказал очень мягко:
— Вашу просьбу я не могу удовлетворить. Я не имел бы права этого сделать, даже если бы я знал, кто такой Афанасьев, и что он лечится именно у меня.
Работница посмотрела на меня с удивлением и и сказала:
— Как же так? Ведь если он болен, то заболею и я. Соседка мне сказала, что он болен, а он не признается и требует, чтобы я жила с ним. А я боюсь. Если он болен, я уйду от него. У кого же мне узнать правду, как не у вас?
В ее голосе слышалось тревожное недоумение. Крепкая, загоревшая, она стояла пред мною почти умоляющая, растерянная, видимо далекая от всех тонкостей врачебной тайны.
Я подумал: какая цепь страданий ожидает это молодое цветущее существо, если это правда, и если совесть не остановит Афанасьева, — бесконечные дни лечения, мучительные ожидания в очередях, моральные терзания и, в довершение всего, женские болезни, как последствие гонореи!
Но что сказать ей? Она — Вишневецкая, он — Афанасьев. Жена она его? Друг? Недруг? А может быть, ею двигают мотивы мести, желание узнать тайну я огласит?
Я не знал, что делать. Она ждала, в ее глазах застыл вопрос.
— Пройдите в канцелярию, — ответил я, — может быть, там посмотрят в книгу и найдут то, что вас интересует.
Она ушла.
В тот же день был у меня и Афанасьев. Когда процедура закончилась, и он собрался уходить, я спросил его, рассматривая карточку и как-бы плохо разбираясь в написанном:
— Афанасьев, вы холосты или женаты? Не пойму я, здесь неразборчиво что-то.
Он невинно посмотрел на меня и ответил неторопливо:
— Холостой я.
В регистрационной карточке тоже было так отмечено его семейное положение.
— И вы ни с кем не живете? Конечно, не сейчас, в данное время, когда, вам нельзя, когда вы опасны и можете заразить, а раньше?
Он ответил без всякой заминки:
— Как же, с одной живу, только не в браке, а так. Теперь, конечно, до нее не касаюсь, до самой поправки.
Он смотрел на меня своими светлыми глазами, простодушными, бесхитростными. Лицо его, молодое, свежее, со следом давнего, похожего на укус, шрама у виска, казалось, не таило обмана. Я сказал ему:
— Смотрите же, не трогайте ее. Вам этого нельзя, это повредит лечению, да и ее вы обязательно заразите. Если же вы ее заразите, то, кроме того, что столько горя ей причините, еще и ответите по суду…
И я долго убеждал его в необходимости воздержания до полного выздоровления, не раньше, чем ему позволена будет мной половая жизнь.
Закончив прием, я оделся и в канцелярии разыскал делопроизводителя.
Он сидел над пачками бумаг и листков.
— Вы давали сегодня справку об Афанасьеве? — спросил я.
— Да, да, — ответил он, щурясь, — припоминаю, эта женщина приходила ко мне. Послал ее к главному врачу за разрешением, но она не возвращалась сюда.
Туда, в канцелярию, она, действительно, не возвратилась. Но ко мне в кабинет она вернулась — недели через две, с злым блеском глаз, с нескрываемой ненавистью ко мне.
У нее не было теперь никаких вопросов ко мне. И уже не нужно было скрывать от нее никакой врачебной тайны. Потому что она пришла с гонореей, которой заразил ее муж, Афанасьев. Когда я посадил ее в кресло и осмотрел, я почувствовал себя злодеем, который пойман на месте преступления. Мне было мучительно стыдно и тяжело. Я не мог смотреть ей прямо в глаза; слова застревали у меня в горле. Чтобы скрыть свое душевное состояние, я хмурился и говорил, сердито и отрывисто.
Встретив в коридоре поликлиники главного врача, я опросил его:
— Владимир Петрович, что отвечаете вы тем, кто приходит к вам справляться о характере болезни посетителей амбулатории? Ну, например, жена, незарегистрированная, живущая раздельно, приходит в амбулаторию и хочет узнать, чем болен ее муж, чтобы избежать заражения. Существуют ли на этот счет какие-либо инструкции?
Мой вопрос, видимо, не застал главного врача врасплох.
— Мы обязаны давать справки, — ответил он после короткой паузы, — только по требованию судебных властей и лиц прокурорского надзора.
Предо мной встало лицо страдающей молодой работницы. И хотя эти официальные слова главного врача прозвучали так бездушно-казенно, я не смог возразить ему. Ведь формально он был, вероятно, совершенно прав.
Когда жизнь, обычная, каждодневная, с ее мелкими и крупными событиями и радостями, огорчениями, перепутывается вдруг с медицинским кабинетом, тогда положение врача может стать чреватым еще большими раздумьями.
В одном доме я встречал Новый год. Там было большое общество. Проводив старый год и встретив новый, приглашенные разбились на группы, разбрелись по уютным, окутанным полумраком уголкам. Всюду слышались негромкие голоса беззаботно беседующих людей.
Около меня сидела высокая женщина, еще совсем молодая стенографистка. Она приехала из Москвы и заканчивала свой двухнедельный отпуск. На следующий день она должна была возвратиться домой, к мужу.
Она знала мою профессию.
— Доктор, — сказала она, обращаясь ко мне, — я думаю, женщины не могут казаться вам привлекательными. Вы их слишком хорошо знаете, вы, как врач, далеки от всяких иллюзий…
У моей собеседницы был очень приятный голос. Голова у меня слегка кружилась от выпитого. Я охотно отвечал ей. Мы продолжали непринужденно болтать.
Я сказал ей:
— Вы молоды и красивы. Жизнь доставляет вам, вероятно, много радостей.
Полузакрыв глаза, молодая женщина мечтательно посмотрела на голубой фонарь, спускавшийся с потолка.
— Хорошо быть молодой, — произнесла она, — совсем, совсем юной; иное дело, когда в нашу жизнь начинает вторгаться мужчина. Ах, мужчины! Отчего мы любим, не задумываясь? Мой муж — чудный человек, я глубоко ценю и уважаю его. И все-таки… Ведь для девушки мужчина — это новый, неизведанный мир, который до встречи с нею развивался по своим особым законам. Кто он? Что он? Даже страшно становится… помню, кажется, спустя неделю после свадьбы, когда я уже испытала все ощущения замужней женщины, я вдруг чего-то испугалась. В голове у меня завертелись всякие подозрения, сомнения. Я подумала: ведь, в сущности, я не знаю, каким он был раньше, до свадьбы; только теперь я начинаю узнавать его. А прошлое уже непоправимо. Мысли у меня рождались самые скверные. Но дня через три-четыре все прошло, и я успокоилась. Ах, в пятнадцать лет женщина не знает этих мучительных сомнений! В этом возрасте мы безгрешны и чисты.
В этом бессвязном лепете одна фраза остановила на себе мое внимание. Чутьем профессионала я угадал тайну, которая ей самой была неизвестна. У женщин это наблюдается сплошь и рядом. Взяв ее руку, мягкую, теплую, я сказал ей:
— Мой друг, у вас могут быть в жизни неприятности, и очень крупные. Послушайтесь меня. Когда вы будете в Москве, обратитесь к опытному гинекологу, а еще лучше — к специалисту-венерологу.
Несмотря на полумрак, я заметил, как краска облила ее щеки. В ее голосе послышался испуг, когда она воскликнула:
— Что вы, доктор! Вы шутите! Ничего подобного быть не может. Мой муж совершенно здоров. Да и у меня никогда не было этих ужасных болезней.
В этой, со вкусом меблированной, комнате воздух, чуть освещенный светом затененной лампы, быль насыщен ароматом духов, дорогой пудры, и ковер делал неслышными шаги. Портьеры и рисунки обоев проступали из полумрака пятнами, как детали картины. Здесь должны были бы изучать слова нежности и любви. Мне не хотелось говорить о микробах, анализах, выделениях, гное…
Поэтому я повторил еще раз:
— Я желаю вам только добра. То, что я вам советую, не затруднит вас. Покажитесь врачу.
Год спустя в этом же доме опять справлялась встреча Нового Года. Молодая стенографистка из Москвы снова была в числе приглашенных. Она показалась мне еще более красивой, чем раньше. На ней было темное, почти траурное бархатное платье.
Мы раскланялись, как старые друзья.
В этот вечер глаза ее сверкали как-то необычайно ярко, и все лицо ее сияло беспредельной я жизнерадостностью. С ней был длинноволосый юноша в суконной толстовке. Я узнал, что он студиец, работает в кино и в «Синей блузе» и пишет стихи. По-видимому, они были влюблены друг в друга.
Темное платье москвичка носила неспроста, полгода тому назад умер ее муж. Она поселилась в Ленинграде и работала в правлении какого-то треста.
После ужина, когда я проходил мимо нее, она громко оказала, улыбаясь:
— Доктор, какой вы смешной!
Мы поняли друг друга.
Юноша был с ней неразлучен. Уходя, я заметил, как он низко нагнулся и поцеловал ее ладонь, а она растеребила ему прядь волос над ухом. Потом он что-то сказал ей, и они оба долго смеялись.
Мне стало грустно. Чужое счастье поднимает в нас жалость к самим себе, и все, что не сбылось, пробуждается к жизни.
Дней через шесть ко мне на дом явился больной. Я принимаю у себя пациентов очень редко. Я открыл дверь в прихожую и сказал:
— Войдите.
В кабинет вошел молодой человек в суконной толстовке. Я узнал его сразу. Это был студиец из «Синей Блузы».
Он стоял предо мной в глубоком смущении. Потом он сел, пригладил свои черные волосы и сказал, запинаясь:
— Э… Э… доктор! Я не болен. Видите ли… Я пришел к вам… Мы ведь немного знакомы… мы встречались… Я о вас слышал много хорошего… Я пришел к вам посоветоваться… Знаете…
Чтобы выручить его, я задал ему два-три вопроса. Я неоднократно наблюдал еще в начале своей врачебной деятельности, что в щекотливых случаях смущение больных снимается, точно рукой, при откровенном подходе к делу.
Мой юноша обрел, наконец, дар слова.
— Доктор, — сказал он, — я не болен — и никогда не болел. У меня не было и в мыслях считать себя больным. Я просто мнителен. Вы, конечно, знаете жизнь актера, с кем только не встречаешься! Я читал когда-то, что сифилис, например, можно схватить незаметно, и что это обнаруживается только много лет спустя, когда человека постигает вдруг паралич. Я ужасно мнителен… Мысль о том, не болен ли я, мучает меня. Я прошу вас, доктор, осмотрите меня, Пусть не покажутся вам смешными мои слова. Я ужасно боюсь венерических болезней.
От волнения лицо его стало пунцово-красным. Из-под длинных ресниц на меня с просьбой смотрели его зеленоватые глаза.
Я не совсем понимал, чего он хочет от меня.
— Окажите мне, — спросил я, — с какого времени появилась у вас эта боязнь заболеть? И когда вы в последний раз были близки с женщиной?
Юноша энергично возразил:
— Нет, доктор, не в этом дело… Я могу… я… может быть… словом, я собираюсь на днях жениться. Но вдруг я болен? Осмотрите меня. Я никогда не болел. И вообще я очень редко имел дело с женщинами. Я избегал их, потому что мысль о заражении удерживала меня. Но ведь я мог заболеть и внеполовым путем, не правда ли?
Мне стало все ясно. Этот юноша был, очевидно, очень честен и порядочен и к тому же мнителен. Он где-то слышал или читал о внеполовых путях инфекции и захотел себя проверить.
Не удивляетесь, пожалуйста. Прийти к врачу перед физическим сближением с любимой женщиной, это кажется вам верхом рассудочности, представляется вам оскорбительным для святого чувства любви? Вы не правы. Это — сама жизнь, трезвая разумная действительность.
Было бы хорошо, если бы такую роль врача брали на себя Институты социальной гигиены.
Я исследовал этого актера. Он оказался совершенно здоровым.
— Слава Богу! Слава Богу! — повторял он со вздохом облегчения.
Я же смотрел на него с некоторым сожалением, вспомнив мой разговор с москвичкой во время первой встречи Нового года.
Визит окончился, У выходной двери, провожая юношу, я крепко пожал ему руку, как бы желая внушить ему осмотрительность. Он был мне симпатичен. Его зеленоватые глаза, обрамленные длинными ресницами, радостно блестели.
Мне захотелось вдруг предупредить его, пока не поздно. Но как? Намекнуть? Но намек потребовал бы объяснения. Имел ли я право на это? В конце концов у меня были только предположения. И если бы даже моя догадка была непреложна, что я мог сделать? Нарушить врачебную тайну? Но ведь они, в сущности чужие ещё друг другу люди. И знаю ли я какое употребление сделает этот юноша из моих слов?
Я промолчал и скоро забыл о всей этой истории.
Когда я возвращаюсь из больницы, я люблю, усталый немного полежать на диване с книжкой в руке. Это мой отдых.
Не успел я раскрыть книгу, как затрезвонил телефон. Меня привезли к больной. И назвали имя пациентки: Нина Васильевна Кобецкая. Это было имя московской стенографистки.
Прошло всего десять дней после визита актера.
Я поехал. В передней меня уже поджидал студент. Он встретил меня приветливо, но лицо у него было хмурое.
Он выглядел сильно утомленным.
В комнате больной горел яркий свет. На широкой металлической кровати лежала моя новогодняя знакомая. Измученное лицо ее было покрыто густой тенью, пышные светло-рыжие волосы беспорядочно спутались на подушке.
Комната была обставлена скромно, но со вкусом. В углу стоял небольшой письменный стол, заваленный мелко исписанными листами бумаги. Пахло духами. На полу белела огромная шкура медведя, разинутая пасть которого былая обращена к камину.
Я не мог понять, что тут произошло.
Когда я подошел к кровати, юноша отошел к окну и принялся глядеть на улицу.
— Доктор, здравствуйте, — взволнованным голосом сказала молодая женщина. — Сядьте ближе. Простите, что я лежу. Но у меня отчаянная мигрень. Дима, — обратилась она к юноше, — выйди пожалуйста из комнаты, мне надо остаться с доктором наедине. Я позову тебя.
И когда мы остались одни, она рассказала мне…
Четыре дня тому назад она отдалась этому юноше, а сегодня он прибежал к ней домой испуганный и дрожащий. Первые симптомы болезни были уже налицо.
— Доктор, — воскликнула она, схватив мою руку, — умоляю вас, скажите ему, что это бывает и не от больных женщин. Если он узнает, все погибло. Он не должен догадаться. Я люблю его. Я не могу жить без него. Он будет у вас сегодня позже. Умоляю вас!
Она смотрела на меня глазами, полными слез.
Я сухо ответил:
— Вы просите невозможного. Я не имею права обманывать в таких случаях. Наоборот, долг врача подчеркнуть, что это серьезная и длительная болезнь, и что она заразительна. Кроме того, — сказал я мягче, глядя на ее низко склонившуюся голову, — я вас предупреждал. Отчего вы не послушались меня?
— Неправда, — закричала она, — неправда! Как только я вернулась в Москву, я сейчас же переговорила с мужем. Он сказал, что он был когда-то болен, но потом вылечился. Ведь вы все переболели в свое время, — зло сказала она. — Я настояла на том, чтобы мы отправились к врачу. Мы были оба у одного из лучших профессоров, делали анализы. И что-ж? Ничего не было найдено. Профессор признал нас обоих здоровыми. Вот ваша медицина, вот ваши профессора! Подумаешь, — с ядовитым сарказмом добавила она, — долг врача. Это ваша наука и виновата в случившемся!
Она откинулась на подушку и истерически зарыдала.
Мне до глубины души было жаль ее.
Я видел перед собой эту любовь, только-что расцветшую и уже омраченную страданиями, в которых потонуло все ее очарование. И разве эта молодая женщина виновата? Ведь если профессор мог допустить ошибку, то что же можно требовать от обывателя? Да и профессор, может быть, тут не при чем.
— Ну, хорошо, — сказал я. — Предположим, что я захочу вам помочь. Но как это сделать! Ведь не стану же я обманывать вашего друга. Да и поможет ли это? Первый же приятель, которого он посвятит в эту историю, откроет ему глаза на истину.
Она молчала, а я придумывал выход.
Потом я спросил:
— Окажите, в эту ночь вы были совсем здоровы?
Она посмотрела, на меня с недоумением.
— Я хочу сказать, не было ли у вас в эти дни менструаций?
Она покраснела.
— Да, были.
— И в ту ночь?
— Да.
Эта справка объяснила мне все. Я нашел разгадку.
Удивление молодой женщины возросло.
— Но я вас решительно не понимаю, доктор. Ведь и с мужем мне приходилось…
— Я обещаю, — сказал я, вставая, — открыть вашему другу только половину правды. И я думаю, что она его вполне удовлетворит, если, — добавил я не совсем уверенно, — если он не особенно любознателен.
К счастью, эта история не окончилась трагедией. Никто из них не проклял, не убил другого. Моя ссылка на менструацию была им принята без всякой критики и с полной верой. Он не задавал мне пытливых вопросов. В глубине души он, вероятно, считал себя справедливо наказанным за свою несдержанную пылкость. Кроме того, он был настолько удручен самым фактом болезни и необходимостью ежедневно подвергаться утомительной процедуре лечения, что это, видимо, не оставляло места бесцельному любопытству. Студиец аккуратно посещал амбулаторию. Приходил он всегда последним, стесняясь остальных пациентов, стараясь ни на кого не смотреть. Стенографистка тоже лечилась у меня на дому.
Что было дальше?
Представьте себе, они продолжали любить друг друга. Он ни о чем не догадывался. В тоскливый период воздержания студиец развлекался тем, что устраивал ей сцены ревности.
Иногда, во время какой-либо лечебной процедуры, она рассказывала мне о себе. Мы были уже приятелями.
Однажды она описала мне начало их любви.
— Вы очень любите его? — спросил я.
— О, доктор, я никогда так сильно не любила! — последовал ответь.
— А он вас?
— Тоже. Мы безгранично любим друг друга. Знаете, доктор, когда мы впервые познакомились, в первом же пожатии его руки я уже почувствовала что-то необычайное. И он сказал мне тогда: «Наша встреча не случайна. Мы не исчезнем бесследно друг для друга. Я никогда вас не забуду». Ах, доктор, в этот момент родилась наша любовь…
Я подумал, следя внимательно за струйкой лекарственной жидкости:
— «Никогда не забуду» — это, быть может, слишком-много. Но помнить вас он, пожалуй, будет еще долго.
Загадочное в простом
Итак, московская стенографистка была больна триппером и заразила своего друга.
То, что я не нарушил тайны, вполне отвечало моему врачебному долгу. Но, как видите, из-за исполнения врачебного долга пострадало здоровье молодого человека.
Начавшись с драматической сцены со слезами и мольбами, весь эпизод закончился почти идиллически. Ну, а если бы этот юноша повесился? Или в припадке гнева вздумал бы придушить свою героиню? Или, наконец, обратился бы в суд, как это предусмотрено нашим уголовным кодексом?
А между тем, одного моего намека было бы, казалось, достаточно для того, чтобы предотвратить всю эту грустную историю.
Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на одну существенную деталь.
Что наша москвичка была больна — факт несомненный. Но вот профессор нашел ее здоровой. Анализы подтвердили это. Она не солгала, так было на самом деле. И действительно, мужа она не заразила. А студиец пострадал. В чем же тут дело?
Ведь получается, что теперь, когда люди омолаживаются, когда радий, рентгеновские лучи и точнейшие медицинские приборы произвели полный переворот во всех методах распознавания в лечения болезней, когда с помощью внутренней секреции можно чуть ли не переделать человека физически и духовно, такое распространенное заболевание, как триппер, мы, оказывается, не можем распознать. Туберкулез в стадии, еще не чувствительной для самого больного, мы открываем задолго до его явного обнаружения, а триппер мы не в силах выявить даже тогда, когда он заразителен. Так ли это? Отчасти, так. Иногда мы, действительно, вынуждены сознаться в нашем бессилии, особенно в тех случаях, когда нам приходится наталкиваться на человеческие легкомыслие, беспечность или нетерпеливость. Но иногда и мы, врачи, бываем недостаточно осмотрительными, как, например, профессор, к которому обратилась наша москвичка. Впрочем, его тоже трудно упрекнуть. Он сделал все, как будто, что мог. Осмотр не вызвал в нем подозрений. Лабораторные исследования успокоили его. Если он ее расспрашивал, то ответы ее тоже вряд ли могли внушить ему опасения.
Неужели же я оказался проницательнее профессора? Нет, не в этом дело. Я тоже, может быть, признал бы ее после исследования и осмотра вполне здоровой. Ведь меня навела на след случайно брошенная ею фраза. Но след мог быть и ложным. И долгое время никто не знал бы истины, если бы не одна подробность.
Подробность эта: менструация.
Менструация открыла мне тайну гонококка. Я подчеркиваю это обстоятельство. Оно нам еще понадобиться. Потом.
Сейчас же я припоминаю эпизод, имеющий в некотором отношении сходство с только что рассказанной мною историей. Этот эпизод показывает, как иногда гибнет вера в человека, по крайней мере, вера в дружбу.
Это было еще до революции, приблизительно за год до империалистической войны. Студенты носили тогда тужурки, шинели, мундиры, усеянные блестящими металлическими пуговицами, голубые обшлага и высокие воротники, подпиравшие кадык.
Однажды к концу приема ко мне пришел студент. Он не был белоподкладочником, но все-таки его мундир был снабжен изрядным количеством пуговиц. Зубы у него были ровные, белые, а улыбка — широкая, почти безбрежная.
Впрочем, улыбался он в этот вечер очень мало. Вид у него был довольно унылый.
Он расстегнулся. Увы, не могло быть никаких сомнений. Злополучный спутник неплатонических увлечений явственно доказывал свое присутствие обильным гноеистечением и резкой воспалительной краснотой. Это был триппер.
Мое резюме как будто не особенно огорошило студента. Наставления о дальнейшем образе жизни, о «монашеском» поведении он выслушал как-то рассеянно и небрежно. Вообще, он говорил мало: «да», «нет», «хорошо».
Это состояние было не совсем обычной реакцией.
Большей частью впервые заболевшие, услышав диагноз, сильно нервничают и засыпают врача жалобами и вопросами.
Уходя и пряча рецепт, студент вдруг сказал:
— Эх, доктор, бывают же свиньи на свете!
— А в чем дело? — поинтересовался я.
Он только махнул рукой и направился к двери, не проронив больше ни одного слова.
В передней было пусто. Прием окончился. Я быстро снял халат и переоделся, так как спешил на визиты к больным.
В трамвайном вагоне я столкнулся с только что вышедшим студентом. Мы стояли на задней площадке. Он хмурил брови, и светлые глаза сверкали злым огоньком.
Кроме нас на площадке никого не было. Вдруг он поднял на меня глаза и покачал головой. Он сразу узнал меня.
Мне захотелось выяснить причины его странного поведения.
— Ну, это пустяки, — сказал я успокоительным тоном, точно продолжал разговор. — Все пройдет, если тщательно лечиться.
— Нет, что вы, доктор! Этого я никак не ожидал. Какой подлец! — и с оттенком ненависти добавил: — такого мерзавца мало убить.
Лампочка тускло мигала. Вагон несся в темноте, слегка подпрыгивая на стыках.
По лицу моего спутника перебегали тени.
Я старался понять смысл его угрозы… Вероятно, его обманул кто-то близкий, и вот теперь он познал низость дружбы и горький плод измены.
Я продолжал:
— Это у вас от неожиданности. Потом вы привыкнете и успокоитесь, только лечитесь аккуратно. Во второй раз вы уже не будете так волноваться. Но надо, чтобы второго) раза не было.
Студент рассеянно, точно одержимый назойливой идеей, слушал меня.
— Нет, доктор, скажите, где предел подлости человеческой? Послушайте только, разве это не гнусно? У меня есть приятель, друг, почти брать родной. Мы вместе выросли. И теперь мы тоже были неразлучны: я, он и его жена. Шура уже четыре года женат на Ниночке. Мы все очень любили друг друга. Ниночку я тоже знал еще маленькой-маленькой. Неделю тому назад Шура уехал к родным погостить. Накануне его отъезда Ниночке нездоровилось, а я и Шура пошли в кино. Затем мы зашли в кафэ выпить кофе. Почему-то мы заговорили о венерических болезнях, кажется, в связи с какой-то газетной заметкой. Мы оба были довольны, что не знаем этих болезней. Впрочем, Шура когда-то, еще задолго до женитьбы, болел триппером. Его вылечил тогда доктор Кудиш. «Миша», — сказал он мне, — «я завтра уезжаю, и Ниночка останется одна. Ты знаешь, я с ней еще не разу не расставался. Смотри-же, будь другом! Не давай ей скучать!» Ну, я ведь Ниночку люблю. Да и Шуру тоже. Раз Шура просил, чтобы она не скучала… Пошел я с ней однажды в кино на «Сказку любви дорогой» с Верой Холодной. Оттуда мы вернулись поздновато. Зашел я к ней попить чаю. А ей скучно было одной. Я и остался у нее. Это было три дня тому назад. А вот вчера показалась у меня эта штука.
Ну, не подлец ли Шурка? До какой низости надо дойти, чтобы лучшему другу смолчать о болезни. Какой обман! Душить надо таких!
Вот что ужасно, доктор!.. Ведь друзья детства!
Я не ушел объяснить моему спутнику, разочаровавшемуся в «дружбе с детства», что нельзя, быть может, упрекать Шурку в злом умысле. Но если бы трамвайная остановка нас не разъединила, мне пришлось бы в дальнейшей беседе взять этого самого «подлеца» Шурку под свою защиту.
Ко мне часто обращались и обращаются молодые люди, безусые герои адюльтера. До революции особенно распространен был этот тип начинающих мужчин, мечта которых — связь с дамой общества. Теперь таких нет. Но ситуация из трех — явление, и у нас встречающееся на каждом шагу.
И вот стоит он предо мной с деланной улыбкой не то извинения, не то пренебрежения на губах.
— Доктор, вот здесь у меня маленький непорядок, пустячок какой-то, — говорит он. — Нельзя ли какого-нибудь лекарства. Я бы хотел через два дня уехать здоровым. Это меня не очень беспокоит, но все-таки как-то неприятно, доктор.
— Да, — отвечаю я. — Через два дня уехать здоровым вам нельзя. У вас триппер, настоящий.
Лицо его явно Выражает удивление.
— Простите, доктор, вы ошибаетесь. Триппер? Помилуйте, откуда же? Это совершенно невозможно. У меня связь с порядочной женщиной. У нее муж, ребенок. Вы ошибаетесь, доктор.
Но я, конечно, не ошибаюсь. И если у меня есть несколько свободных минут, я объясняю этому потрясателю семейных устоев, как и почему его не спасает чужая тихая пристань.
Сейчас я вам открою эту тайну гонококка.
Обратите внимание на одно обстоятельство, общее во всех рассказанных случаях: действующих лиц всегда трое. Разгадка в муже, если он есть или был.
Знаете ли вы, сколько мужчин болеют или болело триппером? Я не преувеличу, если остановлюсь на 80 процентах.
Эта цифра не измышление, эта статистика не мной найдена. Риккорд еще в середине XIX в. уверял, что «в Европе 80 проц. всех мужчин страдали или страдают гонореей». Жанэ писал в 1923 г., что «редко молодой человек, вступающий в брак, не болел в прошлом один или несколько раз».
Блашко, имеющий многолетний опыт в изучении этого вопроса, нашел, что, напр., в Берлине холостые мужчины в возрасте до 30 лет заболевают гонореей в среднем два раза.
На основании данных копенгагенской статистики мы получаем 160 инфекций на 100 мужчин в течение их жизни — приходит к такому выводу Блашко. А Фингер добавляет, что «эти копенгагенские цифры нужно считать с незначительными уклонениями прототипом взаимоотношений для каждого современного большого европейского города». Кстати заметим, что, по Пеллеру, 30–40 проц. всех мужчин, некогда имевших гонорею, заражают своих жен.
Проф. Хольцов в своем руководстве «Гонорея и ее осложнения», вышедшем в 1924 г., пишет так: «Гонорея принадлежит к чрезвычайно распространенным заболеваниям; по мнению многих авторов, только немногие из мужчин достигают зрелого возраста, не проболев один или несколько раз гонореей. В виду трудности получения точных статистических данных распространения гонореи, цифры различных авторов разнятся между собой. Относительно мужчин эти цифры колеблются между 50 проц. и 80 проц.»
Такова статистика.
Ужасна ли распространенность гонореи? Конечно, это вещь страшная. Нужно ли еще об этом спрашивать? Почему же, однако, никто не кричит, не вопит? Почему спокойно прочитывают все написанные на эти темы книги, ужасаются на минуту и затем, захлопнув последнюю страницу, кладут спокойно книжку на полку? Ведь прочитать про эти 80 проц. — это значить узнать, что вы, я, он, мы все обречены! Рано или поздно каждый из нас там будет. Почему же никто не кричит, что эти книги — жуткие книги!
Кажется, у Чехова есть герой — учитель географии. Он хорошо знал географические карты, и Волга представлялась ему всегда тоненькой ниточкой, такой, какой она бежит, среди точечек и линий, на раскрашенной бумаге, висящей на стене. Вряд ли она казалась ему широким, могучим, как-бы беспредельным течением.
Мы все, знающие пределы гонореи по статистике, видим ее как бы такой же ниточкой на карте. Вот почему мы спокойно читаем эти цифры. На самом же деле надо понять, наконец, почувствовать, ощутить, почти осязать, что это не только линии и черточки. Это — я, вы, брат, сын, сестра, друг, любовница, жена, возлюбленные, живые люди, наши близкие, наши товарищи. Это мы, мы все населяем эту область статистики. Вот тогда, когда сухие выкладки почувствуются именно так, тогда эти 80 проц. встанут перед нами жутким и волнующим знаком.
Однако, вернемся к гонококку и к судьбе его в человеческом организме. Здесь прежде всего мы наталкиваемся на вопрос о том, как лечатся мужчины.
В первые дни пациент необычайно аккуратен. Окажите ему, что для пользы лечения необходимо повторить в день тысячу раз «Птичка Божия не знает ни заботы ни труда» и еще тысячу других нелепостей, — он все выполнит. Особенно, если заболевание произошло впервые.
Все болезненные явления резко влияют на пациента. Боли, резь, гной производят на больного такое впечатление, что ему не трудно внушить воздержанность, осторожность и внимательность. Психика его угнетена. Ему все противно, неприятно; он вдруг становится пессимистом и преисполняется в высшей степени того, что называется taedium vitae. Это помогает его мысли фиксироваться на болезни и предписаниях врача.
Но вот проходить 3–4 недели. Вообще говоря, неосложненная гонорея не мешает человеку работать, вести обычный образ жизни, всюду бывать, со всеми встречаться. Ко всему привыкают. Привыкает человек и к мысли, что с ним произошел «венерический» казус. А тут симптомы болезни как будто исчезли или почти исчезли.
Уже нет ни выделений, ни жжения, ни болей. Подавленность первых дней сглаживается. Тяготение к жизни возвращается. Нормальный во всех остальных смыслах организм предъявляет требование на использование всех своих жизненных функций. Только взгляд врача улавливает наличие исчезающей, но еще не исчезнувшей болезни.
Пациент чувствует себя совсем здоровым. И как у всякого здорового, особенно после воздержания и поста, у него разыгрывается аппетит. Примеры окружающих приобретают для него свойство неотразимости.
А врач долбит свое. Не ешьте, не пейте, вам вредно острое, кислое, пряное, соленое, горькое, все, что раздражает мочевые пути. Не вздумайте глотнуть хоть каплю вина, пива. Избегайте общества женщин, чтобы оно вас не возбуждало. Не ездите в авто. Экипаж вас растрясет. Поэтому не садитесь на извозчика. Не взбегайте по лестнице. Деликатесы для вас — яд!
Кому проповедываются эти правила? Тому, кто бывает в ресторанах, на товарищеских ужинах, в театрах, на именинах, званых обедах, наконец, просто среди знакомых, друзей, женщин и мужчин — словом, тому, кто, в сущности, здоров.
Если больной обладает стойкой волей, и слова врача он воспринимает, как закон, выздоровление доводится до конца. В достижении желаемого финала роль врача, конечно, решающая: врач должен суметь вызвать у пациента «волю к победе». И тогда, совместными усилиями того и другого, успех полного излечения обеспечен в срок от одного до трех месяцев.
Но бывает иногда и иначе.
Не забудьте, что систематическая воздержанность может показаться подозрительной окружающим. А тайну надо беречь. И вот начинается нарушение заповедей. Сегодня — рюмочка вина. Никак нельзя было отказаться. Обстоятельства сложились коварно. Не убегать же от компании, — да и что одна рюмочка может наделать непоправимого?
И в самом деле, смотришь, ничего страшного не получилось. Не заметно будто никакого ухудшения.
Трудно лишь начало. Если видимых неприятностей эти погрешности не вызвали, души легко открывается для всех прочих искушений. Врач, твердящий о вреде решительно всего, уже начинает казаться рутинером, ворчливым книжником, чудаком. И на исходе полутора-двух месяцев пациент забывает дорогу к надоевшему ему кабинету.
Отсюда получается, что известное количество мужчин не излечивается, а только залечивается.
Но что значить «залеченные»? Это все те случаи, когда при полном исчезновении каких-либо тревожных поверхностных данных более глубокое и основательное исследование открывает следы прошлого.
Больной давным давно забыл о своей болезни. Он как будто здоров и ведет себя соответственно своему самочувствию, то-есть, как и все другие. Но иногда вдруг появится какое-то неприятное ощущение в мочеполовом тракте: то кольнет, то поноет, и исчезнет. Или покажется внезапно утром слизистая капля, а потом и ее нет.
Бывшего больного это совершенно не беспокоит. А между тем, это и есть показатели не ликвидированного заболевания.
Скажите такому человеку, что он болен и опасен. Он рассмеется. В лучшем случае, удивится и завтра же забудет об этом. Скажите ему, что у него где-то в глубине тканей гнездится гонококк. Он вас примет за фантазера, за чудака.
А между тем, это так. Где-то, в какой-нибудь железке мочеполового канала, микроскопической, ничтожной, или В каком-нибудь рубчике, прячущемся среди складок слизистой оболочки, лежит и дремлет бактерия. Она ослаблена, малодеятельна, жизнеспособность ее ничтожна. Поэтому она так слабо дает о себе знать.
Но она существует.
Если 80 проц. мужчин болеют гонореей, то залечиваются в них приблизительно 50 проц. «Залеченные» холостяки впоследствии женятся. «Залеченные» мужья возвращаются к исполнению своих обязанностей. А ни в чем неповинные женщины получают порцию этих ослабленных бактерий. И заболевают. Но так как гонококк ослаблен, и так как у женщин течение и характер этой болезни своеобразны, то момент заражения обычно ускользает от сознания пострадавшей.
У женщин, живущих половой жизнью, почти всегда имеются выделения из влагалища, так наз. бели, в большей или меньшей степени, в зависимости от опрятности и других причин. Это — явление сравнительно невинного свойства. Но при заражении бели усиливаются. Это уже не только обычные истечения. К ним примешивается гнойное отделяемое слизистой влагалища и шейки матки, пораженных гонококком.
Может ли это взволновать женщину? Будет ли она бить тревогу?
У мужчины мочеполовой канал узок. При гонорее воспаленный эпителий разбухает и еще больше уменьшает просвет, поэтому даже прохождение струи мочи для него болезненно. Наконец, он видит явственно гной.
У женщин дело обстоит иначе. Выделения из влагалища, где гонококк большей частью и гнездится, имеют широкий и свободный отток, ничем не затрудняемый. Отсюда — отсутствие боли. Поэтому женщина думает лишь о чистоте. И начинает несколько чаще спринцеваться, после чего в течение нескольких дней эта неприятность устраняется.
Иногда при мочеиспускании ощущается незначительное жжение в канале. Это уже немного больше беспокоит женщину. Но, пока ей в голову придет мысль о враче, боль стихает.
Малодеятельный гонококк в условиях женских мочеполовых путей не дает бурной вспышки. Так бывает в огромном большинстве случаев. Женщина больна, но она этого не знает. Мужа, конечно, она не заражает. Он получает от нее некоторую долю своих собственных микробов, теперь для него уже безвредных.
Так протекает взаимное обсеменение гонококками, не нарушающее тишины и мира в семье.
Но вот в дело вмешивается свежая, девственная, так сказать, слизистая оболочка. Появляется герой-любовник, как говорили раньше. Если он молод, особенно если он еще не болел, то горе его мочеполовым путям. Гонококк попадает на нетронутую или новую для него почву. И на этой свежей питательной среде мало до сих пор вирулентный, еле деятельный микроб дает пышный рост.
И защитное соображение, что у героини романа есть муж, который не болеет, оказывается призрачным, провокацией, подвохом.
Теперь, выслушав всю эту длинную вставку специального характера, вы, вероятно, без труда поймете следующее.
Я назвал бы это «авиационной историей».
Героем ее был журналист, который обладал бойким пером и интересной, с оттенком женственности, внешностью. За внешность его ценили женщины несколько мужского склада, за перо — редакция.
Когда в 1923 г. над Всероссийской выставкой в Москве взвился флаг, журналист получил срочную командировку на открытие этого промышленного торжища. Утром он сел в кабинку Юнкерса на аэродроме города Краснодара. Аэроплан отмахал тысячу с лишним верст, и к пяти часам того же дня журналист уже входил под арку выставочных ворот.
Вечером, отослав депешу с впечатлениями о торжестве открытия выставки, журналист отправился с визитом на Мясницкую к Чекуновым. С женой своего приятеля Чекунова он некогда был связан интимной тайной. И ему захотелось освежить прошлое.
На следующий день, в послеобеденный час женская фигура под вуалью, как тень, проскользнула в №59 гостиницы «Эрмитаж».
Свидания происходили в один и тот же час три дня подряд.
А на четвертый день Юнкерс увозил журналиста обратно в Краснодар.
Ветер свистел в лицо, и было радостно жить.
На аэродроме Харькова была сделана обычная двадцатиминутная остановка для пополнения бензина. Воспользовавшись этим перерывом для отправления маленькой естественной надобности, журналист вдруг ощутил в процессе выполнения своего долга перед природой какую-то неловкость.
Вечером, уже будучи в родном городе, при аналогичных условиях он почувствовал резь.
Журналист был молод, но, конечно, догадался, что тут дело неладно.
На следующий день утром он позвонил к врачу-специалисту.
Диагноз ясен. Врач открывает новую страницу своей приемной книги, и начитается ежедневная запись процедур и назначений.
Проходит что-то около трех месяцев. Неприятный эпизод забыт. Журналист здоров.
В Москве происходит Всероссийский съезд советов. Журналист снова получает от редакции поручение срочного характера и вылетает в тот же день в Москву.
На Тверской журналисту кто-то машет рукой. Журналист близорук. Прищурив глаз, он подходит ближе к смуглой женщине и узнает в ней жену своего приятеля. Она радостно протягивает ему руку.
— Володя… Владимир Николаевич, вы здесь давно?
Но ее радость остается без ответа. Журналист жует губами. Интересное лицо его искажается недружелюбной гримасой.
— Здравствуйте. Три дня.
— И вы не зашли к нам? Как вам не стыдно?
— Простите, Наталья Андреевна, это даже странно, — цедит он почти бесстрастно, ванте удивление мне непонятно. Скажу прямо: вы наградили меня триппером.
Наталья Андреевна вздрагивает и бледнеет. А затем на ее щеках появляется румянец обиды и негодования.
— Что такое? Да как вы смеете? Это неправда, ложь, гнусность, — кричит она, почти рыдая.
Привлеченные выкриками обиженной женщины прохожие начинают останавливаться. Журналист берет ее под руку и уводит. Она, кипя возмущением, настаивает на немедленном визите к врачу.
Врач ищет, смотрит, делает мазок, глядит в микроскоп и находит ее совершенно здоровой.
— Доктор, — говорить Наталья Андреевна, — здесь в приемной муж. Пожалуйста, поговорите с ним. Он думает, что я больна.
И журналист, вызванный в кабинет, выслушивает точное и категорическое утверждение, что от Наталии Андреевны заразиться немыслимо, так как она вполне здорова. Журналист поражен.
— Но ведь я же в своем уме, слава Богу, — горячится он, ударяя себя по лбу. — Я полтора месяца возился с этим проклятым триппером и ниоткуда больше я не мог его заполучить.
Доктор думает с минуту.
— А скажите, — говорит он затем, — анализ гноя вы делали?
— Анализ? Анализа не делал. Доктор не нашел этого нужным. Помилуйте, все признаки были налицо. Гной прямо хлестал, мочиться было больно.
Лицо доктора становится торжествующим.
— Вот видите, молодой человек, — говорит он снисходительно, — у нас скорее всего было воспаление канала негонококкового происхождения. Бывает иногда, что вследствие различных случайностей — от резких белей, от загрязнения канала и т. д., происходит размножение различных диплококков и стафилококков, которое вызывает обильное истечение слизисто-гнойной жидкости. Однако, произведя анализ, мы, врачи, не открываем специфического возбудителя гонореи. Нужно твердо помнить…
Обескураженный журналист выслушал до конца ученую речь доктора. Он чувствовал себя очень нехорошо. Он понял незаслуженность обид и оскорблений, нанесенных им Наталье Андреевне.
К счастью, Наталья Андреевна не была злопамятна. Слезы быстро изгладились из ее памяти. И она охотно приняла доказательства глубины его раскаяния.
Опят три дня подряд тень женщины под вуалью появлялась в определенные часы у двери одного из номеров «Эрмитажа».
В день своего отъезда, рано утром журналист в кэпи и с чемоданам в руке снова занял место в Юнкерсе. Во время получасовой остановки в Харькове он вдруг сделал у себя неприятное открытие. И когда к вечеру пилот снизился на Краснодарской площадке, журналист одновременно с радостью ощущения родной земли под ногами познал горечь потрясающей истины, приведшей его в отчаяние.
На следующее утро он стучится в знакомую дверь.
Доктор осмотрел его, поставил диагноз и открыл новую страницу в приемной книге.
— Нет, позвольте доктор, — говорит журналист. — Это, по моему, не триппер, а воспалительный негонококк какой-то. Я бы хотел сделать анализ.
— Но зачем же, голубчик? — Флегматично отвечает врач. — Ведь и так картина ясна.
— Но я вас прошу, доктор. Ведь бывает же нетрипперный триппер. Мне это важно знать.
Доктор пожимает плечами. Что за чудаки эти больные! И пишет записку в лабораторию.
На другой день получился ответь:
«Гонококк Нейссера найден — внутриклеточно и внеклеточно».
Нейссер — это тот, кто открыл возбудителя триппера.
Пришлось ли Наталье Андреевне снова истерически рыдать при случайной встрече с журналистом в Москве, — не знаю. Думаю, что на этот раз ей не помог бы даже обморок.
Я предвижу одно ваше возражение. Возвращаясь к героине новогодних встреч, вы скажете: «Ведь у нее, несомненно, были любовники и до студийца. Отчего же тем благополучно сошли часы свидания? Что муж не заболевал, это понятно. Но почему не заболевали остальные акционеры любви?»
В самом деле, здесь как будто налицо противоречие. Но только как будто.
Они не заболевали, потому что им везло. Счастье такое у них было.
Не улыбайтесь. Это вполне научно. Вспомните, анализ гонококка не открыл. Значит ли это, что его не было. Ничего подобного! Ибо заразила же москвичка гонококком студийца. При анализе не могла произойти ошибка. Просто-напросто, гонококков бывает ничтожное количество, вероятно, единичные экземпляры, и прячутся они где-нибудь в глубине ткани, в каких-либо микроскопических железках или щелях эпителия, не размножаясь вследствие своей малой жизнеспособности.
Уловить их микроскопом чрезвычайно трудно, почти невозможно. При таких условиях — половое сношение может пройти иногда, вследствие малочисленности микроба, совершенно безнаказанным. Нужна особая обстановка, чтобы вызвать гонококки на сцену и заставить их действовать. Такая обстановка повторяется периодически. Недаром я спросил у московской гостьи о менструациях. Это именно и есть тот опасный момент, который заставляет действовать гонококк.
Что происходит во время месячных? Слизистая оболочка стенок влагалища и матки набухает. Кровь обильно наполняет все пути своего движения. Секреция всех железок усиливается. Током тканевой жидкости и менструирующей крови гонококк изгоняется из своего убежища. Теперь с ним уже легко встретиться. И такая встреча чревата последствиями.
Бедный студиец! Любовь вспыхнула в его сердце в неподходящую минуту. Журналист тоже многого не знал.
Иногда прозаическое слово может спасти положение. Любовнику, охваченному пламенем страсти, не мешает в перерыве между двумя поцелуями навести трезвую справку. Может быть, грубо примешивать к поэзии любви прозу будней, но зато это очень полезно. Вопрос должен быть, конечно, задан вовремя, до того момента, о котором можно сказать строфой из Шершеневича:
«Есть страшный миг, когда, окончив резко ласку, Любовник вдруг измяк и валится ничком. И только сердце бьется — колокол на Пасху — И усталь ниже глаз синит карандашом».Сегодня ко мне снова после долгого промежутка явился журналист с новой гонореей. Эта третья гонорея у него была уже честная, прямая, открытая. Заполучил он ее где-то в гостинице. И лечил в амбулатории, предъявив страхкарточку.
Рассказывая мне всю эту историю с полетами, он смеялся. Он был молод и самонадеян и верил, что в жизни дурное и хорошее одинаково идут на пользу человеку, и что из всего можно извлечь зерно блага, пригодное, если не для настоящего, то для будущего.
Я тоже, каюсь, смеялся, слушая его.
Смешное, однако, у нас редкость. Чаще бывает наоборот.
Вот что мне вспомнилось.
В тот невеселый вечер за окном шумело дерево, и ветер бился в ставень. Стекло дребезжало и мешало работать. Я опустил штору. На дворе шел нудный, и бесконечный дождь.
Амбулатория к восьми часам опустела. Я собирался снять халат.
Вдруг за дверью послышались голоса и шаги. Сиделка принесла мне две регистрационные карточки.
Больной вошел как-то боком, но плотно, кряжисто шагая ногами в сапогах. Лицо у него было хмурое, сжатое. Черные глаза блестели агатово. Он оказался литейщиком.
Я привык угадывать по беглому впечатлению состояние людей, приходящих ко мне. Это не требует особой наблюдательности, так как категория обращающихся за помощью довольно однообразна и позволяет находить безошибочный тон с самого начала.
Мне сразу стало ясно, что этот человек принес с собой не только жалобы на недомогание. В его насупившейся физиономии отражалось нечто большее, чем физическое страдание и обычная моральная подавленность.
Я определил гонорею.
У него быль хриплый голос, и он говорил короткими фразами.
— Я пришел с женой. Осмотрите ее.
— Хорошо. Выйдите, — сказал я, — и пригласите вашу жену.
Он медленно покачал головой и затем сказал, словно выдавливая из себя слова:
— Я хочу, чтобы вы осмотрели ее при мне. Нам с ней нечего таиться, какие тут могут быть секреты!
Тон у него был решительный, неприятный.
— Нет, это совершенно невозможно, — возразил я довольно категорически, — я не могу при свидетелях заниматься осматриванием больных. Да и для вас будет лучше. То, что она скажет мне с глазу на глаз, она не скажет при вас.
Он смотрел на меня испытующе. Я продолжал:
— И, наконец, вы можете быть совершенно спокойны. Я не войду ни в какое соглашение с вашей женой. Обязанность врача — не скрывать правды. Я только исследую ее без вас. А потом у нас будет общий разговор. Если только, — добавил я осторожно, — ваша жена не воспротивится этому.
Литейщик сделал губами так, точно хотел сказать: «Ну еще бы, пусть только попробует!»
Он стоял, не двигаясь, что-то обдумывая, со стянутыми к переносью бровями. Я спокойно ждал.
— Вот что я хочу сказать, — заявил от твердо и резко. — Эта женщина и я были в разводе больше двух лет. Она мне четыре года отравляла жизнь. У нее иродов характер, ну, и другое там разное. Она умоляла меня вернуться. Я сперва ни за что не соглашался. Но у нас есть девочка пяти лет. И ради дочери я пошел на это. Вот уже год, как мы живем вместе. Кое-как ладим. Я знаю, что болезнь эта открывается через три дня. В среду на прошлой неделе у меня было с женой дело и во вторник на этой. А сегодня, в субботу, пошла течь. Ни с кем больше никаких делов по женской части я не имел. Значит что-же? От среды ничего, а от вторника в аккурат на третий день пошло. В среду здоровая, а во вторник больная. Значит, в промежуток она заполучила от кого-то эту проклятую болесть. За старое, значить, взялась. А ведь клятву давала, своей девочкой клялась, матерью!
Он схватился за голову. Черная прядь упала на лоб. Из-под нее сверкал озлобленный взгляд.
— А она призналась вам? — спросил я.
Он вскинул головой.
— Еще бы, дура она, что ли?! Ей живется при мне не плохо. Даже попрекает меня, будто я у другой бабы это охватил. Разве я могу с такой жить? Эх, пропала наша девочка!
Вы понимаете ответственность мою, как врача? Я держал весы трех жизней в своих руках и как бы ощущал биение этого живого страдания.
Он вышел. Она вошла.
Эта женщина плакала, разговаривая со мной. Она не чувствовала оскорбления. Она рыдала от страха, от забитости, которая смотрела из ее немолодых, выцветших глаз, из многочисленных морщин ее уже несвежего лица.
Я долго возился с ней. Из каждой складки слизистой оболочки я брал выделения, окрашивал их и затем подносил их к микроскопу.
Она была совершенно здорова. Так казалось с первого взгляда. Такой она себя чувствовала.
Тогда я принялся ее расспрашивать с настойчивостью прокурора.
Оказалось, что шесть лет назад, вскоре после замужества, у нее показались «густые», по ее выражению, бели. А потом ничего больше не было.
За эту ниточку я ухватился. Я решил навести справку у мужа.
Он вошел, а она вышла за дверь.
Услыхав мой вопрос о там, не было ли у него в прошлом триппера, он махнул недовольно рукой.
— Ну, когда же это было? Семь лет назад, не меньше! Я давно вылечился.
Произнес он это таким тоном, точно хотел сказать: «Какими пустяками вы занимаетесь, доктор!»
Не трудно понять, что мой вопрос был вполне уместен. В продолжении пятнадцати минуть я старался объяснить литейщику, что сначала он болел, затем кое-как залечился, потом заразил жену, а что теперь она вернула ему то, что когда-то приобрела от него же. Конечно, тут не обошлось дело и без менструаций.
Понял ли он меня, не знаю. В его голосе я не уловил ни удовлетворения, ни примирения.
Он оказал очень сухо;
— Ну, что же! До свиданья!
Что было дальние, не могу сказать. Больше я их не видел.
Но мне было очень жаль и выцветших, застывших в немом испуге глаз женщины, и этой неведомой мне девочки.
Я предугадываю ваше возражение. «Позвольте, — скажете вы, — ведь тут муж пострадал от своих собственных гонококков. По вашим же словам, этого не должно быть. Ведь жертвой падает третий, а муж неуязвим?»
Совершенно верно! Это — правило, но бывают и исключения. Чем они вызываются, неизвестно. Причина кроется, вероятно, в особенностях организма.
Но, повторяю, это явление единичное. Обычно же мужья-гонококконосители неуязвимы. Опасность подстерегает лишь третьего.
Остановимся немного на статистике, обрисовывающей женскую долю.
Что такое женские болезни?
Ответ прост. Это — мужские болезни. Или точнее: болезни женщин, происходящие от мужских болезней.
Пусть это не совсем так, но это почти так. Для 70 проц, случаев это — аксиома.
С этой точки зрения огромное большинство половых сношений можно определить, как акт, посредством которого во внутренние мочеполовые пути женщин вводится инфекция мужского канала. Что это за собой влечет, ни для кого не секрет; надломленное здоровье, подточенные силы, истерию, усталый блеск глаз, бледный цвет лица и увядание раньше (времени.
А сколько женщин страдает женскими болезнями? 90 процентов. Теперь высчитайте; 70 проц, из 90 проц, — что это составит? Три четверти почти всех женщин, — городских, по крайней мере.
Это не фантазия, не вымысел. Раскройте любое руководство по гинекологии, и вы найдете там эти данные. Спросите любого врача по женским болезням, и вы услышите те же цифры.
Но самое ужасное во всем этом — это то, что женщины не чувствуют и не знают, чем они больны и когда они больны. Женская болезнь считается чем-то неизбежным и совсем не страшным. И почти никто не знает, что таится за этим, якобы безобидным, явлением.
Это объясняется тем, что болезнь берет женский организм тихой сапой. Все происходит незаметно, без шума, без криков и болей. Об этом я уже говорил. Конечно, бывают и исключения в смысле силы и резкости болезненных явлений. Но на них не стоит останавливаться. Они немногочисленны.
И это незаметное разрушение здоровья женщины — не наказание за грехи. Скорее это наказание за анатомию.
Суть заключается в строении путей, по которым идет заражение.
Анатомическое строение у мужчины иное, чем у женщины.
Оттого у них все протекает громогласно. Им болезнь объявляет: иду на вы! Боли, резь, течь, воспаление — всего этого не скрыть. Простое прикосновение платья очень чувствительно. Даже сон не приносит успокоения. И внимание больного прочно приковывается к месту катастрофы. Пусть это будет даже безусый юноша, не имеющий так называемого опыта, при первом же столкновении с этим злополучным даром любви. Он уже сам ставит диагноз. Раскусив орешек зла, он тотчас же бежит отыскивать амбулаторию и врача-специалиста.
Процедура лечения тоже портить не мало крови пострадавшему. Действительно, манипуляции над больным местом зачастую представляют собой довольно мучительное переживание. Отсюда широко распространенное мнение о том, что триппер — вещь жестокая, свирепая, но мало кто знает о том, что это наблюдается только у мужчин.
В этом одна из причин беспечного отношения женщин к своим ощущениям. Ведь последние по своей интенсивности и характеру так далеки от гонореи, которая, по слухам, должна жечь рвать и терзать, что мысль о какой-либо аналогии редкой из женщин приходит в голову. Остальные чувствуют себя совершенно здоровыми, не знают никаких опасений, смеются как ни в чем не бывало и целуют мужчин с увлечением и смелостью.
А несколько дней спустя происходит, примерно, такой диалог:
— Вы — бесчестная женщина, вы заразили меня!
— Что такое? Да как вы смеете оскорблять меня, вы грязный человек? Это вы сами заразились от панельной женщины. Не смейте ко мне приближаться. У меня муж, ребенок, и все мы здоровы. О, Господи, как могла я позволить себе это с вами!..
Или:
— Неправда, я никогда не болела. Я жила с моим прежним другом шесть лет, и все было хорошо. Была здорова. Никаких таких гадостей не знала. Уходите! Видеть вас не хочу. Обманщик! Обидчик!
Она рыдает. Слезы так искренни, что им нельзя не верит.
Итак, у одной такие доводы: здоровый муж, ребенок; у другой — многолетнее благополучие. И непосвященному, — а таких, конечно, не перечесть, — кажется, что тут какое-то колдовство, какая-то загадка. Получается, в самом деле, впечатление, будто от воздуха заразиться можно.
Сколько горечи, оскорблений, столкновений Вырастает на почве такой загадочности!
Как выбраться из этого заколдованного круга?
Простое в загадочном
И вот врачи нередко являются судьями. В тяжком споре двух человеческих существ к ним приходят, как к арбитру, который все может понять и разобрать. Издавна ведь утверждают, что доктор умудрен опытом, и что ему ведомы все тайны тела и здоровья.
Вот например, как это было с мрачным литейщиком. Кстати, помните, как я разрешил его опор с женой?
Убедил ли я его?
Конечно, нет. Вероятно, мое объяснение показалось ему болтовней. Он не поверил мине, потому что я говорил предположительно, а ему нужно было, чтобы было ясно, как дважды два — четыре.
Жена его ушла от меня, считая себя жертвой загадочного рока, который продолжает тяготеть, непознанный, над ее головой.
Вот как я рассудил их. Но разве я мог сделать больше этого?
Не думайте, однако, что мы всегда пребываем в позе бессилия. Мы знаем и торжество знания. И тогда, действительно, яркий свет озаряет судьбу людей, подпавших под удар слепого, жестокого случая. Правда, эта ясность не приносит людям радостей. Но зато, по крайней мере, никто не терзается загадкой.
В амбулаторию пришел как-то совсем молоденький инженер. Он только что окончил высшее техническое училище и начал работать на огромном машиностроительном заводе.
Он прибежал ко мне прямо со службы. На нем был рабочий костюм; вокруг шеи был наспех обмотан шарф. От него еще несло запахом мастерских, мартеновских печей и стотонных молотов.
Я впустил его. Он беспомощно опустился на стул, уронив голову на руки.
Так прошло несколько минут.
Я решил вывести его из состояния безнадежности.
— Что с вами стряслось, молодой человек? — опросил я осторожно.
Он поднял на меня взгляд мутный и тоскливый. Меня это выражение скорби не особенно тронуло и испугало. Я знал, что через несколько дней острота его ощущений значительно смягчится, а еще через несколько дней его настроение, если не совсем, то в степени совсем достаточной войдет в норму.
Я продолжал:
— Что бы ни случилось, все поправимо. Не падайте духом! От наших болезней не умирают. К чему такое отчаяние?
Он молча покачал головой.
Тогда я спросил просто и деловито:
— На что вы жалуетесь? Где у вас неприятности? Подойдите ко мне и покажите.
Он громко вздохнул, поднялся и, приблизившись к рефлектору, расстегнулся.
— Вот тут, — почти простонал он. — Я, кажется, болен.
Я ощупал пострадавшее место. Гной обильно вытекал, пачкая белье.
После внимательного осмотра я сказал с оттенком разочарования, чтобы рассеять его отчаяние:
— Только и всего? Да это обыкновенный триппер. Что же вы нос повесили?
Я словно ударил его. Брюки упали, и он стоял передо мной жалкий, убитый и смешной.
— Триппер! — как бы задыхаясь, крикнул он. — Триппер. Я так и думал. Боже мой, можно ли было этого ждать.
Если бы не неудобство позы, он, наверно, опять повалился бы на стул.
— Что же тут ужасного? — простодушно спросил я. — Конечно, это неприятно. Это даже плохо. Но если вы основательно полечитесь, все пройдет. Почему вы так убиваетесь? Вот лучше приведите себя в порядок и запомните правила, которые вам теперь необходимо знать и аккуратно выполнять.
Пока я мыл руки, он застегнулся, а затем, мрачно морща лоб, приблизился ко мне.
— Ах, доктор, — сказал он негромко, с надрывом, — вы, конечно, нашли у меня только триппер. Больше вы ничего не видите. Но знаете ли вы, что я всего восьмой день женат?
Последнюю фразу он произнес с таким видом, точно вслед за нею должна была разразиться буря, ударить гром и провалиться потолок.
Я сделал удивленное лицо и с оттенком самого энергичного сочувствия спросил:
— Как? Только восьмой день? Неужели это жена вас заразила?
Он заговорил возбужденно:
— Да! И, представьте себе, она меня безумно любит. Доктор, кому же после этого верить? Три дня как я мучаюсь. Я все надеялся, что это пройдет. У меня не было в мыслях сделать даже предположение о венерической болезни. Я ее расспрашивал. Она клялась, что у нее ничего нет. О, действительно, она ни на что не жалуется. У нее ничего не болит. И я верил! Ведь я любил ее.
Он обхватишь руками голову. Я открыл рот, чтобы произнести приличествующее моменту слово, как вдруг он внезапно стукнул кулаком по столу. Чернильный прибор на столе задребезжал. Глаза его вспыхнули.
— Нет, я этого так не оставлю! Я приведу ее к вам, и вы здесь, При мне, уличите ее. Доктор, ведь это ужасно! Ах, можно ли было думать!
Из глаз его текли крупные слезы. Я усадил его, стараясь успокоить. Кое-как я растолковал ему, как надо вести себя, написал рецепт, показал ему технику спринцевания.
Он ушел, повторяя, что завтра будет у меня с женой.
Действительно, в назначенный час они пришли. Он опять мрачно хмурил брови. Он привел с собой хорошенькую женщину, почти девочку. Из-под кокетливой шляпки выбивались светлые пряди волос. Большие серые глаза были полны слез. Если я не ошибаюсь в определении выражения человеческого лица, она смотрела на меня с испугом, отвращением и мольбой.
Со смесью брезгливости и страха легла она на кресло Это был еще совсем ребенок. Лицо ее стало багрово-красным от стыда при тех вульгарных движениях, которые она должна была проделать во время осмотра. Я почувствовал к ней глубокую жалость.
У нее был триппер.
Я опустил подножку. Она торопливо поднялась, неловко зацепившись ногой за край кресла. Лицо ее покрылось пятнами.
Она безмолвно ждала, — так ждут приговора.
Я сказал:
— Вы больны. У вас гонорея, т.е. то, чем болен ваш муж. Вы заразили его.
Она протянула, руку, как бы пытаясь удержать меня. Гримаса боли искривила ее губы.
— Это неправда, — с трудом прошептала она, — это не может быть! Я не знаю, как это могло произойти.
Я стал расспрашивать ее. Выходя замуж, она не была девушкой. Молодой инженер был ее вторым мужем. Между первым и вторым браком был перерыв в полгода, который она провела без мужской близости.
Я решил, что знаю все. Разгадка была ясна. Первый муж, конечно, когда-то болел, залечился, снабдил жену ослабленной формой гонококков, а жена передала их второму мужу.
Инженер ждал за дверью. Я вызвал его и изложил ему свое заключение. Я постарался сделать это таким образам, чтобы у него проснулась жалость к этой юной жертве мужского легкомыслия, и появился новый прилив нежности к пострадавшей спутнице его жизни.
Потом я написал и ей рецепт, дал наставления и посоветовал немедленно начать лечиться.
Очаровательное личико с глазами, все еще полными слез, спряталось под кокетливую шляпку. И пара удалилась в печальном молчании.
На другой день, в тот же час, в приемной амбулатории среди рабочих курток и красных платочков сидела группа из трех человек. Посредине занимала место женщина в кокетливой шляпке, справа инженер, а слева, по другую сторону — неизвестный юноша.
Когда я открыл дверь кабинета, держа в руке регистрационную карточку инженера, в группе произошло небольшое замешательство. Все трое встали. Юноша надменно посмотрел на меня.
Все трое вошли в кабинет. Инженер подошел ко мне и раздраженно сказал:
— Доктор, это прежний муж Юлии. Он хочет переговорить с вами. Подумайте, он отрицает за собой всякую вину. — Рот инженера при этом саркастически скривился. — Он хочет отвертеться. Ну, это мы еще посмотрим!
Молодая женщина прижала платок к губам и тронула мужа за рукав. Он отвернулся и сказал угрожающим, но более тихим топом:
— Хорошо, я буду спокоен, но я добьюсь своего.
Юноша презрительно слушал инженера. Когда тот замолчал, он сказал мне:
— Можно с вами поговорить, доктор? Я тороплюсь.
Супружеская чета вышла. Мы остались вдвоем. Минут через пятнадцать я позвал к себе и тех двух. Сидя в кресле перед этой группой тяжущихся, я испытывал прескверное ощущение. У меня был, вероятно, не очень авторитетный вид. Мне было неловко. Я чувствовал себя посрамленным.
Я объявил, что первый муж невиновен. Он вне подозрения. Это была с моей стороны ошибка, когда я предположил его вину.
Инженер заморгал глазами. И, посмотрев вслед уходившему юноше, беспомощно перевел взгляд на меня.
Мне оставалось только оказать, что причина заражения лежала в одном из них, в одном из этих двух оставшихся. Было ясно, что что-то из них скрывал правду. И если, — подумал я, — они теперь потребуют от меня решения в чью-либо пользу, я буду резок и груб с ними. И, вообще, я не хочу быть судьей. Для меня инцидент исчерпан.
Я взглянул на сидевшую предо мною маленькую женщину. Она вся сжалась. Лицо ее было искажено страданием. Рот был по-детски полуоткрыт… Она едва сдерживала рыдания.
Во всем этом не было ничего необычного. Но почему-то я почувствовал, что она невиновна. И мне вдруг захотелось добраться, наконец, до истины.
— Выйдите, пожалуйста, — сказал я ей мягко, — я хочу сказать несколько слов вашему мужу.
Я быль придирчив, как следователь. Я подверг его допросу с явным пристрастием. Он клялся мне в верности по отношению к жене. Смешно даже думать иначе. С тех пор, как он ее узнал, для него больше не существует никакая другая женщина. Впрочем, он может мне кое-что рассказать, но это не относится к делу. За это он может ручаться — как за самого себя.
— Я вас прошу говорить все, — настойчиво сказал я. — Даже то, что по вашему мнению, не имеет значения.
Он колебался.
— Но… здесь замешана другая. Я не хочу, чтобы жена думала… Словом, это дело прошлого. Зачем возвращаться к этому?
«Замешана другая». Если это обстоятельство вспоминается, значит, какую-то роль оно сыграло. Но какую?
Я заставил его продолжать.
— Видите ли, доктор… Только, ради Бога, чтобы жена не знала… У меня была связь. Когда, я познакомился с Юлией, я прекратил все. То-есть, видите ли, я хотел порвать, но, знаете, женщины… они ничего слушать не хотят, ни с чем не считаются. Эта особа грозила мне скандалом. И вот, я пошел на уступки. Я думал, что лучше будет разойтись с ней осторожно, незаметно. Сколько сцен пришлось мне выдержать. Чего только не выслушал я от этой разъяренной женщины!
Но я шел на все, чтобы оградить Юлию от грубости или скандала. Однако, за месяц до того, как моя теперешняя жена должна была переехать ко мне, я твердо заявил той, прежней, о необходимости расстаться. Она угрожала, плакала, просила не покидать. Но я был непреклонен. Тогда она вымолила еще одну встречу, последнюю, прощальную. В этом я не мог ей отказать. И за день до свадьбы я провел у нее ночь… Но, доктор, я ведь жил с ней свыше полугода. Наши встречи были ежедневны… Она никогда не болела. Она, клянусь вам, тут не при чем. Можете мне поверить. Я даже не знаю, зачем я вам это рассказал. Ради Бога, только не говорите об этом жене!
Врачи — скептики. Он просил меня поверить ему. Я поверил, но сказал ему:
— Если вы хотите все же добиться разгадки этого несчастья, то нужно сделать все возможное, чтобы кто-либо не пострадал напрасно. Мне хотелось бы увидеть эту женщину. Как бы ваша ночь расставания не оказалась роковой для вас и для вашей Юлии. Конечно, вряд ли эта женщина охотно согласится выполнить вашу просьбу, да еще по такому непривлекательному поводу. Но вам нужно настоять на своем.
Инженер записал мой домашний адрес, и мы расстались. И вот, представьте себе, она пришла. Почему она оказала эту услугу своему бывшему любовнику — не знаю. Я не справлялся у нее об этом. Может быть, она на что-то рассчитывала. Может быть, она думала о возвращении прежних дней любви и ласк, поскольку в конце концов маленькая Юлия окажется изолированной для обвинения.
Эта женщина вошла в кабинет с надменно-каменным лицом. Всей своей манерой держаться она как бы хотела сказать: «Вот я делаю то, что вы хотите, обнажаюсь, но не думайте, пожалуйста, что я пришла сюда рада вас. Делайте наше дело, но я выше всяких подозрений».
В течение одной минуты я убедился, что она заражена. Я достал два предметных стеклышка, собрал платиновой петлей выделение скиниевых железок, сделал мазок и окрасил препарат по Грамму.
Под микроскопом меж розоватых контуров лейкоцитов я увидел скопления темно-красных булочкообразных бактерий. Это были гонококки.
— Возьмите, — сказал я, протягивая ей препарат. — Это вам, может быть, понадобится. Благодарю вас. Ваш приход был вполне уместен. Он избавит других от незаслуженных упреков. Вы больны, гонореей, и вам необходимо лечиться. Этим вы избегнете неприятностей в будущем.
Она встала с кресла уже без всякой самоуверенности. Теперь это была женщина, убитая неожиданным открытием.
Обезоруженная моим тоном к неотразимостью двух стекол, которые были в моих руках, она призналась мне в одном обстоятельстве.
Ее угнетала тоска по любимому человеку, которого ей предстояло потерять навсегда. Она хотела рассеяться. Мимолетное увлечение пришло ей на помощь незадолго до последней встречи ее с инженером.
Однако, то, что ей казалось мимолетным, оставило довольно тяжелое воспоминание о себе.
Впрочем, в ее оправдание нужно сказать, что она ни о чем не подозревала. Я открыл ей глаза на ее болезнь.
Наградой мне была реабилитация бедной девочки, жены инженера. Расставаясь со мной после длительного лечения, она смотрела на меня уже без страха и отвращения.
Она долго пожимала мою руку, и ее светлый взгляд благодарности доставил мне большую радость.
Я мог себя чувствовать удовлетворенным… Я открыл инженеру тайну заражения, развернутую от начала до конца с непогрешимостью математической формулы.
Бывает и так, что одного взгляда достаточно для решения Проблемы.
Однажды я услышал шум в передней своей квартиры. Я только что вернулся дамой усталый, и прислуга убеждала кого-то прийти попозже. Довольно пронзительный женский голос резко возражал.
Я шел к спорящим. Какой-то мужчина стоял у двери, а впереди, закрывая его, энергично жестикулировала перед носом горничной плотная высокая женщина. Увидя меня, она подбежала.
— Доктор, пожалуйста, примите нас по неотложному делу. Вы ведь дома. Зачем же нам ждать? Ах, если бы вы знали, как я волнуюсь.
Атака была так стремительна, что я сразу уступил. Она вошла вслед за мной в кабинет, крикнув мужу, топтавшемуся у двери:
— Алексей, подожди здесь! И, пожалуйста, не разыгрывай из себя невинность. Слава Богу, теперь женщина не беззащитна.
Раздеваясь, она продолжала говорить:
— Ах, доктор, как подлы мужчины! Чем может бедная женщина оградить себя от коварства мужчины, от последствия их разврата? Подумайте, доктор, я так верила своему мужу. Он казался мне таким тихоней. Ах, если бы вы знали, как я волнуюсь! Я думаю только об одном: чтобы муж не заразил меня. Неужели эти прыщи признак ужасной венерической болезни? Я тогда подам в суд. Он за все ответить, за все. Ах, доктор!..
Она сбросила с себя сорочку. Интенсивно-розовые пятна покрывали кожу груди и живота. Железы, плотные и увеличенные, легко прощупывались и в пахах были самыми большими по объему. Склеротическая бляшка сидела на половых частях. Это была картина вторичной стадии процесса.
— У вас сифилис, — оказал я. — Вам надо сейчас же приняться за лечение.
Женщина всплеснула руками с громким стоном. Она клялась, что убьет этого негодяя, своего мужа, и за то, что он погубил ее, положит конец и его поганой жизни. Она доведет дело до суда, до верховного суда, до самого Калинина. Ее доверчивость будет отомщена.
— Почему вы так нападаете на мужа? — опросил я, когда она несколько успокоилась. — Разве он болен?
Она посмотрела на меня с неописуемым удивлением.
— А как же? Он мне сегодня утром сам признался. Вот я и привела его сюда. Осмотрите его. Ах, эти мужчины, — заохала она, — какие они мерзавцы! За что мы так страдаем?!
Я открыл дверь в приемную. В углу большой комнаты сидела робкая человеческая фигура, держа в ручках какой-то иллюстрированный журнал. Лицо у сидевшего было виноватое и апатичное. Выпуская больную, двинувшуюся поступью Немезиды, я пригласил к себе этого человека.
Он вошел как-то бочком, обойдя по дороге свою супругу.
У него оказалась язвочка первичного шанкра.
Пока он одевался после осмотра, я сказал ему несколько ободряющих слов. Я объяснил, что он болен сифилисом, что он представляет огромную опасность для окружающих, что он должен лечиться, и что тогда все будет хорошо.
Едва за ним закрылась дверь, как снова вошла его жена, не удостоившая супруга даже взглядом.
— Послушайте, — сказал я. — Только слушайте внимательно. Я вам не задам никаких вопросов. Я ничего не хочу знать. Но одно я должен вам сказать. Подайте в суд на того, кто заразил вас этой нехорошей болезнью. Привлеките его к ответственности. Он должен поплатиться за зло, которое он причинил вам.
Это будет вполне справедливо. Сделайте это немедленно, если хотите. Но вашего мужа вы не должны трогать. Он здесь не при чем. И вы должны знать это не хуже меня. А если не знаете, то знайте, что это именно так, а не иначе. Больше того, я обязан вам сказать, что это вы заразили мужа. Да, вы. Потому что болезнь появилась раньше у вас, а потом у него.
Она была сразу положена на обе лопатки. Она не сопротивлялась.
Я думаю, что неожиданность разоблачения, истинного значения которого она, быть может, и сама не подозревала, ослепила ее, парализовала ее разум, и она уже не смогла что-либо привести в защиту своего первоначального негодования.
Как видите, и здесь я оказался в полном смысле слова магом. Я вмешался в роковую игру трех лиц. Обвиняемого я сделал жертвой, истицу посадил на скамью подсудимых и призвал к ответственности третьего, который хотел, быть может, остаться далеким зрителем этих событий.
Как-то летом я работал на черноморском побережье. Курортный городишко начал оживать. Днем небо подымалось на необозримую высоту. Еще не опаленные зноем люди направлялись по улицам и переулкам к морю и обратно. Вечерами кипарисы торжественно и стройно вытягивали верхушки к звездам, ярко сиявшим на черном бархате бесконечности. Ропот волн, незримых и близких, наполнял дрожащую пустоту простора. Смех и голоса звучали в темноте за оградой, за стенами, вдоль пляжа, среди зелени. Все кругом, днем и ночью говорило о любви и радости. И ничто — о страданиях.
На калитке моей дачи висела дощечка: «Доктор такой-то». И иногда — ко мне приходили пациенты.
В одно утро ко мне зашла дачница. Она была молода И привлекательна. Лицо у нее было красивое, но бледное и усталое Она была больна триппером. Я сказал ей об этом после осмотра.
Она заплакала, потом успокоилась и сказала:
— Что-ж делать, доктор? Я буду лечиться, разумеется. Вы мне дадите свидетельство о болезни?
— Конечно, но оно ведь вам не нужно сейчас.
Она уклончиво ответила:
— Отчего же? Я не собираюсь хранить его для коллекции, но это документ — для мужа. Я здесь недавно, всего несколько дней. Муж торопил меня с отъездом на побережье. В последнее время, уже месяц с лишком, мы не жили вместе. Почему? Не знаю. Он находил всегда какие-то предлоги. Теперь все понятно. Конечно, я с ним расстанусь, разойдусь. Я ему прощаю измену. Но я никогда не прощу ему ущерба, который он нанес моему здоровью.
В голосе ее звучала нескрываемая горечь. И в ее как будто спокойном тоне чувствовалось упорство обдуманного решения:
— Но ведь это только ваше предположение, — сказал я. — Это догадки. Я вам советую, прежде чем действовать, получить доказательства его вины.
Она ответила, подумав:
— Мужа здесь нет. Но этого и не нужно. Теперь все непонятое стало понятным. И потом, — добавила она, — разве он не может отрицать своей вины? Что обязывает его сознаться. Я не собираюсь с ним судиться. Но во всем этом для него приятного, поверьте, будет очень мало.
Пожалуй, ее доводы были основательны. Но мы, врачи, люди искушенные. Мы знаем, что иногда правда оборачивается ложью, и правдоподобие оказывается совершенно дискредитированным. И как часто там, где даже намек воспринимается, как оскорбление, назло всему выпирает наружу злой, жестокий факт.
Я сказал этой женщине:
— Напишите ему. Времени, пока вы будете ходить ко мне, у вас много. Зачем вам гадать? Спросите его, если у вас только нет повода сомневаться.
Последнюю фразу я произнес медленно. Я посмотрел ей в глаза. Она встретила мой взгляд спокойно.
Мы оба помолчали… Затем она сказала:
— Хорошо доктор. Я принимаю ваш совет, хотя, нужно сознаться, в нем для меня немало оскорбительного.
Однажды, придя на очередной прием, она подала мне конверт. Это был ответ мужа.
Это был сплошной вопль. Это было признание, исповедь, мольба о прощении. Да, он болен. Он преступник. Он уничтожен. Самое любимое, самое святое он осквернил. Какой ужас, сколько грязи! И он умолял ее лечиться. Если здесь нельзя, пусть приедет обратно в Москву. Он устроит ее в лучшей больнице. Если нужны будут деньги, он достанет, сколько нужно, лучшие профессора будут пользовать ее. Как это ужасно! Он не ожидал такого несчастья. Он сделал все, чтобы оградить ее от заражения. Как только появились первые признаки, он отстранился. Он не прикасался к ней. Какая злая судьба! Он был так уверен, что эта чаша минует ее. Простит ли она когда-нибудь ему?
— Вот видите, — сказал я, — напрасно вы опасались запирательства и отрицания. Теперь вы вправе делать какие угодно выводы.
Потом она некоторое время не являлась. Однажды я получил от нее записку. Она лежала с высокой температурой и с болями в нижней части живота.
Я навестил ее на дому. Инфекция проникла в глубину тканей и при исследовании у нее оказалось воспаление околоматочной клетчатки. Дело осложнялось. Место у ее постели занял гинеколог.
Прошел месяц, другой. Городишко кишел бронзовыми людьми. Солнце заливало пляж и море, и песок, изрытый следами ног, походил на чудовищные письмена, а у воды лоснился, как жирная спина дельфина. Стены белых домов ослепительно сверкали. Гонимые зноем раскаленного полдня, поднимались испарения бесчисленных трав.
К вечеру тени удлинялись. Берег пустел, а в аллеях садов и парков начиналась человеческая возня. Белые пятна платьев мелькали между деревьев. Звезды, как котята, укладывались на ночном небе. Ночь принимала зарю, занимавшуюся над незасыпающей землей.
В один из этих дней моя больная пришла попрощаться со мной. Она похудела, побледнела, черты ее лица заострились.
Она уезжала. Остатки инфильтрата не рассасывались, и ее направили в Саки, на грязи.
Мы разговорились, стоя у калитки.
— А где ваш муж? — спросил я.
Тень пробежала по ее лицу. Она нахмурилась и усталым тоном сказала:
— Муж? Он здесь. Он уже несколько дней как приехал. Он отвезет меня в Саки, а сам вернется в Москву.
— Ну, а что же дальше? — продолжал я. — Можно мне полюбопытствовать? Вы примирились?
Она покачала головой. Затем протянула руку и сорвала сухую ветку. С легким треском прутик переломился между ее пальцами.
— Можно срастить эти обломки? — сказала она. — Так будет и с нашей совместной жизнью. Это решено.
— А как же реагирует на это он, ваш муж, — спросил я.
Она швырнула одну половинку ветви на землю. Палочка шурша исчезла в траве.
— Я еще с ним ни о чем не говорила. Мы избегаем этой темы. Да и зачем? Будут волнения, слезы, бесконечные разговоры. Я еще плохо себя чувствую. Он тоже не закончил лечения. Ему какой-то курс надо еще проделать.
Я удивленно поднял голову:
— Какой курс? — переспросил я. — О чем вы говорите?
— Право, не знаю, — с легкой гримасой сказала она. — Какие-то уколы или вливания. Что-то такое он говорил об этом, — нетерпеливо произнесла она. — Я ведь не доктор. Откуда мне все это знать?
Курс? Уколы? Это было для меня совсем новым. Подозрения смутно зашевелились в моей голове.
Я долго смотрел на исхудавшее, но все еще красивое лицо собеседницы. Она сосредоточенно вертела в руках зонт. Тоненькая фигурка ее под светлым платьем выглядела грациозной. И, как сквозь туман, предо мной стали вырисовываться какие-то линии, складывавшиеся в рисунок. Я словно читал вводную главу романа.
— Я хочу спросить, — оказал я. — Скажите мне, пожалуйста, правду. Когда вы писали, по моему совету, мужу о своей болезни, вы назвали ее? Вы открыли ему, что вы больны триппером?
Она с недоумением посмотрела на меня.
— Ну, конечно, — развела она руками, — я не скрыла. Я писала ему о… венерической болезни.
Она покраснела и отвернулась. Вторая половина ветки упала на землю.
— Вы прямо так и сообщали: триппер? — допытывался я.
Она замялась.
— Нет… нет… кажется… Я не помню… Я об этом и не думала. И… и я не понимаю, к чему этот вопрос. Разве он не знает, чем он болен, чем он заразил меня?
Я колебался одну минуту. Нужно ли мне вмешиваться в это дело? Кто мне, собственно, поручает роль судьбы? Не предоставить ли обстоятельствам распутать дальнейшие взаимоотношения этих двух людей?
Она стояла предо мной в позе ожидания. В глазах ее уже светилась смутная тревога. Рот был полуоткрыт, точно вопрос замер на ее губах, слегка окрасившихся от волнения. В глубине ее зрачков, широких и темных, мерцал испуг йод тенью стрельчато изогнутых ресниц.
Я взял ее руку.
— Вы верите мне? — сказал я. — Вы верите тому, что мне хотелось бы избавить вас от излишних страданий и огорчений? Послушайте же, что я вам окажу. Вы заразились, по-видимому, не от мужа. Он болен совсем другим!
Она вздрогнула.
— Как… как не он… Он болен другой болезнью? Откуда вы это знаете? Это невозможно! Это совершенно невозможно!
Я оказал мягче:
— Видите ли, — у нас, у врачей, совсем другое отношение к некоторым житейским вопросам морали и долга. Мы понимаем и прощаем многое. Вы можете мне ничего не сказать. Это ваше право. Но я вам советую, очень советую, прежде чем вы предъявите обвинения мужу, точно справиться, в чем он виноват. То, что вы сказали о способе лечения вашего мужа, во многом меняет дело. Он лечится от сифилиса. И вряд ли в вопросе о заражении вы сумеете заставить справедливость быть на вашей стороне. Ибо у вас сифилиса нет. Конечно, остается еще одно предположение. Это то, что он болен и тем и другим. Это не невероятно. Но тогда не лучше ли вам осведомиться теперь же. Иначе вы рискуете стать стороной защищающейся, вместо того, чтобы быть нападающей. Кроме того, не попробуете ли вы вспомнить событий, которым вы не придавали раньше значения С точки зрения интересующего вас вопроса? Может быть, тут замешан еще кто-то? Вы думали о муже, об его непонятном для вас воздержании, но, быть может, в погоне за этими соображениями вы упустили возможную роль другого лица. Я не спрашиваю вас ни о чем. Я только хочу, чтобы вы все это учли. Подумайте. Я только дружески предостерегаю вас от неудачного шага.
Она растерянно смотрела мимо меня. У нее было такое выражение лица, с каким внезапно разбуженный человек просыпается на незнакомом ему месте.
Чем все это кончилось?
Муж явился ко мне. У него был только сифилис. А у нее был только триппер. Таким образом, они оказались квиты. Она, которая готова была простить измену, но не ущерб, причиненный ее здоровью, должна была, вероятно, просить о применении этого принципа и к себе самой. Что было о ними дальше, не знаю. Думаю, что все «образовалось».
Мне удалось, вероятно, поставить этих людей на надлежащие места по отношению друг к другу. Это вышло очень просто. К сожалению, так бывает лишь в очень немногих случаях, в тех, когда сама болезнь приходит на помощь.
Но как редко это случается! Вспомните, что я говорил об особенностях течения болезни у женщины. Вспомните, что я рассказывал вам о московском профессоре, о его ошибке, происшедшей несмотря на добросовестность всех его мероприятий.
В этом отношении женщина, действительно, часто бывает полной загадкой, каким-то шифром, ключа к которому не отыскать, пока не отыщет его сама жизнь, отыщет с громом, со слезами, с драмой.
Еще древние мудрецы бились над этими вопросами. Пророк Моисей тоже стоял перед такой проблемой. Разрешил он ее лучше Соломона, по-моисеевски. Ибо он был учеником сурового Адонаи, Бога, вышедшего из туч и молнии.
Вот как это было.
Моисей после исхода из Египта проходил со своим народом страны моавитян, аммонитян, сирийцев и другие, лежащие по пути в землю обетованную. Сынам Израиля пришлись, очевидно, по душе нравы и обычаи обитателей этих стран. Женщины последних были красивы и сладострастны и знали все тонкости тайн любви.
Вместе с культом фаллуса и другими верованиями. евреи принесли в Иудею и венерические болезни. Темперамент семитской расы привел к огромному распространению этих недугов. Моисей боролся с ними путем строгих предписаний. Но, очевидно, этот способ не давал результатов.
В это время иудеи вели войну с мидянами, победили их, умертвили всех мужчин и овладели их женщинами и стадами. Когда победоносные военачальники предстали перед Моисеем, он встретил их словами гнева и сказал:
«Вы оставили, в живых всех женщин. Но ведь именно женщины были бичом поразившим Иудею. А теперь умертвите всех детей мужского пола и всех женщин, уже познавших мужчин, и оставьте в живых всех детей женского пола, которые еще не имели сношений с мужчиной». (Книга Левита, Числа. Глава 5).
«И вот, — рассказывает Иосиф Флавий, — были преданы казни все мужчины, 23 000 пленников, и 32 000 женщин, которые не были девственницами. Ибо блуд был тогда распространен во всем войске, и от древних нравов не осталась и следа».
Такова была библейская профилактика.
Не подумайте, что искусство врачевания было не знакомо тому времени. Это заблуждение. Оно стояло там довольно высоко даже с нашей точки зрения. Я уже не говорю о лечении травами, воздухом, солнцем, о том, что хинная корка, кокаин, сенега, ипекакуана, кровососные банки были известны даже многим племенам задолго до нашей эры. Самая почетная в медицинских дисциплин, хирургия, была неотъемлемой частью тогдашней системы лечения.
Египет, например, имел хорошо разработанную фармакопею. В арсенале запасов врача времен, скажем, фараонов «Средней Империи» находились касторовое масло, кора гранатового дерева, белена, стрихнин, соли натрия, меди и цинка, шпанския мушки и т. д., т. е, все те средства, без которых мы и теперь шагу ступить не можем.
Папирус Эберса точно перечисляет случаи применения и действия этих медикаментов. Для уничтожения опухолей прижиганием применялись особые термокаутеры. Хирургический инструментарий был обширен. Безукоризненно сросшиеся переломы костей у мумий показывают превосходную технику в области десмургии.
В кодексе Хамурана, из библиотеки Сарданапала, царя Вавилонии, длинная глава отведена таксе за операцию катаракты, слезной фистулы, переломов и вывихов костей, а также за зубные пломбы. Эта такса существовала приблизительно три тысячи лет назад. В окрестности бывшей Ниневии найдены скальпеля, трепаны, пилы, ланцеты, скарификаторы.
Если мы обратимся к доисторическому человеку, то увидим, что даже это звероподобное, как мы его себе представляем, существо было не чуждо медицинской культуре.
Человек какой-нибудь неолитической эпохи охотился еще за пещерным медведем, одеждой ему служил неотделанный кусок шкуры, и он призывал ревом самку к своему очагу из камня, над которым горел огонь добытый трением. И в то же время он умел делать трепанацию черепа.
В раскопках Зоненбаховского периода, в окрестностях Заальфельда на Заале и в Ново-Гвинейских становищах, были найдены эти черепа с отверстиями и трещинами, которые, несомненно, свидетельствуют о том, что в глубокой древности производились костные операции.
Однако, мы далеко забрались! В глубь времен. Вернемся к нашей эпохе.
Теперь завоевал общее признание лозунг: лучше предупреждать, чем лечить. В частности, он особенно важен в сфере тех болезней, о которых у нас идет разговор.
Конечно, это единственно правильный путь к оздоровлению человеческой расы. Но как это сделать?
На эту ясную тему о том, как уберечься самому, как уберечься обществу, написаны толстые книги. При своем распространении каждая болезнь становится, в сущности, социальной болезнью. И государство борется с ней, как с социальным бедствием.
Науку не надо обвинять. Она несовершенна, как несовершенна вся наша жизнь. Ни более, ни менее. Когда-нибудь мы, вероятно, далеко уйдем вперед. И такие сожители наши, как гонококки, например, будут служить только украшением медицинского атласа и пробирок.
Это не пустые слова. Гонококк должен исчезнуть из нашего обихода.
Сейчас во всех странах пробивает себе дорогу течение, воюющее за институт профилакториумов. Это своего рода дезинфекционные камеры для людей. Там приходящие очищаются от гонококка.
Такие учреждения уже созданы в Америке, в Англии, в Германия, во Франции, — пока, правда, только в армиях. И уже констатировано, что процент заражения понизился почти в пять раз.
Среди населения Северо-Американских Штатов распространяются листовки, в которых приводится эта статистика, и граждане призываются помнить о существовании предупреждающей медицины.
В Берлине всюду разбросаны небольшие здания, общественные уборные. Войдите в любую из них. Где бы вы ни стали, вам сейчас же попадается на глаза плакат:
Предохранение от венерических болезней.
Каждое внебрачное половое сношение представляет собою большую опасность в смысле заражения.
Опасность уменьшается, если немедленно после сношения продезинфицироваться в одном из пунктов Скорой Помощи Берлинского Союза Скорой Помощи.
Ближайший пункт находится…
В Лондоне этих плакатов нет. Должно быть, чопорность англичан не мирится с таким «натурализмом». Там в общественных уборных стоят просто автоматы для продажи предохранительных средств.
В Копенгагене эти механические торговцы выставлены прямо на улицах и площадях.
В России еще в 1914 году врачи ставили вопрос о профилакториумах. Ничего из этого не вышло. Только революция сдвинула этот вопрос с мертвой точки.
В Киеве уже функционировало такое учреждение.
К сожалению, существование даже этого единственного профилактория стоит перед угрозой закрытия из-за отсутствия средств. Здесь мы наталкиваемся на нашу бедность ресурсами, делающую вопросом жизнь этого одного предупредителя.
А ведь их должно быть бесконечно больше. Всюду, где есть диспансер, больница, амбулатория, приемный покой или даже просто врач, должны быть днем и ночью открыты для нуждающихся двери камеры половой дезинфекции.
Трудность заключается только в объекте деятельности этих учреждений. Косность обывателя общеизвестна, придется еще бороться с насмешливым отношением и с ложным стыдом, потребуется еще вбивать в головы мужчин, что гонорея — вещь не пустяковая, что это враг коварный, скрытый, неожиданный, что он настигает там, где его не ждут, и что никакое доверие к внебрачной женщине не должно позволять забыть дорогу к профилакториуму.
Вот что надо вызубрить; не позже чем через двенадцать часов необходимо обратиться к врачу. И чем раньше, тем лучше! Это почти гарантия безопасности.
Подумайте, как это чудовищно просто! — Но вы знаете, что труднее всего научить именно простым вещам.
Сколько мы обрабатывали человеческое сознание хотя бы за все эти годы революции! Дождем выпущенных листовок, плакатов, брошюр можно было было кажется, покрыть землю от одного полюса до другого.
И что же получилось?
Москва — это не Кандалакша, не Чухлома. А между тем, вот данные Московского Государственного Венерологического Института, цифры 1925 года о том, кто и когда вспоминает о здоровье.
Пусть грехопадение произошло под винными парами или под влиянием внезапного соблазна, которому трудно было противостоять. Потам наступило отрезвление, уже при «свете холодного рассудка». Что же последовало дальше? Испуг перед содеянным? Боязнь последствий?
Перед нами восемьсот человек, которые пронесли свою гонорею через амбулаторию института. На другой день после ночи любви никто из них не явился проверить себя в отношении возможности заражения. На третий день явилось 14 человек. Четырнадцать из восьмисот! Это меньше 2 проц. Огромное большинство явилось только на 6–10-ый день, т. е. в разгар процесса, даже не в момент обнаружения первых признаков. Между тем, ведь эти восемьсот человек заразились. Это значит, что в большинстве случаев имела место продажная любовь. По крайней мере, близость, которая не исключает подозрения.
Если такое легкомыслие наблюдается в начале болезни, можно ли ожидать более серьезного отношения к концу ее, требующему бездны терпения и настойчивости.
Будет ли так всегда? Не думаю. Пренебрежение к собственному здоровью будет в конце концов вырвано с корнем. Это время настанет. Когда оно придет, гонококк будет окончательно сбит со своих позиций.
Но кроме своего собственного здоровья, есть еще и чужое. Это чужое часто в то же самое время бывает и своим, близким, родным.
Надо помнить, что здоровье выше всякого стыда, всякой необходимости соблюдать тайну. Его нетронутость должна преобладать надо всеми другими соображениями.
Я не буду говорить, конечно, о наглых людях, о негодяях, о тех, кто заражает без смущения. Предполагается, что таких со временем не будет. Ибо испорченный характер — это продукт испорченной среды. А о существующих теперь тоже не будем говорить, потому что это уже область преступной воли.
Есть чрезвычайно многочисленная категория людей, которые не имеют мужества прямо посмотреть другому в глаза и честно сказать: «Не зови меня! Мне нельзя, я болен, я опасен». Язык не поворачивается сказать это из-за боязни семейного ада, скандала, слез, оскорблений.
Будем благословлять тот строй, который научит людей должной прямоте и правильному пониманию вещей.
Мало прививать чувство ответственности, надо приучать и к, мужеству. Как это сделать, не знаю. Должно быть, есть много путей к этому. Но это нужно постоянно долбить, как капля долбит камень, может быть, посредством кино, театров или другого какого-либо зрелищного действа.
Если бы удалось внедрить в сознание людей императивную категоричность этой простой истины, то и статистика зла, по крайней мере, в той специальной области, о которой я говорю, непомерно теперь разбухшей, рухнула бы, как карточный домик под напором ветра.
Я припоминаю совсем недавний случай.
Мне принесли письмо с просьбой помочь подателю его. Обращался ко мне большой друг, мне было очень приятно оказать ему услугу.
Речь шла об очень молодой женщине; у нее была гонорея, очень упорная.
Эта женщина лечилась много недель. К несчастью, она была красива, и врач, который должен был загладить чье-то преступление, влюбился в нее. А может быть, он был просто очень впечатлителен и легко терял голову. Ведь врач — тоже человек.
Однажды, провожая больную, он схватил ее у двери за руку и начал целовать. Вероятно, он и раньше выражал как-нибудь свою нежность. Но отделять жест и слово врача от жестов и слов человека иногда бывает трудно. Может быть, пациентка была мало наблюдательной и вовремя не заметила нарастания событий.
И она поступила так, как это делает каждая, на которую внезапно нападает мужчина. Она оттолкнула его кулаком. На пальце у нее было кольцо с камнем, и на лбу доктора образовалась багровая рана от края волос до переносицы. Больше они, конечно, не встречались. Лечение было прервано. Это было описано в письме. Пострадавшего коллегу я знал; он был способный врач. Мой приятель просил принять больную и довести лечение до конца.
Когда она вошла, и я говорил с нею, я увидел, что красота иногда, действительно, может быть даром злой феи. Красота этой женщины поражала. Ей было 18 лет, она была бедна и одиноко жила в большом неприветливом городе. Жизнь, которая только что расцвела, уже влачилась краем по грязи.
Я осмотрел ее очень тщательно; предстояла длительная борьба за выздоровление.
Она стала ходить ко мне на дом ежедневно. От амбулатории она отказалась наотрез, Мысль о регистрации приводила ее в ужас.
Однажды она сказала:
— Простите доктор, вы так добры ко мне. Я хочу попросить: нельзя ли мне бывать у вас два раза в день?
Мой отказ сильно огорчил ее.
Несколько дней спустя она сказала;
— Ах, как это долго тянется! Мне хотелось бы поскорее вылечиться. Как бы это узнать?
Я отнесся к этим крамольным словам спокойно и объяснил ей необходимость запастись терпением.
На всякий случай я отправил выделения в лабораторию для анализа. Ответ был неутешительный, — огромное количество лейкоцитов, множество диплококков и изредка гонококк Нейссера.
У нее опустились руки, когда я сообщил ей, что до конца еще далеко. Лицо посерело, взор потух.
Потом она стала сильно нервничать. С нею что-то происходило. Это не было обычное нетерпение. Что-то сидело в ее голове, — нечто вроде психической занозы.
Иногда глаза у нее блестели радостью. А иногда губы сжимались, брови, как две змейки, тянулись к переносью, в зрачках появлялись черные искры. То она была неестественно оживленна, то была мрачна, как преступник на плахе.
Однажды она воскликнула:
— Доктор, родной, нельзя ли поскорей?
Она молила взглядом. Я сказал как можно мягче:
— Потерпите. Я сам бьюсь над этим.
Она откинулась в кресле. Она стала громко рыдать.
Кое-как я закончил процедуру, снял ее с кресла и усадил за своим столом. Она спрятала лицо в ладони и тихо всхлипывала, каик обиженный ребенок, утомленный громким плачем. Мочка уха, выпроставшаяся из-под пряди, рдела пунцово.
Я успокаивал ее, ибо я догадывался, что она нервничает неспроста. Она размякла, ослабла и начала рассказывать.
Какая знакомая картина!
Она учится в Институте Сценических Искусств. Где-то на Кубани, в маленьком городишке, она мечтала об искусстве, о славе, о ярком обмане сцены. Она не хотела быть ни стенографисткой, ни учительницей, ни делопроизводительницей. Она искала славы. И, оставив свою полуголодную, как и она, старушку-мать, она отправилась в Ленинград, каким-то чудом сколотив себе деньги на билет. Чемодан у нее был маленький, старый. Но она везла с собой огромный запас молодости, надежд, планов и доверия к людям.
В институте, как полагается, она испытала первую любовь. Слова обольщения проникли в ее сердце и мозг. И в ее неискушенном воображении жизнь стала развертываться, как начало чудесной сказки.
Герой ее романа — испытанный ловец. И к провинциалочке, не расстающейся с предрассудками и условностями, он применяет особый подход. Он позволяет считать себя женихом.
В один прекрасный день она застает его в мрачном настроении. Она встревожена.
— Отчего ты такой? Случилось что-нибудь? Дорогой мой, скажи!
На его лице видно отражение внутренней борьбы. Молчание.
Наконец, он изрекает:
— Не любишь ты меня. Нет. Чувствую, что не любишь.
— Ваня, дорогой, любимый, что ты?! Больше жизни люблю. Какой ты смешной!
Он отстраняет ее рукой.
— Нет, неправда! Сказать не могу, почему, но вижу, не любишь. Нутром, вот здесь, чувствую. — И после долгой паузы продолжает: — Любовь не рассуждает, не уверяет. Тот, кто любит, готов на все. Любовь, как огонь. И только тогда, когда любовь — огонь, сжигаются все сомнения, и остается только счастье.
Какие слова! Глаза его сверкают вдохновением.
И вот, она доказывает ему, что любовь — огонь. Аргумент вечный, женский.
Через две недели, насытившись, он кончает игру. Впрочем, следы грима еще остаются.
Тоном раскаяния он делает ей признание. Это, оказывается, не она, а он не любит. Тогда, две недели назад, он не мог разобраться в этом. Но он проверил себя, и теперь все ясно. Ему больно, но лжи не должно быть между ними. Они не должны допускать насилия над чувством и лицемерия.
И вот, она — собачка, раздавленная колесом телеги. Осмеянная и уничтоженная.
На этом кончается избитый роман. Дальше следуют страницы из учебника по венерологии.
Ее история сразу становится известной в институте. Я вскоре какая-то слушательница снимает с провинциалочки, как луч росу, остатки наивности.
Этот самый Валя, уходя, оставил ей на память триппер. Все знают, что он болен. Он сам хвастался этим перед товарищами.
И тогда еще оглушенная женщина, действительно, замечает то, что из-за слез и отчаяния прошло для нее незаметно.
А если она и заметила, то что может она предпринять? Денег нет. Можно ли бесплатно посещать больницу или амбулаторию, неизвестно. О таких делах не с кем посоветоваться. Кому скажешь? Благо, боли не гонят. Их нет. Самое ужасное — это клеймо «венерическая болезнь».
Прошли месяцы, год.
Струп спал, но остался рубец, который тупо ноет. Душа уже не рвется, на острие первых мук. Да и надо же жить, наконец. Днем лекции: «Грим», «История костюма», «Искусство жеста» и т. д. Ночью служба для заработка.
Не подумайте дурного о ночах. Она избегает людей. Она не допускает чужих прикосновений. Она помнит, что она заражена.
Мужчины ищут ее, следят за ней, знакомятся, пытаются сблизиться с нею. Когда она ходит между столиками, предлагая цветы, посетители невольно засматриваются на эту очаровательную головку с большими печальными глазами под длинными, изогнутыми ресницами.
Да, простите, я и забыл сказать, что она продает цветы в ресторане с 10 часов вечера до 3 часов ночи. Эту работу она получила через Общество помощи беспризорным детям. Ее ночной заработок колебался в пределах от 0 до 1 миллиарда, а по тогдашнему золотому курсу — от 0 до 1 рубля.
Здесь я должен сделать комплимент гонококку.
Если панель не заполучила еще одной жертвы, то за это нужно низко поклониться гонококку. Две точки, заключенные, как две французские булочки, в теле лейкоцита, наконец, сделали доброе дело. Они поддерживали ее волю даже тогда, когда голова кружилась от голода, а на пальцах ног вскакивали волдыри, от слишком непосредственной близости к камням мостовой.
Теперь, после гонококка, опять немного сказки.
Посетитель углового столика, справа от двери, каждый вечер приходил в ресторан «Двенадцать». Пока ему подавали ужин, и пока он ел, он не спускал глаз с продавщицы цветов. В час ночи он покупал у нее гвоздику, платил и уходил.
Как рождается, как приходит к человеку это странное замирание сердца, я не знаю. Должно быть, у каждого по своему. Во всяком случае, она уже начинала чувствовать присутствие этого человека, еще не видя его лица. А лицо у него было бритое, приятное, с двумя складками на лбу.
К тому же она все-таки, была молода, ей едва минуло 20 лет. В этом возрасте тело обладает своей логикой.
Однажды они, эта женщина и этот мужчина, разговорились. Он нашел нужное слово, за ним последовали другие, оросившие эту обожженную болью почву, как капли дождя орошают потрескавшуюся землю, жаждущую влаги.
В ней зашевелились надежды, желание жить. Опираясь одной рукой о столик, а другой прижимая к груди пучок гвоздик и хризантем, она слушала его и отвечала.
И вот, случилось… Ничего особенного! Они встретились вне ресторана.
Это стало повторяться… Она знала о нем уже все; кто он и что он. Он совсем не походил на того прежнего. Тот был забыт и похоронен.
А этого зло обидела женщина.
Он быль юрисконсультом в каком-то крупном учреждении. Оттого, должно быть, он так легко находил нужные слова. Днем он был занят, а по вечерам отдыхал в ресторане за ужином. У него не было семьи. От первой жены остался мальчик, который с детства жил в другом городе, у бабушки. Жена же ушла три года тому назад к другому…
Однажды они встретились перед тем, как ей надо было идти за цветами для ресторана.
Было начало весны. По вечернему плыли облака.
Он просто сказал ей:
— Я один. Мне не для кого жить. Я хочу работать для вас, для вашего счастья. Вы теперь у меня единственная радость. Раньше я смотрел на какую-нибудь звезду. Теперь я смотрю на вас и знаю, что я люблю вас и мне будет с вами легко и приятно.
Она протянула руку, точно защищаясь. Он продол»-жал;
— Я многого о вас не знаю. Должно быть, у вас было горе. Впрочем, ваше прошлое принадлежит вам, и я буду знать столько, сколько вы сами мне сообщите. Вам живется несладко, я вижу. Но это только побудит меня изо всех сил стремиться к тому, чтобы вы с избытком получили все то, в чем до сих пор вам было отказано. Будьте моей женой. Я хочу, чтобы вы всегда были со мной, если это возможно, — меланхолически добавил он.
Она подняла обе руки, как бы желая остановить его. К счастью, в руках у нее не было цветов, которые могли упасть, и все обошлось без убытка. Она ничего не ответила ему. Если бы она открыла рот, кто знает, что вырвалось бы оттуда. Потому что, — вы, конечно, догадались, — она полюбила его. Природа не терпит пустоты. Не терпит ее и сердце.
Здесь кончается сказка, И опять выступает на сцену гонококк. Ибо она вовремя вспомнила о гонококке и овладела собой.
Глядя на человека, который стал для нее дорогим, она оказала ему умоляюще:
— Не говорите больше со мной об этом. То, чего вы хотите, невозможно. Я скорее умру, чем соглашусь.
Юрисконсульт, конечно, кое-что уловил в ее словах. Должно быть, он подумал в этот момент о больной гордости своей спутницы.
Продавщица напрягала все свои силы, чтобы перескочить со своим заработком через заколдованный рубль. Иногда случалось так, что уходя после трех часов ночи домой, она нащупывала в кармане бумажек рубля на два с полтиной.
Накопив за счет экономии в еде и одежде небольшую толику денег, она начала посещать врача.
Эпизод с врачом вы уже знаете. Жена моего друга, слушательница того же института, как-то разговорилась со своей однокурсницей, продавщицей цветов. Вот каким образом попал на сцену я.
Вот эту историю я узнал за своим письменным столом. Продавщица цветов торопилась потому, что со времени ее вечернего разговора прошло уже два месяца. Они продолжали встречаться. Он видел, что она любит его, и ждал того момента, когда она даст свое согласие.
Но, в конце концов, ему, очевидно, надоело ждать. Может быть, он слишком страдал от тоски по телу, которое любил. Она же нервничала еще и потому, что в ней тоже пробудилась женщина. Под влиянием могучего желания, которое в нем чувствовалось и которое искало ее, она сама начала томиться по ласкам, по объятию его крепких рук.
Прошло еще немного времени.
Однажды вечером она пришла с убитым лицом. Жалкая фигурка упала на стул и стянулась в комок.
— Что с вами?
— Ах, он хочет уехать! Он говорить, что больше не может ждать. Он не принимает больше дел. Как только он закончит текущую работу, он уедет в Москву, чтобы устроиться там. Доктор, дорогой, что мне делать? Когда же это кончится?
Мы, врачи, часто видим перед собой трепещущую жизнь. И слезы, и мольбы, и ужас, и отчаяние — все это видано-перевидано. Нас ничем не удивишь. Но бывает и так, что чужая боль хлещет по нашим нервам.
В какой-то книге я прочитал, как экспериментатор создавал человека будущего. Он вскрыл череп обреченному на смерть субъекту и ввел в складку его мозга какое-то стимулирующее вещество. Оперируемый остался жив. И его мозг приобрел чудовищную работоспособность и остроту. Открытия следовали за открытиями с быстротой молнии.
Глядя на плачущую девушку, я вспомнил эту фантазию писателя. И мне страстно захотелось, чтобы вот сейчас, сию же минуту родился этот необычайный мозг, способный решить все наши запутанные нелепости.
Как помочь ей? Я еще чувствовал присутствие невидимых следов болезни, рассеянных по железам и складкам слизистой оболочки.
Но мне было невыразимо жаль ее, и я подумал: «А может быть, я, в самом деле, преувеличиваю опасность. Во всяком случае займемся исследованиями».
И вот начались анализы. Я сделал множество мазков. Гонококка, не было. Но лейкоциты в количестве, превышавшем норму, не уходили из поля зрения под микроскопом.
Она, как затравленный зверь, следила за моим лицом, когда я держал бумажку с ответом из лаборатории. Она вслушивалась в мои слова, ожидая развязки.
В один из визитов у нее был какой-то особенно беспокойный взгляд. Я оказал ей:
— Я не нахожу теперь у вас ничего. Я мог бы отпустить вас. Вы здоровы, по своей видимости. Но болезнь, которую вы перенесли, очень коварна. Наука требует от нас при даче разрешения на вступление в брак особенной бдительности. Вы подлежите еще контролю. Я могу отпустить вас, но с тем, чтобы вы через две недели явились ко мне на проверочное исследование… И так должно продолжаться два месяца, по крайней мере. Таков мой долг врача. И я вам об этом сообщаю… Подождите, не опускайте головы, не плачьте. Выслушайте меня. У вас есть выход. Воспользуйтесь им. Для этого вам нужно только немного гражданского мужества. Подумайте, что будет, если вы его заразите! А между тем, каких-нибудь два месяца отсрочки, и возможность сюрпризов будет исключена. Откройте ему всю правду.
Отчего он хочет уехать? Оттого, что он не понимает причины вашего отказа. Но он любит вас. Если он не спрашивает о вашем прошлом, которое вряд ли кажется ему безупречным, то почему вы не представляете себе его полной терпимости к вашему несчастью. Ведь это именно несчастье, а не что-либо иное. Он поймет, что ваша болезнь — это не результат разврата, распущенности, что вас обманули. Ведь вы жертва. О он пожалеет и обласкает вас. Немного храбрости, и как много дурного предупредите вы. Решитесь, вам не придется раскаиваться!
Она молчала очень долго. Я не мешал ей думать. Прошло много минут.
С улицы доносился шум большого города. За окнами жизнь словно торопилась, громыхая, звеня и ворочаясь, как огромный зверь. В комнате было тихо, мертвенно тихо. Свет лампы на столе мирно озарял две человеческие фигуры. Было тихо, точно комната затаила дыхание.
Ее лицо было бледно. Длинные ресницы бросали тень на прозрачную кожу ниже век. Нежно розовели щеки, губы были болезненно сжаты.
Глядя куда-то в сторону, она сказала:
— Я подумаю. Но как это ужасно: «венерическая болезнь»!
Теперь мне осталось досказать немногое.
Она, конечно, не рискнула. Язык у нее не повернулся. Может быть, она пришла к заключению, что я просто брюзга и старый ворчун. Во всяком случае, через неделю она переехала к нему.
Четыре дня спустя у мужа обнаружился триппер.
Вот и все.
Что было дальше? Дальше совсем смешно. Представьте себе не было никакой драмы. Наоборот, когда он выслушал из уст дрожащей и полумертвой от страха жены всю эту историю, он погладил ее по голове и сказал:
— То, что ты раньше мне этого не сказала, пусть будет твоей последней ошибкой на том пути, который мы пройдем вместе.
Я рассказал вам это, как пример трудности выудить признание даже в непреложных случаях, даже тогда, когда тайна — нелепость, когда она раньше Или позже должна открыться.
Можно ли очень обвинять продавщицу цветов? Не думаю. Ведь надо уметь и выслушать такое признание. Необходимы соответствующие уши, голова и сердце.
Но это уже другая область.
Расплата
Здесь я должен внести коррективу. В этой истории действующим лицом была слабовольная женщина. Из этих двух людей заразила и знала, что можно заразить, женщина. Но так бывает чрезвычайно редко.
На самом деле, — сознательно заражать гонореей, например, — это печальная привилегия мужчины. Природа и здесь благосклоннее к сильной половине рода человеческого. Ибо скрыть истину и видеть себя неразоблаченным мужчине довольно легко. И только мужчине. Женщина, если это не проститутка, обычно заражает только по неведению. Надеюсь, вы не станете возражать после всего того, что я говорил о мужской и женской анатомии.
Обмануть жену, скрыв от нее заболевание венерической болезнью, повторяю, задача для мужа не очень сложная. Но я думаю, что и не легкая. Делает он это со стесненным сердцем, чувствуя себя злодеем с большой дороги. Это В тех случаях, когда он знает, на что идет. Такой ценой он сохраняет благополучие семейной связи.
За свою измену он расплачивается здоровьем ни в чем неповинного и близкого к тому же ему человека. Надо признаться, цена несколько высокая. Он знает смысл этой цены и сам. Ведь только «залеченные» добросовестно заблуждаются. Но В конечном счете ущерб падает на тех и других — добросовестных и недобросовестных мужей — одинаково — в виде вечно болеющей жены.
Недавно мне попалась книжка о ритме в природе. Есть закономерность прилива и отлива во всем, что живет и дышит, а может быть, и в мертвой природе.
Если бы я был редактором этой книги, я потребовал бы внести еще и главу о ритме в нарушении седьмой заповеди. Ибо и здесь есть определенная периодичность.
Но если мужская верность в массовом, так сказать, масштабе трещит по швам — иногда слабее, иногда громче, — это, в конце концов, не особенно важно. Хуже то, что в прямой связи с этим пришлось бы дать еще одну главу: о ритме в размахе заражений.
В известные моменты преступная, хотя и вынужденная ложь поднимается шквалом и заливает берега любви. Как правило, инфекционные наводнения происходят к концу лета, когда с вокзалов тянутся телеги с чемоданами и дачной мебелью. К исходу курортного сезона волна всплескивает высоко.
После перерыва в месяц-два люди встречаются вновь. Две половинки одного целого стремятся восстановить связь, разорванную дачным поездом.
Но вот что происходит перед этим слиянием. В приемных амбулаторий появляется сезонный гость. Главная масса их — трипперитики. Это — мужья. Они легко распознаются среди остальных. У них чрезвычайно растерянный вид.
Мы убиваем их не диагнозом, а сроком. Их вопрос стереотипен, словно они все члены какого-то тайного сообщества:
— А скоро можно вылечиться?
Ответ гальванизирует их всех одинаково. Если речь идет о гонорее, раздается один и тот же возглас:
— Как, почти два месяца?! Неужели?
Затем у них вырывается:
— Но моя жена приезжает через неделю.
И дальше:
— Доктор, я прошу вас, вылечите меня поскорее.
Они искренно страдают. Несчастье они переживают, как удар молнии, грозящей бедствием. О, может быть, представляя себе предстоящую встречу с женами, они в самом деле, холодеют от ужаса. «И разодрашася в сердце своем», в древней терминологии, между страхом заразить и страхом признаться.
Но то, что должно случиться, случается. Поезд свистит, останавливаясь у родного города.
Разлука имеет свои права. Диапазон желаний так возрастает, что опасность истерики, оскорблений, разрыва, словом, всех последствий признания, удесятеряется. Иногда, действительно, нужно быть героем, чтобы не испугаться.
Бет еще одно веское соображение, чисто мужское. Нет почти мужчины, который не изменял бы даже любимой женщине. Правило, согласно которому мужчина полигамичен, как будто незыблемо. Но с изменой женщины никакой мужчина не согласен примириться. На этот случай у него имеются тысячи доводов, в силу которых он считает себя правым. Хорошо это или плохо, не будем спорить. Но это так.
Болезнь меняет все. Разоблаченная, она выбивает из рук мужчины его оружие. Она дает женщине право мести, подкрепляемое еще необходимостью довольно длительного воздержания при бурлящем избытке сил и желаний, вздыбленных летним отдыхом.
Мужчина это прекрасно знает. И в нем пробуждается вся сила ревности. Она тоже требует сохранения тайны.
Словом, по тем или другим причинам к осени кривая заражений летит вверх.
Жены в своей безупречности должны помнит, что в заманчивости летних радостей, в дарах Воздуха мягкого и ласкающего, в нежных переливах неба, в волнующих просторах далей, в красоте гор, моря, леса, садов зачастую таится зерно опасного сюрприза. Сюрприза, который может ждать их дома.
А. Ф. Коши в книге «На жизненном пути» рассказывает такой случай. Один мещанин обвинялся в нанесении своей возлюбленной тяжелой раны в нижнюю часть живота. Удар был нанесен, когда она хотела ему отдаться. Прокурор, бывший высокого мнения о своем красноречии, пожелал оттенить злостность этого преступления и сказал, обращаясь к присяжным: «Вы только представьте себе, господа, всю ужасную картину злодеяния подсудимого; он пришел к любящей его женщине, сделал ей заманчивое предложение и, когда она доверчиво открыла свои объятия, он — вместо обещанного — вонзил ей острый нож».
У Кони это приведено, как пример комичного злоупотребления ораторским искусством.
Мне же этот отрывок обычно приходить в голову осенью на вокзалах, когда дачные поезда подходят к дебаркадеру, когда из вагонов и к вагонам бросаются лавины встречающих и приезжающих, и перрон наполняется людьми, сжимающими друг друга в объятиях.
Здесь аналогия вполне уместна, с той только разницей, что мещанин сел на скамью подсудимых, а героям этих свиданий все большею частью сходит благополучно.
Впрочем, обстоятельства не всегда благосклонны к мужчине и не всегда дают ему эту прерогативу неразоблаченной лжи.
Бывают казусы довольно печальные. И после того, как были принесены жертвы молчания во имя сохранения семейного равновесия, эти жертвы оказываются иногда напрасными. Следует вынужденное, но безапелляционное раскрытие тайны.
Ко мне в амбулаторию однажды в августе пришел молодой человек с испуганным лицом. Печать сезонности была на каждом его движении и слове.
Я сказал ему:
— У вас триппер.
Десять минут продолжался ритуал восклицаний, вопросов, просьб. Потом он промолвил со вздохом отчаяния:
— Ах, как это ужасно, доктор! Ведь я всего полгода женат. Жена находится на черноморском побережье. Она в положении. И вскоре возвращается домой.
Я попробовал убедить его в необходимости быть откровенной с женой. Но он покачал головой;
— Нет, доктор, это невозможно. Вы не знаете ее и ее родителей. Это равносильно полному разрыву. Но я люблю ее. Я без нее жить не могу. И мой ребенок…
На фундаменте любви я построил аргументацию, по моему неотразимую.
Он начал поддаваться. Я удвоил усилия. В конце концов, он согласился со мной. Впрочем, это решение не придало ему никакой бодрости, и он продолжал грустно вздыхать.
Дней через десять он показал мне телеграмму:
«Выехала скорым 17 встречай целую крепко Лида».
На всякий случай я опять призвал его к храбрости. Он скачал:
— Нет, доктор, я не раздумал и не струшу. Я откроюсь. Будь, что будет! Я не хочу погубить ее.
Он держал меня в курсе всего: о приезде жени, о встрече, о своем настроении и о прочем.
Я был доволен его поведением. Я говорил ему, не скрывая своего удовлетворения;
— Вот видите, как хорошо, что вы послушались меня. Совесть, небось, вас не терзает. Молодец!
Он сконфузился, когда я одобрительно хлопал его по плечу.
Я выдал ему удостоверение о болезни. Там стояло: «Такой-то болен воспалением мочевого канала и нуждается в полном покое». «Воспаление мочевого канала» ничем не напоминает непросвещенному уму гонорею. Расчет был построен на том, что, не вызывая подозрений, эта бумажка будет сдерживать темперамент супруги больного.
Так оно и было. Все шло гладко. Курс лечения приближался к концу. Я объявил двухнедельный перерыв для наблюдений и контроля.
Отпуская молодого человека, я сказал:
— Ну вот, вы почти здоровы. Через две недели приходите, посмотрим, сделаем анализ. Я не сомневаюсь в вашем благополучии. Но помните, — добавил я многозначительно, — что вы еще на положении больного.
Через три дня он прибежал встревоженный и возмущенный:
— Доктор, вы меня не вылечили! Вот, смотрите!
То, что он показал, могло быть только неожиданным обострением не вылеченной гонореи или… свежей гонореей.
У меня возникли веские подозрения. Я решил уличить его во что бы то ни стало.
Я посадил его против себя за столом и сказал, свирепо глядя на него:
— Вы можете обманывать вашу жену, но не меня. Вы можете заражать других и заражаться сами до тех пор, пока вы за это не ответите. Вы можете не лечиться. Но говорить мне неправду вы не можете. Я вас лечил и вылечил. Вы снова заболели. Если вы взяли женщину с улицы, то это конечно ваше дело и от этого пострадали только вы. Если вы заболели от вашей жены, то это показывает, что вы не смогли или не хотели выполнить свое обещание. Это плохо для вашей жены и для вас. Впрочем, это ваше дело. Но я не понимаю, зачем вы пришли после всего этого сюда ко мне? Что вам от меня угодно?
Он заморгал глазами. Возмущение его испарилось, он сидел с побитым видом.
Конечно, он сразу выпалил всю правду.
Он заразил свою жену в день приезда, когда она со словами нежности, радости и нетерпения прижимала к нему свое молодое тело, соскучившееся по ласке.
В этом случае рельефно сказалось различие течения болезни у мужчины и у женщины. Этот пациент заразил жену в первый же день, но прошло свыше трех недель, и она ни на что не жаловалась, ни о чем не подозревала. И регулярная половая близость супругов продолжалась.
Пока он меня посещал, обратного заражения, от нее к нему, не могло быть, так как методом Жанэ я, сам того не зная, уничтожал свежие гонококки прежде, чем они успевали прочно осесть в канале и проникнуть в подслизистую ткань.
Прошло три дня. Очевидно, это были три дня после последней ночи любви. Всего три дня! И возвращенный ему объятиями жены гонококк, не смытый в этот промежуток времени лекарством, уже громко закричал о себе. Разве это не показательно? Она за три недели не заметила ничего, а он через три дня уже знал, что с ним произошло, испугался и прибежал ко мне.
— Что же вы хотите? — спросил я зло.
— Лечиться, — ответил он, глядя на меня исподлобья.
Мне хотелось оказать: «Идите лечиться куда угодно, а я вас знать не хочу, мерзавца этакого».
Но врачи не должны так говорить. Во-первых, это людей не переделает; во-вторых, наш долг помогать без отказа; в-третьих, я на самом деле далеко не так свиреп; и, в-четвертых, таких случаев слишком много.
Я поставил лишь одно условие — категорическое. Его жена должна явиться ко мне, чтобы я лично мог посвятить ее во всю историю.
— Для вас самого это лучше, — оказал я. — В противном случае вы никогда не разделаетесь с вашей болезнью. Вы будете поправляться, а жена будет снабжать вас свежими порциями микробов. Кроме того, раз она больна, ей тоже надо обратиться к врачу, ко мне или к другому. Она тоже человек. Надо вам подумать и о ней, и о ребенке.
Его губы зашевелились, точно он собирался заплакать.
— И что вы выгадали, — продолжал я. — Теперь вам опять придется два месяца лечиться, и жена больна, и совесть, небось, мучает. И все-таки вам не миновать скандала. А скандал вам предстоит двойной: и за вас, и за нее.
Он молчал, уткнувшись взглядом в пол. Лицо его выражало какое-то тупое напряжение. Может быть, он соображал, не лучше ли было ему, действительно, признаться жене в день встречи. Может быть, он думал…
Впрочем, знаете что сказал он мне своим глухим голосом?
— Зато теперь она не бросит меня. Это было бы хуже всего.
Обходящие и обойденные
Есть в психике человека странности, почти необъяснимые. Нужны, быть может, действительно, какие-то ультра-лучи, чтобы вскрыть логику этих причудливых вещей.
То, что составляет интимный мир человека, это конечно, явление большой значимости. Значительно или незначительно оно вообще, это не важно. Важно то, что оно дорого каждому. И нет ничего удивительного в том, что люди тщательно загораживаются, от постороннего взгляда. Но врачи, имеющие дело с половыми органами, совершенно незаметно проникают к самым истокам интимного. Иногда достаточно двух-трех фраз, чтобы ларчик души человеческой открылся. Но вот примешивается какая-нибудь мелочь: случайное половое общение, то, что можно сказать даже мало знакомому. И от врача упорно скрывается именно эта мелочь. Отчего? Кто знает?! Может быть, причиной тому неловкость, хотя какая же неловкость может быть после всего того, что мы знаем о больном. Боязнь врача? Но какие обязательства у больного перед нами? Стыд за нарушение предписания? Но ведь это ребяческое соображение.
Больной любит делать недоумевающее лицо. Есть анекдоты про попа и телегу, про баню, про ветер. У себя в кабинете мы часто слышим эти анекдоты. Когда надоедают словопрения, уже не возражаем. Хорошо, пусть ветром надуло, пусть баня виновата. «Да, это может быть у вас и от бани». И больной удовлетворен. Желание предпочесть баню женщине — безобидное и указывает только на чрезвычайно самомнение больного, преувеличивающего силу своей убедительности. Это не страшно. События уже произошли, и весь комплекс последствий у нас перед глазами. А те, которые еще предстоят, тоже учтены.
Утайка же фактов во время лечения может оказаться чреватой плохими последствиями, и симптом, которого не ждешь, проскакивает мимо или обнаруживается, когда драгоценное время уже потеряло. Если здесь даже нет умысла, если у больного просто недостаток памяти, это дела не меняет.
Был у меня пациент, служащий книжного магазина. Болезнь у него пустяковая, так наз. остроконечные кондиломы. Это были разрощения, нечто вроде бородавок, на самом кончике полового органа.
Ножницы в данном случае делают чудеса. Но мой пациент был очень нервный субъект и решительно отказывался от этого ничтожного оперативного вмешательства. Вид крови, даже одно лишь ощущение стали повергает его в обморок, — так уверял он. И, действительно, он вздрагивал и волновался, когда я говорил о ноже.
Я назначил ему систематические прижигания. Ежедневно, в течение двух недель, он посещал меня. Само собой, всякие утехи любви были ему запрещены.
Вдруг три дня он не появлялся. Потом пришел. Оказалось, заболела мать. А жила она за городом, у маленькой станции.
Было это весной. Может быть, в самом деле, слова запрета бессильны перед могучим веянием земли.
Я подумал об этом, когда он вошел ко мне какой-то шумный, возбужденный, с яркими глазами. Подумал и откровенно оказал ему. Он рассмеялся.
— Что вы, доктор! Я и не мечтаю теперь об этом.
Служил он в книжном магазине. Он часто приносил с собой книжные новинки и рассказывал мне о жизни книг, о книжных магазинах и о продавцах книг. У них ведь своя жизнь, свои навыки, особенное, окрашенное книгой мировоззрение. Свое деление человечества. О провинции иначе как с презрением он, например, и не говорил.
— Отправлял сегодня в провинцию всякий хлам, — говорил он с брезгливой миной. — Бегал целый день и скупал на Александровском рынке макулатуру: «Дневник горничной», «Секретные болезни», «Об онанизме». Провинция здорово это глотает!
— А Мопассан имеет спрос в провинции? — спрашивал я.
— Мопассана и здесь требуют, да мало его есть, почему-то его почти не выпускают. А я его люблю, — только много места на полке он занимает.
— А Бухарина?
— Ну, Бухарина и Ленина не успеваем заготовлять. Отбою нет. Их спрашивают главным образом рабочий и студент.
Вскоре он окончил процедуру лечения. На месте бородавок красовались гладкие пятна чуть порозовевшего молодого эпителия.
Через некоторое время он пришел опять. Это было дней через пятнадцать. Лицо у него было встревоженное. Я сразу заметил, что выражение его лица неподдельное, то-ест, что он ни в чем не чувствует себя виноватым.
Больные любят надевать на себя маску то беспечности, то удивления, то недоумения. Все это они конечно, испытывают, но в глубине их сознания копошится червь греха, который несет возмездие, уже инстинктивно ощущаемое. Как бы безгранична ни была вера в чистоту и физическую безупречность той женщины, которую они познали, все-таки женщина была. И этот факт каким-то крохотным уголком своего сомнения они чувствуют, этот факт они помнят.
В данном же случае, повторяю, лицо выражало неподдельное недоумение.
Пятен розовеющего эпителия не было. Вместо них, багрово-темные бугристые выпуклости, поднимались, как крохотные плоскогорья.
Что это такое? Картина, непохожая ни на что. Сифилис? Не было язв. Однако, странные образования были очень плотны, достигая плотности хряща. Железы в пахах мне тоже не понравились. Дело было подозрительное. И я пристал к нему с вопросом: «Что делал он в те три дня, когда ездил к матери? Тогда или около того времени не было ли у него «встречи роковой»?
— Нет и нет!
— Ну, хорошо.
Я написал записку в лабораторию: «прошу исследовать на бледную спирохету».
Бледная спирохета — это возбудитель сифилиса.
О сифилисе мне хочется сказать вам следующее…
Вы сделали уже гримасу отвращения? Сифилис внушает вам почти панический ужас? Но этого не должно быть. В такой степени, по крайней мере.
Вы подумали о провалах лица, носа? О язве зловонной, разлагающей, поедающей упругую ткань? О теле гниющем?
Сифилис имеет, конечно, свою голгофу, жестокую, мучительную, усеянную ранами и залитую гноем разложения.
Должно быть, именно о ней говорится еще в Псалмах Давида:
4. Нет отдыха моим костям. Днем я не знаю покоя, Вследствие моего греха. 6. Мои раны зловонны и дают истечение. Вследствие моего безумия. Хожу согнувшись и подавлен до крайности. Я весь день пребываю в печали. 8. Мои близкие, мои земляки останавливаются, Мои друзья держатся в стороне от меня.С изъеденным носом, со смрадным распадом тканей и с голосом, гнусящим, как проржавевший ставень на ветру, — так олицетворяет фантазия образ этого страдания.
Это бывает, конечно. Но этого может, и не быт. В 999 случаях из тысячи.
Нам надо хоть чуть-чуть любить свое тело и иногда подумать о нем, и нужно быть хоть немного грамотным в отношении его.
Когда люди станут внимательны к каждому прыщику в сомнительном случае — от этой картины страшного суда над живым человеком ничего не останется. Ваш панический ужас потому беспочвенен, что излечить сифилис при современных методах и средствах необычайно просто. Одно условие обязательно: вовремя распознать заболевание. Своевременный диагноз обезвреживает этот бич человечества. Поставить же диагноз совсем не трудно в большинстве случаев.
И тогда сифилис по сравнению с тем, что было раньше, становится недомоганием, которое мы умеем побеждать скоро и радикально.
Вот о чем надо кричать всем и каждому, на перекрестках, на площадях, в общественных местах.
Сифилис — это не позор. И не несчастье. Это — наша лень, наше верхоглядство, наше разгильдяйство и пренебрежение к самим себе. И, конечно, наша темнота. Не темнота вообще, а темнота в некоторых вопросах. И это относится не только к деревне, к непролазной глуши. Нет, и здесь в городе, — рядом с нами, люди проходит мимо того, что могло бы послужить для них якорем надежды.
Недавно немцами была опубликована статистика по общественной венерологии. Согласно данным профессора Левина, в Германии только 30 проц. сифилитиков лечатся аккуратно. Блашко утверждает, что две трети всех больных вообще не заканчивают лечения. Профессор Филин находит эту цифру оптимистической. И число не доведших до конца курса лечения он определяет в 89 проц.
Что это значит? О чем говорит эта арифметика? Неужели эти 89 проц., эти кандидаты в прогрессивные паралитики, в табетики, в инвалиды, люди, которым угрожает мания величия, которых подстерегает апоплексический удар, — неужели все они признали себя здоровыми и на этом успокоились? Нет, это не так, конечно.
Вряд ли врачи не сделали им соответствующих предостережений. Не значит ли это в таком случае, что больные перестали верит медицине? Тоже сомнительно. Ведь больше верить нечему. Мы знаем, что даже обреченные протягивают науке руки с криком: «спасите!»
Тогда в чем же дело? Не враги же самим себе эти люди?
Разгадка в сроке лечения. Эти курсы уколов и вливаний, следующие один за другим, кажутся бесконечными, потому что они измеряются годами. И вера в исцеление теряется, потому что болезнь кажется неиссякаемой.
А ведь колесо жизни продолжает вертеться без передышки, цепляя события и людей.
Известный сифилидолог Рикке выпустил книгу под названием; «Половые болезни и половые страдания». Это повесть об одном студенте.
Студент заболевает сифилисом и начинает лечиться. Первый курс проделывается тщательно. Следы болезни исчезают. Больному разрешается двухмесячный перерыв.
Дело происходит весной. Студент отдыхает в имении своих родителей и там встречает девушку. Весна порождает любовь. Любовь находит отклик. Но счастья не может быть. Между двумя пылающими сердцами стоят курсы ртути и сальварсана. Вместо того, чтобы торопить слияние тел и души, студенту приходится подыскивать объяснения оттяжке. Но как оправдать оттяжку в несколько лет? И начинаются поиски скорого исцеления.
Беззастенчивая реклама к его услугам. Какой-то сомнительный врачеватель или просто шарлатан обещает ему в два счета добиться того, что врачи достигают только долголетним лечением.
Юноша, подталкиваемый любовью и отчаянием, поддается соблазну… В итоге тяжелый рецидив. За рецидивом пистолетный выстрел. На празднике Огней Ивановой Ночи студент в разгаре веселья кончает с собой.
Допустим, что это не книга, а кусок жизни. Кто виноват в этой смерти? Медицина? Нет. Рекламный вымогатель? Нет.
Если эта смерть преступна, то убийца налицо. Это — невежество, венерическое невежество, если можно так выразиться.
Несомненно, самоубийца знал очень многое о сифилисе. По рассказам, может быть: может быть, из специальной литературы. Ведь эти темы всех привлекают. Он знал многое. Кроме одного. Кроме того, что всякое подозрение должно быть рассеяно компетентным лицом, а не течением событий. И к тому же вовремя.
Явись он вовремя к специалисту или просто к добросовестному врачу, ничего бы не случилось, не было бы никакой трагедии.
Ибо через несколько месяцев лечения, ни для кого незаметного, от «ужасного», «абсолютно неизлечимого» сифилиса ничего бы не осталось, кроме воспоминания, которое, пожалуй, никого ни к чему не обязывало бы.
Организм был бы простерилизован и окончательно избавлен от бледной спирохеты.
Конечно, так быстро исцеляются только при вмешательстве врача в самых ранних стадиях. В более поздних случаях уже требуются годы лечения и наблюдения, чтобы получить тот же успех.
В книге Рикке не сказано, отчего влюбленный неудачник упустил драгоценное время. Я же думаю, от отчаяния, от оцепенения под влиянием отчаяния.
Я вспоминаю случай из моей практики. Эти черные страницы навсегда останутся в моей памяти. От них веет бессмысленностью и кошмаром. Это яркий образец человеческой растерянности.
Когда, этот молодой служащий банка впервые явился ко мне, он ничем не выделялся. Это был обычный больной. Он держался спокойно и предупредительно, к чему его очевидно, приучило обращение с клиентами банка. Кроме того, он, вероятно, не подозревал, что ему угрожало.
Без малейшего волнения он показал мне крошечную язвочку. Я ощупал эту изъеденную складку кожи, пальцами и поморщился. Это был склероз, начальный, первый симптом сифилиса.
Когда я объявил ему об этом, лицо его в одно мгновение стало мертвенно-белым. Пока, я старался внушить ему правильный взгляд на это заболевание, он сидел, как изваяние, и только глаза его расширились и загорелись каким-то маниакальным блеском.
Я убеждал его не медлить. Я готов был дать ему какие угодно гарантии того, что болезнь будет уничтожена в самом корне и без остатка.
Случай этот представлялся классическим для абортивации. Даже железы еще не прощупывались.
Он разомкнул, наконец, губы.
— Я знаю, доктор, что такое сифилис. Вы, конечно, должны говорить мне слова утешения. Это ваш долг. Но я не наивный мальчик. От сифилиса не вылечиваются.
Я был возмущен. Я Опять стал доказывать ему всю вздорность такого убеждения, я хотел разбить этот предрассудок, это влияние слухов.
Он продолжал неподвижно смотреть перед собой.
В ответ на мои слова: «Верьте науке, а не болтовне», он рассказал мне историю своего дяди, который болен, долго лечился, был затем признан исцеленным и все-таки провел остаток дней своей жизни паралитиком, каким-то мычащим, глухим, полуслепым животным.
Я ему терпеливо объяснил разницу между старыми и новыми методами. Лечится он, в конце концов, согласился.
Я сделал ему укол. Мы условились, что на следующий день будет произведено ему вливание неосальварсана.
Больше я его не видел.
Дней через сорок в вечерней газете я нашел пять строчек, говоривших о нем. Это было ему последним напутствием. Он фигурировал в заметке под заглавием «Загадочное самоубийство в банке». «Причины неизвестны», — говорилось там.
Может быть, кто-нибудь из его близких знал тайну этого печального эпизода. Но я был, вероятно, единственный, кто понимал вопиющую бессмысленность этого самоуничтожения. Мне вспомнились его слова: «От сифилиса не вылечиваются». Мне хотелось крикнут ему туда, прямо в могилу:
— Неправда! Сифилис излечим!
Неизлечимы только сифилитики. Те, кто плохо лечатся, кто не хочет лечиться!
Вот что надо помнить тем, кто болен. И особенно тем, кто здоров.
За то, что мы умеем вбивать сифилису осиновый кол, мы должны низко поклониться Эрлиху. Эрлиху принадлежит честь и заслуга того, что мы можем воздействовать на сифилис абортивно, уничтожая болезненный процесс в корне. С помощью открытых им препаратов мы убиваем бледную спирохету, прежде чем она успевает глубоко внедриться в ткани и распространиться по всему организму.
Процедура борьбы крайне при этом несложна и отнимает минимум времени. По две минуты два раза в неделю и десять минут каждое воскресенье в течение двух месяцев. Или — для большего спокойствия — в течение еще двух месяцев после промежутка в четверть года. При каждом посещении — легкий взмах иглы, не оставляющий почти никаких следов и напоминаний.
Разве это не идеальный способ лечебного радикализма?
Когда-то сифилис назывался «неаполитанкой».
Солдаты Карла VIII присвоили изящную кличку болезни, которая пришла к ним вместе с прекрасными жительницами Неаполя при осаде города. Предполагают, что в Неаполь ее завезли, вместе со слитками золота, дикарями и черным деревом, моряки Колумба, вернувшиеся из только-что открытой из Америки.
Впрочем, кое-чем Европа обладала и до этого. Утверждая в 1347 г. устав девичьего монастыря в Авиньоне, королева Иоанна Первая приказала четвертым пунктом вписать в него следующее;
«Воля королевы такова, чтобы каждую субботу игуменья и назначенный городским советом врач-хирург производили осмотр каждой девицы, причем, если среди них окажется больная заразной болезнью, происшедшей от полового сношения, то такую девицу следует отделить от прочих девиц».
Правда, здесь речь идет, очевидно, о гонорее, но если такой надзор полагался за девицами монашеского образа жизни, то легко себе представить, насколько вообще были распространены половые болезни, в те времена. Может быть и сифилис в том числе.
Но принято думать, что до 1492 года — дата первого рейса Колумба — сифилис не был знаком Европе. Однако, вряд ли пальма первенства принадлежит Новому Свету. Еще мумия Псаметиха Второго прятала в шелка и драгоценные ткани свои голени, пораженные гуммами третичного периода. Египтолог Шаба, первым прочитавший Папирус Эберса, был, вероятно, немало смущен солидным числом таких подробностей, как влагалищные прыщи, язвы срамных губ, трещины влагалища, разрощения заднего прохода и прочими деталями симптоматологии люэса, которые он узнал, расшифровав загадочные клинья иероглифов.
Ветхий Завет тоже не чужд описаний Божьих наказаний самого недвусмысленного свойства.
Китайцы за 3000 лет до нашей эры применяли при лечении некоторых болезней ртуть. Не приходится сомневаться в смысле этих назначений. Очевидно, они тоже имели дело с сифилисом.
Можно пойти еще дальше. Руссо восхищался человечеством былых времен. Это была одна из его ошибок; она объясняется его слабым знакомством с археологией. В противном случае, в Салитре близ Пирея, например, он нашел бы кости обитателей становища каменного века, а эти кости сохранили утолщения сифилитического происхождения. Что осталось бы тогда от его историко-романтической экзальтации?
Недаром Ламетри, изучавший наших предков ископаемого периода, воскликнул в 1744 году в порыве отчаяния:
«Я склонен думать, что не только Иов, Давид, Соломон и Адам имели сифилис, но что последний существовал еще при хаосе до сотворения мира».
К счастью, по всем видимостям, наш век будет последним веком столь длительного исторического бытия этой злополучной болезни.
Не забудем, однако, что мы ждем возвращения из лаборатории служащего книжного магазина.
Явился он только через три недели. Он совсем не находил нужным опешить. Он подал мне ответ: «При бактериологическом исследовании выделений язвы бледная спирохета найдена».
Я посадил молодого человека на стул. Такая предосторожность никогда не бывает излишней. Ибо мужчина тоже иногда теряет самообладание.
Я сказал;
— Теперь, надеюсь, вы выложите всю правду. Впрочем, я в ней не нуждаюсь. Я сам знаю, что вы имели сношение с женщиной во время вашего лечения. Я прошу только сказать — когда. Это очень важно для той болезни, которая у вас обнаружена.
Он сидел смущенный и красный. Глаза его мигали. Он неопределенно улыбнулся я пробормотал;
— Нет, доктор, этого у меня не было.
— Не выдумывайте, — заявил я строго, ткнув пальцем в бумажку из лаборатории. — Она вас уличает. И я должен знать, когда это было, не слишком ли поздно оборвать болезнь.
Он пробормотал;
— А что у меня такое?
— То, что у вас есть, — ответил я, — из воздуха не берется. Это — сифилис.
Он застыл с открытым ртом, как рыба на берегу. Потом лицо его перекосилось.
— Этого не может быть… — бормотал он с видом отчаяния… — Не может быть. Я вам правду говорю… Сифилис? Но я не имел дела ни с кем…
Голос его прерывался всхлипываниями.
Я не стану передавать вам всех подробностей его растерянности, конечно, обычных. Но вот что интересно. Он клялся, что не знал в этот период женщин. Между тем, все признаки полового заражения были налицо.
Я готов был скорее допустить все, что хотите: потерю памяти, гипноз, даже насилие над ним под дурманом, но только не отсутствие женщины.
Вдруг его как-будто что-то озарило.
— Верочка! — воскликнул он. — Верочка, неужели она? Но ведь она еще девочка? Мы только шутили, мы ничего не делали!
Он был потрясен, когда я ему оказал, что именно Верочка дала ему бледную спирохету.
— Но помилуйте, доктор, ведь у нас с ней ничего не было. Ей пятнадцать лет. Она еще не женщина. Ей-ей, ничего не было.
То, что было, происходило, как он сказал, не по-настоящему, а так, вроде этого.
Собственно говоря, здесь можно было бы расстаться с молодым человеком из книжного магазина. Непоколебимая вера в Верочку повлекла за собой пропуск срока для абортивации. Его предстояло теперь лечить по общим правилам. Это значит — три года ртутных и неосальварсанных курсов, а затем многие годы контроля и опасений рецидивов и сюрпризов.
Но я расскажу вам и то, что было потом. Он привел ко мне Верочку, чтобы убедить меня в ее невинности и невиновности. Она впервые очутилась в кабинете врача. Совсем еще девочка, она вошла тихо, на цыпочках, как будто в класс на экзамен, и с выражением брезгливости присела на краешек стула. Лицо ее горело, а взгляд, любопытный и возбужденный, перебегал с предмета на предмет Вероятно, ей показалось, что она находится в кабинете Калигари.
Я попросил ее раздеться. Она стояла передо мной, стройная, гибкая, в ореоле распускающейся прелести своих пятнадцати лет.
На коже молочного оттенка явственно были видны нежные пятна, походившие на конфетти. Это было конфетти сифилиса.
Я не был удивлен. Я предполагал — по времени — именно вторую стадию.
Девочка легла на гинекологическое кресло.
Юноша из книжного магазина оказался действительно прав. Она была совершенно невинна. Я протер глава. Да, это было так. Она могла смело принести, мужу в жертву свою девственность. Тем не менее, железы на сгибах паха обличали ее. Заражение у нее было, как и у ее партнера, половое. В этом не было сомнения.
Я ей оказал, чем она больна. Представляла ли она себе истинное значение моих слов, не знаю. Но она знала, что то, что у нее есть, очень дурная вещь. Она нахмурилась, и выражение любопытства, которое все время не сходило с ее лица, перешло в выражение недовольства.
Впрочем, это скорее было удивление, чем огорчение. Она тоже не понимала, как это случилось с ней. Чтобы разобраться во всей картине, я выпытал, в свою очередь, и ее историю.
Эта девочка была полудевой и проделывала с увлечением то, чем у Прево занимались более взрослые герои. И основным заблуждением ее, конечно, была уверенность, что ничто не нарушается, если не переходить самой крайней черты.
Я не знал, кто являлся предшественником молодого человека из книжного магазина. Может быть, тот тоже отличался наивностью и был уверен в нетронутости своего и чужого целомудрия, получая и передавая спирохету. И так это тянулось от одного к другому. У меня в руках находились только отдельные звенья, а цепь могла быть бесконечной.
Оставим пока разговор о заражении. Здесь есть еще одна интересная сторона. Эта девочка свела проблему пола к сохранению физической девственности. И нужно сказать, что она одна из сотен и тысяч таких же.
Мне приходится сталкиваться с ними, и я позволю себе утверждать, что сейчас все стремятся к половой жизни, едва выйдя из детского состояния. Это не клевета. Я знаю, что меня в этом станут упрекать многие. Но это будут голоса либо лицемеров, либо тех, кто, как страус, прячет голову под крыло, поворачиваясь спиной к реальной жизни. Не забудем, что улица еще сильна в нашем быту.
Полудевы нашего времени иногда начинают свою карьеру значительно раньше, чем героини Прево. Может быть, и не раньше, — не будем об этом спорить. Если это явление не выходит за пределы допустимого, то нечего возмущаться. Если же это зло, то надо громко сказать об этом вожделении, разливающемся кое-где и по нашему быту. Раз это зло — значит надо бороться, а чтобы бороться, надо знать, что зло существует.
Мы видим, что половой вопрос снова встает в наши дни во весь рост и требует каких-либо определенных решений. Уже многие бьют тревогу, кричать об опасностях сексуальной невоздержанности.
Революция принесла с собой новые веяния. Лицемерие, ложь, неравенство, фальшь общественного мнения, все что раньше камнем лежало на молодых душах и отравляло их сознание, теперь вспоминается, как дурной сон. Но избавившись от многих предрассудков, мы пока не сумели еще в должной мере сделать одного: привить кому следует здоровый взгляд на половую жизнь, на любовь и на назначение женщины, как матери.
Совсем недавно одна видная общественная деятельница и писательница вызвала бурю тем, что в ответ на запросы молодежи пыталась раскрыть проблему пола, как эротический момент, созвучный коллективной полезности и чувству товарищества.
Другие связывают эту проблему с биологией. Разрешить эту задачу в свете естествознания значит подчинить одну сторону нашей жизни, и притом самую главную, законам биофизики и биохимии.
Кто из них нашел более верный путь, не знаю. Во всяком случае, независимо от всяких теоретических изысканий, наша жизнь, еще полная гнилого наследия, вносит свои коррективы, усугубляемые и дополняемые влияниями экономическими.
Страх материнства — это не только, говоря словами одного автора, правильное обозначение психологического состояния, в котором протекает часто жизнь современной семьи. Это относится ведь ко всякой паре, даже сходящейся на миг.
Верочка, может быт, тоже взяла курс на биологию, но по дороге сильно свернула в сторону, пытаясь по-своему отделить момент удовлетворения инстинкта от производительной функции.
А может быть, просто мамы испугалась.
Сколько предшественников имел молодой человек из книжного магазина, неизвестно. Но, каково бы ни было число их, Верочка расставалась с каждым из них без огорчений. Что могло беспокоить ее? Она знала, что дети рождаются только после сношений. От игры, от осторожных ласк ничего плохого не бывает. Сифилис? Но это обстоятельство совершенно не предвиделось. Здесь Верочка оказалась полной невеждой. Нужно добавить все же, что в то же время она могла бы, несмотря на свою девственность, стать еще и матерью.
Те, кто хотят играть в жмурки с природой, должны раньше заглянуть в медицинский словарь. Иначе они рискуют проиграть.
Во время империалистической войны я был разнообразным специалистом. Я лечил и брюшной тиф, и воспаление легких, и печен, и всякие другие внутренние неприятности. Потом я целый год был хирургом и делал военно-полевые операции, когда приказало начальство.
Однажды в Персии появились солдаты с поражением глаз и ушей. Может быть, эти серые шинели себе что-нибудь делали с целью уйти из под ярма войны и получить право снова ходить за плугом на родных полях.
В запасном госпитале нас было четыре врача. Один акушер, один зубной врач, два — еще не самоопределились. Я был из последних, и младший ординатор к тому же.
Когда солдаты с выделениями да ушей и полуслепые засыпали наши палаты, некому было их лечить. Стоял наш госпиталь в Шерифханэ, на берегу Урмийского озера.
Из врачей я был самый безответственный по чину. На меня взвалили быть окулистом и отиатром.
Потом я получил новое назначение: заведывать психиатрическим отрядом.
Бывало и хуже.
В одном пункте фронта Киги-Огнот, в Малой Азии, когда мы двигались в Мессопотамию, фельдшер вел работу на 400 кроватей. Он был один. Шесть врачей, и я в том числе, лежали в сыпняке, свалившись один за другим в течение недели.
Бывало и еще хуже.
После сыпного тифа я ехал в отпуск через горы Бингель-Дага. Темные верхушки хребтов и крутые перевалы не пугали меня. Я ехал верхом, а не в лазаретной линейке, желая выиграть в быстроте передвижения, потому что я тосковал по людям, по городам, по книгам, по человеческим голосам, по женскому смеху.
Я был очень слаб, утомлялся и искал привала. Через каждые 20–25 верст мне попадались стоянки госпиталей. Я подъезжал, слезал с лошади и искал коллег. Ко мне выходили санитары.
Не было врачей, не было фельдшеров. Сыпной тиф их слизал. Смену не успевали присылать. Солдаты сами себя лечили. То-есть умирали.
Это не выдумка. Я сам видел это.
Я был и дантистом.
Шквал мировой бойни кружил меня свыше трех лет по городам и пустыням. А бросил он меня в глухом углу на юге России.
В этом маленьком городке не было гинеколога. Тот, кто был там прежде, до меня, В свое время быль мобилизован машиной войны. Быть может, где-нибудь на севере или на западе, в таком же медвежьем месте он заведывал детской больницей.
Я же здесь стал гинекологом.
К счастью, этот каприз обстоятельств не грозил особенными неприятностями женскому населению городка. Я смыслил довольно неплохо в гинекологии.
Я работал в больнице и принимал дома тоже.
Однажды старушка-еврейка привела ко мне свою дочь гимназистку. Старушка охала и ахала. У девочки росла в животе опухоль.
Гимназисточка стояла предо мной, почти не волнуясь. Она спокойно рассматривала фотографии, висевшие на стене, и видно было, что опухоль в животе не доставляет ей печали. Она, не торопясь, подобрала юбки и легла в кресло.
То, что казалось опухолью, на самом деле было маткой, зачавшей плод. В месте перехода тела матки в шейку я нашел настозность, тестоватую полосу, легко вдавливаемую пальцами.
Гимназисточка была на четвертом месяце беременности. И в то же время она оставалась безупречной девственницей. Не было никаких следов недавно разыгравшихся событий.
Вот вам миф о непорочном зачатии.
Я стал расспрашивать ее. Было ли у нее «что-нибудь такое» с мужчиной? Нет, нет и нет! Она отрицала самым бесстыдным образом эти, как она выразилась, «глупости».
Тогда я открыл ей секрет ее опухоли. Она сразу впала в отчаяние. Подавляя рыдания, — мать сидела в приемной, — она призналась мне в неоднократной фальсификации полового акта с каким-то Мишей, ее будущим женихом. Не будущим мужем, а будущим женихом. Должно быть, это был предусмотрительный и бывалый малый!
Я выдержал энергичный натиск женских слез. Несмотря на свою молодость, она плакала мастерски. Заглушая голос, она пробовала сделать меня соучастником тайны своей «несчастной» любви.
— Если вы скажете маме, я погибла, я зарежусь, — твердила она, не слушая меня.
Мне было жаль ее.
Можно ли было считать ее виновной? Ведь она — жертва сексуальной неграмотности и чувственности плоти. Тело ее, молодое, рано расцветшее, жаждало любви и физических наслаждений. В этом нет ничего удивительного. Добродетельны ведь только холодные натуры. Но таких, собственно говоря, не бывает, разве только какая-либо патологическая деталь исказила половую конституцию женщины.
Целомудрие требует иногда подвижничества… А на это способна не каждая женщина. Для других есть только более или менее властные соображения, окрашенные в цвета моральных, этических, и психологических, экономических и прочих стимулов.
Если, однако, нельзя взять полноценную чашу наслаждений прямым путем, то некоторые пытаются сделать обход. Но для успеха обхода нужно точное знание местности, где разыгрываются события. Ибо и здесь, как и на войне, обходящий всегда рискует быть обойденным.
И на самом деле, обходящие бывают обойдены на каждом шагу по всем правилам стратегии, потому что они плохо изучили особенности той территории, на которой они дают бой природе.
Гимназисточка рыдала и твердила: «я зарежусь».
Конечно, это преувеличено, от страха перед гневом родительским не умирают, но я знал и видел, что сердце ее было охвачено холодом смертельной тоски. Теперь, после революции, таких коллизий становится все меньше и меньше. Но разве и у нас не бывает так, что ради сохранения тайны «прошлого» женщины идут на страшный риск, в котором ставкой является жизнь.
Я припоминаю такой случай из своей гинекологической практики.
Я работал в то время в столице Донской Вандеи, в Ростове-на-Дону, в качестве врача хирургической лечебницы.
Политические события перегоняли друг друга, устраивая фантастическую смену фильм. Оператор вертел ручку киноаппарата с бешеной скоростью.
Армии зарождались на глазах изумленных зрителей. Была сперва Донская армия, потом появилась Всевеликая, далее Добровольческая, наконец, Вооруженные Силы Юга России Полководцы и вожди выпрыгивали на арену истории, как куклы из-за кулис бродячего театра. В воздухе стоял стон от лозунгов и воззваний. Где-то на прерывистой линии гражданской войны две стихии шли одна на другую. У старухи-смерти дела было по горло. По городам и селам кружились люди; семьи рассыпались в разные стороны; мчались, поднявшись миром, целые селения; загромождались пути; плотно, в лепешки, набивались дома.
А между этими гигантскими стропилами разрушения и созидания страдания одолевали человека своим чередом.
В лечебницу поступила молодая женщина для того, чтобы подвергнуться очень сложной операции. Огромная фиброма села на матку; она росла, и можно было опасаться перехода ее в злокачественный рак. Созвали консилиум. Профессора судили и рядили. Удаление пораженного органа было признано неизбежным.
Я помню эту обитательницу палаты №7. У нее были тоскующие глаза, но лицо у нее было цветущее и вся она дышала здоровьем. Она торопила хирурга. Слово «рак» приводило ее в смятение.
Всего три месяца тому назад она стала чьей-то женой. Мать тряслась над ней. Отец сурово хмурил брови, но почти весь день проводил в лечебнице. Это была их единственная дочь. Тут же суетился и муж, высокий, бледный мужчина. У него были тонкие, презрительно сжатые губы.
Хирург, лучший гинеколог города, чего-то выжидал. У него были какие-то сомнения.
Этот опытнейший врач недовольно морщил свое умное мужицкое лицо с запавшими висками. Он как-то смешно вытягивал верхнюю губу и говорил с видом ищейки, подозрительно нюхающей воздух:
— Очень уж странная опухоль. И рост для нее слишком… того… быстрый. Пусть полежит еще. А завтра, главное дело, я посмотрю ее еще разок.
На следующий день сиделка приводила ее, одетую в белый халат, в перевязочную и знающие пальцы доктора ощупывали и мяли ее. Она без ропота позволяла делать с собой все.
Иногда, волнуясь и заглядывая в глаза врачу, она нетерпеливо говорила:
— Николай Андреевич, отчего вы оттягиваете? Как бы не опоздать. Потом хуже будет.
День операции, наконец, был назначен на пятницу.
В четверг, с часу дня, я вступил в суточное дежурство. Часов в семь — в лечебницу пришел Николай Андреевич.
Он разыскал меня в ординаторской. С озабоченным видом он взял меня дружески за локоть.
— Лев Семенович, — сказал он, — вот что, родной, я вас попрошу. Поговорите вы с этой… — он ткнул указательным пальцем в сторону палаты №7. — Может быть, вам удастся что-нибудь выведать, главное дело. Сомнение у меня есть насчет фибромы-то. Все думаю об этом. Правда, слева в углу есть очень подозрительная плотность. Но остальное как-то не похоже на фиброму. Не пойму я, главное дело, в чем тут соль. Да и на беременность оно тоже не очень смахивает. Мелких частей не удается совсем прощупать. Если бы выходило так, примерно, месяцев восемь, ни за что не стал бы резать. Ждал бы до девяти. А там видно было бы. Так постарайтесь, родной! — Он прищурил левый глаз и добавил: — А если не беременность, то рост уж слишком какой-то быстрый.
К вечеру в лечебнице стало тихо. Час посетителей прошел. Пробило девять часов.
В коридорах стояла тишина и мягкий полумрак. От белизны стен воздух как будто становился прозрачным.
Больная, подготовленная к завтрашней операции, находилась в палате. Когда я вошел, она лежала, вытянувшись под тонким одеялом, не скрывавшим очертаний ее фигуры.
Больные разговаривали со мной охотно; я умел быстро находить общий с ними язык. И с этой больной я разговорился легко и скоро. Она немного повеселела и начала улыбаться. Я расспрашивал ее о приготовлениях к завтрашнему дню и шутил по поводу слабительного и работы кишечника. Боится ли она операции?
— Да, это очень страшно. Но хорошо, что завтра все кончится. А сердце, — послушайте, доктор, — она прижала мою руку к своей груди, как оно бьется!
— Знаете, — сказал я, — Николай Андреевич не хотел вас оперировать и сейчас еще сомневается в необходимости этой операции. Вам предстоит одна из самых тяжелых операций.
С больными так разговаривать не полагается… Заставлять нервничать и пугаться — это далеко не целесообразный прием. Но в данном случае мое поведение оправдывала цель. Я тоже разделял общее мнение, что в этом несколько казуистическом случае сомнения могли бы быть рассеяны родами, поскольку были бы данные предполагать большую беременность. Трехмесячный официальный срок ее замужества для нас, врачей, особой убедительности не представлял.
Я должен был ей это объяснить. Расспросы Николая Андреевича, имевшие место в свое время, уже подготовили ее к этому разговору. Моя задача была подчеркнуть опасность и риск вмешательства хирургического ножа в это разногласие между беспристрастной наукой и трепещущей человеческой жизнью.
Я это и сделал. На мои намеки, очень прозрачные, она ответила отрицательным качанием головы.
Я убеждал ее признаться мне в каких-либо не совсем скромных любовных затеях. Когда я, наконец, прямо спросил ее, не было ли у нее подобия полового акта, она негодующе запротестовала.
— Я говорю с вами не из любопытства, — сказал я, — а в ваших же интересах. Вы рискуете. Операция тяжелая, и нам бы хотелось ваяться за нее без всяких сомнений.
Я ушел в уверенности, что она не лгала.
Когда я передал свои впечатления и разговор Николаю Андреевичу, он облегченно вздохнул:
— Ну, слава богу! Значит, это необходимо.
В залитой светом операционной, прозрачной, как хрусталь, все было бело. На столе распласталось тело больной. Я давал наркоз. Больная начала считать, затем сна возбужденно стала что-то выкрикивать. Постепенно дыхание стало прерываться хрипом и бульканием в горле. Через две минуты она заснула. Я поднял маску и оттянул пальцем веко. Чуть сузившийся зрачок бессмысленно досмотрел на меня. Я кивнул головой.
— Можно начинать.
Тогда одним взмахам руки оператор, длинный и белый, похожий в марлевой маске и колпаке на члена масонской ложи, глубоко вскрыл кожу на черном от йода животе оперируемой. Блеснул окровавленный скальпель. Жир, выворачивая края раны, полез комьями наружу. Кохера цокнули, повиснув на концах сосудов. Сестра за столиком протягивала на корнцанге лонгеты марли.
Операция началась.
Вскрывались ткани слой за слоем. Кровь липла к пальцам, и на белоснежной поверхности простынь вырисовывались красные узоры. Зажимы образовали металлическую изгородь в два ряда.
Минуты бежали.
Осторожно ухватив в люэра брюшину, хирург медленно разрезал синевато-розовую перепонку. Из темной глубины брюха поднялась, влажно блестя при свете электрического рефлектора, опухоль, розовая, огромная, как чудовищный плод. Могучая сеть сосудов широко и петлисто бежала по ней.
Это была матка.
Несколькими движениями оператор выкатил ее из глубины чрева. Это была матка по крайней мере с шестимесячным плодом. Опухоли никакой не было. Была совершенно нормальная беременность.
Матка была многоводна. Вот почему нельзя было прощупать мелких частей. Вот почему могли ошибиться врачи и профессора, введенные в заблуждение ложными показаниями больной. Был только один человек, который не мог ошибиться, который мог своевременно поставить точный диагноз. Но этот человек лгал. Непонятно. Бесцельно.
Больная хрипела. Я взял иглу с ниткой, прошил ей язык и вытянул его изо рта. Дыхание успокоилось.
Матку бережно уложили на месте. Через 15 минут на кожу наложили мишелевские кнопки и туго забинтовали живот.
За дверью жались родители. Муж ходил по коридору, высокий и прямой, покусывая усы над злой линией губ.
Зачем она лгала? Теперь нам гадать нечего. Она сама расскажет нам всю правду теперь, после операции, после того, как тайны нет уже ни для кого: ни для мужа, ни для родителей.
Она не была ни биологом, ни врачом. А здравый смысл ее был умерщвлен страхом перед родителями и мужем, которые больше всего дорожили безупречностью семейного реноме. А может быть, мнением своей улицы.
Она думала, что матку вырежут и выбросят, как больной кусок мяса, не разбираясь в ее содержимом. Она полагала, что для этого достаточно того, что она убедила врачей в необходимости удалить опухоль.
Это была психика амебы или зверя, которого настигают охотники и который от страха бросается в капкан, не замечая опасности. Этот страх был сильнее страха смерти. Перед ним спасовал даже инстинкт самосохранения.
А если так бывает, то с этим фактом надо очень и очень считаться.
Теперь закончу о гимназисточке.
Я ей помог. Матери я сказал, что необходимо продолжить исследование. А потерпевшей велел прийти с сестрой. Она сама подала мне эту мысль.
У гимназистки в верхушках легких я нашел продолженный выдох и другие явления начального туберкулеза. Значит, не греша особенно против совести, можно было сделать перерыв беременности. Конечно, девственность ее была принесена в жертву при первом же введении зеркала.
Она пробыла в больнице 6 дней. Мать ежедневно навещала дочь. «Ей делают впрыскивания, чтобы вызвать рассасывание опухоли. И опухоль, действительно, рассосалась», — так сказала матери старшая сестра. Старушка охала и ахала, но радовалась, что все идет хорошо, и что доктор хороший…
И принесла мне в субботу сдобный пирог.
Это было в 1919 году.
Верочка тоже лечилась у меня. При каждом удобном случае я беседовал с ней по поводу воззрений на половую проблему. Она была на редкость аккуратной больной; все предписания выполнялись ею в точности. Не раз повторяла она мне, что хочет во что бы то ни стало быть здоровой. Как только это время наступит, она выйдет замуж, будет иметь детей и семью. И тон ее был без паники, без истерики, какой-то зрелый, настойчивый, как после долгого размышления.
Нужно ли вообще рассказывать о таких вещах, о каких я рассказал здесь? Эта тема ведь скользкая и может вызвать нездоровую игру воображения, — зачем ее касаться?
Я думаю, что нужно. Если мы кричим о внеполовом заражении, как-бы незначительны ни были цифры, то о неполной или неправильной половой жизни, как источнике инфекции, необходимо заявить во всеуслышание. Ибо этот источник существует, поддерживаемый убеждением, довольно распространенным, что как забеременеть, так и заболеть невозможно от неполной близости. И не только некоторые посетители амбулаторий, но иногда и обследуемые по другим поводам признавались мне, что в этом способе они видели как раз защиту от сюрпризов венеризма.
И в сомнительных свиданиях они к ней прибегали. Этот довод усыплял осторожность, делая иногда воздержанность как бы излишнею.
А в результате — заражение.
Не мешает подчеркнуть и другую деталь. Она относится не только к Верочкам, но и к организованной и сознательной молодежи. Деталь эта очень существенна. Наше подрастающее поколение еще в незрелости отдается иногда легко сексуальным порывам и поискам. Если об этом во время заговорить, то деталь не превратится в явление широкого размаха.
Быть может, это клевета на молодежь? Нет, нисколько. Все оказанное показывает лишь, что пятна имеются не только на солнце.
Недаром Е. Ярославскому пришлось заняться суровой отповедью в докладе «О партийной этике» раннему углублению нашего юношества в половую жизнь. Ведь аборты в детском возрасте, имевшие место в комсомольской среде, открывают другое лицо той же самой медали. И совершенно прав докладчик, что «Было бы лицемерием с нашей стороны замазывать такие факты, а не говорить о них». Нет, говорить нужно.
И как можно громче!
Около быта
Окно кабинета амбулатории, где я работал, выходит на задний дворик. На этом кусочке сырой земли весной растут травы и какие-то беленькие и желтенькие цветочки… Длинный деревянный забор, саженях в десяти от окна, замыкает это подобие луга. Ближе ко мне возвышается одинокое дерево.
К концу приема, — когда я устаю, в промежутке между двумя пациентами я поднимаю глаза и вижу на шершавом узоре забора пятно. Оно светлеет и все ширящейся полосой перерезает покоробившееся дерево. Это — последний луч вечера. Он дрожит перед моим окном прежде чем исчезнуть в сумраке, спускающемся над городом. Где-то очень высоко загорается темно-синее небо.
В это короткое мгновенье я как бы вдыхаю всю радость весны. Жизнь кажется мне легкой и трепетной и словно обещает мне счастье, которое притаилось где-то вот здесь и ждет меня. Стены комнаты куда-то уплывают. Я смотрю, как зачарованный, в невидимый потемневший, синеющий простор.
Но дверь скрипит. Все исчезает. Передо мной снова стол. На нем лежат белые карточки. От двери по направлению ко мне кто-то движется. Это больной. Привычным движением я беру в руку перо и готовлюсь опрашивать.
Так было и в этот апрельский вечер. Кто-то стукнул дверью. Я оторвался от окна и крикнул:
— Войдите!
Это был рабочий. У него было приятное, славянского типа лицо. Глаза смотрели смущенно и виновато. Он сказал, топчась на месте;
— Посмотрите, гражданин доктор, что это за история приключилась со мной? Неужто беда пришла?
Предо мной лежал его регистрационный листок. В графе о возрасте стояло: 28 лет; профессия — токарь; место службы — завод «Красный Строитель»; заболевание — первичное. В графе о семейном положении значилось «женат».
Он жаловался на гонорею. И действительно, это была она.
Я начал излагать обычные правила поведения при этой болезни, что можно есть и пить, как следить за собой.
Он слушал и все время качал головой.
— Как же так, — повторял он время от времени. — Чего боялся, то и пришло. А как боялся! Берегся. Да вот проклятое вино подшибло.
Он с горестным видом развел руками.
На дворе стемнело. Через окно видно было, как где-то далеко загорались в верхних этажах огоньки. В ожидальне нетерпеливо кашляли больные.
— Ну, хорошо, — сказал я. — А как же жена? Вы знаете, что вы теперь опасны и заразительны? Это, во-первых. А во-вторых, вам временно нельзя жить с женщинами вообще. Иначе ваша болезнь ухудшится и надолго затянется. Как же вы поступите с женой? Придется сказать ей правду.
Он махнул рукой.
— Жена, слава Богу, уезжает в деревню к родным. Она в положении уже четвертый месяц пошел. Говорить я ей не стану, зачем ее ворошить. Пускай едет спокойно. С женой-то благополучно. А вот с этим делом — беда. Ну и напасть же, — принялся он снова сокрушаться. — Эх, водка, что делает она с нашим братом! Разве в трезвости пойдешь на такие глупости?
Чем больше его мысль вращалась вокруг сознания бессмысленности заболевания, тем удрученнее становилось его лицо. Ему все хотелось говорить, высказаться…
Тогда я спросил:
— Как же это произошло? Что же вы, товарищ, маленький ребенок, что ли? Не знаете, на что идете?
Он оживился.
— Правда, что маленький ребенок. — словно обрадовавшись, сказал он. — Да и товарищи виноваты: напоили. В компанию, знаете, зовут. Токарь я сам. В субботу после получки пошли мы в пивную. Взяли полдюжинки. Потом самогону поставили. Барышни тут около нас застрекотали. Что и как, — ничего не помню. Так, словно свинья, и домой приплелся. Да и как пришел, не помню. На утро проснулся, — голова, как кочан — крутит и гудит.
Таким образом, это была обыкновенная история. Алкоголь подает руку проституции и, как две родные сестры, вызывают третью — венерическую болезнь. Случай банальный.
Больной получил рецепт и ушел. Затем он продолжал аккуратно весь курс лечения. Вначале он посещал амбулаторию ежедневно, затем — через день Потом промежутки удлинились.
Процедуры и посещения подходили к концу. И я отпустил его на три недели для контроля.
Однажды, когда я крикнул: «Следующий!» в мой кабинет вошла знакомая фигура. Это был токарь. Мне бросилось в глаза его лицо. Добродушное и сильное, оно имело теперь донельзя расстроенный вид. На руке он держал узел, как будто прижимал к себе груду платья.
Со времени нашей последней встречи не прошло и десяти дней.
Я не удивился, увидав его раньше срока. Триппер подносит иногда сюрпризы, проявляясь внезапно тогда, когда мы, врачи, считаем дело почти ликвидированным. Эта болезнь может научить терпению. Она издевается порой над знаниями, над трудом, над опытом, над временем. Она смеется над выдержкой врача, и подвергает испытанию волю больного. Когда мы уже торжествуем победу, она неожиданно показала свой след.
— Ну-с, что случилось? — спросил я, доставая его листок.
Из узла послышался тоненький писк. Этот стон, такой жалкий, слабый, зарождался где-то там в глубине, и прозвучал невыразимо беспомощно. Я встал и подошел к вошедшему. Это плакал ребенок.
— Беда как есть беда, гражданин доктор, — сказал рабочий, и нижняя губа его прыгала, непослушная. Он положил свою ношу на кожаный диван и неловко начал разворачивать груду тряпок, завернутых в одеяльце. Толстые, плохо сгибавшиеся пальцы были неподатливы.
— Вернулась моя баба из деревни, — продолжал он. — совсем отяжелевши. Я ее не трогал, сохрани Бог. Тут у нее как раз и началась эта история. Пришло, значит, время рожать. Отправил я ее в заводскую больницу. Третьего дня она вышла оттуда. Прихожу я за ней. Выходит она с дитем. Известно, не дойти бабе до дому, слаба стала. Сели мы на извозчика, а она и говорит; «Вася, что это с нашим ребеночком приключилось? Доктор сказывает, что болезнь у него нехорошая на глаза перекинулась. Мы, говорит, хоть меры принимали, она свое взяла, болезнь-то. Надо сходить с ним на лечение. Свету он может лишиться. Вот-то наказал Господь!» Как она сказала мне это, так мне ровно в голову шибануло. Взяло меня сомнение, не я ли виноват. Думаю, а все не верю. Жене ходить еще трудно. Вот я и принес вам, гражданин доктор, дите. Посмотрите!
Он развернул, наконец, пеленки. Розовое тельце, голое и сморщенное, с тысячей складок, забарахталось ножками и ручками. Отворачиваясь от света, ребенок продолжал плакать. Струйка слюны пузырилась на его губах, пухлых и прелестных. Глаза были плотно закрыты. Полоска гноя засохла на краях век, и волоски ресниц торчали кустиками из-под этих желтоватых комьев, как торчит трава на краю дороги, среди кочьев, высушенных солнцем после дождя.
Я взял ватку, смоченную сулемой. Слипшиеся веки легко поддались, Я увидел склеру, по которой тянулись прожилки гноя.
Ребенок забился и, захлебываясь, закричал на всю комнату.
Это была бленоррея, заражение глаз трипперным ядом.
— Гражданин доктор, — сказал робко токарь, — неужели она?
Я вспомнил его уверения в начале болезни, когда он отсылал жену в деревню. Какой смысл был в его обмане? Зачем он скрыл от меня сближение, которое, как я объяснял ему долго и внятно, не могло пройти безнаказанно? У меня не было тогда и тени сомнения. Он был так искренен в своей растерянности, в своей подавленности, раскаяние было так неподдельно.
Я сухо сказал:
— Виноваты вы. Вы заразили жену, а она заразила ребенка.
Он с видом лунатика укутывал трясшееся тельце ребенка. Затем он покачал своей большой русой головой.
— Вот, убей меня Бог, — сказал он, вздыхая, — в толк не возьму, как это вышло, ни пальцем не трогал в ту пору бабы своей, — хорошо это помню. Рази же я стал бы лжу говорить? С какой же это стати. Просто темное это дело. Вот натворил!.. Эх! Что же, теперь дите пропадать должно, гражданин доктор? Ослепнет, что ли?
Он заглянул мне в глаза, как бы стараясь прочесть в них истину.
Мне стало жаль его. Я поверил его темноте и, сколько мог, успокоил его. Я заговорил с ним более мягким тоном.
Вопросы, в сущности, были излишни. В самом деле, факты подтверждали: это было. Какое же значение могли иметь слова там, где налицо неоспоримость.
Он ушел, унося с собой узел, в котором, уже неслышно билась крохотная жизнь. На лице отца так и застыло выражение недоумения.
Через несколько дней, когда прошли назначенные три недели, он явился ко, мне для контроля. И тогда все объяснилось. Когда в последний раз он вернулся от меня домой, он признался жене. И она напомнила ему, что в ту разгульную и хмельную ночь он овладел его. Он ввалился тогда, еле держась на ногах, озверев от спирта, не помня себя в темной волне, мутившей голову. Она не сопротивлялась, чтобы охранить то, что она носила во чреве.
Как видите, и здесь не было загадки. Некоторую путаницу внес лишь алкоголь. Но обычно бывает как раз наоборот: всякое зло алкоголь делает понятным.
Таких случаев, где герой — алкоголь, очень много. И все это знают.
Алкоголизм не выдумка. Это — социальная категория. Он занимает теперь объем социального бедствия. В нашей области он тоже влечет за собой крупные неприятности. Достаточно сказать, что не менее одной трети холостых мужчин заражается в пьяном виде. В жизни женатых спирт играет еще более значительную роль.
В сущности, каждый врач должен быть социологом. Профессия невольно толкает его мысль к первоначальным истокам всякого общественного зла. Я говорю, конечно, не о тех жертвах, кто пьет от избытка жизненных благ или от урчания желудка. И не о тех, кого обездолила любовь или неудача. Это — объекты скорее беллетристики или сатиры.
Вас же занимает масса, человеческая толща. Углубляясь сюда, мы прощупываем здесь костяк явлений.
Когда я занимался проблемой алкоголизма, меня очень поразил один факт. Хотя в нем нет ничего необычного. Я привык думать, что больше пьет тот, кто имеет больше денег. Оказывается, что это не так. Пьет больше тот, кто имеет меньше.
Немцы, которые любят цифры, доказали это простым подсчетом. Они установили, что в округе Траушенау, напр., где зарплата ниже, чем в округе Рейхельберг, годичное потребление алкоголя на душу в два раза больше.
Анкета среди ленинградских рабочих в свое время тоже ярко демонстрировала эту обратно-пропорциональную зависимость. Те, кто получают в месяц более 80 руб., тратят на спиртные напитки только 8 проц. своего жалованья. При 40 рублях жалованья в кабаке оставляется уже до 20 проц. Те же, кто зарабатывают всего 16 рублей, пропивают 33 проц. — «На свои мизерные средства, — поясняет исследователь, — они не смогли себе создать сколько-нибудь приемлемой жизненной обстановки, и поэтому у них сильнее всего проявлялось стремление к одурманиванию себя водкой или вином».
Это конечно, не единственная причина. Если идти по профессиональному признаку, то получится такая шкала: углекопы и грузчики поражены алкоголизмом почти на 100 процентов, землекопы — на 97 проц., хлебопеки — на 90 проц. Торговые служащие почти трезвенники. Они дают только 53 проц. любителей зеленого змия. А портные — сущие ангелы. Среди них алкоголиков только 44 проц.
Эта статистика родом из Германии. Но она полезна и для нас.
Можно привести еще одну оправку. Здесь уже впутываются вопросы жилища и комфорта. С наглядностью весьма убедительной, она устанавливает зависимость между домом и кабаком, опять-таки обратно-пропорциональную. Чем хуже дома, тем лучше в кабаке, как бы этот кабак ни назывался: пивной, рестораном, баром.
Вот бесстрастный, сухой, но очень поучительный язык цифр.
Обследование в Ленинграде показало, что среди рабочих, занимающих углы, имеется 84 проц. алкоголиков. Обладание комнатой понижает этот процент до 77. Среди рабочих, располагающих отдельной квартирой, имеется всего только 34 проц. алкоголиков.
Таким образом, выводы напрашиваются сами собой. Конечно, я отметил только наиболее крупные из причин. Но и их вполне достаточно для того, чтобы сказать: когда мы ударим по нашей бедности, по скверным условиям труда, по продолжительности рабочего дня, по личному неблагоустройству, мы достигаем огромных результатов в деле борьбы с алкоголизмом и его последствиями.
Когда ребенок заражается еще в родовых путях гонореей, то обычно поражение захватывает конъюнктиву глаза. Рождаются и сифилитики. Все это, и бленоррея и наследственный люес, является на свет как бы нераздельно с их носителями. Младенчество же, пришедшее в мир с румянцем здоровья, казалось бы, не должно знать приобретенных венерических страданий. Золотому детству полагается радость, и в памяти оно должно остаться самым трогательным и чистым впечатлением.
Но наша жизнь, наша иногда неразумная, иногда неосмысленная, Всегда трудная жизнь вносит в летопись воспоминаний свои поправки.
Пришла однажды в амбулаторию испуганная молодая женщина. Походила она на человека, который очутился вдруг в лесу или другом страшном месте и отовсюду на него глядят чудовища. И на меня она смотрела так, точно сейчас я наброшусь на нее и причиню ей невыразимую муку. Ее губы дрожали и на щеках вспыхивали пятна, Погасали и снова вспыхивали.
Прыгающими руками эта женщина торопилась выпростать из одеяльцев и простынь ребенка. Наконец, розовое тельце освободилось. Крошечные ручки стали смешно ловить ножку. А по коже живота пышно разбросалась сыпь. На оттопыренной верхней губке, поднятой пухло к носику, сидело склеротическое пятно.
— Всем мазала, и йодом, и борной, — сказала взволнованно и тревожно женщина, — а не проходит ссадина. Теперь сыпь появилась. Как бы дурного чего не вышло. Я и боюсь, доктор, не разогнала ли я болезнь по телу.
Она говорила невпопад скачущими непослушно губами, и я словно видел, как трепыхается и замирает сердце, охваченное ужасом невозможного предположения. Тогда я начал подыскивать слова, чтобы избегнут как-нибудь самого точного слова.
Когда она поняла, что у ребенка сифилис, лицо ее приняло то именно выражение, которое показало, что чудовище, которого она ждала, наконец, прыгнуло на нее. Губы ее уже не шевелились, а лицо серело и застыло. На диванчике около нее, забавляясь краем одеяльца, маленький человечек произносил что-то на Своем никому не понятном языке, должно быть, что-то очень смешное, чему он сам беспрестанно морщился в улыбке, разбегавшейся по бесчисленным ямочкам.
Потом она плакала, а я ее успокаивал.
— Мы его вылечим, и он будет здоров, ваш бутуз. У детей лечение очень легко проходит, — говорил я ей, — это самые аккуратные пациенты. Следите за собой, чтобы и вы не заразились, и никто другой. А ваш мальчуган поправится, я надеюсь, без всяких последствий.
И так как при этом горе, которое не скрывалось и которое было так огромно, всякие слова казались фальшивыми, я только ласково погладил ее плечо, вздрагивавшее от рыданий.
— Мы его вылечим, — говорил я, — вы сами это увидите. Он ни чем не будет отличаться от ваших других детей, которые у вас будут.
Тогда она опустилась рядом с крошечным человечком, продолжавшим себе рассказывать что-то очень смешное, и простонала сквозь неуемные слезы:
— О, у меня больше не будет детей. Это мой единственный.
Оказалось, что она перенесла несколько месяцев тому назад операцию по поводу внематочной беременности, во время которой перевязкой труб пришлось ее сделать стерильной.
Постепенно слезы иссякли, она овладела собой. Я расспрашивал ее, чтобы узнать источник заражения. Молодая женщина рассказала мне, что она служит машинисткой, муж — счетовод, и, когда они уходят на работу, ребенок остается с няней. Больше к нему никто не прикасается.
— А вашу няню вы показывали в консультации или врачу? — спросил я.
Она отрицательно покачала головой, низко опущенной и спрятанной в мокрый от слез платок.
— Мне ее рекомендовали знакомые, как приехавшую недавно из деревни. Я даже не подумала, не могла предположить, если вы ее подозреваете, — глухо произнесла она.
На другой день эта женщина привела белокурую двадцатилетнюю эстонку. Даже беглого осмотра было достаточно, чтобы обнаружить заразительность няни. Когда она раскрыла широко рот, то и на десне и на слизистой щеки показались желтовато-тусклые язвочки папул. Все стало ясным. Этим ртом няня целовала дитя.
И эстонка и ребенок лечились у меня. Сама же мать и ее муж и бабушка, жившая с ними, подверглись длительной обсервации. К счастью, больше никто не заболел.
В продолжение трех лет, в течение того времени, что я наблюдаю мать и ребенка, я не видел улыбки у этой женщины, пришедшей такой молодой и постаревшей буквально на моих глазах. Несмотря на все мои беседы, на обнадеживающий тон моих слов, на прекрасное состояние своего мальчугана, она ходит как бы согбенная под тяжестью удара. И чувствуется, что ни днем, ни ночью она не может вынести себе прощенья и казнится мыслью, что своевременно получасовая консультация в Пункте Охраны Детства и Материнства могла бы отвести от ее существования столько страданий и горя.
Единичен ли этот случай материнского упущения? Исключительно ли оно? Затейливое ли здесь стечение обстоятельств?
К сожалению, нет. Можно было бы написать — и писать — толстые книги о легкомысленности или невежестве, роковых в семье. И на каждом шагу натыкаешься на эти образцы непонимания, неосмотрительности, темноты человеческой, А расплачиваться приходится за эти наши грехи, личные или социальные, вольные или невольные, самым драгоценным — нашим детским фондом.
Как-то во время приема я услышал по ту сторону двери шум голосов, потом поднялся спор, сейчас же стихший, а затем сразу заплакали вразнобой два детских голоса. Потом умолкли и они. И в кабинет спустя минуту вошла женщина с уставшим и сердитым лицом.
— Ну и народ, — недовольно сказала она на ходу. — Очередь, очередь. Видят же, что с ребятами, должны пропустить, а не требовать очередь.
На руках она держала девочку двухлетку, а за подол цеплялись, толкаясь друг о друга, мальчик и девочка с измазанными от непросохших еще слез щеками. Оторвавшись от них, мать пересадила ребенка с руки на диван.
— Заболело дите, — сказала она глуховатым и резким в то же время голосом, раздевая малютку. — Материя у нее идет, гражданин доктор.
Мальчик и девочка подошли и опять уцепились за юбку матери.
— Да стойте вы, окаянные, около стенки. — прикрикнула она на них. — Дома от вас спокою нет, и здесь вяжетесь. Вот посмотрите, доктор, — сказала она мне, — какая болезнь у ребенка.
После осмотра я сказал этой женщине, что крошечная девочка заражена триппером. Для себя же я приготовил из выделений мазки; в сущности, это была только формальность, так как налицо был типичный гонококковый гной со всеми клиническими спутниками такой гонореи.
— Ах, Боже мой, Боже, — закачала головой женщина и горько запричитала. — Бедовушка ты, бедовушка, жизнь ты моя окаянная, черным глазом загубленная, что с дитем моим причинилося…
Мальчик и девочка тотчас же придвинулись, ухватились за подол и тоже захныкали. Я успокоил мать, она живо уняла детей.
— Черный глаз не виноват, — сказал я, обмывая больную девочку, без сопротивления позволявшую манипулировать над своим тельцем. — Сколько комнат у вас в квартире?
Женщина послушно ответила:
— Две и кухня.
Я осторожно вытер ваткой ребенка и влил несколько капель лекарства в пораженное место. Мальчик и девочка находились за ширмой и о чем-то там шептались. Я спросил мать, не кладет ли она с собой в постель девочку.
— Гражданин доктор, разве я барыня какая-нибудь, — сказала она ворчливо, — нету у меня прислуги. День деньской маешься в работе по дому, присесть некогда, и готовить надо, и стирать, и топить, и убирать, и помыть, и подать. Муж на фабрике, а я все делаю с раннего утра до поздней зари. Только приляжешь ночью, дите кричит, вот и приходится брать к себе. Только какая-ж в том беда?
Я с жалостью смотрел на эту женщину, одну из тысяч, миллионов, несущих на себе тяготы, нераскрепощенной семьи и скудного тяжелого быта, и уже голос ее крикливо тусклый, не казался неприятным; на лицо, в морщинах забот, как бы ложился отблеск повседневного, незаметного подвижничества. А ведь я должен причинить ей еще больше горя. Потому что я видел причину заражения малютки в болезни матери, которая сама не чувствует этой болезни, не сознает ее, и которая передала ее девочке, очевидно, во время совместного спанья.
Такую связь можно проследить очень часто. В большинстве случаев именно эти детали семейной скученности и неустройства и наполняют инфицированными малолетними пациентами венерические отделения для детей. Никогда женщина не должна класть с собой на ночь ребенка, хотя бы вся семья ютилась в одной комнате. Особенно строго это должны выполнять те матери, которые страдают белями. Эту привычку некоторых надо искоренить. Здоровье не одной сотни и тысячи детей сохранит это требование, проведенное настойчиво в сознание женщин.
Я оказал посетительнице, стоявшей передо мной:
— Вас нужно осмотреть, нет ли у вас самой какой-нибудь болезни. И не заболела ли от вас девочка в то время, когда спала вместе с вами.
Она посмотрела на меня с изумлением, точно услышав невероятную нелепость. Потом, как будто решив уже ничему не удивляться, произнесла: — Воля ваша, гражданин доктор, как вы скажете. А только никаких таких болезней у меня и сроду не бывало. Тише вы, бесы, — крикнула она в сторону ширмы, где мальчик и девочка подняли вдруг шум.
Я ее исследовал. И у нее не оказалось никаких следов заболевания. Мочеполовая область была лишена всех тех проявлений, за счет которых могла бы путем соприкосновений произойти передача болезни. Самое главное — не было выделений. В первый момент все это показалось мне неожиданным и непонятным. Но загадки здесь не могло быть, ничего чудесного или таинственного. Я подумал и сказал:
— Скажите, пожалуйста, когда вы уходите из дому, на базар, в лавочку, вы детей с собой берете, как сегодня, например? Оставляете ли вы их с кем-нибудь?
Она взяла крошечную больную на руки и присела на край диванчика. Утомленная процедурой лечения, девочка заснула и Вздыхала во сне мелким коротким звуком. За ширмой дети снова затеяли негромкую возню.
Женщина поспешно ответила:
— Боже избави одних оставлять в квартире, долго ли им беду сотворит. Завсегда Митревне, соседке оставляю детишек. Это сегодня такое вышло, что Митревна сама ушла, пришлось мне всех их брать с собой. Уж вы простите, гражданин доктор.
Я объяснил ей смысл моего вопроса. Путем долгого увещевания я сумел внушить этой матери трех детей, что для ее дальнейшего блага и для пользы самой Митревны необходимо последнюю осмотреть. Спустя несколько дней эта Митревна тоже пришла в амбулаторию. Добродушная, рыхловатая соседка, с белесым лицом, освещенным постоянной улыбкой, охотно позволила себя исследовать.
Она оказалась больной. Обильные выделения указывали на разгар процесса. Я расспросил Митревну; она с готовностью, ничего не скрывая, отвечала мне.
Дети оставались с ней. Это были дружеские услуги по дому. С ребенком она не опала, но когда девочка «пачкалась» или «делалась мокрой», эта отзывчивая женщина вытирала ее полотенцем или тряпочкой. А это были те полотенца или тряпочки, которыми пользовалась она сама в подобных случаях.
Кто виноват в болезни крохотного человечка, этой пухленькой девочки, едва еще только выглянувшей на свет? Конечно, не полотенце, не тряпка, не Митревна, не мать. Виноваты наше неустройство, наша темнота! Этот враг еще силен необычайно. Знала ли мать о консультациях, слышала ли она о том, что ей дадут там совет, расскажут, объяснять, как даже при тяжелых жилищных или материальных нуждах можно уберечь здоровье беспомощных крошечных существ? И знала. И слышала. Но она полагала, что ни к чему ей эти пустяки, Слава Богу, двух вырастила из пеленок, своим умом обошлась. И учреждения Охраны Детства и Материнства казались ей чем-то таким, на что только попусту тратятся время.
А между тем, беседа с врачом, консультации позволила бы ей, даже оставлявшей детей Митревне, удержать соседку от пользования полотенцами, таящими опасность заразы.
Открылась дверь и вошла невысокая поджарая женщина, лет тридцати пяти, ведя с собой за руку мальчика. Последний смотрел исподлобья и двигался нехотя. Ему было не больше одиннадцати. Тонкая шея тонула в широком вороте рубахи. Дойдя до стола, он насупился еще больше и, не поднимая глаз, уставился на чернильницу.
После нескольких моих вопросов вошедшая, выдвигая вперед мальчика, сказала плаксиво:
— Вот сами посмотрите, доктор, что с сыном сталось. Прямо, поверьте, стыдно сказать.
Мальчик смотрел все так же хмуро и с какой-то обозленностью, странной на его худеньком, с тонкими по-детски чертами, лице. Когда я сказал; «Ну, подойди ко мне, мальчик», — он сжал узкие губы и придвинулся с той же враждебностью.
Женщина сложила, сцепив ладони, руки на животе и следила в беспокойстве за моими движениями.
У мальчика оказался триппер. Мать разжала пальцы и ее руки упали, как бы в бессилии от ужаса. В тот же момент все черточки на ее остроносом, каком-то птичьем лице зашевелились, и своим несколько скрипучим голосом она проговорила;
— Ах ты, наказание какое. До чего дожили, ведь болезнь-то срамная какая. Ну и Сереженька… Послал Господь сынка нам. Опозорил мать, отца хуже ворога, так что убить его мало за такое.
Гнев ее нарастал. Мальчик втянул голову в необъятный ворот и, все такой же молчаливый и сумрачный, уперся взглядом в пол.
— Вы его не должны ругать или наказывать, — сказал я внушительно. — Никоим образом. Он больной человек теперь, ему надо долго лечиться, и вы должны влиять на него лаской и добром. Я запрещаю вам трогать его или бить. Ведь это ребенок, а вы таким обращением только, мучаете и портите его. От кого он заразился?
Женщина стихла; мой тон подействовал.
— А кто-ж его знает, — оказала она спокойней, — разве же от него узнаешь! Уж я опрашивала. Только и бубнит «не знаю». А у товарищей его спросит — стыд. Прямо обесславил мать, отца. Может, он вам окажет.
Я дал ей все наставления относительно диэты, ухода, чистоты, покоя, которые требуются сыну, и относительно необходимости регулярно приводить его в амбулаторию. Она слушала и кивала головой. Потом я попросил ев выйти.
Когда за ней закрылась дверь, я сказал мальчику, жавшемуся к столу в позе загнанного зверька:
— Ты меня не бойся, Сережа. Ты видишь, я за тебя заступаюсь. Больше тебя мать бить не станет.
Я протянул руку и погладил по торчавшим в стороны пучкам светлых волос. Он незаметно отодвинулся, как бы влипая в дерево стола, и засопел.
— А мать тебя часто бьет?
Он засопел громче, задвигал белками глаз и вдруг неожиданно сиплыми, расплющенными звуками ответил:
— Бьет. Ну да. Она сильная.
Я раскрыл широко глаза, как бы пораженный, и спросил удивленно:
— За что?
Он машинально царапал пальцем ребро стола. И ответил, поджимая сурово нижнюю губу:
— А так. За все.
Я покачал головой:
— Как это нехорошо. А отец твой где?
Он посмотрел на меня сбоку.
— На заводе, — подумав, сказал он. — В обделочной.
Тогда необычайно заинтересованный, я опросил:
— А как мать и отец живут между собой? Не ссорятся, не шумят, не ругаются?
Он перестал царапать дерево и высунул над воротом свой острый подбородок. Потом сказал с интонациями взрослого:
— Как же, не ругаются. Тятька, как выпимши, так мамке все ребра считает.
И когда он мне сообщил, что вся их квартира — одна комната, я заметил серьезно и строго:
— А ты отчего за мать не заступишься, не скажешь отцу?
Он взглянул на меня совсем в упор, вытянув окончательно голову из воротника, И с видом состраданья к моему невежеству протянул солидно:
— Да заступишься. Тятька кроет почем зря и по-матерному и кулаками, лучше тикай.
Я опять покачал головой:
— Совсем это нехорошо. А у других ребят тоже так, отцы такие?
Он зашмыгал носом:
— И у Кольки, — сказал он уверенно. — И у Ваньки, и у Митьки. Сонькин тятька тихий, так он надорванный, его же машиной садануло.
Он уже не прилипал к столу и не смотрел дико, волчонком. Лицо разгладилось, глаза светились живым и теплым выражением. Мне казалось, что я уже внушил к себе доверие и вызвал некоторое расположение этого ребенка. Вихрастые волосы торчали смешно во все стороны; я погладил его голову и сказал:
— Я скажу матери, чтобы тебя не трогали и не били. Только обещай, что будешь аккуратно лечиться и все выполнять. Хорошо?
Он слегка съежился при напоминании о лечении; чуть-чуть насупившись, он молча кивнул головой в знак согласия.
— А ты знаешь, Сергей, — продолжал я, — отчего ты заболел? От того, что ты лежал с какой-нибудь девочкой и делал с ней нехорошее. Она, значит, тоже больна. Ты должен ей обязательно сказать об этом, потому что и ей надо лечиться. Как ее зовут?
Глаза его уткнулись в пол, а с лица сошло только что сквозившее в чертах оживление. Наступал самый трудный момент моей дипломатической беседы. После полуминутного молчания Сергей шевельнул ртом.
— Танька, — сказал он деревянно. — Танька приютская.
И постепенно я услышал от него всю эту историю, обычную историю детей, лишенных надзора, уже знающих пороки и привычки улицы. Танька приютская была девочка из беспризорных, обитательница соседнего детского дома. Сережа рассказал мне, что он играл с ней, как «тятька с мамкой». Он «любился». так, как «любились» отец и мать на его глазах. Окончательно просветили его ребята повзрослее из его же двора.
Я позвал к себе женщину с птичьим лицом, мать этого мальчика, и, как мог, растолковал ей роль ее семейного уклада и всей обстановки в деле заболевания сына.
Дети — цветы жизни. Эту фразу повторяет на все лады всякий, кому не лень. А на деле эти цветы губятся. Государство и школа Стремятся воспитать и вырастить нового человека. Но ведь ребенок живет в семье. Значит, семье в деле решения, той задачи тоже отводится какое-то место. И довольно значительное, во всяком случае. Каков же вклад теперешней семьи?
О том, что нас должно сменить здоровое поколение, что этого все хотят, что вокруг этого пункта бьется вся реформа педагогики, — говорить не приходится. Никто не станет возражать против простой очевидности. Но как добиться здесь успехов? Отсюда вот и начинаются трудности.
Теперь, после Фрейда и его аналитического толкования законов психического развития, уже никто не морщить носа, когда говорят, что детство насыщено сексуальностью. Эротические стимулы бороздят внутренний мир ребенка, и перед ними непрерывно встают сексуальные загадки, которые он ищет разрешить безотлагательно.
Семья, школа, среда, — в эти три круга заключено существование малолетнего человека. Отсюда он должен получить ответы на свои напряженные поиски.
Что занимает мысль ребенка? Сорохтин произвел анкету среди детей, поступивших в первую ступень.
Что они хотят знать о рождении живых существ? Юные анкетеры спрашивали: «как происходит зачатие у человека?», «как попадает в женщину мужское семя?», «чем можно объяснить случаи рождения ребенка у незамужней женщины?», «как происходят роды у человека?» и т. д.
В 1925 г. вышла книга «Дневник подростка». Ее следует читать всем. Тогда видишь, что мысли детей в возрасте 10–15 лет полны полом, всем, что связано так или иначе с зачатием и рождением и с сексуальными переживаниями.
Все вопросы вращаются для ребенка вокруг связи мужчины и женщины. Легко ли ответить ребенку? Оказывается, невероятно трудно. Кто должен заняться этим? Вероятно, школа.
В гор. Векше в Швеции один молодой учитель обнаружил среди школьников два или три случая онанизма. Он решил остановить этот порок в самом начале, не дать ему распространиться, и стал вести беседы по этому поводу. Через год вся школа была заражена онанизмом.
Откуда этот результат? Почему? Потому, вероятно, что детское любопытство, насыщенное эротизмом, безнаказанно затрагивать нельзя. Те же, кто это делают, должны обладать большой чуткостью и уменьем. Половым просвещением надо заниматься очень осторожно. Значит, годных для этого педагогов следует создавать продуманной и тщательной работой.
В эту щекотливую и деликатную сферу, где даже люди, движимые любовью и высокой целью, могут причинить иногда больше вреда, чем пользы, семья тоже вносить свои навыки и свои методы воспитания.
Семья у нас существует. Если государство может своими средствами содержат только 1 проц, детей, то семья есть пока условие категорическое и для нашего социального строя.
А что представляет собой наша семья? Ну, скажем, рабочая семья?
Один вдумчивый исследователь так написал о ней в сборнике для педагогов: «Грубость, брань, циничные разговоры являются еще, к сожалению, во многих местах чертами, характеризующими быт рабочей семьи. Ребенок повсюду своими ушами слышит речи и глазами видит сцены, которые не могут не возбуждать в нем самых низменных представлений».
Пусть это, окажем, невежественная рабочая семья. А как обстоит дело в так называемом культурном слое?
Другой наблюдатель отвечает; «нужно прямо сказать, что в смысле обстановки для воспитания в современном культурном человечестве пока все делается так, как будто вокруг нас нет детей, или мы поставили себе задачей научить их превзойти нас в испорченности; все здесь дает богатые стимулы к раннему пробуждению полового чувства».
Клевета ли это на семью или на наших детей? Конечно, так легко отмахнуться от всякой проблемы. Но вот д-р Осипова напечатала в «Педагогическом журнале» за 1923 г., что, изучая современных детей в семьях, она нашла у них «повышенное половое возбуждение, раннее проявление полового любопытства, распространение употребления циничных слов и жестов, разговоры на половые темы, онанизм и, наконец, педерастию».
Анкета д-ра Гельмана в 1922 г. показала, что наша молодежь ни в школе, ни в семье не получает правильного ознакомления с процессами половой жизни.
Если ни школа, ни семья, то кто же учит? Улица, товарищи или иногда случайный «взрослый». Можно представить себе, что получается в результате!
Однако, что же делать? Где же выход?
Конечно, выход один. Он заключается в той же семье, школе и среде. Ничего другого больше у нас нет. Но надо заняться прежде всего их реорганизацией. Или, если хотите, их организацией я не знаток проблемы. Я только гость в этой области. Поэтому я не стану предлагать рецептов спасения. Я об этом говорю так, как мне приходится думать, когда я с нею сталкиваюсь.
Школа, конечно, найдет верный путь для себя. Это несомненно и неизбежно. Если не сегодня, то завтра.
С семьей же, мне кажется, будет труднее. Однако, это обстоятельство не должно удручат. Значит, тем плодотворней будет успех.
Семье нужно привить свою, семейную этику. На этот пункт надо нацелиться сильнее всего. Цинизму в словах, в поступках, ругани, скверному слову, открытой ссоре, неосторожной фразе должна быть объявлена война. Не только бумажная, резолюциями. А чем-нибудь более действенным. Надо как-то суметь указать взрослым, что рядом с ними всегда находятся дети. И у этих детей огромное и жадное любопытство, сексуально обостренное.
Значит, семью надо подготовить и не оставлять ее беспомощной лицом к лицу с вопросом полового воспитания. Если есть семьи, для которых даже не возникает такого вопроса, то необходимо им показать его наличие.
Консультации по охране детства и материнства существуют. Почему при них не создать консультаций по половому просвещению ребенка?
В Германии, например, такой работой занимается Общество борьбы с венерическими болезнями. Во Франции это делает Лига санитарной и моральной профилактики. В Америке всюду, во всех штатах, есть огромное количество «групп для обучения родителей»: эти ячейки связывают отцов и матерей с воспитательным аппаратом и ресурсами государства.
Надо и нам подумать над этим. Следует во что бы то ни стало добиться, чтобы семья и школа не мешали, а помогали друг другу. И тогда домашнее воспитание, дом, семья, дадут вместе со школой не изломанных эротиков, а прекрасный материал для нашего будущего.
Среда обезвредится и уже обезвреживается своими методами. Все они сводятся к насаждению внутри ее самодеятельности и к переключению сексуального порыва в стимулы творчества, труда, коллективности и товарищеской дисциплинированности.
Правильное половое воспитание и просвещение есть одна из вех биосоциальной установки детства. Оно не только убивает детский венеризм или вообще венеризм. Оно создает и удачную нам смену.
Мне припоминается сейчас один посетитель амбулатории. Это был человек деревни. Его курносое лицо с рябинками всегда улыбалось. Мои слова никогда и никем не выслушивались так почтительно, как им. Он поспешно соглашался со мной во всем. И извинялся предо мною кстати и некстати.
Когда я однажды пришел к положенному часу в амбулаторию, он уже сидел у двери одним из первых. Но увидал я его в кабинете только к концу приема.
— Где вы были до сих пор? — удивленно опросил я. Он, конфузливо улыбаясь и ломая в руках шапку, сказал:
— Я могу и погодить. А они все спешат, просят: «уступи». Ну, я и уступаю. Они люди хорошие, просят ласково.
Он обнажил заболевшее место.
— Извините, гражданин доктор, вот какая гадость пошла.
Характерные признаки гонореи были налицо. Течь, боли, воспаление. Когда я объяснил ему, что у него за болезнь, он пробормотал торопливо, с извиняющейся улыбкой.
— Совершенная правда, гражданин доктор, такая уже болезнь. — А потом добавил медленно и задумчиво:
— Скажите на милость, а какая была молодая да хорошая барышня!
Он был крестьянин и имел в деревне крошечное хозяйство и семью из жены и четырех детей. Достатка не было. В навигацию он отрывался от земли и приплывал к городу на огромной барже с грузом дров. Узкими каналами втягивались в паутину улиц эти сонные деревянные чудовища, а потом, подталкиваемые шестами, притыкались где-нибудь на Обводном или на Фонтанке к неуютному граниту набережной.
Он охотно говорил мне, что такое шкипер, что такое клепаная баржа и сбитая, чем они разнятся, и с гордостью подчеркивал, что он ездит на клепаной. Еще говорил он мне о том, как ведут учет бесконечным штабелям дров.
Рассказывал он мне и о деревне. От всех его слов о доме и хозяйстве веяло монотонностью и скукой, и когда он говорил про овин, про плетень, которые разваливаются, про свою бабу, вечно болеющую нутром, про керосиновую лампу без стекла, про полати, я понимал, какую опьяняющую силу представлял для него город, с его улицами и «барышнями».
— Где же вы с ней познакомились, с этой барышней? — опросил я. — В пивной?
— Совершенная правда, — поспешно согласился он. — Это уж известное дело. Четверо нас на барже. Взяли мы в конторе денег и пошли к Балтийскому вокзалу. Хорошая там есть пивная, с музыкой. Взяли мы пару пива, другую. Против меня сидят барышни — чистенькие, красивые, в шляпках. Оченно уж, извините, хорошая да молодая. Куда нашим деревенским до них. Дикость у нас, ей Богу, как поглядишь: бабу от мужика не отличишь… Одна как глянула на меня, так у меня дух захватило. Эх, думаю, вот такую красу только бы раз в жизни обнять! Сам глаз отвести не могу от нее. А она смотрит так, точно по душе сказать что хочет. Выпил я еще, осмелел…
— А вы знали, кто она? — спросил я, когда он окончил свой рассказ.
— Знал, она гулящая.
— Как же вы не подумали, что вы делаете? — упрекнул я его. — Ведь она вас не знает. Вы видите ее в первый раз. Вы купили ее тело. Может быть, она из нужды пошла к вам, может быть, она безработная, одинокая. Вам было сладко, а для нее это было, быть может, мучением, издевательством. Как же вы, человек хороший, как будто бы, так поступили?
Он покраснел так, что рябины исчезли.
— Совершенная правда, — сказал он, моргая глазами. — Верно, гражданин доктор. Вот он человек какой бывает! Прямо животное. Да я не один, товарищи тоже взяли, И у всех такие хорошие, пригожие были барышни, видные из себя.
Он выполнял все предписания. Курс лечения заканчивался. Одновременно заканчивалось и пребывание баржи в городе. Наконец, я отпустил его. Он был вполне здоров.
Ранней осенью я увидел его снова. Он уже никому не уступил очереди и вошел ко мне, как старый знакомый, Улыбка сохранилась у него на лице прежняя.
История повторилась. Совпадение обстоятельств было поразительное. Фон событий — опять пивная. Опять неотразимый соблазн женщин города. Даже факт заражения не ослаблял его восхищения перед объектом мимолетной любви. Она оставалась для него глубоко волнующим даром существования.
— Это уже совсем нехорошо, — сказал я ему, производя какую-то манипуляцию. — Как же вы не думаете о своем здоровье? Вы просто неисправимы.
Он заморгал своими светлыми ресницами.
— Так точно, гражданин врач, совсем это нехорошее дело получается. Знаете, жизнь наша темная, тяжелая. Какая у нас жизнь! Мерзнешь на барже, работаешь, как скотина. Зиму тоже работаешь на ремонте, в доках. В деревне тоже работы вдоволь. Темнота, никуда к вечеру с полатей не подашься. Вот, хотя бы взять, к примеру, город. Приедешь, пойдешь спервоначалу в клуб водников. Висят портреты, разные картинки про международный буржуазиат, про капитализм. Книжки лежать. Свету много, а скучно. Музыки нету. Пива не дают. А душа требует. Ну, и ослабнешь духом, значит, идешь туда, где музыка.
Уже наступили первые морозы, когда мы снова расстались.
— Ну что, опять придете? — спросил я на прощанье.
— Совершенно верно, не надо бы приходить, — сказал он, осклабившись. — Будет, теперь зарок дам. Только выстоять бы, — добавил он с оттенком сомненья. — Очень уж барышни тут замечательные.
Была зима. Снег плотно жался к земле, дома заиндевели. Каждый день люди в тулупах кололи лед на тротуарах и чистили улицы.
Затем пришла весна, робкая, неуверенная. Шли дожди. Моросило. Потом налетел теплый ветер. Черные, с влажным блеском стволов, деревья гнулись и шелестели ветками. В просветах облаков небо иногда сверкало чудесной синью. Порою дни бывали совсем жаркие. Тогда улица сразу наполнялись людьми, бегущими во все стороны.
Каналы вздували ледяную кору. Вскоре у гранита зарябила вода, а потом пошли гурьбой полыньи. Невидимый пар подымался к небу. Последние кучки снега становились грязными, ноздреватыми.
Забор против моего окна стал лохматым и влажным, а земля — черной.
Возвращаясь домой, я видел на Фонтанке, неподалеку от Аничкова моста, ярко-желтые горшки и кувшины в нишах набережной. Среди грязи они восхищали глаз свежестью своих красок. А около неподвижно дремали лодки.
И вот, он снова пришел ко мне. Его лицо было глупо и сконфуженно, и он улыбался виновато.
Опять я услышал ту же историю. Опят героиней была в ней женщина улицы. Опять лечил его. И опять мы расстались, — совсем недавно.
Все это напоминало мне в конце концов средневекового короля Сигизмунда. Шкипер рассказывал о себе, а передо мной встал этот «коронованный поклонник красивых женщин в переулке», как величала его хроника тех времен. В каждом городе этот помазанник Божий, император-повеса, прежде всего отыскивал дом терпимости. Это был всегда его первый акт государственной мудрости при посещении верноподданнических центров.
Сигизмунд вовсе не был уникумом. Карл Смелый, например, был тоже любителем аналогичных приключений.
Франциск IV, король австрийский, послал однажды знатное посольство в Португалию за своей невестой. Выполнение поручения требовало награды и высочайшего внимания. Император был заботлив. К услугам посольства в пути и на месте все было предоставлено безвозмездно, в том числе и женщины.
Нередко в честь коронованных особ, удостаивавших посещением тот или иной город, магистрат устраивал банкеты в… публичных домах. Предварительно именитым гражданам рассылались особые приглашения, нечто вроде почетных билетов.
В музее города Варцбурга сохранился счет публичного дома, который когда-то оплатил магистрат. Дело в том, что в Иванов день городской голова, со всем штатом служащих магистрата, принял — совершенно официально — деятельное участие в торжественном обеде с музыкой, устроенном в самом шикарном публичном доме города.
Кстати: деталь. Только пример куртизанок заставил порядочных женщин умываться. Так утверждает писатель XVI века Вомье.
Это не говорит нисколько в пользу положения, которое жрицы или жертвы любви занимали среди тогдашнего общества. Оно было очень неважно. Во всяком случае, и позорно и довольно изолированно.
Одно можно сказать без ошибки. В смысле размаха и широты проституции средние века стояли на первом месте. Хотя, в конце концов, ни один век им не уступает особенно.
Я не понимаю, почему те, кто ведут антирелигиозную пропаганду, мало пользуются материалом, который дает история нравов. Это ведь неисчерпаемый арсенал оружия против Бога. Стоит только посмотреть на приближенных Господа, на тех, кого он выбрал в посредники между собою и людьми, чтобы его самого признать достойным изгнания.
Когда какой-нибудь почтенный гражданин открывал публичный дом, от него требовали подписку о недопущении духовных лиц.
Знаменитый Констанцский собор занимался выработкой основ веры и организации церкви. Этот собор был выдающимся событием в истории религиозной мысли и обряда. На него съехалось несколько тысяч священнослужителей. Присутствовали и женщины. Клингебаргская хроника замечает по этому поводу: «Трудно определить, съезд ли это духовных лиц или блудниц». Ибо «там собралось 1440 явных и неизвестное число тайных проституток».
Базельский собор — не менее известный, — превзошел, однако, Констанцский. Историк прирейнской городской культуры Боог определил число «распутных женщин», собравшихся на этот съезд, в 1800 душ.
Эти цифры могут показаться некрупными. Тем не менее, они поражали современников. И если бы вы знали численность населения тогдашних городов, вы тоже были бы потрясены. Достаточно сказать, что Лондон имел всего 35 тысяч жителей. А такие крупные центры того времени, как Дрезден или Майнц, насчитывали около 5 тысяч жителей. Не больше.
Крестовые походы вызвали перемещение в Европе очагов проституции. Людовик Святой, который еще раньше издал эдикт о запрещении проституции, нашел однажды рядом со своей палаткой палатку с продажными женщинами.
Палестинское храмовое начальство запрещало верующему мужчине следовать в процессии за верующей женщиной. Ибо, — рассказывает историк, — церковь со св. гробом в Иерусалиме иногда осквернялась унижением ее до публичного дома.
Мекка имела славу аналогичную. Исследователь жизни и обычаев магометан лишь несколько застенчив в выражениях. Он пишет: «По вечерам в слабо освещенных галереях заключались договоры, не имевшие, собственно, прямого отношения к паломничеству». Другой наблюдатель смелее: он сравнивает Каабу с храмом Астарты.
В Испании и теперь еще есть особая категория уличных женщин, которых называют: «бегающие к монахам».
Во Франции народ называет публичные заведения аббатствами.
Когда в средние века в немецкую деревню приезжал новый священник, крестьяне отказывались принимать его, если он не привозил с собой любовницы. Иначе им нельзя было быть спокойными за своих жен и детей.
На севере Англии от священника для поддержания его религиозного авторитета требовалось лишь одно: не проводить целых ночей в доме терпимости. Надо полагать, что соблюдение этого параграфа было делом нелегким.
В конце XIV века городские доходы Лондона резко понизились. В бюджете образовался огромный дефицит. Надо было найти способ покрыть недохватку. Тогда мэру пришла блестящая идея.
Он обратился к Винчестерскому епископу. Верховный служитель Бога согласился помочь городу и сдал мэрии в аренду все дома терпимости, построенные на церковной земле. Городское хозяйство было спасено. Проституция укрепила пошатнувшийся бюджет.
Это, кстати, напомнило мне одну страницу истории, относящуюся к архитектуре времен фараона Хеопса.
На левом берегу Нила этот царь воздвиг пирамиду. Он хотел оставить след своего бессмертия и оставил великий памятник зодчества.
По преданию, над пирамидой трудилось сто тысяч человек в продолжении двадцати лет. Это чудовищное сооружение глотало деньги невероятно, и Хеопсу пришлось тронуть фамильные сокровища.
Огромнейшая машина стройки вертелась день и ночь.
Средства иссякали, казначеи снова сидели у опустевших мешков. Рабочие роптали, возбуждаемые недовольными надсмотрщиками. Тогда Хеопс поместил в притон свою дочь. Этот источник доходов оправдал надежды царя. И вскоре работы были доведены до конца.
Дочь фараона, однако, поняла преимущества своей профессии. Впрочем, может быть, она была снедаема тщеславием. Во всяком случае, она позаботилась и о себе. И ей тоже захотелось воздвигнуть себе памятник. Однако, контроль над ее заработной платой велся так тщательно, что все до копейки поступало в распоряжение отца. Тогда дочь фараона нашлась, — она просила каждого из посетителей приносить ей сверх платы по одному камню.
Одна из трех пирамид была построена именно из таких камней.
Так сообщает Геродот.
Я рассказывал вам совсем не забавные вещи, ни с какой стороны. Потому что, помимо всего прочего, здесь выходит на сцену проституция, а проституция — это грустная и тяжелая проблема.
Ее пробовали разрешать, искренно или лицемерно, во все Века. О ней боролись, как боролись со всякой несправедливостью, со всяким общественным несчастьем, или не зная корня вещей, или не замечая его. Зло поэтому казалось неистребимым.
Тем оружием, которое пускалось в ход, ничего нельзя было достичь. Регламентация, аболиционизм, различные благотворительные учреждения, репрессии, — все эти меры были бессильны, ими ударяли по живому телу, но как бы в пустоту, и причиняли людям еще больше страданий и слез.
Некоторым зло казалось в своей неизбывности фаталистическим.
Проф. Тарновский всю жизнь бился над этой проблемой. Под конец он написал о ней так:
«Уничтожьте пролетариат, распустите армию, сделайте образование доступным в более короткий срок, дайте возможность вступать в брак всем желающим, гарантируйте им спокойствие в семейной жизни и убедите всех жить нравственно, честно, по закону христианскому, и тогда… тогда все-таки будет существовать проституция».
Теперь мы знаем, что это неверно. Когда говорят так, как Тарновский, то думают так, как Ломброзо. А Ломброзо уверял, что проститутками рождаются.
Допустим, что порок может быть врожденным. Но и тогда это было бы неправдой. Ибо с дурной наследственностью можно тоже спорить. Ее можно заглушить. Можно не дать ей разрастись. Это достигается созданием надлежащей среды и педагогикой.
Но дело ведь не в этом.
Нельзя путать явление патологического порядка с явлением социальным. Проституция — это не дурной характер, а скверный строй, несправедливый, с ложной экономикой. Тот, кто хочет уничтожить проституцию, должен объявить войну безработице, бедности, темноте, женской беззащитности, неравенству, всему тому, что на Руси звалось «женской горькой долей», войну продаже и покупке человеческого тела.
Русская действительность приобретает в этом смысле особое значение. Революция ставит своей целью общее благо. Те, кто трудятся, должны быть счастливы. В эту формулу целиком укладывается и проблема проституции. Революция, излечившая много язв, залечит и эту.
Обследование половой жизни рабочих Москвы показало, что пользование продажной любовью теперь не в ходу. И это наверно так, потому что от проституток в 1924 г. заболело 32 проц. всех лечившихся, тогда как до 1918 г. заболевало ежегодно в среднем 53 проц.
— Можно было бы вздохнуть свободнее, если бы не другие цифры, которые способны заставит задуматься.
Но о цифрах намного позже. Теперь я хочу рассказать о Москве, т.е., собственно, об одном посетителе амбулатории из Москвы.
Этот неглупый, живой юноша был прислан в Ленинград на ответственную работу. Он был работником партийного органа губернского масштаба. У него была быстрая, энергичная речь.
Его первые слова были:
— Доктор, я, кажется, получил триппер.
Затем, так же просто, он проделал все, что полагается для диагноза. Действительно, это был триппер.
Уходя, он сказал:
— Ждите, доктор, моих товарищей, если только они не лечатся уже где-нибудь.
Меня эти слова не удивили. Я знал, что означала подобная фраза. Компания друзей идет в ресторан или пивную. Потом, уже под винными парами, они берут женщин или женщину. Затем через разные периоды времени — один раньше, другие позже — они появляются в кабинете венеролога. Этот был, очевидно, первой ласточкой.
Здесь странна была только одна подробность. В этом партийце чувствовалась довольно высокая внутренняя дисциплинированность. Его моральная закалка должна была бы быть крепкой, достаточной, во всяком случае, для того, чтобы устоять против этих довольно низменных соблазнов.
Я оказал ему:
— Если вас было несколько человек, как же не нашелся среди вас ни один просвещенный? Пусть не все, но кто-нибудь из вас знал же о половых болезнях. Ведь, проститутка — это почти наверняка венерическое заболевание. Неужели никто об этом не подумал и не предостерег вас?
— Простите, доктор, — с живостью ответил он, — Вы ошибаетесь. Я сам работаю в секции борьбы с проституцией и достаточно сознателен. Я не эксплуатирую нужды.
Лицо мое изобразило вопросительный знак. Он сделал маленькую паузу и, стоя у двери, продолжал::
— Я сам был удивлен третьего дня, когда заметил у себя нечто подозрительное. До появления течи я сомневался. То, что я слышал об этой болезни, однако, убедило меня В конце концов. Вы, доктор, подтвердили то, что я уже сам установил, и жалею только, что не пришел к вам при первых признаках болезни. Но, видите ли, я никак не допускал мысли… Ведь она мой партийный товарищ, наш работник. Она заведует работой среди женщин. Я жил с ней два раза. Мы ничего друг другу не обещали, ничем себя не связывали. Я знаю одного товарища, который жил с ней раньше, И думаю еще об одном, который живет с ней теперь. И вот чего я в толк не возьму. Она человек сознательный, не мешанка, не гниль буржуазии. Как же могла она себе позволить, будучи больной, отдаваться в то же время?
Я вскрыл ему ошибочность его возмущения. Она больна — это правда. Но она, может быть, ничего не знает о своей болезни, даже не догадывается. И я довольно пространно растолковал ему, почему у женщин возможно такое неведение.
Он понял. Пораженный моими словами, он немного растерялся от неожиданности и смог только сказать:
— Это совсем плохо. Как же теперь знать, кто болен и кто здоров?
— Ну, — возразил я. — Положение вовсе не такое безвыходное. Женитесь, не разбрасывайтесь. Вот вам лучшая гарантия здоровья.
После нескольких фраз мы расстались.
Мой совет жениться был не так уже плох. Брак часто мыслится, как оплот против венерической инфекции, и гигиенисты оценивают поэтому свойство прочного сожительства, как нечто неоспоримо положительное.
Конечно, все относительно. Относителен и этот взгляд, остающийся тем не менее в значительной — мере справедливым.
Заканчивая курс лечения, я часто напутствую больных приблизительно такими же пожеланиями. Хотя тон мой при этом обычно шутлив, тем не менее зерно истины иногда падает на восприимчивую почву.
Впрочем, я не совсем уверен в уместности своих советов.
Я помню одного очень славного паренька в рабочей куртке, с детскими губами и наивным взглядом больших четных глаз. Какой-то неуклюжий, мохнатый и милый, он пришел с кожевенного завода, и от него пахло чем-то крепким и терпким, как чай.
На дворе стояло чудесное лето, то время, когда лето только приходит, а весна еще не растеряла своей мягкости. В этот час вечера я видел через окно край высокого облака, зацепившегося за выступ крыши соседнего дома, а дом был огромный, многоэтажный. Трава, которая росла во дворе, редкая и чахлая, казалось, примешивала аромат степи к запахам улицы… Должно быть, влюбленные ходили уж парами, счастливые уже благословляли жизнь, а обиженные начинали верить в воздаяние. Издалека доносился глухой шум города.
Но пришедший ко мне парень не думал о любви и радостях. Он стоял ошеломленный, раздавленный тяжестью открытия. Его лицо, широкое, с каким-то особенно добрым выражением, потемнело и застыло. Верхняя губа напряженно поднялась.
Я пробовал его развлечь. Он выслушал меня с тем же сосредоточенным видом. Потом произнес медленно, как бы рассуждая сам с собой:
— Я знаю, что эти болезни существуют. Ими болеют многие. Но я думал, что это бывает от уличных женщин. Если их избегать, то ничего. Что же такое вышло теперь?
И он беспомощно развел руками.
— Пусть это вас так не убивает. — сказал я. — Заболеть — не шутка. Это с каждым может служиться. Помните другое. Ваш долг — вылечиться. Вот о чем надо думать. Тут вы должны быть упорны и настойчивы.
— Да это, доктор, само собой. Кто же против этого говорит? Но я ведь живой человек. Я же должен разобраться с чувством. Ведь это же не какая-нибудь уличная!
И он посмотрел на меня своим наивным и печальным взглядом.
В открытую форточку вдруг донесся голос. Где-то за забором запели. Тоненький, как будто девичий голос выводил песню, и звуки, смягченные расстоянием, казались очень мелодичными и трогали.
— Так и она пела, — сказал больной. — Может быть, эта тоже такая.
— Почему вы принимаете этот случай так близко к сердцу? — спросил я.
— В том то и дело, доктор, — живо ответил он, — что она была не какая-нибудь, а чистая девушка. Я ее, можно сказать, любил. Она жила у нас в доме с месяц. Родственница она матери дальняя. Приехала по делу из своей губернии и остановилась у нас. Веселая такая, хорошенькая, славная. Всегда мы были вместе. На собрания ходили, в клуб, в кино. Хорошо было с ней.
Он остановился, задумчиво глядя перед собой. Лоб его немного разгладился.
— Ну и что же? — спросил я.
— Я женщин не знал. — продолжал он. — Не очень меня эти дела привлекали. Да и чего было спешить? Мне ведь только 18 лет… Рассказала она мне как-то про свою жизнь. Печальная у нее была жизнь. Обманул ее один какой-то. Приехал в командировку, — это она потом узнала, — окрутил ее, а потом и след его простыл. Удрал. А может, кончилась командировка. Никто про это ничего не знал. Ни у нее в доме, ни у нас. Рассказала она мне это и заплакала.
В комнатах не было никого. Тихо было кругом. Тишина. Она прилегла на диван, и я слышу: хлип, хлип. Я подошел к ней и погладил ее по голове. Обхватила она меня руками и прижалась мокрой щекой к моему лицу. Я утешаю ее и чувствую — сам не свой. Хочу оторваться, — она не пускает. Дотянулась до губ и целует. Дурман на меня нашел. Что было, не помню…
Уехала она обратно через пару дней. Стал я грустный. Скучно стало без нее. А третьего дня вот это и показалось у меня.
За дверью нетерпеливо кашляли ожидавшие очереди. На дворе был уже поздний вечер и звезды. Песня за забором оборвалась.
Он ушел, унося рецепт.
Как и все, кто попадал в амбулаторию, он сделался постоянным посетителем. В один и тот же час изо дня в день приходил он ко мне.
В течении болезни вскоре наступил перелом. По мере того, как процесс шел на убыль, больной стал поправляться. Начались контрольные промежутки. Наконец настал день последнего визита.
— Ну-с, Ваня, вы здоровы, — сказал я. — Идите и не грешите больше.
Он помялся на месте. Потом, не то ухмыляясь, не то смущаясь, сказал как-то нерешительно:
— Я хочу спросит вас, доктор… вот эти болезни… ну, чтобы не заболеть, то есть, как это узнать у нее, ну, у женщины, значит?
Он запнулся.
— Вот что. Ваня. — сказал я. — Вы молодой, хороший, а болезни эти неприятные. Они не только тело — душу отравить могут. Не приучайтесь бегать от юбки к юбке. Ведь это не обязательно. Понравится вам крепко человек — любите друг друга, живите с одной. Хотите — зарегистрируйтесь, хотите — нет. Будут дети, не отказывайтесь от них, если обстоятельства позволят. То, что у вас было, это несчастный случай. Никто, пожалуй, здесь не виноват, но пусть случившееся послужит вам в назидание, уроком. Научить же вас самому узнавать, кто здоров и кто заразителен среди женщин, я не берусь. Разбираться в этом — дело врачей.
По мере того, как я говорил, лицо его принимало такое выражение, какое бывает у людей, когда их убаюкивают. Он слушал, полуоткрыв рот. Тоненькая полоска зубов белела наивно и смешно.
Уходя, он сказал:
— Да, ваша правда, доктор. Не надо этого баловства.
Месяцы бежали за месяцами. Кажется, через полгода этот Ваня снова вошел в мой кабинет.
Он был такой же. Только волосы были приглажены, да вместо блузы был пиджак, надетый поверх косоворотки. Походка у него была та же, неуклюжая.
— С чем Бог послал? — спросил я. — Согрешили?
Он улыбнулся приветливо и покачал головой.
— Не угадали, — сказал он. — Нет, этого не было. Теперь у меня жена. Вот уж с месяц.
В его голосе слышалась нотка солидности, улыбка дышала уверенностью.
— Ну, поздравляю, — сказал я.
— Спасибо… Может, благодаря вам и вышло это. Как тогда, значит, был наш разговор, крепко это у меня засело в голове. А тут как раз встретилась мне одна работница с нашего завода, молодая, восемнадцати годов. Муж у нее был, но не прожила она с ним и полгода, — машиной его втянуло. Умер он в больнице. Ну, и слюбились. Сперва жили так, а теперь собираемся на регистрацию.
— Так вы что же, за свидетельством пришли ко мне? — спросил я.
Он отмахнулся.
— Нет. Другое дело. Свидетельства нам не надо. Мы оба надежны. Чирь у меня выскочил, прыщ, значит. Сковырнул я его, а не проходит, держится. Дайте мне, доктор, мази какой-нибудь. Йодом смазал, не помогает.
Я осмотрел его. У него оказалась сифилитическая язва.
Это принес ему брак.
Брак не защитил его. Не подумайте, что это единичный случай. Нет, таких фактов много. Они отражают нечто новое то, что дает сегодняшний быт.
Когда-то грозой здоровья была проституция. Ее боялись. Она несла с собой яд и заразу. И действительно, посчитано, что в 1917 году, например, 80 проц. венериков заразились, будучи холостяками, т. е. другими словами, от любви, купленной на улице, за небольшим, конечно, исключением.
Спрос на проституцию революция сократила. Она создала условия, при которых торговля телом клеймится, как преступление и позор. Это — одно. А второе завоевание заключается в уменьшении предложения. Это достигается главным образом учреждением трудовых профилакториев, где женщина не только лечится, но и получает возможность работать. Из кабинета врача и исследователя она Возвращается не на улицу, а к труду. Это для нее лучший путь возрождения. В его пользу говорят цифры.
Но есть цифры другого рода, когорта заставляют нас задуматься. Они вскрывают одну из сторон теперешнего брака.
Доктор Вейн изучал материалы московских венерологических диспансеров.
В его выкладках имеется рубрика о том, сколько венериков заболело в 1924 году от собственных жен. Оказывается — 10 проц. Что это значит? Цифра темная. Она почти ничего не говорит, почти безобидная. Но сейчас она закричит. Потому что в 1917 г. эта цифра равнялась 2 проц.
Теперь вы понимаете, что это значит? Это значит, что в 1924 г. шансы заразиться сифилисом или триппером от жены возросли в пять раз.
Только всего.
Это о брачной связи.
Но есть еще одна категория женщин, так называемые «знакомые» или «хорошие знакомые». Они тоже достойны внимания. До 1918 г. их участие в венеризации мужчин определялось 14-ю процентами, а в 1924 г. — уже тридцатью четырьмя. Здесь тоже шансы поднялись в два с половиною раза.
В 1926 г. в журн. Наркомздрава «Венерология и Дерматология» помещена статья врачей С. Е. Гальперина и Н. О. Исаева «Венерические заболевания среди городского населения». Эти исследователи охватили материал Всех диспансеров за 1925 г. Что же получилось?
Прежде всего, о сифилисе.
Обследованию подверглось 6762 больных, из которых мужчин было 3453, а женщин 3309. Среди всего этого количества людей холостых оказалось только 43 проц., т. е., меньшинство; остальные 57 проц., были семейные. А как обстояло дело в довоенное время? На это отвечает д-р Обознецко: в 1909 году он насчитал среди больных сифилисом всего лишь 11 проц. семейных.
Авторы статьи совершенно справедливо утверждают, что все эти цифры «указывают на перемещение кривой заражаемости От холостых к состоящим в браке».
Ту же картину дает и гонорея. И здесь «на холостых падает всего лишь 49 проц.». Значит, — опять заключают д-ра Гальперин и Исаев, — для «женщин замужество не является, тормозом против распространения гонорейной инфекции».
Для женщин. А от женщин? Увеличилось ли число венерических заболеваний от жен? Да, — отвечают там же Гальперин и Исаев: «мы видим также, что число заражений от жен возросло в 6 раз».
Наше время умудрилось заполнить даже ту графу, которая прежде оставалась пустой. Дело в том, что в таблице об источниках заражений имеются пункты — «жених», «невеста».
В 1914 поду против них стояли знаки тире. С 1922 г. по 1925 г. здесь уже появляются цифры: для «женихов» — 0,6 проц., для «невест» — 0,5 проц. Цифры, правда, маленькие, но разве они не показательны для тех областей, куда проникает инфекция?
Если перевести все эти цифры на язык живой жизни, то они дадут простой вывод. Предметы, освещенные солнцем, отбрасывают тень. При всех прочих равных условиях, чем больше предмет, тем больше его теневая проекция. Простой закон отражения.
Эти разбухшие проценты говорят о том, как просто и бездумно в наше время люди сходятся и расходятся, и как легко проникают в современную семью венерические болезни на почве подобного полового анархизма.
Я вовсе не собираюсь возносить хвалу прежнему браку, Потому, что, кроме ненависти, он ничего другого вызвать не может. Я хочу подчеркнуть только ту опасность, которую таит в себе текучесть теперешних форм полового сожительства. На нее должно быть обращено сугубое внимание. Ибо от этой опасности отмахнуться нельзя.
Есть такая наука, — евгеника. Это еще очень молодая наука, наука об улучшении человеческой породы. Она озабочена выяснением условий, при которых выращиваются более совершенные экземпляры людей.
Ученые, занятые исследованием этого вопроса, огорчены. Действительность удручает их. То, что происходит, портит их чаяния.
Основа их надежд — семья. И среда, конечно. Но ядро — это здоровая семья. Потому что они рассматривают расу, как результат производительности.
И вот что они нашли.
Из 100 больных венерическими болезнями заражали свою семью до войны 7 человек. В 1918 г. — 33, а в 1924 г. число возросло уже до 63. Может ли это радовать евгенику? Конечно, нет.
Проф. Люблинский, например, нисколько не скрывает своего пессимизма. На диспуте в Доме Ученых он оперировал языком статистики. Справки и выкладки показали, что делается с человеческим родом. Бесстрастная математика констатирует, что число людей с дефективной наследственностью беспрерывно возрастает во всех странах.
Брак, это дело серьезное, трижды серьезное. Нельзя к нему подходить с легкостью, с точки зрения кратковременного схождения. И наш молодой государственный советский организм требует также осмотрительности в этом вопросе, ибо на нем держится здоровая, крепкая семья.
Из всех этих вейновских и гальпериновских цифр вывод один: надо обезвредить и обезопасить брак.
В этом требовании нет, конечно, ничего дискредитирующего новые формы брака. Никто не станет отрицать, что сегодняшние браки еще носят на себе все черты переходного времени. Они нестойки, недолговременны, многократны. В своем докладе 7 марта 1927 г. на заседании Криминологического Общества проф. Оршанский пришел к заключению на основании статистики ЗАГСов, что средняя продолжительность нынешних первых браков равна 6–12 месяцам. В этой текучести полового сожительства кроется при неосмотрительности брачующихся опасность распространения инфекций. Клевета ли это на наш современный брак? Такая мысль нелепа. Прав проф. Оршанский, когда говорит, что о теневых сторонах наших современных браков нужно сказать открыто, их нужно изучить, чтобы изжить.
Нужно заострить наше советское общественное внимание на воем том, что уродует и искажает объединение людей в семейную связь. Вокруг вопроса о здоровье брачующихся, скажем словами одного исследователя, должно быть у нас создано такое же настроение, какое в буржуазном обществе существует по вопросу об имущественном положении, происхождении, карьере и пр. жениха и невесты.
Брак надо оздоровить.
Наши больные не думают, конечно, о вырождении человечества. Но они тоже в отчаянии. Они теряют точку опоры. Они испытывают на себе силу статистики д-ра Вейна и д-ра Гальперина.
Однажды в амбулаторию пришел человек в кожаной куртке, плотный, энергичный мужчина с портфелем. Было в нем, в его внешности что-то цыганское.
Он показал мне то, что его беспокоило.
— У вас очень неприятная штука, — оказал я. — Вам нужно отнестись к этому серьезно и немедленно приняться за лечение. Вы и так немного запоздали. Если вы не будете небрежны, вы сможете скоро вылечиться.
Он нахмурился.
— А что у меня? — спросил он негромко.
— У вас сифилис в начальной форме.
Он еще больше нахмурился. Две глубокие борозды потянулись от переносицы, разрезывая лоб. Глаза под стянувшимися бровями загорелись. Он обвел языком сухие губы.
— Вот так фунт, — сказал он, криво усмехнувшись, — ну и номер.
Он сел на стул, продолжая хмуриться, и молчал, что-то соображая. Молчал он долго.
— Как это дико, — оказал он вдруг, ни к кому не обращаясь, — строит, строит себе человек что-то, мечтает, что-то улыбнется ему в жизни, и вдруг какая-то нелепость, то, что совсем не нужно, какое-то затмение, и все летит к черту. Что за бессмыслица!
За этой неторопливой лирикой чувствовалась боль. Удар был очень резок, хотелось кричать и вопить, но выдержка брала свое, и человек говорил почти бесстрастно. В этих словах должны были разрядиться первый ужас и смятение.
Я захотел ему помочь.
— Кто же разрушил ваши мечты? — спросил я.
Он смотрел на меня невидящим взглядам.
— Я отдал жизнь революции. До семнадцатого года я был рабом. Я работал пекарем. Потом пришел Октябрь, и я отдал себя революции. Я бился за нее на баррикадах Москвы, в окопах на фронте. В гражданскую войну я исколесил с бригадой всю Россию. Голод, холод, бессонные ночи, опасность, плен, смерть лицом к лицу — все это испытал я. Я был неплохим солдатом революции. Когда Красная армия и рабочий у станка не доедали, я проводил продразверстку под огнем восставшего кулачества. Теперь меня поставили на хозяйственном фронте… Жить для себя мне было некогда. О женщинах я не заботился, их было вдосталь. Была у меня жена, когда я был еще молодой и темный. Она темной так и осталась. Когда моя бродячая жизнь прекратилась, я послал ей однажды бумажку о том, что она свободна. Так окончилась наша семейная жизнь.
Три месяца назад правление треста послало меня на ревизию отделения в Саратов. Путаная была работа. Возился я месяца два, с утра до вечера, без передышки.
Полюбил я там одну женщину, стенографистку, раньше была она женой офицера. Потом тот исчез с белыми. А она переехала в Саратов. Дошла она до моего сердца. Человек она хороший и неглупый. Легко было с ней говорить, хоть и сидело в ней что-то непростое, — порода, должно быть.
Что-ж тут было долго гадать и думать. Сказал я ей: «Давайте, поженимся, завтра же, если согласны. Только, пожалуйста, не невольтесь. Этого не надо. Уеду через неделю, и никогда больше не увидимся. И все пройдет. Баста!» Она засмеялась, а потом сказала: «Хорошо, завтра я вам дам ответ». Ну, и поженились.
Моя командировка окончилась. Вернулся я в Москву для доклада. Ее оставил, потому что вскоре должен был отправиться в Ленинград тоже на ревизию. Мы так решили: по окончании последней ревизии я вернусь в Москву, а она тем временем уладит свои саратовские дела и по телеграмме моей выедет в Москву. Люблю я ее. Тоскую по ней. Вот, думаю, нашел, наконец, жену, друга, женщину. И ужасно детей мне хочется. О семье мечтаю. О своей семье, именно, чтобы с детишками. Чувствую, что это хорошо.
Да-с. Вот здесь, в Ленинграде, подвернулась мне тоже одна. Защекотала нервы, что называется. Знакомых у меня в городе нет никого. А она забавная. Устает, должно быть, от своего Ундервуда, выстукивая целый день в управлении. Проболтал я с ней раз, другой, — она мне разные бумаги выполняла на машинке… Пригласил я ее как-то в кино. Оттуда зашли ко мне в гостиницу. Я враг ложной морали. Она тоже просто смотрит на вещи. Ну, остальное ясно…
Случилось это дней десять тому назад. Потом повторилось. И еще раз. Дня через четыре заметил я у себя крошечную не то царапину, не то язвочку. Особенно не беспокоился. Думал, пройдет. А она становилась все больше и больше.
Вот про эту нелепость я и говорю. Ведь не нужна была мне эта минутная связь. И вот теперь как же быть с женой? Через неделю-другую она приедет в Москву. И я вернусь. Приедет она здоровая, полная ожиданий. Я люблю ее. Думал о семье, о детях. А теперь? Ведь у меня сифилис. Си-фи-лис.
Он схватился за голову и умолк. Молчание длилось бы, вероятно, очень долго. Но мне было некогда. За дверью ждала еще длинная очередь. Тогда я кашлянул и повторил:
— Так кто же все-таки разрушил ваши мечты?
Лицо его было хмуро и серо. У угла губ залегла морщина. Он ответил с некоторым удивлением:
— Ваш вопрос странен, доктор. Я открыл вам все без утайки. Не пробуйте защищать эту машинистку. Ей ничто не угрожает. Ведь я не собираюсь ни убивать ее, ни преследовать за то, что она меня заразила.
Я спокойно оказал:
— И правильно поступаете. Это вполне логично. Человека, который не виноват, убивать или преследовать не за что.
Он сначала не понял, потом вздрогнул и, бледный, выпрямился на стуле.
— Как не за что? — тихо и раздельно проговорил он. — Что вы хотите сказать? Ведь если не она, то…
— …Ваша жена, — закончил я. — Безусловно. Заражение произошло, по крайней мере, месяц тому назад.
На него словно удала тяжесть. Он склонил голову. Плечи его опустились. Я продолжал:
— Если бы вы не были ослеплены любовью или тем, что вы называете любовью и вашей мечтой, вы не нашли бы здесь ничего невероятного. Сколько времени вы знали вашу жену? По вашим же словам, ваше знакомство продолжалось два месяца. До вас у нее была целая жизнь, были другие люди, другие мужчины. Вы подумали об этом? Конечно, когда любят, многое не приходит в голову. Кто думает о болезнях! Быть может, то, о чем говорю я, это верх трезвости. Я согласен. Но тогда будьте готовы получить все, что только ни шлет вам судьба, не взятая под контроль.
Он замотал опущенной головой, как бы отбиваясь от этих слов. Руки его лежали на столе. Лица его я не видел. Из-под черной линии волос выбегали две вздувшиеся вены, исчезавшие в складках переносья. Я продолжал:
— Конечно, это — большой житейский скандал, это — горе. Но что же делать? В конце концов, будете лечиться и вылечитесь; вылечится и ваша жена. Но я должен вам напомнить еще об одном лице. Вы заразили машинистку. Пожалуйста, не забудьте этого. Пока она еще в неведении. Но болезнь скоро проявится. Я думаю, вам следовало бы открыть ей глаза заблаговременно. Ведь вы враг ложной морали и, надеюсь, враг ложного стыда. Ждать, пока сифилис у нее разовьется, не обязательно. Это опасно. Медицина в состоянии предупредить это; предупреждать же лучше, чем лечить. Вы ее заразили. Это на вашей совести. Поэтому ваш долг заставить ее обратиться к врачу теперь же. Вы должны во что бы то ни стало убедить ее в этом.
Вот как статистика о легкости половых связей отражается жизнью. И таких случаев много, так много, что раздаются голоса о необходимости обязательного освидетельствования, вместо обязательного осведомления, при регистрации брачных актов. В настоящее время происходит борьба мнений за и против этой меры. Исход столкновения этих течений, вероятно, скоро найдет свое выражение в каком-нибудь законодательном постановлении.
Вас удивляет моя фраза: «Медицина в состоянии предупредить сифилис»? Представьте себе, это не фантазия. Вы об этом не слышали? Ну что-ж, это указывает только на новизну того завоевания науки, о котором мы сейчас говорим.
Машинистке посчастливилось. Она вовремя принялась за лечение. Она явилась ко мне дня через два после моего разговора с неудачным мечтателем. Это была молодая, со свежим румянцем женщина; когда она говорила со мною, в глазах у нее были слезы, а на лице застыло выражение ужаса. Комкая платок, она беспрерывно вздрагивала, точно она уже ощущала в себе пронизывание бесчисленных бацилл.
Я успокоил ее.
Вот уже почти год, как она закончила профилактический курс. Она совершенно здорова и, конечно, останется здоровой.
Совсем недавно она принесла мне из лаборатории записку с результатом вассермановской реакции. Это быль уже четвертый анализ крови; как и в предыдущие разы, показания были вполне благоприятные.
Амбулатория была полна посетителями. Воздух ожидальни был сиз от табачного дыма и пыли. Где-то хлопала дверьми уборщица. Вечерело.
— Ну что-ж, вы довольны? — опросил я посетительницу и добавил: — Вы хорошо отделались.
Она смущенно перебирала нитку кораллов. Светлые волосы завитками ложились ниже висков и оттеняли нежную линию щеки. Взгляд ее продолговатых серых глаз был несколько печален.
— Я отравилась или бросилась бы с моста, — тихо сказала она. — Но и сейчас я не спокойна, — голос ее задрожал, — иногда, как вспомню, внутри что-то так и сорвется.
Она посмотрела на меня испытующе.
— Доктор, голубчик, как страшна эта болезнь! Я боюсь, что когда-нибудь потом она откроется… Я вот читала об этих параличах… Я ведь теперь без конца читаю обе этих вещах, во все словари заглядываю, и там столько написано ужасного. Может ли отозваться когда-нибудь?
Ее губы сжались. Она снова зарыдала.
— Успокойтесь, — оказал я. — Что вы плачете? Слезы не вода, зачем их зря лить? Будьте же умницей. В любую минуту я дам вам удостоверение, что вы не больны. А удостоверение — это документ. Я несу за него ответственность. Если я даю его, значит, вы совсем здоровы. Вы сейчас такая, какою вы были бы, если бы никогда вас не коснулся мужчина. Утрите же ваши противные слезы.
Слеза бежала по щеке, а взгляд уже посветлел. Она вытерла глаза.
— Объясните мне только одно, — продолжал я. — Вы молоды, трудитесь, вы вовсе не кажетесь распущенной или любительницей легких забав. У вас довольно уравновешенный темперамент. Чувственность тоже не бьет из вас. Отчего же все это у вас так просто? Увидели человека раз, другой, и уже готово. Ну, я допускаю любовь с первого же взгляда, забурлившая страсть, но ведь ничего подобного, по вашим же словам, не было. Вот вы нарвались на сифилис. К счастью, все вероятно обошлось благополучно. А что, если бы к тому же оказалась еще беременность? Ведь это уже целая революция организма. Что бы вы делали тогда? Прибегли бы к аборту? Но рисковать здоровьем ради минутного наслаждения, разве это дело? Если за каждое мимолетное удовольствие вы будете расплачиваться такою ценою, что же от вас останется? Я вас не понимаю. Объясните мне все это, пожалуйста.
Ее лицо залилось краской, потом побледнело и покрылось пятнами.
— Я не знаю, — глухо ответила она после длительного молчания. — Все живут так. Все мужчины подходят ко мне с такими намерениями. Я не даю никакого повода, а они разговаривают со мною так, будто все это само собою разумеется. А если я протестую, мне говорят; это мещанство, предрассудок, отсталость… А потом, доктор, как бы это сказать, найдет вдруг на тебя такое настроение. Разве я этого хочу? Потом, на другой день, ходишь сама не своя, билась бы об стену, загрызла бы себя.
К тому же, подумайте, с утра до вечера служба, утомительная, скудно оплачиваемая. Еле-еле сводишь концы с концами. Стучишь на машинке, а в голове; «Сапожнику надо заплатит за подметки, блузка изорвалась, чулки вздорожали». Не знаешь, что приобрести раньше. А жизнь проходит, не ждет, Мчится своим чередам. Смотришь на других — они счастливы, к чему то стремятся, что-то у них есть, волнуются, чего-то добиваются… Вот и тебе хочется немного ласки, уюта, теплого отношения. Ведь я не старуха. Мне нужно все это. Кто же виноват, что к нам в этот момент подходят не те, кто мог бы стать самым дорогим в жизни.
В ее голосе звучала глубокая печаль.
— А почему вы думаете, — сказал я, — что все дело в этом? Что вся суть в «дорогом»? Конечно, это тоже важно. Но нет ли еще какого-либо другого смысла в жизни? Вот, вы жалуетесь, что вам скучно, что вы одиноки. Отчего же вам не пойти по общему пути с другими? Попробуйте работать в какой-либо общественной организации, у вас в учреждении ведь их сколько угодно. Начните, и вы увидите, как у вас изменится настроение. Учитесь жить с другими и для других, для всех, для таких, кто трудится, как вы. Тогда вам не придется заполнять пустоту вашего существования мимолетными увлечениями.
Она посмотрела на меня с грустью и сказала, подумав:
— Нас к этому не подготовили. Мы — пустые… навсегда.
Напудренные щеки ее опять покраснели.
— Батюшки, — воскликнул я, спохватившись. — Мы совсем заболтались. Ну, идите, мой друг, и подумайте о нашем разговоре.
Она вышла. В передней при свете стосвечовой лампы сидели вдоль стены на скамьях больные. У одних были скучающие лица, у других — нетерпеливые. Беглым взглядом я охватил все это разнообразие лиц, выражений, фигур.
Я никогда не понимал жалоб на скуку работы тех, кто в своей деятельности соприкасается с большим количеством людей. Человеческий материал, в конце концов, очень занятен. Вслушиваясь в сочный, неприкрашенный рассказ больного, иногда как будто читаешь художественное произведение, вышедшее из-под пера чуткого изобразителя быта. В амбулатории это бывает сплошь и рядом.
И какой простор для наблюдений! Даже сейчас, в момент, когда я открываю дверь приемной.
Первым ко мне сидит немолодой мужчина в потертом пиджаке и старомодном воротничке с отворотами. Я знаю его: это счетовод какого-то треста. В момент, когда я появляюсь на пороге, лицо его принимает безучастное выражение. Оно как бы говорит окружающим: «У меня не то, что вы думаете. Я здесь по делу. Я выше всяких подозрений». Он даже отворачивает от меня голову. Но я вижу, как углом глаза он держит в поле зрения меня и дверь кабинета.
А вот совсем еще подросток. Коротко подстриженные волосы делают ее похожей на девочку. Но у губ лежит складка, делающая ее рот — ртом женщины, узнавшей страдание. Ее тонкие губы крепко сжаты. Она ни на кого не смотрит. У нее злое выражение лица и какой-то каменный взгляд. О, эта будет долго помнить обиду! Она не простит. Она будет мстить — все-равно кому.
Неподалеку от нее сидит степенный мужичок. Он напоминает старосту артели, ну, например, плотников. У него широкая рыжеющая борода. Две глубокие борозды бегут от выреза ноздрей к куделящемуся волосу подбородка. Он спокойно оглядывается по сторонам, словно желая сейчас же завязать беседу с соседями, и изредка вздыхает, как бы говоря: «Наказал меня Господь».
Когда он войдет ко мне, его первые слова, конечно, будут: «Попутал меня нечистый на старости».
Рядом с ним сидит рабочий. Ему не более 20–22 лет. Он знает, что такое труд. Щеки румяные, как у девушки, а руки уже огрубели. Вероятно, он рабкор. Время от времени он обводить взглядом соседей, и в глазах его светится слегка тревожное любопытство. Он как будто хочет сказать: «Ах, так вот они, эти люди с ужасными венерическими болезнями! Но ведь они совсем обыкновенные люди, такие, как и все, как и я».
В углу примостилась старушка. Она еще моложава на вид, у нее пухлое лицо с ямками на щеках, седые волосы, но глаза, черные, блестящие, живые. Приветливо улыбаясь, она очень грациозно кланяется мне издали выразительным, несколько театральным движением головы. Я узнаю ее. Это — балерина, очаровательная в восьмидесятых годах прошлого века, прекрасная надежда тогда знатоков балета. Чайковский был в восхищении от этой «кошечки Маторсен». Ее ожидала европейская слава. Но она была слишком шаловлива в свои двадцать лет. На премьере «Спящая красавица» она неосторожно обращалась с огнем, и ее платье вспыхнуло, как факел. Рубцы, оставшиеся после ожогов, заставили ее расстаться со сценой.
Теперь она где-то в студии Губпрофобра преподает пластику. У нее обнаружились какие-то непорядки в мочевом пузыре, и время от времени я вижу ее здесь, в амбулатории. Когда, уже с рецептом в руках, она покидает мой кабинет, у двери, прощаясь со мной, она делает грациозный реверанс, точно это уход со сцены после исполнения номера под гром аплодисментов.
А вот совсем любопытная парочка, мужчина и женщина. Им обоим вместе не более 40 лет. Она нежно жмется к нему, а он держит ее ладонь в своей. Лица у них счастливые. Что это? Не произошло ли здесь только что объяснение в любви? Неужели амбулатория служит им местом свидания? Вот еще новость! Впрочем, я знаю, зачем они здесь. Этот приход — преддверие в ЗАГС. Перед тем, как отправиться совершить обряд гражданского бракосочетания, они хотят предварительно быть осведомленными друг о друге, о здоровье или о болезни. Это современная деловая, честная, трезвая, реалистическая и все-таки наивная молодежь, молодежь, которая борется с лицемерием прежней морали и предрассудками опрокинутого строя. Они хотят быть носителями новых идей то всем. Они создают новый быт. В их походке, в том, как они говорят, как держат голову, есть что-то напористое, как будто они кому-то бросают вызов.
Кстати, по поводу этой молодежи.
Год тому назад в амбулаторию пришел молодой рабочий. Меня он просто восхитил мужественностью. Это был крепыш, с движениями слегка медлительными, но тяжеловатой точности и округлости. На некрасивом обветренном лице северянина глаза смотрели зорко и уверенно. Над небольшим широким лбом волосы бронзоватого отлива шли густыми прядями назад и на затылке были небрежно и красиво спутаны. Фигурой и головой он напоминал Зигфрида из Нибелунгов.
Я заглянул в его регистрационный листок. Это был портовый грузчик.
— Я пришел к вам за удостоверением, — сказал он низким басом, окая по-московски.
— Куда вы должны представить это удостоверение? — опросил я.
— В ЗАГС, — последовал ответ.
За несколько месяцев до этого была декретирована обязательность взаимного осведомления брачующихся о состоянии их здоровья. Но многие из вступающих в брак смешивали обязательность осведомления с обязательностью освидетельствования. И вот, в амбулаторию все чаще стали обращаться эти жертвы ошибочного толкования декретов правительства. Не отказывая в осмотре, я пользовался случаем для дачи различных гигиенических наставлений.
Я осмотрел грузчика тщательно. Ничего подозрительного, никаких следов прежних заболеваний у него не оказалось. Я ввел уретроскопическую трубку, чтобы проверить слизистую оболочку канала, и увидел на всем протяжении последнего равномерно окрашенный полосчатый, влажный эпителий, ясно рефлектировавший.
— В браке, — сказал я, вытирая руки полотенцем, — участвуют всегда двое. Недостаточно одному быть здоровым. Другая сторона тоже должна быть вне всяких подозрений.
Он натянул куртку и застегнулся. Сумерки бросали на его лицо тени. Из-под надлобных дуг сверкал проницательный взгляд. Пока я писал удостоверение, он говорил:
— Мы любим друг друга и мы верим друг другу. Никто из нас не скрыл бы правды. Не в этом суть. Дело в принципе. Всякая идея, завоеванная революцией, должна получить конкретное выражение. Любовь — это индивидуальное ощущение, но брак есть явление общественного порядка, и государству принадлежит до некоторой степени право регулирования этого института. Моя будущая жена была у врача. Она вполне здорова.
Я не без удивления выслушал реплику, прозвучавшую почти дидактически. И тон, и манера, и стиль были довольно необычны для грузчика. Мое изумление не осталось незамеченным. Усмешка, почти неуловимая, легла на его губы.
Тогда я сообразил, что это, вероятно, вузовец, член трудовой студенческой артели.
Грузно переступая с ноги на ногу, он пошел к дверям, унося с собой удостоверение о здоровье.
Через две, примерно, недели этот Зигфрид снова стоял перед моим столом. В его самоуверенности была заметна какая-то трещина. Брови, сжатые к переносью, провели глубокую морщину.
— Я думаю, что не ошибся, — сказал он, когда я вопросительно взглянул на него. — У меня гонорея, не правда ли, доктор?
Я осмотрел его и убедился в справедливости его предположения.
— Совершенно верно, — сказал я. — Но ведь вы совсем недавно собирались жениться? Когда же это вы успели? Ведь я сам выдал вам удостоверение.
Он нахмурил лоб, как будто обдумывая ответ. Серые глаза потемнели. Молча он засунул руку в карман, вытащил оттуда какую-то бумажку и подал ее мне.
Маленький листок был скомкан. Должно быть, чья-то рука в гневе мяла его. Я разгладил складки и прочел: «При осмотре гражданки Новосиловой Ольги, никаких признаков венерических болезней не обнаружено. Врач амбулатории Владимиров». Пока я читал, он сидел, опустив руки на колени, большой, кудлатый и молчаливый.
— Это о моей жене, — сказал он медленно и негромко, когда я окончил, — о моей бывшей жене. Это документ о человеке… — с кривой усмешкой продолжал он. — Еще ботинки не износила после ЗАГСа, а уже успела обмануть меня. И сама заразилась, и заразила меня.
Я слегка растерялся от неожиданной откровенности посетителя.
— Гм… да, — пробормотал я, — это нехорошо. Очень нехорошо это вышло.
— Нехорошо? — сказал он саркастически. — Ну, знаете, доктор, это немного больше, чем нехорошо. Здесь, пожалуй, были бы уместны другие слова. Но я не буду говорить: «подло, гнусно, мерзко». Это ни к чему. — Он вдруг придвинулся ко мне, навалился грудью на стол и посмотрел мне в глаза. — Но зачем она это сделала? Что это, разврат? Но ведь она не буржуазная самка, развратничающая от жира и безделья. Ведь она стойкий товарищ, работница, человек сознательный, умный, марксистка. И вдруг ложь, обман!
Он замолчал. Лицо его, слегка покрасневшее и возбужденное, вдруг застыло, только желваки челюстей выпукло обозначились.
— Эта болезнь, — закончил он неожиданно спокойно после минутной паузы, — тоже ужасно неприятная вещь. Я хотел бы поскорее вылечиться.
Я взглянул на него осунувшуюся фигуру и повертел в руке бумажку, которую он мне дал.
— В чем вы ее обвиняете, собственно? — опросил я. — В том, что она вас заразила? Конечно, она вас заразила. Это ясно, как дважды два четыре. В этом-отношении вы правы. Но изменила ли она вам, это — вопрос. Конечно, в жизни так бывает сплошь и рядом — муж и любовник. Могло это быть и в данном случае.
Но, представьте себе, могло и не быть. Вы от нее заболели, но она вам, может быть, не солгала насчет своей верности. И, обвиняя ее во лжи и в обмане, вы, возможно, неправы. Она вас заразила, но могла и не изменить вам.
Он высоко поднял брови и посмотрел на меня, как на сумасшедшего.
— Простите, доктор, я вас не понимаю, — сухо сказал он. — Если она клянется в верности, это естественно и логично. Внушить мне подобную чепуху — в ее интересах. Но не станете же и вы утверждать, что триппером может заразить здоровая женщина. Ко дню нашей записи она была вполне здорова. Вы сами читали свидетельство врача. Простите. — закончил он с раздражением, — я вас не понимаю.
— Вы этого не понимаете, — продолжал я, — но это очень просто. Она могла быть больна и до встречи с вами. Но она об этом не знала, не знает и теперь. Она заразила вас, но вполне искренно считает себя абсолютно невиновной. Выслушайте меня до конца и поймите, что такое положение вещей могло иметь место.
Он внушил мне почему-то глубокую симпатию. Времени у меня было много, так как прием уже окончился. Мы были одни в опустевшей амбулатории. Сумерки прятались в углах комнаты. За окном красноватый свет зари неуловимо растворялся в безмерности неба.
Я подробно рассказал ему о различии процесса заражения у мужчины и у женщины, и о причинах этого несходства. Я особенно внимательно остановился на анатомических подробностях. На ряде примеров из повседневной жизни я пояснил ему, какова роль «залеченных» мужчин в половом здоровье женщин, и каким образом женщины, не подозревая, что они больны, распространяют заразу и в то же время сами становятся жертвами внедрившихся в их организм микробов.
Он был потрясен моими словами. Когда я кончил, он схватился за голову.
— Доктор, что же в таком случае делать? — произнес он глухо. — Значит, это проклятие подстерегает нас каждую минуту, на каждом шагу. Значить, надо избегать всех женщин, как только они переступили девичество? Подумайте, — воскликнул он с отчаянием, — ведь это просто чудовищно! Человек, который заражает, «залеченный», не знает, что он болен. Она, которая ласкает потом другого, не знает, что она больна и опасна. Он не знает, она не знает, врач не знает. Так кто же знает? Где выход из этого заколдованного круга? Восемьдесят процентов мужчин болеет и болело триппером. Пятьдесят процентов из них «залечивается». Девяносто процентов женщин страдает женскими болезнями. Семьдесят процентов этих болезней — результат триппера. Это же ваши цифры, ваши слова. Так что же? Значит, все кругом больны, все заражены? И нет никакого спасения? Каждый должен раньше или позже попасть в рамки этих неизбежных процентов? Ведь это же жутко!
Он умолк на минуту, сильно взволнованный. Широкая грудь поднималась и опускалась, как бы сотрясаемая эмоцией, более мучительной, чем недавно испытанная скорбь. Затем он покачал головой и, заглянув мне в глаза, как бы выпрашивая возражение, добавил:
— Нет, доктор, здесь что-то не так. Вы, должно быть, ошибаетесь. Иначе все давно с ума сошли бы.
Несколько минут царило молчание. Что ответить ему?
Я взглянул на посетителя. Лицо его все еще выражало скорбь и возмущение.
— Да, — сказал я мягко, — вы отчасти правы. Может быть, я преувеличиваю, может быть, я вижу мир лишь через окно венерологического кабинета. Но если я и преувеличиваю, то, во всяком случае, не особенно сильно. «Все сошли бы с ума» — это вы напрасно думаете. Вы просто не знаете только течения этой болезни. Ведь многим она кажется пустяком. Она кричит о себе только в первые дни, недели, и она заставляет резко страдать от боли только мужчин. Через какой-нибудь десяток дней она уже стихает. Поэтому никто и не бьется головой об стену.
«Все должны раньше или позже попасть в рамки неизбежного процента». Это не обязательно, это даже не неизбежно. Да-с. Можно обойтись без этого. Не делайте себя рабом минутных привязанностей, случайных связей, будьте осторожны в вопросах пола, брака, семьи и вы можете быть спокойны, что вы избегнете неизбежного процента, и вас не будут огорчат всякие неприятные события, — эти и им подобные. Безусловно, иногда здесь возможны сюрпризы, вот как с вами, например. Если, конечно, вас можно взять в пример. Я не знаю вас, может быть, вы выносили и вырастили большое и глубокое чувство, а жизнь и здесь ударила вас грязью. Что-ж, это бывает. Конь о четырех ногах и тот спотыкается. Вы идете по людной улице; вдруг с крыши сваливается кирпич, и вы падаете мертвым. Значит ли это, что хождение по улицам вещь роковая? Это ведь исключение.
— Не будем спорить о процентах, доктор, — сказал он после небольшой паузы. — Немного больше, немного меньше, это не важно, в конце концов. Скажите мне, пожалуйста, другое, вот о медицине. Если многие вопросы лечения гонореи еще спорны, по вашим же словам, то что же делать? Как бороться с этим злом? Профилактика… профилактика… Это я знаю, — продолжал он нетерпеливо. — Ну, конечно, лучше предупреждать, — кто же с этим спорит? Ну, а тот, кто уже болен, кто заражается сегодня, завтра? Что делать ему? Пулю в лоб, что ли?
Он вызывающе посмотрел на меня. Что-то злое скользнуло по резко очерченным губам его. Над открытым лбом упрямо громоздились отброшенные пряди светлых, с бронзовым отливом, волос.
— Зачем так мрачно смотреть на вещи? — сказал я. — Вы меня не совсем поняли. Конечно, и у гонореи есть свои тайны. Однако, это совершенно не мешает нам успешно воздействовать на нее. Мы умеем лечить эту болезнь и избавляем людей от нее. Правда, бывают споры порой, поднимаются вопросы излечима ли гонорея, ищут твердых критериев исцеления. А раз ищут — значит, их пока как будто бы нет. Так ли это? Нет. К счастью, это не так.
Над какими случаями мы бьемся? Над всякими? Нет, только при осложнениях, при так называемом хроническом течении болезни мы обливаемся иногда седьмым потом. Вот когда приходится запасаться терпением. В этих случаях гонококк зачастую буквально смеется и над нашими знаниями, и над нашим опытом. Тут, действительно, иногда можно поспорить, где граница между здоровьем и болезнью.
Но что такое осложненное течение гонореи? Неизбежно ни оно? У всех ли оно бывает? Конечно, нет. У половины пострадавших болезнь протекает как острый процесс. Это значит, что она излечивается без остатка.
А у остальных?
Остальные — это именно те, кто плохо лечатся. Это те, которые грешат с виду невинными вещами, несоблюдением диэты, злоупотреблением вином, спортом, нерациональным образам жизни, эротической необузданностью. Это как будто мелочь, пустячок там какой-нибудь, — рюмка водки, скажем, о ней даже смешно сказать врачу. Но даром эти пустячки не проходят, как бы ничтожны они не были. И винить некого. Залог здоровья в нас самих. Это нужно твердо помнить.
Но даже и здесь, в этих трудных случаях, мы добиваемся полного исцеления. Нет такого триппера, который был бы неизлечим, который бы не поддался медицинскому воздействию. При терпении и выдержке не только врача, но главным образом больного, успех обеспечен. В нашем распоряжении достаточный арсенал средств для этого. И он позволяет освобождать в конце концов организм от микроба.
Недавно как-то один мой коллега сказал мне, что в результате своей двадцатипятилетней работы он не знает, вылечил ли он хоть одного больного от триппера. Прав ли этот врач? Конечно, нет. Никоим образом. Он был бы близок к истине, даже стал бы вплотную к ней, если бы сказал, что из тех многих тысяч больных, которые прошли через его кабинет, ни один не соблюдал предписаний врача. Вот тогда его вывод был бы вполне справедлив. И объяснил бы отсутствие успеха его лечения. Да, лечиться надо, батенька, — продолжал я, меняя тон. — Слушать доктора надо. Вот и вы сейчас пообещаете мне кучу всего; «и аккуратно приходить буду, и избегать спиртных напитков буду, и к женщине не подойду, и щей кислых не хлебну, а не то что перцу или горчицы, хоть год целый, а выдержу». Но через месяц, когда все у вас успокоится, а то и раньше, начнется: то бокальчик пива, то вкусная сельдь, то запеканка, то еще что-нибудь. А потом будете разводить руками: «И что это за болезнь такая изворотливая, никак с ней не разделаешься!»
Он поморщился.
— Нет, доктор, вы не о том, — сказал он с досадой. — Я не о себе. Вот объясните мне это обстоятельство, — он указал пальцем на скомканную бумагу, свидетельство о здоровье его жены. — Пусть мы, мужчины, виновны, пусть это мы сами доводим наше заболевание до такого состояния, когда помочь трудно. Но ведь здесь-то этого не было. Здесь слово принадлежало врачу. Значит, это он ошибся. Впрочем, я опять не о том, — добавил он, прежде чем я успел открыть рот, — я опять не о том. Я не хочу говорить о вине врача. Я спрашиваю, как быть ей, если врач признает ее здоровой? Ведь на самом деле она больна, а врач дает ей такое удостоверение. Как же ей выкарабкаться из этого тупика, и как можно ее лечить, если нельзя открыть следов болезни?
Нужно сказать, что эти вопросы были мне неприятны. Они не захватили меня, правда, врасплох, но я испытывал то ощущение, какое бывает, когда вам наступают на мозоль, когда трогают то, что беспокоит и бередит. Потому что, следует признаться, этот студент коснулся самого больного места нашей специальности. Я не был захвачен врасплох именно потому, что эти вопросы всегда, каждый день, выпирают и стоят перед нами.
Со мной недавно был такой случай. В амбулаторию пришла школьная работница, — очень застенчивое, милое существо. Гладко зачесанные волосы на затылке были связаны в толстый жгут; глаза у нее были большие, светлые, доверчивые. Она еле-еле выговорила эти страшные слова о болезни. Я понял, что она имеет в виду гонорею. Дрожащие губы, еще сохранившие что-то детское и неискушенное, говорили о долгих часах терзаний и волнений. Я ее не расспрашивал. Она хотела получить справку о здоровье.
С большими или меньшими промежутками она посещала амбулаторию свыше месяца. Явственных симптомов болезни у нее не было. Я сделал ей ряд мазков, может быть десять-пятнадцать, вплоть до посевов. Я применил всю систему провокации. Я использовал для исследования период менструаций. Кроме того, я энергично вакцинировал ее.
Я видел, какие моральные мучения причиняла ей процедура визитов. И каждый раз, когда я просматривал ответ лаборатории и находил там отрицательный результат, она радостно говорила:
— Ничего нет? Значит, я здорова?
Я ее останавливал:
— Нет, этого недостаточно. Приходите через неделю, я сделаю вам то-то и то-то, и тогда видно будет.
Когда она начинала протестовать, я говорил ей решительно:
— Если вы не согласны, можете поступать как хотите. Но я не могу дать вам справки.
И вот, мною было сделано все, что предписывает наша наука.
Ни в клиническом, ни в бактериологическом отношении ничего подозрительного я не обнаружил. И я сказал ей, наконец:
— Да, вы не больны.
Она ушла радостная, счастливая, даже не попрощавшись со мной в порыве возбуждения, охватившего ее.
А на другой день пришел какой-то человек. И тогда я узнал, почему она так упорно добивалась истины.
Это был ее муж. Он тоже был школьный работник, такой же хороший, мягкий, совестливый. Он женился на ней два месяца назад, за две недели до ее первого визита ко мне, и заболел гонореей. Никто, кроме нее, единственной женщины, с которой он был близок, не мог быт виновником этой драмы.
Я ему верил. Он не думал о мести, даже не собирался упрекать ее. Он волновался не за себя, а за нее, за ее здоровье. Поэтому он был правдив.
Итак, она была больна триппером. А я, простившись с ней пять-шесть недель, признал ее здоровой.
Сделал ли я все для открытия гонококка? Мог ли я упрекнуть в небрежности себя? Конечно, это была моя ошибка. Но если бы я действовал, строго соблюдая требования науки, то эти исследования затянулись бы еще, может быть, на два месяца. Но у нее не было ничего подозрительного. И я счел достаточным то, что мной было проделано. Это, во-первых. А во-вторых, испытуемая, безусловно, сбежала бы раньше, чем я довел бы дело до конца.
Последнее соображение меня, конечно, не оправдывает. Но так как она внушала мне доверие, и так как результаты исследований говорили в ее пользу, то мне казалось, что дальнейшее наблюдение будет уже ничем не оправдываемой проволочкой.
Или вот — другой случай. По такому же поводу в амбулаторию ходила одна молодая женщина. Утомительные процедуры она переносила безропотно. По всем данным выходило, что она триппером не больна. Я ей так и сказал в конце концов.
Спустя несколько дней один из моих больных, мужчина, принялся на приеме горячо благодарить мена. Он лечился от гонореи и ходил ко мне свыше двух месяцев.
— Помилуйте, — оказал я, — за что это вы так благодарите меня?
Он очень дружественно и смущенно улыбнулся.
— Сам не знаю, — сказал он. — Просто мне приятно, что моя жена не оказалась затронутой болезнью. Спасибо вам, что определили. Я очень был обеспокоен.
Оказывается, это был муж пациентки. Я расспросил его. Он не скрыл правды. В начале заболевания, т. е. в самый заразительный период, он имел с ней половое общение, и не раз. Ясно, что он ее заразил. И я с тревогой вспомнил, что совсем недавно я порадовал ее полным благополучием ее здоровья.
Она снова пришла ко мне, на этот раз уже по моему приглашению, переданному через мужа, и опять стала регулярно посещать меня.
В конце концов, гонококк был мною обнаружен. Но это произошло лишь на четвертый месяц поисков.
Я знаю, вы спросите, отчего же ко всем обращающимся к врачу нельзя применить те же методы? Ведь вот можно, оказывается, выявить возбудителя. Правда, это долгая история, но, в конце концов, речь идет о здоровье.
Вы правы, конечно. Но вы не учитываете одного. Есть разница в поводах обращения к врачу тех или иных лиц. Одно дело, когда к вам приходит женщина, уже болевшая или с предположением о болезни. В этих случаях еще можно настаивать на долготерпении. В германских клиниках после лечения назначается 6-месячный курс испытаний. Чтобы узнать об исцелении, надо, может быть, выждать еще больший срок. Но совсем другое дело, когда вы должны внушить человеку, что его подлежит рассматривать, как зараженного, в то время, как он сам твердо считает себя совершенно здоровым. Он никогда не был болен и, по его расчетам, заболеть никак не мог. И вот, этот человек, эта женщина, стоит у вас в кабинете, чтобы выполнить, в сущности, мелкую формальность. Разве она больна? Боже сохрани! Просто ей нужна бумажка для ЗАГСа, для службы, для ВУЗа. Попробуйте сказать ей о месяцах ожидания. Что тогда получится?
Не забудьте при этом, что существует еще ряд житейских моментов, которые не мирятся с этими сроками. А иногда бывает и так, что сама постановка исследования, его продолжительность превращается в сигнал, возвещающий как будто об опасности.
Пришла ко мне как-то молодая работница ткацкой фабрики в красном платочке, миловидная, деловая, с приподнятой верхней губкой.
— Мне бы от вас бумажку, свидетельство получить, — сказала она, слегка почему-то ухмыляясь, — записаться хочу.
Я осмотрел ее. Ничего особенного не нашел. Потом опросил ее подробно. Тоже ничего подозрительного не обнаружил. Взял мазок и, вручив ей записку в лабораторию, сказал:
— Приходите через три дня.
Она открыла на меня глаза, как бы в испуге. Потом отмахнулась рукой и сказала:
— Что вы, гражданин врач, через три дня. Нам с Сергеем надо к завтрему. Это уж обязательно.
Я пожал плечами.
— Ничего не выйдет. Хорошо еще, если тремя днями обойдется. Скорее всего, что для этого потребуется несколько недель.
Лицо ее вытянулось. Она, казалось, была ошеломлена.
Я добавил:
— Ничего не поделаешь. Надо будет потерпеть. Ведь это и для вас лучше. Дело серьезное, замуж выходите, значит, надо уж, чтобы было без всяких сомнений. И вы будете спокойнее. А если сразу, тяп да ляп, то потом, чего доброго, неприятности будут.
Глаза ее стали сердитыми. Она оказала возмущенно:
— Да откуда же это может быть, ежели у меня сроду ничего подобного не было? Разве я не знала бы о своей болезни? Что-ж это такое?
Я подробно объяснил ей суть дела. Вначале она настаивала на своем, даже пробовала подействовать на мое самолюбие. — «Что-ж вы — доктор, а не можете определить сразу», но я категорически отказал ей в выдаче удостоверения. Она ушла.
На третий день она снова пришла. Я достал из пачки бумаг, присланных лабораторией, ее листок. Ответ не содержал указания на присутствие гонококка, но значительное число лейкоцитов, обнаруженных в поле зрения, было нехорошим признаком. Я прямо оказал ей, что необходимо продолжить исследование.
Она сжала зубы. Я ввел вакцину под кожу живота и назначил ей явиться через два дня.
Минут через десять после ее ухода за дверью поднялся шум. В приемной послышались взволнованные голоса, кто-то забегал. Я был занят больным, который рассказывал мне, пока я его уретроскопировал, историю своего заражения. Вдруг голос, как внезапно развернутая спираль, прорезал гам и суетню за стеной и закричал острым, срывающимся звуком. Кто-то забился в истерике.
Я оставил больного и вышел в приемную. В углу несколько человек хлопотали около женской фигуры, полулежавшей на скамье. Кто-то протягивал ей стакан с водой. Дежурная сестра торопливо наливала в мензурку темные капли. Когда я подошел ближе, я узнал в виновнице суматохи только-что вышедшую от меня молодую женщину.
Причина этих слез выяснилась на следующий день, когда молодой рабочий с тщательно расчесанным пробором на черной, как воронье крыло, голове, смял в рунах свою шапку и сказал, как только мы остались одни.
— Я к вам насчет одной женщины. Не можете ли вы объяснить мне, какая у нее болезнь? Фролова — ее фамилия.
— А зачем вам знать это? — спросил я, разглядывая низкий лоб и упрямый крепкий подбородок.
Он переступил с ноги на ногу.
— А как же! Еще третьего дня в ЗАГС нужно было идти, а она приходит и говорит: «Доктор удостоверения не дает. Отложить надо». Вчера опять такое же. Ну, я и в сомнении. Я так полагаю, что больна она, не иначе, только сказать не хочет. С какой стати доктор не дает ей бумагу? Мне вот сразу выдали. Значит, не ладно что-то. А я не хочу, чтобы болезнь меня испортила.
Я растолковал ему, что, во-первых, ничего о Фроловой я ему не скажу, так как существует врачебная тайна, и, во-вторых, что даже здоровые женщины всегда подвергаются длительному исследованию. Понял он или нет, не знаю.
— Ага, — протянул он, — а я думал…
Через два дня, как было назначено, Фролова опять явилась ко мне.
После инъекции вакцины реакция была не резкая. Я достал из глубины влагалища выделения и нанес их на стекла.
— Теперь вам нужно показаться дня через три, когда получится ответ, — оказал я, фиксируя мазки над спиртовкой.
Она оперлась рукой о край стола и, с ненавистью глядя на меня, сказала с едва сдерживаемым раздражением в голосе:
— До каких пор вы будете мучить меня? Что это такое? Здорового человека мучить! Мало вам слез моих, погубить хотите меня.
Я вспомнил ее истерику.
— Как вам не стыдно? — сказал я строго и укоризненно. — Ведь я о вас же хлопочу, о вашем благе забочусь. Зачем вы пришли ко мне? Чтобы узнать, здоровы ли вы или нет. Если я скажу вам, что вы здоровы, а потом муж от вас заболеет, лучше будет вам? Нет, в сто раз хуже! Выгонит вас ваш Сергей из дому, позору не оберетесь, под суд пойдете, да и я с вами заодно. Поймите, наивный вы человек, что надо потерпеть.
Она начала всхлипывать.
— До какой же поры ждать? — сказала она, продолжая плакать. — Он грозится: «В последний раз жду, не принесешь сегодня, значит, нету нам жизни вместе, больна и есть!»
Неважно, чем кончилась вся эта история, дошло ли дело до ЗАГСа. Характерна здесь вот эта впутываемость различных привходящих обстоятельств, усложняющих и без того нелегкую процедуру исследования.
Я припоминаю еще и такой случай. Одна испытуемая направилась к главному врачу и заявила, что я, руководствуясь неизвестными ей побуждениями, нарочно затягиваю выдачу ей справки о здоровье и проделываю разные эксперименты, в то время как даже анализы удостоверяют отсутствие у нее венерических заболеваний.
Нужно ли говорить о том, что огромное большинство вообще не доводит процедуру исследования до конца. Они исчезают, напуганные, очевидно, перспективой каких-то бесконечно повторяющихся манипуляций.
Я помню, в начале осени пришла ко мне однажды высокая, красивая женщина. Уже стемнело, и я собирался закончить прием. Вечер был мягкий и в то же время крепкий, такой, какой бывает только в дни золотого сентября. О таком именно вечере поэты говорят, что он, словно вино, пролитое над землей.
У вошедшей женщины было лицо татарского типа, пухлые губы и большие черные глаза, неправильно поставленные. Она косила почти незаметно. Почему-то я вспомнил Катюшу Маслову.
Она, видимо, была очень смущена и расстроена.
— Садитесь, — оказал я, — и расскажите, что с Вами.
Лицо ее стало пунцовым. Она сделала какое-то движение губами, но не произнесла ничего. Своими длинными белыми пальцами она нервно теребила конец пестрого шарфа.
— Вы заболели? — спросил я, помогая ей ответить.
Она остановила на мне свой взгляд, испуганный и протестующий.
— Нет, — произнесла она, наконец, голосом, хриплым от волнения. — Нет, доктор. Но мне нужно, чтобы вы осмотрели меня.
Она, наконец, овладела собой. Пламя румянца погасло. Под агатовыми глазами залегли синеватые тени. У правого угла рта вызывающе чернела крохотная родинка.
— А зачем вам этот осмотр, если вы чувствуете себя здоровой? — спросил я. — Для ЗАГСа?
— Я замужем, — сказала она. — Мне это нужно… просто нужно, ну, меня оклеветали… ну, не все ли равно? — оборвала она, хмурясь.
Я сделал вид, что не обратил внимания на резкость ее тона.
— Конечно, все равно, — сказал я, вставая. — Пожалуйста, подойдите сюда.
Она легла в кресло, и я осмотрел ее.
Потом я вымыл руки и сел за стол, чтобы писать в карточку данные. Она нервно покусывала губы и ждала.
— Вот что, — откладывая перо в сторону, сказал я. — Вы больны, у вас гонорея, и вам необходимо лечиться.
Действительно, у нее были следы воспаления канала. Первая порция мочи имела тот характерный мутноватый цвет, который открывает наличие болезни, уже лишенной острых проявлений, и к этой детали присоединялись еще симптомы, подтверждавшие диагноз.
Она казалась подавленной. Она неподвижно и напряженно смотрела на меня; ее блестящие зрачки явственно косили. На лицо медленно наползала бледность. Она опустилась на стул и растягивая слова, сказала:
— Ничего не понимаю. Это какая-то ошибка. Это… это страшно. Я… я…
Последние слова она прошептала чуть слышно. Голова бессильно поникла. Она была в обмороке.
Я позвонил сестре, перенес ее на кушетку и привел в чувство. Она лежала, закрыв глаза и изредка судорожно вздрагивала. За опущенными веками, за маской лица угадывался водоворот мыслей, страдания и боль.
Прошло несколько минуть. Сестра ушла.
— Вам лучше? — опросил я мягко. — Вы можете встать?
— Да, да, сказала она глухо. — Простите, ради Бога, за беспокойство. Но это было так неожиданно. Теперь уже прошло. Я сейчас уйду. Простите.
Она опустила ноги и села. Мне было жаль ее.
— Окажите, пожалуйста, — сказал я. — Неужели вы ровно ничего не замечали, ни болей, ни неприятных ощущений?
Она покачала головой. Вдруг лицо ее оживилось. Окрепшим голосом она спросила:
— А, может быть, произошла ошибка, доктор? Ведь бывают же ошибки?
И она подняла на меня глаза с мольбой. В ее взгляде словно робко блеснул луч надежды.
— Доктор, это далеко не простая вещь, — сказала она тоскливо, как бы стремясь убедить меня. — Это не то, что у всех. Вы поймите, это необычная история. Здесь нельзя допустить ошибки, — добавила она. — Ведь это будет кошмар.
Со сложенными на коленях руками она выжидающе смотрела на меня.
— Хорошо, — сказал я, подумав. — Я понимаю. Я допускаю, что для вас этот вопрос очень серьезен. Но чем могу я вам помочь? Я буду откровенен. По моему, вы больны. У меня сомнений нет. Но, чтобы выяснить все до конца, я постараюсь отыскать источник вашего заболевания — гонококк. Если он обнаружится, значит, не может быть никаких сомнений. Если же его не окажется, то время, затраченное на его поиски, позволит нам произвести расследование и в другом направлении. Конечно, всякое бывает. Может быть, выявится иная причина всех этих симптомов. Но предупреждаю: временем и терпением придется вам запастись.
И голос, и движения ее оживились. То, что я как будто оставил место сомнению, было для нее почти радостью. Значит, может быть, и нет. Так, вероятно, думала она.
Она подошла ко мне и оперлась рукой об стол.
— Вы меня извините, — сказала она, краснея, — за мой тон в начале нашего разговора. Я весь день скверно чувствую себя. Я вам хочу рассказать… Вы должны понять, почему тут не простая история.
В нашей маленькой квартирке живет две семьи. Я и муж — одна; другая — сослуживец мужа и его жена. У них и у нас по две крохотных комнатки. Я мечтаю все время о том, чтобы поселиться отдельно. Знаете, это так неудобно жить вместе, мы и они — совершенно разные люди. Ах, этот проклятый жилищный кризис! Это он во воем виноват. Мой муж часто ездит по делам службы в командировки. Не то, чтобы его заставляли. Нет, он сам их добивается. Жить ведь надо. На одно жалованье можно только с трудом перебиваться. А суточные, проездные — это все-таки подспорье. Благодаря им можно кое-как свести концы с концами.
Теперь он находится в продолжительной командировке где-то в Сибири, что-то закупает, производит какие-то заготовки. Уже более полутора месяцев он в отсутствии… Наш сосед по квартире отправил свою жену за город. Сам он, знаете, милый, хороший человек. По крайней мере таким он казался. Но она… У нее ужасный характер. Неприятная женщина! Тем не менее все время мы кое-как с нею ладили. Приходилось уступать, конечно, жаться, но жили мирно.
Она сделала паузу и наморщила лоб, как бы не решаясь продолжать. Взгляд, брошенный исподлобья, испытующе остановился одно мгновенье на мне. Потом она встряхнула головой и решительно сказала:
— Неделю тому назад его жена вернулась с дачи. Вчера вечером у них быта ссора. Я слышала, как за стеной они громко спорили и шумели. А потом она приходит ко мне и кричит ужасным голосом: «Вы заразили моего мужа. Я все знаю. У вас была связь в мое отсутствие». Да, да, доктор, она считает своего мужа и меня причиной вот этой самой венерической болезни. Она утверждает, будто бы я заразила его, а он ее. Представьте себе, какая низость!
Черные глаза больной ярко блестели. Пухлые губы поминутно обнажали влажную полоску белых зубов. Произнося последние фразы, она рассекла воздух рукой, точно наносила кому-то удар. Теперь, возбужденная, возмущенная, она выглядела гораздо менее привлекательной. Негодование придавало ее лицу злое, неприятное выражение.
— Однако, откуда же взяла ваша соседка такую версию, — сказал я. — Были, очевидно, у нее какие-нибудь основания.
Она вытянулась во весь рост. От прежней слабости не осталось и следа.
— Никаких! Никаких оснований! Это — клевета, больное воображение. Ей всюду мерещится измена, мужа. Но она мне ответит за это на суде. Я докажу… — И вдруг она запнулась. Она вспомнила…
— Доктор, — упавшим голосом добавила она. — Откуда взялась бы ко мне эта болезнь? Ее не могло быть, не могло. Это совершенно непостижимо. Скоро приедет муж. Что же это будет? Я тогда повешусь, потому что муж уйдет от меня. А я не знаю, откуда… И выйдет, что я виновата крутом. Боже, что же это такое…
Она вынута платок. Рот ее скривился, вокруг глаз набежали морщинки. Она начала плакать. И опять превратилась в жалкую, раздавленную несчастьем женщину.
Создавалось крайне замысловатое положение. Я почти наверное установил наличность гонореи. И если бы анализ подтвердил это предположение, то тогда клубок размотать было бы невероятно трудно. Прежде всего, откуда у нее гонококк? От кого? Он мог быть и от постороннего мужчины, и от мужа. «Залеченные» мужья сплошь и рядом заражают жен. Если гонококк есть, следовательно, она могла заразить соседа, разумеется, поскольку между ними была половая связь, было то, что называется изменой.
Предположим, что муж здоров, и что с соседом у нее не было никакой связи. Тогда, значит, она изменила мужу раньше. Сосед же мог, в свою очередь, заполучить гонорею независимо от нее и заразить затем свою жену. Это вполне возможно, и соседская драма была бы в данном случае только простым совпадением.
Но могло быть и иначе. Она могла заполучить гонококк от своего мужа, а сосед от какой-нибудь другой женщины. Тогда она вообще была бы не при чем во всей этой истории. Но, все-таки, гонококк у нее налицо. Как же докажет эта женщина свою невиновность, свою непричастность? Разве уверения, клятвы, слезы — аргумент для ослепленной женщины и отсутствовавшего ревнивца.
Развязать безболезненно узел могло только одно: моя ошибка. Если бы я оказался неправым в определении болезни, если у нее не будет обнаружен гонококк, если это только, скажем, раздражение выводящих путей солями уратов, оксалатов или фосфатов и т. п., — тогда все разрешится очень просто, и она выйдет благополучно из всей этой путаницы.
Таким образом, надо было либо Найти гонококк, либо найти другое заболевание, ошибочно принятое мною за гонорею.
Я объяснил ей все это. Она снова успокоилась. Вероятно, она была уверена в последнем.
Я взял мазки, и она ушла, унося с собой смутную надежду на удачу.
Я был добросовестен. Лаборатория получила от меня ряд записок с фамилией этой женщины. С каждым новым анализом лицо посетительницы становилось светлее. Правда, солей не было, но и гонококк не обнаруживался.
И все же я был уверен в наличии его. Чутьем догадывался об его существовании. Но нельзя было ограничиться только чутьем и клиническими симптомами. В силу обстоятельств, которые я узнал от нее, я хотел во что бы то ни стало добиться бактериоскопического подтверждения.
И вдруг однажды она не пришла. Еще до этого я заметил, что она уже не прислушивается к моим доводам. Она томилась бесконечностью исследований. Каждый раз, когда я разворачивал бланк лаборатории и не находил рокового «гонококк Нейссера обнаружен», лицо ее вспыхивало радостью. Но я неутомимо подготовлял ее к новым мазкам. И она недовольно пожимала плечами.
Она не пришла, больше я ее не видел. Так пропал для меня финал этого эпизода двух квартирных пар.
Таких, не дотянувших до конца исследования, сколько угодно. Как бы ни был важен для них результат, они не выдерживают искуса.
Я думаю, что у многих из них составилось неважное мнение о моих способностях и знаниях. «В самом деле, ходишь к нему, к этому самому доктору, ходишь без конца, а он все еще не может определит. Что-ж это за доктор?
Но куда они исчезают? Ведь удостоверения-то им нужны? Конечно, нужны. Поэтому, уйдя от меня, они обращаются к другому врачу, идут в другую амбулаторию. И очень часто бывает так, что там они в два счета получают просимое, как, например, это было с женой студента, члена артели, о котором я вам рассказывал.
Но почему некоторые врачи сразу же выдают удостоверения в таких внешне благополучных случаях?
Что это, невежество или легкомыслие? Или точка зрения на вещи, не согласная с моей, так сказать, различие взглядов? Нет, я думаю, здесь больше всего влияние шаблона — сила традиции.
Мы, врачи, впитали всеми извилинами своего понимания убеждение, что раз триппер, значит и гонококк. Нет гноя, нет мутной мочи, а главное, нет гонококка, следовательно, нет и триппера. Чтобы найти гонококк, Надо сделать анализ мочи и мазков. Сделано. Гонококка нет, лейкоциты и прочее тоже не пугают, жалоб нет, субъективно все как бы в порядке. И вот резолюция: гонореей не болеет. Это есть так называемое недисциплинированное врачебное мышление. Ведь теперь мы знаем, что этого недостаточно, знаем доподлинно, с твердостью научной аксиомы, что сплошь и рядом гонококка нет, что мы не может его найти с первого же дня заболевания женщины, и никаких других видимых признаков нет, а между тем болезнь, может быть, на самом деле и существует.
Поэтому поиски гонококка нужно предпринимать не раз и не два в спорных случаях, а иногда целыми сериями. И не только следует стремиться открыть его самого, а и те следы, которые он оставляет в глубине органов. Если даже микроба нет как будто налицо, то найденный след достаточен, чтобы выдать возбудителя с головой.
Все эти сомнения и настойчивость являются достижением лишь последних лет. А машина мышления у некоторых работает по-привычному, идет преимущественно по проторенным путям, пользуется установленными формулами.
Этим злополучным гонококком, нужно сказать, положительно заражена психика больных. Все посетители городских амбулаторий слышали или читали о нем. Гонококк — это возбудитель триппера. Нет его, значит, нет и триппера, не может быть и заражения. Когда мы держим в руке исследование лаборатории, а перед нами стоит больной, уже полечившийся некоторое время, первое, что мы слышим от него, это: «А гонококки найдены?». И если нет их, раздается глубокий вздох облегчения и вздох радости.
Вначале я не придавал этим вздохам большого значения. Я говорил обычно: «Ну, надо еще поискать». И больной продолжал ходить ко мне, как ни в чем не бывало.
Но потом мне пришлось часто сталкиваться с фактами нарушения запретов, налагаемых болезнью. Внезапно у больного наступало ухудшение. Я спрашиваю:
— Не пили ли вчера вина или пива?
— Что вы, доктор, ни-ни! Разве можно?
— Странно, — говорю, рассматривая в стакане для мочи предательскую жидкость. — Ну, а насчет женщин?
— Это было, — простодушно отвечает спрошенный. — Так ведь я не с какой-нибудь, а с женой?
— Позвольте, — говорю я возмущенно, — кто же вам это разрешил? Как вам не стыдно?! Мало того, что вы себе вред причиняете, вы заражаете еще и жену.
Больной слушает меня с недоверием и затем выпаливает:
— Да у меня же нет гонококков, как я могу заразить ее?
Так было с одним, с другим, со многими. Теперь я стараюсь обращаться к анализам только в самом конце лечения, когда уже почти нет сомнений в выздоровлении, когда все уже проделано. И, получив ответ «гонококки не найдены», я еще раз напоминаю о необходимости воздержания вплоть до самого конца наблюдения.
Но откуда берется у больного эта слепая вера в гонококк? Конечно, от врачей. Врачи слишком огульно и широко подчеркивают значение этого возбудителя. Между тем, в отношении женской гонореи, например, подобная оценка отсутствия гонококка, может оказаться роковой для человеческих взаимоотношений. Этому шаблонному взгляду должна быть объявлена война, и не только в специальных лечебных заведениях, в венерологических институтах, в клиниках, но и в амбулаториях, которые и обслуживают главным образом широкие массы.
Есть еще очень важный момент, о которым приходится считаться в борьбе с венерическими заболеваниями.
Это перегруженность амбулаторий. Врачам приходится в течение пяти часов принимать 60–70 человек. Это ненормально. Значит, борьба должна вестись и за разгрузку врача, за предоставление ему возможности вдумчивого и всестороннего отношения к жалобам посетителей амбулатории.
Конечно, не должен ослабевать и натиск на человеческую беспечность, ту беспечность, которую поддерживает незнание. Широчайшие Слои населения должны быть знакомы С Опасностью мужской «залеченности», с теми последствиями для жены, для семьи, для самого носителя неликвидированного триппера, к которым эта «залеченность» ведет. Слово врача станет тогда властным и решающим.
Но самое главное, на что должно быть обращено внимание, — это невежество женщин, их неосведомленность в вопросе о гонорее. Их нужно просветить, дать им в руки компас: правильное представление о некоторых особенностях мочеполовой сферы. Тогда мимо их сознания не будут проскакивать те внезапные, неприятные, как бы скоропроходящие ощущения, которые могут вдруг появиться в начале или в течение их половой жизни. Они должны знать корни своей анатомической трагедии. Тогда женщина не будет больше препятствием в нашем желании помочь ей, тогда не будет этой торопливости, этого страха перед сроками. Нам же, врачам, это, несомненно, развяжет руки.
Все это я рассказал студенту, посетителю амбулатории. Уже было совсем поздно. Ночь смотрела в окно. Кругом, в здании поликлиники и во дворе, стояла тишина, какая-то спокойная, ясная, без шорохов. Он слушал меня молча, не шевелясь.
— Да, — закончил я, — если бы все это было именно так, тогда не было бы ни вашей болезни, ни ваших предположений об измене.
Он молчал, потом закрыл ладонями лицо и глухо сказал:
— Как это ужасно! Значит, чуть ли не к каждой женщине нужно подходить с предубеждением. Какие-то там испытания, исследования, гонококки, выделения, заражения, черт знает, о чем надо думать, когда вот здесь сердце бьется безумно и жадно любовью. Что-ж это такое? — сказал он со стонущим звуком, как бы стиснув зубы.
Я посмотрел с жалостью на его склоненную светловолосую голову.
— Это — жизнь, как она есть, — сказал я со вздохом, — какой она не должна быть и какой она, вероятно, в скором времени не будет.




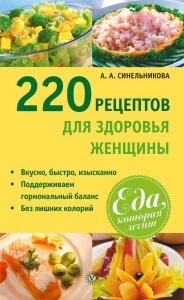

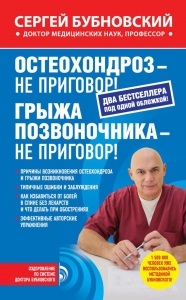

Комментарии к книге «За закрытой дверью. Записки врача-венеролога», Лев Семенович Фридланд
Всего 0 комментариев