АННА БЕРЗЕР
ПРОЩАНИЕ
Эти воспоминания о последних днях Василия Семеновича Гроссмана мне хотелось бы начать словами Корнея Ивановича Чуковского о начале, о первых его шагах. В письме к сыну Н. К. Чуковскому 22 октября 1935 года Чуковский писал:
"...Читал ли ты в 10-й книге "Красной нови" рассказ В. Гроссмана "Муж и жена"? Вот великолепный мастер, стопроцентный художник, с изумительным глазом, психолог - если не сорвется, выпишется в большие писатели. Во всем романе Казакова меньше ума и таланта, чем в нескольких строчках Гроссмана. После него трудно читать других советских писателей".
Этот отрывок из письма я получила от Елены Цезаревны Чуковской словами не выразишь, как я благодарна ей.
Открывая новые и новые страницы в литературно-общественной деятельности Чуковского, не перестаешь восхищаться, как в течение многих десятилетий при самых первых шагах неведомых до этого писателей он определял сразу же их вес, масштаб и своеобразие будущей судьбы.
Грустно, что изведавший все виды травли и критики "на убой" Василий Семенович умер, не услышав этих простых и ласковых слов.
И еще несколько слов - беглых, случайно вырван ных штрихов из "начала".
Когда я начинала работать и окунулась в литературу и особенно литературную жизнь (конец 40-х и начало 50-х годов), имя Гроссмана для меня было овеяно легендой.
Легендой было - как влюбился... Как женился... Как ходил за ней, Ольгой Михайловной, по пятам... И ушла она от своего мужа писателя Губера к новому мужу... Были у них с Губером два сына - Федя и Миша. Мальчики оставались с отцом.
Наступил 1937 год. И Губер был нежданно-негаданно арестован. И тут же явились к Василию Семеновичу, и в его квартире, на его глазах арестовали его жену Ольгу Михайловну как жену Губера, хотя она была женой не Губера, а Гроссмана.
И он как ни пытался, не мог ее защитить. Он - мужчина, муж. Ведь все истинные человеческие чувства были в нем так сильны. Мог ли он каяться, отрекаться от нее на собраниях, говорить, что не знал о ее тайных связях с Губером, что не отвечает за нее... Все, что говорило тогда бесчисленное множество людей.
Нет, он вел себя по-другому.
Прежде всего он взял к себе оставшихся без дома детей: Феде было шесть лет, а Мише - двенадцать. В ту же ночь. Надо сказать, что все родственники отказались их брать, в том числе и дядя - крупный ученый. Мальчиков должны были отправить в детский дом. Василий Семенович взял их к себе - в тот момент, когда не было никаких гарантий и надежд на возвращение Ольги Михайловны из тюрьмы.
И на другой день ринулся в хлопоты по освобождению Ольги Михайловны невероятно энергично, упорно и настойчиво. Ходил, ездил, писал. Боролся, как лев.
Ольга Михайловна рассказывала, что он даже ездил в какой-то город, чтобы встретиться с крупным деятелем. И тот долго уговаривал Василия Семеновича развестись с Ольгой Михайловной.
И спросил:
- Сколько ей лет?
Василий Семенович ответил:
- Двадцать девять.
Тогда он стал его убеждать, что она уже старая, а Василий Семенович может жениться на молодой.
- Но я ее люблю, - сказал Василий Семенович.
В результате его хлопот она просидела в тюрьме, кажется, не очень долго, хотя не знаю, как исчисляется время по этим часам.
Когда Ольга Михайловна вернулась из тюрьмы домой и вошла в квартиру, первое, что она увидела, - два детских пальто на вешалке в прихожей.
Да, он вступал в литературу в самое, может быть, трудное время, в четко и, по-своему, законченно распланированный сталинский мир: 1934-й, 1935 год. И год 1937-й. Так до войны.
Но я сейчас не о том. Я просто хочу напомнить, как прозвучал тогда, в те годы его голос в первых произведениях - с такой богатой пластикой изображения жизни, ее оттенков, с таким гуманизмом, нравственным вкусом и чутьем. И с таким точным определением правды, честности и добра.
В одном из сборников я обнаружила рассказ "Молебен". Под ним дата 1930 год. Маленький, двухстраничный рассказ, который сам он не считал началом пути. О чем он? О солдатах. О звуках трубы, что прозвучали над спящей деревней. О том, как "батальон вздрогнул, всколыхнулся, пришел в движение и медленно пополз на размытую глинистую дорогу".
И дальше: "Солдаты переговаривались между собой отрывисто, не глядя друг на друга. Под тяжелыми, как земля, тучами, по грязным лужам дороги в предрассветном тумане ползла колонна людей в серых солдатских шинелях. Трудно было отличить, где небо и где земля и колышутся ли над дорогой клочья тумана или движутся солдаты. Шли, тяжело ударяя расползавшуюся под ногами землю. Каждый думал свою отдельную думу, но каждая из этой тысячи солдатских дум была похожа на другую. У всех болели ноги в сырых портянках, все дышали холодным мутным воздухом, у всех был где-то дом и родные, близкие люди. Каждый боялся быть убитым в боях под Перемышлем".
Речь, таким образом, идет о первой мировой войне.
С этих первых своих строчек он утверждает верность народному, демократическому герою, солдатской его шинели на всех будущих дорогах, во все времена и войны. И сколько понимания в этой мастерски, уверенной рукой написанной картине движущейся толпы солдат и "свинцовой тяжести влитого в них солдатского горя".
Следует только восхищаться тем, как отчетливо заявил о себе Василий Гроссман в первом крохотном своем рассказе. Мощный образ идущей и молящейся многотысячной толпы солдат написан настоящим художником, хотя началом своего творческого пути он называл рассказ "В городе Бердичеве" (1934). И вообще более поздние вещи.
Когда я прочитала другой его рассказ - "Товарищ Федор", помеченный в сборнике 1931 годом (тоже до "начала"), меня охватили смутные предчувствия и тоска. Будто я попала в ту палату 2-й Градской больницы, в маленький флигель, где умирал Василий Семенович Гроссман, будто он описал свой конец, хотя герой рассказа не похож на него и даже прямо противоположен.
Герой рассказа, старый подпольщик, падает на улице на тротуар, потеряв сознание от легочного кровотечения, и попадает в больницу. И невозможно читать об этой палате, которая была точно такой: вытянутая комната с белыми стенами и большим окном, там стояли две кровати, на одной лежал Василий Семенович, другая была пустой. В рассказе все именно так. И пишет он о своем герое: "Грудь под одеялом то высоко поднималась, то спадала", и этот "хриплый кашель", сотрясающий тело, эти приступы непрерывного кашля и "сгустки тяжелой алой крови", выплеснутые в плевательницу. Будто это из моих записей - после "дежурств" в больнице у Василия Семеновича. Как он выхаркивал свои измученные легкие.
Герой рассказа был отрешен от простых радостей жизни, у него не было никогда дома, жены, детей. "Только старенькая фуражка", отдыхал же он в тюрьме...
Эта аскетическая вымороженность души пугает писателя, и в биографии героя нет никаких совпадений с собственной его жизнью. Но как сумел он в молодые годы представить так точно это последнее одиночество? Психологически так крупно. Здесь трагедия смерти в прекращении жизненных дел. Уходит дело жизни, одно за другим, одно за другим. И тогда герой остается один, без всех своих жизненных дел. И наступает конец.
Есть одна фраза в этом рассказе... Я слышу до сих пор, как он произнес ее.
После операции Василий Семенович лежал в Боткинской больнице. Ему удалили почку, было это, вероятно, в 1963 году. Рак, но ему сказали киста. Хирург назвал время, когда появилась опухоль. И буквально совпало оно, время: катастрофа с романом, "изъятие" из жизни живого романа, только что вышедшего из-под пера писателя, как каторжного убийцы, насильника и рецидивиста.
Считалось, что хирургическая операция прошла успешно, хотя хирург как будто сказал: "Раньше, чуть-чуть-чуть раньше..." И Василий Семенович лежал сравнительно недолго. Но сначала лежал пластом - и тогда сказал (не мне одной он тогда это говорил):
- Неужели никогда больше не придется полежать на зеленой траве. Броситься и поваляться...
И вот я читаю сейчас в этом рассказе о товарище Федоре. Однажды герой ехал по важным делам, стоял на площадке последнего вагона, поезд шел очень медленно, и он слышал, как шуршала высокая трава. И вдруг его охватило желание тут же сойти с поезда, "кинуться в траву, лечь, подложив руки под голову, и смотреть в небо..." Федор даже ухватился крепче за поручни вагона, чтобы не сделать этого. Когда в больнице Федор вспомнил об этом, "ему стало смешно".
Так этот образ зеленой травы как символа жизни возник в рассказе о герое, которому перед смертью становится смешно от своих воспоминаний. Но родился он в душе писателя, который пронес его через всю жизнь.
Когда он лежал в своей палате в Градской больнице (после того, как болезнь накинулась на легкие, сначала одно, потом очень быстро - другое) на узкой, короткой ему больничной кровати, большое окно выходило в густой, зеленый, заросший деревьями двор. И прямо под окнами спорили две тетки, наверно, уборщицы или санитарки - о соседке, обеде и ужине. Спорили бесцеремонно и громко об обыденном, бытовом. Сначала я не обратила на них внимания, мне тогда не мешали они. Но Василию Семеновичу было плохо, он лежал молча и тяжко дышал. И вдруг я поняла, как назойливо, грубо и нескончаемо долго тянется разговор и звучат под его окном их голоса, будто собственной кожей... И сказала, что они вот так кричат, я сейчас выйду во двор и скажу, чтоб не кричали там. Но он улыбнулся и рукой остановил меня:
- Не надо, - сказал он, - они совсем не мешают мне... Ведь это жизнь.
Посмотрев на него еще раз, я поняла, что молчал он не потому, что стало ему хуже, просто он внимательно и дружелюбно слушал и ловил эти громкие голоса жизни.
Потом добавил, что чужое радио - это не жизнь, и оно мешает и раздражает всегда. И дома на Беговой, прямо из соседской стены. Я сама один раз слышала, как она гудела.
Он прочитал мне вслух главу из "Все течет". А на другой день сказал, что жалеет, что могли услышать, что в квартире своей он этого делать не должен. Был недоволен собой и мной, что я не прервала его. И тогда я сказала про радио за стеной, что оно так орало, что заглушало некоторые слова, и придется ему прочитать мне вслух эту главу еще раз. Улыбнулся печально и сказал:
- В другой раз.
Это было в перерыве между больницами. В Градскую лег в июне 1964 года. Терял силы, не мог ходить, непрерывно кашлял. С катастрофическим остервенением накинулась на него болезнь. Только что читал и писал... Гулял.
Я узнала его по-настоящему после "катастрофы с романом".
Но до этого всю жизнь знала его, а он меня, конечно, не знал, знал немного, но не так, как я его. Я брала у него интервью для "Литературной газеты", бывала дома в первой его квартире, встречалась в Коктебеле. Особенно в Коктебеле в 1955 году. Он улыбался тогда, здоровался издали, весело махал рукой. Я со стороны смотрела на него: высокий ясный лоб, за очками синие глаза, черные волнистые волосы зачесаны назад... Он был ровен, казалось - счастлив и спокоен. Я знала, что он пишет новый роман. И печать счастья, творчества и творческого покоя лежала на его лице. Он казался здоровым, загорелым и молодым. На фоне коктебельского синего моря и сказочных гор его прекрасные синие глаза казались особенно синими. Этот синий свет не угасал до последних минут жизни. Очки круглые были частью его лица. А рот нес страдание - рот библейских мучеников и мудрецов. И улыбка тоже.
После его смерти Ольга Михайловна подарила мне маленькую любительскую фотографию. Она предложила на выбор, и я ухватилась за нее, - потому что именно таким он был в последние годы. Я выбрала ее еще и потому, что на ней - Гроссман в Армении.
Он поехал в Армению (если называть все своими именами) из-за нужды и несчастья. Поехал, чтобы переводить роман армянского писателя - после "катастрофы с романом" его перестали печатать, ему не на что было жить. Ведь роман он писал "около десяти лет" - это подлинные его слова.
3 ноября 1961 года утром он приехал поездом в Ереван. Жизни ему было отпущено три неполных года, вернее, три года минус пятьдесят дней. И он тратил эти бесценные дни на перевод. Хочу добавить, что сам он не жаловался на новую для него работу и отнесся к переводу серьезно, спокойно, был доволен.
Вместе с этим переводом в результате путешествия по Армении появились на свет в 1962 году "Путевые заметки пожилого человека" (потом переименованные в "Добро вам!").
И хотя он был приговорен к смерти, можно только удивляться, как вылилась эта вещь, с какой силой, наперекор всему - как куст "татарника" в "Хаджи-Мурате".
Почти все оставшиеся годы я была редактором этих "заметок", и об этой трагедии в моей профессиональной жизни я хотела бы рассказать отдельно и о его доверии - не могу найти другого слова.
Он пишет в "Заметках", что в Армении на нем был "толстый шерстяной шарф" и "новое демисезонное пальто, - я его купил перед отъездом". Знатоки светской жизни ему сказали: "Не блестяще, но для переводчика прилично".
И вот эта фотография... Гроссман в Армении. Тоже словно библейский сюжет. Он сидит на каком-то невидимом камне где-то в горах в этом самом длинном темном демисезонном пальто (я помню его), застегнутом, вероятно, на все пуговицы. Голова открыта, лицо повернуто чуть вбок. Он сидит, и полы длинного пальто чуть расходятся книзу. А сверху в отворотах пальто краешек белой рубахи, завязанный отчетливым узлом темный галстук и краешек того самого шерстяного шарфа, в котором он приехал в Армению. Пальто очень темное, и на этом фоне - светлый треугольник у груди, светлый облик лица и сжатые на коленях кисти рук - так отчетливо видны руки, вылезшие из рукавов пальто, пальцы, переплетенные, кончики манжет и часы.
Вся поза такая подлинная и естественная. А вокруг горы, скалы, нависшие, обступившие со всех сторон. Нельзя понять, откуда он пришел и как он уйдет. Нет тропинок, и пути не видно. И он сидит, чуть глядя в бок, и печаль и мягкая улыбка, вроде он погружен в себя, но будто подставил лицо под невидимый теплый луч. Но луч этот только - в складке губ: чувствует и ловит это тепло. А руки сцеплены так сильно и даже безнадежно.
И среди глухих скал он сидит, а не стоит, сидит совершенно один, никого не видно вокруг, а скалы и обступают и наступают на него, а он печален и спокоен, и только мрачное темное пальто, и светлое лицо, и сжатые кисти рук.
- Я замурован, - сказал он мне в больнице.
Но на этой фотографии он и замурован и свободен. Что и отличает его жизнь.
Накануне смерти, проснувшись после тяжелого укола, он сказал:
- Ночью меня водили на допрос... Скажите, я никого не предал?
Вот о чем думал он в последние часы жизни. Не о себе.
Он лежал распростертый на больничной железной кровати, которая была ему и коротка и узка, временами то приподымая голову, то вдавливая ее в подушку, и не находил себе места.
Корпус был старый, деревянный, одноэтажный с высоким крыльцом и небольшим коридорчиком, прямо ведущим к палатам. Василий Семенович лежал спиной к окну, за окном шумели густые зеленые листья деревьев. Дом был в глубине двора на границе между 2-й и 3-й Градскими больницами.
- Если бы вы знали, сколько страданий в этой тихой больнице, - сказал он однажды, когда я села около кровати, как всегда подвинув стул, стоящий у стены.
Он ведь лежал, не вставая, не выходил никуда, не говорил почти ни с кем из посторонних, а эту разлитую боль чужую чувствовал, как свою.
Про всех и все спрашивал у меня - отчетливо и ясно.
- Как Светлов? - каждый раз начинал с этого вопроса наш разговор, после того как узнал, что Михаил Светлов тоже лежит в этой больнице.
Я не говорила ему, что палаты их рядом, стена к стене, потому что Светлов был болен давно и Василий Семенович мог знать, что у него.
- Два богатыря, - сказал Светлов, узнав об этом, незримом для них, буквальном соседстве.
В последние дни в минуты затемнения после уколов возникала эта тема:
- Мне надо встать, но у меня перебиты ноги...
И голос его звучит до сих пор:
- Помогите мне отсюда уехать!
И снова:
- Помогите мне эвакуироваться отсюда. Мне надо отсюда уехать, а то я могу умереть здесь.
И лежит, вжимаясь богатырски несчастным телом в эту кровать, упираясь ногами в решетку, раскинув длинные, ставшие такими худыми руки. И хочет вырваться из заколдованного круга, в который он неизвестно почему, в награду за свою жизнь, попал.
И спрашивает меня:
- Вы можете помочь мне собраться? Вы можете помочь мне уехать?
В день смерти:
- Ужасно, что я проснулся...
- Но вы сейчас заснете опять.
- Кончился билет, я не смогу больше ехать.
И я говорю такую глупость: "Ничего, мы купим еще один билет..." Такую дикость говорю. А он ведь понимает все - по глазам, словам, голосу. Но секунду успокоения приносят мои слова - одну маленькую секунду, а их осталось считанное число.
- Вы хотите поехать в Волгоград? - вдруг неожиданно и четко спрашивает он.
- С вами, конечно, - громко отвечаю я, сжавшись в комок от напряжения.
Так в последние часы своего последнего дня он сказал - Волгоград. Именно Волгоград!
И я вспомнила, как приехала к нему с версткой рассказа "Дорога" в квартиру на Беговой. И он так искренне обрадовался верстке: казалось, был просто счастлив. И сказал приблизительно так: для него верстка, как для Робинзона асфальт. Или, может быть, чуть по-другому: что смотрит на нее, верстку, как Робинзон - на асфальт.
А потом сказал, улыбаясь:
- Как вам нравится, что у Сталина осталось только два защитника?
- Кто же это? - спросила я.
- Я, - ответил он, - и Виктор Некрасов.
Оказывается, они - единственные из писателей, кто не дал при переиздании книг переименовать Сталинград - в Волгоград.
А сейчас он сказал - Волгоград, будто прощался с городом в чистом его виде, без сталинского насильственного порабощения города себе. И повторил снова, что надо ехать в Волгоград.
- Пойдите, устройте все, - задыхаясь от кашля, с алыми от кровохарканья губами, отрывисто произносит он. - Вы можете пойти за такси?
- Конечно...
- Я хочу, пойдите за такси, я вас прошу.
Я даже выхожу в коридор. Он успокаивается немного.
Потом:
- Вот и хорошо, - говорит он. - Мы обязательно отсюда уедем. - Даже как будто обнадеживая меня.
Потом он просил не забыть "квитанции". Чтобы я пошла и нашла "квитанцию", очень важная для него квитанция, она особенно мучает его. Тогда я не могла понять, а позже стала думать и поняла, что это - "ордер на арест", протокол об изъятии романа...
Но сознание его замутнялось, как я уже писала, только после очень сильного наркотического укола. А вообще - ясная голова, ясный, как всегда, ум, огромная душа, его неповторимая (до последних минут) речь.
За два дня до смерти, в пятницу, когда я дома на листочке написала про него: "Плохо, очень плохо, ужасно", он встретил меня словами:
- Расскажите, что же случилось нового?
Этим вопросом - по-разному, в разной форме и разными словами - он встречал меня всегда.
В этот день в пятницу я стала предлагать: может быть, чаю... Он просит минеральной воды, а потом в ответ на мои напоминания - чаю с яблоком.
- Чего бы вам еще хотелось? - спрашиваю я.
И он серьезно, после большой паузы:
- Множество вещей, - это, повторяю, за два дня до смерти.
В другой раз на этот же вопрос:
- Окончательной ясности.
Накануне смерти:
- Так вам удобнее?
С хрипом и болью:
- Более или менее.
- А так хорошо?
- Хорошо, - отвечает он, растягивая это слово.
После паузы:
- Не дай бог...
Свою старую приятельницу (в часы ее дежурства) в момент оптимистических речей по поводу его здоровья он прервал вопросом:
- Сколько мне лет?
-Двенадцатого декабря будет пятьдесят девять? - ответила она.
- Не будет, - сказал он.
И в этот же день, через два часа:
- Какая красивая, - сказал он про женщину, которая села в коридоре напротив его открытой двери.
Сейчас, на мгновение представив эту больницу (будто я вчера сошла с ее крыльца), я поняла, что двери всех палат всегда были закрыты, и там, где лежал Светлов, - тоже. Только палата Василия Семеновича не закрывалась никогда. Сидели на стульях напротив него, проходили мимо, стояли и говорили "нянечки" громко, иногда с хохотом. Он никогда не просил закрыть дверь, только тогда, когда не хотел, чтобы слышали то, о чем говорили мы. В этом был и тверд и настойчив.
А так смотрел внимательно в открытую дверь, на людей, что появлялись в нешироком, но высоком ее проеме.
А что раздражало его безмерно? Это пошлость. Пошлость и ложь.
- Море пошлости, - сказал он про статью Мара в "Литературной газете", которую ему почему-то прочитали вслух.
Пошлость для Гроссмана - как антижизнь.
- Когда человек живет и мучается, - говорил Василий Семенович, пошлость в литературе убивает его жизнь, растаптывает ее.
В один из тяжелых дней, вероятно, уже за десять или двенадцать дней до конца, я все часы своего "дежурства" читала ему вслух запись процесса Бродского, сделанную Фридой Вигдоровой. Он (что бывало редко) повернулся лицом к стенке, и я не видела, дремлет ли, слышит ли. Но догадывалась, что слышит, потому что ни разу не прервал - ни стоном, ни кашлем (а это трудно).
Когда я кончила:
- Я как будто провалился в туман, но слышал все, каждое слово.
Потом, помолчав:
- Бедный мальчик... Как это навалилось на него...
В это время вошла сестра - толстая, мрачная и злая.
Она что-то резко сказала Василию Семеновичу. После ее ухода:
- Она разговаривает со мной, как судья с Бродским...
И снова:
- Бедный мальчик...
Сострадание острое, понимание чужой беды. И вместе с тем жажда жизни, огромный интерес ко всему, что составляет жизнь. Чувство мощное, человечное, всегда одухотворенное его неповторимой мыслью.
- Как Некрасов? - спрашивал он.
И в ответ на мои слова об очередных "неприятностях" один раз сказал:
- Нет, все-таки он счастливчик...
И добавил:
- Его печатают.
В другой раз сказал, что он порвал с литературной средой и многими старыми друзьями, которые, испугавшись "катастрофы с романом", перестали к нему звонить и ходить, обнаружив вдруг совершенно неожиданно, что у него "ужасный характер" и он почему-то "всех должен спустить со всех лестниц". Это я слышала от него еще на Беговой в его квартире на первом этаже.
- Анна Самойловна! - говорил он. - Вы можете представить себе, чтобы я кого-нибудь спустил с лестницы?
Я прямо ответила, что не могу, и добавила: если он меня не спускает с лестницы со всеми "редакционными замечаниями..." Но он заметил, что редакторов он вообще мог бы спустить... Но для меня делает исключение.
Скажу откровенно, тогда я думала, что же это за люди были. Ведь до сих пор ползет эта злая молва: у Гроссмана был тяжелый характер.
Ничего подобного! У него был прекрасный характер - благородный и добрый. Только он не выносил вранья, подлости не выносил и был настоящим мучеником. А характер был могучий и не под силу только пигмеям. Всю меру его тогдашнего одиночества я смогла понять только с годами, с течением собственной жизни.
Ему становилось все хуже и хуже. В последние недели я принесла ему в больницу рукопись о биологии, о Вавилове и Лысенко. Читала вслух небольшими кусками. Все труднее было читать. Так тянулось до его конца, почти до самого конца.
Как он слушал и все время просил читать... И восторг настоящий и такой необыкновенный интерес. И благодарность: что вот я приношу и читаю, растроганность такая неподдельная, что мне больно становилось от его неизбалованности.
Сначала я читала по слепому экземпляру, сбиваясь иногда на специальных терминах, но Василий Семенович говорил, что ничего, что ему все понятно, ведь он химик, естественник, все хорошо знает.
И слушает, боясь кашлянуть. А если начинается у него этот страшный кашель и я перестаю читать, то тут же, когда может выдавить хоть слово, сразу просит продолжать, еще давясь кашлем.
- У меня тоже об этом есть, - сказал он.
И я понимаю, что речь идет о романе.
Когда я прочитала страницы о последних днях Вавилова и о его гибели то, на секунду оторвавшись от чтения, увидела, что глаза Василия Семеновича полны слез, а сказать от волнения он не может ни слова.
И тогда неуместно бодрым голосом (ведь я тоже не могла читать спокойно) сказала, что надо сделать перерыв, и пыталась завести речь о чем-нибудь другом, что было трудно.
Потом, через некоторое время (час или полтора), но в тот же вечер Василий Семенович попросил читать дальше.
После страниц о гибели Вавилова пошел рассказ о тех, кто его погубил. Сначала о Презенте и его доносах.
И Василий Семенович сразу почувствовал несовместимость, что ли, этой части рядом с трагедией Вавилова, хотя они связаны между собой, как Яго и Отелло. И он прервал меня словами, что после голоса Вавилова ему трудно слушать голоса этих подлецов, что они невозможны рядом. Он даже сказал ничтожность, мелкость, невозможность.
- Не могу, не нужно, - так отредактировал он.
Ведь рукопись была документальной и состояла во многом из цитат. Первая глава - письма и статьи, написанные Вавиловым, а потом сразу - очень густо - цитаты и доносы лысенковской гвардии. И Василий Семенович так горячо, так резко их разделил, отбросил и, стащив со своих прекрасных глаз очки, вытирал платком мокрое лицо и глаза, залитые слезами. Будто в эти свои последние дни стоял на могиле Вавилова и не хотел допустить ее поругания.
Надо добавить, что в следующий раз (вероятно, через день, а может, два) он попросил, чтобы я читала дальше, слушал напряженно и очень внимательно, но сразу вслед за гибелью Вавилова не мог этого вытерпеть.
Однажды во время чтения он сказал:
- Наверно, я очень большой эгоист.
И на мой недоуменный вопрос (я даже догадаться не могла, откуда вылилась эта фраза) ответил:
- Чужое страдание отвлекает меня от собственных страданий.
Конечно, я решительно запротестовала - надо было видеть, с какой печалью он это сказал. И стал повторять, волнуясь, как важно ему это мучительное чтение (он именно это слово произнес), сближает оно его с жизнью, с гражданской, общечеловеческой жизнью... Как много он об этом думал... И опять - как благодарен...
А потом, когда пришел его навестить верный на все периоды и эпохи друг - Семен Израйлевич Липкин, ему захотелось, чтобы он тоже услышал эти страницы. Сам назвал, что читать. Я знаю это исчезающее из нашей жизни чувство, когда, прочитав, обязательно надо поделиться с другом - не для хвастовства и суеты, а для объединения дружеского вокруг книги. И как удивительно было видеть эту черту щедрой души Гроссмана на пороге смерти.
Надо представить себе - ведь он не только умирал, не только знал, что умирает, но был, по его слову, "замурован" как писатель. Это была величайшая трагедия. И я знаю, как по-разному переносят ее разные люди. Сколько озлобления к чужим книгам и судьбам, какое смещение, сужение точек отсчета...
А у Василия Семеновича все наоборот - и широта души и острый интерес ко всем, кто печатался и писал.
Ведь шли 60-е годы нашего века, счастливые для многих 60-е годы. Для него же они полны бед. И спрашивал про авторов "Нового мира":
- Как он выглядит? Что пишет? Сколько ему лет? Как живет?
И даже:
- На что живет?
Очень часто:
- Как Солженицын?
Появление его встретил восторженно.
- Изумительная вещь, - сказал он.
Я тогда даже не понимала так, как понимаю сейчас (после прожитых лет и горьких наблюдений), что умирающий Гроссман был неповторим в этом потоке чувств. И так естественен во всех своих реакциях.
Помню, он рассказал, как "перед самой больницей" ему в квартиру на Беговой разные люди принесли разные рукописи и про каждую сказали, что надо прочитать "за три дня". Это был ходивший тогда по рукам перевод "Процесса" Кафки и наши лагерные воспоминания, недавно написанные одной женщиной. Он через три дня с виноватой усмешкой сказал, что начал читать обе - но наш "процесс" захватил его больше, чем кафкианский. Он, конечно, собирался прочитать и то и другое, но от "нашего" оторваться совсем не мог. И несколько раз повторил собственное свое название - "наш процесс".
Он высоко оценил книгу, назвал ее очень талантливой, но образ автора и нравственное выражение ее личности вызвали и отталкивание. Что было главным для него?
- Она отказалась от своего отца, - сказал Василий Семенович. И добавил резкое слово.
В этом он был непоколебим - здоровый и больной, живой и умирающий.
Он хотел, чтобы его печатали и читали. Он мечтал об этом. Но при одном условии - что он останется верным тому, что написал.
После ареста романа в "Новом мире" в 1962 году в июньском номере появился его рассказ "Дорога". Маленький, необыкновенно прекрасный рассказ о бедном итальянском муле и его печальных злоключениях по дорогам войны. Пересказать его нельзя - столько вложено в него любви.
На этих страницах я не буду касаться истории публикации рассказа и того, что привело меня в его квартиру.
Это было в 1961 году. Сначала в тоненькой папке я привезла домой три его рассказа: два из них не были напечатаны при его жизни; третьим была "Дорога".
Он был подавлен и не верил в успех. Катастрофа с романом нанесла ему смертельную рану. И при этом оказалось, что совершенно не понимал, почему один рассказ легче напечатать, чем другой. Эта его простодушность при всей мудрости была, без сомнений, уникальна.
Но я, конечно, обязана была понимать, что напечатать легче, что труднее. И я вцепилась в "Дорогу" с ее сложным подтекстом, с ее связью с войной. И многим, многим другим...
Но с ним было легко, и он понял мою воодушевленность и надежду. И постепенно в разговоре с ним крепла и собственная моя уверенность. И показалось, что своим настроением (что рассказ пойдет) я как-то заразила его. И вдруг такой простой детской радостью озарилось его лицо, что мне больно об этом вспомнить.
Когда я собралась уходить и он вышел проводить меня в коридор, он вдруг изменился и даже помрачнел. И напомнил, как я приходила к нему когда-то от "Литературной газеты" и брала материал о "Черной книге".
И в прихожей он вдруг с какой-то суеверной тревогой сказал:
- Нет, ничего у нас, наверно, не получится. Ведь вы знаете, какая судьба постигла "Черную книгу"...
И добавил, что готовый макет ее пошел под нож после ареста еврейских писателей и разгрома антифашистского комитета.
Я даже растерялась от такого поворота. Столько трагических болевых нервных линий сплелось в нем...
И как-то не очень уверенно начала оправдываться: что с "Черной книгой", увы, получилось так... Это я знаю... Но у нас с ним тогда все было иначе. И моя заметка под названием "Черная книга" была молниеносно напечатана через три дня после нашей встречи.
Он протянул мне руку помощи - сказал, что она, эта заметка, оказалась единственным печатным свидетельством о "Черной книге". В чем, к большому прискорбию, нет моих личных заслуг, ответила я ему.
И пока мы стояли и так странно и долго говорили в прихожей, вспоминая нашу первую встречу, он неожиданно засмеялся и весело попрощался со мной.
Рассказ "Дорога" был напечатан сравнительно быстро и прошел сравнительно легко. Я уже писала о верстке, о неповторимых его словах про Робинзона и асфальт, о недолгих минутах радости, которые принес рассказ.
- Как хорошо, - сказал он мне в больнице, дав прочитать "Все течет", у меня теперь четыре читателя этой вещи, вы - четвертая.
Был и такой почти фантастический эпизод в истории его "печатания" в период между двумя больницами.
После операции была мечта, что болезнь отступит. Он оправился, начал ходить, читать, писать.
И появился у меня план, сначала я не очень верила в него и Василия Семеновича не посвящала. Был, вероятно, август 1963 года. Из соседней с нами "Недели" (еженедельного приложения к "Известиям") спрашивали часто нет ли чего-нибудь, чтобы выбрать для них отрывок. Спрашивали часто, печатали редко. И я никогда не занималась этим. А тут снова появился сотрудник - очень осведомленный, а главный редактор (Аджубей) осведомленный еще больше.
И я завела речь о Гроссмане - с сотрудником, конечно. Ведь у нас безнадежно лежали "Путевые заметки пожилого человека", переименованные в "Добро вам!". Сотрудник был в курсе дел. Но при этом ходил, выяснял, проверял. Потом появился снова, заявив, что печатать они обязательно будут, чтобы я выбрала для них отрывок. Я выбрала и послала Гроссману. Он сам дал название "Севан". И получилось просто отлично.
Потом всё двинулось вперед прямо-таки газетными темпами.
Передо мной лежала сверстанная полоса "Недели", очередного ее номера. "Севан" занимал почти целую страницу в специально очерченной художником жирно черной рамке. Сверху рисованным шрифтом - "Севан" - крупно, броско, значительно. Под ним тоже довольно крупно - "Из путевых заметок пожилого человека" и чуть ниже - Вас. Гроссман. Отрывок со своим внутренним сюжетом и изумительно звучащим голосом Гроссмана (что, впрочем, отличает и всю эту вещь). Так выглядела эта полоса.
Появилась у меня твердая уверенность, когда я смотрела на эту страницу, что после нее мы вернемся к этим "Заметкам" и напечатаем их в том виде, в каком хотел Василий Семенович. Не знаю, верил ли он сам в это, но чуть посмеивался над моими проектами.
Врач посоветовал ему поехать в подмосковный санаторий, и вскоре он уехал (кажется, это было Архангельское, и после него ему стало хуже).
В "Неделе" все шло точно и быстро, он звонил по телефону из санатория и узнавал, как дела. И вот в ближайшую субботу должен был "Севан" появиться в свет. Мы условились с ним, что он позвонит утром мне домой, я назначила точно час, когда должна появиться "Неделя". В пятницу уходя вечером из редакции, я еще раз проверила все у сотрудника "Недели".
Была суббота, у меня - творческий день, "Недели" я не выписывала, но редакция наша работала. И договорились, что секретарь редакции Наталья Львовна, как всегда, утром забежит в "Известия" за экземплярами "Недели". Она была в курсе дела и обещала, что с этого начнет рабочий день. Кроме того, я договорилась с одним молодым писателем, он был подписчиком "Неделя" и обещал утром тоже позвонить мне, сразу как вытащит номер из ящика.
Прожила это время в большом напряжении. Но зазвонил телефон раньше, чем я ждала:
- Все в порядке, - услышала я спокойный и довольный голос Натальи Львовны.
Она сказала, что напечатали, назвала страницу - семнадцатую, прочитала название, первый абзац, второй абзац, последний абзац.
Это был подарок...
Василию Семеновичу, когда он позвонил, я все это с большим подъемом описала и сказала, что в "Новом мире" лежит много номеров "Недели" специально для него. То была "Неделя" - номер 39, 22-28 сентября 1963 года.
Я успокоилась, расслабилась и решила в эту субботу заняться чем-нибудь успокоительным для себя.
И на задний план отодвинулось, что почему-то не позвонил молодой писатель, а мы так твердо условились.
Позвонил он чуть позже. И сказал как-то осторожно и очень мягко:
- Значит, не напечатали...
Я возмутилась и стала его укорять - как он так невнимательно смотрел, ведь Наталья Львовна вслух прочитала почти все.
Он удивился очень и сказал решительно, что позвонит ровно через пятнадцать минут. И тут все во мне замерло тяжким и таким привычным за годы работы в печати предчувствием беды.
Молодой писатель позвонил еще раз и сказал, что я могу его кромсать и резать, но Гроссмана в "Неделе" нет.
Что же случилось? Расскажу только то, что узнала сама. "Неделя" № 39 за 22-28 сентября 1963 года была набрана и сверстана вместе с "Севаном" Гроссмана. Номер был подписан в печать и залитован. Началось печатание тиража, первые экземпляры которого попали в "Новый мир". И вдруг утром, во время этого печатания, появился заместитель главного редактора Ошеверов. Он остановил печатание и из готового тиража (что делали в сталинские времена, когда в ночь выхода номера был арестован автор - я сама пережила несколько таких ночных историй!) вырвал Гроссмана и вставил на это место другой материал.
В понедельник в редакции у меня было два варианта этой "Недели". Гроссмановскую "Неделю" я сберегла до нынешних времен, а ту, вторую, потеряла.
Я тогда места себе не находила, думая о том, какой нанесу Василию Семеновичу удар, когда он позвонит, вернувшись из санатория... Как он обрадовался тогда... В такой мрачности я не была давно. Как ненавидела я этого Ошеверова, и описать не могу. С его женой у нас были милые отношения. Собралась было ей позвонить, но не смогла, не смогла унизить Гроссмана, "Новый мир" и себя.
Василий Семенович еще раньше, смеясь, повторял, что по голосу и по тому, как я говорю: "...Василий Семенович..." - он понимает, как обстоят его "новомирские дела". А тут о голосе не могло быть и речи.
И услышала, как он ответил мне решительно, твердо и спокойно:
- Ведь напечатали! И я доволен.
Я привезла ему его "личные" номера и выяснила, какой у него тираж. Он сказал, что тираж все-таки большой. И вообще, был настроен даже юмористически, особенно когда узнал, что эта его гроссмановская "Неделя", вырвавшись запретно из общего известинского тиража, вдруг попала в газетные киоски каких-то подмосковных городов. И в одном из них ее купил, сойдя с поезда, его знакомый и сообщил ему. И кто-то еще тоже купил и тоже позвонил. И вообще, таким он был мужественным и дружелюбным, что и передать не могу.
Он умрет меньше чем через год в том же сентябре будущего года. И этот незаконный "Севан" и напечатанный в 12-м номере "Нового мира" в 1963 году рассказ "Несколько печальных дней" станут последними его прижизненными изданиями.
И снова хочу вспомнить о том, как он брал в руки верстку, как смотрел на "Неделю", как вел счет на единицы тиражей и читателей.
Это была не нервно издерганная душа, а даже на пороге смерти гармонически естественная и живая. Все бесчисленные катастрофы с чистыми его книгами не исказили его личность. Они принесли ему смерть, но жизнь на нравственных ее высотах не исказили. Не было в нем и тени темной сосредоточенности на себе одном.
Как мог он слушать других людей и как умел слушать! Он даже настойчиво просил, чтобы люди, приходившие к нему в те годы, не соединялись вместе. Хотел настоящей беседы с глазу на глаз и так прямо смотрел в глаза,
- Меня это интересует,- сколько раз я слышала эти слова.
Я видела, как он высок в трудные минуты, как никогда не забывает о других.
Он говорил о том, как писателей губила в трудных обстоятельствах измена своему таланту.
Приводил разные имена - то с раздражением, то с болью. Был один писатель... Он когда-то был с ним близок и с удовольствием встретил его вступление в литературу, его первые повести о войне. Потом писателя начали громить... После этого он стал писать длинные романы - как будто другой человек. Длинные и благополучные. Стал получать сталинские премии. Василий Семенович его любил и прямо сказал, что не следует так писать. И тот ответил, что это пока, сейчас, а потом когда он захочет и когда будет можно, то будет писать так, как писал раньше. Василий Семенович его убеждал, что, когда он захочет и когда будет можно, он уже не сможет писать так, как писал. А тот даже посмеивался в ответ и повторял свое.
И что же получилось с этим писателем? Получилось именно так. Когда было можно...
А когда бывает можно? Гроссману, оказывается, можно было всегда. Вот какая особенная судьба.
Надо ли добавлять к этому, что Сталин его приметил давно и не любил (если уместно в этом случае употреблять такое слово). Достаточно вспомнить, что лично Сталин вычеркнул его книгу из списка лауреатов, о чем ему рассказал Фадеев, в присутствии которого это произошло. "Да, знаю я, Садко меня не любит",- не случайно эту оперную фразу часто, с большим подтекстом, повторяет Штрум, герой романа "Жизнь и судьба".
Когда он лежал и маялся, прикованный к этой неудобной, короткой ему низкой больничной кровати, задыхаясь, протягивая иногда в воздух руки, чтобы найти какую-то единственную, скрытую от него точку, позу, при которой можно хоть один раз легко вздохнуть, это была крестная мука.
При всех ужасных изменениях, которые должна нести эта болезнь, наперекор ей, в нем никогда не было ничего болезненно отталкивающего, неприятно деформирующего. Только более высоким и огромным становился лоб, более яркими и глубокими глаза, более мудрыми складки у губ. Всегда благородство, всегда - одухотворенность, всегда - тонкость и гордость. И течение страшной болезни не затемняло эти черты.
Да, голоса жизни... Да, шум зеленых деревьев... И книги, люди, споры. И слезы над страницами о гибели Вавилова и многих других людей.
Но была и судьба собственных его книг, и новая у нас трагедия под названием "арестованный роман". Роман томился за решеткой, а писатель умирал в узенькой больничной палате в сентябре 1964 года.
Я сидела в своей комнате отдела прозы журнала "Новый мир", когда явились за романом Гроссмана. Рабочий день кончился. И наша редакция, которая была расположена в самом приятном и дружелюбном месте - на улице Чехова, - была полупустой. Но доносился стук из комнатки машбюро, около двери кабинета Твардовского сидела еще его личный секретарь - Софья Ханановна Минц, а в кабинете Твардовского был Дементьев.
Софья Ханановна и рассказала нам, что пришли за романом Гроссмана, который лежал в сейфе "Нового мира". Ключи от сейфа были у ответственного секретаря Закса, который уже ушел домой. Я не помню, был ли у Закса дома телефон (или, может быть, он пошел не домой), но кого-то посылали за Заксом и его искали. Мне, по тогдашней неосведомленности в этом деле, показалось, что главным объектом операции является именно "Новый мир", и я ошибочно считала, что не надо так энергично искать Закса и что надо поставить в известность Твардовского. И предлагала совсем утопичные планы.
Я не знала тогда, что сейф "Нового мира" был концом операции по "изъятию" романа, а не началом. И наш журнал, и сам Твардовский, которому для совета принес Гроссман свой роман, были одинаково унижены, оскорблены и распяты вместе с Гроссманом.
А навели и к нам и к нему не милиция и не "органы", а другой журнал, расположенный в противоположном конце той же нашей Пушкинской площади, журнал "Знамя", его главный редактор Кожевников и верные его помощники.
Я не знаю, было ли когда-нибудь нечто подобное в истории нашей журналистики, хотя она многое повидала на своем веку. Чтобы в результате тайной, активной, многомесячной, организованной деятельности журнала в течение одного дня со всей Москвы на "черном вороне" увезли все экземпляры романа, рукопись которого он доверчиво принес к ним сам в 1960 году.
- Ведь был договор, - сказал Василий Семенович.
Что же такое договор? Это исконно честное и правдивое в своих основах слово. Но для правдивых людей.
А год начался для Гроссмана счастливо: ведь он завершил десятилетний свой труд. И во многих газетах и тонких журналах появилось имя Гроссмана.
2 апреля 1960 года "Литературная газета" печатает почти целую страницу: "Сегодня мы печатаем одну из начальных глав романа "Жизнь и судьба", который будет напечатан в журнале "Знамя"".
В эти же месяцы - апрель-май - он, вероятно, отнес роман в этот журнал.
Он рассказывал, что там долго и мрачно читали сами, ничего ему не говоря. Потом стали ходить, носить. Переправили роман Д. А. Поликарпову со своими пояснениями. Об этом я узнала подробнее потом. Есть свидетельство одного из авторов "Нового мира": он оказался случайно в кабинете Поликарпова, тот в ярости поносил роман Гроссмана, и автор наш вступил с ним в ожесточенный спор. Так принималось решение на поликарповско-сусловских этажах.
Автором этим, случайно попавшим в кабинет Поликарпова, был Виктор Некрасов. Он и рассказал об этом и о том, что Поликарпов начал разговор с ним примерно так:
"Не успели доехать до Москвы, как сразу же побежали к Гроссману выражать сочувствие".
И тогда возникло это - "изъять", или, по-другому, "извлечь", оба эти слова я слышала тогда.
Так из "Знамени" потянулась цепь.
- Количество экземпляров назвала машинистка, - сказал Василий Семенович.
В квартире на Беговой был взят экземпляр романа, в его комнате на Ломоносовском проспекте - один экземпляр, в "Новом мире" - другой. О "Знамени" говорить не надо. Все собрали, подобрали и увезли. До единой бумажки.
Операция по "извлечению" состоялась в один из дней февраля 1961 года.
Я хотела бы еще раз повторить его фразу:
- Ночью меня возили на допрос... Скажите, я никого не предал?
И последние слова о романе:
- Хотелось бы подержать его в руках...
Через несколько минут:
- Хотелось бы снова его прочитать...
Конечно, журнал "Знамя" - для Гроссмана губительный шаг. Но он свидетельствует о чистоте его замыслов и помыслов, о том, что (я это видела потом сама) он вполне искренне не видел так причудливо называемой в нашей литературном обиходе "непроходимости" своих произведений. При том, что блистательный его ум - в каждой строчке, написанной им, в каждом слове, сказанном им. Ведь и к Твардовскому (я уже говорила) он обратился, чтобы понять, что же могло переполошить "Знамя". Почему они молчат? Может ли писатель "замыслить антисоветский роман" по договору с Кожевниковым? Да у подлинных писателей и не бывает таких "замыслов".
Он писал этот роман с подъемом и с надеждой - писал, чтобы написать.
Думая над всем этим в течение лет, я хотела бы добавить, что слышала тогда от одного "влиятельного" лица - "нельзя, чтобы повторилась история с романом Пастернака..."
Следует напомнить, что травля Пастернака по поводу Нобелевской премии началась с конца октября 1958 года и продолжалась весь 1959 год, а сам Пастернак умер в мае 1960 года, когда его имя, роман и похороны были в центре мирового внимания.
Именно в это время, в эти буквально месяцы начала 60-го года, на фоне этих громких событий Василий Семенович Гроссман отнес свой роман в журнал "Знамя".
И решили: "чтобы не повторилась"...
Так родилось на свет это дикое словосочетание - "изъятый роман", особенно противоестественное и невыносимое для того, кто хорошо знает, что значит для писателя и вообще для всей жизни грохот наших типографских машин, выпускающих пахнущие свежей краской журналы живых, думающих и всегда страдающих за людей писателей. Именно живых... Это я знаю точно, из всего опыта собственной профессиональной жизни.
"Изъятый роман" наложил на честную жизнь Гроссмана свою жестокую печать и поставил его в поле зрения многих "прожекторов". И не было никакой мнительности, а было большое мужество, когда он понимал, что за ним следят, отдавал себе отчет, что он окружен. И в этой больнице, в этой палате, с этими снующими мимо его комнаты типами, нагло влетающими в палату сестрами. И его мучила ответственность - что он подвел, что он подвел.
Это слово "подвел" сейчас невыносимо вспоминать.
В последние годы жизни он выстроил себе однокомнатную кооперативную квартиру - в районе Аэропорта (в одном из его писательских корпусов). Чтобы работать в уединении и встречаться с теми, с кем он хотел встречаться в эти годы. Но когда дом был готов, какой-то строитель сказал ему, что в стенку его квартиры вмонтирован подслушивающий аппарат. Какие тайны, господи, какие тайны надо было узнать, чтобы мучить такого человека?
Нет, он не подвел ни в чем и никогда. Такие люди не подводят. Но было страшно, когда я поздно, в вечерние часы, уходила из этой больницы. Страшно за него, за жизнь, за себя. И это был даже не страх, а какая-то эмоционально неосознанная волна, в которую я погружалась, когда захлопывалась дверь и я выходила на крыльцо в полную ночную темноту двора, с темными корпусами вокруг. Я была одна среди этих огромных темных домов. Особенно отчетливо я ощутила это, когда кончились длинные, сказочные, летние дни... В какой-то придавленности я бежала по густым, заросшим деревьями аллеям и тропинкам огромной, безлюдной в этот час территории Градских больниц. Потом шла пешком по старой Калужской улице до Садового кольца, где на улице Чайковского стоял мой старый дом. А когда наступал день "дежурств" (Ольга Михайловна приходила утром и сидела до обеда, а потом начинались "дежурства": мое время от пяти часов вечера до момента, как он засыпал), когда наступал этот день, не было тоски, а был даже подъем, что я снова его увижу. И по дороге я думала, как бы найти самое интересное, забавное, человечное - ему рассказать.
В те годы я слышала и такие слова:
- Как это Гроссман не смог сберечь свой роман?
И долгие годы даже близким людям не отвечала на этот вопрос. Но в больнице узнала от него то, что не могла не узнать, - что спас он "изъятый" роман... Как брел через всю Москву и ночью забросил его на шкаф в одну из комнат одной из коммунальных квартир. Ведь он был мужественным, умным и сильным человеком. А на войне и рядовые и генералы видели, как отважно вел он себя на передовой.
Сначала я хранила все это так глубоко в памяти, что боялась доверить бумаге даже слово одно. Ведь так страшна ответственность в хранении такой тайны... Потом стала что-то записывать, но иногда, чуть-чуть.
А сейчас скажу подробнее, но тоже не все. Чтобы легче было понять меня, отвлекусь на минутку в сторону.
Была у нас с ним такая форма разговора, связанная с тем, что я работала в редакции, каждый день читала разные рукописи и иногда рассказывала ему об этом. Но иногда мы меняли факты, названия, эпизоды.
Так, например, в больнице он дал мне "(молча) "Все течет", и я (тоже молча) вложила ее в свою "авоську". Все годы, что я работала в редакции, я носила рукописи в прозрачной "авоське". И Солженицына, и всякую муру "авоська" была одна. И "авоська" не подвела.
Когда я принесла назад "Все течет", то села с рукописью рядом. И сказала, что прислали ее по почте из какой-то провинции... Что я от нее в восторг пришла... Он улыбнулся довольно и стал спрашивать, что же этому автору, по-моему, удалось. А я повторяла, какой этот автор молодец и как ему все удалось... Ведь я знала, что я "четвертый читатель", и понимала, что я - последний читатель, и хотелось вознаградить его за всех других читателей.
И вот именно этим способом - по слову, по фразе, по цитате (особенно важна была роль цитат) он постепенно рассказал, что спас свой роман. Рассказывал будто о другом человеке, а руку клал себе на шею.
И мне запомнилось так резко - будто вижу его в его демисезонном пальто и шарфе, как идет он, чуть согнувшись под тяжестью романа (хотя ходил он очень прямо), и входит в узенькую комнатенку коммунальной квартиры, где у входа стоит старый шкаф.
И я хотела бы сказать о женщине, которая тут жила. Я с ней встретилась в больнице. Василий Семенович познакомил нас. Он назвал ее Леля.
А на другой день, показывая на то место, где она сидела, он жестами и словами пояснил, что роман у нее. А когда она пришла еще раз, Василий Семенович дал ей знать, что я тоже об этом знаю.
И все эти длинные годы, после катастрофы, роман сберегала она.
И я хочу сказать отчетливо и ясно о том, что сложилось из всех разговоров с ним. Что эту лежащую на шкафу рукопись он называл своим романом. Именно этот экземпляр. Что он сам запутывал следователей при обыске своими поездками в их машине за экземплярами. И что таким путем авторский экземпляр удалось ему спасти.
Так обстояло дело к сентябрю 1964 года - к концу его жизни. В самые последние дни Ольга Михайловна вызвала меня на улицу и сказала, что Василий Семенович хочет, чтобы я знала о судьбе романа. И передала последнюю его волю: чтобы роман хранился у старого его друга Вени, имеющего свой дом в одном из подмосковных городков. И Вячеслав Иванович Лобода забрал рукопись из первого хранилища - коммунальной квартиры.
Их роль в спасении романа огромна. Кроме них, никто из близких ничего не знал.
Были часы и даже дни, когда ему становилось чуть лучше, а потом все хуже, хуже и хуже.
Даже очки уже были тяжелы, появились от них кровавые следы на висках. Но он снимать их не хотел, считал, что без очков он "не в форме". Когда я пришла один раз и в эту минуту он был без очков, то сейчас же потребовал их.
- Ко мне пришла гостья, - сказал Василий Семенович. - Я должен приодеться.
А накануне смерти сказал, протягивая руку:
- Очки!
А когда я переспросила (он теперь уже говорил не всегда внятно), сказал:
- Дайте мои очечки...
После его смерти меня спрашивали очень часто: неужели даже такой человек, как Гроссман, не понимал, чем болен, не понимал, что умирает.
И как было объяснить, не огрубляя его образ, что он все понимал, знал и называл своими словами.
Сколько раз он повторял строчки:
Тяжело умирать:
Хорошо умереть,
написанные умирающим Некрасовым.
Но человек таких мощных связей с жизнью не может жить без надежд на жизнь.
Искры надежды так видны были в минуты, когда он принимал новое лекарство, которым в этом корпусе, как я понимала, лечили безнадежных больных.
Это были большие капсулы из желатина четырехугольной формы. И Василий Семенович прозвал их по-своему - "чемоданчики", в само это слово вкладывая те сложные чувства, которые охватывали его. Количество пилюль увеличивалось ото дня ко дню. И Василий Семенович замечал этот рост. Мне сначала казалось, что, может быть, ему трудно проглотить. Он брал "чемоданчик" в руки, долго смотрел на него, словно хотел оттянуть время, ждал, лежал, думал.
- Я не могу это сделать сразу, это очень тяжело, - говорил он.
Я спросила:
- Трудно глотать?
- Нет, - ответил он, - глотать совсем легко, они сами проскакивают внутрь.
В такие минуты он мучительно думал - надо принимать или нет.
- Это очень не просто, - говорил он, - я не могу сразу, подождите немного, пусть оно полежит рядом.
Но если ему казалось, что пропустили время, он пугался и спрашивал:
- Вы не забыли про чемоданчики?
И когда оказывалось, что не забыли, все начиналось сначала - сомнения, волнения и боль. Он ничего не делал механически, во все вкладывал душу и мысль и ясным своим умом понимал, что "чемоданчики" не принесут чудес. Каждый раз заново решал: проглотить или сбросить с тумбочки прочь. И относился почти как к живому существу - только не знал, доброму или злому.
И с часами тоже было тяжело. Он не снимал их с руки. Смотрел очень часто, а когда становилось хуже и он не находил себе места, без конца поднимал руку и вглядывался в циферблат.
Это было так трагично, что сил не было на это смотреть. Казалось, он смотрит на часы, чтобы узнать, сколько ему осталось жить.
Только в день смерти он снял часы с руки. И отчетливо и резко отделил себя от жизни. Это был единственный день, когда он не спросил, что нового в жизни, что слышно в "Новом мире". Это был единственный день, когда он не проявил никакого интереса к напечатанным вещам. Это был единственный день, когда он не попросил сесть рядом с ним.
И когда я пришла, то услышала ясный, даже какой-то отчетливый его голос:
- Дорогая, идите домой. Зачем вам мучиться...
Он умер в этот день моего "дежурства" 14 сентября 1964 года.
Мои разрозненные старые записи 1964 года, сделанные уже после его смерти, заканчивались словами, которые мне бы очень хотелось привести здесь:
Неужели его забудут, так и не узнав?





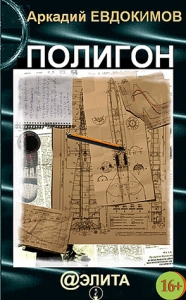
Комментарии к книге «Прощание», Анна Берзер
Всего 0 комментариев