Человек, обживающий мир
В глубине этой книги Георгия Кублицкого есть одна сцена, с которой мне хотелось бы начать свое предисловие.
Четверо любителей древностей приехали к месту раскопок Ахетатона — города Солнца, где задолго до нашей эры жили вольнодумствующий фараон Эхнатон и его жена, красавица Нефертити. Путеводители не рекомендуют туристам посещение этих мест: трудная, утомительная дорога, неудобная переправа через Нил. Но четверо приехали из Каира и перебрались через реку на дрянной, шаткой лодке. На другом берегу их ждало путешествие к горам, где вырублены в скалах пещеры-гробницы приближенных фараона. И еще их ждало солнце. Не российское солнышко, в общем-то милосердное даже в летний зной, а безжалостное солнце Египта; кто побывал там, тот, разумеется, помнит особой памятью тела, как отбивает египетское солнце все желания, кроме желания побыстрее спрятаться в тени. Впрочем, солнце уже было с нашими путешественниками всю дорогу от Каира, прокалив автомашину так, что отдергиваешь от ее корпуса свои неосторожные пальцы. Плотной и жгучей, почти физически ощутимой массой оно охватило их, когда в толпе гидов-драгоманов и босоногих мальчишек подходили они к переправе. Солнце жгло их в лодке, отстраняя своими сильными лучами свежесть нильской воды.
И вот теперь предстояло полтора-два часа пытки на раскаленной сковородке, имя которой — пустыня под египетским солнцем. К счастью, наготове были ишаки, ослиная кавалерия, освобождающая путешественников хотя бы от мускульных усилий. Трое уселись на ишаков. А четвертый?
«Иду полным шагом, а кавалерия поспешает еще быстрее; песок становится глубже и ноги вязнут. Погонщики вскочили на осликов по двое, в пешем строю остался я один. А на мне — фотоаппарат, бинокль, сумка.
Ровно полдень. Палит нещадно. Сердце колотится, как после бега, пот заливает лицо. Еще раз меня соблазняют ишаком, но я и сам упрям как ишак…»
Четвертым был автор этой книги. И мысленно я вижу Георгия Ивановича Кублицкого, не молодого уже, но сильного человека — сильного потому, что он не дает себе потачек и поблажек. Обремененный фотоаппаратом, биноклем и сумкой, он, видимо, не без зависти поглядывает на спутников, оседлавших ишаков, и прикидывает, сколько же еще ходу до скалистых гор, полукружие которых как спасительные края этой раскаленной сковородки. И думает о себе: «Упрям как ишак…»
А упрям он как человек, сознающий смысл своего поступка. Ему нужен этот, пусть короткий, эксперимент с солнцем и пустыней.
Ему все нужно попробовать.
Когда летишь над пустыней в самолете, все думаешь, как, должно быть, ужасно оказаться там, внизу, среди безбрежного мертвого простора. Когда пересекаешь пустыню на автомашине по слепящему гудрону шоссе Каир — Александрия или Каир — Суэц, она стремительно пробегает мимо, жарко дыша в раскрытые окна. А надо ведь побыть там и беззащитным, хоть на короткое время выставить себя одного против двух вечных союзников! И тогда-то, в жестких объятиях солнца, ты перестанешь быть посторонним и, что называется, нутром своим поймешь, каково приходится здесь людям, что за жизнь у обитателей вон той хижины, сложенной из земляных кирпичей «в самом паршивом месте голой прокаленной пустыни».
Потом наш уставший писатель все-таки обгонит своих спутников, спешившихся перед крутой горной тропой, и в душных пещерах-усыпальницах снова не даст себе потачки и опишет в книжечке смутные фигуры древних воинов, бегущих по стенам. И спустится вниз, к месту раскопок древнего города, и книжечка снова будет у него в руках. И по той же невыносимой жаре он вернется в каирскую гостиницу, чтобы смыть дорожную пыль и, может быть, на полчасика растянуться на кровати перед затененным окном, за которым все громче шумит улица, радостно оживающая, словно празднующая ежевечерний ритуал освобождения от солнца. И снова к блокноту, и тогда-то в нем, наверное, появятся среди прочих краткие полуиронические строчки о полуденной ходьбе в пустыне. Слишком краткие — Георгий Иванович скуп на описания своих самочувствий и состояний.
Но, так или иначе, эта добровольная пытка дополнит гамму его впечатлений о Египте, пригодится в его литературном хозяйстве. Писателя заманила туда загадка Нефертити, которая и через три тысячелетия остается идеалом женской красоты; но заодно он еще раз задумался о жизни египетского феллаха, о судьбе страны, стиснутой раскаленными обручами пустыни.
Я рискнул подробнее, чем в книге, расшифровать этот поступок не потому, что он исключителен. Просто он помогает лучше понять метод писателя, который уже более трех десятков лет верен своему призванию — рассказывать о странах, людях, путешествиях. Его девиз — узнать и увидеть, понять, пережить, поведать…
Вслед за поэтом Кублицкий мог бы повторить: «Я сердце по свету рассеять готов. Везде хочу поспеть. Нужны мне разом юг и север, восток и запад, лес и степь; моря и каменные горы, и вольный плес равнинных рек, и мой родной далекий город, и тот, где не был я вовек…»
Не понаслышке знает он, что острые камни на побережье Таймырского озера как ножом рвут подошвы из лучшей оленьей кожи и что песчинки в Нубийской пустыне к востоку от Нила — жесткие и жгучие, как искры, летящие из-под молота кузнеца. И не в книжке вычитал, а собственными ушами слышал он мечты иракского батрака Салеха о кровати и о столе и еще о радио, которое впустило бы в бедную хижину и его страну, и весь мир. И американца Кублицкий изображает таким, каким видел его. И мы тоже видим этого американца: как он трясется в поезде нью-йоркской подземки, цепляет на себя предвыборные значки-«пуговицы», как делает покупки в магазине и что ест в своем кафетерии, как забавляется вечером на Бродвее и скучает воскресным утром на опустевшей Сорок второй улице. Или как, по-своему любя огромный, грохочущий, неуютный Нью-Йорк, ведет своего московского друга прочь от небоскребов, на тихую прелестную улочку, «где Бизнес еще не успел расправиться с Поэзией».
Есть такое выражение — эффект присутствия. Писатель или журналист присутствует на месте, о котором он рассказывает, лично знает своих героев, был очевидцем того или иного события. Эффект присутствия — это как гарантия достоверности, правдивости. Кублицкий всегда идет на место, где действуют или действовали его персонажи, или, напротив, находит их в тех местах, которые он посетил. Он знает горную дорогу из Котора в Цетинье, которой век назад шел к черногорцам русский горный капитан Егор Петрович Ковалевский, и из нынешнего Цетинье Кублицкий не преминет найти в бинокль среди нагромождения скал ту труднодоступную горную вершину, где в часовне покоится прах Негоша — правителя черногорцев, поэта, друга Ковалевского. Он, конечно, не был в экспедиции Александра Федоровича Миддендорфа, одного из российских первооткрывателей Таймыра, но история этой экспедиции оживает под пером писателя не потому только, что он тщательно изучил документы. Еще в 1936 году молодой журналист Кублицкий познал суровый норов Таймыра, выпуская многотиражку для экипажей речных судов, которые с великим трудом, преодолевая немалые опасности, доставили по Енисею, Карскому морю и реке Пя-сине первые грузы для тогдашнего безвестного, только что родившегося Норильска. А осудительные нотки в рассказе о путешествии американца Роберта Пири на Северный полюс звучат потому, что Кублицкому чисто по-человечески противны всякие рекламные штучки, бахвальство, поза. Он лично знаком с многими полярными исследователями, делающими свое дело по-рабочему просто, по-мужски сдержанно. Сам он прост, сдержан, исполнен внутреннего достоинства, и, если хотите, в этом сказывается эффект присутствия автора на страницах его книги.
Георгий Иванович Кублицкий родился в 1911 году в Красноярске, на Енисее. В своей книге «Сибирская родная сторона» он вспоминает, что в годы его детства тайга подступала к самому Красноярску и что «ягодницы, торговавшие на базаре лесной малиной, не хотели сбавлять цену, говоря, что за ягоды эти натерпелись они великого страху от медведей». В детской памяти сохранился январский день 1920 года, когда бородач с красной лентой на папахе раздавал красноярским ребятишкам георгиевские кресты прямо из сундука, брошенного колчаковцами, которые оставили Красноярск под ударами Красной Армии и партизан. И еще вспоминается голод, бред сыпнотифозных больных, трупы лошадей на улицах. Вечерами мигали и меркли электролампочки и мальчик затягивал вместе с сестрой: «Фрумкин умирает! Фрумкин умирает!» Фрумкин, видимо, был главным на местной электростанции, а лампочки меркли в городе на Енисее, который стал теперь одной из мощнейших «электрических» рек планеты. Жили без отца. Его убили на фронте в 1914 году; мать работала инспектором в страхкассе и боялась лишиться места. Мальчик навещал дом доктора Крутовского, где было много книг, а в саду росла амурская сирень. В 1926 году поехали за лучшей жизнью в быстро растущий Новосибирск, который тогда любили называть «Сиб-Чикаго». Там подросток окончил школу. В родной Красноярск вернулся уже геодезистом-изыскателем.
«Судьба подарила мне в молодости несколько лет таежных изыскательских скитаний, — спустя много лет скажет Кублицкий. — Теперь кажется, что без них жизнь моя была бы неполной, лишенной чего-то важного, существенного». Подарок судьбы… Случайны ли эти возвышенные слова? Те годы таежных и, надо полагать, тяжелых изыскательских скитаний, наверное, образовали характер человека, которому хорошо в пути, нужны сквозняки дорог, которого тянет к новым местам и людям. Его мучила жажда познавать и жажда поделиться познанным с другими. Молодого начальника изыскательской партии потянуло к перу. Он пришел в газету «Красноярский рабочий»…
Теперь он писатель — известный, уважаемый, имеющий своих преданных читателей. А по складу характера, по направленности таланта остался неутомимым изыскателем, путешественником.
Он давно уже москвич, но из тех, кому не сидится на месте. Изъездил всю страну, писал об Арктике и Антарктиде, о землепроходцах и речных капитанах, но мне кажется, что самые проникновенные и поэтические его страницы посвящены Сибири. Родной Енисей он поистине очеловечивает, любуется им, как близким, дорогим существом. О Сибири говорит по праву и с любовью сына: «Сибирь, моя Сибирь…»
Пришли пятидесятые годы, та пора, когда писатель Кублицкий с удостоверением специального корреспондента «Литературной газеты» впервые выехал за пределы нашей страны, начал, по добродушно-ироническому его выражению, колесить по материкам и странам. Там, за рубежом, поначалу непривычно было сибиряку рекомендовать себя: «Ай эм э форина. Я иностранец». Иностранные улицы и города, горы и пустыни часто становились теперь его рабочим местом. Он наблюдал, как и чем живут люди у подножия небоскребов Нью-Йорка и под метелками иракских финиковых пальм, на улицах Стокгольма и Белграда. Люди, прежде всего люди и их жизнь по-прежнему занимали писателя Кублицкого, ставшего писателем-международником. И новое дело он научился делать с той же основательностью, с которой делает все в своей жизни. И с высоким чувством ответственности человека, который дорожит своей репутацией и никогда не позволит себе наплести небылиц, пользуясь тем, что Нил не так знаком его читателю, как Волга.
Он писал книги о египтянах, иракцах, шведах, норвежцах, американцах, югославах. Талантливые, серьезные, честные книги. Самобытные книги, потому что в них всегда присутствовал уже знакомый нам умный, зоркий человек. Полезные книги — они расширяют наше знакомство с внешним миром, дружественным или враждебным, сложным, противоречивым. Надо ли доказывать, как важно нам знать и понимать другие народы и страны?!
Когда я читаю в книгах Г. И. Кублицкого о тех местах, где мне не довелось побывать, мне, честно говоря, завидно: как много видел этот человек! Какое несметное количество людей и судеб держит он в своей памяти и в своем сердце! Мне досадно и даже стыдно, что вот он мог, а я не мог. Досадно, разумеется, на себя. Меня тянет на «речной проспект» Енисея и в «скальный хаос» Саян, в другие отечественные края, чтобы обжить и исходить их, положить на карту собственной памяти и собственного сердца. И я благодарен человеку, который так вот разбередил мою душу. А разбередив, заставил еще крепче полюбить Родину.
Когда же я читаю у Кублицкого о Нью-Йорке, Багдаде, Каире, о тех заграницах, где мне, журналисту-международнику, пришлось пожить и поработать, я проверяю его описания своей памятью и радуюсь их точности. И снова я завидую его пытливости, пристальности взгляда, умению глубоко вникнуть во многое, хотя обычно его заграничные командировки не очень продолжительны. И редкому трудолюбию. За книгами Кублицкого всегда стоит большой упорный труд.
Случилось так, что я познакомился с Георгием Ивановичем не в Москве, а в Каире — больше десяти лет назад. Я был там постоянным корреспондентом «Известий», а он приехал месяца на два. Среди людей, пишущих о загранице, у постоянных корреспондентов наших газет есть свое преимущество — долгое сидение в другой стране. Что греха таить, порой это преимущество порождает некое самомнение. На заезжую пишущую братию мы, бывает, посматриваем свысока, как на непосвященных, что, впрочем, не мешает корреспондентам испытывать профессиональную робость перед писателями. В Каире Георгий Иванович сразу подкупил нас своей доброжелательностью, простотой, товарищеским расположением. Менторского тона и снисходительности старшего к младшим у него не было, а была, помнится, неподдельная заинтересованность в наших делах и успехах. Он охотно делился своими знаниями, не забывал расспрашивать и нас, И работал, работал — куда-то уезжал, исхаживал и изучал Каир.
Сейчас, перечитывая египетские главы этой книги, я лучше понимаю его, а не наши преимущества. Я, к примеру, так и покинул Каир, не побывав на раскопках того же Ахетатона. Пробыв больше трех лет в Египте, я так и не выбрал трех дней, чтобы пожить в какой-нибудь арабской деревне. Очень важными мне казались текущие политические события, и я пренебрег деревней и феллахом — этой основой египетского общества. А Георгий Иванович понимал, что этим пренебрегать нельзя, выбрал время, поехал и очень интересно рассказал о египетской деревне и законах трехдневного арабского гостеприимства. А как превосходны его портреты шумной каирской улицы и рабочей, согбенной от восхода до заката, перенаселенной нильской Дельты. Как занимательны и поучительны те экскурсии в историю Египта, которые он предпринимает из залов Национального музея, с холма Цитадели, возвышающегося на окраине Каира, из луксорской Долины царей…
По десятилетнему корреспондентскому опыту я знаю, как трудно писать о загранице, в частности о Соединенных Штатах Америки, где мне долго пришлось жить и работать. Известно, что у нас разные общественные системы, разные образы жизни и проблемы, что мы, попросту говоря, живем по-разному. И вот надо зримо представить нашему человеку ту жизнь, которой он сам не жил. Надо словами нарисовать картины той незнакомой жизни, а для этого надо вживаться в нее и вырабатывать свой взгляд изнутри, который и означает понимание этой жизни, необходимое каждому пишущему о ней. И этот взгляд изнутри должен сочетаться со взглядом извне, то есть с собственной позицией советского человека, оказавшегося за рубежом. Книги, сочетающие оба эти взгляда, редки. Писателям, которые за границей бывают наездами, часто не хватает именно понимания чужой жизни, конкретности и предметности, и тогда знание и мысль уступают место туристским эмоциям, охам и ахам. А корреспонденты, подолгу живущие за границей, знают довольно много, но слишком уходят в газеты, в текучку. Многоопытность, привычность ко всему лишает нашего брата той свежести ощущений, при которой читатель как бы следует за автором в исследованиях чужой жизни, как бы открывает ее вместе с ним.
Кублицкому присущ и взгляд извне, и взгляд изнутри. У него есть знание предмета, но нет газетной заданности и назидательности, истину он ищет через живых людей. Прочтите, к примеру, увлекательный рассказ о нью-йоркской Сорок второй улице; она предстает перед нами и как социальное явление, важный символ Америки, и как конкретная улица с ее домами и оффисами, с людьми.
Заграничные, в частности нью-йоркские, очерки Кублицкого, включенные в эту книгу, очень познавательны. Прогуливаясь вместе с писателем по центральному району Нью-Йорка — острову Манхеттену, вы узнаете, что этот небольшой остров, на котором богатства, видимо, больше, чем где-либо в мире, был в свое время куплен голландцами у индейцев за двадцать четыре доллара. Приведя вас в душное чрево статуи Свободы, автор расскажет, что знаменитая эта Свобода — отнюдь не американского происхождения, что история ее началась с парижского скульптора Бартольди. Очутившись на галерее нью-йоркской биржи, вы получите сведения о механизме действия этого регулятора американской экономики.
Писателя Кублицкого всегда притягивала к себе история — история людей, городов, открытий. Разочарованный пыльными руинами Древнего Вавилона, он поведает вам о великом его прошлом. Рассказывая о сегодняшнем дне, он почти непременно оглянется назад, чтобы показать то же место, ту же страну или цель, если речь идет о путешественнике, в историческом разрезе, открыть пласты веков и десятилетий…
Мне хотелось бы закончить свое предисловие тем, с чего, может быть, следовало его начать. Я думаю, что из всего, чем природа, не скупясь, одарила этого человека, самый дорогой дар — это дар внимания к людям. Без него не было бы ни писателя, ни путешественника Кублицкого, не было бы человека Кублицкого, который достоин глубокого уважения. На страницах его книг вы найдете сотни людей. Где он берет время и сердечные ресурсы, чтобы, раз встретив человека, не порвать нить знакомства, а укреплять ее, превращая знакомство в дружбу?
В нем талант тактичного воспитателя, который мне посчастливилось ощутить на себе. Мы встречались в Каире, а потом в Нью-Йорке. Казалось бы, обычное знакомство, приятное и мало к чему обязывающее. У меня есть близкие друзья и хорошие товарищи, но именно от Георгия Ивановича получил я однажды за океаном ценное слово поощрения и напутствия. Оказалось, что и меня включил он в обширную сеть своих подопечных и за моей работой следил. А внутренний смысл его письма был в следующем: будьте, мой друг, построже к себе, поднимайте, а не опускайте планку! Как дорого слово поощрения от старшего товарища, от уважаемого писателя и человека!
Сейчас за плечами Георгия Кублицкого шестьдесят лет и около трех десятков книг. Энергии ему не занимать, а неуемности, непоседливости, напряженности труда молодым можно у него учиться. Может быть, именно вечная дорога сберегла ему здоровье и бодрость. Этот человек продолжает обживать мир.
С. КОНДРАШОВ
На разных меридианах
Разные меридианы и параллели пересечены маршрутами путешественников, о которых рассказывает первая часть книги.
Странствовали они в разные времена. У них несхожие характеры. С железным упорством много лет прокладывал во льдах путь честолюбивый Роберт Пири, стремясь первым достичь Северного полюса. Во что бы то ни стало, любой ценой — первым! А герой рассказа «На «Острове метелей» Георгий Ушаков, посвятивший свою жизнь Арктике, равнодушен к личной славе. Он готов на любые жертвы ради людей, доверившихся ему.
Поразительны и смертельно опасны приключения Арминия Вамбери в пустынях Средней Азии. Но и снежные пустыни Таймыра, где едва не погиб Александр Миддендорф, столь же притягательны для смельчаков. Стремление познавать мир, стирать его «белые пятна» — вечное стремление человека с незапамятных времен до космической эры…
Зов Таймыра
Мы едем в Норильск. — Портрет бородатого человека. — Надпись на карте. — Докторская шапочка и охотничья шляпа. — У лодки Харитона Лаптева. — Аргиш уходит в тундру. — Здесь жили мамонты. — В ледяной ловушке. — О чем рассказал Тойчум
Все было решено заранее.
Шестнадцать лет — серьезный рубеж для мужчины. Мы отметим его поездкой в Сибирь. Будем путешествовать вдвоем по моим родным местам. Вместе поклонимся земле предков.
Осенью 1970 года сын гордо, даже несколько надменно протянул мне новенький паспорт. Лиловая гербовая печать удостоверяла, что еще один москвич расстался с детством.
— Ну что же, Никита Георгиевич, начнем помаленьку готовиться, — сказал я. — Выберем подходящее время, и…
И вот за окном вагона — белый каменный знак: граница Европы. Он мелькнул среди ельников, среди скошенных полянок. Азия же началась скалами над пристанционным поселком и песней про Ермака, которая загремела в вагонных репродукторах.
Перевалив Урал, поезд помчался по сибирским равнинам, потом стал петлять среди таежных сопок. Он высадил нас на берегу Енисея и унесся дальше, к Тихому океану.
Мы побывали сначала в верховьях реки. С горной дороги любовались молодым Красноярским морем. В глубине ущелий его заливы были узки и дики, как норвежские фиорды.
Никите хотелось поскорее на Север, в удивительные края незаходящего летнего солнца и вечномерзлой тундры. Его манил Таймыр, о котором он много читал и слышал.
Я знаю Енисей с детства. В молодые годы две навигации ходил по нему в команде теплохода. Прошел енисейские плесы недавно, летом 1967 года. Путешествие с сыном — мой двенадцатый дальний рейс в низовья реки.
Он начался у речного вокзала Красноярска. В теплый хмурый день ледяная вода, охлажденная в стометровых глубинах Красноярского моря, по-зимнему курилась паром. Навстречу шли полупароходы и полубаржи: борта скрывала белая вата, виднелись только трубы и мачты.
Потом был Казачинский порог. Судно, подхваченное потоком вспененной воды, промчалось меж гряд скользких камней.
Когда мы «разменяли» первую тысячу километров от Красноярска, вечерняя и утренняя заря сошлись в ночном небе. Ветер, подувший с Северного Ледовитого океана, принес первые желтые листья. Радио сообщило о жаре в Москве.
Недреманной белой ночью судно подошло к поселку Бор. Дома из свежих бревен желтели на высоком яру. Пристани не было: еще не успели расчистить от подводных камней подходы к берегу.
Загремела якорная цепь. Матросы в спасательных жилетах попрыгали в шлюпку — волна тут крутая, с ней не шути. Приняли чемоданы, ящик с телевизором. Потом спустились пассажиры. Последним — рыбак с пятью ездовыми псами. Без собак и сегодня здесь трудно: больного зимой к самолету — на собаках, дров привезти — на собаках, на охоту — с собаками…
Когда мы были уже возле Полярного круга, Никита ворвался в каюту:
— Давай скорей! Там такое… Да скорей же! Капитан зовет!
Я поднялся на мостик.
Скрытое тучами ночное солнце вдруг выбросило вверх, в их плотную синь, купол золотого, совсем не закатного пламени. В рубке было человек шесть, насмотревшихся на речные закаты и восходы, но никто прежде не видел ничего подобного. Будто там, у горизонта, произошла неведомая космическая катастрофа. Стали вспоминать, что неподалеку от этих мест когда-то упал знаменитый Тунгусский метеорит.
Да, было для Никитки много нового, необычного в этом путешествии. Чего стоил, например, диплом, где был изображен белый медведь в боярской шубе, а сургучная печать Полярной звезды удостоверяла, что землепроходец такой-то через линию, именуемую учеными мужами Северным Полярным кругом, в Арктику переступил и часть крови своей тунгусским комарам безропотно, послушно отдал…
В заполярном порту Игарке мы шагали по бетонным плитам, положенным на улицах в топь тундры, и наблюдали погрузку иностранных морских кораблей, пришедших за сибирским лесом. В Дудинке искали дом полярного следопыта Никифора Бегичева, ели свежую оленину, провожали на вертолетной площадке геологов, улетавших в тундру на разведку газовых месторождений.
А потом поезд заполярной железной дороги доставил нас из Дудинки в Норильск… и кончился Таймыр, кончился Север!
— Как в Москве, только всё меньше, — твердил разочарованный сын.
Я говорил, что это как раз и замечательно — ведь вон куда забрались, а попали в большой, благоустроенный, красивый город. Верно: и здесь высотные дома, как в Москве, но ведь стоят-то они на сваях, забитых в толщу вечной мерзлоты. Никитка кивал головой, однако добавлял:
— А в Игарке интереснее. Какой же здесь Таймыр? Видишь, плавательный бассейн, как у нас на Ленинградском проспекте. И гладиолусами везде торгуют.
В норильском музее Никитку рассмешил литой ключ необыкновенной величины, под котором прогибался столик. Этим символическим ключом новоселы «открыли» дверь квартиры в Солнечном проезде: именно там в числе прочих квадратных метров оказался миллионный, построенный для норильчан.
Миллион, впрочем, Никитку ничуть не удивил. Его занимало другое: смог бы он «выжать», этот ключ одной рукой?
И уж конечно, мой сын не обратил никакого внимания на большой портрет пожилого бородатого человека, под которым была всего одна строка: «А. Ф. Миддендорф (1815–1894)». Норильчанам не требовалось пояснять, почему этот портрет висит на почетном месте.
Впервые я увидел имя Миддендорфа в начале тридцатых годов. Именно увидел. Меня, начинающего геодезиста-изыскателя, определили к картографу Нилу Сушилину. Он составлял для Географического общества карту Таймыра. В те годы на полуострове оставалось немало «белых пятен». Некоторые речки приходилось обозначать приблизительным голубым пунктиром — никто не знал точно, как они текут. Су-шилин чертыхался: Таймырское озеро, по данным одной экспедиции, было едва не вдвое больше, чем определила другая.
Вот тогда-то я и прочел выведенную тонким чертежным пером надпись на карте полярных окраин Таймыра: «Залив Миддендорфа».
А шесть лет спустя мне довелось побывать там, где проходил маршрут знаменитой Таймырской экспедиции путешественника. На месте нынешнего Норильска тогда стояли лишь бараки и палатки. Таймыр оставался еще малообжитым, а местами почти таким, каким его застал Александр Федорович Миддендорф, и это помогает мне теперь легче представить пережитые им злоключения и невзгоды.
* * *
Он родился в Петербурге вскоре после изгнания Наполеона из России.
Его отец, Федор Иванович, был профессором, а позднее директором педагогического института.
На лето семья уезжала в Прибалтику. По дороге навещали родственников в Ревеле — так тогда назывался Таллин. Ратуша с фигурой старого Тоомаса на шпиле, старинные каменные башни «Длинный Герман» и «Толстая Маргарита» возвышались над узкими улицами средневекового города, где нетрудно было вообразить себя странствующим рыцарем.
А потом пылила дорога, пересекающая край лесов и тихих озер. Повозка въезжала в ворота усадьбы — и начинались радости деревенского лета.
Мать Саши до замужества была простой эстонской крестьянкой. Жена профессора на рассвете ходила доить коров. С мальчиком не нянчились. Он, как и деревенские ребята, бегал босиком до первых заморозков.
Когда Саше исполнилось десять лет, отец подарил ему ружье — не игрушечное, а охотничий дробовик хорошего боя. Мальчик пропадал с ним в лесах и болотных топях.
— Ничего, пусть растет на воле, ближе к натуре, — говорил отец. — Будет мужчиной. А паркетных франтиков и без него предостаточно.
Саша зачитывался книгами о путешественниках. Это давнее и обычное мальчишеское пристрастие. Но в отличие от многих читателей таких книг, он испытывал себя, проверял: смог бы сам выдержать передряги, в которые попадали книжные герои? Уходил в лес без куска хлеба, пек на костре коренья, стрелял дичь. Как-то сам смастерил лодку. Пробовал переплывать реку в одежде, с ружьем, не сняв тяжелых охотничьих башмаков. Бродил без дорог, по компасу и карте до тех пор, пока не подкашивались ноги.
Александр Миддендорф после гимназии окончил педагогический институт. Но вскоре почувствовал, что ему по сердцу иные пути.
Поехал в Дерпт, нынешний город Тарту, и поступил там на медицинский факультет знаменитого университета. Однако в университетской библиотеке, где хранились первопечатные книги XV века, он часто просиживал не над медицинскими трактатами, а над сочинениями географов древности.
На заглавном листе диссертации Александр Миддендорф, к удивлению профессоров, написал изречение немецкого поэта и натуралиста Адельберта Шамиссо, который, отдавая должное докторской шапочке, выражал желание обменять ее на удобную охотничью шляпу. Будущий врач как бы намекал, что медицина для него всего лишь помощница в будущих странствиях и путешествиях.
Молодой доктор отправился за границу. Он слушал лекции в немецких университетах. Среди его наставников были крупный польский орнитолог Глогер и чешский ученый Пуркинье. Вернувшись на родину, Миддендорф стал преподавать зоологию в Киевском университете.
Однако страсть к путешествиям по-прежнему владела им. Ехать, непременно ехать куда-нибудь! Куда — это не имело для него большого значения.
— Я охотно отправлюсь в центр Африки и к Ледовитому океану, в Пекин и к подножию Арарата, — говорил он друзьям.
Русский академик Бэр взял его в северную экспедицию. Миддендорф пересек Кольский полуостров пешком, и так легко, будто это была не тундра, а холмы Эстонии. Он проявил незаурядные способности к научной работе. Вскоре после возвращения его назначили профессором зоологии.
Тем временем Академия наук разработала план трудной экспедиции в Сибирь. Его выполнение ученые поручили Миддендорфу и так обосновали свой выбор: «Он и по своим познаниям и по навыку к телесным напряжениям и решительности характера не оставляет ничего больше желать».
Миддендорф должен был проникнуть в самую глубь неведомой Таймырской земли для изучения полярного климата и для разрешения споров о вечной мерзлоте. Напутствовал его академик Бэр:
— До вас, любезный Александр Федорович, там побывали лишь Лаптев и Челюскин. Внимательно изучите путевые журналы сих героев Великой северной экспедиции. Они не столь подробны, но ничего другого у нас нет. Таймыр пока едва ли не единственное большое пространство Российской империи, о котором мы знаем меньше, чем о берегах Амазонки. Вам двадцать семь, вы полны жажды деятельности при свежести сил, вас влечет даль — кому, как не вам, пускаться в путешествие на ледяной север?
Таймырская экспедиция покинула Петербург осенью 1842 года. Но при слове «экспедиция» на этот раз не представляйте себе большую группу людей в дорожных костюмах, множество ящиков и тюков со снаряжением. Нет, вся экспедиция Миддендорфа состояла из него самого, обрусевшего датчанина лесничего Тора Брандта и эстонца Михаэля Фурмана, умевшего вести метеорологические наблюдения и весьма искусно изготовлять чучела птиц и зверей. Уже в Сибири присоединился к ней молодой топограф Ваганов, ставший товарищем и ближайшим помощником Миддендорфа.
Сначала на лошадях без малого пять тысяч верст до Енисея, потом к северу дорогой золотоискателей, затем по торосам замерзшей реки — и в феврале 1843 года путники увидели на высоком обрыве деревянную колоколенку. То был утонувший в снегах заштатный городок Туруханск, откуда еще землепроходцы топтали тропы в «землицы незнаемые».
По их следам, где на собаках, где на оленьих упряжках, добралась наконец экспедиция до Дудинки, последнего селения на Енисее. И тут слег Фурман: корь! Говорили, что болезнь непрошеной гостьей пожаловала на Таймыр, в становища кочевников.
Корь прилипчива, заболел один — переболеют все. А задерживаться в Дудинке нельзя ни дня: весна торопит. Выручай, докторская шапочка!
Ящики на санях, обшитые оленьими шкурами, превратились в походную больницу. Бывали дни, когда на ногах оставались только Миддендорф да Брандт, и все же олений караван упрямо продвигался к Пясинскому озеру.
В тундре ему повстречался Тит Лапту ков, ссохшийся, но еще крепкий старичок лет семидесяти, похожий на сказочного гнома. Он прожил всю жизнь на Таймыре, знал языки кочевников — о таком проводнике можно было только мечтать.
Лаптуков повел караван от одного стойбища кочевников к другому. Но никто не встречал гостей у входов в чумы, занесенных сугробами.
Глаза, привыкшие к белизне тундры, сначала различали внутри только угли костра. В полутьме слышались стоны. Кочевники тяжело переносили корь, для некоторых она оказывалась смертельной.
В одном чуме Миддендорф увидел фигуру в странном одеянии, украшенном медными побрякушками. Шаман, почитаемый кочевниками знахарь и колдун, не обращая внимания на незнакомцев, кружился, что-то бормоча и ударяя в бубен. Его движения всё ускорялись, он стал подпрыгивать, словно одержимый. Старик Лаптуков прошептал:
— Болезнь изгоняет…
Шаман бросил в очаг горсть какого-то порошка. Смрадный дым наполнил чум. Колдун хрипло выкрикивал заклинания, на губах пузырилась пена. Еще секунда — и он упал, обессиленный пляской.
— Верно это, будто за свои кривлянья такие вот мошенники забирают у бедняков последних оленей?
Лаптуков подтвердил. Но ему было явно не по себе: похоже, что он и сам побаивается шамана.
Колдун, приоткрыв глаза, следил за незнакомым человеком, который склонился над мечущимся в жару мальчиком. Едва тот поднес ко рту больного лекарство, как шаман, проворно вскочив, оттолкнул его руку.
С горячностью молодости Миддендорф едва не влепил колдуну хорошую затрещину, но вовремя сдержался: так больным не поможешь. Он обернулся к Титу Лаптукову: надо сказать шаману, что русский своим зельем лишь усилит его волшебные чары. А плату за исцеление пусть тот забирает себе…
Была середина апреля, когда экспедиция вышла к четырем курным избам становища Коренного Филипповского. Миддендорф попытался нанять оленей, чтобы двигаться дальше на север.
— Подожди, — ответили ему, — вот скоро начнем кочевать, пойдешь с нами.
Становище находилось почти на 71-й параллели, у границы лесотундры. Чтобы не пропадало зря время, взялись за походный бур. Он с трудом проникал в твердую, как камень, землю. Пробурили три сажени, потом пять сажен — по-прежнему неподатливая мерзлота.
— Когда же земля успела так промерзнуть? — удивлялся Ваганов.
— Быть может, за тысячи лет, — отвечал начальник экспедиции.
Ему вспомнились ученые споры. Леопольд фон Бух объявил решительно ненадежными и невероятными известия, будто существуют места, где на глубине нескольких футов от поверхности земля не оттаивает даже в летнее время. Немецкий естествоиспытатель не хотел верить рассказам каких-то сибирских казаков.
Да чтобы оттаял тот слой, который они только что пробурили, нужна жара Сахары! А как глубоко он простирается? Может, на десятки сажен!
Ожидая весеннюю перекочевку, Миддендорф в погожие дни разъезжал по тундре.
Однажды оленья упряжка вынесла его к берегу Хатангского залива. Он узнал эти места, описанные участниками Великой северной экспедиции.
А что чернеет у берега? Старая лодка. Очень старая, теперь таких не делают. Сохранилась не только обшивка, но даже смола и гвозди.
Долго простоял над ней путешественник.
То была лодка Харитона Лаптева, пролежавшая здесь сто два года.
Да, в XVIII веке Россия исследовала Север с достойным размахом и смелостью. Почти шестьсот моряков, врачей, ученых, геодезистов, рудознатцев проникли к ее полярным окраинам. На огромном побережье Северного Ледовитого океана, от Печоры до Колымы, они боролись со льдами, мерзли в дымных зимовьях, хоронили товарищей, погибших от цинги и лишений. И выполнили свой долг, обследовав и положив на карту самые недоступные места материка. Поистине Великая северная экспедиция!
Может, на этой лодке, брошенной на берегу залива, не раз ходили Харитон Лаптев и Семен Челюскин, чьи походные журналы Миддендорф знал почти наизусть.
Могучая Лена летом 1739 года вынесла их корабль в океан. От ленского устья они повернули на запад. С великими трудностями смог пробиться бот «Якутск» до мыса, где Лаптев записал в дневнике: «У сего мыса стоя, видели морских зверей, великих собою, подобных рыбе — шерсть маленькая, белая, яко снег, рыло черное. По-здешнему называют белуга». Лаптев описался: не «белуга», а «белуха».
К зиме «Якутск» вернулся вот сюда, в этот Хатангский залив. Зимовка была невыносимо тяжелой. Лаптев часто слышал от матросов «неистовые и нерегулярные слова».
На следующую осень «Якутск» раздавили льды. Вода заливала палубу, когда Лаптев и Челюскин сошли на лед последними. Это было за 75° северной широты. Надвигалась полярная зима, а над моряками вместо крыши было холодное небо, постелью служил влажный мох, пищей — кислые ягоды тундры да ржаные сухари.
И все же они через тундру пошли не к жилью, не к селениям, а к побережью, куда льды не пропустили корабль. Потеряв надежду пробиться, вернулись в Туруханск. А декабрьской темной порой, в пятидесятиградусные морозы, когда человек слышит шорох своего дыхания, железо становится хрупким и птица мерзнет на лету, Челюскин с тремя солдатами, оставив занемогшего Лаптева в Туруханске, снова отправился к северному краю материка. Он пересек весь Таймыр и через пять месяцев достиг мыса, за который не пробился «Якутск». Пошел дальше вдоль побережья, пересек 77-ю параллель. На всем материке не было тогда человека, который проник бы севернее его. И в мае 1742 года Семен Челюскин, железный штурман с деревянного корабля, достиг крайней северной точки Азии!
Лаптев и Челюскин положили на карту тонкую полоску берегов Таймыра. Они начали, другие продолжат. Но много ли сделают одиночки в просторе, перед необъятностью которого невольно испытываешь робость?
Прежде всего надо будет пройти к Таймырскому озеру. Кочевники-ненцы не любят те места, говорят, что камни там острее ножа, подошвы из лучшей кожи рвутся за один день, а оленям негде добывать корм. Но обследовать озеро нужно во что бы то ни стало…
Миддендорф вернулся на становище.
Кочевники ладили нарты, чинили упряжь; женщины костяными иглами шили из оленьей замши летнюю одежду: скоро в путь!
Терпеливый Ваганов с помощью Тита Лаптукова тем временем выспросил кочевников о предстоящем пути. Было похоже, что он подходит к реке Таймыре. По ней, наверное, можно спуститься к озеру. Хорошо бы запастись лодкой. Без промедления взялись за дело, и Миддендорф немало удивил казаков: глядите-ка, топором орудует не хуже мужика!
Перед походом начальник экспедиции собрал спутников:
— Мы начинаем дело, небезопасное для жизни. Заболевший останется один, где бы это ни случилось, и будет ждать, пока остальные вернутся к нему на обратном пути. Только так мы можем достигнуть цели.
Он уже ранее замечал, что Брандт и Фурман расположены скорее к спокойной оседлости, нежели к рискованным путешествиям.
— Мы обойдемся без лишнего риска, — продолжал Миддендорф. — Вам, Брандт, — вы у нас часто прихварываете — и вам, Михаэль, лучше остаться здесь для метеорологических наблюдений.
Брандт возразил: ради служения науке он готов идти на любые лишения и даже на смерть. Но его без труда убедили, что интересы науки требуют присутствия такого опытного человека именно здесь, на этом становище. А Фурман спокойно займется своими зверями и птицами.
* * *
Уплотненный ветрами снег был похож на застывшую морскую рябь. Далеко по тундре растянулся «аргиш» — олений караван. Девять саней заняла экспедиция: остов лодки, разные приборы, провиант и даже немного дров — кто знает, найдется ли возле озера топливо.
Над весенней тундрой постоянно боролись холодные и теплые воздушные течения. Когда исчезал синевато-серый туман, в необыкновенно прозрачном воздухе крохотный бугорок был виден чуть не за версту. Карликовые даурские лиственницы, самые морозостойкие деревья земного шара, казались лесными исполинами.
Как-то на привале Миддендорфа привлек холм, с которого можно было осмотреть местность. Это рядом, он успеет вернуться раньше, чем доварится похлебка. С ним пошел один из казаков. Лыжи легко скользили по насту. Через несколько минут оба были на холме.
Внезапно ветер принес густой туман. Миддендорф вовремя заметил направление на лагерь. Через минуту его уже скрыла белая завеса. Чтобы проверить себя, Миддендорф на ходу подносил к глазам подзорную трубу. Внезапно совсем близко мелькнула палатка и сани возле нее.
— Скорее, лагерь рядом!
Оба помчались туда что было сил, но палатка растаяла бесследно. Уж не проскочили ли они сгоряча мимо лагеря?
Повернули обратно. Лагеря не было.
Не раз случалось, что идущие впереди оленьи упряжки начинали дрожать и как бы приподниматься над снежной поверхностью. Однажды в воздухе закачался олень, перевернутый вверх ногами. Тогда этот мираж позабавил всех. Но теперь…
Снова и снова меняя направление, бродили двое по тундре, падая и опять поднимаясь. Ветер тотчас заметал следы.
Минул час, другой… пятый… Мглистая полутьма рассеялась, туман из лилового стал перламутровым. От снежной белизны рябило в глазах.
Прошло еще несколько часов. Обессиленные, голодные, они повалились в снег. С трудом приподнявшись, казак в сотыи раз поднес к глазам подзорную трубу, огляделся и радостно вскрикнул.
Миддендорф выхватил у него трубу. В молочном кружке вздрагивала, плясала близкая палатка.
Они наконец доползли до нее. Кончался двадцать третий час их непрерывных блужданий.
Еще на зимнем становище было условлено, что часть кочевников, ушедших раньше других, устроит на речке Новой промежуточный лагерь.
Но Миддендорф застал там семь могил, двадцать восемь больных и лишь одного здорового. Пришлось снова надевать докторскую шапочку…
Однажды оленьи упряжки вышли на невысокий берег Верхней Таймыры. Река была еще покрыта льдом. Последний ненец расстался здесь с экспедицией.
— Плыви по реке, приплывешь в озеро, тут близко, — напутствовал он. — А лучше оставайся, кочуй с нами. Лечить нас будешь. Хороший чум тебе дадим, олешек.
— Что это за место? — спросил Ваганов. Он наносил на карту все речки и холмы, записывал их названия.
— Мы зовем Сяттага-Мылла. Оставайся и ты, будешь доктору помогать, дадим и тебе маленько олешек.
В Сяттага-Мылла стали ждать ледохода. Весна на Таймыре сырая, туманная. Солнце светило тускло, как свечка в парной бане. Вокруг него расплывались огромные радужные круги. Пересекаясь между собой, они светились пятнами «ложных солнц». Это солнечные лучи преломлялись во множестве ледяных кристалликов, носившихся в воздухе.
Только к середине июня пожаловала наконец настоящая таймырская весна. Ноги вязли в раскисшей глине. Веселые пуночки прыгали по проталинам, появились голосистые лапландские подорожники, вслед за ними потянулись косяки гусей. Крики куропаток не затихали солнечными ночами. Под прозрачной корочкой льда ожили первые растения; и вот уже среди ноздреватого, подтаявшего снега распустились желтые бутоны сиверсии — розы Таймыра.
Полая вода унесла лед. 30 июня спустили в реку лодку, названную «Тундрой», привязали к ней легкий челнок. Плыли быстро, удивляясь, как несколько теплых дней позеленили защищенные от ветра берега; следом за сиверсиями зацвели голубые камнеломки, красные армерии. Хвалили реку: лишь однажды она основательно встряхнула «Тундру» в пороге, а затем вынесла к Таймырскому озеру.
Оно расстилалось свинцово-угрюмое, пугающее бескрайностью. Вдоль берегов тянулись мощные валы из гальки, нагроможденные льдом.
Хорошо бы сразу плыть дальше, да надо было возвращаться за остальным грузом: первый рейс сделали налегке. А пока привезли всю кладь, погода испортилась, шторм гнал по озеру такие волны, что в открытом месте «Тундре» могло и не поздоровиться.
Перебрались к ближайшему острову. Вокруг — безымянные горы, заливы и острова, неизвестные даже кочевникам Таймыра. Под какими названиями нанести их на карту?
Дать имена знаменитых астрономов и натуралистов? Наверное, такой чести достойны и наиболее почитаемые профессора университета, где, возможно, уже забыли студента Александра Миддендорфа.
И на карте, составленной Вагановым, появились острова Купфера, Струве, Федорова, Савича, Бетлинга, мыс Ленца, полуостров Гофмана. Профессор Гофман, у которого Миддендорф слушал лекции по геологии, сам был известным путешественником, много странствовал по Сибири и совершил кругосветное плавание.
То отбрасываемая встречными ветрами, то выталкиваемая боковыми на берег, «Тундра» много дней тащилась вдоль западного побережья озера. Но вот наконец и пустынный залив, где вода медленно текла на север. Только там мог быть исток Нижней Таймыры, уходящей из озера к океану.
Экспедиция знала теперь больше, чем кто-либо, о природе Таймыра, его климате, почвах, животном и растительном мире. Не разумнее ли было без промедления повернуть назад? Ведь люди сильно измотаны.
Чего стоили хотя бы ночевки в комариной тундре! Миддендорф попробовал спать в одежде кочевников, сшитой из шкуры оленя. Утром на руке красная татуировка повторила орнамент вышивки: комары проникли хоботками во все отверстия, оставленные вышивальной иглой!
Сон не освежал людей. Они просыпались с распухшими веками, одутловатыми лицами. Миддендорф вспоминал Гумбольдта, говорившего, что он в любой момент готов променять сибирских комаров на самых кровожадных москитов реки Ориноко.
Правда, «комар-пора», как называют ее кочевники, кончалась. Днем над тундрой летали бабочки, а по ночам под ногами хрустел ледок. Птицы тянулись на юг, в теплые края.
Так не поспешить ли следом за ними? И все же, зная, что риск велик, даже очень велик, начальник экспедиции решил идти дальше. Его манило близкое побережье океана… Стоит только спуститься по Нижней Таймыре — и вот он, полярный фасад Сибири. Ради этого стоило рискнуть!
В начале августа быстрое течение Нижней Таймыры подхватило лодку. Она то скользила над глубокими омутами, то царапала днищем гальку перекатов, то черпала бортами воду в порогах.
Глубокая пещера, темневшая среди скал, привлекла внимание Миддендорфа. Он присмотрелся:
— Давайте к берегу!
Это могла быть пещера, в которой Харитон Лаптев укрывался при переходе через Таймыр после гибели корабля. Голодные собаки еле тащили нарты, он жестоко страдал от снежной слепоты, но все же пересек замерзшее озеро и пошел по Нижней Таймыре к океану, навстречу Челюскину. Только вперед, только к цели, без сомнений и колебаний!
У входа в пещеру запылал костер: Таймыр напомнил о близкой зиме изрядным ночным морозцем. Внутри не нашли никаких следов человека. Но вскоре Ваганов, собиравший на берегу топливо, увидел мамонтовый бивень, распиленный на три части. Рядом лежал лошадиный череп, обгоревшие головни, старое топорище.
— Лаптев! — уверенно сказал Миддендорф. — Его лагерь.
— Да, может, вовсе и не он? — возразил Ваганов.
— А череп? Ведь с Лаптевым были якуты, охотники до конины. Но как сохранились щепки и головни в этом климате! Будто и не пронеслось над ними столетие.
А потом с лодки увидели береговой обрыв, из которого торчали исполинские кости. Ваганов так круто повернул «Тундру», что она едва не перевернулась. Выскочили на берег. Только Тит Лаптуков остался в лодке: он считал продолжение похода глупостью людей, не знающих, что такое таймырская зима, и всем своим видом выражал презрение к их суете.
Миддендорф внимательно осмотрел место, где река, размыв грунт, обнажила часть скелета мамонта. Отличный экземпляр. Как украсил бы он петербургский музей!
— А может, попробуем откопать? Хотя бы череп, — предложил Ваганов.
— Нет, такой подвиг нам не по силам. Мерзлота тверда. Да и как мы увезем кости?
Грунт у ребра мамонта был темно-бурым, рыхлым, жирным. Неужели остатки мамонтового мяса? Ваганов взял щепотку, растер между пальцами, понюхал: да, похоже, что так.
— Ясно, что грунт еще не был мерзлым, когда это чудовище попало в него, — сказал Миддендорф. — Мамонты жили десятки тысячелетий назад. Мерзлота в здешних местах им ровесница.
На карте появился Яр мамонтов, а в лодке — зуб ископаемого.
И вот наконец «Тундра» миновала большой остров. За последним мысом открылся взбаламученный морской залив. Они были у цели!
Мыс, сторожащий вход в Таймыру, Миддендорф назвал именем своего верного товарища. Смущенный Ваганов нанес на карту мыс Ваганова.
В три часа утра 13 августа 1843 года «Тундра» причалила к скалистому острову. Его омывали уже воды Ледовитого океана. На острове обнаружили развалины избушки, сложенной из плавника, — еще один след Великой северной экспедиции.
Шумел прибой. Море было чистым: сильные ветры отогнали льды на север. Очень далеко над тундрой чуть синели отроги хребта Бырранга.
Бледное, затуманенное солнце освещало редкие пятна мхов. Тундра с желтыми, уже умершими травами напоминала лист серой бумаги, испачканной грязными, серо-бурыми пробами кисти живописца.
Старик Лаптуков высматривал белых медведей. За их клыки таежный охотник ничего не пожалеет. Просверлит клык — и на шею: ведь страшные зубы «дядюшки» — белого медведя — отпугивают его бурого «племянника», и тот не нападает на человека…
Суля снегопад, ползли сизые тучи. Казалось бы, уж теперь-то надо немедля поворачивать назад. Но странно устроен человек: неведомое властно влечет его. Вон мыс, что за ним? И как раз дует попутный ветер…
Они пошли было под парусом вдоль морского побережья, но внезапный шквал отбросил «Тундру» назад, к устью Таймыры.
Вечером держали совет у костра. Эх, если бы весной они догадались обтянуть остов лодки шкурами! Было бы и вместительнее и легче. Захватив из Сяттага-Мылла к озеру весь груз сразу, пожалуй, успели бы изрядно пройти на восток вдоль побережья. А в общем, каким бы судном ни пользовался путешественник, в полярных странах ему не обойтись без собак. Челюскин доказал это.
Казаки приволокли к костру плавник — расщепленное, измочаленное дерево. Половодье вырвало его в верховьях какой-то сибирской реки, вынесло в океан, а теперь волны выбросили на отмель.
Ваганов заметил, что потомки все-таки не оценили Челюскина по-настоящему.
— Да, верно, — поддержал Миддендорф. — Потому-то на своих картах я назвал и буду впредь называть мыс, которого достиг Челюскин, его именем. Кажется, это название теперь принято уже многими. Челюскин, бесспорно, самый смелый и настойчивый из наших моряков, действовавших в сих краях!
Казаки, пригревшись у костра, дремали. Тит Лаптуков, более чем когда-либо напоминавший гнома, мешал ложкой в котле.
— Ну что же, завтра в путь тронемся, к дому, — закончил разговор начальник экспедиции. — Только где он, наш дом?
То под парусом, то на бечеве «Тундра» медленно уходила от зимы. Нижняя Таймыра обмелела. В тине у берегов вязли ноги. Пороги стали злее, опаснее. Ветер, с которым боролись час назад, внезапно возвращался оттуда, куда только что промчался: будто, пролетев второпях мимо цели, спешил исправить оплошность. Однажды внезапным сильным током воздуха из ущелья «Тундру» бросило на утес; сломался руль.
Лаптуков советовал идти только бечевой — так вернее. Старик снова стал деятельным, даже суетливым. Уж он-то знал, чем грозит тундра людям, когда завоет над ней: пурга!
— Бечева вымотает нас, — возражал старику Миддендорф. — Ветер — наш единственный помощник.
С неба сыпалась снежная крупа. Лодка, обледенев и покрывшись сосульками, отяжелела, текла по всем швам И как они ни спешили, но, достигнув Таймырского озера, устроили дневку, чтобы законопатить щели мхом.
Был серый ветреный день, когда «Тундра», прыгая с волны на волну так, что трещало днище, понеслась через озеро к югу.
Внезапно лодка сильно черпнула бортом. Она пошла бы ко дну, если бы Ваганов мгновенно не повернул ее к узкой косе.
Пока люди выбрасывали скарб из полузатонувшей «Тундры», их мокрая одежда смерзлась. Ночь они простучали зубами на продуваемой всеми ветрами косе. Утром с трудом переплыли к мысу, за которым открывалась самая широкая часть бушующего озера. Снова едва не потопили лодку и вернулись под укрытие мыса.
Непогода держала их там еще три дня. В мешках остались лишь крошки от сухарей. Закидывали сеть, но улова не было. Может, удастся подстрелить какую-нибудь птицу? Взяв ружье, начальник экспедиции поднялся на холм. Озеро пересекала серебряная полоса. Он поспешил назад:
— Льды! И ветер гонит их сюда!
Лед мог отрезать дорогу на юг. Лодка, подгоняемая частыми ударами весел, зарывалась в волнах. — Гребцы сменяли друг друга, работали до полного изнеможения, но сильный встречный ветер не пускал «Тундру» к уже недалекому устью Верхней Таймыры.
28 августа внезапно наступило полное безветрие. Льдины, вынесенные в озеро рекой, быстро смерзались. Люди метались в западне, ища чистую воду, дробили льдины веслами, крошили топорами. И уже совсем рядом был вход в Верхнюю Таймыру, когда снова усилившийся ветер сплотил лед. Челнок был раздавлен и затонул, «Тундра», стиснутая льдинами, разошлась в пазах, и светлые фонтанчики воды хлынули в нее…
* * *
Снежная тундра. Пять человек. Четверо еще держатся на ногах. Больной Миддендорф лежит недвижно. Пурга несется от берегов океана, напоминая о «белой смерти», которая ждет заблудившихся в тундре. Больной делает знак рукой.
— Я просил вас… Теперь приказываю, — с трудом произносит он.
— Как можно! — упрямо качает головой Ваганов. — Бросить одного…
— Не сомневаюсь в вашем благородстве. Но отправляйтесь тотчас. Ищите кочевников. Найдете — вернетесь ко мне.
Напрасно Ваганов убеждает, что не сегодня-завтра больной встанет на ноги и тогда пойдут все вместе.
— Я врач, — говорит тот. — Обманывать себя — слабодушие. Болезнь может длиться неделю. Даже две. Хотите моей и своей смерти?
Ваганов бредет по снегу. С опущенной головой уходят за ним казаки и старый переводчик.
Силы больного быстро угасали. Его мучительно знобило. В бреду он снова был студентом., Профессор анатомии о чем-то спрашивал его, а он все забыл. Все решительно. Потом профессор, ухмыляясь, принялся так громко и гулко бить в шаманский бубен, что можно было сойти с ума.
В минуты просветления Миддендорф видел перед собой безмолвную белую пустыню. Ветер перегонял снежные струйки. Пурга. Он попробовал приподняться и почувствовал тяжесть: над ним намело сугроб.
Только бы не забыть завести часы, не потерять счет дням! Сегодня третьи сутки… И вдруг мелькнула спасительная мысль. Спирт! Как это он раньше не вспомнил!
Казаки перед уходом мелко изрубили плавник. Веселое пламя побежало по щепе. Растопив в котелке снег, больной вылил туда же спирт из банки с заспиртованными личинками.
Морщась, выпил тепловатую жгучую жидкость. Голова пошла кругом. Он почти тотчас заснул. Сон был долгим и крепким. Проснувшись, он выбрался из своего снежного логова. Зима уже установилась твердо. Озеро замерзло. Улетели последние птицы — подорожники. Морозный воздух обжигал щеки. Далеко над тундрой клубились темные тучи. И никаких следов человека…
С выздоровлением пришло чувство голода. Еды ему оставили на два дня — все, что было. Он жевал бересту, из которой была сделана легкая походная посуда. Сосал кожаные ремни, резал их ножом, глотал кусочки.
Развязка приближалась. Прошло уже полмесяца, как Миддендорф остался один вблизи 75-й параллели. Он не сомневался теперь, что Ваганов и казаки погибли в тундре. Помощи ждать неоткуда. Никто не узнает, как далеко в глубь Таймыра проникли люди, что сделали, где сложили головы. Разве только какой-нибудь кочевник наткнется весной на трупы…
Ему показалось, что по снегу движется белый комочек. Куропатка! Он потянулся за ружьем. Руки тряслись, мушка двоилась. Отдача в плечо повалила его на спину.
Куропатку он съел полусырой, кости бережно спрятал в карман. Пока есть силы, надо идти на юг. Если не хватит сил идти, надо ползти к югу. Недалеко от устья Верхней Таймыры они оставили склад продовольствия. Только бы добраться туда…
На маленькие сани, смастеренные перед прощанием стариком Лаптуковым, он положил ружье, оленью шкуру. Шатаясь от слабости, потянул их. Через сотню шагов повалился в снег. Отдыхал долго. Снова побрел вперед. Ноги отвыкли от ходьбы. Сердце билось так, будто он пробежал целую версту.
Впереди виднелись снежные холмы с черными точками на склоне.
Встал, прошел немного, снова упал в снег. Далеко ли еще до холмов? Взглянул — и замер: черные точки двигались. Нет, это ему показалось… Это от мерцания снега… Он закрыл глаза и через минуту снова открыл их. В вихрях снежной пыли к нему мчались оленьи упряжки.
Он вскрикнул, простер вперед руки — и белая тундра, упряжки, небо поплыли у него перед глазами.
* * *
Кочевник Тойчум любил рассказывать у костра о том, как в тот год, когда злые духи послали в тундру повальную болезнь, ему, Тойчуму, удалось спастись от смерти.
Шаман не смог выгнать болезнь, и Тойчум стал готовиться к встрече с умершими предками. Но тут в чум пришел русский доктор. Он вылечил Тойчума, совсем вылечил. Тойчум хотел дать ему за это лучших оленей, но доктор отказался и шибко сердито замахал руками.
Потом доктор пошел к большой соленой воде, сказав, что вернется осенью. Он, Тойчум, долго ждал его на летнем становище, хотя олени уже съели вокруг весь мох. Пришла зима, а доктор все не возвращался. Когда стали разбирать чумы, на становище пришли люди, с которыми весной ушел доктор. Их шатало ветром. Они сказали, что доктор замерзает далеко в снегах.
Тойчум тотчас погнал туда три упряжки лучших оленей. Помощник доктора показывал дорогу. Доктор был жив, но у него кожа болталась на костях. Тойчум кормил его самой жирной олениной, и доктор повеселел, опять стал румяным, только жаловался на обмороженные пальцы. Доктор очень благодарил Тойчума и хотел дать ему ружье. Но он, Тойчум, отказался и шибко сердито замахал руками…
— Улахан! Большой! Большой человек! — заканчивал Тойчум свой рассказ.
И слушатели одобрительно кивали головой. Многих из них тоже вылечил доктор, прогонявший болезнь без бубна и заклинаний, одними только белыми горькими порошками.
А сам «большой человек»? Что сталось с ним? Охладили смертельно опасные приключения его страсть к путешествиям?
Едва оправившись от потрясений, пережитых на Таймыре, Миддендорф и Ваганов начали второй, не менее дерзкий маршрут, на этот раз — на восток.
Шахта-колодец в Якутске (она, между прочим, сохранилась до наших дней) позволила им сделать первые в мире научные наблюдения над глубокими слоями вечной мерзлоты.
Затем путники по следам землепроходцев через хребты и таежные дебри вышли к побережью Охотского моря. На кожаной байдарке, увертываясь от льдин, проникли к Шантар-ским островам. Лишь раннее наступление осени не позволило им достичь устья Амура.
Обратно Миддендорф вернулся вдоль тянувшейся на тысячи верст границы, преодолев огромное расстояние без дорог, полагаясь лишь на помощь эвенков и якутов.
Свыше двух лет скитаний, около тридцати тысяч экспедиционных труднейших километров, огромные коллекции, насчитывающие тысячи экземпляров, научно-достоверные сведения о населении, климате, гидрографии и растительном мире Сибири — вот результаты поразительной экспедиции Миддендорфа.
Ученому не удались бы труднейшие путешествия, не будь у него такого друга и помощника, как Ваганов, таких выносливых и преданных спутников, как сибирские казаки.
И, став уже академиком, вице-президентом Русского географического общества, Александр Федорович, вспоминая экспедицию на Таймыр, писал:
«Теперь, когда годы разнообразной столичной жизни пронеслись над приключениями тогдашнего нашего странствования, об этих товарищах моих в самом трудном из похождений в моей жизни я могу повторить: во всем свете едва ли где можно еще найти такую находчивость и проворство во всех едва воображаемых напастях нагой пустыни, как в народном характере простого русского человека».
Научные результаты сибирского путешествия Миддендорф изложил в капитальном — тысяча шестьсот страниц — труде о полярных окраинах Сибири. Долгие десятилетия ни один исследователь не отправлялся на Таймыр без обширнейших выписок из работ этого выдающегося ученого. Его заслуги были признаны во всем мире. Лондонское географическое общество присудило ему свою высшую награду — Королевскую золотую медаль. Мерзлотоведы называли его «Ермаком вечной мерзлоты». Картами, составленными Миддендорфом и Вагановым, пользовались топографы и геологи, отправившиеся позднее на поиски богатств тундры. Эти поиски привели в конце концов к открытию сокровищ Норильска — вот почему большой портрет Александра Федоровича Миддендорфа висит в норильском музее среди портретов тех очень немногих людей, которые еще в давние годы откликались на зов неведомого Таймыра.
…Последнее время на страницах газет появлялись статьи о тайне залива Миддендорфа.
Несколько лет назад гидрографы случайно обнаружили там останки двух человек. На черепе одного из них остался след раны.
Кем были эти люди?
После долгих поисков удалось установить, что на берегу залива Миддендорфа погиб моряк корабля «СКР-29», торпедированного проникнувшей в наши северные воды фашистской подводной лодкой. Раненный, он добрался на плотике до берега, и здесь силы покинули его…
Но вот что удивительно. Изучение скелета второго человека, найденного на берегу залива Миддендорфа, показало, что он не наш современник. Неизвестный погиб еще в XVII веке!
Не был ли он одним из полярных мореходов, которые уже три века назад отправлялись из легендарной Мангазеи вдоль побережья Таймыра? Ведь следы отважных находили и раньше — на необитаемых островах Фаддея, на берегу залива Симса. И вот теперь — залив Миддендорфа…
Горные выси, пекло пустынь…
В Клубе матросского братства. — Люди Черной горы. — Могила на Ловче-не. — Поиски страны Офир. — Во всем ужасе разрушений и смерти… — Между львами и крокодилами. — Русский флаг над Нилом
Весна 1971 года застала меня в Югославии.
Я приехал туда вскоре после новогодних праздников. По дороге к Белграду, на полях Воеводины, лежал снег. Столица страны выглядела по-зимнему. С утра улицы пахли дымком топившихся печей. Модницы волочили по сугробам мокрые полы длинных, до пят, пальто «макси».
А в начале февраля Белград уже встречал весну. Появились лиловые букетики фиалок. На лотках желтели охапки мимоз. Я спрашивал: откуда?
— Из Котора. У нас все цветет.
Мой путь как раз туда. Это южный уголок страны, адриатическое побережье Черногории. Я впервые побывал там еще в 1956 году. Мне давно знакомы горные дороги, спускающиеся к теплому Ядрану. — так югославы называют Адриатическое море.
Древний город Котор — на берегу Боки Которской, поразительно красивого морского залива, глубоко вклинившегося в горную твердь. Здесь в феврале теплынь, синева небес и вод, белые теплоходы на пепельном фоне скалистых берегов.
Стар Котор. Очень стар. Родословная его начинается до нашей эры. Сначала греческое, потом римское поселение, затем византийский порт. В начале IX века здесь возникает первое «братство моряков». Сменяются короли и императоры, стены города видят венецианских воинов, австрийских солдат, гвардейцев Наполеона, но из века в век Котор неизменно живет морем.
Уже много столетий в один из сентябрьских дней здешние моряки собираются в Клубе матросского братства, где стены увешаны мушкетами и саблями, а в углу — старинное знамя. Бравые капитаны, в чулках и башмаках с пряжками, в атласных панталонах и расшитых золотом камзолах, сурово смотрят с темных портретов. Гордость Котора — поименный список: с 1453 года город дал морю тридцать восемь адмиралов!
Над приморскими кварталами высится собор, которому восемьсот лет. Прямо в гору поднимаются стены мощной цитадели. Первые ее камни были положены тысячелетие назад.
Но меня интересуют сегодня памятники сороковых годов прошлого века. Я ищу все, что может хранить память о Егоре Петровиче Ковалевском. В прошлый приезд библиотекарь Францисканского монастыря помог мне найти том изданных черногорцами исторических записок, где была статья о «рударском капетане» из России. Однако за недостатком времени я не успел тогда порыться в старинных гравюрах.
И вот теперь удача: изображение городской площади в 1839 году. Но ведь Ковалевский видел ее всего годом раньше! Все так, как описывал наш путешественник: австрийский военный оркестр, солдаты во главе с офицером и трубачом, несколько франтов, дама с болонкой, крестьянки с кувшинами на голове. А двое молодцов — это, конечно, спустившиеся сюда, к морю, черногорцы: вон какие пистолеты за поясом!
И еще удача. Бродя по улочкам-щелям, я неожиданно наткнулся на дом с памятной доской — в нем часто бывал Петр Негош, к которому приезжал Ковалевский. С балкона третьего этажа этого дома видна площадь, красные черепичные крыши, колодец, украшенный чугунным литьем.
Отсюда мимо церкви святой Марии я вышел через те же узкие и низенькие ворота городской стены, которыми для Ковалевского началась дорога в горы. Могучие и грозные, они нависали над синью залива.
* * *
Обычно ласковый Ядран в штормовую холодную весну 1838 года доставил много хлопот морякам. Небольшой парусный барк, на котором плыл Ковалевский, попал в полосу встречных ветров. Он сутками отстаивался под укрытием островков. Больше двух недель его трепало в бурном море.
Но вот барк обогнул скалистый мыс с маяком. Отражение парусов заскользило по тихим водам лазурного залива. Хребты защищали его от бурь. Бока Которская словно хотела доказать, что ее не зря считают одним из превосходнейших заливов в мире.
Барк миновал несколько селений, приютившихся у подножия скал. Потом залив совсем сузился. Казалось, каменные стены вот-вот сомкнутся, преградив путь суденышку. Но за ними была бухта, спокойная и прекрасная, как горное озеро. В глубине ее виднелся Котор. Крепостная стена поднималась прямо от воды, зигзагами карабкалась по уступам и терялась в клубящихся облаках.
На рейде Котора не раз гремели пушки. Корабли русской эскадры адмирала Сенявина приходили сюда, чтобы помочь спустившимся к морю черногорцам отбить войска наполеоновского генерала Лористона. Однако позднее гордый народ снова оттеснили от берегов залива. С палубы барка Ковалевский видел над которским дворцом и над мачтами кораблей флаги империи Габсбургов.
Австрийский офицер и чиновник поднялись на судно, зачалившее за массивное железное кольцо. Их заранее предупредили, что горный капитан Ковалевский направляется в Черногорию для поисков золота.
Между австрийцами и черногорцами сохранялся непрочный мир, больше напоминавший перемирие. Стража которской крепости неохотно впустила в город нескольких черногорцев, присланных для встречи русского гостя. Теперь вместе с ними он через узкие ворота покинул Котор. Предстоял подъем на хребет, за которым простирались древние черногорские земли.
Ковалевский хорошо знал тропы Алтая. С горсткой разведчиков золота бродил по таежным хребтам Восточной Сибири, карабкался на гольцы, взбирался к снежным вершинам. И все же он совершенно изнемог, поднимаясь из Котора в горы.
Безжизненной, серой стеной, лишь кое-где как бы забрызганной каплями зелени, хребет круто вздымался над заливом. Узкая тропа вилась между нагромождениями глыб. Палило солнце. Ковалевский то и дело вытирал пот. Черногорцы же, казалось, не замечали подъема и легко перепрыгивали с камня на камень.
Когда тропа вышла к вершине, на плоскогорье, повеяло прохладой. Последний раз оглянулся Ковалевский на залив, скорее угадывая, чем различая среди густой синевы крохотные парусники.
Под вечер путник был у цели. Он знал, что Цетинье мало похож на столичный город. И все же был поражен тем, что увидел. В горной котловине белел монастырь с небольшой церковью. Вокруг — несколько домишек. Вот и вся черногорская столица!
Небольшой отряд воинов расположился возле надетых на пики отрубленных голов турецких беев и пашей. Ссохшиеся под горным солнцем и ветрами, они напоминали о битвах и победах. Спутники горного капитана вскинули ружья для салюта. Встречавшие тоже принялись палить в честь гостя. «Толпы черногорцев окружили меня, приветствовали и целовали: я был в родной семье!» — рассказывал об этой встрече Ковалевский.
Его провели к Негошу, правителю Черногории.
Очень высокий, почти на две головы выше остальных, стройный человек, черные кудри которого падали на плечи, был одет, как все черногорцы, но на шее у него висел большой крест: по обычаю страны, ее правитель непременно принимал сан священнослужителя.
Однако ни в манерах Негоша, ни в убранстве его комнат не было ничего, что напоминало бы об этом. Правда, комнаты — их было всего три — именовались кельями. Но стены украшали трофейные турецкие ятаганы. Рабочий стол Негоша был завален книгами. Здесь же лежали два пистолета и удивившие Ковалевского черногорские гусли, скорее похожие на домру, ио только с одной струной, звук из которой извлекался с помощью смычка.
Негош отвел гостю одну из келий. Правитель Черногории хорошо говорил по-русски. Ковалевский услышал от него, что страна бедна, зажата между враждебными Австрией и Турцией, что черногорцам нужны золото, свинец для пуль. И, как всегда, они обратились за помощью к России. Черногорцы еще при Петре Первом вместе с русскими сражались против турок. Вместе с русскими дрались против французов. Но теперь…
И Ковалевский услышал горькие слова: русский императорский двор прислушивается теперь больше к Вене, чем к Цетинье. Австрийцы чувствуют себя полными хозяевами в Которе — наверное, гость сам видел это. Но черногорцы не смирились, нет!
Когда горный капитан начал путешествия по маленькой стране, о которой тогда в Европе знали меньше, чем о Южной Америке, он не только искал руды, но и старался ближе узнать народ, рассеянный по неприступным орлиным гнездам. И на юге, у Скадарского озера, и на пустынном плато у местечка с многообещавшим названием Златица люди жили в бедности и вечной тревоге, чаще держа в руках ружье, чем мотыгу, — люди могучего духа, готовые умереть за родную страну. Он встречал их во всех уголках черногорской земли. «Все богатство черногорца в себе и на себе: в груди своей хранит он залог независимости, сокровище, за которое не пожалеет он царства небесного: на себе — все свое богатство, состоящее из оружия…»
Первейшая добродетель черногорца — храбрость. Горе тому, в ком заподозрили боязливую душу! Позор пойдет по пятам его, даже если смалодушествовал он в чем-то мелком, пустяковом.
Однажды Ковалевский хотел было осторожно сползти с утеса. Но едва он наклонился, опираясь на камень руками, как услышал полный ужаса крик проводника:
— Что вы делаете? Подумают, что вы струсили!
В другой раз, переползая по двум тонким, качающимся жердям клокочущий поток, он услышал совет не глядеть ни вниз, ни вверх, ни вперед, ни назад.
— Так как же, зажмуриться, что ли?
— О, сохрани боже! — испугался проводник. — Вас назовут трусом. Надо глядеть весело, но ничего не видеть, ничего не слышать, ни о чем не думать.
Для проводника, казалось, не существовало ни стремнины, ни шаткости жердей. Легкими скачками он преодолел мост.
Ковалевскому рассказали о двух пленных черногорцах, которых хотели увезти в Париж. Но один разбил череп о стену темницы, а другой, чтобы избежать позора, уморил себя голодом, отказавшись от пищи. Горный капитан встречал вдов, которые в черной одежде, с обнаженной головой шли от села к селу, призывая отомстить за героев, павших от рук врага. Ему говорили, что две пятых черногорцев остаются мертвыми на полях боя, одна пятая погибает от ран и лишь немногие умирают от старости и болезней.
Ковалевский пересек всю страну, забирался в глухие ее уголки, однажды едва не сорвался в пропасть. Под Златицей его отряд обстреляли турки. Капитан наносил на карту причудливые извивы речек, спускался в темные провалы пещер, сумел достигнуть вершины снегоголового Кома. Ему удалось открыть железную руду. Но золото как бы ускользало от него; лишь однажды в промываемом песке блеснуло несколько крупинок.
Возвращаясь в Цетинье, Ковалевский рассказывал Негошу о своих впечатлениях. Обычно в глухую полночь они вместе бродили по окраинам города. И чем больше узнавал Ковалевский правителя Черногории, тем сильнее привязывался к нему.
Негош был одним из образованнейших людей своего времени.
— Художник избрал бы его для изображения Геркулеса, а философ — путеводителем в своей жизни, — так рассказывал потом о своем друге Ковалевский.
Слава великого поэта еще не пришла тогда к Негошу, и в созданной им типографии был отпечатан лишь сборник его ранних стихотворений. Кабинет правителя украшали два портрета — Байрона и Петра Первого. Но поэзия тогда занимала Негоша куда меньше, чем государственные дела.
Правитель, которого он сменил, перед смертью завещал черногорцам дружбу с Россией и грозил страшными небесными карами тому, кто нарушит его заповедь: пусть у такого святотатца заживо отпадет мясо от костей!
И вот пришло недоброе время, когда русское самодержавие в угоду венскому двору Габсбургов начало расшатывать мост, перекинутый между Петербургом и Цетинье. Мог ли Ковалевский сочувствовать этому?
Сама жизнь поставила его перед выбором: либо следовать политике русских царедворцев, либо поступить, как велит сердце.
Дело началось с пограничной стычки между черногорцами и австрийцами. Ковалевского она застала в Которе, куда он ненадолго спустился из Цетинье. Австрийский полковник решил «проучить дерзких дикарей» и полагал, что русский капитан будет на его стороне.
А Ковалевский поспешил в Цетинье, к Негошу. Они заперлись в келье и наметили план действий. Негош, чтобы не навлекать гнев русского царя, остался в Цетинье, а его брат и Ковалевский повели к границе отряд черногорцев.
Короткий бой окончился разгромом австрийской пехоты, непривычной к войне в горах. Австрийцы запросили мира.
Венские газеты осыпали Ковалевского бранью. Но царский двор не решился открыто осудить его поступок: русское общество было на стороне черногорцев.
Осенью 1838 года горный капитан спустился знакомой тропой к морю, к Котору. Негош провожал его, воины несли ящики с коллекциями.
В Которе, на главной Оружейной площади, военный австрийский оркестр играл венские вальсы. Подошел австрийский пароход. Ковалевский простился с Негошем.
— Долго, долго глядел я на горы ненаглядные, где в уединении, в трудах тяжких было для меня столько радости, — на горы, которые скрывали от меня, может быть навсегда, столько близкого, столько родного моему сердцу, — рассказывал Ковалевский об этих минутах.
Но ему суждено было еще не раз увидеть Черногорию. На исходе 1851 года он приезжал в Цетинье, чтобы отдать последний долг сгоревшему от туберкулеза Негошу.
Поэт сам выбрал место для могилы: вершину Ловчена, горы, откуда видна вся Черногория. В год его смерти осенние страшные ливни бушевали в горах. Потом обильные снега завалили перевал.
Когда годом позднее Ковалевский снова приехал в Цетинье по поручению русского правительства, Черногория переживала трудные дни. Турки, воспользовавшись смертью Негоша, вторглись в страну. Цетинье напоминал военный лагерь.
Зайдя в маленькую церковь, Ковалевский увидел гроб с телом Негоша. Он стоял на старом месте. Его так и не подняли в часовенку — усыпальницу на Ловчене, — на этот раз из боязни, как бы турки тайно не проникли туда: они грозились отрубить голову мертвому Негошу.
Только после заключенного при посредничестве Ковалевского мира между черногорцами и турками прах поэта был на руках поднят к вершине.
* * *
Дорога, вырубленная в скальной тверди, ведет из Котора в Цетинье. Я не уверен, что она проложена именно там, где спотыкался конь Ковалевского. Но и сегодняшний путник без труда поймет, каково было пробираться тут в давние годы.
Автобус натужно полз в гору. Быстро темнело. Лучи фар выхватывали только камень, столбики и небрежно тронутые белой краской глыбы, ограждающие дорогу от бездны, в которой чуть светились воды залива.
В Цетинье, неподалеку от знакомой мне по описанию Ковалевского белой колоколенки монастыря, дом-музей Негоша. Его рабочее кресло, и без того высокое, стоит на подставках: каким же великаном был правитель Черногории!
О том, что здесь жилище поэта, напоминают перо, чернильница, рукописи и первое издание поэмы «Горный венец», обессмертившей имя Негоша.
За стеклом шкафа библиотеки виднеются корешки «Жития Петра Великого», сочинения Пушкина, Ломоносова, Карамзина. В другом шкафу только русские книги. Здесь, в библиотеке, и просиживал долгие часы «рударский капетан» Ковалевский.
А рядом, в музее национально-освободительной борьбы, как бы продолжается его рассказ о черногорской доблести. Короткая надпись напоминает, что, сражаясь против гитлеровцев, двести двадцать три сына маленькой Черногории стали Народными Героями Югославии.
Погожими днями из Цетинье виден Ловчен. В бинокль можно различить схожую со сторожевой башней часовню-мавзолей на вершине горы.
Изображение же Ловчена с могилой Негоша вы увидите в любом городке, в любом горном местечке: оно — на гербе Социалистической Республики Черногории.
* * *
Вернувшись в 1838 году из Черногории, Егор Петрович Ковалевский вскоре отправился с важным поручением в Бухару, которая была тогда столицей ханства, почти недоступного европейцам. Среднеазиатские впечатления вошли в книгу «Странствователь по суше и морям». Белинский сравнивал ее по легкости и живости изложения с путевыми очерками Александра Дюма. Великий критик выделил главную черту Ковалевского: «Путешественник обращает внимание не столько на физическую природу описываемой им страны, сколько на человека, в ней обитающего…»
Последующие годы жизни Ковалевского необычайно уплотнены и насыщены. Известность путешественника растет. Читатель знакомится с его книгами о новых странствованиях.
Сегодня — у южных окраин Европы, завтра — в глубине Азиатского материка. Сибирь, Урал, Черногория, Далмация, Средняя Азия, Афганистан, Балканы, Карпаты, Кашмир, позднее Монголия, Китай… Огромные расстояния — и все это в первой половине прошлого века, когда лошадь и верблюд остаются еще главными средствами передвижения.
Особенно влечет путешественника Африка. Он составляет планы экспедиций, однако его не поддерживают. Неожиданно Ковалевского назначают управляющим златоустовскими заводами.
Но недолго длится его оседлая жизнь. Осенью 1847 года курьер из Петербурга привозит предписание: в уважение просьбы паши Мухаммеда-Али, правителя Египта, полковник корпуса горных инженеров Ковалевский направляется в Африку для разведок золотых россыпей и ученых изысканий.
И вот он уже мчится на тройке в Одессу, где его поджидают опытные золотопромывальщики — уральцы Бородин и Фомин. Русский пароход высаживает экспедицию, к которой присоединился молодой ботаник Лев Ценковский, в Константинополе. Отсюда прямой путь в Египет, в Александрию.
Правитель Египта уже не раз посылал за золотом сильные экспедиционные отряды. Они искали таинственную страну Офир, где добывал сокровища еще царь Соломон. Старинная арабская рукопись побудила пашу отправить людей к горе Дуль, подле которой рабы будто бы лопатами черпали золото, украшавшее дворцы фараонов. В далекой области Фазоглу посланцы Мухаммеда-Али действительно нашли золотые месторождения, но с весьма скудным содержанием металла. А паша Египта нуждался в золотых горах…
В канун нового, 1848 года экспедиция достигла Каира, и тотчас явился чиновник: сиятельный паша, его светлость Мухаммед-Али, ждет гостя к обеду.
Его светлость оказался миниатюрным стариком с белой бородой, бледным, изможденным лицом и глубоко посаженными живыми глазами.
— Я приказал послать в Фазоглу десять тысяч человек для работы на золотых рудниках, — сказал паша. — Если нужно, так прибавлю столько же.
Еще не было ни разведанных по-настоящему месторождений, ни рудников, а людей уже гнали! Однако Ковалевский не сказал об этом вслух. Его предупредили, что Мухаммед-Али не терпит возражений. Все должны соглашаться с ним, поддакивать ему, прославлять его мудрость.
Вскоре специальный пароход увозил экспедицию вверх по Нилу, к Асуану.
В Асуане кончался маршрут, исхоженный многими и до Ковалевского. Здесь приоткрывались ворота в Экваториальную Африку, еще полную загадок и неожиданностей.
Выше Асуана шумел грозный Первый порог, или Первый катаракт. Кладь путешественника перевезли по берегу в обход и погрузили в трюмы четырех барок.
Барки медленно поползли против течения мимо совершенно пустынных гор; лишь беглые рабы находили здесь убежище в пещерах.
Маленькая флотилия добралась до места, где караванный путь связывал напрямик начало и конец огромной нильской излучины. Тут вполне подходила русская пословица «Из огня да в полымя»: дорога пересекала пекло Большой Нубийской пустыни.
Вечером барки были разгружены. С утра началась суета. Ревели поставленные на колени верблюды. На них укладывали ящики, тюки, кожаные мешки с водой.
Но вот, кажется, все уложено и можно трогаться. Нет, новая затея: погонщики собирают камни и складывают из них… могильные холмики. Потом садятся вокруг и завывают с самым горестным видом. Это напоминание: путник, ты можешь найти смерть в пустыне! И если ты не хочешь оставить своих детей несчастными сиротами, дай несколько монеток, чтобы умилостивить злых духов пустынь…
Получив деньги, хитрецы быстро разметали могилы и на радостях даже сплясали, что уже само по себе в такую жару было достойно вознаграждения.
Наконец караван тронулся. Сначала попадались кустики колючей, ссохшейся акации, потом исчезли и они. Лишь редкие пучки жесткой травы виднелись в расщелинах выветрившихся скал.
Совершенно безводная часть Большой Нубийской пустыни началась на второй день пути. Даже ворон, сопровождавший караван в надежде чем-либо поживиться, улетел назад. Торчащие из песка плиты песчаника казались беспорядочно разбросанными надгробиями. Отбеленные солнцем скелеты верблюдов и быков обозначали караванную тропу. А те, кто ехал на верблюдах, кто перегонял скот? Что сталось с ними?
Бедуин Ахмет, который вел караван, рассказал, что в Нубийской пустыне погиб сам начальник кавалерии Судана, а до того — несколько посланцев правителя Египта.
— Как же это случилось?
— Заблудились…
Ведь это сейчас, зимой, караван может идти днем. В летнюю пору передвигаются только по ночам, и тогда легко потерять тропу.
— А звезды?
— Мы не знаем их языка, господин.
В отличие от киргизов, которые, как убедился Ковалевский, отлично ориентируются по звездам, бедуины терялись под мерцающим ночным небосводом.
Каково, однако, в этой пустыне летом, если даже февральское солнце так раскаляет песок, что он обжигает руку, если и сейчас язык присыхает к нёбу, а пропыленная горячая одежда вызывает зуд? И вдобавок еще качка на одногорбом африканском верблюде! Чувствуешь себя, как фокусник на заостренной палке… Привыкая к верблюжьему горбу, Ковалевский вспоминал одного из спутников по Хивинскому походу, который после долгого путешествия на верблюде клялся, что если увидит это животное где-нибудь на картине, то непременно выколет ему глаза.
Пустыня не радовала ни малейшим признаком жизни. Хоть бы червяк, муха, пусть даже засохшая былинка… Ничего.
В знойном воздухе появлялись, дрожали, снова таяли озера, окруженные пальмовыми рощами, струились, маня прохладой, синие реки. Но проводники-арабы только отплевывались: ведь это дьявол старается смутить миражем душу бедных путников.
Караван шел без перерыва двенадцать-тринадцать часов в сутки. Люди довольствовались несколькими глотками теплой воды самого отвратительного вкуса, которой запивали пригоршню проса; просо получали и верблюды, только не одну, а две горстки.
— Если вы у себя дома захотите получить адскую смесь, которую мы здесь пьем, то вот вам рецепт, — говорил Ковалевский несчастному Ценковскому, которого тошнило от качки и дурной воды. — Возьмите стакан чистой воды, размешайте в ней две ложки грязи, прибавьте соли… Что же еще? Да, гнилое яйцо. А потом настойте эту смесь на горькой полыни — вот вам и освежающий напиток Большой Нубийской пустыни.
Ковалевский ощущал пустыню «во всем ужасе разрушений и смерти». Пожалуй, фараонов вполне устраивал мертвый барьер между границами Египта и областями воинственных кочевников. Но ведь после дождя, по рассказам арабов, горы, равнина, зыбучие пески — все покрывается зеленью. А где зелень, там птицы, звери. И люди спешат пригнать сюда свои стада. Однако как часты здесь дожди?
Арабы вспоминали, подсчитывали:
— Господин, последний раз дождь по милости аллаха пролился здесь шесть лет назад.
И все же… «Значит, не вечной же смерти обречена эта пустыня! Если природа так быстро может исторгнуть ее из рук смерти, то и человек, силою труда и времени, может достигнуть того же…»
Ковалевскому рисуется канал, который прошел бы через пустыню, соединяя начало и конец нильского колена. Барометрическая нивелировка показывала, что прорыть его можно.
В одном месте пригодилось бы русло пересохшей реки. Такой канал, длиной примерно триста верст, спрямил бы водный путь, а главное, сделал бы возможным земледелие, вызвал бы приток населения.
Увлеченный своей идеей, Ковалевский берет пробы грунта. Как будто есть признаки золота, меди; стало быть, мог бы развиваться и горный промысел.
На десятый день пути исчезли скелеты вдоль дороги — верный признак, что близка вода. Караван вышел на пригорок. Нил! Купы пальм, серые стены деревушек, серый косой парус. Верблюды рвались вперед.
Нил снова принял путешественников. На барках — когда под парусами, когда бечевой — они медленно подвигались вверх по реке к Хартуму, главному городу Судана. Возле него Белый Нил и Голубой Нил, сливая воды, дают начало собственно Нилу.
Здесь уже чувствовалась тропическая Африка. На берегах Голубого Нила, по которому поднимались барки, то и дело видели серн и диких ослов. Отмели давали временный приют множеству журавлей, торопившихся покинуть Африку.
Все ночи до рассвета беспокойно кричали птицы, разгоняя сон. Кто знает, может быть, многие из них полетят на просторы российских равнин… Пусть же принесут они туда весть, что русский флаг впервые отражается в водах Голубого Нила!
Уплывали назад берега, где в лесах, густо опутанных лианами, кричали попугаи, резвились проворные мартышки. Жители редких, прибрежных селений предлагали купить этих забавных зверьков.
А как их ловят? Очень просто. Охотник ставит в лесу жбан с подслащенным пивом. Обезьяны взволнованы, их разбирает любопытство: что это там такое? Вот спрыгнула с дерева одна. Бочком, осторожненько — к жбану. За ней другая, третья — и пошел пир горой. Пьяные обезьяны визжат и дерутся до тех пор, пока хмель не свалит их на землю. А охотник только того и ждет. Он тут как тут с крепкими веревками.
Ценковского, истомленного в пустыне вынужденным бездельем, теперь словно подменили. Он первым соскакивал на привалах с барки и устремлялся к лесу.
— Ведь это же зеленый живой музей! — восторгался ботаник. — Какое богатство!
— Музей? Скорее зверинец, — возражал Ковалевский. — И будьте осторожны!
На отмелях видели следы гиен, а то и отпечатки львиных лап. Как-то на барки пришли старики из приречной деревни:
— Господин, львы растерзали у нас пять человек, оставь нам солдат с ружьями…
После этого лоцман стал выбирать для стоянок островки подальше от берега. Однажды он, испугавшись львиного рыка, велел побыстрее отчаливать, но Ковалевский остановил его:
— Сначала сосчитайте людей!
Так и есть, нескольких человек не хватало. Подняли крик. На отмели появились фигурки, боязливо крадущиеся к баркам.
Однажды арабы бечевой тянули барку, забредя в реку почти по пояс. Вдруг один из них, вскрикнув, исчез под водой. Мелькнуло его лицо с вылезшими на лоб глазами и судорожно раскрытым ртом. Клокотала и пенилась мигом покрасневшая вода. Крики, стрельба в воздух испугали крокодила. Пострадавшего вытянули из воды. Кровь стекала с него, нога была раздроблена острыми зубами, а три пальца словно отрезаны бритвой.
— Славная земля, что ни говори, — сердился Ковалевский. — На берегу львы и гиены, в воде эти кровожадные твари.
Однако сам продолжал купаться даже по ночам: жара заставляла забывать об опасности.
Был март 1848 года, когда экспедиция покинула долину Голубого Нила и по высохшему в это время года руслу его притока Тумата стала углубляться в золотоносную область Фазоглу.
— А что, Иван, — спросил один из уральцев, спутников Ковалевского, — долго еще будут нас везти?
— Дальше солнышка не увезут, — меланхолически ответил другой.
И верно: привезли их едва не под самое экваториальное солнце, под прямые и беспощадные его лучи. Привезли в египетский военный лагерь возле гор Кассана, где Ковалевского давно поджидал посланный туда Мухаммедом-Али генерал-губернатор.
В первый же день, не отдохнув после дороги, Ковалевский сделал пробные промывки золота. Многие последующие дни он занимался тем же и одновременно старался ускорить постройку золотопромывальной фабрики.
«Наконец, — пишет он, — успех увенчал труды и заставил положить не палец, а целую руку удивления в рот тех, которые не могли постигнуть, чтобы золото было там, где мы его искали».
Но мечтал он совсем о другом успехе.
На титульном листе книги Егора Петровича Ковалевского о его путешествии в Африку эпиграф: греческие буквы, а под ними арабская вязь. Это выдержка из трудов Геродота с признанием, что никто ничего не знал об истоках Нила, и арабская поговорка: «Истоки Нила в раю».
Загадка этих истоков интересовала современников Ковалевского едва ли меньше, чем Геродота.
Правда, еще в начале XVII века священник Педро Паэш первым из европейцев увидел в горной Абиссинии исток Голубого Нила. Но и в начале XIX века никто не знал, откуда течет Белый Нил.
Ковалевский на пути в Каир прочел в газете: братьям Антуану и Арно Аббади удалось наконец найти его истоки. И где же? В Абиссинии, неподалеку от истоков Голубого Нила! Начинаясь там, река будто бы описывает огромную дугу, неся воды к южным суданским окраинам.
Лагерь у гор Кассана был не столь уж далек от места, где Аббади сделали свое открытие. И Ковалевский рассудил: идя по Тумату до его верховьев, можно достигнуть истока великой реки, если… если только братья Аббади не заблуждаются, что казалось довольно вероятным.
Ковалевского отговаривали от экспедиции: через верховья Тумата совершает набеги воинственное абиссинское племя галла и, стало быть, риск слишком велик. Генерал-губернатор согласился отпустить русского лишь в сопровождении сильного вооруженного отряда. Но не будет ли это походить на завоевательный поход? И Ковалевский перед отправлением в путь строго запретил египетским солдатам малейшие насилия.
В горах вокруг первого бивака всю ночь вспыхивали, гасли, мигали огни. Где-то далеко рокотали барабаны. Рокот то нарастал, то затихал, удары учащались, потом наступали короткие паузы. То действовал древний «телеграф» джунглей. Великолепный музыкальный слух африканцев позволял им «читать» в барабанном рокоте тревожное известие о чужеземцах.
Высланная вперед разведка вернулась: русло Тумата сильно загромождено.
— Это не камни, а целые горы, упавшие в реку. Не пройти ни лошади, ни верблюду…
— Постойте, а пешком? — перебил Ковалевский.
— Очень, очень трудно. И если галла нападут в этой ловушке…
Напрасно переводчик пугал Ковалевского ужасами рабства у галла. Напрасно предупреждал, что его голова может украсить шест у хижины негритянского вождя.
Оставив караван под прикрытием конвоя, Ковалевский с отрядом пошел дальше по сузившемуся руслу Тумата. Вода оставалась лишь в ямах, где крокодилы, зарывшись в песок, ждали первых дождей. К одной из таких ям спустились с гор охотники. Захватить испуганных внезапным нападением горцев было нетрудно. По жестоким законам африканских джунглей они стали военной добычей, даровыми рабами.
И как же были недовольны солдаты, когда Ковалевский приказал отпустить пленников! Он был строг: разве сиятельный паша послал экспедицию для ловли людей? Пусть пленники отправляются подобру-поздорову!
Отчаяние одних, гордое презрение к смерти у других, тупое безразличие третьих сменилось надеждой, робкой, недоверчивой. Их отпускают?! Они сделали несколько шагов, втянув головы в плечи и ожидая выстрелов в спину. Нет, не стреляют… Бежать, бежать, скорее бежать, пока белый начальник не передумал!
Продвигаясь осторожно вперед, отряд Ковалевского ни разу не прибег к оружию. Галла тоже не пытались напасть на пришельцев. Караван беспрепятственно достиг тех мест, где буйно заросшие ярко-зеленые горы, сдвинувшись, оставили Тумату лишь заваленную камнями щель.
Из-под влажной земли выбивались слабые родники. Арабы смотрели во все глаза: еще бы, ни одному их соотечественнику до сих пор не удалось увидеть истоки Тумата! Если они станут рассказывать об этом, им все равно не поверят!
Ковалевский поспешил к расположенной неподалеку возвышенности. Ему хотелось «достигнуть взором туда, куда тщетно стремились дойти столько путешественников, из которых многие заплатили жизнью за свое безусловное служение науке».
Уже незадолго до заката Ковалевский поднялся на самый высокий холм. Весело и гордо оглядывал он простиравшуюся вокруг равнину, где среди низкорослых деревьев и кустарников паслись огромные стада диких слонов. Никто еще не проникал здесь так далеко внутрь Африки. Он испытывал высокое наслаждение исследователя, достигшего своей цели после тяжких трудов, лишений, испытаний его терпения.
Местность у верховьев Тумата Ковалевский назвал Страной Николаевской, а пересохшую небольшую речку — Невкой.
— Пусть название это напоминает, до каких мест доходил здесь путешественник и какой нации принадлежал он!
Закончив набросок местности, Ковалевский еще раз внимательно осмотрел все вокруг.
«У меня не станет смелости положительно опровергать важное, можно сказать — великое открытие Аббади, но, достигнув почти широты 8° и не нашедши Бахр-эль Абьяда, настоящего Нила, даже не слышав о нем ни от кого из туземцев… я имею повод более чем сомневаться в предполагаемом открытии» — к такому выводу пришел путешественник.
Он покинул «Страну Николаевскую» с твердой уверенностью, что разгадку истоков Нила нужно искать не здесь.
Карта, составленная Ковалевским во время путешествия в Африку, по-своему романтична. Она чем-то напоминает ту, что прилагается к «Острову сокровищ» Стивенсона.
Помимо названий селений и рек, на ней пестрят надписи вроде: «Негры-идолопоклонники, разрабатывающие железные руды», «Возвышенная равнина, покрытая кустарником, служащая пастбищем слонам», «Горы, несправедливо называемые Лунными», «Предполагаемые антропофаги» (людоеды). Карта, понятно, не вполне точна — составитель ее оговаривается, что многое нанесено «по одним слухам туземцев». Но ведь она составлена в 1848 году!
За блистательные успехи правитель Египта наградил русского исследователя золотой медалью, усыпанной бриллиантами. Вернувшись в Петербург, Ковалевский составил доклад о пользе и необходимости русской торговли с Египтом, предлагал наладить рейсы кораблей между Одессой и египетским портом Александрией.
Перечитывая сегодня превосходные книги Егора Петровича Ковалевского, оцениваешь и его литературное дарование, и гражданскую зрелость.
Особенно примечательны главы, где автор говорит об африканцах. Человек, приехавший в Африку из крепостнической России, рассуждает гуманнее, благороднее не только своих, но и некоторых наших современников. Недаром так высоко оценил Ковалевского великий Чернышевский: «Весьма понравился он за то, что так говорит о неграх, что они ровно ничем не хуже нас, с этим я от души согласен…»
То, что понравилось Чернышевскому, привело в ярость русского царя. Услужливые чиновники особо обратили его внимание на те строки в книге, где Ковалевский, рассказывая о невольниках-неграх, прямо говорит, что и в России много людей «осуждены на подобную жизнь».
Николай I велел объявить Ковалевскому строжайший выговор, посадить его на гауптвахту и «впредь иметь под строжайшим надзором».
Сегодня Нил перегорожен великой плотиной Асуана. Огромное водохранилище несет жизнь пескам пустыни. Как тут не вспомнить размышления Ковалевского о животворном канале!
В тот год, когда русский флаг развевался над баркой, плывущей по Голубому Нилу, когда наш соотечественник шагал по руслу Тумата, имя Давида Ливингстона было еще мало кому известным, а на пироге, который матушка испекла ко дню рождения маленького Генри Стэнли, горели всего семь свечей. Лишь посвятив поискам истоков Нила тридцать лет жизни и пройдя по дебрям Африки несколько десятков тысяч километров, Ливингстон и встреченный им Стэнли оказались однажды вблизи цели.
Но лишь вблизи. Окончательно истоки великой реки были открыты после семидесяти семи экспедиций, стоивших жизни многим исследователям. Эти истоки обнаружили по южную сторону экватора, в самом сердце материка, неподалеку от озера Танганьика.
Хромой дервиш
«Мы должны обыскать его». — У хивинского хана. — Талисманы странствующего монаха. — Смертоносный вихрь пустыни. — Опасный визит. — Кого скрывали лохмотья дервиша. — В поисках прародины венгров
Если бы первые рассказы о хромом дервише, о странствующем мусульманском монахе, были записаны со слов хаджи Билала, хаджи Сали или какого-нибудь другого его благочестивого спутника, то, возможно, повествование началось бы с событий весеннего дня на земле туркмен.
Именно в тот день хромой дервиш хаджи Решид едва не стал жертвой навета. И кто оклеветал его! Презренный нечестивый афганец, курильщик опиума с дрожащими руками!
В этот день паломники, с которыми шел хромой дервиш, дождались наконец прихода каравана Амандури. Сановник из Хивы выглядел усталым и раздраженным. Его ли дело гонять буйволиц? Но мудрейшие врачи нашли, что молоко этих невиданных в Хиве животных исцелит недуги хана. И послушный Амандури отправился за буйволицами в дальний путь. Теперь животные плелись впереди каравана, возвращавшегося в Хиву.
Амандури приветливо встретил паломников, попросивших его защиты и покровительства на пути к столице хана. Но когда он заметил хромого дервиша, его взор стал холодным, а добрые слова застряли в горле.
Хромой дервиш вместе со всеми наполнил бурдюк водой: предстоял путь через пустыню. Амандури повел караван. А на привале, когда усталые верблюды были развьючены, Амандури позвал хаджи Билала и хаджи Сали.
— Великий хан Хивы — да продлит аллах его дни — велел однажды повесить двух своих верных слуг, — сказал он. — Великий хан услышал от них, что на земли ханства проник переодетый «френги», презренный европеец. Обманув всех, он с поистине дьявольской точностью снял на карту дорогу в Хиву. Все холмики, все колодцы! И ярость хана стянула петлю на горле принесших ему злую весть. Что же будет с теми, кто поможет другому френги войти в ворота благородной Хивы? Об этом страшно даже подумать! А между тем почтенный афганский купец… — Тут Амандури велел позвать афганца и приказал ему: — Говори!
— Я видел френги-англичан на своей земле! — закричал афганец, и глаза его налились кровью. — Я видел этих собак и говорю вам: в Хиве пытка сделает свое дело и железо покажет, кто на самом деле ваш хромоногий хаджи Решид! Но великий хан покарает и слепцов, не разглядевших неверного под лохмотьями дервиша!
Билал и Сали не унизили себя крикливым спором. Двадцать шесть человек в караване носили почетный титул хаджи за подвиг благочестия, за многотрудное паломничество в Мекку к священному для каждого мусульманина черному камню Каабы.
Среди двадцати шести паломников хаджи Билал и хаджи Сали были наиболее почтенными и уважаемыми людьми — эю мог подтвердить каждый.
Но разве свет благочестия не исходил и от хаджи Реши-да? Да, он не выкрикивал по две тысячи раз подряд «Аллах! Аллах!», как достопочтенный хаджи Абдул-Кадер, и не побывал в Мекке дважды, как хаджи Нух-Мухаммед. Но кто лучше хаджи Решида мог толковать Коран, эту святую книгу, существующую предвечно?
Припадая на больную ногу, он отважился издалека идти для поклонения мусульманским святыням Хивы и Бухары — это ли не подвиг, достойный воздаяния?
И вот теперь нечестивый безбожник, за опиумом забывающий о часе молитвы, чернит хаджи Решида подозрениями! Сначала афганец уговаривал их друга отделиться от каравана и пойти вдвоем. Уж не думает ли нечестивец, что в лохмотьях хаджи Решида спрятаны сокровища? Корысть и зависть иногда толкают людей на злые дела, а в пустыне легко теряется след человека. Хаджи Решид, конечно, отказался идти с афганцем, и теперь тот выдумал нелепицу с переодетым френги…
Обо всем этом хаджи Билал спокойно рассказал Аманду-ри. Но не убедил его. Проклятый же афганец кричал свое:
— Пытка покажет!
Тогда хаджи Билал сказал, что он и хаджи Сали готовы поручиться за своего друга. Они неразлучны с ранней весны, когда вместе вышли из Тегерана. Они вместе ночевали на холодном полу караван-сараев, укрывались тряпьем, чтобы унять дрожь. Они брали пальцами из одного горшка вареный рис, сдобренный, за неимением свежего сала, растопленной сальной свечой. И никто не слышал жалоб и стенаний от хаджи Решида, слабого телом, но сильного верой.
Святость и набожность хаджи Решида сделали его желанным гостем на земле туркмен. Молитвой и талисманами он лечил больных, и те благословляли его. Сам Кызыл-ахонд, ученейший муж среди туркмен, находил удовольствие во встречах с хаджи Решидом. Салтыг-ахонд, мудрейший священнослужитель, после бесед с хаджи Решидом сказал, что воистину свет ислама снизошел на этого человека. Так неужели Амандури думает, что верность религии делает людей слепыми, а опиум обостряет зрение?
Амандури, казалось, колебался. Но афганец закричал со злобным упорством:
— Разве этот дервиш похож на других? Он светлокож, как все френги!
На земле туркмен, возразил ему хаджи Билал, где паломников приняли, как братьев, многие тоже удивлялись, что аллах создал единоверцев столь не похожими друг на друга. Но дело в том, что хаджи Решид — турок!
Он, хаджи Билал, не хотел говорить все до конца, однако теперь сделает это. Пусть Амандури знает!
И хаджи Билал рассказал, как однажды вместе с другими паломниками зашел во двор турецкого посольства в Тегеране, чтобы пожаловаться на бесчинства властей, берущих непомерные пошлины. Там к паломникам подошел важный господин, который ласково обошелся с ними, расспрашивал так, будто был их братом. Господин сказал, что хочет пойти, как простой дервиш, на поклонение святыням в земли туркмен и узбеков.
— Да будет ведомо тебе, Амандури, что хаджи Решид — турецкий эфенди, знатный господин, которому покровительствует сам великий султан, — торжественно произнес хаджи Билал. — Он стал дервишем потому, что так захотел его духовный отец. И когда мы пошли вместе, я сказал: теперь окончательно забудь, что ты турецкий эфенди, и стань настоящим дервишем. Благословляй людей и не забывай протягивать руку за милостыней: тот, кто пришел в страну одноглазых, должен закрывать один глаз!
— Хорошо, — решился убежденный этой речью Амандури. — Я возьму хаджи Решида с собой. Но мы должны обыскать его. Пусть все убедятся, что он не прячет в одежде деревянное перо, каким пишут френги. И еще: пусть он поклянется, что не сделает никаких тайных заметок по дороге.
Как же разгневался хаджи Решид, услышав это! Он обратился к своему другу, но весь караван слышал его слова:
— Хаджи, ты знаешь, кто я. Скажи Амандури, который слушает одурманенного безбожника: с религией не шутят! В Хиве он узнает, с кем имеет дело!
Кого бы не смутила такая речь! А вдруг у этого хромого дервиша важное тайное поручение к властителю Хивы от самого турецкого султана?
— Худзим билар! Бог знает! — произнес Амандури, — Хан будет предупрежден обо всем заранее, и да свершится его воля!
Амандури дал знак двигаться дальше. Все, кроме афганца, успокоились, и караван по вечерней прохладе продолжал путь к Хиве.
* * *
Две недели паломники тянулись то по ровным, плоским такырам, глинистая корка которых растрескалась от жары, то по песчаным барханам. Люди и верблюды уже изнемогали, когда показались крыши одного из селений, окружавших великолепную Хиву.
Впервые город принимал сразу столько праведников, побывавших в Мекке. Толпа встретила караван у городских ворот. Паломникам целовали руки. Иные считали за честь хотя бы прикоснуться к их одежде.
Но когда один из офицеров хана появился перед дорогими гостями, неистовый афганец бросился к нему:
— Господин, мы привели в Хиву трех удивительных четвероногих и одного не менее замечательного двуногого!
Он показал сначала на буйволиц, потом на хромого дервиша. Сотни глаз уставились на хаджи Решида. И побежал уже в толпе шепот: «Френги! У рус!», и нахмурился офицер, готовый учинить допрос, когда вперед вышел хаджи Сали. Он стал превозносить добродетели своего друга, но тот, оскорбленный до глубины души людской подозрительностью, спросил лишь, как пройти к дому Шюкруллаха-бея, важного сановника хана.
Те, кто последовал за хаджи Решидом, своими ушами слышали, как хромой дервиш велел доложить сановнику, что его хочет видеть эфенди из Стамбула. Удивленный бей сам вышел навстречу и, пристально всмотревшись в оборванного паломника, воскликнул:
— Решид-эфенди?! Возможно ли это?
Если бы зеваки могли проникнуть в дом, куда Шюкруллах-бей поспешно увел гостя, они увидели бы, как дервиша усадили на почетное место. Они услышали бы, как сановник заклинал гостя именем аллаха поскорее сказать ему, что побудило уважаемого Решида-эфенди прибыть в эту ужасную страну из Стамбула, из земного рая, где Шюкруллах-бей провел много лет ханским послом при дворе султана и где имел удовольствие видеть Решида-эфенди совсем в другом одеянии. На это дервиш ответил, что он здесь по воле духовного отца своей секты.
Наверное, в Хиве у стен были уши. Дервиша, вернувшегося от сановника, разыскал в келье придворный офицер и вместе с подарком передал приглашение явиться во дворец для благословения хана Хивы.
Хан жил в Ичан-кале, этом городе внутри города, где поднимались купола и минареты наиболее чтимых мечетей. Толпа в узких улицах почтительно расступалась перед хромым дервишем. У входа в новый ханский дворец Ташхаули придворные офицеры подхватили его под руки.
Хан, полулежа на возвышении со скипетром в руке, принял благословение дервиша.
— Много страданий испытал я, но теперь полностью вознагражден тем, что вижу благословенную красоту вашей светлости, — склонил голову дервиш.
Выслушав рассказ о дорожных невзгодах хаджи Решида, хан вознамерился было наградить страдальца. Но святой человек отказался от денег, сказав, что у него есть единственное желание: да продлит аллах жизнь повелителя Хивы до ста двадцати лет!
Благоволение хана распахнуло перед хаджи Решидом двери в дома вельмож. Хромой дервиш ел жирный плов с советниками хана или вел богословские споры с самыми уважаемыми хивинскими священнослужителями — имамами, тогда как его недруг афганец, осыпаемый бранью и насмешками, не смел даже показаться на улице.
И еще раз призвал хан к себе хаджи Решида. Шюкруллах-бей успел предупредить дервиша: придворные подозревают, что у хаджи Решида тайное послание турецкого султана к властителю соседней Бухары. Конечно, хан Хивы хотел бы кое-что узнать об этом…
Но если султан и поручил что-либо хаджи Решиду, то в Стамбуле сделали правильный выбор: ничего нельзя было выведать у святого человека, далекого от мирских дел.
* * *
«К величайшему моему удивлению, подозрения росли с каждым шагом, и мне чрезвычайно трудно было делать даже самые краткие заметки о нашем пути… Я не мог даже спрашивать о названии мест, где мы делали остановки».
Так хаджи Решид описывал позднее тот тревожный день, когда Амандури едва не бросил его в пустыне на дороге в Хиву. По календарю неверных это было 14 мая 1863 года.
Обыск мог стать для хромого дервиша смертельно опасным: в подкладке его рваного халата было спрятано уличавшее «деревянное перо» — огрызок карандаша…
И не только «перо».
Перед тем как Решид-эфенди отправился в путешествие со странствующими дервишами, все друзья в Тегеране отговаривали его от этого безумного шага. Они напоминали о риске, подстерегающем путника на дорогах среднеазиатских ханств, по соседству с Россией косневших в дикости и невежестве. Напоминали о замученных и обезглавленных, об отравленных и удушенных, о пропавших без вести. А когда уговоры и предостережения не подействовали, два человека дали страннику талисманы, защищающие от мук и пыток.
Турецкий посол вручил ему паспорт, какой получали лишь немногие. «Тугра», собственноручная подпись турецкого султана, чтимого всюду на Востоке, подтверждала, что хромой дервиш действительно подданный его светлости, хаджи Мехмед-Решид-эфенди.
Другой талисман он получил от посольского врача. Протягивая эфенди маленькие белые шарики, врач сказал:
— Когда вы увидите, что уже делаются приготовления к пытке и что не остается никакой надежды на спасение, проглотите это.
И однажды в пути хаджи Решид, подпоров шов халата, осторожно достал белый ядовитый шарик стрихнина. Это было ночью. Афганец, ненавистный афганец, изводивший его подозрениями, полулежал рядом, накурившись опиума. Его бессмысленные глаза ничего не видели, дрожащая рука неуверенно тянулась к пиале с остывшим чаем. Достаточно было опустить белый шарик в чай — и…
Но пальцы хаджи Решида так и не разжались. Он не мог запятнать себя хладнокровным тайным убийством. Разве и до встречи с афганцем судьба не посылала ему тяжких испытаний? И разве не кончалось каждое из них еще одной, пусть маленькой, победой над собой, над своими слабостями!
В Хиву хаджи Решид пришел из Тегерана. Но изнурительное и опасное путешествие не было для него первым. В Тегеран из Стамбула турецкий эфенди, приучая себя к неизбежным будущим невзгодам, также шел с караваном. В пути на караван напали курды. Хаджи Решид покрылся холодным потом, дрожь трясла его: он не родился храбрецом. Но с той минуты стал искать встреч с опасностью, чтобы привыкнуть к ней, побороть в себе врожденное чувство страха.
При переходах по дорогам персидского нагорья он испытал на себе злобную религиозную нетерпимость. В Турции исповедовали суннитское направление ислама, а в Персии — шиитское. И странствующий турок-мусульманин был для мусульман-персов еретиком. Хаджи Решида преследовали плевками, угрозами, выкриками:
— Суннитский пес!
В своих скитаниях хромой дервиш часто встречался с притворством, вероломством, подлостью. Но его глаза видели также многое, согревающее душу. Видели искреннюю, бескорыстную дружбу, товарищескую выручку, видели добрых, отзывчивых людей. Даже Амандури, советник хана, подозревавший хаджи Решида, и тот однажды в пустыне поделился водой с теми, у кого ее уже не было, не забыв при этом и хромого дервиша.
А туркмен-кочевник, бедняк из бедняков, в честь гостей зарезавший свою последнюю овцу и с умилением смотревший, как совершенно чужие ему люди набивают желудки мясом, вкус которого он давно забыл? А долговые расписки туркмен? Удивительные расписки, хранящиеся не у того, кто дал деньги, а у того, кто взял: ведь должнику они нужнее — пусть напоминают, что надо поскорее отдать долг!
И на узбекской земле хромой дервиш не разочаровался в народе.
«Обитатели этого селения, первые встреченные мною узбеки, были весьма хорошими людьми», — отозвался хаджи Решид о жителях деревни под Хивой. «Самый лучший народ в Средней Азии», — утверждал он, после того как ближе узнал жизнь хивинских простолюдинов.
Но если бы хивинский хан, тот хан, которому хромой дервиш пожелал сто двадцать лет жизни, мог предвидеть будущее описание своей «благословенной красоты», он бы хлопнул в ладоши и крикнул палачу:
«Алиб барин! Взять его!»
Хаджи Решид впоследствии назвал властителя Хивы слабоумным, развратным и диким тираном, описал его белые губы злодея, глубоко запавшие глаза, реденькую бороденку.
Да, одного возгласа хана «Алиб барин!» было достаточно для того, чтобы хаджи Решид разделил судьбу тех, кого ханские палачи истязали в тот день, когда дервиш возвращался после милостивого приема у властителя.
Это было на площади перед старым дворцом Куня-арк, возле обложенной камнем ямы для стока крови казненных. Хаджи Решид видел, как стража сортировала партию пленных туркмен: кого в рабство, кого в темницу, кого на виселицу. Восемь стариков были брошены на землю, и палач выколол им глаза, каждый раз неторопливо и тщательно вытирая окровавленный нож о седую бороду ослепленного…
* * *
Хромой дервиш и его друзья, прожив в Хиве месяц, отправились дальше. Им предстоял путь к святыням Бухары.
Покидая Хиву, хаджи Решид надеялся, что самое трудное отошло уже в мир воспоминаний.
Он ошибся.
Из Хивы в Бухару в разгаре лета обычно идут по ночам. Но и ночами воздух сух, ветры часты, пески горячи. А на этот раз спутникам хаджи Решида пришлось пересекать пески напрямик с возможной поспешностью, сделав выбор между опасностью смерти в пустыне и кандалами рабов.
К этому выбору их понудила встреча с двумя полуголыми, истощенными людьми. Те бросились к только что переправившемуся через Амударью каравану с криками:
— Хлеба! Хлеба!
Насытившись, несчастные рассказали, как едва спаслись от разбойников, налетевших на быстрых конях и разграбивших их караван.
— Ради аллаха, скройтесь куда-нибудь! — посоветовали они.
Самые робкие в караване хотели отсидеться в прибрежных зарослях, а потом вернуться в Хиву. Но несколько человек, к которым примкнул хромой дервиш и его друзья, предпочли идти в пустыню. Они надеялись, что уже на второй день разбойники забудутся, как страшный сон: аллах еще не создал такого коня, который выдержал бы больше суток в этом пекле.
Идти надо было шесть дней. Воды могло хватить на четыре с половиной дня, может быть, на пять. Они это знали. Но позади им чудился топот копыт, свист аркана и позвякивание притороченных к седлу цепей для продаваемых в рабство.
Сначала пали два верблюда. Кажется, это было на вторую ночь.
Потом умер самый слабый из путников. Он задыхался, молил, но никто не облегчил его мук каплей воды из своего бурдюка. Почерневший язык вывалился изо рта умирающего. Труп оставили на песке.
Был четвертый день ада, когда хаджи Решид, скосив глаза на кончик языка, увидел знакомую черноту. Испугавшись, он сразу выпил половину мутной вонючей жижи, остававшейся в бурдюке. Жажда не уменьшилась, железные раскаленные обручи стискивали голову, язык был черен.
На пятый день, когда уже была близка Бухара, верблюды с тоскливым ревом стали опускаться на колени и, вытягивая длинные шеи, зарывать головы в песок. Они раньше людей почувствовали приближение смертоносного вихря пустынь.
Облака пыли заклубились над дальними барханами. В памяти хаджи Решида отпечатался глухой, нарастающий шум, уколы первых песчинок, жестких и жгучих, как искры, летящие из-под молота кузнеца…
Очнулся он от говора незнакомых людей. Персидские слова?!
Оглядевшись, дервиш увидел стены жалкой хижины. Здесь жили рабы-иранцы. Богатый хозяин послал их сюда пасти овечьи стада. Чтобы рабы не вздумали бежать через пустыню, им давали всего по нескольку кружек воды в день. И последним своим запасом они поделились с попавшими в беду…
Бухара была рядом. После раскаленной пустыни ее купола и башни с множеством аистовых гнезд, поднимавшиеся над зеленью садов, казались уголком рая.
Итак, хаджи Решид был у ворот столицы второго из трех больших среднеазиатских ханств, враждовавших между собой и с соседней Россией.
Кокандское ханство считалось сильнейшим, Бухарское особенно ревниво оберегало исламскую правоверность. Здесь религиозные фанатики пытались остановить время. Тот, кого обвиняли в отступничестве от ислама, мог поплатиться даже головой. Некоторые бухарские феодалы мечтали, чтобы турецкий султан объявил газават — священную войну для истребления неверных на всем земном шаре. Султан в представлении бухарцев был бородатым великаном в чалме, на которую пошло множество ткани. Они верили, что пищу ему доставляют исключительно из священной Мекки. И фанатики, наверное, растерзали бы того, кто сказал, что в действительности его высочество султан Турции по торжественным дням надевает фрак, какой носят нечестивые френги, причем сшитый по последней парижской моде…
Когда паломники приблизились к воротам Бухары, их встретили чиновники бухарского властителя — эмира. Перерыли скудный скарб. Заставили заплатить пошлину. Опросили, а вернее, допросили каждого. Записали приметы.
Хаджи Решид, бродя по Бухаре, чувствовал, что за ним следят. Он останавливался возле древнего минарета мечети Калян, поднимал глаза, рассматривал тончайший орнамент — и кто-то останавливался за спиной, делая вид, что тоже любуется чудесным сооружением. Хромой дервиш шел на базар, где купцы торговали в числе прочего привезенным из России дешевым ситцем, где в чайханах стояли огромные русские самовары, — а внимательные, цепкие глаза отмечали каждый его шаг.
Хаджи Решида пригласили в один дом и стали расспрашивать о Стамбуле: какие там улицы, каковы обычаи? После он узнал, что среди гостей хозяина был человек, хорошо знавший турецкую столицу…
Наконец приближенный эмира позвал его для ученого разговора с бухарскими муллами. Хаджи Решид не стал дожидаться вопросов, а сам обратился к толкователям Корана с просьбой разъяснить ему, стамбульцу, некоторые богословские тонкости: ведь он столько слышал о мудрости бухарских законоучителей! Польщенные муллы тем не менее подвергли гостя настоящему экзамену.
После этого испытания хаджи Решида оставили в покое, и он мог свободно рыться в грудах старинных рукописей, которыми была так богата Бухара. Он побаивался лишь эмира, возвращения которого в столицу ханства ожидали со дня на день. О его жестокости и свирепости ходили легенды. Ведь это он публично казнил своего министра за один неосторожный взгляд на невольницу, прислуживающую во дворце.
Но встреча с этим деспотом все же состоялась. Это было в Самарканде, куда хажди Решид направился из Бухары.
Самарканд! Два тысячелетия пронеслись над ним, и дух былого великолепия столицы огромной империи Тимура запечатлелся в пышнейшей мечети Биби-Ханым, в соперничающих с небесной синью изразцах ребристого купола мавзолея Гур-Эмир, где нашел последнее успокоение завоеватель.
Здания, окружающие Регистан, одну из красивейших площадей Востока, напоминали об Улугбеке, просвещенном сыне Тимура, при котором в Самарканд отовсюду стекались историки и поэты, астрономы и математики. Теперь волны религиозного ханжества захлестывали город, все в нем измельчало, обветшало…
Эмир бухарский был в Самарканде проездом. Хаджи Решида вызвали к нему. Он томительно долго ждал в приемной среди приближенных эмира. Неожиданно хаджи Решид ощутил легкое прикосновение к затылку и услышал бормотание:
— Вот досада, нож-то я забыл дома…
Случайно оброненная фраза? Или…
Тут его позвали к эмиру. Повелитель, лежа на красном матраце, пристально оглядел дервиша и спросил, действительно ли тот пришел в Бухару единственно ради поклонения святыням?
— И еще для того, чтобы насладиться твоей красотой, — ответил хаджи.
— Ты странствуешь по свету с хромой ногой, — холодно произнес эмир. — Это поистине удивительно.
— Твой славный предок имел такой же недостаток, и хромота не помешала ему стать повелителем мира! — нашелся дервиш.
Упоминание о родстве с Тимуром понравилось эмиру. Он стал расспрашивать о путешествии. Расспрашивал подробно, слушал внимательно. Лицо его оставалось бесстрастным. Внезапно эмир хлопнул в ладоши. Из-за ковра выросли фигуры вооруженных телохранителей.
— Выдать хаджи деньги и халат, — приказал эмир. — И ты придешь ко мне еще раз, хаджи.
Друзья, которым хаджи Решид рассказал, как встретил его эмир, посоветовали ему без промедления покинуть Самарканд…
Полгода хромой дервиш делил хлеб, кров и беды с хаджи Билалом, с хаджи Сали — и вот настал час разлуки. Они прощались за городскими воротами. Караван, с которым уходил хаджи Решид, отправлялся в путь с первой звездой.
Слезы были на глазах у дервиша, когда он в последний раз обнял друзей. Верблюды медленно зашагали по мягкой пыли. Хаджи Решид долго еще оглядывался, различая знакомые фигурки у городских ворот. Потом они растаяли, исчезли. Только голубые купола Самарканда блестели в лунном свете.
Душевное смятение овладело хаджи Решидом. Тяжело расставаться навсегда с людьми преданными и честными. Они раскрывали перед ним душу. А он? Чем отплатил он лучшим друзьям, которым был обязан жизнью? Ведь главную свою тайну хромой дервиш скрыл даже от них.
Но что было бы, если бы они узнали всё? Как горько, как обидно было бы им вспоминать до конца дней, что полгода рядом с ними по ревниво оберегаемым от неверных святым местам ходил не дервиш, не турецкий эфенди, а френги, европеец по рождению и духу, человек, отрицающий всякую религию!
Да, в его лохмотьях хранился паспорт на имя хаджи Мехмед-Решид-эфенди, и султанская «тугра» свидетельствовала это. Но паспорт был таким же прикрытием, как всклокоченная борода дервиша, скрывавшая черты человека, которому едва исполнился тридцать один год.
Колпак странствующего монаха прикрывал голову великого актера, обладавшего редким даром перевоплощения, лингвиста, члена-корреспондента Венгерской академии наук, знатока восточных языков Арминия Вамбери!
* * *
В нескольких, быстро завоевавших широкую популярность книгах, написанных после путешествия в Среднюю Азию, Вамбери подробно рассказал о превращении в дервиша и о том, что заставило его решиться на этот рискованный шаг. Рассказал он и о своей молодости.
Вамбери родился в Венгрии, однако не мог указать точно, когда именно: для еврейской бедноты метрические записи не были обязательны. Вероятнее всего, маленький Арминий, или Герман, появился на свет в 1832 году.
Его набожный отец, в молодости умерший от холеры, остался в семейных преданиях книжником, далеким от мирских дел. Энергичная вдова полагала, что священные книги Библия и Талмуд — хорошие ключи к воротам рая, но приносят мало пользы в обыденной жизни.
Дети делили время между азбукой и сбором пиявок, которые считались первым средством при многих болезнях. Но лекарства тоже подвержены капризам моды. Нашлись противники кровопусканий, спрос на пиявки упал, и хрупкое благосостояние семьи Вамбери сменилось устойчивой нищетой.
Арминий с детства хромал. Его лечили зельями и заклинаниями, а какой-то пьяница-костоправ едва не сломал ему колено. Лечение не помогло, но Арминий не унывал. Он носился с костылем по пустырю на городской окраине, где устраивались ярмарки, цыгане ставили драные шатры и всяческое жулье надувало простодушных крестьян.
Мать, уверенная, что в мальчугане жив дух отцовской учености, в тщеславных мечтах своих видела его доктором. Блестящие способности, особенно к иностранным языкам, помогли Арминию перешагнуть порог школы, открытой монахами.
Его учили из милости, кормили из сострадания, давали кров как слуге и сторожу. Он чистил наставникам сапоги. Он сочинял любовные письма за неграмотных кухарок, вознаграждавших его миской гуляша.
В школах у преподобных отцов получил он наглядные уроки ханжества, лицемерия, двоедушия, и эти уроки убили в нем религиозность. Гордость сделала то, перед чем отступили знахари и костоправы: придя на могилу отца, подросток переломил над ней костыль и с тех пор обходился палкой.
Арминию Вамбери было шестнадцать лет, когда, воодушевленные волной прокатившихся по Европе революций, восстали венгерские патриоты. Они хотели освободить родину от австрийской династии Габсбургов, утвердившейся на венгерских землях. На помощь Габсбургам пришли Романовы. Николай I оказал военную поддержку при подавлении революции. Австрийская военщина жестоко расправилась с повстанцами.
В городе, где учился Вамбери, эшафот стоял у крепостной стены. Молодой венгерский офицер шел на казнь вместе с адъютантом. Оба смеялись и оживленно разговаривали между собой. Взбешенные палачи перед казнью стали мучить их. Вамбери не выдержал. Он выкрикивал в лицо палачам самые страшные ругательства, какие только слышал на ярмарке. За ним погнались, но и хромой он отличался редким проворством и быстротой.
В 1851 году Вамбери закончил ученье и, зная семь языков, стал домашним учителем. Несколько лет он скитался по небогатым семьям, уча недорослей и продолжая совершенствовать свои знания.
Когда долго не было работы, Вамбери жил у больничной сиделки, сдававшей койки беднякам. Коек было четыре, постояльцев — восемь. Спали по очереди. Здесь среди старьевщиков, коробейников, нищих Вамбери зубрил русские глаголы и учился писать по-турецки.
Он был строг к себе. В календаре намечал, что должен сделать на каждый день. Невыполненное задание переносилось на завтра. Если и завтра его нельзя было зачеркнуть как сделанное, Вамбери оставлял себя без обеда.
В эти годы он попытал счастья в Вене. На государственную службу его не приняли. Но в Вене он познакомился с великим сербским поэтом и просветителем Вуком Караджичем. В русском посольстве священник Раевский снабдил его книгами. Вамбери прочел в подлинниках Пушкина и Лермонтова. Востоковед Пургисталь возбудил в нем интерес к изучению восточных языков.
Ученых уже давно волновала загадка происхождения венгров. Откуда явились они на берега Дуная? С какой прародины принесли они язык, столь отличающийся от языков их европейских соседей?
В венгерском языке можно было найти слова, схожие с теми, которые употребляют тюркоязычные народы. Не означало ли это, что прародиной венгров была Центральная или Средняя Азия?
Барон Этвеш, венгерский лингвист, к которому Вамбери пришел в дырявых башмаках с искусно подвязанными картонными подошвами, сочувственно отнесся к его предложению — отправиться на Восток для выяснения сходства венгерского языка с языками азиатских народов.
Денег, полученных Вамбери, хватило на билет до Стамбула. Последние монеты забрал лодочник-перевозчик. Вамбери приютили соотечественники — венгерские эмигранты, бежавшие на берега Босфора после подавления революции.
В Турции Вамбери прожил шесть лет. Сначала он был странствующим чтецом. В кофейнях благодарные слушатели приглашали его разделить трапезу. На второй год стамбульской жизни Вамбери часто видели во дворах мечетей, где, сидя у ног учителей-хаджи, он постигал премудрости ислама. Его встречали также на базарах: он вслушивался в говор приехавших издалека торговцев.
Прошло еще три года, и Вамбери стал появляться в министерстве иностранных дел и на приемах в посольствах: владея уже тридцатью языками, он мог быть переводчиком решительно всех дипломатов при дворе султана!
Настоящее имя венгра забылось. Важного господина, имеющего собственную карету, стали называть Решид-эфенди. И он, вероятно, не преувеличивал, когда много лет спустя говорил, что в турецких делах разбирался не меньше, чем любой эфенди, рожденный в Стамбуле.
А тем временем Венгерская академия наук получала от него весьма интересные сообщения. Он разыскал и перевел древние рукописи, где в сплетении фактов и вымысла пытался найти зерно истины о прародине венгров. Он искал слова и понятия, сходные с теми, какие встречались в венгерском языке. За все эти заслуги Академия наук выбрала Вамбери членом-корреспондентом.
Он приехал на родину, и почтенные академики выслушали его дерзкий план. Из скудной академической кассы была отсчитана тысяча монет. Вамбери торжественно вручили охранный лист. Предполагалось, видимо, что палач хивинского хана тотчас отбросит в сторону кинжал или веревку с петлей, прочтя каллиграфически написанное по-латыни, напыщенное обращение об оказании всяческого содействия подданному прославленного монарха Франца-Иосифа II венгру Арминию Вамбери, известному академикам с самой лучшей стороны…
Президент академии был не лишен чувства юмора. Когда один из академических старцев выразил пожелание получить для изучения несколько черепов жителей Средней Азии, президент заметил:
— Прежде всего пожелаем нашему сотруднику привезти в целости собственный череп.
Взяв деньги и подальше упрятав бесполезный охранный лист, Вамбери вернулся в Стамбул. Будущее не страшило его. Сама жизнь хорошо подготовила его к новой роли, закалила характер, научила терпению и лицемерию, научила носить маску святоши и сдерживать желания.
И когда пришла решающая минута, Арминий Вамбери, давно известный всему Стамбулу как Решид-эфенди, смог легко перевоплотиться в странствующего дервиша.
К Арминию Вамбери, который после посещения среднеазиатских ханств побывал еще и в Афганистане, пришла слава одного из самых дерзких и удачливых путешественников по Востоку.
Он не был первым европейцем в Хиве, Бухаре, Самарканде. Русские послы посещали среднеазиатские ханства с XVII века. В начале XIX века туда старались проникнуть англичане, и не все они разделили участь обезглавленных в Бухаре полковника Конноли и подполковника Стоддарта. Хивинские приключения Николая Муравьева всколыхнули русское общество. Ханыков, Эверсман, Виткевич, Демезон, наконец, Егор Петрович Ковалевский, служа русской науке и русской дипломатии, в разное время побывали в ханствах Средней Азии.
В старых комплектах «Туркестанских ведомостей» можно найти рассказ купца Абросимова, который, нагрузив товарами пятнадцать верблюдов, на свой страх и риск отправился в Хиву. Его привели к хану. Купец попросил разрешения торговать в городе. Хан такое разрешение дал.
Абросимов обжился в Хиве. Однажды хан предложил купцу взять в жены какую-нибудь пленницу или хивинку и остаться на чужбине. Вежливый отказ не привел хана в бешенство. Когда Абросимов, выгодно распродав товары, собрался домой, хан отпустил его.
В Хиве Абросимов жил за несколько лет до прихода туда хромого дервиша.
Рассказ купца не заставляет, однако, заподозрить Вамбери в преувеличении опасностей, подстерегавших иноземца в Хиве. Абросимов пришел туда открыто, Вамбери — под чужим именем. Хромой дервиш сумел как бы изнутри увидеть застойный, изживающий себя мир средневековых деспотов и религиозных фанатиков.
Приключения Вамбери описывались не раз. Со страниц некоторых повестей и рассказов он предстает одиночкой, окруженным врагами, только и думающими о том, как разоблачить подозрительного дервиша.
Едва ли это правильно.
Сам Вамбери пишет, что пристальный взгляд встречного, каждый жест казались ему подозрительными, настораживали его. Но, признает далее Вамбери, «впоследствии я убедился, что спутники и не думали разоблачать меня». Опасность обострялась лишь в больших городах.
Более того, со временем выяснилось, что некоторые сановники догадывались, что под внешностью дервиша скрывается европеец. Однако этот европеец имел турецкий паспорт, подлинность которого не вызывала сомнений. В критические моменты дервиш извлекал паспорт из лохмотьев, и сановник почтительно целовал «тугру».
А афганец, который доставил так много тревог Вамбери? Был ли он лишь злодеем, мешающим ученому? Ведь сам Вамбери в позднейших книгах упоминает, что афганец чудом уцелел при кровавой расправе, учиненной англичанами. Афганец хорошо знал, что принесли его родине френги. В его глазах хромой дервиш был вражеским лазутчиком, а те, кто его защищали, — слепцами и ротозеями…
За лингвистические исследования Венгерская академия наук избрала Арминия Вамбери академиком.
Но в поисках прародины венгров он, увы, не нашел верного пути.
Ему не было нужды отправляться туда, где, по его словам, «слушать считается бесстыдством, где спрашивать — преступление, а записывать — смертный грех».
Для поисков народов, говорящих на языках, в чем-то сходных с венгерским, Вамбери мог выбрать другую дорогу: из Будапешта — в Москву, а оттуда — на Волгу. Да, да, не в Среднюю Азию, а именно на Волгу!
Путешествуя в удобной каюте волжского парохода, он увидел бы на пристанях грузчиков, или, как их называли, крючников, — чувашей и марийцев, сгибавшихся под тюками со льном, с кожами для нижегородской ярмарки. И чуткое ухо лингвиста, возможно, уловило бы в их возгласах некоторое сходство с говором простолюдинов венгерского местечка.
Для того чтобы услышать речь, еще более близкую венгерской, Вамбери следовало бы отправиться дальше, но отнюдь не в раскаленные пески Средней Азии, а туда, где долгой зимней ночью бушует пурга и до мая лежат сугробы. Он должен был бы перевалить Урал и на собачьей упряжке проехать по низовьям Оби.
Здесь, в лесах и тундре, он нашел бы стойбища охотников, принадлежащих к небольшим северным народам. Тогда их называли вогулами и остяками. И тут-то в заклинаниях шамана, бьющего в бубен, чтобы изгнать злых духов, Вамбери услышал бы вдруг отголоски хорошо ему знакомых причитаний, какими провожают покойника крестьяне венгерской степи.
Впрочем, еще до того как Вамбери отправился в Среднюю Азию, другой венгр совершил именно такое путешествие на Север, в края, где обитали остяки и вогулы. Его звали Анталом Регули. Он установил несомненную близость своего родного языка с языком кочующих по берегам Оби потомков древних племен.
Сибирский Север — и Центральная Европа! Обь — и Дунай! Несходство исторических судеб разделенных огромным расстоянием народов — и все-таки несомненное родство языка. Как это объясняет современная наука?
Здесь нет полного единства мнений. Некоторые ученые полагают, что вообще едва ли удастся узнать весь ход венгерской древней истории. Но многое, несомненно, уже вскрыто.
Современные лингвисты относят венгерский язык к так называемой угорской группе финно-угорской ветви уральской семьи языков. Из всех существующих языков планеты он наиболее близок к тому, на котором говорят манси и ханты (в прошлом — вогулы и остяки). Однако в современном венгерском языке много иноязычных слов славянского, германского и тюркского происхождения. На протяжении долгой своей истории венгры не раз сталкивались с другими народами.
Общей прародиной предков венгров, ханты, манси было, вероятно, Южное Приуралье. Здесь их начали теснить гунны и авары. Видимо, в середине I тысячелетия нашей эры венгры стали переселяться на юг, в причерноморские степи. Именно тогда оборвалась нить, связывающая их с остальными угорскими народами.
Но и южная степь не стала новой родиной венгров. Здесь у них тоже были беспокойные, воинственные соседи — печенеги и дунайские болгары.
Тот, кому приходилось бывать в Будапеште, несомненно знает один из самых крупных монументов венгерской столицы. Он стоит на площади Героев. Это памятник Тысячелетия Венгрии, воздвигнутый в 1896 году.
Перед двумя полукруглыми колоннадами, украшенными статуями, высится монолитный столп. У его подножия — группа всадников: легендарный вождь венгерских, или мадьярских, племен Арпад и его сподвижники. Арпад повел свой народ на новые места. Перевалив через Карпаты в 895–896 годах, венгры осели на той территории, которой суждено было стать Венгрией.
В XII веке венгерское государство достигло славы и могущества. А затем — татарское нашествие, тяжелое поражение в решающей битве с турками, развал страны, ненавистные народу Габсбурги…
Бывает, что слава приходит к писателю после его первой и единственной книги. Одно, всего одно открытие может обессмертить имя ученого. Путь, пройденный молодым Арминием Вамбери в лохмотьях дервиша, навсегда остался среди самых удивительных и дерзких маршрутов в истории путешествий середины прошлого века.
Два капитана
Неожиданное сходство. — Корабль, исчезнувший бесследно. — Штурман «Св. Анны». — Первая жертва. — «Нас проносит мимо…» — На айсберге. — В романе и в жизни
«Предлагаю Вам и всем нижепоименованным, согласно Baшего и их желания, покинуть судно, с целью достижения обитаемой земли, сделать это 10-го сего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты с каяками и провизией, взяв таковой с расчетом на два месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли. Увидев же землю, действовать сообразно с обстоятельствами, но предпочтительно стараться достигнуть Британского канала между островами Земли Франца-Иосифа, где, я предполагаю, можно найти провизию и постройки. Далее, если время и обстоятельства позволят, направиться к Шпицбергену, не удаляясь из виду берегов Земли Франца-Иосифа. Достигнув Шпицбергена, представится Вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем, но, надеюсь, на южной части его Вам удастся застать если не живущих на берегу, то какое-нибудь промысловое судно. С Вами пойдут, согласно желания, тринадцать человек из команды…
10 апреля 1914 года в Северном Ледовитом океане».
Это письмо можно найти в седьмой главе четвертой части романа Вениамина Александровича Каверина «Два капитана». Именно его прочел Саня Григорьев, разбирая в городе Заполярье старые дневники, сохранившиеся у милого доктора Ивана Ивановича.
Но это письмо можно найти и среди документов о покорении Арктики. Почти слово в слово. Даже даты сходятся. Только в романе оно адресовано штурману Ив. Дм. Климову и подписано капитаном судна «Св. Мария» Иваном Львовичем Татариновым, тогда как его документальный двойник был адресован штурману Вал. Ив. Альбанову и имел подпись капитана судна «Св» Анна» Георгия Львовича Брусилова.
Подлинная драма «Св. Анны» дала толчок творческой фантазии писателя и стала как бы канвой некоторых эпизодов популярного романа. В романе есть эпилог. Эпилог драмы «Св. Анны» до сих пор не известен никому.
* * *
Корабль, привлекший внимание петербуржцев белой окраской и благородством линий, покинул место стоянки у Николаевского моста в начале августа 1912 года.
На другой день газеты коротко сообщили, что еще один русский полярный путешественник, лейтенант Георгий Львович Брусилов, покинул родные берега и намеревается на шхуне «Св. Анна» пройти через весь Северный Ледовитый океан из Петербурга во Владивосток. В заметках добавлялось, что путешественнику удалось заинтересовать людей со средствами, в частности своего богатого родственника-землевладельца, но что денег все равно не хватило, и господин Брусилов надеется покрыть часть расходов промыслом морского зверя.
Тот год, в который «Св. Анна» начала рейс, был неблагоприятным для плавания в Арктике: тяжелые льды забили все главные проливы.
Закрыли они и выход из пролива Югорский Шар в Карское море. Несколько пароходов, изрядно помятых при попытках пробиться на восток, вяло дымили у кромки непроходимых льдов. Капитаны собирались уже возвращаться назад, когда в проливе показалась белая «Св. Анна».
Как раз к ее приходу ветер немного разредил льды. Образовался узкий и ненадежный проход.’ Капитаны побоялись вести свои суда в ледовую западню. Но «Св, Анна» хмурым рассветом смело прошла в Карское море. Ледяные поля медленно сомкнулись за кормой корабля.
Это было 16 сентября 1912 года.
С тех пор «Св. Анну» никто и никогда не видел.
И может быть, все, что произошло дальше, так и осталось бы неизвестным — мало ли трагедий разыгрывалось в ледяной пустыне, мало ли экспедиций исчезало там бесследно! — если бы два года спустя к одному из скалистых мысов Земли Франца-Иосифа не подошел корабль «Св. Фока», возвращавшийся после гибели начальника экспедиции Георгия Яковлевича Седова.
В густом тумане с капитанского мостика «Св. Фоки» заметили среди прибрежных камней человеческую фигурку. Это было так неожиданно, что вахтенный не поверил своим глазам. Но, протерев стекла бинокля и снова взглянув на берег, он увидел, что фигурка столкнула крохотную лодочку и плывет к «Св. Фоке».
Моряки, столпившиеся у борта, приветствовали незнакомца дружным «ура». В ответ он сиплым, слабым голосом прокричал нечто, совершенно сбившее с толку участников экспедиции:
— Господа! Господа! На мысе Флора экспедиции Седова еще нет!
Через минуту человек в потрепанном кителе уже карабкался по штормовому трапу. Его бледное лицо, заросшее русой бородой, появилось над бортом.
И тогда люди впервые услышали о трагедии пропавшего корабля.
* * *
«Св. Анна», войдя в ледяной мешок Карского моря, все же пробилась на парусах и под парами довольно далеко, до берегов полуострова Ямал. Здесь она вмерзла в лед и вместе с ним во мраке наступившей полярной ночи начала дрейф — медленное движение к северу.
Моряки не сидели без дела: скучать было некогда. Через прорубь промеряли глубины, ремонтировали судно, возили с берега плавник, доставали драгой со дна всякую живность. В свободные часы бегали на лыжах и коньках, а по вечерам собирались в уютной кают-компании: играли на пианино, слушали граммофон и однажды устроили даже любительский спектакль. Судовой повар Калмыков сочинил стихи, которые так понравились, что их постоянно распевали хором:
Под флагом матушки-России Мы с капитаном в путь пойдем И обогнем брега Сибири Своим красавцем кораблем. А к середине зимы начались беды.Как-то в мороз моряки охотились за белым медведем. Гнали его чуть не десять километров, но медведь ушел, а разгоряченные охотники простудились.
Единственная женщина на корабле, Ерминия Александровна Жданко, исполнявшая обязанности врача, сбивалась с ног, ухаживая за больными. Возможно, простуда ослабила людей, и тогда какое-то странное заболевание, похожее на цингу, постепенно превратило корабль в лазарет. Хуже всех чувствовал себя Брусилов, который пластом лежал в постели.
Болезнь пошла на убыль лишь к весне, когда стало ненадолго появляться солнце, а свежее, пахнущее рыбой мясо белых медведей не сходило со стола.
На корабле готовились продолжать плавание. Вокруг уже синели разводья чистой воды.
Но льдина, в которую вмерз корабль, плохо таяла и по-прежнему цепко держала его.
Море, желанное открытое море, с редкими, не страшными пятнами ледяных полей, словно дразнило моряков. Оно было и близким и недосягаемо далеким, как улица под тюремным окном, на которую из-за решетки смотрит узник.
Моряки взрывали заряды пороха, пилили, кололи, долбили лед. Но пробить канал к открытому морю было им не по силам. А дни снова стали укорачиваться. Вместе с полярным летом уходила надежда на освобождение.
К середине августа начали готовиться ко второй зимовке. Судно в это время находилось у 80-й параллели, в недоступных местах Полярного бассейна. Его медленно, зигзагами тянуло вместе со льдами все дальше и дальше на север.
Снова пришла тьма долгой зимней ночи. На корабле кончился керосин, кончились свечи. В самодельных коптилках, потрескивая, чадил медвежий жир. Печки топили корабельными переборками. Никто не открывал крышку пианино. Граммофон заржавел. В кают-компании пар дыхания оседал холодными каплями на закопченном потолке.
Нервного, вспыльчивого Брусилова долгая болезнь сделала нестерпимо раздражительным и придирчивым. Он не поладил со штурманом Альбановым, знающим моряком, но тоже не очень выдержанным человеком. Дошло до того, что Альбанов подал рапорт: «Прошу освободить меня от обязанностей штурмана».
Обстановка стала еще более тяжелой.
И в январе 1914 года, когда «Св. Анна» была уже за 82-й параллелью, Альбанов снова пришел в каюту к Брусилову: он считает, что ему следует покинуть корабль.
— Понимая ваше положение, разрешаю, — коротко ответил Брусилов.
Часть команды захотела уйти вместе с Альбановым. Брусилов стал было разубеждать, потом распалился, раскричался:
— Убирайтесь прочь хоть все, до последнего человека, слышите?
По правде говоря, уход части команды не затруднял, а облегчал положение остающихся. «Св. Анна» едва ли могла освободиться из ледового плена ранее осени 1915 года. Если большая часть команды покинет судно, оставшимся хватит провизии до конца дрейфа. А для управления кораблем на чистой воде достаточно нескольких человек.
Штурман энергично готовился к походу. Предстоял путь по весенним движущимся льдам. Нужны были сразу и лодки и сани. Легкие лодки-каяки сделали из парусины, натянув ее на деревянный каркас. Полозья смастерили из буфетного стола. Работали в холодном трюме, при коптилках, в полутьме.
В те годы еще не существовало надежной карты тех мест, через которые штурман собирался повести свой отряд. Но в судовой библиотеке нашлась книга Фритьофа Нансена об экспедиции на «Фраме» со схемой, на которой была обозначена Земля Франца-Иосифа, севернее ее — Земля Петермана и северо-западнее — Земля короля Оскара. Еще Нансен убедился, что очертания островов архипелага Земли Франца-Иосифа нанесены приблизительно. После своего похода к полюсу он кое-что исправил, но все равно это был лишь предварительный набросок карты.
Если взять сегодня изданный в 1897 году русский перевод книги Нансена и сравнить схему, о которой идет речь, с современной картой архипелага, то станет ясным, сколько там ошибок.
В неточности схемы убедился и Альбанов. «Св. Анна» находилась примерно там, где полагалось быть Земле Петермана, а кругом простирались безотрадные льды. Значит, эта Земля существовала лишь в воображении участников «открывшей» ее австрийской экспедиции.
Но лучше хоть какая-нибудь карта, чем никакой. И Альбанов тщательно перерисовал схему в записную книжку, а подлинник оставил Брусилову.
Приближалась весна. Заканчивая приготовления к походу, все чаще поднимался штурман в «воронье гнездо» — в бочку, прикрепленную высоко на мачте корабля. В январе оттуда на розовеющей половине неба недолго видели нечто похожее на очень отдаленный остров. Теперь же нигде не было даже признаков земли. Только льды.
Многое передумал Альбанов, оглядывая с мачты мертвый океан. Некоторые мысли о судьбе «Св. Анны» он занес в дневник:
«Суждено ли тебе и дальше спокойно проспать тяжелое время, чтобы в одно прекрасное утро незаметно вместе с ложем твоим, на котором ты почила далеко в Карском море, у берегов Ямала, очутиться где-нибудь между Шпицбергеном и Гренландией?.. Или в холодную, бурную полярную ночь, когда кругом завывает метель, когда не видно ни луны, ни звезд, ни северного сияния, ты внезапно будешь грубо пробуждена от своего сна ужасным треском, злобным визгом, шипением и содроганием твоего спокойного до сего времени ложа, с грохотом полетят вниз твои мачты, стеньги и реи, ломаясь сами и ломая все на палубе.
В предсмертных конвульсиях затрепещет твой корпус, затрещат, ломаясь, все суставы твои, и через некоторое время лишь куча бесформенных обломков да лишний свежий ледяной холм укажут твою могилу. Вьюга будет петь над тобой погребальную песню и скоро запорошит свежим снегом место катастрофы. А у ближайших ропаков кучка людей в темноте будет в отчаянии спасать что можно из своего имущества, все еще хватаясь за жизнь, все еще не теряя надежды…»
Альбанова беспокоила не только судьба остающихся. Представляют ли люди, которые пойдут с ним, как далек путь, как мучительно трудно карабкаться на торосы, волоча за собой санки с грузом? Не слишком ли большую ответственность берет он на себя?
Но передумывать поздно.
Наступает день ухода. Нарты с уложенными каяками — у борта судна. Прощальный обед. Кто-то пробует шутить. Деланный смех тотчас обрывается. Скорей бы уж из-за стола…
На льду, у корабля, Брусилов вручает штурману то самое предписание, которое можно найти и в морских архивах и на страницах романа «Два капитана». Альбанов снимает шапку. Кто-то несмело кричит «ура», другие подхватывают. Уходящие налегают на лямки. Остающиеся провожают их. Шагают молча, только снег повизгивает под полозьями.
В палатке, на месте первой ночевки санной экспедиции, Брусилов достает бутылку шампанского — последнюю из корабельных запасов. В минуты прощания забыты все раздоры — увы, только в эти минуты…
Пробираясь между глыбами льда, проваливаясь в снег, люди тянут нарты. Зимовка надорвала их силы. Ноги опухли, покрылись ранами, мучает одышка, кружится голова. Приходится сначала тащить «всем народом» часть нарт, потом возвращаться за остальными.
Только на шестой день пути исчезают из виду мачты «Св. Анны» — так недалеко от судна ушел штурман со своими спутниками. Трое просятся обратно на корабль. Альбанов отпускает их: по санному следу налегке за день они пройдут больше, чем с грузом за неделю.
Чуть подтаявший снег покрыт тонкой матовой коркой, сильно отражающей солнечный свет. Очки из бутылочного стекла не спасают от снежной слепоты. Как некогда Харитон Лаптев, бредет теперь Альбанов, почти ничего не видя, то и дело вытирая слезы.
За ним тянутся его полуослепшие спутники: десять человек, впряженных в пять нарт. Торосов нет только там, где темнеют полыньи. Обходить их невозможно, переплывать на каяках не дает каша мелких льдин. Приходится ждать, пока ночной холод затянет полынью ломкой коркой. А за полыньей либо снова оголенные торосы, либо торосы, прикрытые снегом, что еще хуже. Хоть бы немного гладкого, ровного льда — вот был бы праздник.
Матрос Баев пошел на разведку, забрался на высокий торос и обнаружил, что лучше идти западнее: там он разглядел большое ледяное поле.
— Сам своими глазами видел, — уверял Баев. — Такая ровнушка, что конца-краю не видно. Не иначе как до острова тянется.
Попробовали идти туда, куда звал Баев, но вместо ровного молодого льда наткнулись на те же торосы. Обескураженный матрос попросил отпустить его ненадолго на поиски своей «ровнушки». Ушел — и не вернулся.
Встревоженный Альбанов поспешил по его следу. След вел далеко в сторону от лагеря. Повалил снег, отпечатки ног матроса становились все слабее, потом вовсе потерялись. На стрельбу и крики никто не откликнулся. Может быть, Баев уже вернулся к лагерю?
Нет, Баев не вернулся. Тогда сделали из лыж, каяков, палок высокую мачту и ночью подняли на ней флаг. Баев обязательно должен был бы увидеть его утром, если только во время снегопада он не попал в полынью.
Матроса тщетно искали три дня…
За месяц санной партии удалось пройти всего сто километров, и день ото дня ее движение отнюдь не ускорялось.
И сколько новых помех! По небрежности утопили двустволку и самодельную кухню. Расхворался матрос Луняев, плюет кровью: цинга. Все чаще попадаются полыньи, нарты вязнут в глубоком снегу, снизу пропитанном водой; запасы сухарей тают и тают.
Правда, Альбанов, определяя широту, заметил однажды, что лед, по которому они бредут, дрейфует уже на юг. Открытие сначала обрадовало его: попутный дрейф сбережет им силы и время. Но последующие дни в записях чувствуется тревога:
«Воскресенье, 1 июня. Нас очень быстро подает на юг. Меня смущает одно обстоятельство, о котором я стараюсь умолчать перед своими спутниками. Если лед так быстро идет на зюйд-зюйд-вест, то, значит, там ни «что» не преграждает ему путь. А ведь это «что» не более не менее, как острова, к которым нам следует стремиться. Ведь если мы радуемся нашему быстрому дрейфу, то только ради этих островов… Но теперь, когда мы, достигнув широты Земли Франца-Иосифа, продолжаем быстро двигаться на юг и тем не менее не видим и намека на острова, становится ясно, что нас проносит мимо этой земли».
Проносит мимо! Куда? Во льды открытого океана, навстречу гибели. Чтобы зацепиться за сушу, за последние мысы Земли Франца-Иосифа, нужно спешить, спешить изо всех сил. А спутники совсем раскисли. Никто из них никогда не ходил по льдам. Они устали, временами тупое безразличие овладевает ими.
Альбанов сам бессменно протаптывает след, да еще и возвращается, чтобы подгонять отставших. Иногда он жесток, но это жестокость ради спасения.
И вот однажды Альбанов видит на мглистом горизонте «нечто» — два розоватых облачка, которые долго не меняют формы и цвета. Он молчит: что, если это всего лишь гряда торосов?
Нет, «нечто» — не обман зрения, не торосы!
«Понедельник, 9 июня. На этот раз я увидел на зюйд-ост от себя, при хорошем горизонте, что-то такое, от чего я в волнении должен был присесть на ропак и поспешно начал протирать и бинокль, и глаза. Это была резкая серебристоматовая полоска, немного выпуклая вверх, идущая от самого горизонта и влево постепенно теряющаяся. Самый «носок» ее, прилегающий к горизонту, особенно резко и правильно выделялся на фоне голубого неба… Ночью я раз пять выходил посмотреть в бинокль и каждый раз находил этот кусочек луны на своем месте; иногда он был яснее, иногда слабее виден, но главнейшие признаки, то есть цвет и форма, оставались те же.
Я удивляюсь, как никто из моих спутников ничего не видит. Какого труда стоит мне сдержать себя, не вбежать в палатку, не закричать во весь голос: что же вы сидите чучелами, что вы спите, разве не видите, что мы почти у цели, что нас подносит к земле?»
Утром, при хорошей погоде, земля — сказочная, фантастическая, странного, необычного цвета — видна уже совершенно ясно. Это остров. До него несколько десятков километров.
В эти часы, устрашенные тем, что с нартами через полыньи к неведомой земле придется тащиться еще долго, два бесчестных и малодушных человека, прихватив наиболее нужные вещи, налегке удирают вперед. Оставшиеся едва волокут каяки к голубоватому обрыву ледника, ползущего с острова в море.
«Среда, 25 июня… Впереди отвесная 15-саженная стена, на которую не забралась бы и обезьяна… Да, теперь, пожалуй, и я начинаю падать духом! Про спутников же своих и говорить не буду: совсем мокрые курицы. К довершению несчастья, я уже четвертый день чувствую сердечные припадки…»
Он все же находит силы бороться, искать. Обнаруживает в стене трещину, забитую снегом. Вырубая во льду ступени, задыхаясь, падая, люди втаскивают наверх тяжелые нарты и каяки. И вовремя: едва выбрались на остров, как льдина, по которой они подошли к отвесной стене, треснула и перевернулась.
Впервые чуть не за два года под их ногами земля, пусть покрытая ледником. Но вот он кончается. Из непривычно чернеющих камней вспорхнула гага. В гнезде теплые яйца — пища! Еще гнезда. Луняев стреляет в птиц. И вдруг где-то совсем близко вскрикивает человек.
Да, вот он, жалкий, плачущий, — один из двух беглецов. Судить его? Но солнце светит так радостно, под ногами твердая земля, ликующе кричат птицы. И отходчиво сердце русского человека…
Альбанов вышел на ближайший мыс. В одну сторону море, сколько охватывает глаз, чисто ото льда. Эх, «Св. Анна», вот бы куда, красавица, тебе попасть!
Но что это за холмик из камней? Уж очень правильна его форма. Разбросали камни. Под ними — железная банка, в банке — флаг и записка, сообщавшая, что экспедиция путешественника Джексона в 1897 году отправилась с мыса Флора для поисков новых земель и благополучно прибыла сюда, на мыс Мэри Гармсуорт.
Мыс Мэри Гармсуорт? Так ведь это самая западная оконечность Земли Александры, крайнего острова архипелага Франца-Иосифа!
Замешкайся они еще немного — и лед вынес бы их в океан. А теперь — к мысу Флора, где, возможно, сохранились постройки лагеря Джексона, на который в свое время столь счастливо набрели, возвращаясь из похода к полюсу, Нансен и Йохансен.
Кажется, все самое тяжелое позади. Они на земле, они знают, что это за земля, знают, куда идти, еды вдоволь — вон сколько птиц всюду!
Но печальный поворот событий был уже предопределен в тот час, когда двое беглецов покинули лагерь и оставшимся пришлось бросить лишний, ненужный каяк. Теперь надо было разделиться: пятеро, для которых не нашлось места в каяках, побрели по леднику.
К условленному месту встречи дошли четверо.
«Среда, 2 июля, — записано в дневнике, — Архиреев помер… Сейчас я беру с собой на каяки трех больных — Луняева, Шпаковского и Нильсена. У всех болят ноги. Опухоль похожа на цинготную…»
У мыса Гранта с каяков виден через пролив остров Норд-брук. Это на нем вожделенный мыс Флора. Если там не развалилась хижина, то лучшего места для зимовки не придумать.
Однако где же очередная береговая партия? Что-то задержало ее.
Задержало надолго. Навсегда…
Ледник пожирал слабых людей, очутившихся без волевого вожака.
С оставшимися тремя спутниками Альбанов поплыл на каяках через десятимильный пролив к мысу Флора. Ветер застал их на середине пути. Некоторое время Альбанов видел второй каяк. Потом он исчез, унесенный штормом.
Остались двое — Альбанов и Конрад. Если ветер еще усилится, их каяк не выдержит: в нем полно воды. Берегов не видно. Двум смертям не бывать, одной не миновать! И Альбанов пристал к айсбергу, который медленно переваливался на волнах.
Каяк вытащили на лед. В вершину айсберга воткнули флаг: может, люди на другом каяке еще живы?
Затем двое на льдине, надев на себя теплые меховые куртки — малицы, легли так, что ноги одного находились в ма-липе за спиной другого, согрелись и… заснули — вернее, впали в забытье от усталости.
«Пробуждение наше было ужасно. Мы проснулись от страшного треска, почувствовали, что стремглав летим, куда-то вниз, а в следующий момент наш «двухспальный мешок» был полон воды, мы погружались в воду и, делая отчаянные усилия выбраться из этого предательского мешка, отчаянно отбивались ногами друг от друга… Мы очутились в положении кошек, которых бросили в мешке в воду, желая утопить… В этот момент мои ноги попали на ноги Конрада, мы вытолкнули друг друга из мешка, сбросили малицы, а в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной «подошве» айсберга, по грудь в воде».
В эту минуту с вершины льдины соскользнул в воду каяк. Они быстро забрались в него и стали грести что было сил, пытаясь хоть немного согреться.
Добравшись до заледеневшего островка, принялись бегать и плясать — два посиневших, грязных дикаря с безумными глазами.
Конрад обморозил пальцы на ногах; Альбанова всю ночь трясла лихорадка.
Утром, когда пригрело, обоих стала валить с ног свинцовая сонливость. Альбанов знал: если заснешь — конец. Они сели в каяк. Впереди был мыс Флора.
Колумб при высадке на неведомую землю, наверное, волновался меньше Альбанова. Три месяца шел штурман к этому мысу, теряя товарищей, терпя немыслимые лишения, — неужели все это зря?
Сойдя на берег, оба не могли двигаться: подкосились ноги, парализованные болезнью. Отлежавшись, Альбанов поднялся первым.
Они побрели, спотыкаясь и падая, и увидели сначала шест, а потом бревенчатый дом. У дома стоял амбар. Снег запорошил возле него кучи ящиков, Альбанов отодрал доску: сухари и консервы!
На стене дома и на дверях были надписи: «Первая Русская полярная экспедиция старшего лейтенанта Седова». Далее сообщалось, что экспедиция прибыла на мыс Флора 30 августа 1913 года и 2 сентября отправилась в бухту Теплиц.
Альбанов знал — Георгий Седов ушел на север, к полюсу, в тот же год, когда «Св. Анна» покинула Петербург.
Моряки поселились на покинутой зимовке. Альбанов метался в жару. Конрад чувствовал себя лучше и вскоре смог пойти на поиски тех, кто потерялся в последние дни.
Матрос вернулся только через трое суток, тяжело волоча ноги. Альбанов вопросительно смотрел на него. Конрад безнадежно махнул рукой и вдруг разрыдался…
* * *
…Моряк в потрепанном кителе, вскарабкавшийся на борт пришедшего к мысу Флора корабля «Св. Фока», повторял, запинаясь от волнения:
— Я Альбанов, штурман «Святой Анны»… Я прошу у вас помощи… У меня осталось четыре человека на мысе Гранта…
Оказывается, он сразу узнал «Св. Фоку». А первый странный возглас штурмана объяснялся неожиданными криками «ура» при встрече. Он подумал, что корабль пришел за кем-то из членов экспедиции Седова, что его, Альбанова, приняли за кого-то другого и поэтому так обрадовались встрече.
«Св. Фока» пошел искать пропавших у мыса Гранта. Никто не откликнулся на свистки. На прибрежном снегу — ни одного следа.
Из всего экипажа «Св. Анны» осталось в живых двое. Как погибли те, кто остался на корабле, — пока что одна из многих тайн, хранимых Арктикой.
Дрейф корабля и ледовый поход его штурмана оставили след в истории открытий.
«Св. Анна» дрейфовала через неведомую до тех пор часть Северного Ледовитого океана. Изучение карты дрейфа, доставленной Альбановым, позволило узнать не только о морских течениях и движении льдов. Спутник Седова Владимир Юльевич Визе пришел к выводу, что восточнее одного места, где линия дрейфа «Св. Анны» резко отклонилась, должен находиться какой-то неизвестный остров. Визе теоретически открыл его в кабинете и нанес на карты, а несколько лет спустя советский ледокол «Седов» действительно нашел землю в том самом месте, которое определил ученый. Она названа островом Визе.
После ледового похода Альбанова ошибочно нанесенные на карты австрийской экспедицией Земля Петермана и Земля короля Оскара были окончательно «закрыты» и исчезли из географических атласов.
След Альбанова затерялся в годы гражданской войны. Случайно мне удалось узнать о его судьбе у старейшего енисейского капитана Константина Александровича Мецайка. После приключений во льдах Альбанов служил на ледорезе «Канада». Потом попал в Сибирь на Енисей и стал помощником капитана гидрографического судна «Север». Он был добродушным, покладистым человеком с очень неустойчивым настроением и легко впадал в ярость от чьего-то неосторожно сказанного слова. Погиб Альбанов во время взрыва поезда на станции Ачинск.
Вернемся к «Двум капитанам». В мужественном Климове мы во многом узнаем штурмана Альбанова. Перелистайте роман — и вы увидите, насколько совпадают дневники Климова, прочитанные Саней Григорьевым, с подлинными дневниками Альбанова.
Но в обаятельном образе капитана Татаринова мало черт вспыльчивого, раздражительного Брусилова. Капитан Татаринов как бы вобрал в себя черты многих русских героев полярных морей, и в особенности Георгия Яковлевича Седова. Его энергия и благородство, его неудачи, отчасти обусловленные чужой злой волей, наконец, его трагическая гибель — все это вспоминается нам, когда мы вместе с Саней Григорьевым размышляем о судьбе капитана Татаринова.
Скачка к полюсу
Роберт Нири вступает на «Великий белый путь». — Теперь или никогда! — Последним уходит «капитан Боб». — Сенсация! Сенсация! — Так кто же: Кук или Пири?
Шестого апреля 1909 года, очнувшись от тяжелого сна, почти беспамятства, Роберт Пири записал:
«Наконец у полюса. Приз трех столетий. Моя мечта и цель в течение двадцати лет. Наконец-то он мой! Я не могу осознать это как следует. Все кажется таким простым и обыденным».
Пальцы, скрюченные холодом, плохо слушались. Буквы выходили корявыми. Пири выполз из снежной хижины.
Да, он взял приз! Надо будить остальных, воткнуть в снег флаги тех обществ и клубов, которые дали ему деньги на экспедицию, сфотографироваться, еще раз произвести астрономические наблюдения…
Двадцать лет он стремился сюда. Двадцать лет!
* * *
Роберт Пири включился в международные скачки к Северному полюсу в конце XIX века.
Скачками эту борьбу за то, чтобы первым достичь северного конца земной оси, назвал кто-то из исследователей. И действительно, порой она была похожа на азартные состязания. Заключались крупные пари. В Америке был объявлен денежный приз победителю.
Пири вступил на «Великий белый путь» после того, как многие экспедиции потерпели неудачу. Он был инженером и работал на изысканиях канала в джунглях Никарагуа. Канал раздумали строить. Однажды Пири попала на глаза книга о безлюдных просторах Гренландии и ее вечных льдах. Он нашел, что это стоящее место для энергичного, честолюбивого и не робкого человека.
Пири начал с короткой разведки. Пять лет спустя, в 1891 году, он отправился в первую свою большую гренландскую экспедицию на судне «Коршун». Во время маневров корабля железный румпель переломил Пири обе кости над лодыжкой. Перелом был весьма тяжелым, но участник экспедиции доктор Фредерик Кук показал себя великолепным врачом. Он самоотверженно ухаживал за больным. Пири не мог нахвалиться своим другом и его искусством.
Едва переломы срослись, как Пири вместе с Мэтью Хенсоном пошел через ледяной купол Гренландии. Даже для совершенно здорового человека это было бы труднейшим испытанием. Пири выдержал его. Он стал вторым после Фритьофа Нансена путешественником, которому удалось пересечь огромный полярный остров от одного берега до другого, причем через еще более недоступные ледники. Новичок проявил такую волю и настойчивость, которым могли бы позавидовать многие прославленные арктические путешественники.
Вернувшись в Америку, Пири стал готовиться к новой экспедиции. Ему нужны были деньги, много денег. Он поехал по городам с лекциями о Гренландии. Пири выступал по нескольку раз в день, прочел 168 лекций и заработал 13 тысяч долларов.
Но полярные экспедиции стоят очень дорого. Дельцы посоветовали Пири показывать за деньги своего помятого льдами «Коршуна», как показывают разные достопримечательности. Поколебавшись, Пири согласился. А сделав первый шаг, не удержался и от второго: выгодно запродал нью-йоркской газете «Сэн» свои еще не написанные письма и дневники еще не начатой экспедиции…
На этот раз Пири взял в Арктику жену. Они вместе зимовали возле берегов Гренландии. Там у них родилась дочь. Пири чувствовал себя уже «своим человеком» среди льдов. Но Арктика напомнила ему, что полярник всегда должен быть готов к неудачам и разочарованиям. Попытка снова пересечь Гренландию кончилась тем, что Пири вернулся, потеряв почти всех собак на первых этапах пути.
Человек с меньшей силой воли был бы сломлен этим неожиданным крушением честолюбивого замысла. Пири сказал жене:
— Возвращайся, я остаюсь.
Он остался, а на следующий год вторично пересек Гренландию.
После этого Роберт Пири ставит целью своей жизни достижение полюса. Некоторый опыт у него уже есть. Нужны доллары.
Раздумывая над тем, где бы достать денег, он вспоминает о метеоритах, обнаруженных много лет назад на мысе Йорк. Норденшельду удалось даже вывезти часть этих метеоритов в шведские музеи. Так не позор ли для Америки не иметь хорошего куска межпланетного железа и в своих музеях?
«Позор, позор!» — подхватывают газеты.
Пири готов спасти национальную честь. Ему помогают снарядить экспедицию. Он привозит с мыса Йорк несколько осколков и крупный метеорит весом в 90 тонн. На этот последний находится солидный покупатель — любитель редкостей мистер Морис Джезуп. В кармане Пири — чек на 40 тысяч долларов.
Известность Пири растет. В воскресных журналах появляются его портреты. Когда корреспондент газеты спрашивает, какую пользу приносят полярные исследования, Пири говорит:
— А какую пользу приносят состязания яхт, атлетические состязания, испытания машин и военных судов или какое-нибудь из бесчисленных испытаний, бывших со времени младенчества мира единственным средством определить превосходство одних людей, машин, методов, наций над другими?
Готовя свою первую экспедицию к Северному полюсу, Пири не скрывает, что научные исследования — не главная его задача. Главное — прийти первым.
Но Пири снова не везет. В пути он обмораживает ноги. Как бы пригодилось ему теперь искусство доктора Фредерика Кука! К сожалению, Кука нет в экспедиции. Часть пальцев приходится ампутировать.
И снова Пири проявляет железную силу воли. Еще не расставшись с костылями, он ковыляет за Мэтью Хенсоном дальше на север, создавая в ледяной пустыне запасы провианта для своих будущих экспедиций.
Вскоре выходит книга Пири о его первых полярных путешествиях. Американец не хочет ждать, пока его оценят другие. Он сам перечисляет свои заслуги:
«Я открыл новый способ полярных путешествий».
«Я могу считать себя инициатором идеи использования самих собак в пищу собакам».
«Я ввел в первый раз и показал годность различных новых методов выдающейся ценности для полярного путешественника».
«Влияние моей экспедиции на эскимосов состояло в том, что подняло всю расу до благосостояния».
Всю расу — никак не меньше! Как видно, скромность — не в числе добродетелей Роберта Пири.
Но он и не хвастун, нет. Так поступают многие в окружающем его мире рекламы. Он просто немножко больше делец, чем другие полярные исследователи. Пири не идеалист, он понимает, что снаряжение экспедиции в Америке — это бизнес. И здесь действуют законы бизнеса. Умелая реклама, даже несколько назойливая, легче найдет дорогу к уму и карману американца, чем пространные разглагольствования о бескорыстном служении науке.
Работа над книгой лишь ненадолго задерживает Пири в Нью-Йорке. Шаг за шагом, целеустремленно, умело, деловито он разведывает подступы к полюсу. Экспедиции следуют одна за другой.
Путь для небольшого отряда в краю ледяного безмолвия неизменно прокладывает все тот же Мэтью Хенсон. Предоставим слово для рекомендации этого человека самому Пири: «Мэтью Хенсон — мой слуга; смелый чернокожий, родом из Виргинии, 23 лет. Его ум и преданность, в связи с отвагой, выказанные им в течение нескольких лет, проведенных со мною в различных экспедициях и в джунглях Никарагуа, заставили меня смотреть на него как на ценного члена экспедиции».
У Пири постепённо накапливается огромный опыт полярника. Он верит в себя. И ему невыносима мысль, что кто-то может опередить его. Чем сильнее затягивает Пири «великая полярная игра», тем заметнее игрок вытесняет в нем исследователя.
Далеко на севере американец встречает норвежца Отто Свердрупа. Свердруп рад: вот великолепный случай отправить письма близким, отчет о результатах научной работы.
— Письма? С удовольствием, — говорит Пири. — Но отчет… К сожалению, я не могу это взять на себя.
Почему? Пири не объясняет, Свердруп не настаивает. У Свердрупа слава выдающегося полярного путешественника. Пири может предполагать, что норвежец успел на этот раз сделать больше, чем он. А если так, то пусть по крайней мере мир узнает об этом как можно позже.
Когда Пири удается открыть самый северный мыс Гренландии, он не перебирает в памяти имена достойных полярных исследователей. Чем плохо название: «Мыс Мориса Джезупа»? Джезуп ничего не открывал, но он щедро заплатил за метеорит.
Еще не достигнув полюса, Пири уже знаменит как чемпион бокса. Создан «Арктический клуб Пири» во главе с мистером Морисом Джезупом. Для Пири специально оборудовано судно «Рузвельт», на котором нет разве что птичьего молока. Существуют «сани Пири». Есть «мыло Пири». Наконец, известен «метод Пири», который обязательно должен принести победу в скачках к полюсу. В чем заключается этот метод?
— В том, — говорит Пири, — что два человека будут последние четыре или пять дней своего обратного путешествия от полюса питаться мясом последней собаки, которая до этого съест предпоследнюю.
Итак, Пири готовится к решающему ходу. Он уже не молод, годы испытаний подточили здоровье. На этот раз неудача может означать для него конец арктической карьеры: Америка безжалостна к неудачникам. И он должен торопиться — теперь у него много конкурентов. Отправляет на полюс экспедицию тщеславный американский миллионер Циглер. Правда, вряд ли ей удастся сделать многое: возглавляет ее Фиала, бывший кавалерист, искушенный не столько в арктических исследованиях, сколько в скачках с препятствиями.
Американский журналист Уэльман собирается к полюсу на воздушном шаре. Газеты сообщают, что за шаром будет волочиться по льду пятидесятиметровая чудо-колбаса, начиненная смесью сушеного мяса и гороха. В пути от нее должны отрываться куски — готовые склады продовольствия на обратном пути…
Хотя журналист пролетает всего несколько километров, шумиха вокруг его полета неприятна Роберту Пири: он любит, чтобы говорили только о Роберте Пири.
Но вот начатая в 1908 году его новая экспедиция заставляет забыть и о Циглере, и о Фиала, и об Уэльмане, и о всех прочих.
— Теперь или никогда, — говорит Пири, прощаясь с друзьями.
Ему скоро 53 года. Едва не половину из них он отдал Северу. Флаг, который когда-то подарила ему жена для водружения на полюсе, сильно укоротился: он много раз отрезал от него полоски, оставляя их в крайних северных точках своих маршрутов.
Теперь или никогда. Это не слова. В случае неудачи у него просто не хватит сил для продолжения игры.
* * *
В решающий поход Пири взял отличных помощников. Вот они.
Цветущий, полный сил Роберт Бартлетт — «капитан Боб». Молодые ученые: не раз побывавший в Арктике профессор Марвин и доцент физических наук, отличный спортсмен Мак-Миллан. Неизменный победитель университетских состязаний силач Боруп. Разумеется, Мэтью Хенсон. Доктор Гудсэл, которому, правда, далеко до милейшего доктора Фредерика Кука, но все же он знает свое дело. Наконец, группа эскимосов; из них можно выбирать самых здоровых, выносливых, неприхотливых.
Много лет назад на арктический лед впервые ступил полный надежд молодой человек, волевой и мужественный. Он пронес эти качества через нелегкую жизнь полярного путешественника. Но, постарев, этот сын своей страны, в которой власть золота уродует человека, не подавлял в себе черт характера, принижающих самые сильные натуры.
Теперь на покорение полюса шел человек, для которого спутники были лишь пешками в продуманной до мелочей, решающей игре. Он трезво и холодно взвесил, что стоит, на что способен каждый из них. Он знал их слабости и верно учитывал честолюбивое стремление: каждый хотел оказаться рядом с ним, с Пири, на последних милях скачки.
Спутники понимали, что эта честь может выпасть лишь одному. Но кому именно?
Пири не открывал карты. Кроме него, никто не знал, как далеко по дороге к полюсу пойдет каждый.
Такое условие он поставил сразу — и спутники согласились.
Конечно, все будут стараться что есть сил, надеясь заслужить право остаться в «группе последней мили».
22 февраля 1909 года санные партии уходят на штурм. Пири, в меховом костюме, сшитом так, как будто человек сам оброс теплой мохнатой шерстью, пропускает мимо себя упряжку за упряжкой. Он идет последним, по проторенной дороге, сберегая силы.
Прокладка пути поручается сначала отряду Бартлетта. «Капитан Боб» ломает торосы, протаптывает колею, строит «иглу» — эскимосские снежные хижины для отдыха отряда Пири.
Полыньи дымят паром. Мороз таков, что керосин становится белым и вязким. Ветер валит с ног. Но то ли еще бывало в прошлые экспедиции!
Поодиночке Пири отсылает назад тех людей, которые, по его мнению, уже сделали свое дело.
Первыми прощаются доктор и опечаленный Мак-Миллан.
За ними отправляют Борупа, только что спасшего с риском для жизни сорвавшуюся в полынью собачью упряжку и, по общему мнению, не уступающего эскимосам в выносливости и ловкости.
Затем, выполняя приказ, уходит Марвин, уходит навсегда — на обратном пути его ждет смерть в коварной полынье.
«Капитан Боб» и Мэтью Хенсон, сменяя друг друга, протаптывают путь. Пири ночует в сооруженных ими снежных хижинах. Он бодр, полон сил. Все сулит ему удачу, даже мороз, перебросивший ледяные мосты через полыньи. Эскимосы рвутся вперед: тем из них, кто дойдет с Пири до полюса, обещаны лодки, ружья и патроны. Несметное сокровище для любого эскимоса!
Утро 30 марта 1909 года. Снежный лагерь на широте 87°47′. Отсюда — последний бросок.
Пири отдирает льдинки с рыжих усов. Перед ним великолепный астроном и опытнейший полярный путешественник «капитан Боб», тут же молодой, легкомысленный эскимос Укеа, впервые участвующий в полярной экспедиции, и еще три эскимоса постарше.
— Укеа, ты пойдешь со мной, — медленно говорит Пири, не глядя на «капитана Боба». — И ты, Хенсон.
Бартлетт бледнеет. Как, Пири берет с собой неопытного Укеа и отсылает назад его, Бартлетта?! Нет, он ослышался, не может быть…
— Мне бесконечно жаль… — говорит Пири.
Догадка осеняет Бартлетта: Пири не хочет делить славу и деньги с другим белым человеком! Он берет с собой негра и эскимосов…
— Ну, счастливо, — только и произносит «капитан Боб».
Что думает в эти минуты Пири? Испытывает ли он стыд, угрызения совести? Мы никогда не узнаем этого. В свой дневник, заранее проданный газетам, Пири записывает о Бартлетте:
«Мы с ним сердечно простились. Я долго смотрел вслед могучей фигуре капитана… Мне было невыразимо грустно, что пришлось расстаться с лучшим товарищем и бесценным спутником, всегда жизнерадостным, спокойным и мудрым, на долю которого выпала самая тяжелая работа по прокладыванию пути для наших партий. Но делать было нечего…»
Ссутулившийся «капитан Боб» понуро бредет назад по тропе, пробитой им же. Вместо него головную упряжку ведет Хенсон. Эскимосы Эгингва, Сиглу, Ута и Укеа стараются изо всех сил.
Утром 6 апреля Пири определяет широту: до полюса осталось три мили. Он рядом, совсем рядом, этот вожделенный полюс, полюс успеха и славы, после двадцати лет неудач и разочарований!
Сказывается нервное напряжение последних дней: Пири еле передвигает ноги. Хенсон и эскимосы поспешно строят хижину.
Немного отдохнув, Пири совершает поездки в разных направлениях, определяя широту. Да, его отряд в районе полюса!
Флаги воткнуты в снег, записка вложена в стеклянную бутылку. Троекратное «ура». Пири пожимает руку эскимосам и сердечно благодарит верного Хенсона.
А позже в своей книге он написал, что белые спутники могли оказаться на последнем этапе в роли пассажиров (это Бартлетт-то пассажир!), «Хенсон же являлся как бы частью транспортного механизма». И добавил тут же, как бы связывая одно с другим: «В большинстве наши собаки были сильные самцы, крепкие, как кремень, но без единого грамма лишнего жира».
* * *
Пири возвращается. Он знает — его ждут слава и крупный денежный приз. Навстречу «Рузвельту» выходит пароход с корреспондентами чуть не всех нью-йоркских газет. Журналисты окружают Пири. И первый вопрос после поздравлений:
— Мистер Пири, что вы думаете по поводу открытия доктора Кука?
— Доктор Кук? A-а, Фредерик Кук, старый дружище! Но что же он открыл, этот славный малый, доктор Кук?
— Как, разве мистер Пири не знает? Доктор Кук открыл Северный полюс!
Пири потрясен. Его опередили?! Только не это… Не может быть!
— Я еще не знаю подробностей, но убежден, что ваш доктор Кук — лжец и мошенник, каких не видел свет, — говорит он.
Корреспонденты в восторге. Сенсация! Жирные заголовки: «Пири против Кука», «Еще одна загадка полюса», «Пири говорит: нет!», «Пири обещает вывести Кука на чистую воду».
А доктор Фредерик Кук тем временем уже разъезжал по Америке с лекциями о том, как ему удалось покорить полюс. Газеты называли его «великим доктором Куком».
Оказывается, великий доктор Кук достиг полюса еще весной 1908 года. По льдам вернулся в Гренландию. Оттуда его доставил в Европу датский пароход. Датчане устроили покорителю полюса восторженную встречу. На торжественном обеде Кук сидел справа от королевы Дании. Университет Копенгагена присвоил ему почетное звание.
Тогда-то и пришли первые телеграммы от Пири, посланные радиостанцией на севере Лабрадора: «Американский флаг находится на Северном полюсе»; «Полюс достигнут, «Рузвельт» цел»; «Постарайтесь удержать телеграфную связь для быстрой передачи подробных сведений».
Доктор Кук воспринял эти известия довольно равнодушно.
— Если это правда, — сказал он, — я готов воскликнуть: «Ура Пири!» Он сделал то же, что я, но на год позднее. Ему, конечно, пришлось претерпеть много лишений, что придает решенной им задаче еще больше ценности в моих глазах. Впрочем, мы оба — американцы, и, следовательно, не может возникнуть никакого международного конфликта из-за нашего чудесного открытия, так сильно и горячо желаемого человечеством.
Пока ничего не подозревавший Пири лишь предвкушал сладость триумфа, доктор Кук пожал плоды славы. Из Копенгагена он поспешил в Нью-Йорк. Соотечественники наняли специальный пароход, чтобы встретить героя еще в океане. Мэр города произнес речь, прославлявшую великого американца. Восторженные дамы целовали его руки. Множество людей хотело получить автограф покорителя полюса. Но доктор оказался деловым человеком:
— Десять долларов за каждую мою подпись! Эти деньги пойдут на новые экспедиции!
Подробно о своем походе доктор Кук рассказал в увлекательной книге, которой зачитывались взрослые и дети.
Благодаря щедрой помощи просвещенного миллионера мистера Брадлея, писал доктор, ему удалось снарядить полярную экспедицию. Путь к полюсу он, Кук, вместе с несколькими эскимосами начал 18 марта 1908 года. Через некоторое время экспедиция обнаружила неизвестную землю. Кук назвал ее в честь своего благодетеля Землей Брадлея. Преодолевая бури и морозы, питаясь собачьим мясом, доктор Кук и два эскимоса упорно пробивались к полюсу.
Сколько живописных, достоверных подробностей было в описании последнего этапа путешествия! Эскимосам передался энтузиазм доктора Кука. Они не жалели сил, чтобы дойти до Типи-Оху, «Большого гвоздя» — так звучало название полюса на их языке. 20 апреля, в ночь светлую и яркую, когда фиолетовые тени от торосов казались барьерами, трое сделали решающий долгий переход и буквально свалились на снег от усталости. Полюс был уже рядом!
На другой день шагомер отмерил последние четырнадцать с половиной миль. Доктор Кук разбил палатку и сделал наблюдения: 89°59′45''. Они прошли еще немного и на самом полюсе построили снежную хижину. Эскимосы тотчас заснули. Доктор Кук записал: «Что касается меня, то я мало спал. Цель моя была достигнута: то, что составляло мечту всей моей жизни, получило теперь реальное осуществление».
Доктор сделал снимок: снежная хижина на полюсе, над ней американский флаг, возле нее два эскимоса. Этот исторический снимок украшал книгу.
Узнав, что Пири обозвал его лжецом и мошенником, великий доктор не снизошел до ответной брани.
— У меня нет сомнений, — заявил он представителям печати, — что мой друг Пири, которого я бесконечно уважаю, действительно достиг полюса. Но я был на полюсе 21 апреля 1908 года, а мой друг Пири — 6 апреля 1909 года. Годом позже. Я понимаю его состояние и не сержусь на его выходки.
Однако Пири не собирался признать себя побежденным. Он нашел подозрительные противоречия в книге Кука и неустанно повторял везде и всюду, что тот наглый обманщик.
Тогда доктор Кук ожесточился. Он направил президенту телеграмму, обвиняя Пири… в похищении денег с целью распространения в Арктике многоженства. «В данное время, — заключал Кук свою кляузу, — на безотрадном севере есть по крайней мере двое детей, которые кричат о хлебе, молоке и своем отце. Они являются живыми свидетелями пакостей Пири, который покрыт паршою невыразимого порока».
Сторонники Кука поставили под сомнение и сам факт достижения экспедицией Пири Северного полюса. Его не обвиняли в сознательном обмане, но говорили, что он сделал ошибку в астрономических наблюдениях и не дошел до полюса на полтора градуса широты.
Не буду приводить здесь дальнейших подробностей ссоры Пири и Кука, которую американская печать раздувала несколько лет. Расскажу, чем она кончилась.
«Великого доктора Кука» разоблачили его спутники-эскимосы. Кук считал их наивными дикарями. Но эскимосы неплохо разбирались в карте и великолепно ориентировались на льду. Они рассказали, что построили Куку хижину в 12 милях от одного из островов. Эскимосы сразу узнали тот снимок, под которым Кук написал: «На Северном полюсе». В действительности от хижины до полюса оставалось 900 километров!
Когда все это выяснилось, некоторые газеты объявили Кука «психологической загадкой». В самом деле, доктор прославил себя участием в полярных экспедициях, имел положение в обществе — и вдруг такой конфуз!
Какая там психологическая загадка! — возражали другие газеты. Просто этот ловкач Кук сумел захватить приз под самым носом у Пири, да еще заработать кучу денег лекциями и книжкой. А история с ученым Рассмусеном — тоже психологическая загадка? У этого Рассмусена где-то там, во льдах, не хватило продовольствия, и ему уже ничего не оставалось, как жевать лямки от собачьей упряжки. Но тут подвернулся доктор Кук. Он дал Рассмусену провизии в обмен на кучу голубых песцов, хорошо заработав на этом деле. А на обратном пути Кук нашел в хижине Рассмусена проданные этому простофиле продукты и сам же воспользовался ими!
Пири после победы на скачках к полюсу уже не путешествовал в Арктике. Он достиг своей цели. Его имя навсегда осталось в истории географических открытий.
Говорят, что Пири был больше спортсменом, чем ученым. Но он и не приписывал себе научных заслуг. В последнем походе к полюсу Пири пытался лишь измерить глубины океана. Однако во время многолетних разведок он выполнил немало важных исследований ледникового покрова Гренландии и дрейфа льдов в океане.
Наиболее известный портрет покорителя полюса необычен не только потому, что Пири снят в странном меховом костюме, делающем его похожим на «снежного человека». Необычно лицо победителя: усталый, безразличный, старый человек, у которого обвисли усы и потухли глаза…
На "острове метелей"
Деревенъка у Амура. — Неведомая Северная Земля. — «Капитан Боб» терпит аварию. — Случай в бухте Провидения. — Как Георгий Ушаков стал «умилеком». — Хитрый черт Тугнагако. — Знак у океана
Мне памятна далекая весна 1930 года.
Вместе с дипломом я получил назначение на Дальний Восток. Моя жизнь изыскателя должна была начаться на Амуре. Когда я приехал в Хабаровск, экспедиции уже готовились в путь. Несколько дней спустя пароход «Ильич» высадил нас у амурской казачьей станицы Михайло-Семеновской. Здесь каждый получил задание.
Мне предстояло начинать топографическую съемку возле деревни Лазаревой, потом перебраться в соседнее большое село Бабстово, через которое проходила знаменитая «колесуха» — бывший каторжный тракт, забытый и заросший.
Бабстово? Странное название. Оказалось, что село назвали в честь казачьего офицера Бабста. А казачий сотник Лазарев увековечил свою фамилию по соседству.
Большинство лазаревцев жило охотой. Охота в Приамурье тогда была фантастической: дикие фазаны забегали в лопухи за огородами и крик их, похожий и не похожий на петушиный, раздавался вдруг среди дремотной тишины. Да что фазаны! Возле лавки Дальторга видел я охотника со свежей, еще не выделанной шкурой тигра. У болот при дороге из Лазаревой в соседнее село водились свирепые кабаны. В таежных падях Даурского хребта били медведей. Коз лазаревцы стреляли, не соскакивая с седла.
В горнице, где я поселился, из украшенной бумажными розами рамки глядели усатые бравые казаки в мундирах Амурского войска. На стене висели шашки в потертых черных ножнах. Хозяин, старый, припадавший на правую ногу вояка, не считал меня стоящим человеком. Он видел, что в седле я сижу «как пес на заборе» — и это в краю, где мальчишек с четырех лет приучают к коню!
Потом старик немного оттаял, узнав, что я, выросший в городе, верхом езжу впервые в жизни и что Лазарева — первое место моей самостоятельной работы. Как-то мой хозяин упомянул, что хаживал в тайгу с Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. Я, понятно, набросился на старика с расспросами: какой же изыскатель не зачитывался «Дерсу Узала», чудесной книгой о следопыте уссурийской тайги? Но старик в ответ только невнятно бурчал: было похоже, что знаменитый путешественник за какие-то прегрешения отчислил его из экспедиции.
А не ходил ли с Арсеньевым еще кто из лазаревцев? Да, было дело, ходил парнишка Гошка Ушаков, только он сызмальства подался из родной деревни в Хабаровск и домой давненько не наведывался…
И вот четыре десятка лет спустя я сижу на Суворовском бульваре в здании, которое москвичи знают как Дом полярника. На его фасаде мемориальная доска: здесь жил выдающийся исследователь Арктики Георгий Алексеевич Ушаков.
Пока Ирина Александровна, вдова полярника, ворошит старые папки и перелистывает бумаги, я разглядываю кабинет. Шашка на стене, не простая казацкая, а в дорогих ножнах: трофей хозяина, в гражданскую войну воевавшего против белых. Акварельный рисунок угрюмого острова во льдах; это остров Ушакова, открытый во время знаменитой высокоширотной экспедиции «Садко», в которой участвовал Георгий Алексеевич. «Садко» побил тогда рекорд «Рузвельта», судна Пири, проникнув на север дальше его. Помню, с каким трепетом годом позже поднимался я на борт знаменитого судна, отправившегося в новую экспедицию и завернувшего ненадолго в гавань Диксона. Корабль был завален ящиками, частями разборного дома, баллонами, а в кают-компании рядом со стенгазетой «Сквозь льды» и голубой доской «Последних известий» висел рисунок острова Ушакова…
В кабинете масса книг. Вон Нансен, Лондон, Скотт… Часть книг вместе с хозяином путешествовала на собачьих упряжках, качалась в каютах кораблей ледового плавания. Их страницы сохранили следы тюленьего жира, копоти, сырости.
На полу огромный, по грудь человеку, глобус, подаренный исследователю за границей в тот год, когда он был уполномоченным правительственной комиссии по спасению челюскинцев, летал в их ледовый лагерь, вывез в Ном больноного начальника экспедиции Отто Юльевича Шмидта. Возле Северной Земли, исхоженной Ушаковым, на глобусе по-немецки написано ее прежнее название: Земля кайзера Николауса II.
Сквозь стеклянную дверь виден бивень мамонта, загромоздивший балкон. И еще моржовые клыки, охотничьи доспехи, медвежья шкура…
— А, вот, пожалуйста! — Ирина Александровна протягивает старую анкету. — Видите: «учился в Бабстовской школе». Значит, это действительно та самая Лазарева. И хозяин ваш говорил именно о Георгии Алексеевиче!
Подумать только: я встречался с Ушаковым и в Москве, и в Арктике, но никогда не заводил с ним разговора о его юности. А ведь, наверное, ему было бы приятно вспомнить свою Лазареву.
Правда, Георгий Алексеевич был удивительно неразговорчивым, и один острослов отозвался о нем так:
— Это был большой застенчивый человек, который, как мне показалось, все время порывался не сказать ни слова.
Да, он мало говорил и много делал. Главным подвигом его жизни, принесшим ему всемирную известность, было обследование необитаемой Северной Земли.
Этот полярный архипелаг, открытый экспедицией Северного Ледовитого океана в 1913 году, в канун долгих лет войн и разрухи, долго ждал исследователей. Лишь семнадцать лет спустя туда отправилась четверка отважных: начальник экспедиции Георгий Ушаков, геолог Николай Урванцев, радист Василий Ходов, охотник-промышленник Сергей Журавлев.
Первые дирижабли уже плавали тогда над Арктикой, и первые самолеты рисковали садиться на ледяные поля. Но нехоженую землю архипелага сначала нужно было просто разведать, протоптать первые тропы там, где еще не ступала нога человека. Разведать так, как это делали и в начале нынешнего века: пешком и на собачьих упряжках.
Экспедиция Ушакова провела на Северной Земле два года. Она исчертила архипелаг труднейшими санными маршрутами, уходя во тьму полярной ночи и в слякотную ростепель короткого полярного лета. Когда читаешь описание невероятно трудного семисоткилометрового похода Ушакова и Урванцева, невольно сравниваешь эту полярную одиссею со знаменитым походом Нансена и Йохансена по льдам на юг от неведомой Белой Земли. Это сравнение не умаляет подвига великого норвежца. Оно говорит лишь о том, что нашлись достойные продолжатели дела, прославившего Нансена.
Но полярная биография Георгия Алексеевича Ушакова началась не на Северной Земле. Странным образом она переплетается с судьбой Роберта Бартлетта, «капитана Боба», сопровождавшего Пири в походе к Северному полюсу.
Вот, коротко, как это случилось.
«Капитан Боб» остался верен Арктике. В 1914 году он командовал канадской шхуной «Карлук». Ее раздавили полярные льды. После многих бед потерпевшие кораблекрушение добрались до русского острова Врангеля, в те годы необитаемого. Некоторое время спустя их взяла на борт торговая шхуна.
У этой довольно обычной в Арктике истории было неожиданное продолжение. На остров Врангеля высадилась новая группа канадцев и стала там хозяйничать, а следом за ними туда же наведалась американская шхуна «Дональдсон».
Тогда Советское правительство послало к острову канонерку «Красный Октябрь». Год выдался очень тяжелый. Многолетние льды преграждали судну путь. Но опытный моряк Борис Владимирович Давыдов привел корабль к цели.
19 августа 1924 года над русским островом был торжественно поднят советский флаг, а незваных гостей выдворили прочь.
Однако и после рейса «Красного Октября» ни на Аляске, ни в Канаде не успокоились. Три американских судна пытались пробиться к острову Врангеля. Ходили слухи о новой канадской экспедиции. Значит, кто-то должен был срочно отправиться на остров, чтобы не только подтвердить, но в случае необходимости и защитить землю, над которой развевался красный флаг.
Борис Владимирович Давыдов умер вскоре после похода «Красного Октября». И вот среди моряков Владивостока пронесся слух: начальником второй экспедиции к острову Врангеля назначен какой-то Ушаков. Мальчишка, хотя и отрастил усы. Двадцать пять лет от роду, ни одного дня в Арктике.
Ответственное дело Ушакову поручили лишь потому, что он был коммунистом и храбро сражался в годы гражданской войны.
С самого начала возникли трудности. Не было пригодного судна. Повели переговоры о покупке шхуны «Мод», без дела стоявшей на якоре в Номе, на Аляске. Американцы дважды увеличивали цену, тянули с окончательным ответом, а потом прислали письмо: шхуна уже продана. Должно быть, в Номе узнали, для чего она понадобилась большевикам.
Кинулись ремонтировать старенький пароход «Ставрополь», хотя бывалые люди предупреждали, что его раздавит льдами, как раздавило «Карлука». Ремонтом занялся опытный полярный капитан Миловзоров. Ушаков тем временем поехал в Японию за недостающим научным оборудованием. На пути к японским берегам жандармы долго и нудно не то расспрашивали, не то допрашивали его. Интересовались родственниками до седьмого колена, допытывались, не воевал ли уважаемый господин большевик с подданными японского императора, а если воевал, то где именно и в рядах какого именно полка. Ушаков отмалчивался и отшучивался. Неожиданно его спросили:
— Есть бог или нет?
— Японские жандармы так хорошо осведомлены обо всем на свете, что, конечно, знают это лучше меня, — ответил Ушаков.
В порту Хакодате, где он ходил по магазинам, за ним тенью следовал шпик. Да и купцов заранее предупредили о визите большевика…
15 июля 1926 года «Ставрополь» покинул Владивосток. Особоуполномоченный по управлению островом Врангеля и соседним островом Геральд Георгий Ушаков имел под своим управлением лишь доктора Савенко с супругой. Остальных колонистов он должен был завербовать по дороге среди северных охотников.
В Петропавловске-на-Камчатке, куда «Ставрополь» зашел за углем, Ушаков встретился с охотником Скурихиным и предложил ему поехать на остров.
— Ладно, подумаю, — буркнул тот.
Ушакову не понравился расплывчатый ответ. Но несколько часов спустя громыхающая телега с домашним скарбом остановилась возле пароходного трапа. За это время Скури-хин успел пустить жильцов в свой домик, продать корову и вообще вполне подготовиться к долгой жизни на острове Врангеля с женой и дочкой.
Светлой летней ночью «Ставрополь» пришел в бухту Провидения. Едва Ушаков спрыгнул со шлюпки на сонный берег, как из стоявшей у воды эскимосской юрты выбежали две перепуганные девочки и понеслись по отмели. За ними следом выскочил старик. Он бежал, занеся над головой острый гарпун, каким эскимосы бьют морского зверя. Еще мгновение, и… Но тут Ушаков подставил эскимосу ногу.
Старик упал, тотчас вскочил и с гарпуном в бешенстве бросился на Ушакова. Тот стоял не шевелясь. Старик остановился, тяжело дыша. Занесенный для удара гарпун опустился.
— Ты всегда так делает? — прохрипел эскимос.
— Всегда, — спокойно ответил Ушаков.
Старик остывал.
— Может быть, ты хорошо делает, — произнес он.
Старого эскимоса звали Иерок. Девочки были его дочерьми. Бутылка спирта едва не привела к трагедии.
Иерок ушел. Ушаков заглядывал в юрты, знакомился, уговаривал эскимосов ехать на остров. Желающих не нашлось…
Утром к борту «Ставрополя» подошла кожаная байдарка. По трапу поднялся Иерок и подошел к Ушакову:
— Я хотел тебя заколоть, потом пошел в юрту, там сначала спал, потом думал, много думал, сильно думал. Ты хорошо сделал. Ты говорил, что всегда так делаешь. Я думаю: ты — хороший человек. Мне сказали: ты зовешь нас куда-то на остров. Я не знаю, где остров, но хочу с тобой поехать.
Между тем возбужденные эскимосы обсуждали важную новость: Иерок уходит на новые места с большевиком, который одним взглядом остановил занесенный для удара гарпун. Но раз такой уважаемый охотник решился, то чего же мешкать другим? И потянулись на «Ставрополь» молодые и старые с нехитрым скарбом. Это были бедняки. Однако с ними увязался и шаман Аналько.
Когда «Ставрополь» повернул к острову Врангеля, на борту корабля было уже пятьдесят пять будущих колонистов — русских, эскимосов, чукчей. Поехал с Ушаковым также учитель Иосиф Павлов, камчадал, женатый на эскимоске, прекрасно знающий языки и обычаи северных народов.
Капитан Миловзоров через узкие проходы в тяжелых льдах вел судно по Чукотскому морю. И настал день, когда дозорный крикнул из «вороньего гнезда» на мачте:
— Земля!
* * *
Когда я, собираясь писать о Георгии Алексеевиче, расспрашивал его друзей, полярный летчик, а ныне заслуженный пенсионер, сказал так:
— Знаете, что в нем было главным? Партийный человек. Коммунист с чистой совестью. Люди это чувствовали в нем, верили ему. И он верил людям.
В последние месяцы жизни — Георгий Алексеевич скончался в 1963 году — на его рабочем столе лежала рукопись «Остров метелей». Он вернулся к воспоминаниям молодости. Рукопись осталась неоконченной. С грустью думаю, что, быть может, мы так и не узнаем всех подробностей трех зимовок на острове Врангеля. Я видел в набросках плана книги пометки, сделанные рукой Георгия Алексеевича против некоторых дат: «Где дневник?»
Первые впечатления обычно самые сильные. И я искал в старых газетах, в журналах сорокалетней давности первые, самые свежие рассказы молодого Ушакова о пережитом на острове. Вот один из них, написанный сразу после возвращения на материк:
«Угрюмо встретил нас остров. Его суровый вид, плохая слава, безжизненность и могилы погибших оккупантов наводили на тяжелые мысли. Пароход «Ставрополь», завезший нас на остров, выгрузив продукты и снаряжение, 15 августа 1926 года покинул остров Врангеля. С этого дня всякая связь с материком была утеряна. В течение трех лет только один раз нас навестили гидропланы. Все эти три года мы были предоставлены самим себе и могли рассчитывать только на свои силы…
Полное незнакомство с необитаемым до нас островом, с его природой и условиями жизни сделало первый год существования колонии самым тяжелым».
Первый год…
Люди высадились на песчаной косе бухты Роджерса, красной в лучах незаходящего ночного солнца. Пока ставили палатки, пока усмиряли ездовых собак, яростно бросавшихся на невиданных «зверей» — коров, пока разжигали первые костры из плавника, Ушаков на маленьком самолете, который до поры до времени стоял на корме «Ставрополя», облетел свои владения. Летчик снижал самолет над бухтами, вел его вдоль речных долин, удивляясь, как неточны старые карты. Ушаков с любопытством и удовольствием разглядывал лежбища моржей. Надо будет сразу начинать охоту: ведь полярное лето, едва начавшись, уже кончается.
Когда на горизонте растаял дым покинувшего остров «Ставрополя», крепкий ветер нагнал густой лед. По движущимся льдинам можно было пробраться туда, где в отдалении слышался рев моржей, но никто не спешил рисковать жизнью.
А без мяса — голод.
Эскимосы выжидали, что будет делать «умилек». Так они прозвали Ушакова. Это слово означало и начальника, и вожака, и кормчего — вообще того, кто должен решать и кто за всех и за все в ответе.
Умилек мог приказывать. Но он предпочел убеждать. Убеждать терпеливо, словом и примером. Начал с Иерока:
— Иерок, у нас нет мяса.
— Да, умилек, у нас нет мяса.
— Надо ехать.
— Да, надо ехать.
— Почему же никто не едет?
— Видишь, как быстро гонит лед, какой плохой ветер. Они боятся.
— Но зима без мяса еще страшнее.
— Да, умилек, еще страшнее.
— А ты поедешь?
— С тобой поеду. А если мы с тобой скажем — надо ехать, они тоже поедут.
Ушаков взял ружье. Иерок — тоже. Вдвоем пошли к лодке. За ними, без лишних слов, — Павлов. За Павловым — еще пять смельчаков.
Моржи были у кромки ледового пояса. Льдины вздымались на штормовой волне. Одна перевернулась возле лодки. Вода забурлила воронкой, снова вытолкнула ледяной столб, который тут же с треском и звоном рухнул набок, обдав охотников каскадом брызг.
Недаром, однако, Иерок считался лучшим рулевым побережья. Он вывел лодку к лежбищу. Залп. Две огромные туши остались на льдине. Но смелым выходом в бурное море Ушаков добился гораздо большего: в охоте на моржей его молчаливо признали равным эскимосу. Охотники увидели, что русский начальник не прячется за спины других, а первым идет туда, где опасно.
Он закрепил свое право быть умилеком. Он, по общему признанию, «умел жить». Эскимосы, язык которых не знает бранных слов, в гневе произносят лишь одно крайне оскорбительное выражение: «Клахито пых ляхе» (слабый, не умеющий жить).
От первой победы иногда далеко до окончательной. Ушаков и Павлов понимали, что для удачи промысла не надо всем тесниться у бухты Роджерса. Остров велик. Нет зверя в одном месте — ищи в другом. И Ушаков разведал новые лежбища моржей.
Но никто не захотел переселиться туда, в другую часть острова. Почему?
Потому, видите ли, что там места уже заняты. Кем же? Чертом Тугнагако.
Этот Тугнагако хитрый черт. Может, умилек помнит: некоторые эскимосы мазали лицо сажей, перед тем как садиться на корабль? Они хотели обмануть Тугнагако. Пусть он думает, что уезжают какие-то черные люди, а вовсе не эскимосы. Да разве его проведешь! Шаман Аналько сам видел Тугнагако там, где умилек хочет поселить людей. А с чертом шутки плохи! Он бы и в бухте Роджерса натворил бед, да, видно, побаивается большевика…
Ушаков убеждал, доказывал, высмеивал робких, пытался сыграть на самолюбии храброго Иерока — все тщетно. А показать пример, бросить надолго поселок и переселиться на новое место он не мог. Так победил черт Тугнагако…
Расплата за суеверия пришла в темную пору, когда лютовали шестидесятиградусные морозы, когда остров хлестали метели и об охоте нечего было и думать. Люди еще обходились без мяса, но собаки не ели вареный рис и дохли одна за другой.
Ушаков, Иерок, Павлов и молодой эскимос Таян погнали упряжки на север. Медвежьи следы неизменно приводили к опасно тонкой перемычке молодого льда, сильно подмываемой течением.
Так было раз, и два, и три. Наконец Ушаков рискнул — и тотчас провалился по плечи. Быстрое течение тянуло его под лед.
— Держись, умилек!
Таян бросился к нему, вытащил, но тут же провалился сам. Молниеносно выхватив нож, эскимос по рукоятку воткнул его в лед и держался, пока Ушаков полз к нему. Едва Таян оказался на льду, как снова провалился Ушаков. Выручая друг друга, оба проваливались снова и снова…
Ушаков слег с тяжелейшим воспалением почек. Именно от этой болезни погибли на острове два спутника капитана Бартлетта. В полубреду Ушаков слушал вой пурги. Ему мерещились зеленые дальневосточные дубняки и крик фазанов. Очнувшись, он видел лицо Иерока.
— Умилек, умирай не надо.
Ушаков вспоминал потом: привязанность к эскимосам, сознание, что нельзя их оставить на произвол судьбы, оторванными от мира, больше всего заставляли его цепляться за жизнь.
Испытания тяжелой зимы свалили с ног Иерока. Больной Ушаков приплелся в его юрту. Старик бредил, звал умилека на охоту, мешая русские и эскимосские слова:
— А, умилек… Компания… Таяна мы возьмем… Сыглагок… Сыглагок…
Сидя возле умирающего друга, Ушаков вспоминал, как в темную бурную ночь, заставшую его с Таяном в море, Иерок собрал людей на помощь. Сколько раз они вместе охотились, сколько долгих вечеров провели в разговорах возле чадной жировой лампы…
В полночь Иерок умер.
Черт свалил с ног большевика. Черт забрал Иерока. К Ушакову, у которого снова обострилась болезнь, пришел встревоженный Павлов: эскимосы хотят по льду уйти на материк, говорят, что на острове им не будет житья от злого Тугнагако.
Уйти, не зная дороги? Уйти почти на верную гибель?
Ушаков созвал охотников, уговаривал выйти на промысел. Эскимосы качали головой: черт не даст зверя.
Тогда Ушаков встал, пошатываясь, и велел запрягать собак.
— Поеду драться с Тугнагако. И привезу мясо. Вам будет стыдно, женщины станут смеяться над охотниками.
Он тронул упряжку, оглянулся, веря, что кто-нибудь, хоть один человек, пойдет за ним. Но люди стояли скованные страхом.
Через четыре часа мучительной езды, когда Ушаков едва не терял сознание от боли в пояснице, собаки вынесли упряжку на свежий медвежий след. Ушаков уложил зверя с первого выстрела. Он свежевал добычу, обливаясь холодным потом и падая в снег от головокружения. Уложив в санки часть мяса, больной пустил упряжку по старому следу.
Он очнулся на третий день у себя дома и не мог вспомнить, как добрался до поселка. У постели толпились эскимосы, и сколько радости, тепла, ласки было на их лицах, когда они увидели, что больной открыл глаза.
Умилек победил черта. Больной большевик оказался сильнее Тугнагако, отнял у него жирного, вкусного медведя. С этого дня тому, кто заикался о бегстве на материк, стали говорить, что он не умеет жить…
* * *
В ночь на 28 августа 1929 года ледорез «Литке» после многих попыток пробился к бухте Роджерс с помятым корпусом и изрядной течью. На борту была смена зимовщиков во главе с полярником Арефом Ивановичем Минеевым. Они с изумлением и интересом вглядывались в загорелые, здоровые лица старожилов, которые провели на острове Врангеля три года.
— Грех жаловаться, хотя временами было трудновато, — коротко ответил Ушаков на расспросы.
На палубу «Литке» поднялось всего шестеро. Ни один эскимос не захотел покинуть процветающую колонию, и, наверное, это было еще важнее, чем уточнение карты, чем дневники метеорологических наблюдений, чем отчеты о трехлетием изучении острова.
Может быть, читателю покажется, что в рассказе о черте Тугнагако, о суевериях эскимосов сгущены краски? Ведь в любой библиотеке можно взять сегодня книги писателя чукчи Юрия Рытхэу; эскимосский певец и танцор Нутетеин выступает в столичных концертах; на острове Врангеля богатый оленеводческий совхоз, неподалеку, на Чукотке, — атомная электростанция…
Но не потому ли все это и стало возможным, что люди, подобные Георгию Алексеевичу Ушакову, проникая в самые глухие места, были не только отважными путешественниками. Они думали не о славе, а о том, чтобы нелепости полудикой жизни отсталых народов канули в прошлое, чтобы люди стали добрее, смелее, счастливее.
На Северной Земле, там, где когда-то впервые высадилась экспедиция Ушакова, стоит гидрографический знак — усеченная пирамида из камня и бетона. Ее хорошо видно с кораблей, идущих полярной океанской дорогой. Но это не просто путевой знак для мореходов. Это памятник.
В нем замурована урна с прахом Георгия Алексеевича Ушакова. Друзья выполнили его последнюю волю. Он хотел остаться в Арктике, которой отдал жизнь.
Иностранец в Нью-Йорке
Конечно, Нью-Йорк — это не вся Америка, но трудно понять Америку, не зная ее самого большого города.
В этой части книги — рассказы о Нью-Йорке и нью-йорцах. О том, как они живут, как работают, что любят и что не любят, чем гордятся, над чем смеются…
Вы узнаете также о достопримечательностях Нью-Йорка. А потом об одной улице этого города. Об одной, но зато подробно: о ее магазинах, гостиницах, кафетериях, кинотеатрах, школах, об уличных нравах.
«Америка выбирает», «Америка убивает»…, Через эти главы книги проходит история президента Джона Кеннеди. Многие обстоятельства его убийства остаются загадкой до сих пор. Но особенности политической и общественной жизни Америки позволяют понять, почему там возможны чудовищные преступления и неслыханные аферы, почему в тени великолепных сверкающих небоскребов сохраняется нищета, почему насилие, расовое неравенство, духовное убожество остаются бедой и позором Америки.
Кто иностранец?
«Весь Нью-Йорк». — Спускаемся под землю. — Две статуи Свободы. — Улица стены. — Среди «быков» и «медведей». — «Черные понедельники», «черные пятницы». — Мистер Ричардс, «народный капиталист». — Со сто второго этажа. — Что же такое Манхэттен?
Незадолго до встречи нового, 1971 года мой давний знакомый журналист Олег Николаевич Прудков вернулся из Нью-Йорка. Он ездил туда на юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Мне было интересно послушать заокеанские новости.
— Не знаю, с чего начать, — сказал Олег Николаевич. — Нью-Йорк кое-где меняется быстро, некоторые улицы трудно узнать. А на других все по-старому. Ну конечно, новые модели машин: меньше, но мощнее. Новые моды: длинные юбки вместо «мини». Новые цены — все дорожает год от года. Не помните, сколько вы платили за проезд в метро?
— Пятнадцать центов, если не ошибаюсь.
— Вот видите. А в семидесятом году повысили до тридцати. И так во всем. Что же касается главного… Парней по-прежнему гонят во Вьетнам. Как с преступностью, вы знаете из газет. Между прочим, меня самого обчистили дважды: фотоаппарат, потом разную мелочь из номера. Вы слышали, конечно, что у Софи Лорен отняли все драгоценности? Приехала в Нью-Йорк на премьеру своего фильма, остановилась в роскошной гостинице — и вот пожалуйста… Но вы все это знаете из газет — чего же рассказывать?
— Ладно, а какую визу дали вам американцы? Я ведь ездил с «Си-два».
— «Си-два»? И у меня была она же. Тут все по-старому.
— Ну, а Сорок вторая улица? Как отель «Тюдор»? Мне говорили, его вот-вот снесут.
— Стоит себе по-прежнему, только цены подскочили. И здорово подскочили, надо вам сказать. А Сорок вторая… Прибавилось домов и машин, слава прежняя.
Я расспрашивал своего друга долго и с пристрастием. Да, кое-что переменилось. Улицы стали красивее, нравы — хуже. Магазины — роскошнее, товары — дороже. Дома — всё выше, и квартирная плата — тоже. Есть, разумеется, и перемены к лучшему. Но все главные болезни, неурядицы, чудовищные контрасты огромного города углубляются, его жестокость и равнодушие растут.
Прожив некоторое время за океаном, я написал книгу «Иностранец в Нью-Йорке». Дополняю теперь отрывки из нее рассказами людей, только что вернувшихся из Америки, а также новыми фактами из американских газет и журналов.
Итак, об иностранце в Нью-Йорке.
* * *
Иностранец в Нью-Йорке — это я.
Три осени прожив здесь на одной и той же улице, в одной и той же гостинице, раскланиваюсь при встрече со знакомыми:
— Как поживаете?
— Превосходно, благодарю вас!
Американец ответит «превосходно» и улыбнется, даже если вы встретили его возвращающимся с кладбища. Так принято. Так все делают. Надо выглядеть бодрым и преуспевающим.
Я привык к Нью-Йорку. Вернее, приспособился к нему настолько, насколько это вообще возможно для иностранца, да еще не просто из другой страны, а из другого мира.
Мне позволяли приехать в Америку на то время, пока в Нью-Йорке работает Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Американское посольство в Москве ставило в моем заграничном паспорте штамп и печать с орлом.
Однако моя виза была особенной. Ее называли «Си-два». С этой визой я не мог жить в Нью-Йорке там, где мне заблагорассудится. Тем более я не имел права съездить в какой-нибудь другой американский город. Я не должен был нарушать границы отведенного визой «Си-два» прямоугольника посередине острова Манхэттен.
Это тот остров, где первые поселенцы будущего Нью-Йорка построили когда-то первые хижины. Теперь здесь центр города. Остальной Нью-Йорк занял другие большие острова в дельте реки Гудзон, а также часть материкового берега.
На Манхэттене живет меньше четверти всех нью-йоркцев. Но именно на этом острове самые лучшие улицы города. Здесь самые высокие небоскребы. Здесь самые богатые банки, самые роскошные магазины, все главные нью-йоркские достопримечательности.
Бродвей? На Манхэттене. Уолл-стрит? Тут же. Эмпайр стейт билдинг, высочайшее в мире здание? Пожалуйста. Статуя Свободы? Она, правда, не на Манхэттене, но на маленьком островке неподалеку от него.
В общем, Манхэттен — парадная приемная или гостиная города. Два года я не имел права покидать ее пределы.
На третий год американский «дядюшка Сэм» подобрел. Мне разрешили передвигаться по земле и под землей по всему Нью-Йорку и его окрестностям уже в радиусе двадцати пяти миль от зданий штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Я смог побывать на окраинах, где Нью-Йорк совсем не похож на тот Нью-Йорк, который все знают хотя бы по снимкам. Какие уж там небоскребы! Увидел я районы, похожие на центр Манхэттена не больше, чем деревня папуасов — на Белый дом, натыкался на искусно замаскированную бедность.
Есть несколько главных маршрутов для знакомства с Соединенными Штатами. Гончие автобусы, грохочущие экспрессы, реактивные самолеты возят по ним группы путешествующих «вопросительных знаков» или «каучуковых шей», как прозвали туристов, вертящих головой вправо и влево вслед за указкой экскурсовода.
— Эти маршруты одинаковы для пастора из штата Аризона, для владельца ранчо в Техасе, итальянского коммивояжера, аргентинского торговца, японского промышленника. И так же как зарубежные туристы, свои «каучуковые шеи» по программе всех маршрутов непременно проводят в Нью-Йорке пятую, а то и третью часть времени.
В Нью-Йорке их поднимают на сто второй этаж Эмпайр стейт билдинга, везут в штаб-квартиру ООН, а оттуда — в мюзик-холл. Потом Уолл-стрит, биржа, площадь Баттери, статуя Свободы.
Это и есть «весь Нью-Йорк».
В любом киоске продают специальную «Карту Нью-Йорка для приезжих». Однако Нью-Йорка на ней нет. Есть подробный план южной части Манхэттена. На обороте — столь же подробный план центральной части острова. Остальной Манхэттен — на мелкомасштабной общей карте. А самым большим районам города вообще нашлось местечко лишь в уголке, где на маленькую схему далеко не каждый обратит внимание.
В свободные часы я добросовестно объездил все места, которые показывают «каучуковым шеям», и дальше расскажу прежде всего о том, чем в Нью-Йорке гордятся сами американцы. Расскажу о том, что они сами считают наиболее привлекательным в этом городе и что охотнее всего показывают иностранцам.
А потом постараюсь подробнее описать жизнь одной, всего только одной улицы Манхэттена, по которой я ходил изо дня в день, на которой обедал в кафетерии, покупал газету в киоске на углу, работал в читальном зале библиотеки. Опишу жизнь этой улицы такой, какой представляется она иностранцу, не имеющему американского дядюшки-миллионера и скромно живущему на свои командировочные доллары.
— Ай эм э форина… Я иностранец…
Давно привыкнув произносить это, когда у тебя спрашивают адрес ближайшей недорогой гостиницы или когда пьяный пытается выяснить твое мнение о друге, надувшем его самым бессовестным образом, я долго не ощущал внутреннего смысла фразы: «Я иностранец».
Я иностранец? Конечно же. Самый настоящий иностранец на чужих нью-йоркских улицах. Такой же, какими были для меня люди с чужим языком и чужими паспортами на моих родных улицах.
Но когда узнал я само слово «иностранец»? Что слышалось мне в нем?
Может быть, так называли Франца? Это было давно, сразу после той, царской войны. Франц был пленным австрийцем. Их было много в Сибири, в моем родном Красноярске. Большинство вернулось потом домой. Франц остался. Он женился на Марии Васильевне, у которой был свой домик в конце нашего переулка, над обрывом у речки Качи. Многие завидовали Марии Васильевне: муж не пил, хотя и был сапожником, тогда как, по глубокому убеждению обывателей, все сапожники горькие пьяницы. По вечерам, надев галстук, Франц под руку с Марией Васильевной, которая была выше его на голову, направлялся в кино «Арс». Нет, Франц был свой, никто не называл его иностранцем!
Иностранцы пришли с Колчаком. В городском саду французский офицер стоял возле фонтана, где цвела черемуха, какой-то весь легкий, мальчишески подвижный, с черными усами. Голубоватая накидка, смешная шапочка, похожая на детскую, только с длинным козырьком и кокардой. На мундире — разноцветные ленточки; у нас не знали тогда, что это вместо орденов.
Кроме французов, были итальянцы. С тех пор в городе старые казармы на Плацпарадной площади еще долго называли итальянскими. Итальянцы вместе с белогвардейцами ходили в карательные экспедиции.
В городе шепотом передавали имена расстрелянных в тюрьме большевиков. Этих людей хорошо знали; один из них был детским врачом, он бывал у нас дома, и я долго не мог запомнить странную его фамилию: Маерчак. Говорили, что колчаковцы расстреляли заложников по требованию иностранного командования.
Много чужих мундиров повидали красноярские мальчишки в гражданскую войну, но американских среди них не помню. Американцы были дальше, на востоке, до Красноярска их отряды не доходили.
С годами было найдено много архивных документов и написаны книги об иностранной интервенции в Сибири. Мы знаем, что кровавый адмирал Колчак, прежде чем стать «верховным правителем», бывал в Соединенных Штатах. Знаем, что американские фирмы щедро посылали Колчаку пушки и сахар, винтовки и мундиры, паровозы и теплое белье, что нью-йоркский Сити-банк давал Колчаку займы под сибирские богатства.
Но в те же годы американские рабочие хотели послать нам добровольцев для борьбы против белогвардейцев. В Нью-Йорке действовала «Лига друзей Советской России». На митингах рабочая Америка требовала отозвать войска интервентов из Сибири. В первомайские дни 1919 года во многих американских городах полиция разгоняла демонстрантов, вышедших на улицы с плакатами: «Руки прочь от Советской России!»
Американцы покинули Сибирь раньше японцев. Красная Армия захватила у отступавших колчаковцев много добра, присланного из-за океана. Нам, ребятишкам, выдавали иногда белые с синими буквами банки сгущенного молока. Были еще американские солдатские ботинки с подковками. Я носил их сначала с двумя портянками, потом с одной. Затем они стали мне совершенно впору на один носок. Так и вырос в них, не износив.
Какой же казалась нам тогда Америка? У нас, сибирских мальчишек, были о ней книжные представления. Америка — это машины, небоскребы, подземные и надземные железные дороги, прерии и индейцы, Томас Альва Эдисон, который может изобрести все на свете, президент, пожимающий руки всем желающим.
Америка возбуждала детское воображение: герои Майн Рида и Брет-Гарта, страна, выбранная Жюлем Верном для посылки снаряда из пушки на Луну. Правда, в школе мы читали «Без языка» Короленко, а потом и горьковский «Город желтого дьявола». Однако у нас уже не вызывал полного сочувствия Матвей Лозинский, короленковский «дикарь» в Нью-Йорке. Вокруг ломался привычный уклад провинциальной Сибири, все более ценились живой ум, начитанность, сметка, деловитость, технические знания.
В нашей школе «американцами» прозывали ребят, которые возились с самодельными батареями элементов Лекланше, проводили звонки в квартирах, читали журнал «Хочу все знать» и готовились «учиться на инженера». Кличку «американец» получил также приехавший на лесозавод инженер-москвич. Он курил трубку, носил шляпу и гулял по городу с собакой. «Американцем» прозвали и паровозного машиниста, добродушного атлета Декало, городского чемпиона по толканию ядра. Его-то почему? Да потому, что он вечно носился с какими-то изобретениями и умел обращаться с логарифмической линейкой.
Потом, немного повзрослев, мы стали заочно узнавать другую Америку — страну Синклера и Драйзера. Это была жестокая Америка. Фрэнк Каупервуд, безжалостный финансист, заслонил образы жюль-верновских эксцентричных чудаков. И постепенно прозвище «американец» исчезло из обихода, его определяли уже не только увлеченность техникой и деловитость…
Я упоминал уже, что весной 1930 года начал работать изыскателем на Дальнем Востоке. Как-то мне понадобилось пересечь заболоченную пустынную низменность, простиравшуюся вдоль берега Амура. Я поехал верхом, по молодости и глупости пытался спрямить путь в незнакомой местности и забрался в непроходимые трясины — их называли зыбунами. Хлеба у меня не было. Два дня я сосал из пузырьков рыбий жир для смазки болотных сапог, прежде чем неожиданно набрел на какую-то дорогу. Она сильно размокла после недавнего дождя. В жидкое месиво были навалены жерди.
Вдруг конь насторожился. На дальнем бугре — здесь такой называют рёлкой — показался грузовик. За ним — второй, третий.
Куда они?! Ведь застрянут же! И я стал размахивать руками, показывая шоферам на трясину.
Но тут конь испуганно рванулся в сторону, едва не сбросив меня в грязь. Машины, вместо того чтобы остановиться, еще пуще взревели моторами и перелетели через гать.
Вскоре на дороге показалась подвода. Я спросил у возчика, где поселок. Оказалось, что верстах в сорока.
— Вон американцы как раз туда и подались, дуй за ними! — посоветовал возчик.
— Американцы?!
— Они. Переселились, вишь, сюда, чтобы комаров кормить. Но и то сказать, ездят как черти.
Возчик дал мне хлеба и теплого желтоватого сала, завернутого в тряпку. Крупная соль хрустела на зубах.
— Это которым в Америке не по нутру, — продолжал возчик. — С женами, с ребятами. «Гуд» — это по-ихнему «хорошо». Машины из Америки привезли. Ох и ловки же они на машинах!
Потом я не раз видел на Амуре переселенцев из-за океана. Стеснительность мешала мне поближе познакомиться с этими людьми и порасспросить их — некоторые знали русский. Я лишь любовался, как лихо и умело они водят машины, как уверенно разбираются в моторах. Был в них какой-то технический шик, что ли, та слитность с техникой, которая позднее пришла и к нам.
Тогда, на берегу Амура, я завидовал парням в ладных синих комбинезонах. А миллионы таких же ловких парней, оставшихся за океаном, завидовали мне и моим соотечественникам. Их страну давил печально-знаменитый кризис, самый долгий в истории Соединенных Штатов, когда каждый четвертый американец оказался без работы.
У нас в это время куплетисты перед началом сеансов в кино еще пели популярные тогда «Кирпичики»:
К как водится, безработица По заводу ударила вдруг: Сенька вылетел, а за ним и я И еще двести семьдесят душ….Но уже закрывались последние биржи труда, в объявлениях мелькало все чаще: «требуются», «требуются», «требуются»…
Я вернулся с Дальнего Востока в Сибирь: под Красноярском затевались большие дела, работы изыскателям хватало. Шла первая пятилетка. В страну приглашали иностранных специалистов. Боже мой, как с ними возились: отдельные столовые, хорошие квартиры, особые магазины «Торгсин», где им продавалось всё, что душе угодно! И господа эти пытались даже устанавливать свои порядки. Газеты писали тогда со стройки тракторного завода: американца Роберта Робинсона травят другие американцы за то, что у Робинсона черная кожа. Негр Робинсон сдал в посольство американский паспорт, получил у нас советский.
…Летом 1970 года я познакомился в Волгограде с белым американцем, который приехал вместе с Робинсоном. Фрэнк Бруно Хоней, американский коммунист, сорок лет назад тоже остался в нашей стране. Всю жизнь он проработал на тракторном заводе приволжского города. Все называют его Франком Бруновичем. Хоней нашел у нас вторую родину. Он вспоминал, как в далекий год рождения тракторного завода американские тракторостроители прислали советским красное знамя.
После Отечественной войны на улицах наших городов появились близкие нам иностранцы: болгары, поляки, чехи…
Потом пришло время, когда мы — не дипломаты, не члены делегаций, не представители комиссий по закупкам кофе или кожи, а просто граждане своей страны — стали получать заграничные паспорта, ездить по белу свету, своими глазами смотреть жизнь за рубежом. Начал и я колесить по материкам и странам.
— Ай эм э форина!.. Я иностранец!..
Иностранец, который, первый раз попав в Нью-Йорк, был уверен, что ему, в общем, удалось быстро понять этот город. Иностранец, который, приехав сюда третий раз, был сильно озадачен тем, что, кажется, он стал понимать теперь гораздо меньше, чем при втором знакомстве с городом. Иностранец, который, однако, был тут же несколько утешен другим иностранцем, своим соотечественником и коллегой:
— Дорогой мой, я здесь одиннадцатый раз, жил подолгу, знаю уйму людей, могу по особенностям произношения определить, откуда мой собеседник родом — с юга он или северянин — и как давно живет в Нью-Йорке. Но разве я могу сказать, что знаю и понимаю этот огромный, сложный город? Так что же хотите вы в третий ваш приезд?
— Да, все это верно. Но как же тогда прикажете писать о Нью-Йорке?
— Не с ученым видом знатока, во всяком случае. И, если можно, не на основе сведений, которые сообщает вам неизменный шофер такси — знаете, этакий словоохотливый шофер-энциклопедист в клетчатой кепке или в сдвинутой на затылок шляпе… Смотрите, наблюдайте — и одновременно копайтесь хорошенько в солидной прессе, вдумывайтесь в то, что американцы пишут о себе для себя, не на вынос…
— Ладно, — сказал я. — Спасибо за совет. Попробую… Но с чего начать, как вы думаете?
— Да с чего хотите. Ну вот, в Москве как у вас начинается день? Вы вышли из дому, а потом?
— Потом? Потом иду к метро.
— Так начните и в Нью-Йорке с метро. Вот, значит, вы вышли из гостиницы, идете к метро…
Увидев надпись «Сабвей», столь же привычную нью-йоркцу, как москвичу привычна неоновая буква «М», вы спускаетесь по ступеням крутой лестницы к кассе, получаете крохотную металлическую кругляшку и суете ее в щель у прохода к поездам. Теперь надо покрепче налечь животом на толстую металлическую или деревянную перекладину турникета. Посопротивлявшись немного, она пропускает вас на перрон.
Только очень самонадеянный человек или чемпион бокса рискнет без крайней надобности спускаться в сабвей, в нью-йоркское метро, в те часы, когда люди едут на работу и с работы. Я попробовал однажды и потом долго искал в магазинах подходящие пуговицы взамен двух оторванных.
В обычные же часы сабвей не балует разнообразием впечатлений. Станции старых линий тесны, воздух насыщен запахами перегретого машинного масла и человеческого пота. Ощущение такое, будто строители забастовали, не докончив своего дела. Пришлось наспех заклеивать щербатые стены рекламными картинками, а бетон унылых серых подпорок скрашивать яркими автоматами, откуда в ответ на призывный звон монетки выскакивают пачки сигарет, жевательная резинка, дешевые сласти.
Вагоны бросает из стороны в сторону. Разговаривать не легко: попробуй-ка перекричать визг и скрежет железа, превосходящий тот, что оглушает пассажиров трамвая на крутых поворотах старых московских переулков. Читать тоже трудно. Те, у кого газеты, лишь пробегают глазами крупные заголовки. Остальные меланхолически жуют резинку и привычно разглядывают плакаты на стенах: «Сиденья не для того, чтобы ставить на них ноги» и «Будь рыцарем хоть на день» — то есть уступи место женщине или старику.
Майкл, мой спутник, обливается потом. Ему всегда жарко, и я почти уверен, что, попади он на Северный полюс, рука его прежде всего потянется в карман за аккуратно сложенным вчетверо платком, чтобы по привычке промакнуть им лоб.
— Нью-Йорк имеет сабвей с прошлого века! — кричит мне Майкл. — Это старая линия!
Я киваю. Мне давно известно, что нью-йоркцы не гордятся своим метро. Майкл замечает, что одно время поговаривали, будто в вагоны станут подавать охлажденный чистый воздух и при этом повысят плату за проезд, хотя она и так повышалась уже не один раз. Но потом было объявлено, что с вентиляцией все остается по-старому. И с платой тоже. Пока. А там видно будет.
Прокричав все это, он замолкает, обессиленный. Впрочем, я и сам начитался всякой всячины об устаревшем подземном хозяйстве. В тоннелях не раз были пожары. Как-то под кварталами Нижнего Манхэттена столкнулись поезда: из сорока раненых двоих увезли в безнадежном состоянии.
«Унион-сквер!» — рычит невидимый репродуктор.
На этой станции пересекаются подземные линии, и в вагон втискивается упругая толпа. Я хватаюсь за ручку у окна. Майкла прижимают к стойке.
— Однажды в вагоне сабвея возвращался сам Ротшильд с приятелем, тоже миллионером, — говорит Майкл, и лицо его становится очень серьезным. — Они стоят, втиснутые в угол, и вот приятель Ротшильда видит…
Я не слышу, что именно увидел приятель Ротшильда.
— Майкл, доскажете, когда поднимемся наверх, хорошо?
Мой знакомый начинен забавными историями. Он считает, что мне нужно знать, над чем смеются американцы: юмор — душа народа.
Мы с Майклом встречаемся не очень часто: наши свободные часы редко совпадают. Он работает в небольшой библиотеке на окраине Нью-Йорка. Майкл отлично знает русский и делает переводы для журналов. Детей у него нет, он не женат и живет с больной сестрой.
Майкл высок, грузен, почти толст. Мне кажется, что если ему надеть старинные очки и вместо пиджака обрядить в старинный фрак, то в нем обнаружится сходство с Пьером Безуховым.
Пока вагоны подземки, дергаясь, скрежеща и вынуждая нас к молчанию, бегут от станции к станции, давайте уточним кое-что из истории с географией.
Мы едем к южной оконечности острова Манхэттен. В городском музее есть гравюра первого голландского поселения на этом месте: стены основанного в 1626 году форта Новый Амстердам, ветряная мельница. На другой гравюре — лодка с индейцами, украшенными перьями. Навстречу ей — шлюпка с купцами и воинами. Весь остров поселенцы хитро и ловко купили у индейцев за бесценок, положив начало бизнесу, на тех же моральных устоях процветающему здесь и поныне.
Но до того как индейцы-ирокезы в память о сделке назвали остров на своем языке «Манхэттен», что в вольном переводе означает «нас надули», были и другие события. История сохранила нам имена Веррацано и Гудзона.
Синьор Джованни Веррацано, флорентинец на французской службе, промышлял пиратством. Он кончил дни на виселице: испанцы не простили ему захвата кораблей с сокровищами, награбленными Кортесом в Мексике. Веррацано был первым европейцем, вошедшим в 1524 году в устье неизвестной большой реки, в водах которой отражаются сегодня небоскребы Манхэттена.
Этой реке дал свое имя Генри Гудзон, желчный капитан, плохо ладивший с экипажем. На корабле голландской Ост-Индской компании он искал северный путь для торговли с Азией и принял было реку за желанный пролив.
Итак, основателями Нью-Йорка были голландцы. Как они выглядели, можно увидеть и сегодня: их восковые фигуры в коричневых куртках и шляпах начала XVII века выставляются для рекламы в окнах некоторых пивных и ресторанов.
Американский писатель Вашингтон Ирвинг в начале прошлого века выпустил сатирическую «Историю Нью-Йорка», написанную от имени некоего Дитриха Никербокера. Книга имела успех. Писатель признавался потом, как он был изумлен, узнав, что только из его повествования большинство нью-йоркцев впервые услышали о голландском происхождении своего города. «Папаша Никербокер» стал чуть не символом Нью-Йорка.
За Манхэттен голландцы выложили в 1626 году шестьдесят гульденов. Это двадцать четыре доллара. Долларов тогда не было, но эту сумму определили финансисты, легко переводящие в доллары любую валюту любых времен, включая виски, бусы или бруски соли, заменявшие деньги некоторым африканским племенам.
Сейчас в центральных районах Манхэттена квадратный метр земли стоит в сотни раз дороже, чем было заплачено за весь остров. Однако потомки удачливого голландца не получают никаких процентов с покупки своего предка: в 1664 году полторы тысячи жителей городка вынуждены были сдаться англичанам, основывавшим в Америке свои колонии. Им понравилось расположение Нового Амстердама. Оставив первую часть его названия, англичане присоединили к ней имя герцога Йоркского. Городок стал Нью-Йорком, а потом…
— «Баттери»! — врывается в вагонный грохот голос кондуктора.
Стоп, приехали. Прервем на некоторое время нашу экскурсию в историю и определим свои географические координаты.
Манхэттен сильно вытянут по меридиану. С одной стороны его омывает широкий Гудзон, с другой — проток Ист-ривер (Восточная река). Поезд сабвея примчался из северной части острова — оттуда, где узкий проток отделяет его от материка, — к самой южной окраине, обращенной в океан.
Поднимаемся по ступеням станции «Баттери» — эскалаторов тут нет.
— Так вот, — продолжает Майкл прерванный рассказ. — Приятель Ротшильда, тоже миллионер, видит, что какой-то оборванец, воспользовавшись теснотой в вагоне, осторожно вытягивает из кармана Ротшильдова пиджака великолепный шелковый платок. Приятель подталкивает Ротшильда локтем: смотрите, мол, воришка! Но Ротшильд шепчет ему потихоньку, чтобы не спугнуть оборванца: «Оставьте, Гарри, его в покое. Мы ведь тоже начинали с малого».
Когда Майкл рассказывает забавные истории, лицо его остается серьезным и даже озабоченным. Улыбка портит рассказчику все дело. Смеяться должны только слушатели.
Мы вышли из сабвея на улицу. Что за чудо! Воздух, настоящий воздух вместо обычной смеси газов, выброшенных множеством автомобилей. Воздух вместо «смога» — грязного и ядовитого тумана, порой окутывающего улицы. Рассказывают же о нью-йоркце, который, приехав в маленький горный городок, не понимал, как это люди могут дышать чистым воздухом. Он чувствовал себя совершенно выбитым из колеи до тех пор, пока не припал носом к выхлопной трубе грузовика и надышался привычными газами…
Преувеличение? Но вот что говорят химики. Каждый день гигантский город отравляет свой воздух тремя тысячами тонн двуокиси серы, четырьмя тысячами тонн окиси углерода, углекислого газа и других ядовитых веществ. К этому надо добавить пыль. Летом 1970 года дошло до того, что мэр города предупредил: если не подует ветер, придется ввести чрезвычайное положение и остановить в центре города весь автомобильный транспорт, кроме автобусов.
Теперь вы понимаете, почему нью-йоркцы ездят в Баттери. Окраину Манхэттена продувает ветер с океана. Он приносит йодистые запахи водорослей и свежесть морской воды. В просвете улицы очерчивается силуэт трехтрубного океанского гиганта, белого и солнечного даже в хмурый день. Корабль уходит навстречу осенним штормам, к далекой Европе.
У берега приткнулись портовые толкачи-буксиры. Их пеньковые кранцы разлохматились, словно борода Нептуна. Улицы заканчиваются длинными причалами.
— Один из крупнейших портов мира. Больше тысячи кораблей в месяц, любые грузы от устриц до локомотивов, — с гордостью говорит Майкл, описывая круг рукой. И, как бы спохватившись, добавляет: — Когда порт бастует, лихорадит весь город.
Трудно сказать, как Майкл относится к нашей стране. Пожалуй, с некоторой симпатией, но не больше. Он считает себя поклонником частного предпринимательства. Однако, дважды побывав у нас в стране, Майкл проникся к ней уважением и интересом. Конечно, ему не всё понравилось, но просто глупо было бы не замечать огромных возможностей могущественной Советской России!
Майкл старается быть объективным. Он не расхваливает американский образ жизни, но все же не упускает случая обратить внимание приезжего из России на красивый дом, великолепную машину, прекрасно изданную книгу. Впрочем, боясь быть заподозренным в хвастовстве и, упаси боже, в пропаганде, он тут же замечает, что, конечно, в Америке еще много трущоб и еще больше дрянных книжонок.
Меня всегда тянуло к воде, к портовой жизни. Что ни говорите, а нью-йоркский порт — впечатляющая громадина. Бетонные причалы теснятся вдоль берегов Гудзона. Возле них корабли под флагами многих стран мира. Краны выхватывают из трюмов огромные тюки, ящики, тяжелые контейнеры. Танкеры перекачивают горючее. Людские потоки растекаются с палуб океанских белых лайнеров.
Но я думал, что у края острова часть нарядного городского фасада, а тут склады, заборы, опять склады, груды картонных ящиков, чайки, ссорящиеся над кучей объедков, паромная пристань, переулки средневековой ширины. Крепкие, плечистые парни в застиранных комбинезонах курят возле кип, перетянутых железными обручами. Темные кирпичные дома сдавили узкие уличные щели, где цветные огни вывесок зазывают моряков в подвальчики баров и таверн.
Фасадом же можно считать лишь парк Баттери. По правде говоря, никакой это не парк, а просто газоны с редкими купами деревьев, такими милыми посреди небоскребной загроможденности.
— Майкл, а это что?
Возле берега, открытые ветрам с океана, восемь серых огромных плит, поставленных на ребро.
Майкл молча тянет меня к плитам. Сверху донизу каждая из них испещрена надписями:
«Джон Ф. Парсонс, лейтенант, Миннесота».
«Фрэнк О. Седжвик, матрос, Техас».
«Хью X. Крокер, матрос, Аризона».
«Гарри О. Доннэл, лейтенант, Нью-Йорк».
«Джек С. Кинг, лейтенант, Техас».
«Мартин Бергман, матрос, Иллинойс…»
Кричат чайки, ветер бьет в лицо. Мы медленно идем от плиты к плите.
Тысячи надписей: имя, звание, место рождения. Это матросы и офицеры, погибшие в прошлую войну. Они встретили смерть на кораблях, потопленных в морских сражениях, подорвавшихся на минах, торпедированных подводными лодками, разбомбленных с воздуха. Эти парни воевали вместе с нашими против Гитлера. Здесь есть имена тех, кто шел на кораблях через Атлантику к Мурманску и Архангельску. Их могила — рядом, самая глубокая могила на земном шаре, с вечным безмолвием черных пучин…
* * *
Статуя Свободы…
Вот она, над серыми водами, омывающими южную окраину Манхэттена, издали маленькая, зеленоватая.
У касс — разноязычная туристская толпа. Пароходики-паромы то и дело отваливают от берега. Почему-то сегодня суденышки забиты ребятней, шумной и непоседливой. Матрос, наблюдающий за порядком, махнул на все рукой. Дама, сидящая рядом со мной, страдальчески нюхает какой-то флакончик — должно быть, со средством от морской болезни: нас все же качает немножко.
Затеять разговор с ребятами, едущими на экскурсию? Но, во-первых, понравится ли это господину, который их сопровождает, священнику в черном костюме с жестким стоячим воротничком? В лучшем случае он сам возьмет на себя роль моего собеседника.
Во-вторых, признаться, мне уже надоело отвечать на одни и те же наивные вопросы, показывающие лишь, как плохо многие американские школьники знают нашу страну. Меня станут спрашивать:
«А можно ли в Советском Союзе не быть коммунистом и что делают с таким человеком?»
«Наказывают ли у вас розгами провинившихся учеников?» «Есть ли у советских детей праздники?»
«Отпускают ли ваших школьников хоть иногда к родителям?»
«Сколько зарабатывают у вас дети?»
«Почему в России запрещено верить в бога и куда сажают тех, кто верит?»
«Может ли русский школьник сам выбрать, где ему учиться?»
«В долларе сто центов. А сколько в рубле?»
…Через четверть часа пароходик мягко стукнулся о причал острова Свободы. Нам сообщают, что прежде он назывался островом Бедло и на нем стоял гарнизон военного форта Вуд. Форт напоминал очертаниями многоконечную звезду. На его фундамент опирается пьедестал статуи.
Идем по дорожкам мимо блекло-зеленых осенних газонов, слушаем историю статуи:
— Господа, перед вами, может быть, самое символическое сооружение нашей великой страны. Оно было задумано как олицетворение дружбы между народами Старого и Нового Света. Люди, страдавшие от тирании в Европе, должны были видеть факел в руках Свободы, призывно горящий для них за океаном…
Высокая старушка с подкрашенными волосами кивает головой, бормочет: «О, иес!» — и записывает слова экскурсовода. Я не записываю. Девушка, ведущая нас, косится на меня. Она, наверное, подозревает во мне туриста, который начитался всяческих справочников и начинен подковыристыми вопросами. Но я не задаю вопросов. Я промолчал всю экскурсию и лишь теперь решаюсь выложить вам кое-что из почерпнутой премудрости.
Итак, началось все с парижского скульптора Бартольди. Он изготовил для Нью-Йорка статую участника войны за независимость Америки — француза Лафайета. Когда Бартольди на корабле приближался к нью-йоркской гавани, свет маяка вызвал у скульптора еще неясный образ факела, высоко поднятого чьей-то рукой. Вскоре пылкое воображение француза, служившего в войсках Гарибальди, уже дорисовало образ: Свобода!
Его замысел осуществился лишь после падения во Франции в 1870 году Второй империи. Тогда сто тысяч французов собрали по всенародной подписке деньги на сооружение статуи, задуманной Бартольди. Было решено подарить ее Соединенным Штатам. Американцам оставалось собрать лишь триста тысяч долларов на постройку пьедестала. Но кошельки раскрывались неохотно. Статуя уже была готова, а пьедестал все еще сооружался…
В старых журналах и газетах я искал подробности замысла Бартольди: мне всегда казалось странным, что француз изваял олицетворение именно американской свободы.
А у него, оказывается, этого и в мыслях не было! Ему хотелось соорудить, как я прочел, «памятник, типичный в одно и то же время, и для американской независимости, и для самой свободы». Но вовсе не символ американской свободы!
Даже в век жестоких европейских тираний многие поэты и философы Старого Света трезво оценивали истинную суть свободы и демократии в Новом Свете. Мыслящие люди Европы, изучая американские нравы, «с изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве»; они увидели «рабство негров посреди образованности и свободы…».
Это писал в 1836 году Пушкин.
На открытие статуи Свободы собралось множество зрителей. От имени Франции говорил Фердинанд Лессепс, тогда еще не опозоренный грандиозными мошенничествами в возглавляемой им компании Панамского канала. Президент Соединенных Штатов Кливленд благодарил французский народ за дар. Под раскаты салюта Бартольди дал знак сдернуть покрывало.
На пьедестале статуи были вычеканены стихи Эммы Лейзарес о женщине с факелом, которая говорит «добро пожаловать». Как бы обращаясь к далекой Европе, она предлагала: дайте мне ваших усталых, бедных, стремящихся вздохнуть свободно, дайте несчастных отщепенцев ваших берегов, пришлите их, бездомных, сломленных, ко мне — и я подниму свой факел возле золотой двери!
Но ровно через год после того как были вычеканены эти стихи, несколько рабочих-вожаков из Чикаго, борцов за свободу, были приговорены к смертной казни и повешены. Еще пять лет спустя вместо «золотого входа» открылся заградительный пункт на соседнем «острове Слез», где «жаждущих вздохнуть свободно», а тем более «отвергнутых» подвергали долгому, унизительному карантину.
И герой Короленко уже услышал в ответ на свой вопрос о свободе: «А, рвут друг у друга горла, — вот и свобода»; у Горького девушке-польке, увидевшей статую Свободы, пояснили, что это американский бог; а Бернард Шоу назвал статую чудовищным идолом и говорил, что осталось только высечь на ее цоколе слова, начертанные на вратах дантовского ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий».
Так женщина с факелом стала туристской достопримечательностью, моделью для дешевых сувениров и излюбленной мишенью карикатуристов всего мира, в том числе и американских.
Но вернемся к группе «вопросительных знаков», подошедших уже к самой статуе.
— Господа, ее высота от основания пьедестала до факела — триста пять футов[1]. Указательный палец — восемь футов, нос — четыре фута, правая рука — сорок два фута. Да, совершенно верно, возле факела есть балкончик, но посетителей туда не пускают. Вы можете подняться только внутрь головы. До верхнего этажа пьедестала — в подъемнике. Приготовьте, пожалуйста, по десять центов. Далее — по винтовой лестнице, сто шестьдесят восемь ступенек. Господа, хочу предупредить: подъем довольно труден, многие предпочитают остаться у подножия, на круглом балконе.
Проходим подземным коридором, поднимаемся на балкон. Небоскребы стали земноводными, растут прямо из воды. На широких барьерах балкона прочерчены линии. Продолжив их взглядом, видишь шпиль какого-нибудь здания, просвет улицы, легкий абрис моста. Не надо ломать голову, что именно перед тобой: прямо на барьерах схемы видимого с балкона Нью-Йорка. Возле каждой линии название здания или сооружения, на которое она указывает.
Иду во чрево Свободы.
Винтовая лестница настолько узка, что при обгоне один из пыхтунов должен либо врастать в стену, либо забиваться в специальную небольшую нишу. Душно! Какое же здесь пекло летом, когда солнце накаляет медь обшивки!
Одолев сто шестьдесят восьмую ступеньку, выглядываю в одно из окон, прорезанных в венце на голове статуи. Корабли бороздят море далеко внизу. Пароходы-паромчики тянутся друг за другом от причалов к острову. Толстяк за моей спиной утирает пот, проклинает свою глупость и жалуется на перебои в сердце.
…После я узнал, что статую Свободы можно увидеть и не путешествуя на остров. В самом Нью-Йорке есть ее точная копия. Более того, лестница внутри этой копии тоже ведет к окнам в голове. Оттуда в прежние годы можно было обозревать Бродвей.
Эту копию воздвиг на Шестьдесят четвертой улице богач, который вспомнил поговорку о горе и Магомете. И гора пришла к Магомету! По заказу мистера Вильяма Флато была изготовлена семнадцатиметровая Свобода № 2 и торжественно установлена над складом, в котором этот бизнесмен весьма успешно обделывал свои делишки.
* * *
А теперь об улице Стены.
Ну да, «уолл» — «стена», «стрит» — «улица». Значит, улица Стены, или, если хотите, Стена-улица…
Бизнесменов и банкиров доставляют в их владения на знаменитую Уолл-стрит дорогие нестареющие машины, над которыми не властна капризная мода последних автомобильных салонов. Впрочем, некоторые светила бизнеса предпочитают воздушный мост, соединяющий их загородные виллы с вертолетной посадочной площадкой возле улицы Стены. Мелкая же сошка — клерки, рассыльные, стенографистки — набивается в автобусы, теснится на паромах, бегающих через Гудзон, томится в поездах подземки.
Уолл-стрит расположена на той же южной оконечности Манхэттена, откуда пароходики бегут к статуе Свободы. В маленьком голландском Новом Амстердаме на ее месте была стена, защищавшая деревянные домики городка от индейцев. После прихода англичан кварталы стали расти и с наружной стороны стены. Ее снесли за ненадобностью, а на том месте проложили улицу.
Когда в последней четверти XVIII века английские колонии в Америке начали войну за независимость, Нью-Йорк был уже значительным городом. Его жители сбросили статую английского короля и переплавили ее в пули для армии Джорджа Вашингтона, сражавшейся против англичан. Неподалеку от Уолл-стрит, в здании, позднее ставшем казначейством, собрался первый Конгресс новой независимой страны — Соединенных Штатов Америки.
Уолл-стрит, невзрачная окраинная улочка, в конце которой шумел невольничий рынок, начала обрастать каменными домами. Здесь возводили свои палаты негоцианты, разбогатевшие на торговле людьми. Рядом строились здания правительственных учреждений: ведь семь лет Нью-Йорк был столицей нового молодого государства.
А потом улицу Стены облюбовали дельцы и спекулянты. Предки нынешних биржевых маклеров собирались сначала под огромным старый деревом, пышная крона которого защищала от дождя и солнца. Торговые сделки заключались в нижнем конце Уолл-стрит, у моря, в маленьких кафе, где под окнами скрипели на волне корабли с товарами.
Лишь к 1850 году, когда город занимал уже значительную часть острова, Уолл-стрит обступили банки и банкирские конторы, вскоре ставшие ее безраздельными хозяевами.
Подземная станция «Уолл-стрит» — соседняя с «Баттери». Она ничем не отличается от других: тесная, серая и в разгаре дня малолюдная. После подъема по лестнице выходишь в путаницу улиц, которые тут ветвятся вкривь и вкось.
Это сначала сбивает с толку. Большая часть Манхэттена разграфлена словно по линейке. Вдоль остров рассекают пятнадцать авеню — проспектов. Поперек — свыше двухсот стрит — улиц. Лишь немногие авеню и стрит имеют названия. Большинство тех и других просто нумеровано: Первое авеню, Второе авеню, Тридцать четвертая улица, Сорок вторая улица, Сто восемьдесят первая улица… Новичку удобно — не собьешься. Но от уличной этой цифири веет все же казенщиной и унылым однообразием.
На разлинованной и пронумерованной части острова лишь Бродвей — главная улица города — наискось срезает привычные прямоугольнички кварталов. А здесь, на южной оконечности, Бродвей, напротив, единственная прямая улица. Расходящиеся же в стороны улочки-ущелья не нумерованы, у каждой название. Кроме Бродвея, есть Брод-стрит, проложенная там, где голландцы когда-то хотели построить канал, чтобы Новый Амстердам хоть немного походил на старый.
Уолл-стрит узка, но это не щель, как некоторые ее соседки, а величественный каменный каньон. Тяжелые, массивные здания-утесы сдавили его. Что за стены, что за решетки на окнах!
И никакого мельтешения рекламных огней, никаких нахально огромных пляшущих букв: лишь ярко начищенные бронзовые доски у главного входа. Есть и с некоторой претензией бронзовый овал с геральдическими украшениями. Но геральдика — пустяки, не в ней дело. На вывесках названия всемирно известных банков.
По утрам на Уолл-стрит волна прилива. Мрачноватый каньон всасывает десятки тысяч человек, чтобы в час ланча, второго завтрака, соответствующего нашему обеду, выбросить и торопливо рассовать их по кафетериям окрестных переулков. Вечером отлив: те же десятки тысяч человек ныряют под землю и набивают автобусы.
В обычное деловое время на Уолл-стрит преобладают преимущественно энергичные мужчины цветущего бизнесменского возраста. На них строгие темные костюмы. Каждый выглядит на миллион долларов. Есть и одетые похуже. Последних ждут сверхдорогие машины. Это настоящие владельцы миллионов, им уже незачем пускать пыль в глаза.
Сказочное богатство Уолл-стрит вообще не крикливо. Значительная часть американского золота скрыта далеко от Нью-Йорка, в тайниках недоступного и тщательно охраняемого форта Нокс. Немало золотых брусков спрятано и в ста двадцати бронированных сейфах глубоко под землей Нью-Йорка.
Пульс Уолл-стрит бьется в здании Нью-йоркской биржи. Кстати, возле нее еще несколько бирж: Американская, где продают и покупают главным образом иностранные акции, товарная, хлопковая, сахарная, кофейная… Но о бирже и биржевиках — позднее.
Пройдя по кишащему людьми короткому каньону — длина Уолл-стрит всего полкилометра, — я оказался возле церкви Троицы, где в церковной ограде похоронен Роберт Фультон, построивший первый практически пригодный для плавания пароход. В день похорон законодательная палата прервала заседания, множество горожан шло за гробом, а на рейде неумолчно гремел салют тридцати орудий «Фультона Первого», огромного военного парохода, построенного для защиты Нью-Йорка от английского флота.
Фультон кончил жизненный путь там, где началась карьера Эдисона. Да, будущий великий изобретатель начал на Уолл-стрит, в мастерской, изготовлявшей аппараты для сообщения цен на золото в конторы биржевых спекулянтов.
В старинной церкви Троицы сутулилось лишь несколько одиноких фигур на скамьях: Уолл-стрит молится иному богу. На столе возле входа были разложены брошюрки. «Христос и рак», — прочел я на одной обложке. Рядом лежал розовый листок с неожиданно игривой картинкой: повозка, причем возница и лошадь круто повернули головы к некоей заманчивой двери. Оказалось, это женщины, принадлежащие к приходу св. Троицы, приглашали всех желающих на маленькую ярмарку с подарками.
В американских церквах это дело обычное. Некоторые священники, стараясь привлечь прихожан, устраивают после церковной службы концерты и танцы. У одного пастора-новатора в храме во время богослужения солисты балета исполняли маленькие сценки на темы священного писания.
Церковь Троицы не чуждалась и политики. У входа лежала стопка предвыборных листовок. В них деловито перечислялись не только выборные должности, но и будущее годовое жалованье избранников.
В раскрытые двери божьего храма ворвалась вдруг джазовая музыка и зычный голос громкоговорителя. Я поспешил на улицу. Неподалеку остановился огромный автомобиль-фургон, весь залепленный портретами кандидата в сенаторы. Из автофургона выдвинулась трибунка, и на ней появился сам кандидат в натуральную величину. Он был не так хорош, как на портретах, и выглядел усталым.
Кандидат прибыл на Уолл-стрит с почтительнейшим визитом к хозяевам. Он не рассчитывал, понятно, что члены правлений банков распахнут окна своих кабинетов, чтобы послушать его разглагольствования. Господин кандидат в сенаторы вполне удовлетворился кучкой хозяйских приказчиков. Клерки и подручные биржевых маклеров, жуя бутерброды, столпились возле фургона и приготовились слушать.
— Друзья, — проникновенно начал господин кандидат, придвинув микрофон, — вы славные парни, и я не буду-вас долго задерживать. Понимаю, понимаю, сейчас время ланча… Благодарю вас, что вы пожертвовали им ради меня. Буду краток. Обо мне говорят, что я человек воли и человек дела. Это действительно так. На меня можно положиться. Я деловой человек, как и вы, и слов на ветер не бросаю. Уж если я возьмусь за что-нибудь, так сделаю, вы это знаете…
Говорил он с наигранной простоватостью, ветер трепал его жидкие волосы и дешевый галстук — такой же, как у клерков.
Оратор выступал у подножия статуи Джорджа Вашингтона, установленной на ступенях исторического здания. В нем герой борьбы за американскую независимость принимал присягу при вступлении на пост первого президента и клялся в верности идеалам свободы. Джордж Вашингтон предупреждал, что нация, которая относится к другой с привычной ненавистью, становится рабой своей враждебности.
И вот кандидат в сенаторы угрожал соседней Кубе, стоя на выдвижной трибунке автофургона чуть ниже огромного башмака статуи Вашингтона.
От великого до малого и злобного было меньше одного шага…
Три севших на мель джентльмена заспорили, чья профессия лучше.
Их бизнес заключался в предоставлении надежного приюта чужим долларам. И сначала Билл Бассет как будто делом доказал превосходство профессии взломщика, добыв деньги из сейфа ближайшего банка. Но с помощью крапленых карт награбленные пачки долларов перешли в карманы жулика Джеффа Питерса. Окончательно поле боя осталось, однако, за третьим из джентльменов, Альфредом Э. Риксом, банковским дельцом и спекулянтом ценными бумагами. Именно его дутые акции приобрел впоследствии Джефф Питерс, искавший надежный способ увеличения выигранного в карты капитала.
Стоит ли, однако, начинать разговор о Нью-йоркской бирже на Уолл-стрит с пересказа, возможно, знакомой и вам новеллы О’Генри «Кто выше?». Ведь она написана более чем полвека назад, а с тех пор многое устарело, переменилось.
В ней, например, рассказывалось о предприимчивом бизнесмене, нажившем сто тысяч долларов совершенно невероятным способом. Он, разделив на участки те области штата Флорида, которые находятся глубоко под водой, продавал эти участки простодушным людям в своей роскошно обставленной конторе.
Но прежде чем окончательно решить, насколько устарел рассказ О’Генри, полистаем-ка газеты, вышедшие полвека спустя после его опубликования. Вот заметка о земельной спекуляции. Предприимчивый делец объявил о срочной дешевой распродаже земельных участков во Флориде. Участки продавались по карте, без осмотра на месте. Когда делец получил сто миллионов долларов, один новый землевладелец поехал во Флориду, чтобы осмотреть покупку. И разразился скандал! «В ходе расследования, — читаем мы в газете, — стало известно, что среди распроданных мошенником земель находятся участки, залитые водой. Другие расположены на недоступных горных вершинах около пика Эль-Пасо!»
Так что же изменилось за полвека? Та же Флорида, тот же способ мошенничества, какой описан О’Генри. Лишь прибыли жулика выросли в тысячу раз!
А теперь прошу вас ко входу на Нью-йоркскую биржу, где в свое время, наверно, подвизался и Альфред Э. Рикс, герой рассказа. Не к главному входу с шестью колоннами, торжественно-парадному, как вход в храм, — он для биржевиков, — а к боковому, со стороны узкой Брод-стрит.
Простые смертные и даже «народные капиталисты», то есть обладатели нескольких акций, отнюдь не допускаются в святая святых. Они могут увидеть все лишь издалека, с балкона для публики.
Когда по числу посетителей биржа превзошла статую Свободы, дельцы выложили миллион долларов на устройство специального зала перед входом. Там расположены выставки на тему: «Нью-йоркская биржа — краеугольный камень народного капитализма». Приветливые девушки-экскурсоводы в синих форменных костюмах помогают уяснять ту же истину.
На балкон сразу не попадешь: длинная очередь. Пожилые, ярко раскрашенные дамы в меховых накидках. Супружеские пары всех возрастов. Трое шушукающихся монахинь в накрахмаленных чепцах и грубых башмаках, похожих на мужские. Военный моряк с соцветием орденских планок. Семейство евреев-хасидов, религиозные верования которых, как и их старинные черные костюмы, черные шляпы с широкими жесткими полями или пряди волос, обернутые вокруг уха, остаются неизменными чуть ли не со средневековья. Наконец, экскурсия школьников во главе с учителем-негром. Ребята зажимают в кулачках розовые, желтые, зеленые образцы распоряжений о покупке и продаже акций: их берут у входа, как сувениры.
Школьников пропускают вне очереди. Придется ждать. Одна из девушек-экскурсоводов усаживает желающих в кресла и начинает беседу о бирже.
— Вы берете бензин у колонки, — говорит девушка, улыбаясь самым пленительным образом, — и вы уже помогаете свободному предпринимательству в нашей стране. Вы можете придать ему еще большую жизнеспособность, купив акции. В настоящее время машинное оборудование, управляемое одним рабочим, стоит иногда до двадцати тысяч долларов! Вы понимаете, как трудно стало предпринимателю делать бизнес только на свои деньги. И биржа помогает ведущим акционерным компаниям добывать нужные им миллионы долларов. Биржа аккумулирует готовность миллионов американцев, имеющих теперь акции, не только участвовать в прибылях, но и разделять риск.
Тут девушка мило советует «быть подальше от акций» тем, кто по состоянию здоровья слишком переживает падение их курса или слишком возбуждается, когда курс идет в гору.
— Но кто же владеет акциями? — продолжает затем она. — Шестая часть взрослых американцев — вот кто! Я рада сообщить также, что почти половина держателей акций — люди, которым их основной бизнес приносит устойчивый доход. Акции обычно приобретают уже хорошо обеспеченные и, смею добавить, солидные господа: средний возраст американского акционера — сорок восемь лет. В этом цветущем возрасте легче уберечь себя от необдуманных шагов и безрассудного риска, не правда ли?
Девушка, разумеется, не объясняет слушателям, что такое акции, почему падает и отчего идет в гору их курс. В Америке это знает каждый первоклассник. Если бы один из школьников, набравших у входа цветные бумажки-распоряжения, задал подобные наивные вопросы, приятели подняли бы его на смех: смотрите, этот лопух не знает, как на бирже делают доллары!
Но нам-то с вами это простительно. Вот совсем коротко об акциях. Капиталисты, объединяя свои капиталы, организуют акционерное общество или корпорацию. Допустим, она будет выпускать автомобили. Учредители корпорации заинтересованы в привлечении к своим капиталам дополнительных денег, чтобы побыстрее и пошире развернуть дело. Они выпускают акции — нечто вроде облигаций своего предприятия. Большую часть акций учредители распределяют между собой пропорционально вложенным капиталам, а остальные продают на бирже.
На каждой акции написана ее стоимость — допустим, 50, 100, 500 долларов. По облигациям платят проценты или выигрыши. По акциям же выплачивают дивиденд. Это часть прибыли, полученной корпорацией. Она распределяется пропорционально стоимости акций.
Если дела корпорации идут хорошо, по акциям выплачивается большой дивиденд. А раз акция приносит большой доход, то и продают ее на бирже уже не за 100, а за 105 или за 110 долларов. В таких случаях говорят, что курс акций повышается, идет в гору. Тот, кто, допустим, купил десять таких акций до повышения курса, теперь может их продать, положив в карман 50 или 100 долларов разницы между прежней и сегодняшней ценой.
Но если дела корпорации немного пошатнутся, за ее стодолларовую акцию дадут 95 или 90 долларов, а то и полцены. Тогда владелец акций, курс которых падает, понесет убытки.
В Америке о «народном капитализме» много говорят не только на бирже. Монополии выпускают акции небольшой стоимости и трубят во все трубы, что такую акцию может купить не только капиталист, но и рабочий, если у него есть кое-какие сбережения. А буржуазная печать подхватывает: смотрите, рабочий купил акцию, он имеет свою долю в капиталах корпорации, он, как и капиталист, получает прибыль! У нас не просто капитализм, у нас «народный капитализм»!
Но что за люди эти «народные капиталисты»? На бирже я не смог получить этих сведений. Нашел их позднее, в конце 1970 года, в одной из газет. Оказалось, что около 80 процентов акций находились в сейфах крупных промышленников и банкиров. Из каждых ста рабочих «акционерами» были только трое. Примерно так же обстояло с работниками торговли. А что касается фермеров и сельскохозяйственных рабочих, то «народными капиталистами» оказались… 0,3 процента общего их числа.
Американская реклама и чувство меры — понятия несовместимые. Реклама хвалит товары или идеи безудержно, взахлеб. Они, эти товары, как и идеи, первоклассны, великолепны, не имеют никаких изъянов и недостатков. Даже объявления похоронных бюро обещают вам не только скоростное замораживание тела усопшего, но чуть ли не беспересадочный мягкий билет в рай и гарантию вечного блаженства. Но почему же милая девушка, развлекающая разговорами посетителей биржи, так много говорит о риске?
Да и не только она. В ожидании своей очереди я полистал брошюрки и словарик «Язык капиталовложений», разложенные на столах. Тут и там в их тексте были рассыпаны призывы к осторожности и благоразумию. С вожделенными словами «доход» и «прибыль» часто соседствовали «риск» и «потеря». Там было даже прямое предостережение: взвесьте, леди и джентльмены, имеется ли у вас, кроме денег, вкладываемых в акции, постоянный доход, который, в случае чего, обеспечит вашу семью.
Что сие значит? Никто же не поверит, что биржевики заботятся о вашем здоровье или о благополучии вашей семьи больше, чем о своих доходах.
И если у порога биржи призывы к осторожности и благоразумию, значит, риск расставания с обожаемыми долларами у «народного капиталиста» весьма и весьма велик. Поэтому биржевики заранее готовят овцу к стрижке. Расчет прост: смотрите, в «народном капитализме» все честно, мы же предупреждали…
— Леди и джентльмены! — Полисмен жестом приглашает очередную группу экскурсантов на галерею.
Меня он останавливает, молча показывая на «Зоркий». В чем дело? Оказывается, с фотоаппаратом нельзя. И с биноклем. И с портфелем. Почему?
— Весьма сожалею, но были случаи, когда во время биржевых потрясений взволнованные зрители роняли тяжелые предметы вниз на головы биржевиков. Мы принимаем меры предосторожности.
С галерки внизу открывается толкучка, барахолка, дожившая до века атома и электроники. Гам и шум зауряднейшего базарного торжища, толпы суетящихся людей, а над ними — синеватые экраны с быстро меняющимися значками и цифрами, сложные автоматические устройства, огромный светящийся циферблат электрических часов.
14 часов 01 минута… 14.02… 14.03… За эти три минуты, возможно, миллионы долларов передвинулись куда-то, у кого-то вынули из кармана денежки, в чей-то сейф положили…
Главный зал биржи, который виден внизу, усеян обрывками бумаг. Возле высоких подковообразных стоек густо толпятся биржевики: там, на этих «торговых постах», заключаются сделки.
Внизу галдеж и суета, а на галерке благоговейное, сосредоточенное внимание. Соседка справа потянулась к лорнету, но тотчас же один господин, совершенно штатского вида, заметил это и коснулся рукава полицейского: смотри, нарушаются правила. Полицейский подошел, полушепотом попросил убрать лорнет. А на него уже оглядывались, как оглядываются на человека, шумно сморкающегося в зрительном зале во время концерта. Картина «народного капитализма в действии» положительно загипнотизировала галерку!
Кое-что о бирже я уже знал. Таинственные значки, бегущие по синеватым экранам, — условные обозначения корпораций. Например, «Т» — Телеграфная и телефонная компания. Цифры ниже — сделки с ее акциями, их курс, то есть продажная и покупная цена в данную минуту. Через несколько минут она может измениться. Специальные аппараты — тикеры, — отмечающие сделки, немедленно передают появляющиеся на экранах значки и цифры более чем в шестьсот разных городов, в три тысячи восемьсот контор, связанных с биржевыми сделками.
Множество контор, целая армия людей! Эти люди не сеют, не жнут. Они спекулируют ценными бумагами. И в этой стране их занятие считается солидным, даже почетным.
Доски во всю стену зала, напоминающие телефонные коммутаторы, предназначены для вызова биржевых маклеров — посредников. Раздается щелчок, открывается окошечко, в нем видна цифра — номер маклера. Он тотчас устремляется по вызову в будку, чтобы принять заказ на покупку или распоряжение о продаже акций.
Еще в давние годы говорили, что биржа — самое любопытное зрелище в Соединенных Штатах после Ниагарского водопада и гейзеров Йеллоустонского национального парка, причем у нее есть даже некоторое сходство с этими последними. Подобно тому как поднимающийся из гейзера столб горячей воды нередко скрыт от зрителей в облаках пара, так и истинные причины колебаний курсов акций скрыты завесой разных слухов, которые легко возникают или нарочно распространяются в атмосфере тревог, надежд, страха, недоверия, обмана.
По размерам главный зал биржи почти равен футбольному полю. На нем свыше тысячи игроков, играющих без судьи и без соблюдения правил морали. В ежедневных матчах участвуют только игроки самого высокого класса — члены Нью-йоркской биржи, внесшие не менее ста тысяч долларов. Среди них есть специалисты по самым различным операциям (или махинациям), но очень грубо всех биржевых игроков делят как бы на две команды: на «быков» и «медведей».
«Быки» играют в расчете на будущее повышение курса акций, «медведи» — на понижение. Одни стараются с выгодойдля себя использовать падение курса, другие — повышение. «Быки» стремятся поддеть на рога «медведей», биржевые «топтыгины» — задрать «быков». Но у кого «рога», у кого «клыки», с галерки определить невозможно.
«Быки» и «медведи», оживленно жестикулируя, носятся по залу. Постепенно начинаешь различать, что часть — в серых одинаковых пиджаках. Есть совсем молодые, есть и пригодные на классические театральные роли благородных отцов. А все в целом настолько чуждо, непонятно по духу, по целям, по атмосфере, что смотришь с галерки в зал глазами посетителя зоопарка.
— Господа! — вполголоса произносит полисмен.
Это значит, что прошло пятнадцать минут. Насмотрелся на «народный капитализм в действии» — дай другим взглянуть.
У «народного капиталиста», обладателя нескольких акций, в биржевой игре не больше шансов на выигрыш, чем у команды азартных дворовых мальчишек в матче со сборной футбольной командой страны. «Профессиональный игрок на бирже питает лишь презрение к игроку-дилетанту, к человеку, который покупает акции, руководствуясь интуицией, случайной информацией или скоропалительным решением», — говорится в брошюре о святилище Уолл-стрит.
Вывод? Отдайте ваши жалкие доллары брокеру, профессиональному биржевому посреднику, ведущему крупную игру, и положитесь на него. Брошюра предупреждает, что его совет не гарантирует от потерь. Но, не заручившись помощью опытного брокера, вы можете расстаться с вашими долларами в два счета, особенно во время неожиданных резких колебаний курса.
Ох уж эти «резкие колебания»! Вызываемая ими биржевая паника описана многими романистами. Читаешь, и кажется, что в этих описаниях сгущены краски, что в действительности все это как-то по-другому: спокойнее, деловитее, человечнее.
Но вот вам отрывки протокольно точной записи очередного биржевого землетрясения, зарегистрированные пером хроникеров:
«Издания вечерних газет сообщали: «Падение продолжается! Худший день с 1929 года! Паникой охвачены Европа и Азия!
Мелкие держатели акций, туристы, просто любопытные пришли к зданию биржи задолго до ее открытия. Сейчас они в оцепенении смотрели в зал, где у них на глазах под истерические выкрики, визг и оханье биржевых спекулянтов, маклеров, брокеров трещали и оседали устои «самой прочной в мире» экономики».
«Было половина одиннадцатого утра, когда на бирже объявили о банкротстве фирмы «Фиске Гатч»… Известие распространилось подобно пожару в степи, и на всех лицах появилось выражение ужаса. Аппараты, отмечающие курс, заунывными звуками давали знать об обесценивании бумаг…»
«Скоростное световое табло на Уолл-стрит не успевало регистрировать огромное число сделок и отставало от фактического положения на 2 часа 21 минуту».
«За высокой конторкой стоял президент биржи, и его сильный тенор заглушал по временам вавилонское столпотворение внизу… Натиск на галерею был ужасный и, несмотря на все усилия полиции, для некоторых кончился печально».
«Бумажная стоимость всех акций, зарегистрированных на Нью-йоркской бирже, снизилась примерно на 29 миллиардов долларов. Это был потрясающий удар по рынку ценных бумаг, а возможно, по национальной экономике вообще».
Но когда же происходило все описанное выше?
Признаюсь в маленьком подлоге. Я дал выдержки из газетной хроники двух совершенно разных дней Нью-йоркской биржи: «черного понедельника» 28 мая 1962 года и «черной пятницы» 19 сентября 1873 года.
Выдержки строго чередуются: нечетные относятся к «черному понедельнику», четные — к «черной пятнице». Но так ли уж заметно, что между «соседями» девяносто лет разницы? Да, изменились названия фирм, микрофон позволяет председателю биржи не напрягать голоса, аппараты, сообщающие курс, стали световыми и беззвучными, сделки регистрируются оптическими электронными приборами и подсчитываются вычислительными машинами. А что изменилось по существу?
После «черного понедельника» 1962 года были другие, не менее «черные» дни недели — например, три дня в ноябре 1967 года, когда паника охватила все крупные биржи мира. Она кончилась не только падением курса многих акций. Покачнулся английский фунт стерлингов, который считали одной из самых устойчивых и надежных валют. После падения его стоимости частично обесценились и денежные единицы многих других стран.
В «черный четверг» конца мая 1970 года держатели акций потеряли около 150 миллиардов долларов.
В мае 1971 года по многим биржам мира пронесся новый шквал. Закачался сам доллар, всемогущий доллар! Закачался настолько, что газеты писали об остром приступе мирового валютного кризиса.
Сколько будет существовать капитализм, столько и будут продолжаться биржевые потрясения, при которых разоряются прежде всего мелкие держатели акций.
Закончу рассказ о биржевых делах отрывком из той же новеллы «Кто выше?», с которой начинал повествование о бирже. Там приведен такой примечательный разговор между рассказчиком и Джеффом Питерсом:
«— Есть два рода жульничества, такие зловредные, — говорил Джефф, — что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляции Уолл-стрит, а во-вторых, кража со взломом.
— Ну, насчет одного из них с вами согласится каждый, — сказал я смеясь.
— Нет, нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, — сказал Джефф».
Мой друг Майкл сразу предупредил меня, что он даже в самую лучшую погоду не составит мне компанию при осмотре статуи Свободы, при посещении биржи и при подъеме на Эмпайр стейт билдинг.
— Знаете, всему есть предел, — говорил он. — Да, да, я понимаю, конечно, что это должен видеть каждый. Но где сказано, что каждый должен видеть это по тридцать три раза? У меня много друзей из России, и все они, как вы понимаете… Одним словом, когда я последний раз поднимался на Эмпайр с двумя вашими поэтами, мне захотелось броситься вниз с подходящего этажа. Не смейтесь. Я устал также от споров с вашими людьми о народном капитализме и биржевых акулах, тем более что сам я, увы, не обременен акциями. Кстати, знаете, что ответил один проигравшийся на бирже джентльмен, когда его спросили, кем он был — «быком» или «медведем»? «Ни тем, ни другим: я был ослом!»
После экскурсий на биржу я попытался было заманить Майкла хотя бы к биржевому брокеру. Но он ускользнул и на этот раз…
Брокерская контора находится недалеко от моей гостиницы, в мрачноватом Чанин-билдинге. Учтивый представитель фирмы «Стейнер, Рауз и компания» пододвинет кресло, откроет золотой портсигар.
— Наши советы клиентам, — скажет он, — основаны на анализе всех проблем в мировом масштабе. Мы всегда в курсе всех последних дел. Этого требует наш бизнес, который мы будем рады связать с вашим бизнесом. Итак, чем могу быть полезным?
Но познакомимся с карасем, наиболее подходящим для биржевой щуки. Это преуспевающий господин Ричардс, директор крупного продовольственного магазина, отец троих детей. Босс обещает ему дальнейшее продвижение по службе. У Билла Ричардса постоянный доход и кое-какие сбережения в банке. Он вполне созрел для роли «народного капиталиста».
Посоветовавшись с очаровательной Грейс, своей женой, Билл решает, что если ему удастся еще увеличить вклад «на черный день» в сберегательном банке и сократить домашние расходы, то его семейство, пожалуй, сможет вложить пятьсот долларов в акции.
Вскоре после этого знаменательного решения Билл с супругой, отстояв очередь к галерее биржи, полюбовались битвой «быков» и «медведей». Затем он отправился в брокерскую контору.
Посвящение Билла Ричардса в «народные капиталисты» начинается с исповеди. Служители культа доллара требуют полной откровенности в семейных и финансовых делах. Сколько именно вы намерены положить на алтарь биржевого бизнеса? В чем вы грешны (какова ваша задолженность закупленную в рассрочку кухню с новой электрической плитой)? Не ожидаете ли вы наследства? Есть ли у вашей жены собственные сбережения?
Мистер Ричардс может довериться брокеру в той же мере, в какой доверяет святому отцу в исповедальне: профессиональный долг того и другого — хранить ответы в тайне.
Прощупав ловкими вопросами карманы клиента, брокер говорит со вздохом:
— Мистер Ричардс, обладание любым видом собственности в наше тревожное время не так прочно, как в добрые старые годы. Но если вы верите в американский бизнес…
Мистер Ричардс поспешно заверяет брокера в крепости своей веры. Но какие же акции посоветует ему купить господин брокер?
Дело в том, что есть акции, зарегистрированные на Нью-йоркской фондовой бирже или на других биржах, и есть акции, притом достаточно солидные, которые нигде не зарегистрированы. Они продаются на так называемом «рынке под прилавком». Наконец, в прозванных «кипятильниками» местах возле крупных бирж ловкачи сбывают ценные бумаги, изготовленные достойными учениками Альфреда Э. Рикса. Но, понятно, уважающий себя брокер должен предостеречь клиента от их покупки.
Мистер Билл Ричардс предпочитает акции, зарегистрированные на Нью-йоркской бирже. Он думает, что так будет вернее.
— Мистер Ричардс, закон бизнеса: чем больше риск, тем больше прибыль в случае успеха. Скажем, акции новых нефтеразработок. Если там окажется нефтяное Эльдорадо, вы — на коне. Если же геологи ошиблись…
Мистер Ричардс после некоторой душевной борьбы останавливает выбор на среднерискованных акциях химической корпорации.
— Для начала я возьму десять пятидесятидолларовых, — окончательно решает он. — Сколько нужно платить?
— Одну секунду.
Брокер смотрит на мерцающую ленту биржевых новостей с Уолл-стрит. Ага, вот три буквы — условный знак нужной химической монополии. Рядом с ними цифра «4874». Это продажная цена пятидесятидолларовой акции вот сейчас, в минуты, пока брокер и мистер Ричардс смотрят на экран.
— О’кэй? — спрашивает брокер.
Мистер Ричардс кивает. Брокер звонит на биржу и заказывает другому брокеру покупку нужных акций. Мистер Ричардс тем временем подсчитывает: десять акций — 482 долла-pa 50 центов. Но брокер пишет счет на 493 доллара 59 центов: надо же прибавить вознаграждение посредникам при продаже и покупке за совет и телефонный звонок!
Какие дивиденды получит мистер Ричардс через полгода, неизвестно. Но два брокера получили свое немедленно.
А мистер Ричардс, став «народным капиталистом», теряет покой. Он листает солидную газету «Уолл-стрит джорнэл» и в обычных газетах прежде всего смотрит колонку «Финансовый рынок».
У биржевиков свой язык. Если в мире спокойно, там написано примерно следующее: «Сокращение военных заказов вызвало на истекшей неделе тяжелые ликвидации авиационных акций. «Боинг», «Норс Америкэн» и другие понизились на 3–6 пунктов. — Металлургические, автомобильные, химические (тут сердце мистера Ричардса тревожно ёкает) понизились на 2–5 пунктов».
Мистер Ричардс дочитывает: «Акции газовых, электрических и телефонных компаний окрепли на 2–3 пункта (их надо было покупать, их!), пищевые, табачные и железнодорожные закрылись устойчиво».
Мистер Ричардс раздваивается. Как отец троих детей, он должен радоваться всему, что укрепляет мир на земле. Как «народный капиталист», связанный несколькими лишними долларами доходов с химической корпорацией, он скорбит, если сокращаются выгодные для корпорации военные заказы.
Когда события в мире принимают тревожный оборот и биржевая хроника отмечает «понижение по всей линии», большинство «народных капиталистов», боясь потерять всё, спешат расстаться с акциями. Их ловко скупают по дешевке крупные маклеры, чтобы позднее, когда курс начнет вновь подниматься, с выгодой продать приобретенные ценные бумаги другим «народным капиталистам».
Когда человек покупает и продает акции, о нем говорят: он играет на бирже.
Мистеры Ричардсы играют на бирже? Чепуха! Биржа играет их сбережениями и их судьбой!
* * *
От южной оконечности Манхэттена, от парка Баттери до Сорок второй улицы, на которой я живу, быстрее всего можно доехать в вагоне сабвея. Обычно я так и поступаю.
Но сегодня тихий, теплый день. Воздух насыщен океанской влагой, и спускаться в духоту подземки не хочется. А почему бы не сделать пешеходный разрез острова? До Сорок второй, правда, далековато, но пройду сколько смогу.
В газетном киоске запасаюсь картой: южная оконечность острова зигзагами и кривунами немногим уступит старым закоулкам матушки-Москвы. Еще заблудишься, чего доброго!
Значит, так. Южная часть Манхэттена, где я нахожусь, называется Даунтауном, или нижним городом. Это, как я уже говорил, старый центр Нью-Йорка.
Впрочем, в городе, которому нет еще четырех веков от роду, настоящей стариной не пахнет. Американцы, кажется, чувствуют это. Суховатое однообразие деловых домов они постарались оживить статуями и монументами. Их в Нью-Йорке свыше шестисот!
Скульпторами не забыт ни один полководец, даже самый захудалый. Взглянув на статую, где какой-нибудь генерал изваян верхом на коне, вы сразу можете определить, чем окончился бренный путь всадника. Смотрите только на коня. Если конь вздыблен, полководец погиб на поле брани; ежели поднял одну ногу — седок умер от ран; ежели прочно стоит всеми четырьмя ногами на постаменте — значит, воин безмятежно ушел в лучший мир из собственной постели.
Некоторые памятники так затиснуты между громадами небоскребов, что их не сразу найдешь.
В Нью-Йорке два главных сгустка небоскребов. Это особенно хорошо видно с самолета. Первый — в Даунтауне. Тут они столпились у самого края острова. Второй — в середине острова, в так называемом Мидтауне. А что между ними?
Сначала по Бродвею — еще довольно скромному, не пляшущему огнями — я вышел к Сити-холлу, к зданию городского муниципалитета. Светлый старинный дом, мирная зелень парка, голуби, много полицейских, беседующих о чем-то с совершенно штатскими господами, которые, однако, тоже на посту…
В Сити-холле работает мэр Нью-Йорка со своими чиновниками. А губернатор штата? Его резиденция в другом городе. Дело в том, что Нью-Йорк даже в одноименном штате не считается столицей. Столица штата Нью-Йорк — портовый городок Олбани, на берегу Гудзона. Нью-Йорк же просто город….
Внутри этого «просто города» люди расселились не только по признаку богатства или бедности. Переселенцы из Европы, попав за океан, старались осесть поближе к своим землякам, приехавшим раньше и как-то устроившимся на новом месте, Вот и появились в городе национальные районы, где сохранялись обычаи, привычки, а иногда и язык покинутой переселенцами страны.
Потомки первых жителей английской колонии вовсе не составляют большинства в современном Нью-Йорке. Гораздо больше в этом городе людей, деды и прадеды которых пересекли океан в трюмах эмигрантских пароходов сто, семьдесят пять, пятьдесят лет назад.
Около четвертой части жителей Нью-Йорка — евреи. Они расселились по всему городу. Но есть и особый район, где соблюдаются старинные обряды, сложившиеся еще в средневековых еврейских гетто.
Примерно шестая часть нью-йоркцев по происхождению итальянцы. Каждую осень они празднуют День Колумба. В Нью-Йорке нет площади, подходящей для парадов. Парады и шествия устраиваются на Пятом авеню. Шествие итальянцев в честь своего земляка, открывшего Америку, — одно из самых многолюдных и пышных. С 1971 года День Колумба, второй понедельник октября, по решению Конгресса будет отмечаться как общеамериканский праздник.
На том же Пятом авеню нью-йоркцы немецкого происхождения празднуют день генерала Штейбена, немецкого барона, участвовавшего в борьбе за американскую независимость. Немцев в городе столько же, сколько ирландцев, а ирландцев здесь больше, чем в Дублине, столице Ирландии.
По Пятому авеню шествуют и выходцы из Польши. Они торжественно отмечают день Казимира Пулаского, генерала польского происхождения, сражавшегося в армии Джорджа Вашингтона.
Каждый седьмой житель Нью-Йорка — негр. Но своего праздничного дня с торжественным парадом у негров нет.
Большинство негров живет в Гарлеме. Это в стороне от моего сегодняшнего маршрута. Гарлем — ближе к северной оконечности Манхэттена, он — за зеленым прямоугольником Центрального парка. Когда-то там жили белые. Потом они покинули старые, полуразвалившиеся дома, и в трущобы тесно набились негры, бежавшие с Юга от расистов.
Гарлем вытянут на тридцать пять кварталов, правда очень коротких. Негритянское гетто не обнесено колючей проволокой, но за невидимой границей другой мир. Почти не видно белых — только «копы», рослые полицейские, настороженные, с открытыми кобурами пистолетов, да редкие туристы, растерявшиеся перед нищетой, которая открылась им вдруг совсем неподалеку от богатых кварталов.
В Гарлеме грязноватые улицы, без дела слоняющиеся люди: многие жители гетто — безработные. Там тесные дворы, куда выходят окна крохотных каморок. Во многих домах нет отопления, и зимой гарлемцы выносят матрацы на кухни, к газовым плитам, или ставят в комнаты кастрюли с горячей водой.
Но, как я уже сказал, сегодня Гарлем в стороне от моей дороги. В стороне и Бауэри, улица ночлежных домов, лавок тряпья, кабаков, подле которых алкоголики процеживают «виски нищеты» — ядовитый денатурат — сквозь завернутый в тряпку хлеб.
К Бауэри примыкают кварталы, где люди еще пытаются бороться с судьбой. Там кирпичные доходные дома или гостиницы с номерами для одиноких, которые так малы, что их называют «комнатами для стояния». Но в этих закутках живут семьями, с детьми и стариками. Здесь журналист спросил однажды мывшую детишек под водопроводным краном женщину, как моется она сама, и услышал в ответ: «Вот что, мистер, я не принимала ни ванны, ни душа уже восемь лет. С тех пор, как живу здесь».
Я не иду сегодня к Бауэри, хотя до нее рукой подать. Мне хочется видеть не крайности, не трущобы, а обыденность бесчисленных кварталов, в общем ничем не примечательных. Именно они представляют собой как бы основную массу, слагающую огромный город.
Намеченная мною линия, разрезая Манхэттен от Баттери к Сорок второй улице, проходит лишь через один экзотический район. Миновав Сити-холл, я попадаю в кварталы Чайнатауна, нью-йоркского Китай-города. Неоновые иероглифы на вывесках, бумажные драконы и фонарики, китайские яства в витринах ресторанчиков… Впрочем, тут не только китайцы. Вон подле китайчонка, застенчиво переминающегося с ноги на ногу, католическая монахиня, растворившаяся в приветливости. А мать угрюмо и встревоженно косится на эту сцену из окна.
Китай-город кончился возле Канал-стрит, напоминающей густотой движения наше столичное Садовое кольцо.
Дальше я пошел по улице Лафайета, соседней с Бродвеем. В переулках — старые дома. Всё давно не мыто, не чищено. Фабрички готового платья в тесных зданиях с запыленными окнами. Харчевни в подвалах, обрывки газет, ларьки с мятыми старыми книгами: бери любую за полцены. Крохотный скверик: ограда, бетонный пол, одно серое дерево и несколько зеленых скамеек, на которых дремлют старики. Негр понуро, безнадежно роется в груде выброшенных на улицу ящиков. Почему-то совсем не видно детей.
Здесь не богатство и не бедность, а унылая серость. Это один из десятков «серых районов» Нью-Йорка. Они заметно отличаются от «черных» районов трущоб, но дух упадка и разрушения чувствуется уже и здесь. Обитатели «серых районов», живущие скудно, в перенаселенных квартирах, страдают от произвола домовладельцев и шаек хулиганов. Они стараются выкарабкаться «вверх», но чаще сползают в черные дыры трущоб.
Это сползание начинается незаметно. В общем, жилось терпимо, потом человек заболел, потерял постоянную работу. А раз нет такой работы, то уж нечего думать ни о докторах, которым надо платить кучу денег, ни о лекарствах: ведь на них одних можно разориться.
И вот болезнь запущена, потеряна и временная работа. Все убыстряется спуск по спирали нищеты: из прозябания в «сером районе» на дно трущоб и ночлежек Бауэри, откуда одна дорога — в приемный покой казенного госпиталя и на кладбище для нищих.
Видный американский сенатор Джеймс Фулбрайт написал однажды: «Трудно сказать, что в Нью-Йорке выглядит более угнетающе: джунгли стеклянных башен, которые лишили центральные районы города стройности и человечности, далеко раскинувшиеся трущобы, которые можно встретить повсюду, или серые пространства одинаковых, лишенных всякого очарования и индивидуальности кирпичных домов, олицетворяющих программу обновления городов».
Мне кажется, что наиболее угнетает в Нью-Йорке разновидность застройки, не упомянутая Фулбрайтом: серые пространства разрушающихся старых домов.
Дойдя до Четырнадцатой улицы, усталый и подавленный, я спустился в метро, чтобы уйти от этой гнетущей безликой серости, расползшейся на десятки, а может быть, на сотни кварталов.
* * *
— Сэр, всего один доллар!
У аппарата на треноге дежурит фотограф. Он может сделать ваше цветное изображение. Фон — Нью-Йорк с высоты Эйфелевой башни, взгроможденной на пирамиду Хеопса.
Снимок города будет чрезвычайно отчетливым. Качество гарантируется при любом скоплении газа и дыма в воздухе. Хотя живой Нью-Йорк вот он, внизу, фотограф снимает вас на фоне панно, изображающего то, что вы видите в натуре.
Я трижды поднимался на сто второй этаж Эмпайр стейт билдинга. Первый раз видел самые пустяки. Телескопы для зрителей, действующие после того, как вы на минуту утолите их вечный голод монетой, выхватывали из смрадного тумана только верхние этажи универмага Мейси, известного в Нью-Йорке не меньше, чем ГУМ известен в Москве, крышу Пенсильванского вокзала да окрошку из людей и машин на какой-то ближайшей улице, попавшей в поле зрения.
Говорят, что площадка сто второго этажа заключена в стеклянный футляр для того, чтобы самоубийцы не выбирали ее при расчетах с жизнью. Стекло защищает и от ветров, резво гоняющих облака чуть повыше. Оно полупрозрачно из-за надписей. Уму непостижимо, как на глазах бдительных служащих любители ухитряются выцарапывать алмазом росписи, да еще и с завитушками!
Эта глупая привычка — марать все, что попадается под руку, — очень стара. Наверно, бездельники выбивали свои памятные знаки на скалах еще в каменном веке. Во время раскопок Помпеи, погибшей при извержении Везувия в начале нашей эры, археологи с горестным изумлением обнаружили на стенах и колоннах надписи: «Здесь был такой-то…»
Когда осенью 1929 года на Тридцать четвертой улице на площадке будущего здания-гиганта появились первые экскаваторы, у нас рыли котлованы с помощью лопаты, грабарки и сивки-бурки мощностью в половину лошадиной силы: корма было не вволю. Казалось, площадку тракторного завода на Волге и строящийся Эмпайр разделяла дистанция едва ли не в полвека.
И сегодня американские строители кое в чем превосходят наших — скажем, в безукоризненной четкости доставки всего нужного на строительную площадку. Но хотел бы я посмотреть сейчас на американца, который всерьез усомнился бы, что Иван без помощи Джона построит, если понадобится, дом в полтора Эмпайра высотой.
Для туристов Эмпайр — место, где следует опустить открытку с Эмпайром в почтовый ящик, чтобы черный кружок штемпеля документально засвидетельствовал пребывание отправителя на макушке одной из главных нью-йоркских достопримечательностей.
Для двадцати же пяти тысяч людей, которые по утрам бегут к шестидесяти скоростным лифтам, Эмпайр — место, где надо тянуть служебную лямку. Для них это вызов к боссу, торопливый ланч в кафетерии, пересуды о распродаже у Мейси и последних матчах бейсбола, картотеки, арифмометры, чужие миллионы в графах баланса и свои тощие бумажники в кармане стандартного пиджака.
Эмпайр не раз переходил из рук в руки, причем цена все увеличивалась: покупательная способность доллара падала быстрее, чем старилось здание. При мне небоскреб купила компания дельцов во главе с неким Вином.
Позднее пронесся слух: Вин перепродает Эмпайр страховой компании — собственнице земли, на которой стоит небоскреб, — причем за полцены. Почему? Я спросил Майкла. Он ответил чрезвычайно серьезно:
— Дело было на пароме, увозящем после работы дельцов Уолл-стрит в Нью-Джерси. «О Джек! — вскричал один бизнесмен, хватая за руку своего компаньона. — Мы забыли закрыть сейф с деньгами!» — «Ну и что же? — спокойно ответил тот. — Мы же здесь оба».
— Ну и что же? — повторил я в свою очередь, не поняв, какое отношение имеет эта история к продаже Эмпайра.
Майкл пояснил, что, продав небоскреб, мистер Вин тотчас возьмет его у страховой компании в аренду, скажем, на девяносто девять лет. Об этом уже писалось в газетах.
А дешево получив Эмпайр, компания и за аренду будет брать сущие пустяки — таково условие сделки. В целом же это означает очень, очень существенное уменьшение подоходного налога, и, значит, немалые денежки останутся в сейфах мистера Вина и страховой компании, вместо того чтобы пополнить налоговую кассу правительства. Компаньоны вполне стоят один другого. Им нужно опасаться только друг друга, как тем двум господам на пароме.
…Для последнего подъема на Эмпайр я выбрал солнечный день «индейского лета» — так называют в Америке ясную осеннюю пору, похожую на наше бабье лето. Были видны и Гудзон с паутиной чудесного моста Джорджа Вашингтона, и залив с кораблями, и зеленый прямоугольник Центрального парка, и многое другое, знакомое и незнакомое. Высота и расстояние приукрасили город голубой дымкой, подретушировали и высветлили его кварталы. Отсюда не различались ни облупленные фасады района Вест-Сайда, ни узкие улицы Гарлема, ни дворы-колодцы. Над тонущими в тени улицами вздымались, подавляя все окружающее, голубовато-зеленые глыбы новых небоскребов.
Пусть, думалось мне, еще очень далеко от совершенства то, что сделано человеком там, внизу. Но тянется, тянется к солнцу человек-строитель! Разве он строил этот город так, как ему хотелось? Своекорыстный расчет, честолюбие, эгоизм тех, кто правит здесь, мешали ему. Погоня за прибылью была и остается главным архитектором города-колосса.
Нью-Йорк первым из крупных городов мира «полез в небо». Небоскребы долго были его отличительным признаком. Они вызывали почтительное удивление строительной техникой американцев. Но редко кто признавал их выдающимися произведениями архитектуры.
— Нет, Нью-Йорк не современный город, — говорил Маяковский писателю Майклу Голду.
Поэт доказывал, что Нью-Йорк — гигантское недоразумение, а не зрелое творчество людей, которые понимают, чего они хотят, и работают по плану, как художники. Небоскребы, например, должны быть чистыми, стремительными, совершенными и современными, как динамо, тогда как американские архитекторы рассыпают по их фасадам устаревшие готический и византийский орнаменты. Это все равно что нацепить розовый бантик на экскаватор!
Крупнейший из американских архитекторов Фрэнк Ллойд Райт едва ли был знаком с этими мыслями поэта. Однако он тоже издевался над отрепьями старой архитектуры на стальных каркасах небоскребов.
Райт писал о торгашеском высокомерии, требующем, чтобы здания банков напоминали о величии Рима, а память бабушки удачливого спекулянта увековечивалась «классическим» подобием готического собора. Он говорил об избитых подражаниях в архитектуре, выдаваемых за современность, о том, что бессмысленное ложноклассическое украшение зданий в греко-римском стиле губит их внешний вид.
«Наборы кирпичных и каменных фасадов, сверкающие вывески и угрюмые мертвые стены, ряды горных вершин, которые поднимаются одна за другой из пересекающих друг друга каньонов. Внизу, в сужающихся улочках, все напряжено до крайности, стонет, гремит, вопит!» Так писал Райт о Нью-Йорке.
Но, обличив тиранию небоскребов, он вдруг взял да и набросал проект… сверхнебоскреба в пятьсот двадцать восемь этажей, который поднялся бы на милю вверх и мог бы вместить сто тысяч человек! Старый архитектор находил, что один такой гигант все же лучше хаотического нагромождения похожих на дымовые трубы монотонных громад делового центра больших американских городов. Десять сверхнебоскребов могли бы вместить весь деловой Манхэттен, освободив пространство для садов и парков.
Маяковский видел Нью-Йорк в 1925 году. Книга Райта вышла в 1953-м. Угрюмые громады, о которых говорили большой поэт и большой архитектор, по сей день высятся кое-где над трещинами улиц.
Но в шестидесятых годах строили уже другие небоскребы: сталь, алюминий и стекло, никаких накладных украшений, простота форм, обилие света и воздуха. Строили не только в Нью-Йорке, но и во многих городах на всех континентах. Рядом со «стариками» они не казались громадными.
Канун семидесятых годов был для Нью-Йорка особенно урожайным на небоскребы. Крупнейшие монополии как бы соревновались друг с другом, возводя свои новые штаб-квартиры. Ломали двадцатиэтажные дома, строили сорока-пятидесятиэтажные. Появились стеклянные громадины в тех кварталах, где глаз давно привык к пыльным, мрачным фасадам, стоявшим с прошлого века.
Многие новые небоскребы не так высоки, как можно было бы ожидать при современной строительной технике. Почему? Забота монополий о ближних, о том, чтобы в улицы хоть изредка проникал солнечный луч? Вот уж нет!
Когда решают, на сколько этажей должен подняться дом, думают не о солнечных лучах. Высотой командует доллар.
Там, где выгодно строить высокие здания, строят высокие. В 1971 году Нью-Йорк возводил две одинаковые башни по сто десять этажей. Их высота — более четырехсот метров. Здания должны быстро окупить себя, в них будет работать пятьдесят тысяч человек — население небольшого города.
Но в некоторых районах Нью-Йорка воздвигать слишком высокие дома не выгодно. По закону они должны сужаться на определенной высоте, причем в узких улицах довольно значительно. Широких же улиц в Нью-Йорке мало, особенно в старой части города, где земля так дорога.
Но что такое дорогая земля? Сколько, например, стоит гектар? Наивный вопрос! Нью-Йорк давным-давно не считает на гектары. В наиболее бойких местах приходится платить несколько тысяч долларов за квадратный метр. Чтобы открыть здесь газетный киоск, надо обладать солидным капиталом!
Писатель Гей Теллес считает, что в некоторых частях города каждое дуновение ветерка стоит около доллара, а павильончик на людном перекрестке, где торгуют горячими сосисками и бутербродами, нельзя купить даже за миллион долларов!
Миллион за павильон — это несколько дороговато, но понятно. А дуновение ветерка? Как его продашь и купишь?
Довольно просто. На Пятом авеню есть дома, владельцы которых платят десятки тысяч долларов в год за то, чтобы хозяева соседних, более низких зданий не надстраивали этажи и не мешали притоку воздуха.
* * *
Манхэттен, Манхэттен, «весь Нью-Йорк»…
Он удивляет и пугает, притягивает и отталкивает.
Известный американский фельетонист пишет о посадке на Манхэттене искусственного спутника с Венеры. Получив информацию, посланную приборами спутника, венерианские ученые пришли к выводу, что на Земле нет жизни. В самом деле: земная поверхность состоит из прочного бетона, исключающего возможность появления растений, атмосфера наполнена углекислым и другими смертоносными газами, вода в реке загрязнена и не годится для питья. Единственные обитатели Земли, решили венериане, — металлические штучки, которые движутся по определенным направлениям, наполняя все вокруг шумом и часто врезаясь друг в друга…
Для иностранцев, приезжающих в Нью-Йорк, именно Манхэттен олицетворяет величайший город Америки. Манхэттен вобрал в себя богатство и нищету, красоту и уродство, величие достижений техники и убожество духа.
Выразительный портрет современного Манхэттена набросал итальянский писатель Альберто Моравиа.
Он сравнивает новые небоскребы со сверкающими ракетами из белого цемента, серой стали и ослепительного стекла. Они устремились ввысь, стройные и головокружительные. Это уже не ступенчатые вавилонские башни, а скорее нагромождение электронных машин, механический мозг, стиснутый в узком пространстве: каждый небоскреб в несколько десятков этажей содержит, подобно мозгу, сотни клеток.
Как и всякий мозг, он получает кровь для того, чтобы нормально действовать. Она приливает из ближайших городов и пригородов, из мрачных тайников подземки, из грязных, переполненных поездов. Множество людей спешит к небоскребам, и от артерий-лифтов растекается по голым коридорам в клетки-комнаты с одинаковыми дверями.
Но чем занят мозг Манхэттена? Какова цель его деятельности?
Деньги, все время деньги, прежде всего деньги!
Миллионы сложнейших операций ради одной цели — прибыли!
Сорок вторая улица
Почему именно она? — Заповеди постояльцу. — Тюдорситская провинция. — Империя мальчика Фрэнка. Семь мужей императрицы. — В долгу как в шелку. — Приятного аппетита! Пойдемте в кино? — Мой друг Дима и черная магия. — Джонни сел за парту
Теперь пойдет рассказ об одной из улиц Нью-Йорка — Сорок второй улице Манхэттене.
Почему именно о ней, а не о какой-нибудь другой? Ведь длина всех нью-йоркских улиц — несколько тысяч километров: есть из чего выбирать. Так почему же Сорок вторая?
Нет, не только потому, что на этой улице я прожил три осени и знаю ее лучше других. Не потому, что это была «моя улица», мой временный «дом», пусть чужой и неуютный, но все же «дом», куда спешишь после сумасшедшей беготни, сутолоки, грохота и еще бог знает чего, чем давит, оглушает и утюжит человека Нью-Йорк.
Зыбкое «чувство дома» возникало обычно поздно вечером, когда тащился я по Сорок второй навстречу неоновым буквам гостиницы «Тюдор». Вот сейчас поднимусь в лифте, открою дверь, сброшу башмаки и пиджак, повалюсь на кровать хоть на четверть часика — так просто, ни о чем не думая, собираясь с силами, чтобы, освежившись под душем, сесть за газеты и дневник.
Задумав рассказать подробнее об одной нью-йоркской улице, я наметил для себя Сорок вторую и по другим причинам. Всякий житель Нью-Йорка скажет вам, что известностью она не так уж уступает Бродвею. Ее считают главной среди двухсот поперечных улиц Манхэттена. Пусть Парк-авеню красивее, Пятое авеню — роскошнее и богаче. Однако они лишены того многообразия, которое влечет на Сорок вторую гостей Нью-Йорка. Именно Сорок вторая как бы собрала в свои кварталы-всего понемногу от Манхэттена, даже от Нью-Йорка в целом.
Но прежде чем решить окончательно, я спросил Майкла, какая, по его мнению, манхэттенская улица наиболее типична?
Майкл насторожился. Русские ведь считают, что Нью-Йорк — «город желтого дьявола», не так ли? Значит, русскому другу наиболее подойдет Уолл-стрит. «Желтый дьявол» недурно там устроился. Можно также в тысяча первый раз описать Бродвей, улицу, где люди тратят деньги, заработанные не ими, на вещи, не нужные им или нужные лишь для того, чтобы произвести впечатление на людей, которых они не любят. А можно сделать и так: роскошь Пятого авеню — 14 рядом ночлежки Бауэри. Для контраста. И все будет в порядке.
— Майкл, — сказал я, — мне хотелось бы улицу, которой гордятся сами нью-йоркцы. Ну вот вы, например…
— Ах, вот как! Но мой вкус едва ли совпадет со вкусом среднего нью-йоркца, должен предупредить вас сразу. Идемте!
— Майкл, ведь поздно, уже десять часов…
— Нет, именно сейчас!
Я покорно поплелся за Майклом. На ходу он ворчал, что Нью-Йорк не такой уж плохой город, когда узнаешь его хорошенько. Есть много людей, влюбленных в него. Конечно, в нем масса нелепостей. Верно и то, что тут соседствуют блеск и нищета, настоящее искусство часто заслонено жалкими и пошлыми поделками, и каждый третий нью-йоркец наверняка хоть раз в жизни пожелал своему городу провалиться сквозь землю…
Мы пошли по Третьему авеню мимо антикварных лавок, мимо переполненных в этот час баров, мимо фруктовых магазинчиков, откуда вкусно пахло апельсинами.
— Нет, еще рано, — неожиданно решил Майкл. — Зайдемте-ка сюда.
В маленьком кафе, увешанном гравюрами с видами Везувия, знали моего знакомого и его вкусы. Появились чашечки кофе, сваренного по старому итальянскому рецепту, с корицей. Хозяйка в накрахмаленном чепце предложила отведать какого-то особенного пирога с лимоном. За столиками сидели парочки, магнитофонный тенор вполголоса пел неаполитанские песни. Я сказал, что кафе совсем не нью-йоркский.
— Напротив, именно самый нью-йоркский! — запальчиво возразил Майкл. — У этого города тысяча лиц. Вы найдете здесь всё: китайские деликатесы и русские блины, живого бегемота и наследного принца из азиатского княжества, лавки древностей и самые большие в мире универмаги. Вы найдете такие милые уголки, как этот, и вертепы, каких не знали Содом и Гоморра… Однако нам пора.
Мы прошли еще немного по Третьему авеню и свернули направо. Я никогда не бывал здесь. К Ист-ривер тянулась улица, застроенная невысокими особняками. Вскоре мы вышли на берег.
Внизу журчала вода. Тишина и мир были разлиты в ночном воздухе. Большая темная машина остановилась у подъезда. Старые платаны шелестели листвой за решеткой небольшого садика. Ни одной освещенной витрины — только мягкий свет за оконными шторами.
Если бы я очутился здесь внезапно и меня попросили бы угадать, какой это город, Нью-Йорк я назвал бы последним…
— Ну? — Майкл вопросительно посмотрел на меня. — Нравится?
— Нравится. Но сколько таких улиц в Нью-Йорке?
— Не так много. Даже мало. Но их надо знать. У Нью-Йорка тысяча лиц, и нельзя увидеть их все. Но тот, кто видит лишь его гримасы, никогда не поймет нашего города. Я не настаиваю, чтобы вы писали об этой улочке. Просто я люблю приходить в эти строгие и тихие дорогие кварталы усталым до чертиков, чтобы просидеть полночи у реки. А теперь скажите, какую улицу вы наметили сами?
— Сорок вторая, — сознался я.
— Ну что ж. Правда, в толпе на Сорок второй туристов больше, чем настоящих нью-йоркцев. Это средняя из хороших улиц. Нет, даже выше, чем средняя. Пишите о Сорок второй. Но не забывайте, сколько лиц у Нью-Йорка. Вот для этого я, толстый и, в общем, ленивый человек, и привел вас сюда чуть ли не в полночь. Прошу вас, не ленитесь и вы, уходите иногда с вашим читателем под руку в стороны от Сорок второй. Загляните с ним и сюда, в эту тихую улочку, где Бизнес еще не успел расправиться с Поэзией.
Меня поразила взволнованность Майкла, и я пообещал начать рассказ о Сорок второй с этого нашего разговора.
…Сорок вторая застраивалась когда-то от Ист-ривер, Восточной реки. Но это не значит, что сегодня по ней можно свободно пройти к реке.
Река отделена от улицы. Набережной в обычном смысле нет.
Вдоль берега проложена автомобильная сверхмагистраль — дорога Франклина Рузвельта. Она не имеет пересечений. Это набережная для машин, а не для людей. Перебежать к реке через полосу асфальта, где в шесть рядов мчится, шурша резиной и сверкая никелем, сама смерть, может только человек, которому почему-то кажется, что без этого его впечатление от Сорок второй не будет полным.
Перебегаю. По ту сторону дороги — каменистый, поросший пыльной травой и перепачканный машинным маслом спуск к реке. Из воды торчит скалистый островок с красным мигающим маячком. Подле, на быстротоке, галдят, ссорясь, чайки. Буксирчик, вклинившись между баржами с песком, натужно толкает их впереди себя. Где-то под ними в скалистом дне пробит тоннель в заречье.
На противоположном берегу — рабочие кварталы. Вместо небоскребов поднимаются ввысь трубы: ведь в Нью-Йорке множество фабрик и заводов, из каждых трех работающих горожан один трудится на промышленном предприятии.
На манхэттенском берегу выделяются лишь известные всему миру красивые здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. А подальше — трубы электростанции, угольные причалы, черная пыль, клубящаяся в воздухе, заборы, зеленое пятно дальнего парка, снова склады и причалы, причалы и склады. Ни набережной, ни бульвара.
В первые послевоенные годы нам жилось трудно, но мы повернули все же многие наши приречные города «лицом к воде». Настроили набережные, засадили их душистой липой, березой и тополем, намыли песчаные пляжи — пусть люди радуются.
Так неужели Кострома или Кинешма богаче Нью-Йорка? Почему этот перенабитый город, пропахший бензиновой гарью, с плохо продуваемыми узкими улицами не откроет своим жителям реку хотя бы в самом центре?
Праздный вопрос. Вот если бы набережная помогала превращать один доллар в два — например, если бы можно было брать с посетителей плату, какую в Нью-Йорке берут за переезд по мосту, — тогда другое дело.
И как же уныл со стороны реки «Тюдор-сити» — городок жилых домов, построенный в конце Сорок второй улицы! Архитектора не интересовало, какого мнения о его таланте будут пассажиры речных судов. Свои творения он повернул к реке кирпичными голыми спинами. Даже окон почти нет. С фасадов — подражание готике, с тыла — черт знает что!
Рассерженный и разочарованный экскурсант, улучив момент, снова перебегает автомобильную набережную. Поднявшись на мост, перекинутый над улицей, он видит всю Сорок вторую из конца в конец, от Ист-ривер до Гудзона. Неясно обозначается даже высокий берег за Гудзоном. Там уже не Нью-Йорк, а штат Нью-Джерси, со своими законами, несколько отличными от нью-йоркских, чем ловко пользуются жулики и пройдохи в обоих штатах-соседях.
В каньоне Сорок второй — тень. Лишь перекрестки прочерчены линиями света: солнечные лучи контрабандой проникли туда через авеню, пересекающие улицу.
Дневное светило на Сорок второй подолгу гостит лишь в самых верхних этажах. Для уличного движения это даже лучше: ярче горят зеленые и красные огни светофоров, солнечный свет не слепит водителей. И рекламные огни не имеют соперника. А как увяла, обесцветилась бы в солнечном сиянии их безмолвная, невеселая пляска!
Если пойти теперь в сторону Гудзона, то улица предложит вам небольшой набор небоскребов. Он может служить наглядным пособием для архитектора, пожелавшего узнать историю американского высотного строительства за последние полвека.
Вот «старичок» Чанин-билдинг, мрачновато-величественный, с металлическим фризом по фасаду, на котором изображены рыбы, медузы, водоросли и другая морская живность.
Напротив — молодящаяся башня автомобильной корпорации «Крайслер»: вершина в чешуе старомодных полусводов, а белая пристройка соперничает с небоскребами среднего возраста — например, со зданием газеты «Дейли ньюс». В нем окна занимают уже больше площади, чем на фасадах «стариков». Молодой небоскреб напротив, построенный фармацевтической корпорацией «Пфайзер», сверкает сплошным стеклом, разделенным узкими полосками стали.
Всю эту семейку подавляет здание авиационной компании «Пан-Америкен»: пятьдесят девять этажей, причем не вытянутых башней, а вставших упрямой, слегка выпуклой стеной. Знаменитый Центральный вокзал как бы сжался и присел у подножия этого гиганта.
Среди всех этих штаб-квартир монополий, банков и корпораций, на углу Пятого авеню — Нью-йоркская публичная библиотека. Вытянув за собой на целый квартал зеленый шлейф парка, со своими классическими колоннами и каменными львами, она кажется гостьей из какого-то другого города, случайно задержавшейся на перепутье.
Еще квартал, и мы у Таймс-сквера, у этой Мекки правоверных нью-йоркских паломников. Здесь самая шумная, самая перенасыщенная рекламными вывертами часть Бродвея, идущего через Манхэттен наискось, врезается в нормальный прямоугольный перекресток Сорок второй улицы с Седьмым авеню.
И, как бы заразившись у Бродвея, Сорок вторая свой следующий квартал залила по обе стороны светом миллионов лампочек. Этот квартал никогда не гаснет и никогда не спит: здесь самое большое в Нью-Йорке скопление кинотеатров. К ним прилепились бары, развлекательные заведения, магазинчики, почему-то называемые книжными, но торгующие гороскопами, толкователями снов, пособиями по черной магии, непристойными открытками. Тут же, возле стены сберегательного банка, любимое место уличных проповедников, обличающих пороки никогда не спящего квартала.
От угла Пятого авеню до угла Восьмого десять минут хода. Это путешествие по живой диаграмме американской городской жизни. С каждым кварталом-клеточкой мы опускаемся по кривой всё ниже, ниже…
На углу Восьмого авеню невзрачный вход в сабвей напоминает лестницу в подземную общественную уборную.
О Восьмом авеню писатель Гей Теллес говорит: это печальная улица, «ее неоновые огни освещают стойки барменов, курящих девиц, бескозырки матросов и батареи бутылок пива. Это улица винных магазинов и ночлежных домов, улица нищих, которым не подают… Это улица, где хулиганы вырвали стеклянный глаз у портового грузчика Клиффорда Джонсона и выбросили его в сточную трубу. Здесь повар Рафаэль Торрес, рассвирепев, что автобус прошел мимо него не остановившись, вскочил в такси, догнал его и всадил нож в шофера…»
Это улица, где много магазинчиков, в которых трубки телефонов-автоматов «настолько грязны и липки, что вам противно приложить их к уху». Это улица, по которой после конца театрального представления движется толпа, старающаяся не замечать нищих и проповедника на Сорок второй, кричащего: «Грешники! Грешники! Библия учит, что без пролития крови вам не очиститься от греха!»
Угол Девятого авеню. Стрела-указатель: поворот машин в тоннель, который, нырнув под Гудзон, появляется снова на свет божий уже за пределами Нью-Йорка, в Нью-Джерси. Он отнимает у Сорок второй и без того поредевший поток автомашин. Но от этого перекрестка до Гудзона, где улица сравнительно пустынна, как раз и обосновалась муза дальних странствий. Сорок вторая еще раз изменила облик, отдав кварталы одному из транспортных узлов Нью-Йорка.
Тут машины чистят, ремонтируют, заправляют горючим. Здесь все виды транспорта, за исключением конного, обмениваются людьми и грузами.
Целый квартал рядом с Сорок второй занял семиэтажный вокзал междугородного автобусного сообщения — самый большой в мире. Он рассылает и принимает каждые сутки несколько тысяч автобусов. Свыше двухсот тысяч человек ежедневно начинают или заканчивают здесь свои путешествия. Огромные машины забили бы улицу тугой пробкой, но хитроумная система подземных путей и тоннель под Гудзоном выпускают их либо уже за рекой, либо на улицы с небольшим движением.
Между Девятым и Десятым авеню — Вест-Сайдский аэровокзал: яркие глянцевитые обложки проспектов международных авиакомпаний, торопливо стучащие каблучками стюардессы с сумками через плечо. Но отсюда не улетают: здесь, как и на аэровокзале Ленинградского проспекта в Москве, собираются, чтобы ехать на аэродромы.
Кажется, что в этом районе сама Сорок вторая готова сняться с места и двинуться в лучшие края. Многоэтажные гаражи и открытые площадки действуют круглые сутки. Вдоль улицы уже не отели, а мотели: нижние этажи занимают «крайслеры» и «форды», верхние — их владельцы. Пронзительно ярко окрашены заправочные станции «Ессо» и «Мобил», двух конкурирующих нефтяных монополий. В большом здании оптом торгуют грузовиками. Наконец, у берега Гудзона огромный загон. Он набит автофургонами-экспрессами с красным ромбом на кузовах — эмблемой агентства, занятого скоростной доставкой грузов в любой штат страны.
А рядом — обломки иной жизни. Сотни кварталов-прямоугольничков по обе стороны от Сорок второй на карте имеют всего несколько значков: отели, церковь, госпиталь, дом телефонной компании. Остальное — ничем не примечательная сетка улиц.
Тут бары с пыльными окнами, магазинчики, где вещи в витринах выглядят уже бывшими в употреблении. В щелях тротуара и у заборов из поржавевшей металлической сетки жесткая трава. Небрежно одетые женщины с тяжелыми сумками болтают возле мусорных проволочных корзин. Скучающий франт-пуэрториканец в красном жилете и с красной же «бабочкой» на шее глазеет на прохожих. Стучат машины в швейной мастерской, откуда старый негр катит к фургону вешалку на колесиках с готовыми платьями…
Десятое, Одиннадцатое авеню. Двенадцатое, которое могло бы стать набережной Гудзона. Но никакой набережной нет и здесь, как не было на другом конце Сорок второй, возле Ист-ривер. Только тут Гудзон отделен от улицы эстакадой автомобильной дороги, приподнятой для того, чтобы открыть доступ к грузовым причалам.
Двухпалубный корабль стоит возле частокола старых свай, где колышется зеленая бахрома водорослей. Стрелы поднимают из трюма кипы хлопка.
Парень с девушкой перебежали улицу и остановились у воды. Девушка крошит хлеб. Слетаются чайки и голуби. Степенные сизари неуклюже мечутся в снежной стае легкокрылых птиц, подражая им и пытаясь ловить куски на лету.
Кончился хлеб. Птицы разлетелись. Парень набрасывает на плечи девушки пиджак, и они долго смотрят на реку, на блеклую осеннюю зелень за Гудзоном.
Оставим их вдвоем. Вернемся в теперь уже знакомые кварталы. Но не будем спешить.
Станем обживать Сорок вторую.
Начнем от Ист-ривер, где улица выходит к штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Несколько ее зданий образуют как бы международный островок среди кварталов Манхэттена. Здесь прямоугольный небоскреб секретариата ООН двумя широкими стеклянными стенами смотрит на реку и город. Две узкие боковые — без единого окна — облицованы чудесным голубовато-зеленым камнем, прозванным «жемчугом Вермонта».
А подле этой громады, не заслоняя ее, не мешая ей отражать зеркалом стекол бегущие в небе облака, невысокое здание с гладким, без украшений, куполом. В нем заседает Генеральная Ассамблея ООН.
Все на этом международном островке сработано просто, удобно, величественно. Лучшие архитекторы мира составили проекты. Знаменитые художники расписали стены. Каждый народ постарался, чтобы здесь была хотя бы крупица его труда и таланта. Ребята с греческого острова Родос собрали, например, много красивого черного камня, которым украшен главный фонтан. Деньги на постройку этого фонтана накопили американские школьники. Металлурги Канады сделали превосходные двери из никелированной стали.
В знак верности делу мира советские люди послали на берег Ист-ривер скульптуру человека, перековывающего меч на плуг, и копию первого спутника, начавшего мирное освоение космоса.
Своей эмблемой нации, объединившиеся во имя сохранения мира на земле, выбрали земной шар в обрамлении ветвей оливы. Эта эмблема изображена на голубом флаге ООН. Она украшает и зал заседаний Генеральной Ассамблеи, куда каждую осень съезжаются представители большинства государств нашей планеты.
Когда весной 1945 года создавалась Организация Объединенных Наций, перед входом в здание, где это происходило, развевалось пятьдесят флагов. Наш алый флаг был и в числе пяти флагов великих держав, постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущего главную ответственность за поддержание мира.
А осенью 1970 года, когда Организация Объединенных Наций торжественно отмечала «серебряный юбилей», четверть века своего существования, на высоких мачтах перед ее штаб-квартирой подняли уже сто двадцать семь флагов. За четверть века мир неузнаваемо изменился. На месте бывших колоний возникли новые независимые государства, и главное их пополнение дала Африка.
Торжественное открытие сессии Генеральной Ассамблеи происходит обычно в один и тот же день — в третий вторник сентября.
Хорошо прийти пораньше, когда зал заседаний почти пуст. Он торжествен и прост. Ни позолоты, ни колонн. С темно-голубых ребер купола льется мягкий свет. Стены украшают две огромные фрески: свободно-причудливое сочетание желтых, небесно-голубых и белых оттенков с одной стороны; красных, белых, темно-серых — с другой.
Над местами делегатов боковые стены прорезаны застекленными ярусами. Там фоторепортеры, кинохроникеры и операторы телевидения. Их видно, но не слышно: прозрачнейшие стекла, не мешая съемке, скрадывают стрекот и жужжание камер. Журналистам, имеющим на вооружении лишь ручки и блокноты, отведен балкон позади мест делегатов.
Полукружье делегатских столов обращено к возвышению, куда ведут четыре ступени. Там трибуна из темного с прожилками камня. «С этой высокой трибуны», — говорят о ней ораторы. Но зрительно она совсем невысока, куда выше ее облицованный светло-зелеными плитами прямоугольник, прикрывающий стол, за которым всего три кресла. В центре — место председателя Ассамблеи, справа от него — место генерального секретаря, слева — помощника секретаря.
Я любил наблюдать, как заполняется зал. Белые просторные одежды жителей тропических стран, черные лица африканцев, смуглые физиономии арабов, бороды кубинцев, раскосые глаза монголов, незнакомая почти никому речь племен Океании, бойкий говор гостей из Латинской Америки…
Председатель по традиции приглашает соблюсти минуту молчания, посвященную размышлению или молитве.
Воцаряется тишина.
Минута на размышление… Пожалуй, для него не грех бы отводить куда больше времени.
«Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны… проявлять терпимость и жить вместе в мире друг с другом, как добрые соседи…»
Таковы первые строки Устава ООН. Но почему же эта организация не выполняет волю народов: давайте разоружаться, давайте жить в мире! Идет война во Вьетнаме, напряженно на Ближнем Востоке.
Швейцарские ученые насчитали в истории человечества 14 513 больших и малых войн. Это лишь с той поры, когда за 3200 лет до нашей эры началась их более или менее достоверная летопись. За пять тысяч лет человечеству выпало всего 292 мирных года! Но и неполные три века затишья слагались из множества коротких передышек, отравленных страхом перед новыми войнами.
После пяти тысячелетий пришло время, когда могуче выросшие силы мира, возглавляемые нашей страной, успешно борются за предотвращение войн.
Борьба эта трудна. Международный островок, к которому выходит Сорок вторая улица, знал немало разочарований. И все же он остается островом надежд для миролюбивых народов планеты.
* * *
Вернувшись в Питтсбург или Охайо, солидный бизнесмен не бросит небрежно:
— В Нью-Йорке? Как всегда, в «Тюдор-отеле».
«Тюдор» — не высокая марка. Здесь нет роскошных апартаментов для нефтепромышленников или скотовладельцев, приехавших в Нью-Йорк поразвлечься. «Тюдор» возвели в двадцатых годах и ни разу капитально не перестраивали: было решено, что когда здание совсем устареет, его снесут.
Нововведения, которые я заметил за три года, заключались в том, что в вестибюле картину, изображающую пастуха и пастушку возле увитой плющом изгороди, перенесли на другое место и подсветили лампочками, а стены в узких коридорах перекрасили в розовый цвет, отчего особенно выделились ярко-красные двери комнат.
Менее бросающиеся в глаза, но безусловно замечаемые каждым приезжим перемены коснулись цен. Они росли год от года. Надо полагать, эти перемены были вызваны расходами по перевешиванию картины и вздорожанием розовой краски…
Несмотря на то что «Тюдор» стар и не дешев, номера в нем пустовали редко. Очень уж удачно расположен отель: Сорок вторая улица, всё под боком — и метро, и автобусные линии, и магазины. А главное — соседство с многонациональным островком штаб-квартиры ООН.
Владельцы гостиницы самым искренним образом приветствовали роса числа членов международной организации. Растет ООН в основном за счет стран небогатых, которые без риска пробить брешь в государственном бюджете не могут оплачивать своим делегациям счета за апартаменты в роскошной и сверхдорогой «Уолдорф-Астории».
Африканские делегаты охотно селились в «Тюдоре»: здесь подчеркнуто не замечали разницы в цвете кожи постояльцев, делая на этом бизнес. «Тюдор» приобрел таким образом интернациональную клиентуру, навсегда потеряв при этом лишь небольшую часть своих прежних постояльцев — мелких дельцов и туристов из Миссисипи, Луизианы, Алабамы и других южных штатов.
Я сменил в отеле семь номеров. Они отличались друг от друга только степенью шума, проникающего через стены и окна. Свет осенью не имеет большого значения. Но шум…
В Нью-Йорке платят за тишину.
В Копенгагене или Стокгольме полицейские и пожарные мчатся по городу с певучими клаксонами, настораживающими регулировщиков движения, но щадящими нервы пешеходов. В Нью-Йорке полицейская машина воем сирены может поднять мертвого. Несколько пожарных машин, мчащихся друг за другом по пустой ночной улице, надежно прогоняют сон часа на два. Днем посильный вклад вносят рекламные динамики, установленные на автомашинах. Наконец, истинное исчадие ада — тяжелые грузовики. Как они ревут, трогаясь с места после смены красного света зеленым! В облаках синего едкого дыма стада мастодонтов XX века мчатся, глуша все остальные звуки улицы.
Я пытался спасаться от шума на двадцатом этаже. Тщетно! Конечно, звуки несколько ослабляются высотой; но двадцатый этаж «Тюдора» располагался в башне, открытой ветрам, приносящим шум и гам со всех четырех сторон.
Только последнюю осень, надоумленный швейцаром, я попросил номер «в колодце». Его окна выходили в темный внутренний дворик. В таких номерах сидят днем с огнем. Но при закрытом окне в комнату доносился лишь равномерный слитный гул, к которому легче привыкнуть.
Номер «в колодце» был обставлен беднее других. Видимо, относительная тишина считалась равноценной заменой второму стулу и торшеру. Площадь метров десять плюс туалетный загончик с душем, отгороженным занавеской из пластика. Убранство: широкая кровать, встроенный в стену шкаф, стул, кресло и комодик с откидной доской секретера, заменяющего стол. Инвентарь: репродукция на стене, Библия в верхнем ящике комодика и пудовые телефонные справочники по 1800 страниц — в нижнем.
На обороте обложки библейского томика картинка: небоскребы Манхэттена, над которыми парит в небесах святая книга. От книги, сияющей светом истины, лучи падают на Эмпайр стейт билдинг, на Уолл-стрит и на статую Свободы. Надпись призывает во всем следовать слову божьему.
Поскольку обитатели гостиниц большей частью люди занятые, Библия снабжена указателем предлагаемого чтения: как стать настоящим христианином, как развивать в себе истинно христианский характер, как пользоваться Библией, когда нужна помощь в чем-либо, наконец, какой именно награды вправе ждать истинно верующий в этой и в загробной жизни.
В конце томика карта Палестины, план Иерусалима и карта Средиземноморского бассейна с обозначением упоминаемых в Библии мест. Тут же штамп гостиницы и номер комнаты в предостережение тем, кто пожелал бы унести слово божье не в сердце, а в чемодане.
Когда Майкл впервые забежал на минутку ко мне в «Тюдор», то прежде всего внимательно и критически осмотрел убранство номера. Внушительная фигура моего знакомого лишь подчеркивала тесноту. Сев в кресло, Майкл повертел в руках Библию и сказал, что владельцы «Тюдора» сами никогда не заглядывали в святую книгу, потому что драть восемь долларов в сутки за такой закуток могут только люди, начисто забывшие заповедь о любви к ближнему своему.
— Здесь же нечем дышать! — ворчал Майкл, прикладывая вчетверо сложенный платок ко лбу. — Но прежде чем покинуть эту клетушку, хочу предупредить вас: выбирайте слова в разговорах со служащими гостиницы. Когда двум туристам предложили паршивый номер, один из них спросил неосторожно: «Сколько же будет стоить этот свинарник?» — «Для одной свиньи — десять долларов, для двух свиней — пятнадцать», — вежливо ответил портье.
И Майкл направился к двери. Он задержался на секунду, чтобы прочесть прибитую там табличку:
«Для вашей защиты и для сохранности вещей! Перед тем как ложиться спать, пожалуйста, поверните ручку замка с внутренней стороны двери. Благодарим вас!»
Я надеялся, что надпись заставит моего неистощимого друга рассказать какую-нибудь историйку. Но он, равнодушно пробежав глазами табличку, откланялся.
Еще не так давно говорили, что американцы богаты и не крадут такую мелочь, как пиджак или башмаки. Лишь начиная с пятидесяти долларов они так же любят воровать, как представители остального человечества. Увы! Статистика отмечает теперь как раз резкое увеличение мелких уличных и квартирных краж. Позволю сослаться и на свои наблюдения.
Наш известный газетный обозреватель возвращался из Нью-Йорка домой. Он попросил помочь в выборе подарков жене и дочери. Мы пошли в универмаг Джимбла. Он не относится к числу магазинов, где отовариваются Рокфеллеры и Дюпоны: здесь почти нет вещей, стоящих пятьдесят долларов, особенно в отделе, торгующем спортивными свитерами и шапочками.
Мой знакомый торопился. Через десять минут его руки оттягивали уже три пакета. Тут он увидел черно-красную лыжную куртку и, поставив пакеты на пол у прилавка, пошел к соседней стойке. Вблизи куртка ему не понравилась. Он вернулся за пакетами. Пакетов не было. Известный обозреватель обошел стойку. Пакеты исчезли.
— Вы спрятали их? — спросил он.
— Может, убрала продавщица? — ответил я вопросом на вопрос.
— Вы уверены, что оставили ваши покупки у этого прилавка? — сказала продавщица.
— Не находите ли вы, что нам следует обратиться в бюро находок? — спросил мой знакомый.
— Не думаю, чтобы это имело смысл, — промолвила продавщица. — Я очень сожалею…
— Сэнк ю вери мач! — вежливо приподнял шляпу обозреватель. — Гуд бай!
Крадут не только у покупателей, но и с прилавков. Статистики подсчитали: Америка обкрадывает свои магазины более чем на два миллиарда долларов в год. Но почему «Америка»? Разве кражи совершают не профессиональные воры?
В том-то и дело, что нет! Девяносто пять процентов всех мелких магазинных воришек оказались домохозяйками, служащими, пенсионерами. Проповедника, стащившего несколько библий, задержали в соседней лавке, где он пытался украсть бифштексы. Крадут буквально все, что плохо лежит или плохо стоит: из одного магазина ухитрились украсть даже чучело осла!
Не помогают ни сыщики, ни телевизоры, с помощью которых ведется наблюдение за прилавками, ни грозные окрики радио: «Положи назад!» Вирус наживы оказывается сильнее. Газеты сокрушаются по поводу всеобщего падения нравов. А философы подыскивают объяснение: не есть ли кражи один из способов отомстить жестокому, безразличному миру, окружающему американца?
Что касается краж в гостинице, то репутация «Тюдора» в этом смысле долго была почти безупречна. Полиция особенно не любит, когда обворовывают иностранцев, тем более заседающих в ООН, и принимает свои меры. Однако и тут чем дальше, тем хуже. В 1970 году не в «Тюдоре», а в двух роскошных гостиницах Нью-Йорка была ограблена не только итальянская кинозвезда Софи Лорен, но и американская актриса Заза Габор.
Но что же еще сказать о моем «Тюдоре»? Что при гостинице есть ресторан? Что служащих в ней очень мало? Что на этажах нет никаких дежурных? Что каждую субботу вы должны оставлять на столе чаевые для тех, кто убирает ваш номер? Что если вы не вывесили на дверях специальную табличку с просьбой не беспокоить, то в восемь утра вас разбудят стуком в дверь — просто так, для проверки? Что вы обязаны изучить инструкции, касающиеся пожарной и воздушной тревог, и строго следовать им? Что вам не мешает также усвоить заповеди, адресованные гостиничному жильцу-новичку в Нью-Йорке: не ходить по плохо освещенным улицам, не стоять, ожидая поезда метро, в малолюдном конце платформы, не подниматься в лифте частного дома одновременно с кем-либо, не гулять вечером в одиночку, помнить наизусть номер телефона для вызова полиции, не носить с собой много денег, не сопротивляться в случае нападения? Что в счете, который каждую неделю просовывают под дверь ранним утром, вы с огорчением обнаруживаете, кроме платы за номер, надбавку — федеральный налог, который почему-то должны платить вы, а не владельцы отеля? Что счет разъяснит вам также, почему каждый раз, когда вы, подняв телефонную трубку, называете телефонистке коммутатора номер городского абонента, ее ответное «сэнк ю» не означает лишь выражение признательности за ваше четкое, ясное произношение, избавляющее от переспрашивания: каждый телефонный разговор увеличивает счет?
Но не слишком ли долго мы задержались в «Тюдоре»? Пора и на улицу.
Статный молодой швейцар в светлых щегольских брюках и зеленой куртке, узнавая постоянного жильца, прикладывает руку к козырьку.
— Гуд афтануун, сэр! — говорит он. — Добрый день!
— Гуд афтануун. Хау ар ю? Как вы?
— Сэнк ю! Ай эм квайт уэлл! Спасибо! Очень хорошо!
Мы обмениваемся широкими оптимистическими улыбками.
Моя гостиница — часть маленького городка в огромном городище. Городок называется «Тюдор-сити». Когда-то им гордилась улица. В нем несколько кирпичных башен, довольно хмурых и, по сегодняшним временам, невысоких. Все они — близнецы, рожденные в начале двадцатых годов. Газеты писали тогда об открытии городка: великое предприятие, двадцать пять миллионов долларов затрат, свой отель «Тюдор», свои рестораны, своя церковь, свои садики, свой собственный великолепный вид на Ист-ривер и Сорок вторую улицу.
В сумерки на одной из башен зажигаются красные неоновые буквы: «Тюдор-сити». Они как маяк над людскими потоками Сорок второй улицы. Их видно даже с Бродвея. С тех пор как их зажгли впервые, в каменных башнях «Тюдор-сити» успело вырасти целое поколение.
Башни увенчаны геральдическими фигурами. В трещинах, забитых пылью, кустится трава. Над серыми крылатыми грифонами телевизионные антенны. Фасады лишены нынешней геометрической строгости: башенки, балкончики, выступы, карнизы.
Церковь, построенная когда-то для обслуживания обитателей «Тюдор-сити», распахнула двери в сторону штаб-квартиры ООН. На медной доске, схожей с мемориальной, подобраны изречения, приглашающие многие нации войти в божий дом, дабы бог наставил их на путь истинный. Пониже — объявления о проповеди на тему «Как укрепить веру», о дополнительном приеме в церковный хор, а также о том, что 5, 11 и 17 октября в церкви после богослужения будут показаны сцены из романа Александра Дюма «Три мушкетера» в постановке режиссера г-на Мильтона Мильтиадис.
«Тюдор-сити» поднят над улицей. В его владения ведут каменные лестницы. «Бросайте сор в корзину», — написано у подножия. Это напоминает предупреждение: «Вытирайте ноги при входе».
На скамеечках возле лестницы сидит унылый негр в красной рубашке и двое белых. Один далеко вытянул ноги, и бахрома брюк не прикрывает нечищенные башмаки и пятку, выглядывающую из дырявого носка. У всех троих на лицах полнейшее равнодушие к окружающему. Я хочу сфотографировать их, но тот, с бахромой, молча показывает мне здоровенный кулак.
Поднимаюсь по лестнице, усыпанной бурыми листьями и обрывками бумаги. Наверху — другой мир. Деревянная изгородь. Темные старые жерди, сучковатые, в трещинах, как в сибирских «поскотинах», ограждающих выгон от пашен. Изгородь окружает чахлый садик. На калитке надпись: «Частное владение! Только для жителей «Тюдор-сити». И замок. Обыкновенный висячий замок, какой вешают на сараях.
Но изгородь-то, изгородь! Сколько ей лет? И подновляют, берегут, тоскуя по сельской идиллии среди камня, бензиновой гари и вечной гонки куда-то и зачем-то.
И вообще здесь, наверху, стараются сохранить дух «добрых старых времен». В нижних этажах, где приютились таверны и магазинчики, — цветные стекла витражей, простых, наивных, без модернистских ухищрений. Над дверями вензеля, песьи головы, медные, с прозеленью фонари — подделка под следы эпохи, каковой в истории Соединенных Штатов попросту не было.
Но с давних лет сюда, в Америку, собирали отовсюду все, что казалось полезным и интересным. Появились даже гербы несуществующих дворянских родов, чужая и непонятная, но загадочно-красивая геральдика. Вот и уживается она теперь с плакатом, где знаменитый игрок в бейсбол распечатывает пачку рекламируемых сигарет, уживается со стрелкой-указателем: «Бомбоубежище».
В маленьком ресторанчике наверху почти пусто. Люди, мчащиеся там, внизу, вдоль улицы, едва ли даже подозревают о его существовании. Тут Боб знает Билла, а буфетчик в белом фартуке — вкусы их обоих и последние новости «Тюдор-сити».
Присаживаюсь к столику. Буфетчик ставит передо мной стакан, где в коричнево-паточной кока-коле плавают кубики льда.
— Вы русский? — слышу я вдруг по-русски.
Старик за соседним столиком вопросительно смотрит на меня. Подтверждаю. Но как он определил мою национальность?
— Вот, — показывает старик на карман моего пиджака. Оттуда высовывается номер «Литературной газеты».
Старик, должно быть, разглядел крупные буквы заголовков. Он просит показать газету. Осторожно, с любопытством рассматривает ее.
— Это что же, для писателей издается? Или для читателей? Простите, что любопытствую.
Объясняю. Старик кивает головой. Он одет в хороший темно-синий костюм, на нем свежая рубашка, на манжетах поблескивают золотые запонки.
— Признаюсь, первый раз вижу такую газету, — говорит он. — «Правду», «Известия» иногда покупаю из любопытства. А вы, поди, о «Биржевке» и не слышали? А? Была, представьте, такая в Петербурге…
Я замечаю, что слышал о «Биржевых ведомостях» и даже брал как-то комплект в библиотеке.
— Значит, прошлым интересуетесь? Сознайтесь, увлекательная была все-таки газета, а?
Старик не спрашивает меня, кто я и как попал в Нью-Йорк. По-видимому, «Литературная газета» в моем кармане сразу навела его на мысль, что я не из здешних русских, а «оттуда». Мне тоже неловко начинать с расспросов. Я завожу разговор о «Тюдор-сити».
— Да, — задумчиво кивает старик, — это, если хотите, оазис. Все вокруг перемололось, а здесь — как прежде. Я, знаете ли, без большой необходимости и вниз не спускаюсь.
Он показывает рукой в сторону лестницы. Говорит, что любит посидеть в садике, хотя, конечно, какой это садик. Так, пять деревьев, да и те не мешало бы каждый день чистить пылесосом. Прежде деревьев было больше, но они погибли: мало света, мерзкий воздух, вон рядом дымит электростанция.
Я спрашиваю, что было прежде на том месте, где штаб-квартира ООН. Старик не помнит точно. В двадцатых годах весь берег вокруг «Тюдор-сити» был застроен складами, дешевыми гостиницами, доходными домами. Неподалеку была скотобойня, и, когда с той стороны дул ветер, приходилось затыкать нос.
Но, продолжает старик, разве теперь не приходится затыкать нос все время, пока идешь по улице, где эти чертовы автомобили задались целью удушить человека в своих газах? Да, в двадцатые годы не было телевизоров, не было карманных радиоприемников, но зато не было и водородной бомбы, которая висит над головами мирных людей.
— Просто мы с вами были моложе, — замечаю я.
— Мы? Я действительно был моложе, а вас-то в те годы, наверно, и из-под стола не было видно. Но не в этом дело, не в молодости. Я сужу объективно, можете мне поверить. Жизнь была проще, чище, здоровее. Сумасшедшие дома не были переполнены, и на нервы жаловались только салонные дамочки. Когда я приехал в эту страну, американцы гордились ею, а люди в других странах гордились американцами…
— Простите, — перебил я, — но мне кажется, что американцы и сегодня…
— …гордятся? Господин хороший, гордость должна подкрепляться верой и энтузиазмом. А этого-то как раз и нет сегодня. Люди озлоблены, недовольны, никто никому не верит. А где, спрашиваю я вас, честность? Прежде я мог поставить вон там, возле изгороди, пустую бутылку и положить монету. Молочник приходил на рассвете, брал деньги и ставил бутыль с молоком. Теперь я не рискну поставить даже пустую бутыль. Ее, может, и не украдут, но разобьют непременно. Кто? Гангстеры, по недоразумению занимающие место в школе, вместо того чтобы сидеть в колониях малолетних преступников. Э, да что там!..
Старик сделал рукой так, будто хотел что-то сбросить со стола.
— Я не знаю, как у вас теперь, — продолжал он, — но прежде и в Петербурге и в Нью-Йорке было принято уступать место женщинам. Видели вы, чтобы это делалось сейчас в нью-йоркском автобусе или сабвее? И я думаю, что тут женщины сами виноваты. Они курят и пьют так, как в наше время курил и пил не всякий гусар. А женские брюки? У вас теперь их тоже носят?
Я подтвердил.
— Жаль, — сказал старик. — Очень жаль. Русская женщина в брюках? И косы больше не отращивают? Но, по крайней мере, детей у вас еще не похищают ради выкупа? Нет? Ну слава богу! Здесь тоже этого не было в двадцатые годы. А если и случалось, так очень редко. Теперь же «киднап» — целый промысел.
Старик помолчал, потом заключил убежденно:
— Прежде Америка имела твердые устои. Теперь они расшатаны, и американец потерял опору. Вы не думайте, что я вижу опору у вас. С большевиками мои пути разошлись давно и навсегда. Я не верю большевикам. Не знаю, что вы там у себя построите, да и знать не хочу: слишком стар, слишком мало корней осталось у меня в России. Чтобы говорить по-русски не разучиться, читаю Тургенева и Лескова. Тут и умру, в этом «Тюдор-сити»… Ну, очень приятно было побеседовать.
Он поднялся и, не протягивая руки, пошел к двери. Потом вернулся:
— Если не жаль газеты…
Я протянул ему смятый лист.
— А это вам, — сказал он. — Здешняя «Биржевка».
В руках у меня остался тощий журнальчик с оранжевой обложкой: «Тюдор-сити» имеет, представьте, даже свой печатный орган! И в нем все, как полагается: реклама, иллюстрации, маленькие новости маленькой тюдор-ситской провинции.
Я узнал, что миссис Бритингэм из Вудсток-тауэра (так называется одна из башен «Тюдор-сити») улетает на две недели в Испанию; что к миссис Мак-Креди, живущей в Виндзор-тауэре (другая башня), приехали гости из Гамбурга — племянница с мужем, который служит в Немецкой железнодорожной компании.
В одной из заметок говорилось, что если зимой станут наконец убирать снег с лестниц, ведущих в «Тюдор-сити», то жильцы должны быть благодарны энергичной миссис Риф Фиск, договорившейся об этом с Парк-департаментом. Она же убедила департамент полиции установить круглосуточный пост во дворе, чтобы утихомиривать хулиганов и пьяниц.
Отдел объявлений открывался предложением о продаже по сходной цене круглого столика, лампы и почти нового пылесоса. Другое предлагало кровать «Голливуд» в хорошем состоянии за сорок пять долларов. Приходящая медицинская сестра выражала готовность ухаживать за инвалидами и без дополнительной оплаты ходить за покупками, а также прогуливать собачек. Супруги объявляли о своем желании брать уроки игры на гитаре. Сообщалось о смерти мистера Миллера из Вудсток-тауэра и перечислялись его наследники. Наконец, предлагалась награда тому, кто нашел во дворе и готов возвратить владельцу серебряный поясок.
Были и статейки с портретами жильцов, преуспевших в каком-либо бизнесе. Например, мистер Рудерфорд получил назначение на пост контролера по производству сапожного крема, которым торгуют даже в универмаге Мейси, тогда как миссис Рудерфорд приглашена играть на сцене в Харвее.
На обложке журнальчика был снимок садика, деревянная изгородь которого так поразила меня. Садик именовался Южным парком: маленькая тюдор-ситская провинция претендовала на то, чтобы в ней все было «как у больших». Ей ужасно не хотелось совсем затеряться со своими старыми кирпичными башнями в водовороте Сорок второй…
* * *
Жили-были два мальчика. Однажды они задумали подарить мамочке гребень. Но их сбережений — пяти центов — оказалось мало для такой покупки. Продавец выгнал мальчиков из лавки.
Если бы он знал, кого выпроваживает!
Очутившись за дверьми, старший сказал младшему:
— Слушай, Чарли! Не сойти мне с этого места, если я не открою свой магазин, — конечно, когда вырасту. В нем каждая вещь будет стоить пять центов, не дороже. И каждую вещь можно будет трогать сколько хочешь.
Как сказал, так и сделал: вырос и открыл магазин в городке Уотертаун. Вещи там действительно стоили по пяти центов. Но тогда и пять центов значили куда больше, чем теперь: дело было восемьдесят с лишним лет назад. Мальчика звали Фрэнк Уинфилд Вулворт.
В двух шагах от моего «Тюдора» горят на фасаде красные с золотом буквы: «Ф. У. Вулворт», подтверждая, что на этот раз обычная в американском фольклоре историйка о вознесении бедняка на Олимп большого бизнеса имеет добротную фактическую основу.
Утром в магазине под красно-золотыми буквами почти пусто. Ничто не помешает нам увидеть воплощение мечты юного Фрэнка У. Вулворта.
Чем здесь торгуют? Всем.
Садовые ножницы? Пожалуйста. Жидкость для мытья автомобилей? Любой баллончик на любую цену. Губная помада? Все оттенки. Детские перчатки? Какие вы предпочитаете? Есть шерстяные, бумажные, нейлоновые, орлоновые… Детективный роман? Вот «Убийца из Мессопотамии» Агаты Кристи, но, кажется, это не последняя вещь талантливой писательницы. Корм для канареек? Обратитесь, пожалуйста, к продавщице восьмой секции, вон там, у стены.
И действительно, как обещал юный Фрэнк, все можно потрогать, пощупать, а если хотите — даже понюхать или лизнуть.
По старой памяти такие магазины называют «центовками» или «пятицентовками». Но если бы хоть малая часть разложенных на прилавках вещей стоила пять центов, как обещал Фрэнк своему брату Чарли, магазин мигом разнесли бы покупатели. Мальчик, который, подобно юному Фрэнку Уинфилду Вулворту, зашел бы в магазин «Ф. У. Вулворт» с пятью центами, был бы огорчен до слез. На медные монетки, зажатые в потном кулачке, он мог бы купить горячо любимой мамочке в лучшем случае иголку, но отнюдь не гребень.
Посмотришь прилавки нью-йоркских больших магазинов — и почешешь затылок: вот это выбор! И ведь не дрянью какой-нибудь торгуют, а красивыми вещами. Вот кошелек из искусственной кожи. Славный такой кошелек, удобный, с тремя отделениями, на красивой «молнии». Внутри — фабричный талон: название фирмы и цена — 2 доллара 11 центов.
Но, кажется, на этот раз нам здорово повезло. По непонятной причине отпечатанная в типографии цена перечеркнута и красными чернилами выведена новая: 99 центов. Должно быть, магазин купил слишком большую партию этих превосходных кошельков и теперь вынужден торговать ими себе в убыток. 99 центов вместо двух с лишним долларов…
— Будьте добры, получите за этот кошелек. — И вы протягиваете доллар.
Продавщица, мило улыбаясь, просит еще два цента.
— Почему? Ведь написано же девяносто девять центов?
— Вы, вероятно, иностранец? Первый день в Нью-Йорке?
И она объясняет, что нужно платить еще «тэкс» — федеральный налог с розничной продажи. Это два-три процента сверх цены. На некоторые товары налог выше, на другие — ниже.
Вы ворчите: мол, так и надо было написать — 1 доллар 2 цента. Девушка разводит руками: это не зависит от нее. Все же вы уходите с приятным сознанием, что сделали выгодную покупку: почти вдвое дешевле первоначальной цены.
А в действительности кошелек никогда не стоил ни два, ни полтора доллара. Цена на фабричном талоне — рекламная выдумка, психологический трюк. Но попробуйте придраться: ведь цена-то зачеркнута. В конце концов, все можно объяснить даже типографской опечаткой, которую исправили красными чернилами.
Часто ли в американском крупном магазине обмеривают или обвешивают покупателя? Как правило — нет. Зачем прибегать к грубому обману? Ведь давно уже продуманы более тонкие, вроде описанного выше, способы выкачать лишние доллары и центы из кармана своего ближнего.
Кроме того, каждый магазин стремится завоевывать постоянную клиентуру. Обвешивать или обсчитывать постоянного покупателя рискованно — пойдет дурная слава.
За последние годы американцы всё чаще жалуются на ухудшение качества товаров. Возникло даже всеамериканское движение в защиту потребителя от опасных для здоровья продуктов.
«Ф. У. Вулворт» не торгует товарами, рассчитанными на вкус богачей из особняков на Парк-авеню. Это магазин средних вещей за среднюю цену для клерков, слесарей, студентов, стенографисток, водопроводчиков, учителей, туристов из небогатых латиноамериканских стран, приезжих фермеров, кондукторов автобусов.
Однако не каждый скажет вам, что он «покупает у Вулворта». Это означает признание в принадлежности к людям, далеким от преуспевания.
Человек, который говорит, что он «покупает у Мейси», тоже не бог весть какая птица. «Эта вещичка от Сакса» — звучит лучше. Но шелест толстой пачки долларов слышится лишь в небрежно брошенной фразе: «Я предпочитаю Пятое авеню»: дорогими магазинами этой улицы не брезгают и миллионеры.
Шелковая нашивка с названием магазина на подкладке вашего пальто — ваша цена. Она позволяет определить, «сколько вы стоите».
В романе крупнейшего американского писателя Фолкнера один из героев, человек в общем скромный и небогатый, надевает галстук, купленный для него за семьдесят пять долларов в модном магазине «у Аллановны».
Не успел обладатель галстука войти в комнату, как один из гостей «не только стал глазеть на эту штуку, но и щупать ее пальцами.
— От Аллановны, — говорит.
— Правильно, — говорю.
— Оклахома? — спрашивает. — Нефть?
— Как? — говорю.
— Ага! — говорит. — Значит, Техас. Скотоводство. В Техасе можно сделать миллионы либо на нефти, либо на скоте, верно!»
Галстук «от Аллановны» — нечто вроде визитной карточки миллионера. Галстук «от Вулворта»… Впрочем, на нем нет даже полоски ткани с названием магазина: все равно покупатель, добивающийся некоторого положения в обществе, отпорол бы ее.
…Однако я не досказал историю мальчика Фрэнка Уинфилда Вулворта. Буквы «Ф. У. Вулворт» на фасадах магазинов не означают, что господину Вулворту удалось дожить до Мафусаилова возраста. Он давно умер. Но дело, им основанное, живет и процветает.
Вулворт начал в провинциальном городе с небольшого магазина. Потом их стало несколько. Затем образовалась фирма, которая объединилась с другой фирмой и проглотила третью. Разбухшая фирма превратилась в крупную монополию. В канун перьой мировой войны она воздвигла шестидесятиэтажный небоскреб на Бродвее. Сам президент Вильсон, нажав кнопку в Белом доме, включил свет в этом дворце торговой империи «Ф. У. Вулворт».
Это настоящая империя. На нее работают почти сто тысяч американцев. Ей принадлежат свыше трех тысяч магазинов. Ее чистая прибыль — десятки миллионов долларов в год.
Империя имела не императора, а наследную императрицу Барбару Хаттон. В пятьдесят восемь лет она вышла замуж в седьмой раз, отдав руку, сердце и часть миллионов обедневшему принцу королевского дома Лаоса.
Чтобы показать, что она всего лишь женщина с любящим сердцем, этакая простушка, госпожа Хаттон явилась на свадьбу босиком. Принц не решился последовать ее примеру и остался в белых носках.
Среди других супругов императрицы династии Вулвортов значились эмигранты, бывший русский князь Трубецкой и бывший грузинский князь Мдивани.
Не так давно престарелая императрица оформила в Мексике развод с лаосским принцем: должно быть, появился новый претендент на доходы магазинной империи.
…Золотые с красным буквы «Ф. У. Вулворт» на главной улице любого американского города. И не только американского. Монополия давно перебралась в Южную Америку, перекинулась и через океан. Мексиканские пастухи выбирают у «Вулворта» сомбреро. Канадский лесоруб заглядывает к «Вулворту» за фланелевой рубашкой. Парижанки посещают «Вулворт» в надежде купить там дешевые парики из нейлона.
В Лондоне я видел знакомые красные с золотом буквы на фасаде огромного магазина в центре Оксфорд-стрит, одной из главных торговых улиц английской столицы. Эти буквы мелькали по дороге в Виндзорский замок. Они — в центре промышленного Бирмингема. Без них не обошлись университетские города Кембридж и Оксфорд.
Они победоносно горели даже неподалеку от семисотлетней гостиницы «Белый лебедь» в городке, давшем человечеству Шекспира…
Мне приходилось видеть в Нью-Йорке толкучку возле прилавков. Девицы вежливо, но настойчиво вытягивали из рук друг друга «выброшенные» по сниженной цене какие-то кофточки. Видел, как в дни распродажи со скидкой у входа в магазин собиралась толпа.
В Нью-Йорке шутят, что распродажа — это когда женщин ны рвут в давке надетое на них хорошее платье ради того, чтобы тут же заплатить деньги за другое, похуже. Действительно, я наблюдал на распродажах, как мисс и миссис, рассыпая направо и налево «извините» и «сожалею», сопровождаемые любезными улыбками, тем не менее весьма энергично работали локтями, пробиваясь к прилавку. Но очередей в магазинах на Сорок второй, Бродвее и ближайших улицах я не видел.
Америка — страна бога торговли. Есть улицы, где только торгуют: километры витрин, зазывающих то крикливо, то вкрадчиво, то с деланным равнодушием, то нахально.
Статистика подкрепляет зрительные впечатления: каждый пятый работающий американец прямо или косвенно занят в торговле.
Пожалуй, первое, что приходит в голову, когда узнаешь эти цифры: «Вот здорово!» Какое удобство, какая экономия времени у домашней хозяйки: что ни шаг — магазин!
Сознаюсь откровенно: магазинные витрины интересуют меня и дома и за границей. Я не только пишу книги, но и хожу за хлебом, выбираю ткань на брюки, думаю, что купить жене или сыну ко дню рождения.
Стоит ли отмахиваться от описания мелочей чужого быта, делать вид, что ты «выше» всего этого? Может, лучше разобраться, действительно ли так хорошо то, что, по рассказам залетного гостя или рекламного журнала, кажется таким очевидно заманчивым?
Взглянем-ка на вывески, витрины, на расторопных продавцов не только глазами школьника, который спешит по своим делам. Он-то рад-радешенек, что за три минуты может выполнить просьбу матери — купить кое-что к чаю. Посмотрим на всё глазами человека, который в конце месяца кряхтит над счетами магазинов и записями семейных расходов.
А американцы кряхтят. И чем дальше, тем сильнее.
Главное развлечение американцев не карты, не кроссворды, не запутанные загадочные картинки, а типичная национальная игра, особенно популярная в конце каждого месяца: сведение концов с концами.
Вернемся к цифрам и поразмыслим над ними.
Итак, каждый пятый — в торговле. Конечно, это очень нужное для общества дело. Но не слишком ли много американцев занимаются им? И все ли они действительно облегчают жизнь покупателю?
В крупном американском магазине все хорошо продумано и механизировано. Американцы ввели самообслуживание раньше нас. В продовольственном универмаге «супермаркит», схожем с нашим «универсамом», покупатель катит перед собой легкую тележку, нагружая ее заранее взвешенной, расфасованной, упакованной снедью. Стандартные цены написаны на каждом пакете. Кассир у выхода легко подсчитывает сумму. Никаких дополнительных контролеров нет.
— Мей ай хелп ю? Могу я помочь вам?
С этим любезным предложением в крупном универмаге продавец подойдет к вам разве лишь в отделе готовой одежды, чтобы примерить пальто и радостно сообщить, что оно сшито ну прямо на вас.
Иногда люди терпеливо ждут у прилавка, пока милая девушка в яркой синей блузке, украшенной эмблемой фирмы, занимается с пожилой, медлительной леди. Кстати, если продавец уже занят с кем-либо, другой покупатель не оторвет его от дела даже самым пустяковым вопросом вроде: «Скажите, пожалуйста, найдутся у вас вон такие коричневые туфли большего размера?» По привычке я пытался спрашивать что-то через голову других покупателей. Те смотрели на меня с недоумением, а продавец не удостоил ответом.
Позвольте, а как же со множеством людей, занятых торговой деятельностью? Казалось бы, они должны чуть, ли не встречать каждого покупателя у дверей, вести под руки к креслу и наперебой раскладывать перед ним товары.
Где же вы, господа? Не задерживайте покупателей! Пожалуйте из статистических таблиц к прилавку!
Не могут они пожаловать. Быть занятыми в торговле и торговать — не одно и то же. Сотни тысяч людей, приписанных статистикой к торговым делам — например, рекламные агенты, — не обслуживают покупателей. Их дело — отбить покупателей у конкурента и заманить в свой магазин.
Этим людям хорошо платят; за то, что они приносят барыши своей фирме и вредят соседней. Покупателю от них никакой пользы. Но именно он, покупатель, оплачивает легионы этих ловких, пронырливых господ. К каждой продаваемой вещи присчитывается несколько центов, а иногда и долларов только потому, что «Ф. У. Вулворт» конкурирует с «Р. Г. Мейси». Платит покупатель.
Американские экономисты давно говорят, что бессмысленное обилие магазинов, торгующих одними и теми же товарами, означает национальное расточительство. Ведь без прибыли никто торговать не хочет. Все свои расходы владелец магазина раскладывает на товары. Покупатель по привычке, а чаще из-за необходимости брать в долг, в кредит пользуется обычно одним «своим» магазином. Но, сам того не желая, он косвенно оплачивает при каждой покупке и долю расходов, вызванных тем, что рядом с этим полупустым магазином есть два полупустых магазина конкурентов.
Велики ли, однако, все эти наценки? Может, о них и говорить не стоит?
Стоит! У некоторых товаров розничные цены в два и три раза выше стоимости их производства!
Потребность народа и его покупательная способность — разные вещи. Холодильники или телевизоры застаиваются в витринах Нью-Йорка не потому, что у каждого американца на кухне всегда готовы напитки со льдом, а в гостиной по голубому экрану мчатся ковбои и перестреливаются гангстеры. Многим нужны и холодильники и телевизоры. Купить хочется, а где взять столько денег?
Американский рабочий, производя с каждым годом все больше товаров, не становится при этом настолько богаче, чтобы значительно увеличивать свои покупки. Разница оседает в миллиардных прибылях монополий.
Американские торговцы продают не только за наличные, но и в кредит. Это им и выгодно и необходимо. Продавая в долг, торговец старается искусственно увеличить сегодняшнюю покупательную способность населения, сбыть излишки.
Покупая в кредит, человек гонит от себя тревожные мысли. Он надеется на «авось». Ему мерещится снижение цен, повышение заработка, уменьшение налогов. Он не хочет думать о безработице.
Но безработица остается. Налоги и цены растут быстрее, чем заработки. А раз это так, то платежи за купленные вчера в долг вещи снижают сегодняшнюю покупательную способность населения. Одним словом, «хвост вылез, нос увяз».
От покупок в рассрочку американцы по уши в долгах. В 1968 году они были должны за купленные в рассрочку вещи свыше ста десяти миллиардов долларов!
* * *
— Вздор! Кто вам это сказал?
Мы сидели в кафетерии «Хорн и Хардат» на углу Сорок второй улицы и Третьего авеню. Впрочем, мы могли сидеть в кафетерии Хорна и Хардата на любой другой нью-йоркской улице: это решительно ничего не меняло бы.
«Хорн и Хардат» всюду, и все их заведения очень схожи. Разница лишь в видах за окном и в раскраске стен. В кафетерии, где сидели мы с Майклом, одна стена была даже расписана: Нью-Йорк в начале века, надземная железная дорога и первые автомобильчики, напоминающие коляски.
— Кто вам это сказал? — повторил Майкл даже будто с угрозой. — Равнодушны к еде? Уверяю вас, американцы любят поесть ничуть не меньше, чем вы, русские.
Глядя на двойной подбородок Майкла, легко этому поверить. Когда Майкл встает на весы, стрелка, содрогнувшись, перескакивает далеко за пределы веса среднего американца: мой знакомый весит свыше ста килограммов.
— Возьмите наши книги о еде и здоровье, — продолжал Майкл, — вы прочтете там, что главная причина ожирения — неудачи и волнения.
— Майкл, видимо, я вас плохо понял…
— Отлично поняли. Да, при жизненных огорчениях американец ищет в пище удовлетворение и забвение. Что вы смеетесь? Ну конечно, вы там у себя пишете, что у нас не хлеб, а вата, что американец не ест, а заправляется горючим…
— Майкл, дорогой, я же в этом кафетерии не первый день, вижу, что едят и как едят.
Но Майкл считает, что кафетерий не очень типичен для американского образа жизни. Хороший ресторан — другое дело.
Тут уж протестую я. Кафетерий не типичен?! Это почему же? Я встречаю здесь самых разных людей. В кафетерии газетные волки из редакции соседней «Дейли ньюс» торопливо пожирают сочные бифштексы. Сюда приходят студенты высшей коммерческой школы. Здесь завтракают ребята, возводящие небоскреб на противоположной стороне улицы, клерки ближайшего отделения Первого национального банка и конторы нефтяной компании «Сокони-мобил». Короче говоря, люди разного достатка. Кого еще нужно? Миллионеров? Нельсон Рокфеллер, насколько я знаю, действительно предпочитает есть омаров в другом месте, но…
— Согласен! — прерывает Майкл. — Убедили. Давайте наблюдать. Кстати, вы мне напомнили с вашим Рокфеллером и омарами… Посетитель подзывает официанта: «Мне подали омара без клешни. В чем дело?» — «Сэр, омары у нас настолько свежи, что устроили настоящую войну на кухне. Они дрались клешнями, сэр». — «Да? В таком случае обменяйте мне этого пострадавшего на одного из победителей».
Майкл устраивается поудобнее. Наблюдать так наблюдать. Но пока — еще кое-что о кафетерии.
Работают в нем преимущественно фокусники. Вон недалеко от входа фокусник в разменной кассе. Вы протягиваете доллар — и в одно из углублений мраморного прилавка тотчас со звоном летит дождь монет: несколько «никелей» — пятицентовиков, «даймы» — монеты в десять центов, «квотер» — монета в двадцать пять центов.
Не успели вы сгрести их ладонью, как металлический дождь звенит уже в соседнем углублении, перед вашим соседом, и фокусник вместо традиционных «айн, цвай, драй» произносит повелительно: «Некст! Следующий!»
А остальные фокусники — в расчетных кассах. Пересчитать за четверть часа все яства на подносах трехсот спешащих людей у двух касс — это дано не каждому смертному!
Метнув молниеносный взгляд на заставленный поднос, седовласая миссис бросает:
— Два доллара двадцать семь центов. Благодарю вас, сэр!
Ее глаза — уже на следующем подносе, а тем временем она, не глядя, отсчитывает вам сдачу, вертит рукоятку автоматической кассы, протягивает чек с обозначением уплаченной суммы и приветливо улыбается постоянному посетителю за вашей спиной:
— Два девяносто два. Сегодня отличная погода, не правда ли, сэр?
Какого же напряжения требует здесь работа кассира! Я видел нечто подобное только в цирке, где гастролировал когда-то «человек — счетная машина».
Тот, кому совершенно некогда, мчится к стене-автомату. Там в три ряда стеклянные окошечки. Щель проглатывает ваши «даймы», и окошечко, щелкнув, открывает доступ к кексу или запеченным бобам.
Если монеты проглочены, но окошечко не щелкает, а кнопка «возврат» не желает отдавать монеты, американец поднимает страшный шум. Он колотит кулаком по стенке. В окошечке на фоне бутерброда с колбасой появляется испуганное лицо, слышатся извинения, и стекло торопливо приоткрывают изнутри самым кустарным способом, с помощью пальца.
Мы с Майклом сидим возле колонны. Стеклянные двери-вертушки почти недвижны: завтрак уже окончился, до ланча далеко.
Итак, мы наблюдаем.
По соседству какой-то человек, скрестив под столиком ноги, дремлет, ловко полуприкрывшись газетой. Очки сползли на нос, но издали ничего не заметно. Голова наклоняется ниже, ниже… Человек вздрагивает, выпрямляется, косит глаза в угол, где стоит зоркий и строгий администратор.
К столику напротив нашего присаживаются парень с девушкой. Девушка взяла салат, парень — котлеты с гарниром. Но что, кроме помидоров, на тарелках у наших соседей свежее? Все либо замороженное, либо консервированное. Богатая Америка, говорю я Майклу, могла бы позволить себе роскошь не держать мясо замороженным по два года и не начинять каждый кусок химическими препаратами. Ведь продукты подкрашивают, обесцвечивают, можно сказать, гримируют. Всюду пищевая косметика, свыше тысячи разрешенных правительством химических примесей! Некоторые сорта хлеба делают «черным», сдобу и масло желтят, в чай добавляется коричневая краска, чтобы выглядел крепким. При откорме индеек, говорят, применяется даже мышьяк…
— Кажется, мышьяк уже запрещен, — замечает Майкл. — Вообще у нас за всем этим строго следят. Есть особая инспекция. Зато у вас…
Майкл считает, что мы не умеем показывать товар лицом. О эта русская упаковка! Она не привлекает, не притягивает. И еще: русские едят слишком много хлеба, много картофеля, редко пьют фруктовые соки.
Действительно, в Америке к завтраку — стакан сока, ланч — с соком, к обеду — тоже сок. Соки разные и всегда холодные, со льда. Стакан сока, кока-колы, лимонада, молока, чашка кофе, чая стоят в кафетерии одинаково.
— Майкл, вы часто обедаете в кафетерий или в ресторане?
Нет, он предпочитает готовить сам. В Америке это просто. Есть, например, блюда «Вари в упаковке». На самом деле их даже варить не надо, они уже сварены, а пакет кладется в кипящую воду только для разогревания.
Я не пробовал блюд «Вари в упаковке», но читал результаты обследования подобных продуктов. Группа американских врачей пришла к выводу, что во многих из них питательных веществ «не больше, чем в глотке виски», а витаминов меньше, чем в корме для лошадей и собак!
Но, может, эти блюда вкусны?
Майкл колеблется. Ничего, есть можно, если, конечно, добавить разные специи.
— Скажите, какое из здешних блюд настоящее национальное? Ну как, например, у нас щи.
Майкл оглядывает витрины:
— Вот! Памкин-пай!
Я так и знал: пирог с тыквой. Популярность тыквы необыкновенна. Ее оранжевый шар со смеющейся рожицей можно увидеть среди игрушек, на картинках, на плакатах; есть даже фонарики-тыквы. И конечно, ярчайшие, светящиеся тыквы вопиют с окон кафетерия: «Сегодня свежий тыквенный пирог!»
Дыня здесь не десерт, а закуска. На тарелку с ветчиной кладут несколько ягод спелой клубники. Перед обедом иногда жуют специально подаваемые конфеты. Правда, это в хороших ресторанах, а не в кафетериях. Зачем? «Для аппетита»…
Между тем кафетерий постепенно заполняется. Две девушки пьют кофе. Перед ними тарелочки с фруктовым салатом. Четверо рабочих закусывают куда основательнее: чашечки густого томатного супа, булочки с маслом, кукурузные оладьи с горячей патокой в крохотных горшочках, котлеты. Недостает запотевших стаканов с холодным пивом, но в кафетериях не продают спиртное.
Старушка берет стакан молока и пирожное. Ест медленно, смакуя каждую крошку. После некоторых колебаний идет к автомату, долго заглядывает в разные окошечки и выбирает маленький кренделек с корицей. Молоко допито, жует всухомятку.
Господин принес поднос, заставленный снедью. Ест, уткнувшись в газету. Отставляет тарелку с жарким, принимается за яблоко, облитое красной глазурью. К его столику подходит высокий человек, что-то спрашивает. Господин, не глядя, кивает. Человек забирает тарелку, уносит ее на свой стол, где приготовлена булка. Он ловко обрабатывает кость, срезая оставшееся мясо, подбирает хлебом соус…
Майкл косится: заметил ли я?
— Вам, конечно, всюду мерещатся безработные, — говорит он. — А может быть, это наркоман? Просадил все деньги на героин, теперь собирает объедки.
Нет, едва ли тут виной наркотики! На посетителе старый, но выутюженный костюм. Из нагрудного пиджачного кармана высовывается даже уголок белого платка. Похоже, что на этот раз платок — выкинутый белый флаг: человек сдается, сломленный огромным равнодушным городом.
— Кажется, мы засиделись, — говорит Майкл. — Недалеко, за углом, французский ресторан. Луковый суп там — объедение!
* * *
Ранним воскресным утром центр Нью-Йорка мертв. Закрыты магазины и даже газетные киоски: продажа воскресной газеты начинается в субботу вечером. Туристы еще только собираются стайками у подъездов гостиниц, энергично приветствуя друг друга.
Одну осень я жил в комнате с окнами на Сорок третью улицу, совсем не схожую со своей шумной соседкой. «Тюдор» переглядывается там со старым жилым домом.
Сумрачный осенний день встречают в этом доме с электрическим светом. По воскресеньям сидят в подтяжках за кофе, роются в газетах, ласкают кошек, штопают носки, вытирают пыль тряпкой, гудят пылесосами.
Ближе к полудню кое-кого ждет воскресный скромный пир с соседями, когда хозяйка печет торт по рецепту покойной матушки или колдует над особым чаем: сначала заваривает крутым кипятком, потом охлаждает в холодильнике, пересахаривает до приторности и в заключение выжимает в каждый стакан сок целого лимона. Сегодня пир, кажется, в квартире, где на окнах красные герани. В следующее воскресенье, возможно, будет у соседей, которые в самую холодную погоду спят с открытыми окнами. Там на подоконнике гуляет иногда жирнющий ангорский кот.
Но какие пиры с соседями у гостиничного жильца? Плетусь в кафетерий. Пусто, слышно, как гремят подносы. С утра и кассирши не прочь поболтать с завсегдатаями.
Сегодня этим господам некуда спешить. Они неторопливо присматриваются к витринам, придирчиво выбирают столик, развертывают газету и… по привычке мгновенно уничтожают все, что наставлено на подносе. Раз навсегда выработанный ритм утренней заправки мешает смаковать недожаренный, сочащийся кровью кусок мяса и хрустящие листья салата. Все уничтожается мгновенно, и какое-то время посетитель сидит даже с несколько растерянным видом. Он не знает, куда девать руки и время. Потом сует монетки в отверстие автомата и пьет второй, праздничный стакан кофе. А дальше что?
В самом деле, что дальше? В обычные дни мистер Смит, закончив заправку, спешит в контору, чтобы делать свои или чужие деньги. Он занят, он подобие хорошо отрегулированной машины, которая не может, не должна останавливаться даже на минуту. А в воскресенье?
А в воскресенье у мистера Смита наступает то особое состояние, которое американские исследователи называют «страхом свободного времени», «неврозом удовольствий» и еще как-то посложнее. Алексей Максимович Горький, еще в начале века насмотревшись на унылое недоумение, почти тревогу, заметные на лицах американцев по воскресеньям, сказал просто: научив людей работать, их не научили жить, и поэтому день отдыха является для них трудным днем.
Мистер Смит бесцельно топчется у витрин закрытых магазинов. Постоял у окна, густо населенного пиджаками, рассматривает в соседнем цветные водопады галстуков. Скучно… Может, пойти на Таймс-сквер?
Но знаменитый перекресток Сорок второй с Бродвеем тоже пуст. Ветер крутит смерчи из газетных листов, обрывков оберточной бумаги. Однако Таймс-сквер уже орет. Из открытых дверей сувенирных лавчонок несутся зазывные звуки магнитофонов, пущенных на полную силу.
В некоторых лавчонках владельцы стараются создать впечатление, что они по меньшей мере прогорели на бирже и сегодня, именно сегодня, только сегодня, вынуждены по баснословно дешевым ценам распродавать свои превосходные товары.
Вот витрина с небрежно приклеенными газетами, где от руки чернилами крупно намалеван отчаянный призыв: «Хелп! Клоуз аут!» — «Помогите! Закрываюсь!»
Внутри — разломанные картонные ящики, обрывки веревок и прочий мусор, разбросанный по полу. Все признаки спешной ликвидации дел. Еще бы! Владелец поднаторел в этой роли. Целый год изо дня в день он симулирует банкротство и срочную распродажу, ловя на эту удочку простаков, перед отъездом из Нью-Йорка запасающихся сувенирами.
Есть ли на свете сувениры безвкуснее и однообразнее нью-йоркских? Бронзовые статуи Свободы и бронзовые же Эмпайры всех размеров, открытки с подкрашенными выпуклыми изображениями той же Свободы и Эмпайра, пепельницы с барельефами Свободы, термометры, вделанные в позолоченные Эмпайры…
Таймс-сквер предлагает вам развлечение — «музей занимательных вещей». Гигант ростом с Петра I, в чалме, широких восточных шароварах и роговых очках, для рекламы торчащий у входа, с молчаливым презрением смотрит на пигмеев, сующих деньги в окошечко кассы.
Над экспонатами всюду надписи: «Хотите — верьте, хотите — нет». Посетителям показывают голову миссионера, попавшего к дикарям, копии «Орлова» и «Великого могола» — знаменитейших бриллиантов мира, двухстворчатую «железную деву» с острыми ножами, которые вонзались в тело казнимого, топоры для отрубания рук и вообще полный набор орудий пыток, сапоги 168-го размера. Тут же горящие фальшивыми самоцветами мифическая астраханская и сибирская короны, копия короны Николая II, чучело двухголового теленка.
А теперь куда? Может быть, в кино?
Кинотеатры заняли обе стороны Сорок второй улицы возле Таймс-сквера. Электрическую энергию тут тратят расточительно, но без выдумки. Света бессмысленно много. Перед входом в каждый кинотеатр предлинный, нависающий над тротуаром балкон, весь утыканный лампочками. То же и на другом балконе. Лампочки высвечивают названия фильмов и имена популярных артистов, рекламные фото и афиши с краткими зазывающими надписями.
Фильм «Спасибо дураку». О нем: «Тут полуправда и исковерканная жизнь, горькая любовь и страшная ненависть, которые делают день опасным, а ночь — кошмарной».
Не хотите смеси полуправды с горькой любовью?
Тогда посмотрите фильм «Царь царей», снятый по сценарию четырех авторов: евангелиста Матвея, евангелиста Марка, евангелиста Луки и евангелиста Иоанна. Он рассказывает о жизни Иисуса Христа от рождения до распятия на кресте. Натурные съемки сделаны в Палестине. В массовых сценах снимались десятки тысяч человек. Критики с редкостным единодушием признали высокое качество цветной пленки, на которой снят фильм, однако отметили, что образы Понтия Пилата и трех разбойников можно считать спорными, не вполне соответствующими замыслу четырех сценаристов-евангелистов.
Я не видел в кинотеатрах никогда не спящего квартала фильмов о нашей стране. Но такие фильмы есть. Вот содержание одного из них, поражающее глубиной замысла и высокой осведомленностью Голливуда о всём происходящем в нашей стране. Привожу его в газетном пересказе — правда, иронически-пародийном.
Молодому американцу поручено вывезти в «царство свободы» видного советского ученого. Ученый обитает в подмосковной деревушке Пассейк-на-Дону, возле безлюдного холма, на котором до революции жили два князя, некие братья Карамазовы. Сторожит ученого русская красавица Наташа Наташевич. Она секретный агент. Однако сердце у нее не камень, и Наташа Наташевич влюбляется в красавца американца. А влюбившись, решает бежать вместе с возлюбленным, прихватив для компании и крупного ученого. Ловко переодевшись коллективными фермерами, все трое благополучно переходят границу.
В Америке есть хорошие фильмы. Некоторые из них мы видели на фестивалях, часть обошла все экраны страны. Но хороших фильмов мало. Можно неделями кочевать из одного кинотеатра в другой, так и не увидев ничего стоящего.
В квартал, не знающий сна, мы отправляемся сегодня вдвоем.
В качестве опытного, прожженного нью-йоркца я веду туда впервые попавшего за океан журналиста. Он молод — друзья зовут его просто Димой, — впечатлителен, много читал об Америке. Теперь хочет видеть все собственными глазами и как можно скорее.
Погода сегодня не для прогулок, но Диме неймется.
— Ну прошу вас… Может, такая погода будет все две недели. Я ведь только на две недели.
Идем. Серо-желтое вечернее небо сеет мелкий дождичек. На мокром асфальте блики всех оттенков.
— Давайте так, — предлагает Дима. — Вот мы с вами провинциалы из штата Висконсин. С долларами у нас небогато, но мы решили посмотреть все, о чем можно будет потом рассказать в семейном кругу. Идет? О-о! Что это такое?
Он бросается к ярко освещенному окну нью-йоркской забегаловки. Прямо у окна двое кудесников-итальянцев с черными усиками и потными лицами показывают трюк. Раскатывают кусок теста; подбрасывая в воздух, растягивают его все тоньше и тоньше. Вот он взлетает уже выше головы, полупрозрачный на свет. Вот, наконец, шлепается на стол. Немедля его намазывают взрывчатой смесью перца, тертого сыра и томатной пасты, суют на жаркий огонь. Три минуты, и пицца — итальянский пирог — попадает уже под нож. А кудесники хватают следующий кусок теста…
— О-о! — стонет мой спутник. — Попробуем, а? Глупо не попробовать.
Я и сам давний поклонник чудесной пиццы. Обжигаясь жаром теста и перцем начинки, пожираем треугольные ломти.
Дима тянет меня за рукав: нечего, мол, терять золотое время, раз пицца съедена. Выходим в раскрашенную вечерними огнями плотную сырость. Интересно, а вот что в этих маленьких лавчонках-щелях?
В щелях торгуют табаком, сувенирами, галстуками. Над одной витриной скромная вывеска: «Галстучный центр мира». Другая завалена поддельными индейскими амулетами, изготовляемыми для торговцев всех стран в Японии. Тут «трубки мира», кисеты, томагавки, головные уборы вождей с перьями из синтетического волокна.
— Давайте спросим парочку скальпов! Есть у них скальпы, как вы думаете? — смеется Дима.
Заведение «Увлекательные игры». Двери распахнуты; оттуда несется ржание и повизгивание джаза.
— Зайдем, а? — тянет Дима. — Почему бы нам не развлечься? Или вы уже пресытились здешними развлечениями, сознайтесь?
— Ничего интересного, — небрежно говорю я. — Но если вы хотите…
Большой заплеванный зал с бетонным полом. Это как бы продолжение улицы. Все заставлено автоматами, готовыми погрузить вас в пучину удовольствий.
Дима застывает перед стеклянной будкой, где разложила карты гадалка-цыганка, изготовленная не без мастерства в натуральную величину. Черный кот весьма зловещего вида примостился возле ее руки. «Что-то скажет бабушка?» — написано на будке.
— Да, так что же она скажет? — вопрошает Дима.
— Ничего-то она не скажет, пока вы не сунете вот сюда монету.
Звякнула монетка — и, глядите, оживилась бабушка, грудь алчно вздымается, руки ворошат карты! И кот за те же деньги выгнул спину.
— Но что же она молчит? Очень даже нехорошо с ее стороны! A-а, она отвечает в письменном виде!
Дима хватает кусочек картона, выскакивающий из щели с боку будочки. На нем изображена ладонь с таинственными линиями. Старая цыганка тотчас разгадала характер моего спутника с проницательностью, которой позавидовал бы каждый.
«Ваша рука показывает, — было написано на карте, — что вы очень любите наслаждаться радостями жизни. Поэтому и ваши сны бывают такими странными.
Ваши счастливые дни — воскресенья, четверги и тот день в каждом месяце, который соответствует дню вашего рождения, за исключением месяца до и после месяца вашего рождения».
— О-о, видите, воскресенья и четверги, — радуется Дима. — Сегодня как раз четверг. Было бы глупо не попробовать…
И он кивает туда, где леди и джентльмены дуются в пин-болл. Они сидят у наклонных столов вдоль стены и закатывают шарики в лунки. Надо закатить так, чтобы образовалась определенная комбинация.
Я, признаюсь, никогда не понимал, что влечет сюда игроков. Рассчитать движение шаров довольно мудрено. Значит, игра вслепую со счастьем? Но азарта незаметно, физиономии игроков скучные-прескучные. А счастье… Что за счастье выиграть дурацкую вазу, палку для гольфа, бронзовую Свободу или набор открыток? Должно быть, просто убивают время.
— Нет, — я решительно взял Диму за локоть, — давайте уж в следующий счастливый день, предсказанный вам цыганской бабушкой.
Мы направились было в комнату, где давал представления «Блошиный цирк профессора Хеклера». Но Дима сказал, что его не устраивает балаганное зрелище уездной ярмарки прошлого века. Его влечет к современной технике. Он потащил меня к аттракциону «Лунная ракета». Влез в кабину, взгромоздился на сиденье и стал двигать рычагами, пытаясь прилуниться. Сквозь окошечко иллюминатора перед ним мерцал холодный лунный пейзаж. Я-то прекрасно знал это, потому что однажды тоже не утерпел…
После успешной посадки на Луну Дима решил отовариться жетоном, прикалываемым к пиджаку или пальто. Тут были всяких размеров, рассчитанные на любой вкус и на любые жизненные ситуации: «Я ненавижу работу», «Давай потанцуем», «Я рожден для скандала», «К черту школу!», «Мне надо, чтобы меня любили».
Дима выбрал жетон размером с блюдечко для варенья, с надписью: «Я ненавижу работу».
— Прицеплю при случае, — сказал он, расплачиваясь. — Но вы говорили, что где-то здесь торгуют всякой чертовщиной?
На этот раз мы не просто открываем дверь — мы попадаем в мир черной и белой магии. Тут по-настоящему следовало бы держать филина на жердочке, желтый череп у кассы и седобородого звездочета за прилавком.
Небоскребы начисто лишены привидений, которые водятся в самом захудалом замке доброй, старой Англии. Обитатель же квартиры с автоматической посудомойкой и цветным телевидением испытывает иногда тягу к общению с потусторонним миром, к чему-то таинственному и необъяснимому. Тогда он идет в такую вот лавочку и покупает для начала «Энциклопедию оккультизма», посвященную спиритизму, магии и демонологии. Он сносится с колледжем астральной науки. Он узнает адреса наиболее знаменитых спиритов, умеющих вызвать дух умершего через десять минут после начала сеанса. Он звонит в один из двухсот нью-йоркских оффисов предсказателей судьбы и гадалок, чтобы договориться о часах приема.
В лавочке, куда я привел Диму, на видном месте красуются: «875 толкований различных сновидений», «Ключ к астрологии», «Мир снов», «124 случая успехов в жизни в результате верного понимания снов», «Звездный путеводитель (знаки Зодиака)».
Но главный, наиболее ходкий товар — гороскопы, от совсем тоненьких книжечек до томиков размером в детективный роман средней величины.
— Но ведь это же средневековье! — восклицает Дима. — «Наш микрофон установлен в лавке известного нью-йоркского снотолкователя и составителя гороскопов». Вот бы закатить такую передачу по московскому радио! Но давайте купим книжечку, а?
Решено: покупаем мой гороскоп. Не персональный — это дорого. Нам бы попроще, подешевле…
— Могу я помочь вам? — спрашивает продавец. — Мистер хочет гороскоп? Когда мистер родился?
— Я? Тридцать первого декабря.
— О, под Новый год! Вы Козерог!
— Простите?
— Вот, мистер, гороскоп, который вам подойдет. Видите? «Для родившихся между 21 декабря и 9 января». А это знак Козерога, видите? Вы родились под знаком Козерога.
В черном кружке на ярко-красной обложке изображено нечто вроде знака извлечения корня, но верхняя линия причудливо загнута рогом. «Гороскоп и анализ характера». Это крупно. А помельче: «Предсказания на будущее лично для вас по месяцам и дням. Здоровье, работа, богатство, любовь, красота, путешествия, женитьба, удачные часы и дни бизнеса».
— Сейчас мы точно узнаем, когда вы должны начать скупку земельных участков в Калифорнии, — подмигивает мне Дима. — О, но, сэр, вы не должны упускать свой час удачного бизнеса!
Гороскоп для начала обрисовывает мой характер. Он настаивает на моем честолюбии и твердости в решениях, на том, что я никогда не удовлетворяюсь достигнутым и стараюсь делать свой бизнес как можно лучше.
— Гороскоп вам льстит! — веселится Дима. — Смотрите, что тут дальше: «Если вы сильный Козерог, у вас светлый ум». Но должен вас огорчить: кроме светлого ума, рождение под знаком Козерога грозит вам некоторыми неприятностями. Тут прямо сказано: «Вы можете страдать от недостатка кальция, и это сказывается на зубах. Вас могут беспокоить кожные проблемы». Сознайтесь, вас действительно беспокоят кожные проблемы?
Продавец смотрит на нас с выражением крайнего неудовольствия. Он не понимает, что именно мы говорим, но ему не нравится наш смех: черная магия — штука серьезная и смеяться тут не над чем.
— Извините, господа, — говорит он, — я подумал, может, лучше завернуть эту книгу в пакет, ведь на улице дождь? Или господам угодно еще что-либо?
Это вежливый намек. Мы поблагодарили и вышли. Дима снова посерьезнел. Он сказал, что, побывав в таких вот лавчонках, можно потерять всякое уважение по меньшей мере к нью-йоркским книгоиздателям.
Я просил его не торопиться с выводами. Неверно думать, будто американские книжные магазины торгуют преимущественно сонниками, комиксами, гороскопами и прочей дрянью. В Нью-Йорке есть первоклассные книжные универмаги, где можно купить переводы любых классиков мира, превосходно изданные монографии, веселые и красочные книги для детей.
Всего в двухстах шагах от этих лавчонок, на той же Сорок второй улице, издательство «Мак-Гроу хилл» предлагает в своем магазине множество технических книг по всем отраслям знания, солидных книг, в том, числе и переведенных с русского, потому что, например, наши учебники и труды по теории математики считаются здесь классическими.
— Да, разумеется, — кивал головой Дима. — Но «Ключ к астрологии»! Нет, это все-таки черт знает что!
…Думаете, Нью-Йорк поумнел с тех пор, как мы с Димой окунулись в царство черной магии? Ничуть не бывало!
В начале 1970 года действовало уже несколько фирм, специально занятых предсказанием судьбы и составлением гороскопов. Одна из них открыла отделение даже на Эмпайр стейт билдинге. Дело поставлено с размахом, сочетающим чертовщину и самую современную технику: за пять долларов гороскоп составляет… электронно-вычислительная машина.
Кустарям-прорицателям надо платить дороже. Персональный гороскоп стоит теперь 20 долларов. И наверное, цены еще вырастут: спрос уже превышает предложение, по утрам у пятидолларовых машин-прорицателей выстраиваются очереди.
* * *
Это было в мой первый приезд за океан.
Как-то вечером я шел знакомой дорогой по улице, где вдоль всего квартала тянулся забор, за которым обычно слышался скрежет стальных экскаваторных ковшей. Теперь забор сняли. Прохожие толпились у края выдолбленного в скале глубокого котлована. Его огородили веревками наподобие огромного боксерского ринга. Посредине вздымался кран с квадратной платформой на крюке. В центре ее сверкал «крайслер» модели будущего года — мечта автомобилистов. Часть платформы занимал зонт, какие ставят в летних ресторанах. Он прикрывал столик с начатой бутылкой виски.
Возле автомашины в скрещении прожекторных лучей стоял человек с микрофоном. Чувствовал он себя на редкость непринужденно и болтал так свободно, будто его не подвесили черт знает куда, на раскачиваемую ветром площадку, а привели в уютную, привычную студию. Это был, как выяснилось минутой позже, Тэд Браун, один из популярных американских радиокомментаторов.
— Что я здесь делаю? Вы скажете — реклама? Ничего подобного, друзья мои! Тэд Браун скромен, как лесная фиалка, цветущая в тени вязов! Я просто хочу привлечь ваше внимание к тому, что делается у моих ног. Вы знаете, что здесь будет построен отель «Американа» — первый большой новый отель, который строится в нашем городе за последние тридцать лет. Да, две тысячи комнат! Но знаете ли вы, что пятьдесят два эскалатора — и ни одним меньше — будут поднимать вас в самый большой в Нью-Йорке танцевальный зал «Американы»? А бассейн на двадцать третьем этаже — плавайте в любую погоду! Вы хотите знать еще что-либо об отеле «Американа»? Спрашивайте, и Тэд Браун ответит вам!
Из толпы тотчас закричали своему любимцу:
— Тэд, спускайся лучше к нам! И захвати бутылочку!
— Эй, Тэд, это твоя машина?
— Тэд, старина, долго ты будешь висеть на этом сквозняке?
Тэд ловил вопросы, как мячики. Он живо поворачивался на своей шаткой платформе к каждому из кричавших, протягивал руки, кивал головой: понял, мол, понял.
— Сколько я буду здесь висеть? Главный вопрос! Тот, кто угадает это, получит «крайслер». Славная машина, правда? Да, да, я не шучу. Пройдите на угол и получите бланк. Проставьте там в клеточках, сколько дней, часов, минут, секунд я буду находиться в воздухе, не забудьте свое имя, адрес, телефон. Никакого обмана! Заполните бланк и опустите в красный ящик вон там, под флагом. Скажите честно, где еще вы можете выиграть «крайслер» так просто, не тратя ни цента? Только у компании «Луис-отель», которая тратит на постройку «Американы» пятьдесят миллионов долларов.
— Слушай, подскажи по-дружески, и кончим это дело! «Крайслер» пополам, идет?
— Подсказать? Ладно, так и быть. Вы все славные ребята. Тэд Браун поможет вам — настолько, разумеется, насколько это возможно. Вы не очень ошибетесь, если подумаете, что я проболтаюсь в воздухе часть следующей недели. Это не будет для вас большой подсказкой: ведь мало угадать дни — важны часы, минуты, секунды. Над этим стоит поломать голову! Но зато совсем не нужно ломать голову над тем, действительно ли «Американа» будет самым современным отелем в Нью-Йорке. А два ресторана, свой ночной клуб? А самые длинные, самые мягкие и самые удобные кровати, самые большие туалетные комнаты?
— Тэд, а как у тебя с туалетом там, наверху?
Толпа грохнула хохотом.
На углу прохожие опускали в ящик бланки, похожие на избирательные бюллетени. Вместе с бланками давали открытку, на которой был изображен Тэд Браун с микрофоном на фоне огромного отеля.
Не знаю, удалось ли кому-либо точно угадать, сколько провисит на крюке добровольный мученик рекламы. Не сомневаюсь, однако, что фирма «Луис-отель» достигла главного — наделала-таки изрядного шума на весь город. А она только этого и хотела.
Почему? Зачем? Ведь отель должны были достроить еще не скоро, а у Нью-Йорка забывчивость склеротика. Да, наверное, все забыли бы «человека в небе», если бы он не был лишь запевалой долгой рекламной кампании.
Два года нью-йоркцев приучали к мысли, что не побывать в «Американе» после того, как этот отель будет готов, почти непатриотично, что самые солидные и уважаемые люди чуть ли не за год заказывают там номера, что не зря строится лифт для президента. Позднее я видел отель готовым. Он действительно превосходен. Реклама сделала его модным. За моду хорошо платят. Жаль, что при входе в «Американу» не раздают бланки, где в клеточках догадливые посетители проставляли бы, сколько миллионов, сотен тысяч, сотен и десятков долларов прибыли получит фирма «Луис-отель» в ближайшие годы.
Американцы — отличные строители.
Как они возводят небоскребы, описано еще Маяковским: «Взяли кубический воздух, обвинтили сталью, и дом готов».
Тот, кто видел американских строителей в деле, согласится с поэтом, что они действительно сооружают дома так, будто тысячный раз разыгрывают интереснейшую, разученную пьесу и что оторваться от этого зрелища ловкости, сметки невозможно.
Америка гордится строителями. Строители гордятся своей работой и своей профессией. На заборах, окружающих стройки, надписи:
«У тебя есть пять минут? Тогда взгляни, как мы работаем».
«Если вы сердитесь на нас из-за того, что мы поднимаем шум и отчаянно пылим, то, может, потом вы будете благодарить нас за двадцатиэтажное здание, которое поднимется на этом углу».
«Выключите ваши транзисторные приемники, здесь работают экскаваторы и другие электрические машины, создающие много помех. Зато, освободив уши, вы можете дать работу глазам: право, стоит посмотреть, как закладывается фундамент этого нового здания. Итак, смотрите!»
Но как смотреть, если вокруг забор?
А сквозь специальные смотровые прорези. В некоторых местах ограда напоминает корабельный борт: на одинаковом расстоянии друг от друга, но на разной высоте прорезаны круглые застекленные отверстия наподобие иллюминаторов.
Почему на разной высоте? Чтобы могли смотреть и дети.
Шутники утверждают, что кое-где есть еще один ряд смотровых отверстий, совсем низко от земли: для собак. Пусть, мол, псы не скучают и не дергают за поводок, когда хозяева надолго прильнут к смотровым окнам.
Если одна фирма огородила котлован забором с иллюминаторами, то другая должна шагнуть еще дальше. Например, построить для наблюдателей, располагающих временем, небольшой крытый павильончик с удобными сиденьями. Там можно не спеша обсуждать действия машиниста экскаватора и спорить о том, не следовало ли сделать здание шестидесятиэтажным вместо сорокавосьмиэтажного.
Сняв трубку особого телефона, «уличный эксперт» слышит записанный на магнитофонную ленту голос, рассказывающий, что именно делается сегодня на стройке.
Вокруг одного строящегося небоскреба воздвигли целиком прозрачную ограду из небьющегося стекла. Тут уже не телефон, а громкоговорители сообщали последние новости.
Я наблюдал, как наискосок от «Тюдора» на Сорок второй улице строили новый небоскреб. Моя комната была на двадцатом этаже. На одной со мной высоте, но не в надежной незыблемости гостиничного номера, а на узких балках работали монтажники. Они чувствовали себя как дома в продуваемом всеми осенними ветрами каркасе над бездной улицы.
У них свой особый стиль в одежде. Я часто встречал этих ребят в часы ланча за столиками кафетерия и удивлялся опрятности, даже какой-то щегольской чистоте их комбинезонов, всегда выстиранных, без застарелых пятен ржавчины и масла. Башмаки на толстой подошве, не скользящей по металлу, и коричневые, тускло поблескивающие ребристые шлемы дополняли их костюм.
На монтажников (их называют «стилуоркерс»: «стил» — это «сталь», «уоркерс» — «рабочие») при постройке небоскребов работает вся техника. Они наращивают стальной скелет здания по вертикали и укрепляют основные поперечные ребра — прогоны. На эти прогоны опираются балки меньшего сечения, на которые стелют полы.
Вот кран-деррик осторожно и точно ставит на место вертикальную стальную балку. Вдоль поперечных ребер неторопливо движутся к ней люди в коричневых касках, с гаечными ключами на длинной ручке, используемой как рычаг. Эти ключи для закрепления временных болтов обычно висят на поясе сзади, в особых чехлах.
У монтажников вырабатывают автоматическую привычку держать ключ либо в руках, либо на поясе. Ведь если положишь его на балку, а потом нечаянно столкнешь, он, падая, легко пробьет даже стальной шлем.
Монтажников приучают не смотреть по сторонам, а особенно вверх или вниз. Говорят, они со временем приобретают особое свойство: без оглядки по сторонам чувствовать, ощущать, что именно происходит вокруг, инстинктивно держать под наблюдением всё таящее опасность и в то же время сосредоточиваться на каждом своем рабочем движении. А под ними — стометровая пропасть, желтые букашки-такси и крохотные люди…
Как-то иллюстрированный американский журнал напечатал очерк о двух верхолазах — индейцах из племени могаук. Ради опасного труда и хороших заработков они покинули резервацию — место, куда в свое время насильно переселяли индейцев.
Может быть, им помогла орлиная зоркость, смелость и отвага предков, но только Микки и Чинстон стали заправскими высотниками. В конце недели они ездили к родным в резервацию, чтобы помочь на ферме и половить рыбу, а в понедельник поднимались на верхотуру. В общем, оба не жаловались на судьбу, и фотокорреспондент снял их со стопроцентной оптимистической улыбкой на простодушных лицах.
А в конце очерка приписка: вскоре после того как были сделаны снимки, тяжелый трос сбросил Микки с балки. То, что осталось от парня, похоронили по старому индейскому обычаю на берегу озера, куда он приезжал к семье.
* * *
У островка Организации Объединенных Наций на Сорок второй улице своя школа. Над ней поднят голубой флаг. Она превосходно оборудована. Там учатся дети сотрудников ООН.
Другие школы в кварталах вокруг Сорок второй улицы не сразу найдешь — так они невзрачны и незаметны. Впрочем, Нью-Йорк вообще гордится своими школьными зданиями еще меньше, чем устаревшим сабвеем. Многие из них обветшали, стали тесными: население растет быстро, а новых школ долгое время этот богатый город почти не строил.
Правда, за последние годы американцы стали гораздо больше и серьезнее заниматься своими школьными делами.
Лет десять — пятнадцать назад во многих школах Америки главным считали не знания, не интеллектуальную культуру, а получение профессиональных навыков, умение приспособиться к окружающей жизни.
Один крупный ученый спросил у четырнадцатилетней девицы, что это за господин — Карл Великий? Та сделала большие глаза.
Ученый был уверен, что если бы он назвал эту девочку отсталой, директор школы возразил бы ему с жаром:
— Но это же очень милая, нормально развитая девочка, которая найдет свое место в жизни! Она лучшая барабанщица в школе и председательница школьного клуба. А два рассказа, напечатанные ею в школьном журнале? И потом, она сама сшила себе платье для нашего танцевального вечера. Уверяю вас, она совсем не плохая ученица!
Способного ученика, увлекавшегося математикой, химией, литературой, в школе обычно называли «яйцеголовым». В этой кличке был оттенок презрения. Вот «коуч» — это да!
Кто такой «коуч»? Как — кто? Капитан и тренер школьной спортивной команды, популярнейшая личность! Уж его-то, если он захочет, всегда примут с распростертыми объятиями и в технический колледж, и в университет!
Мыслящие американцы с тревогой писали: школа отстает от требований века. Их голос был услышан. Школу начали перестраивать. Поставили под сомнение истину, что домоводство не менее важно, чем математика. Усилили упор на академическую подготовку, на интеллектуальное развитие. Прибавили уроки, повысили требования. Наконец, с самых первых классов ввели особые способы определения развития и умственных способностей учеников.
Американцы вообще увлекаются всяческими испытаниями, серьезными и шуточными. Допустим, родители хотят знать, кем станет их любимое чадо. Папа кладет на стол бумажку в десять долларов, означающую страсть к накоплению, и Библию, сулящую безбедную карьеру священника. Рядом ставит бутылку виски, которая может соблазнить только будущего бездельника. Засим родители прячутся и с замиранием сердца ждут появления сына. Что-то он выберет?
Входит сын. Прежде всего берет десятидолларовую бумажку и внимательно смотрит на свет: не фальшивая ли?
— Джек будет банкиром, — шепчет счастливый отец.
— Нет, — возражает мать, — посмотри, он листает Библию!
Но тут сын со знанием дела нюхает виски, прищелкивая языком…
— Боже! Боже мой! — стонут родители.
Тем временем Джек сует деньги в карман, берет Библию под мышку и, размахивая бутылкой, удаляется из комнаты.
— Все ясно! — говорит вспотевший отец. — Он хочет стать политическим дельцом!
Но шутки в сторону. Для испытаний в американской школе сегодня используются особые тесты. Они должны определить «коэффициент умственной одаренности» Джонни или Мэри. Тестов много. Предполагается, что они помогают выявить не только способности ученика, но и быстроту его реакции, его приспособляемость к окружающему миру. Подсчет ведется по очкам или баллам.
Джонни набрал 90 баллов — ну что же, он середнячок. 110? Дорогие родители, ваш ребенок достаточно одарен. 80? Будем откровенны, от вашего чада не следует ждать многого. Поздравляем вас, у Джонни «Ай-Кью» 120! Он блестяще одарен, он далеко пойдет, уж поверьте нам!
«Ай-Кью» — сокращенное название коэффициента умственной одаренности. В том, чтобы попытаться выявить способности и склонности ребят, нет ничего плохого. Но могут ли самые подробные тесты дать верное и полное представление о действительных способностях Джонни или Мэри? Ведь если весьма одаренный от природы Джонни живет в тесной каморке и проводит многие часы на улице, зарабатывая на хлеб щеткой чистильщика сапог, ему при испытаниях трудно тягаться с менее одаренной Мэри, растущей в обеспеченной семье профессора философии.
Но главное даже не в этом. В некоторых американских школах «Ай-Кью» с первого класса разделяет ребят как бы по сортам. У них разные программы. Тем, у кого «Ай-Кью» невысок, дают задачки попроще. Со средним «Ай-Кью» — посложнее. Ну, а набравшим 120 учитель уделяет как можно больше времени и внимания.
Тем, кого зачислили в малоодаренные, легче учиться — с них меньше требуют. Но ведь и знать они будут меньше! А недостаточные знания — закрытый шлагбаум на многих жизненных дорогах.
Школа жестоко и почти бесповоротно предопределяет будущее ребят: одних готовит для поступления в колледж, других — на должности делопроизводителей, стенографисток, обслуживающего персонала электронно-вычислительных машин, третьих — для поступления на заводы, фермы, в магазины.
Верю, что мои читатели достаточно «яйцеголовые» для того, чтобы самим разобраться, как, допустим, должны чувствовать себя ребята, которым прочно, с первого класса, приклеен ярлычок «тяжкодумов»…
Моими любимыми предметами в школе были география и история. Я был разочарован, узнав, что во многих американских школах вообще не преподают географию. Есть, правда, «граждановедение», и на его уроках учащиеся получают кое-какие географические знания. Карту, например, довольно сносно могут «читать» уже пятиклассники. Но о странах, границы которых изображены на карте, даже некоторые старшеклассники знают сущие пустяки.
Майкл уверял меня, что мое пристрастие к географии вообще старомодно. Он просто не представляет парней, которые бы влюбленно рассматривали географический атлас. Подари он такой атлас в день рождения племяннику — и тот счел бы, что дядя рехнулся. Впрочем, заметил Майкл, вот история, которая внесет нужную ясность:
— Как-то в школу был приглашен один политикан — просто так, поговорить о жизни. Это был опытный оратор с хорошо подвешенным языком. Он говорил час, прихватил начало второго… «Когда я вижу ваши счастливые лица, — разливался оратор, — мои мысли уносятся в далекое детство. Почему же вы все так счастливы?» Тут он сделал эффектную паузу и заметил руку, поднятую над первой партой. «Так почему же вы счастливы? Я вижу, ты хочешь ответить нам, милый мальчуган?» — «Очень просто, — сказал тот. — Мы счастливы потому, что, если вы проговорите еще полчаса, у нас не будет урока географии». Вот видите, какого мнения средний американский школьник о вашем любимом предмете! Нет, вы неисправимо старомодны!
Среди «новомодных» дисциплин американской школы — уроки антикоммунизма. Официально предмет именуется «Американизм против коммунизма». Учителя подробно рассказывают ученикам о преимуществах американского образа жизни. Они должны разъяснять, какая это нехорошая и опасная для добропорядочных бизнесменов вещь — коммунизм.
В штате Нью-Йорк закон говорит так: «Учебные планы школ после завершения первых восьми лет обязательного обучения предусматривают курс по изучению коммунизма, его методов и пагубных последствий». В штате Миссисипи и многих других штатах учащемуся, не сдавшему курса «о природе коммунизма и той опасности, которую он представляет», не выдается свидетельство об окончании школы.
Сожалею, что мне не удалось побывать на уроке антикоммунизма. Я видел лишь некоторые учебные пособия. В одном из них Советский Союз описывался так: «Страна выглядит безлюдной и пустынной. Виднеются только огромные сторожевые вышки с мощными прожекторами и блокгаузы для солдат… В иных районах повсюду стоят заборы из колючей проволоки».
В так называемых «русских школах» — они похожи на наши спецшколы, в которых особенное внимание уделяется иностранному языку, — историю нашей страны учат по учебнику Сергиевского «Прошлое русской земли, или Краткий курс русской истории от славянских племен до захвата власти большевиками», а географию — по сочинению эмигранта Шаповалова. Наверное, можно было бы озаглавить его географический труд так: «Какой я помню Россию много-много лет назад, с добавлением к сему некоторых не вполне достоверных слухов об изменениях, происшедших там с тех пор».
А вот отрывок из учебника русского языка для студентов Массачузетского технологического института:
«Глеб Фомич — молодой агитатор с блестящим будущим. По дороге в агитпункт он распевает гимн (это по понедельникам, средам и пятницам). По вторникам и четвергам он поет какую-нибудь другую патриотическую песню.
Когда он входит в кабинет, подчиненные говорят:
— Привет нашему славному начальнику Глебу Фомичу! Он отвечает:
— Советский Союз окружен капиталистическими врагами!»
* * *
Я был — притом недолго, с экскурсией, — только в образцовой новой школе. Светлая, нарядная, она радовала глаз.
Меня никто не приглашал в ту школу, где дорогу посетившему ее мэру перебежала здоровенная крыса. Директор храбро бросился за ней с метлой. Но скандала избежать не удалось, поскольку всем было ясно, что это — одна из постоянных обитательниц школы, а не случайная гостья, которой захотелось хоть краешком глаза взглянуть на «отца города».
Это произошло в центре Гарлема, где учатся дети негров. Здание школы построили в конце прошлого века. В нем не было ни одной исправной двери. Школьники развлекались тараканьими бегами: «рысаки» гнездились всюду — в щелях облупившейся штукатурки классных комнат, в книжных шкафах и даже в партах.
Школы Гарлема — беда и позор города. Узкие окна, заслоненные соседними высокими фасадами, почти не пропускают света. В классах неимоверная теснота. Денег, которые отпускает город, едва хватает на то, чтобы кое-как латать разрушающиеся здания.
Суровой зимой 1968 года тысячи плохо одетых детей Гарлема вообще не могли посещать школу. Многие так мерзли дома, что власти разрешили им ночевать в отапливаемом военном складе.
Полмиллиона нью-йоркских школьников и школьниц, черных и белых, протестуя против тесноты, скученности в школах Гарлема и других районов бедноты, однажды не пришли на занятия. Власти, чтобы успокоить «забастовщиков», пообещали перевести часть гарлемских ребятишек из самых плохих школ в другие, расположенные в тех районах города, где живут более обеспеченные люди.
После этого директора и школьные инспекторы получили тысячи писем протеста от белых жителей, не желающих, чтобы их дети сидели рядом с неграми. Власти, однако, подтвердили свое решение.
Тогда в городе, где формально нет школ «только для белых» и «только для черных», четверть миллиона леди и джентльменов из «организации белых родителей» объявили бойкот распоряжению властей.
В 1970 году журнал «Лайф» провел опрос школьников, учителей и родителей. В «белых районах» за расовую интеграцию, за совместное обучение белых и негров, высказалось больше половины учителей и школьников, но меньше трети родителей.
Однако разве дело только в том, станет ли какая-то часть гарлемской детворы ездить из своего гетто в кварталы, где в школах меньше крыс и больше простора?
Представим, что новый, просторный и светлый первый класс заполнили двадцать белых малышей и двадцать курчавых негритят. Через двенадцать лет из этих сорока школу окончат двадцать белых юношей и десять черных. А остальные? Они отсеиваются по разным причинам. Так говорит статистика. Эта пропорция была предопределена неписаными законами американской жизни уже в тот день, когда робеющие первоклассники пришли с букетами к дверям школы.
Но и десять черных парней, получивших все-таки аттестаты зрелости, не вытянули десять счастливых билетов. Считается, что у черного Джонни втрое меньше возможности окончить колледж или университет, чем у белого.
Но допустим даже, что в один прекрасный день перед неграми сразу распахнутся двери всех высших учебных заведений. Высшее образование в Америке — это дорого, очень дорого. А средняя негритянская семья гораздо беднее белой. Где же взять деньги на учение?
Пусть Джонни из Гарлема человек железного здоровья и стальной воли. Днем он учится, а часть ночи крутит баранку такси, зарабатывая на учение и на книги. Он научился не замечать орущих ребятишек, не слышать перебранку соседей за тонкой перегородкой. Но может ли Джонни не думать, ради чего, собственно, добивается он диплома юриста или инженера?
Ведь этот диплом тоже не гарантирует ему места под солнцем. Волю, энергию черного Джонни уже сегодня подтачивает сознание, что завтра, возможно, ему скажут: место, на которое он рассчитывал, к сожалению, уже занято другим, занято белым Джонни.
Цифры неумолимы: когда родившиеся в один и тот же день черные и белые вырастут, безработных среди первых будет вдвое больше.
Неравенство белого и черного Джонни начинается со дня рождения, продолжается в школе, проходит через всю жизнь и не всегда кончается смертью: во многих южных штатах до сих пор белых и черных хоронят на разных кладбищах.
* * *
Рядом с «Тюдором» на Сорок второй улице небоскреб Ньюс-билдинг. Там посредине вестибюля медленно вращается земной шар — гигантский глобус. Часы на стенах показывают время Есех поясов. Стрелки напоминают, что когда над Нью-Йорком сгущаются сумерки, Москва уже встречает новый день. Стенные синоптические карты мира рассказывают об океанских штормах, тропической жаре, снегопадах.
Глобус вращается в углублении, похожем на бассейн без воды, и Южный полюс отражен снизу зеркальным полом. На круглой стене бассейна — надписи. Их читаешь, медленно обходя вокруг глобуса. Все они начинаются одинаково:
«Если бы Солнце было размером с этот глобус и находилось на этом месте, то…»
Автор надписей приноравливался к практическому складу ума американца. Солнечная система? Да, это грандиозно, конечно. Почитайте философов и поэтов, послушайте, что говорят астрономы. Но нельзя ли все же представить эту штуку пояснее, чтобы каждому было понятно?
Можно, пожалуйста:
«Если бы Солнце было размером с этот глобус и находилось на этом месте, то планета Меркурий была бы 11/2 дюйма в диаметре и находилась бы в 500 футах отсюда, на углу Третьего авеню и Сорок четвертой улицы».
Вот теперь другое дело! Загадочные, непредставимые дали уложились в привычные житейские рамки. Значит, Меркурий был бы где-то возле автобусной остановки? Скажи-и-те пожалуйста!
«Если бы Солнце было размером с этот глобус и находилось на этом месте, то звезда Струве, крупнейшая из известных, имела бы 7 миль в диаметре и находилась бы на расстоянии 46 миллионов миль».
Эти цифры не помогали мне почувствовать величие Вселенной. Может быть, над ними следовало бы поразмыслить в сосредоточенной тиши. Но мимо глобуса, через вестибюльную вселенную, развевая полы пиджаков хвостами комет, проносились репортеры из редакции газеты «Дейли ньюс». Обгоняя их, мчались мальчишки-рассыльные, мечтающие стать в газетном мире звездами первой величины.
«Если бы Солнце было размером с этот глобус и находилось на этом месте, то Луна имела бы 1/3 дюйма в диаметре и находилась бы у главного входа в железнодорожный вокзал».
Луна? Я не уверен, что человек, живущий на Сорок второй улице, вообще замечает вечную спутницу Земли. Ее обычно заслоняют фасады, лунный луч слишком слаб и робок среди рекламных огней.
Проснувшись как-то ясной, холодной ночью, я заинтересовался непривычным бликом на ковре. Раздернул штору. Ниже иглы Эмпайра висела совершенно чужая для этого города бледная луна, словно позаимствованная из пейзажа с луговым раздольем и темными стогами сена. Было даже что-то тревожащее в ее появлении на ночном нью-йоркском небе.
«Если бы Солнце было размером с этот глобус и находилось на этом месте, то в сравнении с ним Земля была бы размером с грецкий орех…»
Не хочется представлять нашу планету грецким орехом. Меня вполне устраивает хотя бы этот глобус. Он напоминает школьный, выросший во много раз. Он медленно вращается, подставляя материки и океаны негреющему искусственному солнцу.
Меня с детства пленяли физические сине-зелено-коричневые карты. Политическая карта мира тоже была интересна — столько разных стран, разных красок! Но физические карты казались более живыми, близкими природе: синь морей, зелень лесов, густо-коричневые горные кряжи, желтые пески пустынь.
Не знаю, сколько лет вертится Земля в вестибюле небоскреба. Если глобус ровесник здания, то больше трех десятилетий. Возможно, за это время механизм здешнего земного шара не потребовал даже капитального ремонта: американцы умеют делать долговечные вещи. Поверхность же глобуса, наверно, не раз приходилось перекрашивать, наносить на нее новые названия и новые государства. Копия, хотя бы миллиарднократно уменьшенная, должна соответствовать оригиналу — меняющейся нашей планете.
Глобусные сутки коротки — три минуты. Проплыл Нью-Йорк, уходит в тихоокеанскую синь Американский материк, и поднимается из нее советская земля, а там и Москва…
От глобуса лучами расходятся вделанные в пол блестящие медные полоски. Геодезисты точно обозначили ими, в какой стороне от Нью-Йорка главные столицы мира: Париж, Вена, Берлин, Лондон.
Знакомый луч: «Москва. 4645 миль».
Румб Москвы наискось пересекает вестибюль. Мысленно продолжив направление медного лучика сквозь толпу бегущих за окном прохожих, сквозь стадо сгрудившихся у светофора машин, я вижу фасад дома. Своей громадой он заслонил горизонт. Если бы не было этого дома, я увидел бы справа от заветной линии небоскреб ООН. А она, эта линия, перебросившись дальше, через Ист-ривер, улетает в бесконечность морских и сухопутных миль обоих полушарий, чтобы, мелькнув над пшеничными полями и березовыми рощами, кончиться у кремлевских старых башен.
Я смотрю в сторону Москвы.
Конечно, вовсе не в знак дружбы проложен через вестибюль медный лучик московского румба. Ведь в здании — редакция одной из реакционных газет Америки. Удивительно еще, что какой-нибудь из «бешеных» не попытался выковырять, выдрать медь из пола.
Мимо, присматриваясь к странному посетителю, проходит швейцар. Ничего не спрашивая, он смотрит холодно и отчужденно: догадывается, откуда я.
Никакой он не капиталист, не милитарист, но нас разделяет стена недоверия. Под его испытующим взглядом через стеклянную вращающуюся дверь выхожу на Сорок вторую.
А ведь придет время, когда мисс Смит или миссис Портер, нью-йоркская учительница, станет показывать медный лучик московского румба экскурсии школьников, чтобы те приветливо помахали руками далекой Москве.
Раньше или позднее, но обязательно придет!
Америка выбирает
Или — или. — Джо Смит и «накуренные комнаты». — Слон против осла. — Обещайте нажать кнопку! — И здесь реклама. — Как жюль-верновские герои… — День, который решает. — Ночные бури. — Снова вертится колесо…
Я жил в Америке, когда после президентских выборов в Белый дом пришел Джон Кеннеди. Потом видел, как Нью-Йорк выбирал мэра. В мой третий приезд страна переизбирала многих членов конгресса и губернаторов штатов.
Мне приходилось быть свидетелем многих других событий, позволяющих лучше понять поведение среднего американца во время разных избирательных кампаний.
Начну с президентских выборов 1960 года. Именно тогда выдвинулись три фигуры, которым суждено было попеременно сыграть главную роль в политической жизни Соединенных Штатов. Три участника той бурной избирательной кампании сменили друг друга в президентском кресле.
У могилы одного из трех горит теперь вечный огонь. Карикатуры времен избирательной кампании вытеснены из памяти кадрами кинохроники: Джон Кеннеди — то, что было Джоном Кеннеди, — на старом пушечном лафете, прикрытом звездным флагом…
Однако подкрашивание и «улучшение» истории под влиянием последующих событий, пусть даже драматических, придающих как бы иную окраску старым, — дело, в сущности, неправедное. Поступать подобным образом — значит искажать истину.
Каждый школьник у нас знает, что такое буржуазная демократия и кому она выгодна. Когда в Соединенных Штатах после выборов представители одной партии оттесняют представителей другой от государственного руля, то иногда это означает лишь, что к власти вместо одних королей «большого бизнеса» пришли другие короли. Это не скрывают и сами американцы. Я слышал в Нью-Йорке выражение: «Условия бизнеса создают президентов, а не президенты создают условия бизнеса».
— Но как у них все происходит там, за океаном, во время выборов? — спрашивали меня друзья, когда я вернулся из Америки. — Есть ли у них избирательные участки, бюллетени? А машина для голосования? Это действительно машина или только так говорится?
Вот я и хочу рассказать дальше, «как у них все происходит». Меняются кандидаты, меняются победители, но вся механика выборов остается в основном неизменной. В ней многое кажется странным, а кое-что даже диковатым; но постараемся узнать и понять особенности чужой жизни.
Что думают о своих партиях, о своей избирательной системе сами американцы?
Как-то работник Нью-йоркской публичной библиотеки сказал то, что говорят нам многие:
— Ваша демократия? Но позвольте, что это за демократия, если у вас одна партия?
— А у вас? Какая же может быть демократия при двух партиях!
— То есть как это?! — изумился он.
— Да так. Вот уже сколько лет вы обходитесь всего двумя партиями, из которых у власти только одна. Я, понятно, имею в виду партии, которые действительно имеют шанс встать к государственному рулю. Бог знает, сколько времени ваши президенты — либо республиканцы, либо демократы. И большинство в конгрессе либо демократическое, либо республиканское. Или — или. Вот и весь выбор!
— Да, но это все же две разные партии!
— С противоположными или резко расходящимися взглядами?
— Нет, этого утверждать нельзя. Но кое в чем они расходятся.
— В чем именно?
— Это очень трудно объяснить иностранцу, нас не всегда понимают даже англичане. Но если вы хотите, я подберу вам несколько книжек. Серьезных книжек, разумеется. Хотите?
И с американской обязательностью он подобрал мне несколько популярных работ, посвященных разбору американской политической системы. Вот выжимка из них.
Конституция Соединенных Штатов вообще не упоминает о партии или партиях. В первый период существования страны действовала однопартийная система. Джордж Вашингтон был ее сторонником и даже предостерегал против создания второй партии, считая, что во главе страны должно быть однопартийное правительство. В начале XIX столетия началось разделение, причем партия, которая впоследствии стала называться демократической, первоначально как раз именовалась республиканской.
Американские исследователи не только не отрицают, но, напротив, доказывают разумность и даже необходимость сходства нынешних партий-близнецов. Программы как демократической, так и республиканской партий практически одинаковы: разница лишь в кандидатах, выдвигаемых партиями.
«Партия — это организация для победы на выборах и овладения правительственным руководством, а вовсе не для ведения какой-либо идеологической борьбы с целью утверждения одной идеологии вместо другой». Я прочел это в книге «Политическая система США и как она действует», выпущенной в Нью-Йорке. В той же книге говорилось, что избиратели в штатах, по традиции считающихся республиканскими или демократическими, «в сущности, не имеют никакого выбора».
И вот еще одна цитата: «В настоящее время две существующие партии почти одинаковы… Каждые два года эти партии-близнецы по уговору вступают в битву, в которой обе стороны достаточно хорошо защищены и потерпевшая сторона не несет серьезного урона».
Так написал американский социолог Дэвид Койл.
Неверно, однако, думать, что раз партии так схожи, то Джо Смиту все равно, кто будет в Белом доме.
Джо Смит — это американский Петр Иванов или Иван Петров. Смит — самая распространенная в Америке фамилия. Сотни американских городов и местечек носят название Смиттаун, Смитборо, Смитфилд…
Джо Смит — типичный американец, средний американский избиратель.
Но кандидатов в Белый дом отбирает не Джо Смит. Это делают вместо него и без него верхушки обеих партий на своих национальных съездах — конвентах, больше напоминающих карнавалы или цирковые представления.
— Нигде вы не услышите так много глупостей за такой короткий срок и нигде не увидите так много людей, болтающих столь явный вздор, как на одном из этих спектаклей, повторяющихся каждые четыре года, — сказал очень известный американский журналист Рестон по поводу конвентов, собиравшихся перед выборами 1968 года.
Тот же буржуазный социолог Дэвид Койл говорит, что, наблюдая пеструю и шумную толпу в огромных, как стадионы, помещениях, где собираются эти конвенты, трудно понять, как великая демократическая страна может терпеть, чтобы ее президент избирался на таких диких, кричащих, свистящих, хохочущих сборищах. Но, замечает Койл, думать так — значит принимать видимость за действительность: «Делегаты, составляющие эту толпу, не выбирают кандидата в президенты. Они знакомятся с товарищами по партии и как бы поддают жару избирательной кампании, в то время как опытные, искусные политические лидеры работают за кулисами, маневрируя друг против друга и пытаясь найти кандидата, который объединил бы партию и привлек голоса «независимых» избирателей».
Партийные лидеры совещаются тайно в так называемых «накуренных комнатах», куда не заглядывают операторы телевидения. А на экранах телевизоров гремят оркестры, показываются факельные шествия и различные церемонии. Все это напоминает танец диких, готовящихся к провозглашению вождя. Они пляшут, воинственно размахивая томагавками, а тем временем жрецы и старейшины, собравшись в вигваме, намечают подходящую им фигуру.
Во время конвента демократической партии в 1968 году ловким репортерам удалось тайком установить микрофон в «накуренной комнате». Они надеялись услышать закулисные переговоры. Оказалось, однако, что все было решено даже до конвента…
Но в 1960 году «накуренные комнаты» были местом споров партийных боссов. Их решения оказались для многих неожиданностью. Говорили, что республиканцы выдвинут своим кандидатом в президенты миллиардера Нельсона Рокфеллера. А съезду представили Ричарда Никсона.
Наиболее вероятными кандидатами демократов считались Линдон Джонсон и Джон Кеннеди.
Джонсона знали лучше. Он давно «вступил на тропу политики» и последнее время стал лидером демократов в конгрессе. Джонсону было 52 года. В своем родном Техасе он владел богатым ранчо и доходной радиостанцией.
Думали, что будет так: Джонсон — кандидат в президенты, Кеннеди — в вице-президенты. Но Кеннеди очень энергично повел свою избирательную кампанию, не жалея денег отца-мультимиллионера, и боссы поменяли кандидатов местами, сочтя, что у Кеннеди больше шансов на победу.
После пышных церемоний конвенты демократов и республиканцев утвердили своих кандидатов.
Началась борьба за Белый дом.
Ее открыли «великие дебаты» — словесные поединки между кандидатами, которые должны были показать, чего именно каждый из них будет добиваться, если его изберут президентом.
Дебаты происходили в телевизионной студии. Каждый кандидат стоял возле своей небольшой трибуны.
Никсон выглядел усталым. Говорили, что был плох грим: он всегда гримируется перед выступлением по телевидению. Позже его противник шутил, что в любом гриме Никсон остается, к сожалению, всего лишь Никсоном.
Кеннеди обладал счастливой внешностью, вызывавшей расположение. Строен, красивое мужественное лицо, копна волос, улыбка… Самая обыкновенная нормальная улыбка, а не автоматический оскал политикана, привыкшего улыбаться перед публикой. Было в нем что-то мальчишеское, какой-то скрытый задор.
Эту моложавость противники ставили ему в вину: как, доверить мальчишке Белый дом?!
Кеннеди было в то время 43 года, Никсону — 47, президенту Эйзенхауэру — 70, причем на этот пост «Айк» вступил 62 лет. За всю историю Соединенных Штатов лишь Теодор Рузвельт стал президентом в 42 года, но не на выборах, а после убийства Мак-Кинли, при котором он был вице-президентом.
«Великие дебаты» начались очень мирно. Оба кивали головой в знак согласия с противником и признали, что цели, в сущности, у них одинаковы, а способы их достижения все же различаются.
По мнению газет, первый раунд закончился вничью.
Второй раунд, состоявшийся несколько дней спустя, прошел куда бойчее. Никсон, на этот раз загримированный под цветущего здоровяка, олицетворял энергию, волю, натиск. Он не смотрел в сторону соперника. Вперив взор в зрителей и сдвинув брови, он говорил с выражением непоколебимой убежденности о том, что в Америке все обстоит превосходно.
Кеннеди, слушая его, улыбался и нетерпеливо раскачивался у своей трибуны. Как хотите, но внешне «на миллион долларов» выглядел не миллионер Кеннеди, а величественный Никсон!
Кеннеди, подняв руку с растопыренными пальцами, сказал:
— Спор между нами о будущем страны. Никсон считает, что никаких экономических заминок и спадов у нас не будет, что наша мощь велика, что наш престиж за границей высок, что мы сильнее коммунистов и уверенно идем вперед. Я с этим не согласен.
— Нет, мы действительно сильны и едины, как никогда, у нас огромные достижения! — энергично настаивал Никсон.
Он говорил так потому, что его партия уже восемь лет находилась у власти, и надо было доказать, что под ее управлением страна прямо-таки процветает.
Тот же Никсон говорил уже совсем другое перед выборами 1968 года: к тому времени восемь лет в Белом доме находились демократы и он должен был всячески обличать их провалы, чтобы самому стать президентом-республиканцем…
Главная задача кандидата — внушать избирателям, что именно его партия — «о’кэй», что она хороша, крепка, знает дело и Джо Смит вполне может на нее положиться.
Республиканцы во время избирательной кампании напирали на то, что у них деловые и честные парни, тогда как демократы — сборище неспособных, неопытных людей, к тому же склонных потакать коммунистам.
Демократы утверждали, что, в отличие от республиканцев, этих приспешников богачей, они служат всему народу, что они, демократы, всегда идут в ногу со временем, тогда как их политических противников приходится чуть ли не на аркане тащить из прошлого века в нынешний.
Третий и четвертый раунды «великих дебатов» были лишь немного острее первых, причем «секунданты» Никсона обвинили Кеннеди в нарушении джентльменского соглашения. Ведь договорились же, что на противниках будут серые костюмы! Никсон был в сером и терялся на фоне занавеса. А Кеннеди надел темно-синий костюм, получив тем самым преимущество в глазах зрителей!
Но вот до выборов осталось около месяца, и в Нью-Йорке с удивительной быстротой, несвойственной этим животным, стали размножаться ослы и слоны. Ослы лягались, слоны победно размахивали хоботами на газетных страницах.
Слон — старинная эмблема республиканцев. Демократы выбрали осла. Кажется, прообразом эмблемы послужило не мирное домашнее животное, известное выносливостью и упрямством, а дикий быстроногий осел.
Слонов в Америке маловато, ослов — сколько угодно. Живого слона для сплочения республиканских рядов привели из зоопарка в зал заседания Национального конвента, где он под восторженный рев делегатов важно проследовал к президиуму. Живых же ослов приверженцы демократов приводили почти на каждую встречу с кандидатами своей партии. То и дело появлялись снимки Кеннеди и Джонсона, дружески обвивавших шею осликов.
Универмаг «Сакс-34» выпустил в продажу темные носки с белым ослиным профилем и с белой слоновьей тушей. Носками торговали на самом бойком месте — при входе в магазин.
— Вам пора включиться в кампанию! — выкрикивал продавец. — Покажите всем ваш партийный символ! Если вы еще не сделали выбор, покупайте сразу две пары и носите по одному носку из каждой пары! Слон — на правой, осел — на левой, если вы думаете, что впоследствии все же склонитесь к республиканцам!
Прямо на улицах продавались недорогие предвыборные галстуки с набивным рисунком. На галстуке со слоном, стоящим на задних ногах, было написано: «Никсона — в президенты!». «Кеннеди — в президенты!» — надрывался на другом галстуке осел в цилиндре «дяди Сэма».
Как-то я пошел в знаменитый мюзик-холл «Радио-сити». Вспыхивают огненные буквы: «Как его имя?» Чье имя? Да будущего президента, конечно!
С потолка спускается знак вопроса высотой с трехэтажный дом. Тотчас из-за кулис появляются… Вы угадали: осел и слон. Они пляшут под вопросительным знаком. Хор запевает песенку, которая в вольном переводе звучит примерно так:
— Как его имя? Как его имя? Кто скажет это сегодня? Кто может сказать это завтра? О-ла-ла-ла-ла! О-ла-ла! Мы знаем лишь, что он будет президентом! И он будет идти вперед — это главное! О-ла-ла! Э-гой! Может, он пойдет немного вправо, может, немного влево, но в общем вперед, мы это знаем! Ла-ла-ла-ла! О-ла-ла! Э-гой!
Осел и слон, кончив танец, обнялись в знак двухпартийной гармонии. Словно с небес раздался голос:
— Граждане великой страны! За кого бы вы ни голосовали, вы будете голосовать за него!
Тут на секунду наступила полная тьма, а затем там, где висел вопросительный знак, появился портрет «дяди Сэма».
Снова выскочили осел и слон, появился хор, опять вспыхнула надпись: «Как его имя?» — и грянула песня о том, что, конечно, ты пока не знаешь его имени, но можешь помочь сделать так, чтобы это было то имя, которое тебе больше нравится. В припеве повторялись слова: «Голосуйте! Голосуйте! Голосуйте!»
Еще один предвыборный обычай: ношение жетонов, или, как их называют, «пуговиц», с портретами кандидатов. Фабрики изготовили около ста миллионов таких штуковин размером от двадцатикопеечной монеты до чайного блюдца. Их прикалывали к пальто и костюмам. «Наш опыт — для лучшего будущего Америки», — предлагали Никсон и кандидат в вице-президенты Лодж на «пуговице» со своими портретами. На жетоне, где улыбались Кеннеди и Джонсон, говорилось: «Лучшее руководство для будущего».
Фабриканта спросили: зачем он выпустил столько «пуговиц»?
— О, спрос обеспечен! — ответил он. — Если кандидат хочет собрать побольше голосов, он прибегает еще и не к таким штукам, как мои жетоны!
Один остроумный психолог объяснил, почему американцы покупают «пуговицы». Для чего раскрашивали себя индейцы перед схваткой с врагом? Окраска придавала им храбрость, устрашала врагов. Человек, нацепивший на лацкан портрет Никсона, доказывает решимость бороться за своего кандидата. Чем больше жетонов, тем тверже решимость. А устрашение врагов? Если бы Кеннеди увидел портрет Никсона на каждом встречном, разве это не внесло бы смятение в его душу?
…Ветер парусит растянутые на веревках полотнища: «Кеннеди — Джонсон». Чуть дальше поперек улицы — красно-синие буквы на белом фоне: «Америка нуждается в Никсоне — Лодже!»
Подхожу. Окна декорированы национальными флагами. Девицы в белых пластмассовых шляпах с портретами Кеннеди и Джонсона стоят за прилавком. Избиратель может купить смешного плюшевого ослика, шляпу с портретами, американский флажок, а также бесплатно получить листовки с жизнеописанием демократических кандидатов. Динамик над входом разносит по всей улице песенку:
В Белый дом, в Белый дом Джеку двери распахнем!Новая пластинка, выпущенная фирмой Франклина Эллисона, называется «Белого дома победная песня».
От лагеря демократов перехожу к стану республиканцев. Разница лишь в портретах, эмблемах и песенке:
Носкам ботинок Дика Привычен Белый дом. За славным парнем Диком Идем мы в Вашингтон.Это пластинка того же оборотистого Франклина Эллисона. Называется она… «Победная песня Белого дома». Торговля нейтральна!
Два дня спустя я увидел живого «славного парня Дика».
Колеся по штатам, он завернул в Нью-Йорк и остановился в отеле «Коммодор» на Сорок второй улице. Этот отель не из дешевых, но ему далеко до роскошной «Уолдорф-Астории». Никсон же с первых дней кампании старательно показывал, что он из тех людей, которые не могут позволить себе израсходовать лишний цент. В каком-то маленьком городке он, забыв кошелек в гостинице, занял на скромный завтрак два с половиной доллара у своего телохранителя, о чем, конечно, сообщили газеты.
Против входа в «Коммодор» стояла белая открытая машина с крупными надписями на бортах и капоте: «Пэт и Дик Никсон». Уменьшительные имена кандидата и его супруги красовались также на плакатах, с которыми выстроились у отеля почему-то одни девицы: «Ура Ричарду Никсону! Ура, Пэт!» «Эй, Пэт, мы за тебя!», «Никсон — Лодж — наша команда!», «Пэт — первая леди», «Хэлло, Дик, ты всегда был за нас!»
Жена всюду сопровождала кандидата. В подходящий момент он обнимал свою супругу и обращался к толпе: «Скажите, разве из нее не получится прекрасная первая леди?» Толпа аплодировала.
Первая леди — это как бы титул жены президента.
…У подъезда «Коммодора» какое-то движение. Выходят? Нет, слышны смех и сердитые возгласы вперемежку. Откуда-то появился парень в темных очках. На поводке у него стриженый пудель. Пес одет в желтую попонку. На попонке — надпись: «Если бы я мог голосовать, я бы голосовал за Вашего кандидата».
Среди девиц — растерянность. Полисмены тоже в нерешительности. Если для собак есть рестораны, парикмахерские, портновские мастерские, если хозяева едят вместе с псами чуть не из одной тарелки, то почему бы псу не сотрудничать с хозяином и в предвыборной кампании? С другой стороны, как говорится, собака есть собака… Наконец полисмен решается:
— Проваливай, парень!
Как раз в этот момент из дверей торопливо выскакивает швейцар, за ним, пятясь, прицеливаясь камерами, фоторепортеры, потом господа в штатском.
Появляется Никсон. Он пропускает вперед жену, бережно поддерживая ее за локоть. Девицы визжат: «Ура, Пэт!» Кинохроникеры вскакивают в одну машину, детективы и телохранители — в другую, полицейские седлают мотоциклы — и через минуту под вой сирен кавалькада мчится по Нью-Йорку.
Девицы аккуратно складывают у подъезда свои плакатики и идут угощаться мороженым в аптеку на углу.
Хорошо, думал я в те дни, пусть песенки, пусть кошельки для ключей с надписью «Дайте Никсону ключ от Белого дома», пусть дискуссии о пустяках. Но неужто вся эта довольно безвкусная рекламная шумиха действительно влияет на решения Джо Смита? Что все же думают о кандидатах сами американцы?
Я заводил разговоры на эту тему. Лифтер «Тюдора», в прошлом служивший, как он говорил, гардеробщиком у самого Рузвельта, был целиком на стороне демократов. «Я не знаю мистера Кеннеди, но он в той партии, где был Рузвельт».
Вот почти полная запись беседы в кафетерии со служащим компании «Сокони вакуум ойл», пожилым человеком, родители которого еще до революции переселились за океан из-под Новозыбкова.
— A-а, вы, значит, советский? Интересно, интересно… И как же вам нравится Америка?
— В общем нравится, — отвечаю я.
— Да, да… Вы знаете, это верно, что у нас страшная вещь: доллар — превыше всего. Не удивляйтесь, многие ничем не живут, кроме: «Где купили пальто? Сколько заработали? Сколько стоит?»
— Но вот сейчас выборы…
— Что из того? По-моему, и Кеннеди и Никсон — неискренние люди.
— Почему вы так думаете?
— Любой из них выиграет кампанию и все забудет. Вот обещают дешевые квартиры…
— У вас плохо с этим?
— Нет, не плохо, но все же… А у вас бывает несколько семей в квартире, я знаю. Это ужасно, как же воспитывать детей?
— Да, это нелегко. Но мы много строим.
— Я знаю, знаю. А у вас одна партия, как же так? Мы больше всего ценим свободу. Я могу выбрать Кеннеди, могу Никсона.
— Но, если не секрет, кого же вы хотели бы видеть в Белом доме?
— Я? Оба они неискренние люди, все забудут… О-о, мне пора, извините… Было очень, очень приятно…
В Америке есть институт Гэллапа, изучающий общественное мнение. Его метод — опросы разных людей во всех штатах. Но Гэллап публикует лишь проценты: столько-то процентов собираются голосовать за демократов, столько-то — за республиканцев, столько-то еще не решили, кто лучше. Эти опросы давали сначала некоторый перевес Кеннеди — Джонсону.
Вашингтонская газета послала своего корреспондента в американскую «глубинку». Три недели он колесил между западным и восточным побережьем страны вдали от автострад, по маленьким городам и фермам. Он беседовал с 353 провинциалами — с фермерами, священниками, учителями, мелкими лавочниками, отставными солдатами.
И вот его выводы: никто из кандидатов не вызывает энтузиазма. Люди говорят, что будут держать нос по ветру. Их, в сущности, интересует лишь один вопрос: «Никсон или Кеннеди получат Белый дом, а что я получу при этом?» Один парень сказал: «Я только что потерял работу. Какое мне дело до того, о чем Джек и Дик спорят на экранах телевизоров, если я вынужден продать свой телевизор?»
Любопытно, что во время президентских выборов 1968 года другой журналист почти слово в слово повторил выводы своего коллеги: «Никто не испытывает особенного энтузиазма по отношению к кандидатам». А третий добавил, что, исколесив страну, так и не повстречал на своем пути американца, который был бы всем доволен.
Солидный журнал занялся не менее солидными исследованиями и установил, что только одна жена из десяти голосует против кандидата, предпочитаемого ее мужем, что среди 25-летних преобладают так называемые «независимые», вообще-то говоря, мало интересующиеся политикой и не разбирающиеся в оттенках, позволяющих отличить демократа от республиканца, что фермеры колеблются в выборе кандидата до самого последнего момента, а в этот последний момент часто… просто остаются дома, отказываясь идти на избирательный участок.
«Только около одной четверти избирателей думают, что они все-таки знают разницу в политике двух партий по важнейшим проблемам, — писал журнал. — Остальные или вовсе не интересуются этими проблемами, или же не видят никакой разницы в позиции партий».
Не здесь ли ключ к пониманию некоторых особенностей американской избирательной кампании? При охоте за голосами бить не на какие-то там политические проблемы, в тонкостях которых все равно разбираются только немногие, а использовать привычные американцу приемы, и в первую очередь весь арсенал рекламного искусства.
Вот на углу ежится от ветра немолодая женщина с лицом озлобленной неудачницы. На ней кокетливо распушенная белая юбка не по сезону. Вместо узоров по подолу выведено: «Никсон, Никсон, Никсон». На пластмассовой шляпе — десяток ослепительно улыбающихся Никсонов. И на сумке надпись: «Америка нуждается в Никсоне».
Почему нуждается в Никсоне? Или в Кеннеди? А почему сигареты «Кэмэл» лучшие в мире? Ведь нигде не доказывается, что в них особый табак. Просто миллионы плакатов сообщают вам истину: лучшие в мире. Вы познаете эту истину раньше, чем учитель откроет вам глаза на то, что дважды два — четыре. Повзрослев, вы просто покупаете «Кэмэл», лучшие в мире сигареты. Сто тысяч раз повторенная на плакатах, шляпах, подолах юбок фраза «Америка нуждается в Никсоне» рассчитана на сходный результат: загипнотизированные рекламой, вы проголосуете за кандидата, в котором так нуждается Америка!
Рекламе нужны агенты. Рекламный агент — одна из распространенных в Америке профессий. Предвыборной рекламе нужны агенты-любители, за минимальную оплату или бесплатно. Их вербует каждая партия.
Прямо при выходе из «Тюдора» получаю листовку от паренька-школьника. Портрет Кеннеди и просьба жирными буквами: «Дайте мне 10 минут в день в течение следующих нескольких дней, и я научу вас, как завоевать Нью-Йорк для Кеннеди и Джонсона».
Во-первых, кому я должен дать свои десять минут? Мишелю Прендергасту, одному из боссов демократов. Во-вторых, чему он собирается меня учить? Искусству завоевывать голоса.
У этого Прендергаста странный жаргон: «Да! Если вы хотите сунуть Кеннеди в Белый дом, если вы хотите видеть его там…» Допустим, хочу. Тогда я должен потратить десять минут в день, чтобы убедить хотя бы одного избирателя зарегистрироваться для голосования за демократов.
Но Прендергаст предостерегает: пригоден отнюдь некаж-дый житель Нью-Йорка! Право голоса имеет тот, кому исполнился 21 год, кто живет в штате Нью-Йорк не менее года, а в самом Нью-Йорке — не менее 4 месяцев. Кроме того, он должен доказать свою грамотность справкой учебного заведения или держать специальный экзамен на английском языке. Другие языки не годятся…
Иду к ООН. На тротуаре — девица в шляпе «Никсон — Лодж». Она почему-то думает, что я симпатизирую республиканцам:
— Если вы, сэр, хотите протолкнуть нашего Дика в Белый дом…
Получаю листовку. Обещайте, говорится в ней, держа эту листовку в руках, нажать кнопки пяти дверных звонков и пять раз позвонить по телефону соседям в течение следующих пяти часов. Скажите им, что вы голосуете за Никсона и Лоджа потому, что они сильнейшая пара в Америке, имеющая многолетний опыт отношений с Советским Союзом. Если тот, к кому вы обратились, согласится с вами, попросите и его пять раз нажать кнопки звонков и пять раз снять телефонную трубку. Продолжайте делать это, пока пять человек не согласятся выполнить вашу просьбу…
Штаб по проникновению за чужие двери — избирательный участок, возглавляемый опытным «капитаном». А выше — пирамида боссов. Они зорко следят за всеми маневрами и особенно за всеми промахами противника, поддерживают связи с разными дельцами, получая от них деньги на избирательную кампанию и обещая взамен выгодные должности и привилегии в случае победы партии. Впрочем, как говорят знающие люди, пожертвования в фонд партии поступают и от некоторых господ, которые безразличны к должностям: им нужно лишь, чтобы их не беспокоила полиция…
Еще выше, над партийной машиной, — старомодно обставленные кабинеты королей бизнеса, царствующих на Уоллстрите. Там не «звонят во все звонки». Но именно там без лишнего шума решается многое.
* * *
Ричард Никсон мог стать президентом до выборов 1960 года: в случае смерти престарелого президента Эйзенхауэра он, как вице-президент, автоматически занял бы его место в Белом доме.
Тридцать четыре миллиона американцев проголосовали за Никсона в 1960 году, и ему не хватило около ста с лишним тысяч голосов, чтобы занять пост президента.
Тридцать один миллион американцев отдали Никсону голоса в 1968 году, и он торжественно переехал в Белый дом.
Кто же такой Ричард Милхауз Никсон?
Листовку с его подробной биографией, хорошо иллюстрированную, во время избирательных кампаний раздавали на всех перекрестках. Биограф доказывал, что Дик, сын лавочника-квакера, — типичнейший из типичных американских мальчиков. Дик играл на скрипке, фортепьяно и в футбол — запасным с № 12 на майке. После окончания колледжа молодой юрист Дик Никсон выбрал частную адвокатскую практику.
Под снимком в форме моряка была краткая подпись: «Лейтенант военно-морских сил Ричард Никсон, октябрь 1942 года. Он служит в южной части Тихого океана и остается во флоте до ноября 1945 года».
Следующий снимок переносил прямо в Вашингтон. «Глядя на первый служебный кабинет Никсона, — сообщал биограф, — никто не смог угадать, что в США его ожидает блестящая карьера… Его история — живое доказательство того, что мир, каким является Америка, предоставляет все возможности людям простого происхождения».
История началась с того, что в августе 1946 года двадцать шесть газет поместили объявление: требуется молодой человек, склонный к политической деятельности и не имеющий предшествующего опыта.
Никсон был принят после десятиминутного расспроса. Он вполне подошел так называемому «комитету ста» в Калифорнии, который поставил целью столкнуть на очередных выборах мешавшего дельцам конгрессмена Джерри Вурхиса.
Калифорния выращивает апельсины. И вот пронесся слух, что Джерри Вурхис собирается ратовать за снижение цен на калифорнийские апельсины, давая выход на рынок флоридским. Этот Вурхис, оказывается, намерен также внести законопроект о запрещении продажи спиртных напитков! Тем временем неизвестные люди стали звонить по телефону избирателям и предупреждать, что уважаемый г-н Вурхис — коммунист и агент Москвы.
Вурхиса забаллотировали. Никсон был выбран в палату представителей. «Комитет ста» торжествовал победу.
На снимке господин Никсон, начинающий конгрессмен. Он впился в лупу, рассматривая какую-то кинопленку. Оказывается, господин Никсон, разоблачая «красных», ищет на доставленном ему микрофильме доказательств вины Алджера Хисса, работавшего при Рузвельте в государственном департаменте.
Следующая страница описывала дальнейшие этапы продвижения Ричарда Никсона к креслу вице-президента: человек с безупречной репутацией умеренного и прогрессивного республиканца, прекрасный оратор, стойкий борец с коммунистической опасностью, он одержал трудную победу на выборах в сенат.
Несколько страниц биографии были посвящены зарубежным поездкам вице-президента. Здесь на долю Никсона выпадали не только розы, но и шипы. Под снимком, изображающим злоключения господина Никсона в Каракасе, говорилось: «Красные преследуют Никсона. Будучи мишенью для ругани, камней и палок, Ричард Никсон не сдался во время путешествия по Южной Америке и вернулся героем».
Позднее ему пришлось еще раз доказать свою стойкость. Это было уже не в Южной, а в Северной Америке. Во время предвыборной поездки по штату Мичиган его встретили в ряде городков далеко не дружелюбно.
Большое место в биографии было отведено поездке господина Никсона в СССР в 1959 году. Две страницы занимал снимок — Никсон на Американской выставке в Москве, в Сокольниках. В образцовой кухне выставочного американского дома он, как гласит подпись, просвещает слушателей «относительно новых фактов о Соединенных Штатах Америки и о капитализме». При этом восхвалялись смелость и блестящее ораторское мастерство Никсона.
Какие же, однако, «новые факты» приводил господин Никсон в момент, изображенный на снимке? Вот как ответил на это один американец:
— Я видел фильм об этой беседе. Знаете ли вы, что говорил он, направляя палец в собеседников? Он говорил: «Дайте же мне хоть несколько слов сказать…»
А можно ли было верить американцу, на которого я ссылаюсь? Под хохот толпы это рассказал на одном из предвыборных митингов Джон Кеннеди.
* * *
Американские газеты обычно не печатают предвыборных выступлений кандидатов, хотя ими вполне можно было бы заполнить всю газетную площадь. Никсон произнес 180 больших речей и множество малых. Но даже если бы газеты пожелали напечатать все это, читатель не стал бы затруднять себя: речи кандидатов удивительно однообразны. Арт Бухвальд, лучший из американских газетных юмористов, рассказал об этом так. Один корреспондент спрашивает другого:
— Марк, а что сказал Никсон в Ла-Кроссе?
— То же самое, что в Кливленде.
— Я не был в Кливленде.
— Но ты же был в Филадельфии?
— Да.
— Так вот, он сказал в Ла-Кроссе то же, что в Кливленде, и то же самое, что в Филадельфии.
— Сколько народу, по-твоему, вышло встречать его в Рочестере?
— Я проверял. Четыре процента. Еще четыре процента остались дома, так как они — за Кеннеди. А девяносто два процента населения отправились охотиться на уток.
— По-моему, в аэропорту в Денвере его ожидало человек двести.
— Его ожидали сто двадцать человек. Остальные восемьдесят ждали самолет на Сан-Луис…
В речах Кеннеди было больше разнообразия и юмора. Позднее Никсон, решив, что юмор не повредит и ему, нанял для сочинения острот комика телевидения Джека Паара.
Предвыборные речи американских политических деятелей сводятся к нескольким стандартам. На эту тему составлен даже полушутливый путеводитель с пояснениями.
Вот кандидат выступает перед ветеранами:
— Я горжусь тем, что присутствую здесь, среди моих бывших товарищей по оружию. Я не занимал в армии высоких постов, но понимаю мысли и чувства простого солдата.
Так говорит кандидат, вся военная карьера которого состояла в закупках продовольствия для армии.
Речь перед фермерами:
— Мой дедушка Ричард имел небольшую ферму, как и многие из вас. Немало дней я провел там, познавая тяжелый труд за плугом.
На самом деле знакомство оратора с сельским хозяйством ограничивается тем, что однажды он неплохо провел отпуск в деревенской гостинице, играя в карты с приятелями.
Речь перед собранием членов профсоюза:
— Я счастлив присутствовать здесь, в среде рабочих. Я горд тем, что в моем кармане лежит членская книжка одного из великих профсоюзов нашей страны!
Так говорит он и действительно извлекает из кармана книжку почетного члена профсоюза каменщиков, полученную за речь при закладке первого кирпича нового здания в каком-то захудалом городке.
Завоевав подобным способом аудиторию, оратор разглагольствует о «маленьком человеке», «простом человеке», «мелком предпринимателе». Затем наклеивает несколько ярлыков’ на своих политических противников и сдабривает все это набором стереотипных возгласов…
Третьего ноября, незадолго до дня выборов, я пошел на большой митинг. Был хмурый, ветреный день, темные тучи неслись с океана. На Тридцать четвертой улице толпа казалась лишь немного гуще обычной. Репродукторы разносили чью-то речь, и время от времени ее прерывал протяжный звук «а-а-а», исторгаемый в знак одобрения сотнями глоток.
Я стал протискиваться к трибуне, установленной напротив универмага Мейси. Над ней рвались на ветру огромные связки неярких воздушных шаров. Толпа, окружавшая трибуну, размахивала щитками с портретами республиканских кандидатов. Низко пролетел самолет, белые хлопья листовок стали оседать на улицу, на крыши.
Выступал Никсон. Похудевший, темный от загара, он выкрикивал что-то, но разобрать слова было почти невозможно: то и дело свистели полисмены, регулирующие движение на торговом перекрестке. Поток покупателей, толкая слушателей острыми углами коробок, шурша пакетами, прорывался сквозь толпу. Такой же поток двигался навстречу, к стеклянным дверям универмага.
Никсон передал слово президенту Эйзенхауэру. Его встретили долгими, протяжными криками. Со всех этажей окрестных домов полетело нью-йоркское конфетти: страницы, вырванные из пудовых телефонных книг, сменяемых к каждому новому году. Президент говорил недолго. Смысл его речи сводился к тому, что мистер Никсон «о’кэй» и мистер Лодж тоже «о’кэй».
Мистеры Никсон и Лодж преданно смотрели на оратора. В сторонке, в расстегнутом плаще, без шляпы, щурился на ветру Нельсон Рокфеллер.
Потом выкрикивали что-то деятели более мелкого калибра. Их вовсе не слушали, оркестр вступал совсем не к месту, заглушая выкрики. Толпа быстро редела, оставляя прямо на площади уже ненужные портреты и плакаты. Под ногами хрустели «пуговицы». Старик, разгребая их палкой, выбирал уцелевшие и клал в шляпу.
В эти же дни вернулись в Нью-Йорк Кеннеди и Джонсон.
Жаклин Кеннеди ожидала рождение ребенка и не путешествовала с мужем по стране. Но по улицам Нью-Йорка супруги проехали в открытом автомобиле. Встречали их не столько торжественно и бурно, сколько приветливо и сердечно. Почти не было враждебных выкриков, которыми представители другой партии стараются помешать противнику.
Наверное, на многих просто действовало обаяние молодой супружеской пары, они меньше всего думали в эти минуты о политической программе кандидата.
Кеннеди был миллионером. Но прогрессивные организации Америки поддерживали его, а не Никсона.
Слово «миллионер» совсем по-разному звучит у нас и за океаном. В стране культа доллара это слово означает не только богатство, но и удачливость, умение в делах. Так, во всяком случае, кажется американцу. Нельзя забывать и о «народном капитализме», подновившем легенду о чистильщике сапог, запросто ставшем миллионером. Нельзя забывать о гигантской пропагандистской машине, вдалбливающей американцу, что «делать деньги» — благородно, что это придает смысл жизни, является ее целью. А раз так, то разве не достоин уважения человек, преуспевший на пути к этой вожделенной цели?
В свое время Ильф и Петров очень точно подметили растлевающее влияние культа доллара на психологию американца. Помните человека, который требовал:
— Надо отобрать у богатых людей их богатства… Отобрать деньги и оставить им только по пяти миллионов!
Зачем же оставлять пять миллионов? В глубине души этот американец надеется, что сам когда-нибудь станет миллионером, пояснил писателям их спутник, мистер Адамс. «Американское воспитание — это страшная вещь, сэры!» — добавил Адамс.
Противники Кеннеди довольно вяло упрекали его в том, что он миллионер. Вероятно, эти упреки мало изменили отношение к нему избирателей. Уж наверное, боссы республиканцев не упустили бы такого козыря, если бы думали, что это действительно козырь.
Кеннеди был серьезно и разносторонне образован. Перед войной его признали негодным к военной службе из-за болезни спины. Он пошел добровольцем, командовал торпедным катером. Катер был протаранен японским эсминцем. Кеннеди, получивший тяжелые ушибы, помог раненому механику доплыть до ближайшего островка.
После войны он стал журналистом, объехал много стран, бывал в Советском Союзе. За одну из книг получил почетную премию. Он был молод для политического деятеля, и доброжелательные фотографы снимали его при боковом свете, чтобы выделялась каждая морщинка.
Нью-Йорк и во второй приезд хорошо встретил Кеннеди. Я видел его проезд по Бродвею и чувствовал настроение толпы.
Вечером Кеннеди выступал вместе с Линдоном Джонсоном.
Все-таки это были разные люди — внешне, во всяком случае. Непринужденность и изящные манеры одного особенно подчеркивались сдержанностью и угловатостью другого. Но в их поведении не было и намека на недавнее соперничество. А ведь при поименных голосованиях законопроектов в конгрессе сенатор Линдон Джонсон и сенатор Джон Кеннеди 264 раза голосовали друг против друга!
* * *
Словно герои жюль-верновского «Завещания чудака», носились главные действующие лица кампании в сумасшедшей гонке из штата в штат.
Скорее! Скорее! И грохочет никсоновский поезд, в котором осунувшаяся Пэт кладет грим, девяносто советников возятся над сводками с мест и перелицовкой речей, а скучающие репортеры режутся в покер до следующей остановки.
Грохочет поезд. Что там впереди? Смитборо? Сколько жителей? Полторы тысячи? Обойдутся без митинга! Но все-таки замедлим ход, и пусть Дик с сожалением разведет руками, высунувшись из окна. Митинг будет в Смитсоне: семь тысяч жителей, много сторонников Кеннеди. Четверть часа на рукопожатия, пятиминутная речь о маленьких людях в маленьких городах. Пэт может остаться в вагоне…
Носятся поезда, с ревом взлетают реактивные самолеты. Оба кандидата измотались вконец. Никсон стал заговариваться. «Мой соперник Лодж мелет чепуху», — сердито сказал он вдруг на одном митинге. Конечно же, он имел в виду Кеннеди.
Кандидат демократов, кажется, все же лучше сохранил силы, научившись мгновенно засыпать в самолете. И потом — строгая диета спортсмена: чашечка томатного супа, несколько галет, фруктовый сок.
Никсон объехал все пятьдесят штатов, покрыв свыше ста тысяч километров (в 1968 году он не смог побить этот свой рекорд, налетав «всего» 80 тысяч и посетив 118 городов).
Кеннеди не успел побывать в шести штатах. Последние дни у него не обошлись без неприятностей. На митинге в Чикаго охрана заметила двух подозрительных людей. Полиция арестовала их. Оба были вооружены револьверами. «Пустяки, отпустите их», — попросил Кеннеди.
Кажется, ничто не доставляло таких страданий кандидатам, как рукопожатия. Никсон применял «двуручную технику» — здоровался с избирателями двумя руками сразу, — и тем не менее его правая рука сильно распухала. Правая рука Кеннеди висела как плеть. Кандидатов утешали тем, что тому из них, кто попадет в Белый дом, не станут докучать рукопожатиями.
* * *
8 ноября. Первый вторник после первого понедельника ноября високосного года, — день, который конституция США отводит президентским выборам.
В городе шумно, но не празднично. Закрыты некоторые банки и конторы. Закрыты все школы — школьники-бойскауты ходили по квартирам избирателей, звоня во все двери. До окончания выборов — с 6 утра до 9 вечера — закрыты бары, а в ресторанах подают только прохладительный напиток «се-вен-ап», кока-колу, соки и минеральные воды. Магазины, напротив, не только торгуют, но и объявили очередную распродажу в честь выборов.
«Н-и-к-с-о-н», — старательно выписывает в небе самолет. «Никсон! Кеннеди!.. иксо… еннеди… и-и-и!» — мигом набивается в уши.
Ну дайте же людям хоть в самом конце, хоть перед самой кабиной еще раз подумать, сосредоточиться. Какое там! Гигантская машина запущена на полный ход и, набрав разбег, уже не может остановиться. Азарт, как на трибунах стадиона в день финального матча на кубок, как на бегах при розыгрыше главного приза для рысаков-. И даже с тотализатором! Ведь сегодня определится, кому получать, кому расплачиваться по ставкам пари, которые заключались всюду — где исподтишка, а где открыто. Сначала фаворитом был Никсон. На него ставили 8 против 5. Потом в ходе кампании ставки стали меняться. Последнее время ставили 8 против 5 и даже 8 против 3 на Кеннеди.
Информационное агентство США сегодня пригласило иностранных журналистов и писателей посмотреть, как Нью-Йорк будет выбирать президента.
Приходим в бюро. Предлагают черный кофе, сдобные булочки. Весьма учтивый седой господин напоминает, что нам предстоит увидеть демократию в действии. Прихлебывая кофе, он наставляет:
— Господа, вам не следует заглядывать в кабины в момент, когда происходит голосование, и вы посмотрите здесь, как это происходит. Примерно половина избирателей в Соединенных Штатах голосует с помощью машин, остальные — бюллетенями. Вы увидите много полицейских, но, надеюсь, не истолкуете это превратно. Полиция выставляется для охраны прав голосующих, особенно представителей национальных групп.
Идем к установленной в углу машине.
Она в кабине с приоткрытой зеленой занавеской. Седовласый господин показывает, как все происходит в Нью-Йорке.
Сначала потяните за большую ручку, и тогда задернется занавес, скрыв вас от нескромного глаза.
Теперь надо не растеряться. Перед вами — пять рядов рычагов.
Вверху четыре рычажка: два «да» и два «нет». Это «пропозишн» — сопутствующий выборам опрос по двум предложениям. Избирателям штата Нью-Йорк предлагается решить, нужно ли затратить пять миллионов долларов дополнительно на постройку домов с дешевыми квартирами и нужно ли выпустить заем на семьдесят пять миллионов долларов, чтобы купить землю для устройства парков и спортивных площадок. Да или нет?
Кандидаты каждой партии на все посты имеют свой ряд и свои условные обозначения. Верхний ряд — республиканцы: они записаны под буквой «Эй» и изображением орла. Вторые — демократы: буква «Би» и пятиконечная звезда. Третий ряд — либеральная партия: буква «Си» и колокол. Либералы блокируются на выборах главных кандидатов с демократами, под первым рычагом у них тоже Кеннеди и Джонсон.
Но вот сюрприз — кто такие Ферелл Добс, кандидат в президенты, и Майра Вейс, кандидат в вице-президенты? Они в четвертом ряду, под буквой «Ди». Оказывается, их выдвинула социалистическая партия.
Господин, сопровождающий нас, тонко улыбается:
— На прошлых выборах наши социалисты собрали две тысячи голосов. Ноль целых, ноль-ноль сколько-то там тысячных процента… Но у нас демократия. Пожалуйста, пусть тот, кто хочет, голосует за мистера Добса и за Майру Вейс, пожалуйста. А теперь…
Наш сопровождающий, показывая работу машины, быстро опускает рычаги. Щелк, щелк, щелк… А он, как видно, убежденный республиканец! Щелк, щелк… Сколько же всего рычагов? Быстро считаю: сорок один.
— Вот теперь я отодвигаю занавес — и результат моего голосования автоматически регистрируется. Господа, все ли вам понятно? Есть вопросы? Или, может, не станем терять время здесь? Я буду сопровождать вас. Прошу в автобус!
Едем. Темные, грязноватые улочки, мрачные дома. В Информационном агентстве не такие простачки, чтобы повезти нас на Пятое авеню.
Ведь мы все знаем, что в Нью-Йорке есть трущобы. Везти нас туда не обязательно, но глупо было бы выбрать маршрут, минующий «серые» районы: корреспонденты тоже не лыком шиты.
Пункт для голосования. У столов довольно длинные очереди. Имена избирателей ищут в черных регистрационных книгах. Найдя, прикрывают ладонью подпись избирателя, сделанную им при регистрации. Заставляют расписываться снова. Регистратор сличает, и лишь после этого разрешает голосовать. Дело идет медленно, в очереди нервничают.
Но что за два господина сидят в стороне и внимательно наблюдают за избирателями?
— A-а, эти… — Наш седовласый явно рад вопросу. — Это «сторожа». Да, господа. Один — от демократов, другой — от республиканцев. И так везде, где голосуют. Они следят, чтобы все было честно. Их оплачивают партии, не государство.
Следующий пункт разместился в Гарлеме, в зале с бетонным полом и железными решетками на окнах. Похоже на склад. Зал разгорожен барьерами с надписью «Полицейская линия». Никаких украшений, лишь американский флаг над столом и написанный от руки плакат: «Не курить». Сравнительно мало голосующих и очень много полицейских. Стоят, курят, посмеиваются. Из трех кабин доносится пощелкивание.
Третий участок — в школе. Нью-йоркские учителя бастуют, но сегодня им запрещено пикетировать возле тех школ, которые заняты под избирательные участки.
Четвертый участок — в китайских кварталах Чайнатауна. Та же унылая казенщина, что в других пунктах, только красные блики на полу от неоновых иероглифов над соседним китайским ресторанчиком.
В автобусе половина сидений пуста. Собратья по перу потихоньку разбежались…
Решено, что последний этап скачек к Белому дому мы смотрим у Михаила Михайловича Лопухина, нью-йоркского корреспондента «Экономической газеты».
Лифтер — тот самый, что был гардеробщиком у Рузвельта, — спуская меня с двадцатого этажа «Тюдора», буркнул:
— Дик впереди. Но мы еще посмотрим.
Шофер такси обернулся ко мне:
— Никсон лидирует, слышали? Мы победим. Айк будет доволен. Никсон — его парень.
— Пока Никсон, — сказал Михаил Михайлович. Он уже сидел у телевизора. — Правда, все только начинается.
Передача шла из огромной студии. На цилиндрических возвышениях гнездились телекамеры. В два ряда были сдвинуты один к одному столы стенографисток, принимавших сообщения с мест, и счетчиков, жмущих клавиши каких-то машин. В креслах у маленьких столиков дымили комментаторы. Еще какие-то люди носились с бланками по студии, стучали на пишущих машинках и, наконец, просто глазели на стену.
Стена была разделена на несколько секций, каждая секция — на пятьдесят ячеек, по числу штатов. Там, под портретами кандидатов, то и дело выскакивали цифры. Стена напоминала табло нью-йоркской биржи. Да и в самой атмосфере студии, в скороговорке комментаторов, сыпавших числами, именами, названиями штатов, было что-то от биржевой лихорадки.
Часы показывали 7.40 вечера по нью-йоркскому времени. В Нью-Йорке еще продолжалось голосование, но в некоторых местах уже начали считать голоса.
Внезапно весь экран заняли цифры. Это доносил штат Коннектикут, где проголосовало большинство избирателей. Цифры вытеснила физиономия:
— Леди и джентльмены! Пока в стране подсчитаны голоса двух процентов избирателей. По-прежнему ведет Ричард Никсон! Мы дадим вам возможность следить за всей захватывающей борьбой. Триста наших репортеров телефонируют и телеграфируют сюда изо всех штатов. Здесь, в студии, свыше ста счетчиков и электронные счетные машины. Ведет Ричард Никсон! Ведет Ричард Никсон! Но это только два процента избирателей! Внимание, уже три процента! Важные известия!
Появились цифры:
Никсон — 50.
Кеннеди — 50.
На экране снова вся студия. Мне показалось, что там забегали быстрее. В гаме выделялось слово «Коннектикут».
— Кофе, пожалуйста! — крикнул кто-то, перекрывая шум.
8 часов 25 минут. Процентное соотношение подсчитанных голосов:
Никсон — 49.
Кеннеди — 51.
Но вместо комментатора на экране реклама пепси-колы. Сегодня за каждую минуту рекламной паузы дерут сумасшедшие деньги: ведь вся Америка — у телевизоров.
Комментатор уже другой, почтенного профессорского облика. Странно видеть его на фоне студийной мельтешни, место ему на университетской кафедре.
— У нас около ста четырех миллионов граждан, достигших избирательного возраста. Из них сегодня могли бы голосовать восемьдесят три — восемьдесят четыре миллиона. Около двадцати миллионов американцев не смогут голосовать, даже если бы они очень этого хотели. Восемь миллионов не имеют ценза оседлости, пять миллионов больны и находятся в больницах, полмиллиона живет за границей, два с половиной миллиона — в дальних поездках, восемьсот тысяч неграмотны. Теперь хочу предостеречь вас от поспешных выводов. Да, в Коннектикуте подсчет голосов заканчивается. Но при всем моем уважении к этому превосходному штату позволю вам напомнить, что не там лежит ключ к победе. Коннектикут — это восемь голосов выборщиков. Штат Нью-Йорк — сорок пять голосов, Калифорния — тридцать два, Пенсильвания — тридцать два, Иллинойс — двадцать семь, Оклахома — двадцать пять, Техас — двадцать четыре. Шесть ключевых штатов — сто восемьдесят пять голосов. Для победы, вы знаете, нужны двести шестьдесят девять. Подождем же известий из ключевых штатов!
«Профессор» растаял на экране: зрителям не надо было пояснять, что это за выборщики. Дополню его. Американцы не прямо избирают президента. На рычагах машины голосования написано: «Выборщики для Кеннеди — Джонсона», «Выборщики для Никсона — Лоджа».
Число выборщиков от каждого штата равно числу членов конгресса, избираемых этим штатом. Если, допустим, в штате Нью-Йорк кандидат победит хотя бы самым незначительным большинством, он сразу получает 45 голосов выборщиков. И пусть его противник соберет все до единого голоса в Аризоне, Аляске, Делавэре, Айдахо, Неваде, Вайоминге, на Гавайях — это всего лишь 23 голоса выборщиков, лишь половина того, что даст перевес в Нью-Йорке. Дважды в истории Америка имела президентов, собравших в целом по стране меньше голосов избирателей, чем их противники, но получивших больше голосов выборщиков.
…На циферблате 8 часов 55 минут. Подсчитаны голоса восьми процентов избирателей:
Никсон — 47.
Кеннеди — 53.
Включают кинохронику — кто где голосовал. Никсон. Как же он осунулся! За последнее время ему здорово досталось. Вчера прилетел в Висконсин с Аляски, из Висконсина на реактивном бомбардировщике промчался в Детройт, оттуда — в Чикаго, где выступал по телевидению вместе с Лоджем. Затем ухитрился произнести еще несколько речей на ходу, в три часа ночи прилетел из Чикаго в Лос-Анджелес, в шесть утра поехал на машине в свой родной город Виттиер. И вот вместе с Пэт шествует на избирательный участок так, будто это не избирательный участок, а уже Белый дом.
Кеннеди последние сутки был на ногах восемнадцать часов. Под руку с Жаклин он осторожно спускается в подвал бостонской библиотеки. На мгновение скрывается там в кабину и почти тотчас выходит оттуда.
А это кто? Смутно знакомый господин, сердито посматривающий сквозь очки на фотографов. Трумэн! Конечно же! Сообщают, что он голосует на одном и том же участке с 1919 года.
Господин, уже совершенно мне неизвестный. Кажется, он выходит из подъезда «Уолдорф-Астории». Кто же это? Еще один бывший президент — Гувер. Репортеры осаждают его:
— Никсон будет в Белом доме?
— Я не гадалка и предсказаниями не занимаюсь, — отрезает тот.
9 часов 10 минут. Ого, чаша весов снова качнулась! Последние данные: Никсон ведет в 22 штатах, в том числе в Нью-Йорке, тогда как Кеннеди лидирует лишь в 19. Но пока рано делать выводы, рано! Комментатор считает, что картина станет ясной после одиннадцати часов вечера. Он хочет еще что-то сказать, но реклама несравненного бархатистого мыла, возвращающего увядшей коже молодость и эластичность, прогоняет его с экрана.
Какой-то старичище держит в трясущейся руке бюллетень и что-то бормочет с экрана. Это самый старый избиратель Соединенных Штатов, мистер Шоулендер из Северной Дакоты. Ему 105 лет, он избирал 16 президентов. Первым из них был Мак-Кинли, его убили, к сожалению. Мистер Шоулендер надеется, что президент, которого он избирает сегодня, доживет, как он, мистер Шоулендер, до 105 лет…
Вот и 11.00 — час, когда, если верить знатокам, начинает определяться победитель. Вспыхивают цифры:
Никсон — 46.
Кеннеди — 54.
11 часов 50 минут: у Кеннеди перевес в два миллиона голосов. Но это еще даже не полпобеды: в штатах, где, по общему мнению, велики шансы Никсона, подсчитана лишь незначительная часть голосов.
1 час 15 минут:
Никсон — 47.
Кеннеди — 53.
У Кеннеди хуже, чем было два часа назад. То вверх, то вниз. Как с курсом акций. Кажется, даже комментаторы несколько сбиты с толку. Вместо того чтобы говорить о шансах кандидатов, один пускается вдруг рассказывать о сестре мистера Кеннеди. Она замужем за польским аристократом Радзивиллом и сегодня — представьте такое совпадение! — должна разрешиться от бремени. Победа брата была бы славным подарком будущей матери!
Другой тоже отделывается пустяками. В штате Нью-Йорк есть городок Кеннеди. Его жители отдали большинство голосов Никсону. Жители же города Никсона в штате Нью-Джерси почти все за Кеннеди.
А вот сообщение из Атланты: Вилли собрал 390 голосов на выборах в конгресс. Кто этот Вилли? Горилла из зоопарка. 390 избирателей вписали обезьяну в свои бюллетени, не желая голосовать ни за одного из кандидатов, выставленных партиями.
Все это интересно, конечно, но как же с подсчетом голосов? Уже 1 час 40 минут ночи.
Ага, вот, кажется, действительно решающие минуты. «Профессор» говорит, заглядывая в бумажку, говорит медленно, раздельно, даже торжественно. Подсчитаны голоса 62 процентов избирателей. У Кеннеди перевес в 25 штатах, у Никсона перевес в 25 штатах. Кеннеди заметно лидирует в 7 штатах, Никсон — в 12. Но Кеннеди резко вырвался вперед в двух ключевых штатах. Он сразу получает много голосов выборщиков.
И пять минут спустя на экране появляются плечистые ребята. Это агенты секретной службы, охраняющей президента. Они направляются к дому Кеннеди.
2 часа 10 минут:
Никсон — 47.
Кеннеди — 53.
2 часа 25 минут. Показывают штаб-квартиру национального комитета республиканской партии. Много пустых стульев. Кое-где дремлют люди; один прикрыл лицо шляпой, виден только полуоткрытый рот. Четверо почему-то обнимаются, изображая живейшую радость. Но радость деланная… Видно, что здесь уже не верят в победу.
Никсон — 48.
Кеннеди — 52.
3 часа 17 минут. Неожиданно появляется Никсон. Улыбаясь, он идет под руку с кандидаткой в первые леди. Все-таки этот человек умеет владеть собой. Ему аплодируют, одобрительно свистят. Он поднимает вверх обе руки — жест, заимствованный у Эйзенхауэра. Можно подумать, что Никсон торжествует победу. Крики: «Мы хотим Никсона! Америка нуждается в Никсоне!» Никсон кланяется:
— Сэнк ю вэри мач!
Опять аплодисменты.
— Я думаю, что избирательная кампания продолжается… Пользуюсь случаем поблагодарить всех, кто в ней участвовал.
Пэт стоит рядом с застывшей улыбкой. Вдруг лицо ее начинает жалко подергиваться. Она судорожно лижет губы. Слезы, предательские слезы, ползут по щекам… Никсон бросает на нее быстрый взгляд. Но Пэт уже справилась со своими чувствами. Она опять улыбается вымученной улыбкой. Крики: «Мы хотим Никсона!», «Пэт — первая леди!» Сейчас особенно заметно, что «первая леди» вконец измучена. Жаль ее. Никсон держится из последних сил, говорит отрывисто, почти бессвязно:
— Я верю, что вы будете едины с тем, кто победит. Если это Кеннеди, он получит мою искреннюю поддержку. Еще раз спасибо. Я спал только два часа в прошлую ночь. Я пойду спать…
3 часа 50 минут. Появляется Лодж, окруженный репортерами.
— Я хочу поздравить Кеннеди. Он уже избран. Это очевидно. Мы все должны поддержать его. Ничто бы так не обрадовало коммунистов, как разделенная Америка.
Опять телестудия. Здесь тоже не железные люди. Уже никто не бегает, движения вялые, физиономии скучные. Азарт совсем не тот, хотя, кажется, опять не все ясно. Снова вдруг показывают Никсона. Нет, он не спит, у него еще теплится надежда. Но разве есть что-либо обнадеживающее для него?
Да, есть. Усталый «профессор» напоминает разные истории из выборной практики. В 1948 году Трумэн победил в Калифорнии и Охайо с перевесом всего в один голос.
А каковы последние цифры?
Никсон — 49.
Кеннеди — 51.
Я не заметил, как стал клевать носом. Разбудил меня толчок Михаила Михайловича.
Добродушный молодой толстяк с двойным подбородком стоял посреди вспышек блицламп. Его лицо сияло. Я узнал Пьера Сэленджера, пресс-секретаря Кеннеди.
— Он будет выступать в десять часов утра, — сказал толстяк. — Никаких заявлений до десяти утра!
— Что делает Кеннеди?
— Спит, я полагаю.
— Считаете ли вы, что Кеннеди выиграл выборы?
— Никаких заявлений до десяти часов.
— Но все-таки?
— Сенатор лег спать с надеждой…
Это было в 4 часа 15 минут утра. Появился диктор:
— Я думаю, что теперь мы можем пожелать всем нашим слушателям спокойной ночи.
И в последний раз мелькнули цифры:
Никсон — 49.
Кеннеди — 51.
* * *
Позже подсчитали точно: Кеннеди получил лишь на 112 тысяч голосов больше, чем Никсон, но добился решающего превосходства в голосах выборщиков.
Джон Фитцджеральд Кеннеди, сорока трех лет от роду, стал тридцать пятым президентом Соединенных Штатов Америки.
Линдон Бейнс Джонсон — вице-президентом.
А три года спустя были выстрелы в Далласе, скорбь Америки, позор Америки…
Роковой полет Джона Кеннеди в Даллас был вызван началом новой избирательной кампании. Трагедия на какое-то время приостановила ее. Тайна все еще окутывала обстоятельства убийства, когда колесо снова начало раскручиваться.
В республиканском лагере мелькали фигуры старые и новые: Рокфеллер, Голдуотер, Лодж…
Газеты утверждали, что Линдон Джонсон — наиболее вероятный кандидат демократов, что, по-видимому, у него есть много шансов остаться в Белом доме на второй срок.
А Ричард Никсон?
Бывший вице-президент, бывший кандидат в президенты, попытался было стать губернатором штата Калифорния. Не вышло: его забаллотировали. Тогда он сказал журналистам:
— Вам больше не придется иметь дело с Никсоном. Это моя последняя пресс-конференция.
Переехав из неблагодарной Калифорнии в Нью-Йорк, Никсон вступил в коллегию адвокатов и стал компаньоном юридической фирмы.
Спустя некоторое время он отправился за границу. Был в Каире, посмотрел, как строится плотина в Асуане. Поехал в Будапешт, Вену, Рим.
Его спросили о планах.
— Ныне я частное лицо. Адвокат в Нью-Йорке. В Америке, как вы знаете, быстро уходят с политической сцены…
Это журналисты знали. Однако окончание фразы прозвучало многозначительно:
— …но и приходят на нее тоже очень быстро.
В начале 1964 года поговаривали, что республиканцы на новых президентских выборах, возможно, сделают ставку на Никсона: Рокфеллер кажется им несколько левым, Голдуотер — чересчур правым.
Однажды Никсон выступил в республиканском клубе Филадельфии перед богатыми дамами. Почтенные матроны сидели в модных меховых шапках-башнях, кутались в меха и благоухали дорогими духами. Никсон юношески бодро вскочил на стул и произнес речь. Ему устроили овацию. И в зале пронесся боевой клич прошлой предвыборной кампании республиканцев:
— Мы хотим Никсона! Мы хотим Никсона!
Но к большому огорчению Никсона, этот клич, в общем-то, заглох под сводами филадельфийского клуба. На сборищах республиканцев все чаще стало раздаваться:
— Мы хотим Голдуотера! Барри — в президенты!
Я до той поры почти ничего не слышал об этом господине. Полистал американские справочники «Кто есть кто». Там сообщалось, что Барри Морис Голдуотер родился в 1909 году в штате Аризона, с 1952 года — сенатор от штата Аризона, владелец универмагов в штате Аризона, популярный оратор республиканской партии, деятель организации «Консервативное общество Америки».
И вот имя Голдуотера стало повторяться на всех языках мира. Его портреты печатались тиражами, которым могли позавидовать кинозвезды. Барри Голдуотер стал одной из звезд первой величины в политическом мире Америки. И как быстро, как неожиданно для многих поднялась эта зловещая звезда над горизонтом!
В начале 1964 года Барри сказал, что он будет добиваться выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Многие смеялись: ну и шутник! Однако вскоре на предварительных выборах в ряде штатов Барри оставил за флагом Рокфеллера, хотя ют истратил на обработку общественного мнения огромные деньги и побил свои прежние рекорды рукопожатий, однажды поднявшись по приставной лестнице к окнам второго этажа.
Летом 1964 года съезд республиканской партии в «Коровьем дворце» Сан-Франциско выдвинул Барри Мориса Голдуотера кандидатом в президенты США.
С миллионов плакатов и листовок, из витрин, с газетных полос Барри Голдуотер прицелился ослепительной улыбкой в Джо Смита. Он вовсе не карикатурен, этот господин в роговых очках. У него благородные седины, сохраненные до почтенного возраста манеры рубахи-парня. Он генерал-майор авиации в запасе, сам может водить истребитель. Он на «ты» со многими господами, имеющими вес в Пентагоне. У него много денег, репутация хорошего семьянина, дельного бизнесмена. У него широкие, крепкие, полезные связи в деловом мире провинциальной Америки, он свой человек среди нефтяных, пушечных и прочих королей Запада и Юга страны. В общем, он соответствовал стандарту преуспевающего политического деятеля.
Правда, голова Барри набита идеями, которые давно отталкивают здравомыслящих американцев. Но те же идеи сделали его кумиром всех реакционеров, всех «бешеных» Америки, в особенности членов «общества Джона Бэрча» и Ку-клукс-клана.
Сенатор Барри Голдуотер в разное время выступал за разрыв отношений с Советским Союзом, за уход Соединенных Штатов из ООН, за возобновление испытаний ядерного оружия, за вторжение на Кубу, за применение во Вьетнаме атомной бомбы… Он выступал против закона о гражданских правах, против всеобщего разоружения, против мирного сосуществования.
От всех этих «за» и «против» пахло гарью тлеющего фитиля. Казалось бы, не может быть сомнений, что встревоженный Джо Смит должен, не колеблясь, нажать в кабине рычаг, где названо имя Линдона Джонсона.
Но Джо Смит знает, что демократы тоже не ангелы. Далеко не ангелы. Боссы республиканцев намекали, что одно дело — сенатор Голдуотер, а другое — президент Голдуотер, что в Белом доме честный, но увлекающийся парень Барри станет совсем-совсем хорошим.
Даже сам Эйзенхауэр заявил республиканскому кандидату при встрече: «Ты, Барри, человек чести и доброй воли». А в Америке многие по старой памяти все еще прислушивались к Эйзенхауэру…
И все же Джо Смиту, как бы его ни запутывали и ни сбивали, нетрудно было понять, чья рука скорее может потянуться к роковой кнопке ядерной войны.
В канун дня выборов Барри Голдуотер пообещал одержать самую крупную победу в истории политической жизни страны.
Когда подсчитали все голоса, оказалось, что Барри Голдуотер потерпел неслыханное поражение. Он получил большинство лишь на Юге, где особенно сильны расисты. Линдон Джонсон победил даже в тех штатах, которые по традиции всегда голосовали за республиканцев.
Джо Смит остановил любимца «бешеных». Джо Смит сказал «Нет!» Барри Голдуотеру.
Ведь он, Джо Смит, любит не только доллары, но и мирное синее небо, шелест листвы, своих ребятишек…
Я не буду подробно рассказывать о президентских выборах в 1968 году. Говорить о них подробно — значит повторять очень много из того, что уже знает читатель. Об одном же из самых драматических событий избирательной кампании 1968 года правильнее будет рассказать в следующей главе.
Президент Джонсон начал с обещаний превратить Америку в «великое общество», но вверг ее в пучину грязной войны во Вьетнаме и напряженных внутриполитических кризисов. Перед началом избирательной кампании 1968 года он неожиданно заявил, что не будет больше выставлять свою кандидатуру на пост президента. Вероятно, Джонсон предвидел возможность провала: его популярность падала с каждым днем.
Съезд демократической партии утвердил своим кандидатом вице-президента Губерта Хэмфри. Этот съезд происходил в Чикаго. Опасаясь бурных протестов против продолжения войны во Вьетнаме, мэр города на помощь двенадцати тысячам чикагских полицейских вызвал еще шесть тысяч солдат, а также агентов секретных служб. Демонстрантов это не остановило. В дни съезда произошли кровавые столкновения на улицах. Около пятисот человек было ранено. Такое начало избирательной кампании отнюдь не сулило легкой победы демократам.
Нельсон Рокфеллер опять истратил на рекламу собственной персоны более пяти миллионов долларов. Но съезд республиканцев в Майами утвердил кандидатом не его, а Ричарда Никсона, который к этому времени восстановил свое положение в партии и был тесно связан с Уолл-стритом через процветающую юридическую фирму «Никсон, Мадж, Роуз, Гатри, Александер и Митчел».
А как же Голдуотер? «Бешеные» нашли другого кандидата. Им стал оголтелый расист Джордж Уоллес, губернатор штата Алабама. Маленький человечек с выпученными глазами образовал «американскую независимую партию». На предвыборных митингах он выкрикивал полуфашистские лозунги, спекулировал на расовых предрассудках многих белых американцев.
Сама избирательная кампания прошла бледно. Программы двух главных партий по-прежнему мало отличались друг от друга. Карикатурист нарисовал толпу избирателей, с недоумением взирающую на слона, у которого выросли длинные ослиные уши, и на осла, отрастившего хобот…
Ни один из кандидатов не вызывал особенных симпатий. В ходу была шутка: большинство американцев знают, кто им не нравится, но не знают, кто им нравится.
Стараясь, чтобы их кандидаты понравились, обе партии не жалели денег на рекламу. Когда-то Авраам Линкольн получил от друзей на расходы по избирательной кампании двести долларов. Сто девяносто девять он вернул за ненадобностью, один доллар ушел на покупку сидра. Предвыборная борьба 1968 года стоила триста миллионов долларов!
И вот пришла ночь подсчета голосов. На этот раз из 121 миллиона американцев, имевших право голоса, воспользовались им всего 72 миллиона.
Победу одержал Ричард Никсон, но с ничтожным перевесом. Огорченный Губерт Хемфри не удержал слезу… А что в современной Америке достаточно велика опасность фашизма, показали почти десять миллионов голосов, полученных расистом Уоллесом.
Тридцать седьмым президентом Соединенных Штатов Америки стал Ричард Милхауз Никсон, собравший меньше половины голосов тех, кто голосовал, меньше четверти голосов всех, кто мог бы голосовать, наконец, меньше голосов, чем в кампанию 1960 года, принесшую ему поражение.
Такова американская избирательная система.
Америка убивает
Выстрелы в Далласе. — Смерть президента Джона Кеннеди. — Взрывы после пяти. — Загадки, загадки… — Извилистые пути Ли Харви Освальда. — Убийство в отеле «Амбассадор». — Джим Гаррисон против Клея Шоу. — «Коза ностра». — Такова, Америка…
Был знойный полдень одного из тех солнечных дней, которыми иногда балует город Даллас поздняя техасская осень. На тротуарах толпились зеваки. Выделялись джентльмены в широкополых шляпах южан, с загнутыми на ковбойский манер полями.
Но вот толпа зашумела. Из-за угла Хаустон-стрит вынырнули мотоциклисты.
— Едут! Вон его машина!
Когда кортеж открытых автомобилей приблизился к семиэтажному кирпичному зданию склада школьных учебников на углу Хаустон-стрит и Элм-стрит, большие уличные часы показывали 12 часов 30 минут.
Машины двигались медленно. В воздухе замелькали флажки и приветственно поднятые руки, послышались аплодисменты.
Президент Джон Кеннеди и его жена ехали на второй машине. Впереди на мягком откидном сиденье улыбался господин с махровой белой гвоздикой в петлице. Мистер Коннэли, губернатор штата Техас, имел достаточно оснований для превосходного расположения духа: связанная с приближением новой избирательной кампании поездка президента по техасским городам началась гораздо лучше, чем можно было ожидать.
Миссис Коннэли, сидевшая рядом, вполне разделяла это мнение.
— Вы не можете сказать сегодня, господин президент, что Даллас вас не любит, — заметила она с улыбкой.
Кортеж поравнялся со складом учебников и по обсаженной деревьями площади направился к тоннелю под железнодорожным мостом.
Первый непривычный звук, раздавшийся в эти секунды, был похож на резкий выхлоп мотоцикла или взрыв хлопушки.
Джон Кеннеди, странно дернувшись, со стоном схватился за горло и начал сползать с сиденья.
— Нет, нет, нет! — мгновение спустя вскрикнул губернатор Коннэли. — Они убьют нас обоих!
Губернатор был ранен. Голова президента дернулась снова, как от удара. Из новой раны ударил фонтан крови.
— Боже, что они делают! — в ужасе закричала Жаклин. — Боже, они убили Джека! Джек! Джек!..
Она упала на багажник, инстинктивно протянув руку агенту секретной службы, подбегавшему к автомобилю сзади. Тот прыгнул в машину и толчком бросил ее на сиденье — ведь обстрел мог возобновиться. Охрана кортежа услышала с президентской машины распоряжение по радиотелефону:
— Живее отсюда! В госпиталь! Следуйте за нами!
Машины рванулись. В эти секунды радиотелефон заработал снова:
— Руф, прикрывай своего!
Но Руф Янгблад не дожидался приказаний. После первого выстрела этот опытный агент, перевалившись через сиденье четвертой машины, сбросил на пол и прикрыл своим телом вице-президента Линдона Джонсона.
— Что случилось? — приглушенным голосом спросил тот.
Агент, помедлив, проговорил очень серьезно:
— Не знаю, насколько плохи дела в президентской машине, но будьте готовы принять на себя обязанности президента…
Шесть минут бешеной гонки — и машины остановились у госпиталя. Президент Кеннеди был доставлен в одну из палат. Три опытных хирурга пытались делать все, что было в их силах. Тщетно!
В 13 часов 22 ноября 1963 года президент Соединенных Штатов Америки Джон Фитцджеральд Кеннеди скончался, не приходя в сознание.
* * *
Московская осень. Неожиданный поздний телефонный звонок:
— Только что передали: убит Кеннеди. Подробности пока неизвестны. Вы ведь видели Кеннеди, правда? Так вот, не напишете ли статью?
Я положил трубку. Убит… Застрелен на улице. И сразу в голове: почему? Кто убийца?
Торопливо нажал клавишу радиоприемника. Засветился зеленый глазок. В комнату ворвался захлебывающийся голос. В потоке слов какого-то незнакомого восточного языка улавливались: «Кеннеди», «Даллас», «Техас» и еще чье-то имя, которое прозвучало для меня «Лихарь Освал». Я передвигал указатель. На всех языках: «Кеннеди… Кеннеди… Кеннеди…»
Когда я видел его последний раз? Осенью 1962 года на углу Сорок второй улицы и Третьего авеню, в вечерний час. Завыли сирены, затрещали мотоциклы, и черный лимузин, впереди и сзади которого шли машины с охраной, прокатил мимо. Моложавое лицо президента было смуглым от загара, и это особенно бросалось в глаза, потому что рядом с ним сидел какой-то бледный, рыхлый господин.
Немало воды утекло с осени 1960 года. Став президентом, Джон Кеннеди не раз допускал ошибки и промахи, попадал под влияние агрессивных кругов. Но позднее он начал критически пересматривать многое, искать новые подходы к сложным вопросам современности. Он предлагал американцам прежде всего посмотреть на самих себя, проанализировать свое отношение к возможностям мира, к Советскому Союзу.
…Волна радиостанции Вашингтона. Убийца схвачен! Его зовут Ли Харви Освальд. Он коммунист, бывал в Советской России.
Коммунист?! Что за чепуха!
И в этот день, и на следующий, и потом еще много дней противоречивые новости из Америки опровергали одна другую. С первых же часов тайну выстрелов в Далласе стал заволакивать густой туман. Десятки «почему» и «как» либо оставались без ответа, либо власти давали на них ответы, порождавшие лишь новые недоуменные вопросы.
Но — по порядку. Итак, судя по первым сообщениям, президента настойчиво отговаривали от поездки в Даллас, в это гнездо реакционеров. Было известно, что Кеннеди, выступившему против крайних проявлений расизма, высказавшемуся в поддержку Московского договора о прекращении испытаний ядерного оружия, готовят там враждебную встречу. Сам губернатор Коннэли предупредил о трудностях и опасностях поездки.
«Не ездите в Даллас», — советовали президенту друзья. Но Джон Кеннеди был человеком не робкого десятка.
Полиция и секретная служба, которой поручена охрана президента, приняли особые меры предосторожности. Просмотрели весь маршрут. Проверили всех подозрительных, с их точки зрения, лиц. Проверили, хорошо ли, надежно ли подвешена люстра в зале, где будет завтракать президент. Перебрали все пять тысяч чайных роз, которыми украшался зал. Не проверяли лишь две с половиной тысячи бифштексов, решив, что во время завтрака порция для президента будет взята наугад: не рискнут же возможные злоумышленники отравить все бифштексы!
И вот при всех этих мерах, среди бела дня, на глазах тысяч людей президент убит, губернатор ранен.
…Я перебираю листки, на которых торопливо записаны сообщения американских радиостанций в первые часы и дни после убийства. Это какая-то каша из слухов, догадок, заявлений. Их не связывает ни логика, ни здравый смысл, ни правдоподобие. Невозможно понять, откуда стреляли и из одной или двух винтовок, потому что упоминались разные марки и калибры. Непонятно, почему сразу стали искать именно Освальда, и никого другого. Неясно, где и когда Освальд успел убить еще и полицейского Типпита: не то на одной улице, не то на другой, не то в зале кинотеатра.
Достоверным в этом водовороте новостей было только одно: некий Ли Харви Освальд схвачен по подозрению в двойном убийстве и, хотя он упорно отрицает вину, всякие дальнейшие поиски прекращены.
Вскоре начальник далласского бюро по делам грабителей и убийц, полицейский капитан Вилли Фритц, ведущий следствие, заявил, что Освальд — приверженец кубинского режима Кастро. Начальник далласской полиции Кэрри пошел дальше: Освальд несомненно связан с коммунистами — при обыске в его комнате найдена коммунистическая литература. И, наконец, сенсация агентства Рейтер: Освальд, одно время живший в Советском Союзе, сам признался, что он член коммунистической партии.
Что тут поднялось в эфире! Президент — жертва заговора красных! Америка в опасности!
Но вдруг произошла заминка. Вопли поутихли. Нет, оказывается, Освальд не имеет прямого отношения к коммунистической партии. Он лишь сочувствует коммунистам.
Вернее, когда-то сочувствовал. Потом разочаровался. Сейчас его, пожалуй, можно даже считать противником коммунизма… Есть, представьте, кое-какие данные, что он был связан с некоторыми отнюдь не коммунистическими организациями…
Узел запутывался все причудливее, все замысловатее.
Распутать его мог только сам Освальд. Его допрашивали чины далласской полиции, агенты секретной службы и агенты ФБР — знаменитого Федерального бюро расследования, печально прославившегося борьбой с коммунистическим и рабочим движением. Подозреваемый упорно отрицал вину.
Журналисты требовали встречи с Освальдом. Такая встреча была устроена за полночь, в помещении, где обычно перед какой-либо операцией собирают полицейских. Привел Освальда начальник полиции Джесс Кэрри, рано облысевший человек в очках, с быстрой речью.
Я описываю его по сумбурным кинокадрам, снятым в ту ночь. На бледном лице Освальда были заметны следы синяков, над правым глазом темнела ссадина. Он сказал, что его ударил полицейский. Ему выкрикивали вопросы.
— Я не убивал президента, — твердил Освальд в ответ. — И никого не убивал. Я не знаю, что все это значит.
В мечущейся крикливой толпе репортеров один человек спокойно смотрел и слушал, покуривая сигару. Он случайно попал в кинокадр — пожилой господин с редкими волосами. Господин снят несколько сзади и сбоку, но черты лица его превосходно видны. В ту ночь он был еще мало кому известен, разве что полицейским, которые дружески кивали ему…
Было объявлено, что в воскресенье, 24 ноября, в 10 часов утра Освальда переведут из городской тюрьмы в окружную и что три радиотелевизионные компании покажут это событие телезрителям. Никто из посторонних, кроме тщательно отобранных журналистов и операторов телевидения, не будет допущен в помещение. Освальда повезут в бронированной машине. Дело в том, что накануне глубокой ночью агентов ФБР не раз предупредили по телефону: Освальда «собираются убрать», «думают похитить». Следовательно, необходимы чрезвычайные меры охраны.
…Вся Америка хочет видеть человека, обвиняемого в убийстве президента. Вся Америка собирается у телевизоров. Вся Америка слушает репортаж с места событий.
На миллионах экранов появляется Освальд — без пиджака, в темном свитере, ворот рубашки расстегнут. Он щурится от яркого света. С ним здоровенные детективы, одетые в штатские костюмы. К одному из них Освальд прикован наручниками: так надежнее. Сыщики кажутся великанами рядом с невысоким худощавым парнем.
Но что это? На экране сбоку возникает какой-то господин в шляпе. Он появляется со стороны телекамер, делает несколько быстрых шагов, останавливается. В руке у него револьвер.
— Джек, сукин сын! — кричит ему сыщик.
Выстрел почти в упор. Освальд сгибается, с протяжным криком «а-а!» хватается за живот и падает на пол.
— Надеюсь, он подохнет! — говорит стрелявший.
Возможно, это было первое в истории человечества убийство, совершенное на глазах десятков миллионов человек.
Освальда увезли в тот же Парклендский госпиталь, где умер президент Кеннеди. Врач Малькольм Перри, находившийся в последние минуты возле умирающего президента, присутствовал и при последнем вздохе Ли Харви Освальда. Агония продолжалась недолго: кто-то сразу после ранения Освальда прямо на полу, где он упал, пытался делать ему искусственное дыхание. При ранении в живот это могло лишь ускорить конец…
Не требовалось приглашать детективов или рыться в картотеках ФБР для того, чтобы опознать убийцу. Да он и сам кричал полицейским, сбившим его с ног:
— Ребята, я Джек Руби, вы же все меня знаете!
И верно: кто же в Далласе не знал известного под кличкой «Щеголь» владельца ночных клубов «Карусель» и «Вегас», друга полицейских, которые по субботам и воскресеньям подрабатывали, следя за порядком в его притонах!
«Щеголь» кричал, что не мог сдержать себя, увидев «коммунистического заговорщика». Он, Джек Руби, убил Освальда потому, что горячо любил президента. Он, Руби, хотел избавить «Джекки» — таким уменьшительным именем «Щеголь» назвал Жаклин Кеннеди — от страданий, которые причинила бы ей длительная процедура суда над убийцей мужа.
Позже он так описывал свой поступок:
— Ввели Освальда… У него было самодовольное, вызывающее, дьявольское, коммунистическое выражение лица. Я потерял рассудок…
Но почему, черт возьми, он не потерял рассудка раньше, при первой встрече с Освальдом? Ведь спокойно куривший сигару пожилой господин с редкими волосами, случайно попавший в кадр во время ночной съемки в полиции, был именно Джек Руби!
Полицейские легко установили, что в день убийства он не выходил встречать своего горячо любимого президента, а сидел один в той комнате редакции далласской газеты, из окон которой был хорошо виден железнодорожный мост на пути президента…
Ли Харви Освальд, человек, который мог сказать многое, если он действительно был виновным, человек, который мог доказать свою невиновность, если его, заметая следы заговора, хотели сделать козлом отпущения, — этот человек умолк навсегда.
Полицейский капитан Вилли Фритц после выстрела Джека Руби сказал журналистам:
— Ребята, по-моему, теперь это дело закрыто!
«Этим делом» капитан назвал убийство президента.
Капитан Фритц ошибся.
Да, по неписаным законам Техаса дело действительно представлялось чрезвычайно ясным и законченным. Убийца пристрелен, и концы в воду. Он ни в чем не признался? Ну и что из того? Просто не успел, его ведь, в сущности, по-настоящему не допрашивали. И нечего больше будоражить людей, надо считать дело Ли Харви Освальда закрытым и открыть дело об убийстве убийцы президента, открыть дело этого Джека Руби, которому, пожалуй, может и не поздоровиться: ведь все-таки закон есть закон.
Начальник полиции Джэсс Кэрри думал примерно так же, как капитан Фритц. Областной прокурор Генри Уэйд был согласен с ними обоими.
Поскорее и подальше засунуть на архивную полку папки следствия хотелось не только этим господам. Федеральное бюро расследования быстро составило доклад, где говорилось, что президент был убит Ли Харви Освальдом, который действовал в одиночку. Таким образом, и ФБР «закрывало дело», хотя и не так откровенно, как Вилли Фритц.
Не проявило рвения в расследовании убийства также Центральное разведывательное управление. Вот если бы в Техасе удалось найти следы «заговора красных» — тогда другое дело. А кроме того, ведь президент как-то неосторожно пообещал разбить ЦРУ на десять тысяч маленьких кусков…
Эхо выстрелов в Далласе между тем раскатилось по всей планете, будя тревогу и беспокойство. Человечество лишний раз убедилось, что в стране, ставшей лидером капиталистического мира, Преступление и Насилие восторжествовали над Справедливостью и Законом даже тогда, когда на весах оказалась жизнь президента. С беспощадной обнаженностью возникла картина общества, где сама атмосфера отравлена бациллами человеконенавистничества.
— Мы были свидетелями того, — сказал американский священник Мартин Лютер Кинг, борец за равноправие рас, — как в церквах убивали негритянских детей, как из засады убивали мужчин, причем в условиях, столь сходных с убийством президента Кеннеди, что неизбежно напрашивается вывод: мы имеем дело с социальной болезнью, которая, если мы не обратим на нее внимания или запустим ее, как это уже было сделано, будет таить в себе смертельную угрозу.
Менее чем через пять лет лауреат Нобелевской премии мира доктор Мартин Лютер Кинг, как и президент Кеннеди, пал от пули убийцы…
После убийства в Далласе люди, далекие от коммунизма и даже враждебные коммунизму, спрашивали себя: правильным ли было их представление об американском образе жизни, об американской морали? Во многих странах люди, побывавшие в Соединенных Штатах, невольно соотносили свои прежние впечатления и наблюдения с тем, что они узнали в дни национальной трагедии американского народа.
И прежде чем продолжить рассказ о преступлении в Далласе, я тоже хочу перелистать вместе с вами некоторые мои нью-йоркские записи. Эти записи я сравнивал с самыми последними сообщениями американских газет, чтобы узнать, какие перемены произошли с тех пор.
На первый взгляд покажется, что некоторые факты уводят нас в сторону от «преступления века». Но только на первый взгляд!
* * *
Мне давно говорили об американских зажигалках, очень похожих на пистолеты. Как-то в витрине на Бродвее я увидел их целую коллекцию. И как ловко сделаны!
Зашел. Нет, дорого: от пятнадцати долларов штука. Я повернул к выходу.
— Мистеру нужно что-либо особенное? — спросил продавец вдогонку. — Но это отличные пистолеты, пуля пробивает две дубовые доски.
Вот так зажигалки!
Я узнал, что в Нью-Йорке для покупки оружия все же нужно иметь разрешение, но во многих штатах приобрести пистолет не сложнее, чем зажигалку. Можно купить ружье, можно — снайперскую винтовку. Можно выбирать самому, можно положиться на выбор знатока, без хлопот заказав оружие по почте.
В год далласской трагедии посылочные фирмы выполнили около миллиона таких заказов. В 1969 году американцы пополнили свои арсенал тремя миллионами единиц разного оружия, и можно считать, что в 1970 году был вооружен уже каждый второй гражданин страны. До недавнего времени фирмы не отвечали отказом, если покупатель просил прислать партию автоматов или парочку пулеметов. В конце концов, торговля оружием такой же бизнес, как и всякий другой. Пусть полиция разбирается, кому и зачем оно понадобилось.
Трое подростков из штата Нью-Джерси выписали противотанковое ружье. Получив заказ, они прикрепили к рукавам рубашек повязки со свастикой. После этого, тщательно выбрав удобную позицию, подростки обстреляли соседнее здание.
Выписав по почте винтовку, четырнадцатилетний Фред из Ферфакса пустил пулю в лоб своему соученику. Кто заронил в его голову мысль об убийстве? Два коварных друга, с которыми он делил досуг: ближайший к дому кинотеатр и телевизор, купленный отцом в рассрочку.
Трудно сосчитать, сколько лиц обоего пола, всех возрастов и профессий ежедневно успевают застрелить, задушить, зарезать, сжечь в топках, утопить, бросить под поезд, отравить, столкнуть в пропасть или укокошить еще каким-либо более замысловатым способом на экранах американских кинотеатров!
Трудно сосчитать, но в 1970 году все же сосчитали. В возрасте между 6 и 15 годами американский ребенок в среднем видит, как убивают 13 тысяч человек!
При этом истребление себе подобных показывается не кое-как, не мимоходом. Нет, это делается без спешки, со всеми подробностями, так наглядно, как в научно-популярном фильме рассказывается, например, о новом способе посадки моркови. Изо дня в день, из вечера в вечер экраны орут, вопят, как бы обращаясь к зрителям:
— Смотрите, вот как надо! Рр-а-а-з! Ага, он еще шевелится! А ну еще! Теперь готов! Целься в живот, так вернее! Брык! Учись, как держат нож настоящие гангстеры! Вот это удар! С одного раза — в рай! А теперь другого — в спину! Эх, разве так душат? Коленом, коленом упрись в грудь! Крепче сжимай пальцы! Ну вот, готов и этот…
Так в кино, на экранах телевизоров. А в жизни?
Вот американская статистика. В год — около 5 миллионов преступлений. С начала столетия в США убито 800 тысяч человек — на треть больше, чем во всех войнах, в которых участвовала страна. Ежегодно 20 тысяч американцев умирают насильственной смертью, а 100 тысяч залечивают в больницах раны от пуль и ударов ножа.
В том-то и беда, что каким бы исключительным ни казалось нам убийство президента, оно было лишь наиболее разительным среди множества схожих событий американской жизни.
Итак, преступность в Америке растет год от года. Но, как говорится, куда же смотрит полиция? Разве в Америке мало полицейских?
Меня заинтересовала история нью-йоркской полиции. Первыми полицейскими Нью-Йорка, тогда еще Нового Амстердама, были восемь стражников с трещотками. В начале XVIII века улицы города по ночам обходили патрули честных граждан. Они звонили в колокольчик, выкрикивая, который час и какова погода. Эта идиллия быстро кончилась. В прошлом веке Нью-Йорк имел уже более трех тысяч профессиональных полицейских. В середине нынешнего века — более десяти тысяч. К началу 1971 года — двадцать пять тысяч.
И какие это бравые парни!
Темный мундир облегает мускулистую фигуру: в полицию берут преимущественно рослых здоровяков. — «Клаб», знаменитая дубинка на ремешке, пускается полисменом в ход без колебаний. Пистолет — тоже: промедление слишком опасно. Помимо дубинки и пистолета, полицейские оснащены самой современной техникой, помогающей найти и обезвредить преступника.
Преступность же растет не по дням, а по часам. Нашумевшее в свое время «денверское дело» показало, что полиция сама не без греха.
Однажды в городе Денвере крупный торговец, вернувшись за оставленным на столе письмом в свой уже закрытый магазин, застал там четырех полицейских. Парни в темных мундирах, взломав сейф, выгребали оттуда дневную выручку.
— Пошел вон, — хладнокровно сказал оторопевшему хозяину полицейский офицер. — Убирайся поскорее, иначе мы пристрелим тебя и скажем, что приняли за грабителя, пролезшего в магазин. И забудь обо всем, что видел!
Когда у американца отнимают обожаемые доллары, он смелеет. Торговец бросился к начальнику полиции. Через день тот вызвал потерпевшего:
— Вы оклеветали честных людей. Я опросил всех, кого нашел нужным. Неужели я должен больше верить вам, чем полицейским офицерам, честь которых ничем не запятнана?
Некоторое время в Денвере было тихо. Потом прошла волна новых дерзких преступлений. Однажды среди бела дня был ограблен универсальный магазин. Преступники забрали около ста пятидесяти тысяч долларов.
На этот раз вмешались федеральные власти. Началось расследование. В Денвере, столице штата Колорадо, покой граждан охраняли восемьсот полицейских. Сто пятьдесят из них оказались членами шайки, сто двадцать других были уличены в покровительстве преступникам.
В 1968 году большая группа полицейских Нью-Йорка была изобличена в том, что, отнимая у торговцев наркотиками их «товар», тут же перепродавала его. Два года спустя раскрылось новое темное дело: шестьсот агентов полиции, которым поручалась борьба с тайными игорными домами, получили от содержателей этих домов до двадцати тысяч долларов каждый.
— Я возьму любую взятку, будь она два доллара или две тысячи долларов, — откровенно сказал на следствии один из полицейских офицеров. — Глупо было бы упускать свой шанс.
Подкупность полиции — не новость для Америки. Но это не значит, конечно, что продажны все полицейские. Среди них много честных борцов с преступностью. Беда в том, что преступность слишком глубоко проникла во все слои американского общества. Никто и нигде не чувствует себя в полной безопасности.
Само название Центрального парка говорит, что его зеленый оазис — в центре Манхэттена.
Днем в этом оазисе сравнительно безопасно. Вечером сюда заходят разве что несведущие провинциалы и иностранцы. Их грабят. Особенно часты нападения на женщин.
Однажды несколько полицейских переоделись в юбки и сменили фуражки с кокардой на модные шляпки. Первая же «красотка» была сбита с ног чуть ли не у входа в парк. Полицейские едва успели выручить своего товарища. «Леди» стали прогуливаться по двое. Им удалось выловить шестьдесят шесть грабителей. Следы шаек вели в Вест-Сайд.
Улицы этого района тянутся к западу от парка. По темным, цвета отсыревшего кирпича фасадам зигзагами идут наружные ржавые лестницы, по которым убегают при пожарах. Возле тротуаров баки с гниющими отбросами. В просветы между домами видны щели дворов с натянутыми от фасада к фасаду веревками. Они на разной высоте, и на них мокрое застиранное белье.
Дома здесь старые, с далеко выдвинутым на тротуар крыльцом у каждого подъезда. По ступенькам расселись подростки. Играют в карты. По кругу идет вскрытая жестянка с пивом. Я чувствую на себе ощупывающие взгляды.
Из подъезда выбегают две девушки. Ловкая подножка — и одна из них летит на каменный тротуар. Парни хохочут. Девушка, потирая ушибленное колено, шлет им яростные проклятия. Открываются окна, и оттуда выглядывают любопытные, В каждом окне по нескольку физиономий. Плотно же набиты эти каменные ящики!
Я не понимаю по-испански, а здесь редко говорят на другом языке. Многие кварталы населены пуэрториканцами. В Нью-Йорк они стали переселяться позднее многих других эмигрантов с острова Пуэрто-Рико, который Соединенные Штаты превратили в свое владение. На родине им было плохо — в Нью-Йорке, должно быть, не лучше.
По мотивам жизни Вест-Сайда написана известная музыкальная драма, «Вест-сайдская история». Я видел эту правдивую пьесу в Нью-Йорке. Потом она была экранизирована. Враждуют две шайки подростков. В одной — «цветные», пуэрториканцы, в другой — белые. Жестокая вражда порождена предрассудками, обострена сознанием бессмысленно загубленной юности. В драке, в поножовщине гибнут молодые, полные сил…
Я смотрел спектакль вместе с Майклом: в пьесе много жаргонных словечек, иностранцу трудно понимать диалоги без переводчика. Майкл видел «Вест-сайдскую историю», но охотно пошел со мной. После спектакля я, потрясенный, спросил Майкла, случается ли сегодня в Вест-Сайде что-либо подобное? Он посмотрел на меня с удивлением:
— Конечно. Мы этого не скрываем. Почитайте газеты. В каждом номере сюжет для пьесы.
— Ну уж в каждом… — усомнился я.
— Хотите пари? Если я неправ, угощаю вас обедом в «Брассери». Если проиграете, за вами бутылка настоящей русской водки. Идет?
В киоске Майкл взял охапку газет. Мы зашли в кафе. Майкл быстро листал страницы:
— Вот! Как раз о Вест-Сайде: «Самая плохая улица этого района — Сто третья. Здесь женщины торгуют наркотиками прямо из детских колясок. Поножовщина и карточные игры — сбычное явление. Дети вовлечены в различные банды». Ну?
— Нет, — возразил я. — Это общие слова. Вы же говорили — сюжет для пьесы.
— Ладно, поищем еще, — согласился Майкл. — Гм, вот о банде «Кобры». «Томми Дрейк, по кличке «Быстрый», нанес ножевую рану другому подростку». Но это не Вест-Сайд, это в Бруклине… Вот еще. «Двое пуэрториканцев, Агрос, по кличке «Дракула», семнадцати лет, и Фернандес, по кличке «Зонтик», того же возраста, приговорены к смертной казни за убийство двух других подростков у спортивной площадки на Сорок третьей улице». Это ведь возле вашей гостиницы, верно?
— Верно, но не в Вест-Сайде, — уточняю я.
— Ага, тогда, может, это… «Закончено следствие по поводу драки двух шаек. Третьего августа на Девяносто четвертой улице, неподалеку от Центрального парка…» Район, надеюсь, вас устраивает?
— Да, но где романтика? А ведь в пьесе…
— Вам не угодишь. Не думаете ли вы, что автор «Вест-сайдской истории» попросту и без затей целиком списал ее из воскресного номера «Нью-Йорк пост»? A-а, одну минуту, одну минуту… Слушайте: «В городке страховой компании «Стайвесент» введено осадное положение. После десяти часов вечера подросткам не разрешено выходить на улицу. Это сделано для того, чтобы прекратить бесчинства местных шаек. Их последний подвиг — избиение юноши и девушки». Ну что?
— Тут уже есть признаки драмы. Но где этот городок?
— Даун-таун, Ист-Сайд. Ладно, мне просто не хочется больше рыться в этой груде.
Я не считал себя победителем в споре. Возможно, настоящий драматург действительно нашел бы немало сюжетов в уголовной хронике одного нью-йоркского дня.
* * *
В первое воскресенье октября неподалеку от Таймс-сквера раздался сильный взрыв.
Было пять часов пополудни. Пламя и пыль взметнулись возле памятника композитору Кохену. Пронзительно закричала девушка, простирая опаленные руки. Несколько человек были сбиты с ног.
Я попал на место происшествия. Все вокруг было оцеплено полицией. С воем сирены умчалась последняя машина «скорой помощи». Темнела лужица крови. Репортеры расспрашивали двух толстяков, похожих как близнецы. У одного был поцарапан нос, другой показывал обгоревший пиджак. В кустах рылись полицейские и господа в штатском.
— Взрыв бомбы на Таймс-сквере! Много раненых! Джеймс Фолли, семидесяти трех лет, доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии! — заорал вдруг мальчишка, врезаясь в толпу с пачкой свежих газет.
Редакция «Нью-Йорк таймс» — рядом с площадью, названной в ее честь. Но все-таки как же они успели? После взрыва прошло немногим больше часа!
На следующий день появилась заметка, что перед взрывом кто-то видел возле памятника двух подозрительных подростков. На третий день на последних страницах мелким шрифтом газеты отметили, что виновники взрыва пока что не найдены, а состояние здоровья мистера Джеймса Фолли по-прежнему тяжелое.
На четвертый день Нью-Йорк забыл о случившемся.
Но на седьмой день…
Я просматривал газеты в читальном зале Публичной библиотеки, когда это массивное здание словно содрогнулось от подземного толчка. Посыпались стекла.
Бомба взорвалась возле той стены библиотеки, которая выходит в парк. Там густые кусты. Взрыв произошел в 4 часа 57 минут пополудни — без трех минут через неделю после первого! К счастью, никто не пострадал.
Два дня спустя у скрещения Бродвея с Сорок второй улицей грохнул третий взрыв. Бомба взорвалась на станции сабвея, к которой подходил переполненный поезд. Все окутал густой, необычайно едкий дым. В тесноте подземки началась невообразимая паника.
Этот взрыв был самым сильным из трех. Машины «скорой помощи» увезли пятьдесят семь человек!
Весь день полиция хватала подростков. Детективы рылись в классных журналах: не отсутствовал ли кто из учеников из-за ожогов и ранений?
…Четвертая бомба взорвалась в воскресенье 23 октября в 5 часов 30 минут пополудни. Пламя и дым взметнулись над паромом «Никербокер» как раз в ту минуту, когда он поравнялся со статуей Свободы. На пароме было сто восемнадцать пассажиров. Бомба взорвалась возле кабины со спасательными поясами.
Матросы потушили начавшийся пожар. Капитан парома послал по радио сигнал бедствия нью-йоркским властям. Когда «Никербокер» подошел к берегу, его поджидал полк сыщиков. Пассажиров задержали, всех допросили, а некоторых увезли в полицию.
Но вечером разочарованным репортерам сообщили, что все задержанные — все до единого — убедительно доказали свою благонадежность и невиновность.
Лишь утро следующего дня подарило Нью-Йорку важную новость. Полиция арестовала мисс Смит, безработную стенографистку. В чемодане, сданном ею на хранение в камеру Пенсильванского вокзала, лежал револьвер и двадцать пять патронов. Там же была папка, полная газетных заметок о взрывах.
— Зачем мне револьвер? А вы сами не купили бы эту игрушку, если бы ваша комната была ограблена, как это случилось со мной? — заявила арестованная на допросе. — Я живу на Сто двенадцатой улице, и уж полиция-то должна знать, что это за местечко! Дня не проходит без кражи или грабежа. Чем шарить по чемоданам порядочных людей, вы бы лучше ловили воров и гангстеров!
Мисс Смит отпустили с миром, хотя и без револьвера.
…Пятая бомба разорвалась в телефонной будке. Шестой взрыв напугал посетителей магазина, не причинив никому вреда. В тот же день нашли еще одну самодельную бомбу. Трое мальчишек, схваченных полицией, с плачем сознались, что это их работа.
Затем последовало еще несколько взрывов, но каждый раз рвались бомбы, не похожие на те, первые, которые приписывались «воскресному бомбисту». Одна переполошила зрителей в кинотеатре на Сорок второй улице. Это был кулек с пригоршней пороха, засунутый под стул. В американских кинотеатрах зрители выходят и входят во время сеанса, и в зале не везде запрещено курить. Преступник, запалив шнур, мог уйти, не привлекая внимания.
В воскресенье 13 ноября полицейские и сыщики с утра засели во всех пунктах, где, по их мнению, можно было ожидать взрыва. День прошел спокойно. Неделя — тоже.
Но следующим воскресным утром бомба большой силы взорвалась в вагоне сабвея на станции Сто двадцать пятой улицы. Девушка, у которой оторвало обе ноги, умерла на месте. Восемнадцать пассажиров были доставлены в госпитали с тяжелыми ранами.
Утром в понедельник я спросил знакомого американского журналиста-международника, что он думает о взрывах.
— Это не моя сфера, — ответил он. — Но в редакции говорят, что никакого «воскресного бомбиста» вообще нет. Это эпидемия. Возможно, первые бомбы взорвали подростки — помните, тогда о них писали? А потом пошло и пошло. Поклонники культа силы, вернее, насилия… Ну и, конечно, влияние дрянных книжонок и фильмов. Начальник нью-йоркской полиции утверждает, что вчерашняя бомба, разорвавшая стальной пол вагона, была динамитной, совсем не похожей на прежние. Как говорят, «новый почерк». Кстати, отдан приказ — с сегодняшнего дня поисками преступников занимаются шестьсот детективов. Ждите новостей.
Но я их так и не дождался. Очередное воскресенье прошло без взрыва. Газеты занялись дерзким ограблением почтового грузовика. В следующую субботу я улетел домой.
Приехав на другой год, я попытался узнать, чем все-таки кончилось дело с «воскресным бомбистом». Но знакомые только пожимали плечами: с тех пор было столько всяких происшествий, разве всё запомнишь. Взрывы на улицах, в общем-то, одна из многих обычных историй. Это будни. Это жизнь.
* * *
После убийства президента Кеннеди люди пристальнее приглядывались к богатейшей стране капиталистического мира. Под увеличительным стеклом прежде всего оказался кружок на карте, подле которого написано «Даллас».
Техас издавна рисовался в этакой романтической дымке: бескрайние зеленые прерии, грубоватые, прямодушные ковбои, мирные ранчо скотоводов… Устарело! Нынешний Техас — это нефть, прежде всего нефть, больше всего нефть, а потом уж заводы реактивных бомбардировщиков и межконтинентальных ракет.
Правда, короли-скотопромышленники в Техасе еще не вымерли окончательно. Иногда они тешат тщеславие, стуча по Мейн-стрит, главной улице Далласа, подковками сшитых из настоящей крокодиловой кожи сапог. Но эти господа — сущая мелюзга рядом с новыми техасскими властелинами.
Что значат они со всеми своими стадами в сравнении с техасским королем нефти Гарольдсоном Хантом, которого, по старой памяти, именуют «мистер Миллиард»! Давно уже надо бы называть его «мистер Два Миллиарда», или «Мистер Много Миллиардов», но это менее благозвучно.
«Мистер Миллиард» говорит, что Даллас — самый американский из всех американских городов.
В Далласе обитало также около пятисот «мистеров Миллионов». На каждые две тысячи жителей — один взаправдашний миллионер. Пожалуй, это мировой рекорд.
Далласу принадлежало несколько всеамериканских рекордов. Он удерживал первенство по числу серьезных преступлений на каждую тысячу жителей. В нем было больше телевизоров, чем в столицах некоторых государств, и меньше библиотек, чем в самом захолустном бельгийском или французском городке.
В Далласе крупнейшая в мире хлопковая биржа и самая большая на земле гостиница, которая имеет даже собственный аэродром. Далласский универсальный магазин считают самым роскошным на обоих полушариях. В числе прочего он торговал небольшими подводными лодками для влюбленных, желающих уединиться, а также ювелирными «безделушками» ценою в сто тысяч долларов.
Это город нахального, оголтелого богатства. Он признавал и признает одно божество, в честь которого построил храм: единственный в мире банк с потолком из чистого золота.
У божества есть избранники: «Совет белых граждан». Семеро самых богатых из них — верховные жрецы божества. О них говорят: «Люди, принимающие решения». И все в городе знают: как они скажут, так и будет.
В семерке верховных жрецов короли нефти и хозяева заводов; работающих на войну. Кеннеди был для них «красным». Когда он пригрозил покончить с неоправданными льготами на добычу нефти, его имя стало особенно ненавистным «людям, принимающим решения». Президент сказал также, что Хант ловко уклоняется от уплаты налогов.
Вскоре после этого на вилле Ханта собрались друзья. В адрес Кеннеди раздавались брань и угрозы. Кто-то сказал при одобрении остальных:
— Чтобы избавиться от предателей, засевших в нашем правительстве, нужно всех их перестрелять.
Даллас — город буйных и тихих психопатов, помешанных на «красной опасности». Здесь добивались закона, карающего смертной казнью за прокоммунистическую деятельность. Именно на тайном сборище в Далласе родилась мысль создать «Общество Джона Бэрча», которое вполне могло бы процветать и в гитлеровской Германии. Здесь из семян ненависти плодились всяческие ядовитые поганки вроде «Конвенции национального негодования», «Антикоммунистического крестового похода» или «Национальной ассоциации стрелков», члены которой на сборищах упражнялись в стрельбе по портретам «красных».
А внешне Даллас — большой американский город с небоскребами, с пропахшими бензиновой гарью улицами, на главной из которых огненные буквы зазывают: «Посетите «Карусель» и «Вегас», единственные в своем роде ночные клубы Далласа! Просмотр экзотических танцев! Не тронь — обожжешься!»
По главной улице Далласа частенько прогуливался худощавый джентльмен. С ним раскланивались особенно почтительно, а военные козыряли ему так, будто на плечах джентльмена генеральские погоны.
Такие погоны действительно украшали плечи Эдвина Уокера. Ему пришлось уйти в отставку после обвинений в совершенно открытой и оголтелой пропаганде «бэрчизма» в армии. Позднее он был арестован за вооруженное сопротивление представителям войск, выполнявшим приказ Кеннеди о защите негритянских школьников. Не было оскорблений, которыми бы Эдвин Уокер не осыпал Кеннеди при каждом публичном выступлении.
Ужаснувшись настроениям в Далласе накануне приезда президента, студент Роберт Роуз написал матери в другой город: «На будущей неделе приезжает Кеннеди. Десять против одного, что кто-нибудь из этих далласских маньяков убьет его».
А пока письмо путешествовало в сумке почтальона, на фонарных столбах и в витринах Далласа расклеивались точные подобия бланков розыска особо опасного преступника, которые обычно рассылает по городам Америки ФБР. В фас и профиль на них был изображен президент и крупно выделялась надпись: «Разыскивается за измену». В типографии печатался специальный выпуск газеты, где издевательское приветствие президенту от города Далласа было заключено в черную траурную рамку.
В этой-то насыщенной, наэлектризованной зарядами ненависти атмосфере и прозвучали выстрелы.
Убийство не разрядило ее. Да, было много людей, испуганных, плачущих, сожалевших о случившемся. Но было немало и таких, которые радовались откровенно и открыто.
Когда в одной школе, где учились дети богатых техасцев, узнали об убийстве, по классам разнеслось «ура». Сынок крупного бизнесмена захлопал в ладоши, крича:
— Вот здорово! Папа так обрадуется, что теперь-то уж обязательно купит мне машину!
После убийства президента приезжий корреспондент разговорился с одним из далласских джентльменов. Тот сказал:
— Кеннеди исчез вовремя… Жаль, что Гитлер не довел дело до конца. Нужно было убить всех евреев, всех коммунистов, уничтожить русских. Мы готовимся к тому, чтобы взять власть в свои руки.
Таким мир увидел Даллас.
Однако недаром после убийства президента далласцы говорили: «Да, это случилось в Далласе, но могло случиться в любом другом нашем городе».
Могло?
Могло!
* * *
Вернемся теперь к событиям дня 22 ноября 1963 года.
Вице-президент Линдон Джонсон, как мы помним, был в одной из машин, примчавшихся в Парклендский госпиталь. Здесь в хирургической приемной он услышал от ближайшего сотрудника Кеннеди:
— Господин президент, президент умер.
С той секунды, когда скончался Джон Кеннеди, главой государства после присяги должен был стать Линдон Джонсон. Все агенты секретной службы перешли к нему. Они не уберегли одного президента и боялись за жизнь другого. Агент Руф Янгблад, который прикрывал собой Джонсона по пути в госпиталь, теперь твердил:
— Мы не знаем, сделал ли это один человек, два, шайка или целая армия. Мы должны немедленно покинуть город.
О заговоре думал не только Янгблад. Линдона Джонсона спросили, можно ли официально объявить о смерти Кеннеди. Он возразил:
— Нет, постойте. Может быть, это коммунистический заговор. Лучше я сначала переберусь отсюда на самолет.
Джонсон был, кажется, единственным человеком из окружения Кеннеди, которому пришла в голову нелепая мысль о причастности коммунистов к убийству президента: большинство подозревало правых реакционеров.
Закрытый автомобиль начальника далласской полиции помчался из госпиталя к аэродрому. В машине были задернуты шторки. Она подъехала к трапу президентского самолета, и несколько человек, выскочив из нее, пригибаясь побежали к трапу. Среди них был Линдон Джонсон.
Тем временем страну охватила паника. Резко покатились вниз курсы акций. Боясь финансовой катастрофы, правление биржи раньше времени закрыло ее. Никто не знал, где вице-президент. Пронесся слух, что он тоже стал жертвой заговора.
Джонсон торопился принять присягу прямо в самолете, который готовился взлететь. Туда уже было доставлено тело Джона Кеннеди. Спешно разыскали и привезли на борт самолета человека, который мог принять присягу, — судью Сару Хьюз.
Положив левую руку на Библию и подняв правую вверх, Джонсон повторял следом за судьей:
— Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов.
Рядом с ним стояла Жаклин Кеннеди. Ее светлый костюм был забрызган кровью. За окнами самолета в солнечных лучах ослепительно резко блестели бляхи и кокарды полицейских, цепи которых окружали взлетную дорожку и здание вокзала.
Было 14 часов 47 минут, когда самолет с двумя президентами Соединенных Штатов на борту поднялся в воздух. После выстрелов у склада школьных учебников прошло всего два с четвертью часа…
Вскоре после трагедии в Далласе институт Гэллапа опросил самых разных людей во всех штатах. Из каждых 100 американцев 52 считали, что президент стал жертвой заговора, 19 склонялись к этой мысли, но не были уверены твердо, и лишь 29 полагали, что убийца был одиночкой.
Где истина?
Найти ее президент Джонсон поручил комиссии из семи уважаемых граждан во главе с председателем Верховного суда Соединенных Штатов Эрлом Уорреном.
Судья Уоррен еще до своего назначения сказал об убийстве:
— Мы знаем, что подобные дела обычно поощряются ненавистниками и злодеями, которые сейчас проникают в главные артерии американской жизни.
Не означало ли это, что будущий председатель комиссии тоже склонялся к мысли о заговоре?
Комиссия Уоррена приступила к делу. Репутации самого судьи Уоррена и еще одного конгрессмена были безупречны. Но два других члена комиссии слыли яростными антикоммунистами и противниками расового равноправия. Пятым был банкир с Уолл-стрит. Шестой член комиссии сразу заявил, что он будет рад основательно расследовать деятельность марксистов, коммунистов и сторонников кубинского режима. А седьмым был «сверхшпион» Аллен Даллес, возглавлявший ЦРУ.
В минуту откровенности судья Уоррен подтвердил опасения тех, кто сомневался, что такая комиссия расследует все честно, полно, беспристрастно.
— Возможно, мы не узнаем истины на протяжении жизни нашего поколения, — с горечью сказал Уоррен. — Я говорю это всерьез.
Комиссия Уоррена заседала десять месяцев. Вот ее главные выводы.
Никакого заговора не было, ни внешнего, ни внутреннего. Убил президента Ли Харви Освальд. Он действовал в одиночку; но комиссия не могла прийти к определенному выводу, по каким мотивам Освальд совершил убийство.
Он сделал три выстрела из окна шестого этажа склада школьных учебников. Позже выстрелами из пистолета Освальд убил полицейского Типпита.
Выводы комиссии многим показались неубедительными. В докладе были неясные места, почему-то отсутствовали показания некоторых свидетелей. Специалисты критиковали доклад, говоря, что он скрывает истину.
Попробуем и мы с вами в ее поисках вернуться к некоторым особенно спорным эпизодам запутанной драмы. При этом будем опираться исключительно на факты, приведенные в докладе комиссии Уоррена, на сообщения американских газет, наконец, на высказывания тех исследователей, которые действовали независимо от комиссии.
* * *
Итак, часы на крыше склада учебников показывали 12 часов 32 минуты. Только что отгремели выстрелы. Машина со смертельно раненным президентом на бешеной скорости помчалась в Парклендский госпиталь.
На улице поднялась паника. Иные бежали подальше от опасного места. Другие плакали. Все были в растерянности.
Первыми опомнились полицейские. Один из мотоциклистов понесся вперед, к железнодорожному мосту, на котором заметил людей. Он пытался с разгона взлететь на крутую насыпь.
Часть полицейских бросилась к колоннаде на поросшем травой и редкими деревьями холме, справа от дороги. В те секунды, когда раздались выстрелы, машина президента как раз приближалась к нему.
Полицейский Бейкер, ехавший впереди колонны, оглянувшись при звуке выстрелов, увидел голубей, испуганно вспорхнувших с крыши склада учебников. Круто развернув мотоцикл, Бейкер помчал обратно. Какой-то человек показывал на верхние этажи склада и возбужденно повторял:
— Я видел, я видел! Он стрелял оттуда! Я видел, как он целился! (Стройный человек с винтовкой!
Полицейский Бейкер, расталкивая толпу, бросился ко входу в склад.
Часы на крыше показывали 12 часов 33 минуты.
Но сколько же раз стреляли? Одни слышали три выстрела. Другие уверяли, что было четыре и даже пять выстрелов, следовавших очень быстро один за другим. Некий Тейг, агент по продаже автомобилей, вытирая кровь со щеки — его ранило осколком пули, — показывал полицейскому на зеленый откос: последний выстрел прозвучал оттуда. Тейг стоял близко, он ясно слышал: сначала далекий выстрел, потом ближе, затем совсем рядом.
Значит, стрелял не один человек?
Полицейский Бейкер вбежал в склад менее чем через две минуты после убийства. С ним был заведующий складом Рой Трули.
— Скорее наверх! — вскричал полицейский.
Они бросились к лифтам, но кабины были где-то выше. Не теряя времени, Бейкер и Трули побежали вверх по лестнице.
На втором этаже, в закусочной для служащих, полицейский увидел худощавого парня. Он направлялся к автомату прохладительных напитков. Бейкер выхватил пистолет:
— Что за человек? Он работает здесь?
— Да, — подтвердил мистер Трули. — Наш экспедитор.
Они побежали дальше по лестнице. Экспедитор, который казался изумленным, но не испуганным, подошел к автомату, опустил монету и, взяв бутылочку кока-колы, прошел в соседнюю комнату.
— Вы слышали? Как это ужасно! — обратился к нему один из встречных.
Экспедитор произнес что-то невнятное. Он зашагал по лестнице, которая вела к главному выходу из здания.
Между тем по приказу начальника полиции Кэрри склад уже оцепили: ведь в нем мог скрываться убийца президента. Даже мышь не должна была незамеченной выскользнуть из дома, где начиналась облава.
Однако один служащий все же покинул здание на глазах у полицейских. Кто-то почему-то пропустил худощавого невысокого парня; и на улице он смешался с толпой.
Через несколько минут, а точнее, в 12 часов 44 минуты заработало полицейское радио:
«Всем, всем, всем! Всем чинам полиции города Далласа! Разыскивается белый, примерно тридцати лет, рост пять футов десять дюймов, вес сто шестьдесят пять фунтов. Всем, всем, всем!»
Загадка за загадкой! Считанные минуты назад этот человек, именно этот и только он один, беспрепятственно покинул склад, и вот уже ищут его, только его.
Как же объяснили позднее все это полицейские чины и прокурор города Далласа осаждавшим их журналистам?
Итак, первый вопрос: откуда стреляли?
Из окна склада учебников, сказали журналистам. Первый выстрел был сделан, когда машина президента еще только подходила к зданию. Этой пулей президент был ранен в горло. Второй и третий выстрелы были посланы вдогонку удалявшейся машине. Пули пробили президенту голову и ранили губернатора Коннэли. Три пули, три раны.
Но позвольте, возразили журналисты, ведь выстрелы слышались почти сразу один за другим! Как же машина, только что сбавившая ход на повороте, успела уйти так далеко за несколько секунд между первым и последним выстрелами?
Надо обладать воображением, сказали журналистам. Хорошо, допустим, что все выстрелы были сделаны сзади. Но и тогда нет ничего удивительного в том, что одна пуля пронзила горло президента спереди: он в эту секунду обернулся назад, только и всего.
Ни капитан Фритц, ведший следствие, ни прокурор Уэйд, ни начальник полиции Кэрри еще не подозревали тогда о существовании совершенно беспристрастного и неоспоримого свидетеля, который не мог ни солгать, ни ошибиться. Они не знали, что далласский коммерсант Запрудер выходил встречать президента с любительским киноаппаратом. Нажав спуск, он снимал его машину, разумеется и не подозревая, что произойдет через секунду. На его цветной пленке оказалась заснятой вся сцена убийства.
Бесценные кадры! Впрочем, это слово здесь не совсем подходит: коммерсант оценил их в сорок тысяч долларов и продал журналу «Лайф».
Так вот, на этой любительской пленке видно, что, перед тем как схватиться за горло, президент смотрел не назад, а вперед, в сторону железнодорожного моста. Значит, сначала стреляли откуда-то спереди?
А вторая загадка — каким образом подозреваемый в убийстве спокойно прошел сквозь полицейские заслоны?
Ясного ответа не последовало и на этот вопрос: просто, мол, кто-то из полицейских оказался недостаточно бдительным.
Но почему, в таком случае, полиция почти сразу спохватилась и объявила, какого именно человека надо искать и хватать?
Журналистам объяснили: полиция, проверив всех служащих склада, обнаружила, что нет лишь одного экспедитора. Его приметы и были объявлены для розыска.
Но, снова усомнились журналисты, как можно было столь быстро проверить всех служащих склада? Ведь еще не кончился перерыв на обед и многие оставались на улице, куда они вышли встречать президента. И если бы даже все сидели на своих местах, то кто мог бы опознать и пересчитать их за такой срок во всех комнатах на семи этажах?
Тогда появилось новое объяснение: полиции помог мистер Бреннэн, тот самый человек, который видел, как стреляли из окна.
Но что же мог видеть мистер Бреннэн, стоя на противоположной стороне улицы? Неужели ему удалось с одного взгляда определить возраст, рост и даже вес человека? Да, именно так, и мистер Бреннэн говорит, что он мог бы опознать убийцу.
Позднее в полицейском участке мистеру Бреннэну показали для опознания нескольких человек, среди которых был и Освальд. Бреннэн не узнал в нем человека в окне.
Но вот что удивительно: в росте и весе разыскиваемого человека полиция ошиблась так незначительно, как будто он уже успел побывать у нее на весах и под измерительной планкой.
А может, мистер Бреннэн был ни при чем и полиция каким-то другим, таинственным способом узнала, кого и, главное, когда ей следовало искать?
Пять лет спустя нечто похожее произошло после убийства Мартина Лютера Кинга. С непостижимой быстротой полицейская радиостанция Мемфиса указала своим патрулям, в каком направлении нужно преследовать убийцу. Указание было ложным: убийца умчался в противоположную сторону. А потом так и не могли узнать, кто же дал приказ патрулям. Таинственный «кто-то» отвел опасность от действительного убийцы, дав ему возможность скрыться…
Пока полицейские и детективы обшаривают склад, а оповещенные по радио патрули с воем сирен носятся по Далласу, присматриваясь к тридцатилетним белым ростом в 5 футов 10 дюймов и весом в 165 фунтов, познакомимся ближе с Ли Харви Освальдом, узнаем о нем кое-что, кроме роста и веса.
Он родился в Новом Орлеане, неподалеку от которого Миссисипи вливает воды в океан. Это город Юга со своим особым политическим климатом: плантаторское высокомерие и расовая нетерпимость белых господ, сохранившиеся со времен невольничьих рынков.
Ли Харви Освальд был третьим сыном у матери. Его отец умер незадолго до того, как Ли появился на свет. Это было в 1939 году.
Когда Ли перешел в шестой класс, Маргарет Освальд перебралась в Нью-Йорк, где служил ее старший сын. Мать не очень-то интересовалась, чем целыми днями занимался Ли в этом огромном городе, где даже взрослый и сильный человек чувствует себя затерянной песчинкой. Жизнь «серого района» с бесчинствующими шайками потихоньку засасывала двенадцатилетнего подростка. Он наглядно постигал закон: у кого сила, у кого деньги, тот и прав.
Ли забросил школу. Тогда мать отдала сына в Дом молодежи — исправительное заведение, куда берут тех, кто с детства в неладах с законом. Туда же определяют и ребят, которые, вопреки желанию родителей, упорно отказываются посещать школу.
В Доме молодежи Ли ни с кем не сошелся. Свободное время он просиживал у телевизора, следя за приключениями и потасовками гангстеров, сыщиков, ковбоев. Как-то он сказал одному из сверстников, что мечтает стать таким же сильным, ловким, «как те парни».
Ли прожил в Нью-Йорке полтора года. Он вернулся в школу, но учился средне, отнюдь не доставляя удовольствия учителям своим поведением. Они не огорчились, когда их воспитанник сказал, что уезжает с матерью на родной Юг, в Новый Орлеан.
В шестнадцать лет подростка привлек яркий плакат, один из многих, всюду расставленных на металлических подставках вдоль тротуара: плечистый парень в красивой матросской форме, широко расставив ноги, свысока щурился на прохожих. За его спиной ярко голубело море, цвели сказочные растения. Две девицы в легких прозрачных туниках улыбались моряку. «Вступай во флот, посмотри дальние страны и хорошеньких девочек» — призывал плакат.
Бросив школу, Ли Харви Освальд явился на вербовочный пункт, где записывают добровольцев в морскую пехоту. Увы, он не был таким плечистым, как моряк на плакате.
— Сколько тебе лет? — спросил сержант.
— Скоро будет семнадцать.
— Вот когда будет, тогда и приходи.
Семья снова переехала в Техас. Ли поступил в школу только для того, чтобы не мозолить матери глаза, но проучился там совсем недолго. Едва ему исполнилось семнадцать, как он примчался на вербовочный пункт… Наконец-то на нем форма солдата морской пехоты!
Солдат морской пехоты Ли Харви Освальд повидал дальние страны, обещанные ему плакатом. Он служил в Японии, на Филиппинах, на Тайване. И была в его службе на военных базах какая-то странная двойственность. Он именовал себя марксистом, но это почему-то не пугало начальство. Все знали, что он интересуется Советским Союзом, изучает русский язык, но и это не ставилось ему в вину. Правда, Освальд дважды оказывался перед военным судьей: за ношение недозволенного оружия и за грубость в разговоре с офицером.
В последний год службы Освальда перевели в Калифорнию. Он подал рапорт: «Прошу досрочно освободить меня от прохождения службы из-за плохого состояния здоровья и трудного материального положения матери». Освальд получил освобождение.
У него в кармане оказалась крупная сумма. Он сел на океанский пароход. Некоторое время Освальд путешествовал по Европе. Поздней осенью 1959 года московский таксист высадил иностранного гостя у подъезда гостиницы, неподалеку от большого универмага «Детский мир». В его паспорте была виза, разрешающая Ли Харви Освальду шестидневное пребывание в Советском Союзе в качестве туриста.
Турист отказался от билетов в Большой театр и от экскурсии в Третьяковскую галерею. Он сказал гиду, что не хочет больше быть гражданином Соединенных Штатов Америки и желает навсегда остаться в Советском Союзе.
Ответственный работник, принявший его, не обрадовался, не поздравлял, не сулил златых гор. Напротив, он сдержанно предупредил Освальда, что жизнь в любой чужой стране может оказаться не такой заманчивой, как это иногда представляется издалека.
Однако Освальд с необычайной горячностью стал уверять, что давно все решил и обдумал. Он пошел в американское посольство и оставил заявление о том, что отказывается быть гражданином Соединенных Штатов и хочет остаться в Советском Союзе.
Но Советское правительство так никогда и не приняло Освальда в число советских граждан. Правда, ему, как и многим другим иностранцам, разрешили жить и работать в нашей стране.
Оставаясь американским гражданином, он поехал в Минск и поступил на радиозавод. Его назначили контролером по металлу. Он получил просторную квартиру с двумя балконами. В дневнике, который вел «марксист» Освальд и который позднее был опубликован в Америке, появилась запись:
«Я хорошо живу и всем доволен. Единственно, что мне не нравится, — портреты Ленина и обязательная физкультура на заводе».
Он находит удовлетворение во флирте и непродолжительных романах. Но Элла, девушка, в которую он, по его словам, влюбляется, не испытывает к нему ответного чувства и откровенно говорит об этом. Еще один повод для разочарования в стране и людях…
В январе 1961 года Освальд, по-видимому, разочаровывается окончательно и записывает в дневнике:
«Мое желание навсегда остаться в Советском Союзе начинает пропадать. Работа скучная. Деньги, которые я зарабатываю, негде истратить. Здесь нет ни ночных клубов, ни мест для игр. Никаких развлечений, кроме танцулек, устраиваемых профсоюзом. С меня хватит».
Итак, Освальда охватила тоска по ночным клубам (мог ли он подумать тогда, что владелец подобного заведения менее чем три года спустя пристрелит его в подвале полицейской тюрьмы!). Освальд просит мать выслать ему американские журналы и развлекательные книжки с ковбойскими приключениями.
Развлекается он и на «танцульках». И однажды весной дневник отмечает встречу: «Меня познакомили с девушкой, у которой волосы были тщательно причесаны. На ней было красное платье и белые «лодочки». Ее зовут Марина».
Некоторое время спустя девятнадцатилетняя Марина Прусакова стала Мариной Освальд. Событие это едва ли оставило глубокий след в душе бывшего солдата морской пехоты. Освальд записал в дневнике, что женился 31 апреля. Увы, с тех пор как существует современный календарь, в апреле всегда бывает только тридцать дней. Под датой этого несуществующего дня счастливый супруг записал: «Я женился на Марине, чтобы досадить Элле…»
Мне не пришлось видеть Ли Харви Освальда. Я видел лишь его фотографии. В его лице нет ничего злодейского, отталкивающего. Зигзаги биографии не отложили на нем заметного отпечатка.
Но кем же все-таки он был в годы своей службы в морской пехоте? Что творилось в его душе, когда он просил о советском гражданстве, каковы были истинные причины этого шага?
Разумеется, никаким марксистом он никогда не был. Как вспоминает встретившаяся с ним в Москве американская журналистка, Освальд не имел о марксизме никакого понятия и лишь слышал о «Капитале».
Был ли Освальд уже тогда связан с разведкой, поехал ли он в Советский Союз по ее заданию, о чем говорят некоторые американские исследователи? Или, как думают другие, он искал в Советской стране успеха, который возвысил бы его над окружающими? Но даже в том случае, если его поступками двигало лишь честолюбие, в Советский Союз он попал явно не по адресу.
Морской пехотинец решает вернуться в Соединенные Штаты, на свой Юг, вместе с женой и недавно родившейся дочкой. Посольство отнеслось к нему гораздо милостивее, чем можно было ожидать. Ему с семьей разрешают въехать в Соединенные Штаты. Освальд получает не только американский паспорт, но и крупную ссуду на переезд, которую дают лишь тем, чья лояльность по отношению к Соединенным Штатам не вызывает сомнений.
Летом 1962 года вместе с семьей Ли Харви Освальд пересекает океан — и начинается новый период его жизни, полный «белых пятен», затемненных обстоятельств, двусмысленных связей, загадочных поступков.
* * *
Поиски в Далласе между тем продолжались. Полицейские тщательно осмотрели склад. В одной из комнат шестого этажа были нагромождены картонные коробки, за которыми мог скрываться человек. Тут же валялись три стреляные гильзы. Часть коробок была поставлена одна на другую. Очевидно, они служили опорой для винтовки (и, значит, заслоняли стрелявшего так, что он почти не был виден с улицы). Неподалеку, рядом с лестницей, между рядами ящиков лежала винтовка с оптическим прицелом. Ее сразу же осмотрел прокурор Уэйд. Она даже была показана телезрителям.
— Оружие, которым пользовался убийца, — это немецкий маузер, — сказал Уэйд 22 ноября.
На следующий день, 23 ноября, немало изумленные журналисты услышали от того же Уэйда:
— Господа, мы теперь точно знаем, что выстрелы были произведены из итальянского карабина «каркано».
Если бы убийство произошло в тихом швейцарском городке, то полиции и прокурору еще можно было простить незнание марок оружия. Но в Далласе! В городе, где каждый месяц убивают десятки людей, причем в каждых трех случаях из четырех — с применением огнестрельного оружия!
Как бы то ни было, после второго заявления Уэйда маузер больше не упоминался, и оружием убийцы признали винтовку «каркано». К ней подошли и гильзы и пули.
Одна почти целая пуля была найдена возле носилок, на которых внесли в госпиталь раненого губернатора Коннэли. Два пулевых осколка обнаружили на переднем сиденье автомобиля.
Президент Кеннеди был ранен дважды. Тяжелое ранение получил губернатор Коннэли. Три раны, три выстрела, три пули.
Но нет! Ведь Тейг, раненный осколком, был прав: на обочине тротуара нашли след пули, не попавшей в цель. Она ударилась о бетон впереди машины президента.
След этой пули сильно менял дело. Значит, было четыре выстрела? Или какая-то из пуль сразу поразила и президента и губернатора? Комиссия Уоррена нашла более вероятным второе.
Винтовка «каркано» не автомат. После каждого выстрела надо отводить затвор, выбрасывать стреляную гильзу, снова посылать его вперед и вскидывать винтовку, ловя цель в оптическом прицеле. А ведь выстрелы в Далласе следовали один за другим. Каким же снайпером должен быть стрелок, посылавший пули издалека в движущуюся мишень!
В мире началась стрельба из «каркано». Пробовали силы знаменитости стрелкового спорта. Чемпион Европы Катино сделал три выстрела за 11 секунд. Олимпийский призер Контелли — за 5,4 секунды, но при стрельбе по неподвижной цели. Рекорд Американской стрелковой ассоциации оказался равным 6,2 секунды. Олимпийский чемпион Хаммер после многих попыток сказал, что, по его мнению, не найдется на земле человека, который сумел бы трижды успешно выстрелить из «каркано» по движущейся цели за 5,6 секунды.
Но кто смотрел на секундомер во время стрельбы в Далласе? Может быть, между первым и последним выстрелом прошло 8 или даже 10 секунд? Кто мог точно засечь время среди всеобщей паники?
Пленка! Та же пленка, снятая любительским киноаппаратом. Скорость, с какой камера производит съемку, известна. Ошибка может исчисляться лишь долями секунды. Кадр, где президент поднес руку к горлу, и кадр, где голова его дернулась от удара второй пули, разделяло ничтожно малое время — от 4,8 до 5,6 секунды.
Чтобы за столь короткий срок дважды попасть в цель и при этом одной пулей поразить двоих (чему, впрочем, противоречат свидетельства губернатора Коннэли и его жены), убийца должен был обладать исключительным хладнокровием и меткостью лучших стрелков в мире. Но почему, в таком случае, одна пуля этого сверхметкого стрелка не попала даже в машину, а ударилась в стороне о тротуар?
* * *
Освальд, покинув склад, смешался с толпой и зашагал прочь от места убийства. Пройдя семь небольших кварталов, он сел в автобус. Некоторое время спустя впереди образовалась уличная пробка. Освальд попросил открыть дверь и оказался на улице.
Он прошел по тротуару, потом окликнул свободное такси и попросил шофера довезти его до Бекли-авеню.
На звонок открыла хозяйка дома, в котором Освальд снимал скромную меблированную комнату. Жилец ненадолго заглянул к себе. Затем он вышел, на ходу застегивая «молнию» куртки, которую надел вместо пиджака, и захлопнул за собой входную дверь.
Пока хозяйка с недоумением смотрит вслед появившемуся в необычное время и теперь торопящемуся куда-то жильцу, продолжим рассказ о солдате морской пехоты с того события, на котором он был прерван, — с переезда семьи Освальда через океан. Оговорюсь, что он будет поневоле беглым и отрывочным. Неизвестно, однако, заполнятся ли вообще когда-либо пробелы в странной и запутанной биографии этого человека.
После возвращения в Соединенные Штаты Освальд с семьей жил то у матери, то у старшего брата. На заводе, куда он поступил, его не раз навещали агенты ФБР. Беседы велись без свидетелей. Затем Освальд неожиданно уехал в Новый Орлеан. Там он называл себя секретарем «Комитета за справедливое отношение к Кубе». Одновременно якшался с эмигрантами, ненавидевшими новую Кубу. Предлагал даже обучать их десантным операциям: пригодится, мол, при освобождении исстрадавшегося острова…
Но однажды Освальд «засыпался»: вожак эмигрантов увидел, как он раздает листовки «Руки прочь от Кубы!». Освальду изрядно намяли бы бока, если бы не вмешалась полиция. Сидя в полицейском участке, он попросил свидания с агентом ФБР. Беседа, как всегда, велась без свидетелей.
Освальда быстро выпустили, и он даже выступил по радио как деятель того же отделения «Комитета за справедливое отношение к Кубе». Потом выяснилось, что все «отделение» состояло из… одного Освальда.
Но на какие деньги он жил, снимал комнату для «отделения», печатал листовки? Может быть, некие организации были заинтересованы в том, чтобы с его помощью узнать, кто в Новом Орлеане сочувствует революционной Кубе?
Освальд то и дело задавал загадки своим будущим биографам.
Он сочинял книгу о жизни в Советском Союзе. Рукопись переписывала машинистка Полин Бейтс. Автор тотчас забирал написанное. Прихватывал даже копировальную бумагу, чтобы не оставалось никаких следов.
Может быть, он боялся, что его надолго упрячут в тюрьму за прокоммунистическую деятельность? Ничуть не бывало! Полин Бейтс засвидетельствовала, что книга была резко антисоветской.
И рука, пачкавшая страницы клеветой на нашу страну, вдруг настрочила в государственный департамент просьбу выдать паспорт для… возвращения в Советский Союз!
Удивительно? А вот государственный департамент ничуть не удивился. Он выдал «марксисту», «прокоммунисту» заграничный паспорт. Без анкет и поручительств. Немедленно. Всего через сутки после просьбы Освальда.
С этим паспортом в кармане Освальд снова пересек границу Соединенных Штатов. Его видели в советском и кубинском посольствах в Мексике. Он просил визу на въезд к нам и на Кубу. Но посольства не проявили той чуткости и отзывчивости, какие он встретил в государственном департаменте…
В начале октября 1963 года Освальд, истратив на поездку в Мексику изрядную сумму, вернулся в Даллас. Где он брал деньги на путешествие? Трудно сказать… Известно лишь, что время от времени кто-то переводил ему кое-что по телеграфу.
Жена Освальда, которая ждала второго ребенка, стала чем-то вроде приживалки в доме добросердечной Рут Пейн. Госпожа Пейн немного знала русский, и Марина, не говорившая по-английски, могла хоть с кем-то перемолвиться словом.
Освальд отнюдь не баловал жену, был капризен, мелочно придирчив. Иногда он бил Марину.
Тот, кому знакома Америка, представляет, как трудно человеку, подозреваемому хотя бы в молчаливом сочувствии к коммунизму, поступить на службу в муниципальное учреждение или крупную фирму. Но это легко удалось Ли Харви Освальду, человеку, жившему в Советском Союзе и собирающемуся отправиться туда снова.
И где удалось — в Далласе! Экспедитором склада школьных учебников его взяли сразу, без колебаний и сомнений.
Примерно в это время записную книжку Освальда украсило имя «Джеймс Хости», номера служебного и домашнего телефонов, а также номер машины этого человека.
Джеймс Хости приезжал к Освальду, и они о чем-то долго говорили. Джеймс Хости дважды навестил госпожу Пейн и расспрашивал ее об Освальде, затем побывал на складе школьных учебников незадолго до приезда президента в Даллас. Джеймс Хости был агентом ФБР.
Федеральное бюро расследования, которое перед приездом президента заблаговременно перевело на казенные харчи при полицейских участках всех, кто показался ему подозрительным, не тронуло Освальда. Он каждый день приходил в дом, мимо которого должен был проехать президент.
А ведь Хости легко мог узнать, что у экспедитора где-то припрятана винтовка «каркано». Во всяком случае, после убийства ФБР сразу нашло упоминание о злополучной винтовке в своих картотеках.
Ли Харви Освальд давно выписал винтовку по почте и, как позднее утверждала комиссия Уоррена, даже пускал ее в дело. Весной 1963 года, положив ствол «каркано» для устойчивости на забор, он выстрелил в человека, сидевшего у ярко освещенного окна своего кабинета.
Что это был за человек?
У окна сидел отставной генерал-майор Эдвин Уокер. Да, да, тот самый! Один из яростных врагов президента Кеннеди, слава и гордость далласских мракобесов!
Освальд стрелял с близкого расстояния, но пуля просвистела в стороне от генеральской головы…
Генерал Уокер прослыл мучеником, едва не погибшим от руки «красных».
Покушавшегося не нашли. Но если бы Освальда вдруг задержали по этому делу, следователю пришлось бы поломать голову: в записной книжке «марксиста», там же, где значился агент Хости, был записан телефон генерала Уокера. Следователь мог бы обнаружить записку Освальда жене, где весьма прозрачно намекалось на покушение. Ему, вероятно, попался бы снимок, сделанный Мариной: ее муж с винтовкой в руке.
Освальд и не подумал уничтожить все эти улики. Или он знал, что ему нечего бояться?
Винтовка «каркано», главная улика этого странного «покушения», также не была уничтожена. Она лежала завернутой в одеяло среди скудных пожитков семьи Освальда.
Однако едва ли именно ее за три недели до покушения на президента некий молодой человек принес к оружейному мастеру с просьбой прикрепить оптический прицел.
Заказчик не скрывал имени, в квитанции было написано «Освальд». Но мастер отлично помнил, что крепил прицел двумя винтами. А на винтовке, которую позднее нашли на шестом этаже склада школьных учебников, прицел держали три винта. Он, вероятно, был прикреплен гораздо раньше, сразу после покупки.
Но зачем Освальду могли понадобиться две совершенно одинаковые винтовки? Может быть, у мастера побывал его двойник?
Накануне покушения Освальд ездил к семье. Он взял там большой тяжелый пакет. Сослуживцу, который подвозил его на машине, Освальд сказал, что в пакете шторы.
Он спокойно внес необычную ношу в склад, мимо которого несколькими часами позднее должен был проехать президент. Никто из шнырявших по улице агентов не обратил никакого внимания на человека с подозрительным свертком, как никто не задержал его и после покушения, когда он вышел из склада, оцепленного полицией.
…И вот теперь Освальд, забежав ненадолго к себе в меблированную комнату, выходит на улицу, застегивая «молнию» спортивной куртки.
Улица пустынна. Освальд направляется в сторону старых кварталов с узкими переулками. Возле перекрестка он видит полицейскую машину. Это патрульный радиофицированный автомобиль. В них обычно разъезжают двое полицейских.
Но в этой за рулем сидит лишь один, некий Типпит, который прирабатывает по вечерам в ресторане, принадлежащем одному из видных представителей «Общества Джона Бэрча».
Освальд шагает по тротуару, Типпит медленно ведет машину у обочины. Освальд ничуть не испуган. Он даже останавливает полицейского, наклоняется к окошку машины, о чем-то говорит.
Типпит открывает дверцу с другой стороны. Его рука на кобуре, он идет к Освальду. Внезапно тот выхватывает пистолет и всаживает в полицейского пулю за пулей. Типпит замертво падает на свой наполовину вынутый из кобуры револьвер.
Улица кажется вымершей. Убийца торопится прочь, подальше от трупа. Он проходит мимо такси, водитель которого поспешно спрятался за машину. До таксиста доносится бормотание: «Вот глупый полицейский…»
Освальд, до той поры сохранявший спокойствие, теперь удивлен, испуган, сбит с толку. Он пускается бежать. Ему жарко, на тротуар летит куртка. Он бежит дальше. Видит вход в кинотеатр «Техас». Скрывается в полутьме зала, не купив билета и сразу вызвав подозрение у кассирши. Та звонит в полицию.
Вскоре в зале вспыхивает свет, и ватага полицейских наваливается на невысокого худощавого человека. Он будто бы успевает вскрикнуть:
— Ну, теперь конец!
Примерно так рисуют события свидетели.
Освальд в тюрьме. Его допрашивают. Он не сознается ни в чем. По его словам, в те минуты, когда убили президента, он находился в закусочной, и это могут подтвердить служащие, которые видели его, разговаривали с ним сразу после убийства.
Криминалистам известен способ проверки, стрелял ли подозреваемый из какого-либо оружия. С лица и рук делаются парафиновые слепки. На парафин с кожи переходят крохотные частицы пороховых газов, образующихся при выстреле.
На слепках с рук Освальда эти частицы есть. На слепках с лица — никаких следов. Это бесспорно доказывает лишь, что Освальд стрелял из пистолета. Но если бы он стрелял также из винтовки, да еще не один раз, такие следы непременно должны бы быть и на лице, прижимаемом к прикладу.
Вечером 22 ноября Ли Харви Освальду, уроженцу Нового Орлеана, 24 лет, женатому, предъявили обвинение в убийстве полицейского Типпита.
Формальное обвинение в убийстве президента Соединенных Штатов Америки Джона Фитцджеральда Кеннеди при всей недостаточности улик было предъявлено ему вскоре после полуночи на субботу.
Он отрицал свою вину до последней минуты жизни, до выстрела Джека Руби, гангстера по кличке «Щеголь», у которого при аресте нашли доказательства его связей с самим Гарольдсоном Хантом, далласским «мистером Миллиардом».
А перед развязкой драмы еще раз промелькнули зловещие тени тех действующих лиц, что редко появляются у ярко освещенной рампы, но присутствие которых постоянно чувствуется где-то в тени кулис.
Субботним вечером, накануне выстрела Руби, мать Освальда навестили два агента ФБР и попросили получше присмотреться к фотографии пожилого мужчины с редкими волосами: не знаком ли он госпоже Освальд?
Маргарет Освальд сказала, что не знает этого человека. Зачем ей показывают какую-то фотографию с оборванными краями?
— Не видели ли вы когда-нибудь этого господина вместе с вашим сыном? — уточнил вопрос агент.
Нет, она не видела. Агенты ушли. Маргарет Освальд вместе с невесткой и внучками осталась под охраной в одной из гостиниц Далласа, куда их всех тайно доставили вскоре после ареста Освальда.
Но Маргарет Освальд суждено было снова увидеть снимок пожилого мужчины с редкими волосами. Когда днем в воскресенье агент охраны принес экстренные выпуски газет, ей в глаза сразу бросился большой портрет на первой странице.
— Опять этот человек, которого они вчера показывали! — воскликнула она. — Кто это?
— Он только что застрелил вашего сына, — сказал агент.
* * *
Мы знаем, к каким выводам пришла комиссия судьи Уоррена, расследовавшая «одно из величайших преступлений XX века». Она не вела собственного следствия. Комиссия лишь изучала то, что было услужливо доставлено сотрудниками ФБР. А этими сотрудниками почему-то не были доставлены, например, подлинные протоколы или записи на магнитофонную ленту допросов Освальда.
Нашлись люди, которые искали истину собственными путями. Упорство этих людей поддерживалось убеждением, что уж слишком много влиятельных лиц хотели бы представить дело так, будто один сумасшедший убил президента, а другой сумасшедший убил первого сумасшедшего, только и всего.
Американский публицист Бьюкенен уже вскоре после убийства попытался развязать некоторые запутанные узлы.
Он полагал, что накануне убийства в склад проник некий человек. Утром Освальд принес ему винтовку, а когда служащие ушли смотреть на проезд президента, помог «убийце № 1» удобно устроиться у окна.
Другой сообщник к тому времени, возможно, занял позицию в районе железнодорожного моста. Мог пригодиться и густо заросший травой холм правее дороги: позднее свыше пятидесяти свидетелей утверждали, что слышали выстрелы именно со стороны холма. Машину Кеннеди обстреляли по крайней мере с двух точек.
Когда полиция бросилась к складу, Освальд был уже в закусочной: возможно, он постарался побыстрее попасться на глаза, чтобы его не могли сразу заподозрить в причастности к убийству.
Но на что рассчитывал «убийца № 1»? На то, что склад обязательно будет оцеплен. Он мог, не вызывая никаких подозрений, выйти из какого-либо временного убежища именно после того, как все этажи наводнила полиция, если… если на нем была форма полицейского или если он вообще служил в полиции!
Освальда же мог выпустить из склада другой человек в полицейской форме, которого предупредили, что «так надо».
Освальд отправился домой, чтобы переодеться и взять пистолет. Однако едва он скрылся из виду, как некто, знавший, какую роль заговорщики предназначили Освальду в дальнейшем, объявили по радио его приметы для поиска.
В момент встречи с Типпитом Освальд, вероятно, направлялся по заранее указанному адресу: ему обещали помочь покинуть страну. Он ведь не знал, что его приметы объявлены, и мог без опаски подойти к машине. Он чувствовал себя вне подозрений.
Типпит же, по всей вероятности, имел секретное задание, как действовать при появлении Освальда. Недаром полицейский был один в машине, на которой чаще разъезжают двое.
Он направился к Освальду с таким видом, чтобы тот почувствовал опасность ареста и схватился бы за пистолет. Тогда Типпит, вынужденный к самообороне, мог метким выстрелом уложить опасного свидетеля, на которого в дальнейшем удобно было бы свалить всю вину за убийство президента.
Но у солдата морской пехоты сохранилась былая выучка. Он успел выстрелить первым. Типпит рухнул на мостовую…
С этой минуты Освальд стал чрезвычайно опасным для участников заговора. Из козла отпущения он превратился в человека, способного выдать других.
Тогда постарались поддержать в нем надежду, что еще не все потеряно. Сначала его обвинили только в убийстве Тип-пита. Лишь после того, как Освальду предъявили и второе обвинение, он понял, что сообщники окончательно предали его. Он потребовал адвоката. Ему под разными предлогами отказывали. А затем Джек Руби сделал то, что не удалось полицейскому Типпиту…
Такова в общих чертах версия Бьюкенена.
Высказывалось и предположение, что среди заговорщиков был двойник Освальда, который должен был заранее создавать против него улики. Именно этот двойник, назвавшись Освальдом, приходил в мастерскую оружейника, чтобы установить оптический прицел. Он появлялся в тире, поражая всех меткой стрельбой. Он же, стараясь привлечь к себе внимание, спрашивал запасные части для винтовки в самых неподходящих местах — например, в мебельном магазине. Но заговорщики, подготавливая двойника, допустили ошибку: двойник всюду разъезжал, сидя за рулем автомобиля, а бывший солдат морской пехоты, оказывается, не умел водить машину…
* * *
Прах Джона Кеннеди покоится под гранитной плитой на Арлингтонском кладбище Вашингтона. На плите — имя, даты рождения и смерти.
Неподалеку холмик с белым крестом. Там погребен Роберт Кеннеди.
Брат убитого президента был застрелен 5 июня 1968 года в городе Лос-Анджелесе.
Это произошло после того, как Роберт Кеннеди объявил, что намерен добиваться выдвижения своей кандидатуры на пост президента от демократической партии. Он начал борьбу, сказав, что будет искать новую политику, которая закрыла бы пропасть между белыми и черными, между богатыми и бедными. Он выступил против политики президента Джонсона во Вьетнаме, против расширения войны.
«Бобби» приехал на первичные выборы в Калифорнию, очень важный штат для тех, кто пробивает дорогу к Белому дому. Он сказал своим друзьям:
— Если я проиграю, собирайте чемоданы — и по домам.
Он выиграл. Проба показала, что у него есть шансы добиться президентского кресла.
Роберт Кеннеди вернулся в лос-анджелесский отель «Амбассадор» усталым, но радостным, торжествующим. Его уже ждали здесь микрофон и телекамеры. Он произнес короткую речь, закончив ее словами:
— Вперед в Чикаго, и давайте победим там!
Он верил теперь, что победит на чикагском конвенте демократической партии, который должен был утвердить кандидата в президенты.
В сопровождении ликующих друзей «Бобби» направился из большого бального зала отеля в комнату, где его ждали корреспонденты. Телевизионная передача из «Амбассадора» закончилась, зал выключили. И вдруг…
Зрители, не успевшие отойти от телевизоров, услышали нервные, торопливые возгласы диктора:
— Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили!
Экран засветился снова. Был тот же зал, но теперь полный кричащих, мечущихся людей. Телохранители выламывали руки человеку в белой рубашке. На полу лежал окровавленный Роберт Кеннеди. Его жена Этель не пускала к телу едва не сбивавших друг друга фоторепортеров, крича:
— Прогоните их, они растопчут его!
…Пока в госпитале «Добрый самаритянин» шесть хирургов склонялись над Робертом Кеннеди в тщетной попытке сохранить ему жизнь, был опознан убийца. Им оказался Сир-хан Бишар Сирхан, 24 лет, араб из Палестины, несколько лет назад переселившийся в Америку.
И повторилось то, что было в первые часы после убийства президента Кеннеди, после убийства Мартина Лютера Кинга: убийцу попытались объявить «красным». Мэр Лос-Анджелеса сказал на пресс-конференции, что Сирхан «находился в контакте с коммунистами».
6 июня 1968 года в 1 час 44 минуты сенатор Кеннеди скончался, не приходя в сознание.
Два дня спустя его похоронили на Арлингтонском кладбище рядом с могилой Джона Кеннеди.
Стали вспоминать, что покойный сенатор незадолго до убийства говорил одному журналисту:
— На меня рано или поздно будет совершено покушение… Такова обстановка.
Он сказал другому:
— Каждый день я хожу по острию ножа. Но что я могу поделать? Если они захотят меня убить, их ничто не остановит.
Сенатор не стал разъяснять, кто это «они».
Вспомнили, что незадолго до убийства сенатор Кеннеди говорил: если он займет пост президента, то обязательно установит правду о смерти брата.
Сирхан был объявлен убийцей-одиночкой. Так же как Ли Харви Освальд. Так же как Джеймс Рей, убийца Мартина Лютера Кинга.
Утверждения о связях Сирхана с коммунистами оказались злонамеренной выдумкой. Кое-что указывает на его связи с кем-тo другим. Перед покушением Сирхана видели вместе с молодой женщиной в клетчатом платье и неизвестным мужчиной с грубыми чертами лица. До этого убийцу видели в избирательной штаб-квартире Роберта Кеннеди опять-таки в компании, на этот раз с двумя молодыми людьми. После убийства в карманах Сирхана оказался ключ от стоявшей у подъезда отеля машины и кредитки по сто долларов — видимо, он надеялся скрыться, воспользовавшись паникой: ведь сумел же двумя месяцами ранее бежать убийца Мартина Лютера Кинга.
По случайному совпадению убийцу Кинга арестовали в день похорон Роберта Кеннеди. В свое время кто-то помог Джеймсу Рею скрыться из страны, он бежал сначала в Канаду, оттуда в Лисабон, и лишь в Лондоне полицейским показался подозрительным человек спортивного вида, разгуливавший по залу ожидания аэропорта.
Сирхана судили семь месяцев спустя после убийства: процесс откладывали по разным причинам. Он вел себя странно. Адвокаты всячески старались представить его душевнобольным. Когда один из приглашенных знатоков стал расписывать суду болезнь Сирхана, тот спросил адвоката:
— О чем весь этот треп? Неужели речь идет обо мне?
Суд признал Сирхана психически нормальным и приговорил его к смертной казни.
При расследовании причин трех главных политических убийств, совершенных за последние годы в Америке, американские власти больше всего боялись слова «заговор». Во всех случаях правдами и неправдами доказывалось, что убийцы — неуравновешенные одиночки, у них не было сообщников, им никто не помогал, за ними никто не стоял. Да, кое-какие факты могли создать впечатление, будто существовали заговоры, но на самом деле это лишь случайное стечение обстоятельств. Странное, но все-таки случайное стечение…
По этому поводу юрист Марк Лейн, пять лет занимавшийся самостоятельным расследованием убийства президента Кеннеди, сказал:
— Хотите знать, что я думаю? Я думаю, что если бы даже самолет с Джеймсом Реем, убийцей Кинга, упал на лос-анджелесскую тюрьму и оба, Рей и Сирхан, при этом погибли, то и тогда это стали бы называть случайным стечением обстоятельств, неприятным, невероятным, страшным совпадением… ления Банистер и Уорд, а также летчик Ферри были, как доказывал Гаррисон, в числе активных заговорщиков.
Банистер умер якобы от сердечного приступа. Уорд погиб при авиационной катастрофе. Ферри скончался при таинственных обстоятельствах как раз после того, как Гаррисон выписал ордер на его арест.
В суд был вызван один Клей Шоу. Прокурор не смог доказать свои обвинения неопровержимыми фактами. Присяжные вынесли решение о Клее Шоу: «Не виновен». Гаррисон проиграл процесс.
Вот его слова, обращенные к американцам:
— Ради поддержания спокойствия где-то было решено, что вам лучше не знать того, что произошло на самом деле… Было решено, что вам не надо знать о связях Ли Освальда с Центральным разведывательным управлением. Не надо вам знать о том, что ряд лиц, имевших прямое отношение к убийству, состояли на службе у Центрального разведывательного управления. Всего этого вам не следует знать в интересах «национальной безопасности».
Гаррисон напомнил, что в свое время были спрятаны фотографии и рентгеновские снимки вскрытия тела президента, доказывающие, что в него стреляли с разных направлений. На другой день после убийства в Вашингтоне «случайно» сгорела секретная записка об Освальде. Были сожжены записи о ранах президента, сделанные в госпитале Далласа. Ко многим важным документам, связанным с убийством, закрыт доступ в течение семидесяти пяти лет.
— Остается фактом, что скрывают правду, — заключил Гаррисон.
Прокурор Нового Орлеана говорил о связях Освальда с ЦРУ. А генеральный прокурор Техаса признал, что с сентября 1962 года Освальд был платным агентом ФБР…
И вот еще одно темное обстоятельство: за первые пять лет погибло свыше тридцати важных свидетелей убийства в Далласе. Большинство из них ушло из жизни не без вмешательства таинственных сил. Тринадцать были убиты, в том числе три человека, видевшие, как убегал неопознанный убийца президента (не Освальд!), человек, видевший убийцу Типпита, шофер, который вез Освальда к дому.
Известно, что и последний свидетель, который мог знать многое, — Джек Руби — умолк навсегда. Его приговорили к смертной казни. Потом был назначен пересмотр дела… Руби вызвал в Даллас самого судью Уоррена и попросил о переводе в вашингтонскую тюрьму:
— Там я скажу правду, здесь моя жизнь в опасности.
Уоррен отказался выполнить просьбу. Когда верховный судья уходил из камеры, Руби крикнул ему вслед:
— Теперь вы меня больше никогда не увидите, я уверен!
Вскоре Руби умер: нерадивые врачи слишком поздно обнаружили у него рак…
Люди, не верящие в фанатиков-одиночек, создали «Комитет по расследованию убийства Джона Фитцджеральда Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди» — во всех трех убийствах слишком много общего для того, чтобы это общее было случайным.
Комитет обратился к Ричарду Спрэгу, крупнейшему специалисту по электронно-вычислительным операциям, с просьбой подвергнуть анализу все фотодокументы, связанные с преступлением в Далласе. Любительский фильм коммерсанта Запрудера стал главным, но далеко не единственным свидетелем обвинения: в тот день снимали многие. Были запрограммированы также чертежи, результаты экспертиз пробной стрельбы, свидетельства очевидцев.
И вот главные выводы Спрэга после обработки огромного материала электронно-вычислительными машинами.
Стрелков было трое или четверо. Один укрывался на зеленом холме с колоннадой и палисадником. Он стрелял первым, спереди, и ранил президента в горло. Второй выстрел сделал сзади другой стрелок, находящийся не на складе учебников, а в соседнем здании «Даллас Тексас билдинг». Его пуля поразила Кеннеди в спину. Третьей пулей, посланной со склада учебников, был ранен губернатор Коннэли. Четвертая пуля — на этот раз снова стрелял человек, засевший в «Даллас Тексас билдинг», — не достигла цели, стрелявший промахнулся. Пятая, посланная со склада учебников, попала президенту в голову, и эту пулю почти догнала (разница — всего восемнадцатая доля секунды) шестая: стрелял с близкого расстояния человек у колоннады, когда машина президента почти поравнялась с ним. Последняя пуля попала в правую часть головы.
Спрэг считает, что президент Кеннеди стал жертвой заговора, в котором прямо и косвенно должно было участвовать до пятидесяти человек, в том числе чины полиции и агенты ЦРУ.
* * *
Убийства, убийства, убийства…
«Преступление века», убийства обыкновенные, политические, сенсационные, поражающие жестокостью. Молодой американец Спек задушил, зарезал в Чикаго восемь медицинских сестер. Студент Уитмэн из Остина, столицы Техаса, убил мать, потом жену, облюбовал здание повыше, по дороге туда убил еще двух женщин и ребенка, а затем, устроившись на удобной снайперской позиции, застрелил десять случайных прохожих. Несколько маньяков из банды «сатаны Мэнсона», в том числе девицы, забравшись на виллу киноактрисы Шарон Тейт, «просто так» зверски убили хозяйку и ее гостей. Сьюзен Аткинс, участвовавшая в убийстве, получила от крупного издательства 80 тысяч долларов за подробное описание, «как все было», как кричали убиваемые, как молили о пощаде. Главарь банды Мэнсон, исполнитель сомнительных песенок, заключил выгодный контракт на выпуск пластинок: ведь интересно услышать голос самого «сатаны»!
В стране действуют знаменитая «Коза ностра», гигантский синдикат преступников, объединяющий около двухсот тысяч гангстеров. Его доходы колоссальны. Это, если так можно выразиться, крупнейшее в мире уголовно-финансовое предприятие. «Коза ностра» занимается не только бандитизмом, но содержит притоны запрещенных азартных игр, торгует наркотиками, а также… дает деньги крупнейшим промышленным и торговым фирмам, получая часть прибыли.
Но когда комиссия сената задумала выяснить, что же представляет собой сегодня «средний американский убийца», то им оказался вовсе не гангстер. Вот полученный после изучения многих уголовных дел портрет преступника: «Вас убивает человек, которого вы знаете. Обычно ему около 34 лет. Время преступления — чаще всего субботний вечер. В большинстве случаев убийца предпочитает пистолет… В 74 процентах преступлений убийца и жертва были друзьями, родственниками, знакомыми, супругами. Только 13 процентов убийств произошло при свершении других преступлений».
Такова Америка, которая убивает.
Вечный огонь горит у могилы убитого президента. А жизнь идет своим чередом.
Город Даллас процветает по-прежнему. В 1970 году он все еще сохранял первенство среди городов Америки по количеству убийств. Трагедия не забыта. В местном музее восковых фигур можно увидеть всех ее главных действующих лиц, включая Освальда и Руби, причем на фигуре последнего надет его подлинный костюм.
За один доллар разрешается осмотреть комнату на Бекли-авеню, которую снимал Освальд. Его письма мать и вдова давно распродали, перессорившись при дележе денег. Марина Освальд предъявила иск, требуя, чтобы ей оплатили стоимость вещей покойного мужа, изъятых как вещественные доказательства, в том числе винтовки с оптическим прицелом и пистолета. Суд, принимая во внимание страсть богатых американцев к коллекционированию и их готовность выложить за «сувениры» огромные деньги, постановил выплатить предприимчивой вдове несколько десятков тысяч долларов. Ведь получил же Сирхан, убийца Роберта Кеннеди, пятнадцать тысяч долларов за одно интервью для телевидения.
А другие участники драмы в Далласе — что они, что с ними?
Линдон Джонсон оставил пост президента весьма богатым человеком, обладателем пятнадцати миллионов долларов. До конца своих дней он будет получать две пенсии: как бывший президент и как бывший сенатор. Это больше ста тысяч долларов в год. В родном Техасе он создал «музей Джонсона» с копией своего кабинета в Белом доме и любовно собранной коллекцией из двухсот пятидесяти тысяч фотографий, на которых запечатлен он, Линдон Джонсон. В окна кабинета бывший президент распорядился вставить пуленепробиваемые стекла. С помощью профессора и двух бывших сотрудников Белого дома Джонсон пишет мемуары. Право на издание он продал одной издательской фирме за полтора миллиона долларов.
Губернатор Коннэли давно залечил рану, полученную в Далласе. Новое «ранение» ему нанесла в 1971 году печать, напомнившая о некрасивой истории: бывший губернатор получил в свое время почти четверть миллиона долларов от техасской нефтяной фирмы Ричардсона. Известно, что нефтяные короли не бросают деньги зазря, просто так.
Новая рана оказалась, однако, еще менее опасной, чем старая: в правительстве Никсона Коннэли занял пост министра финансов.
Вдова покойного президента Кеннеди, очаровательная Жаклин, неожиданно для всех вторично вышла замуж. Ее мужем стал один из богатейших людей мира, греческий «мистер Миллиард» Аристотель Онассис.
Америка была возмущена и разочарована этой свадьбой. Ведь Онассису седьмой десяток, он годится «Джекки» в отцы! У этого старого и чудовищно богатого иностранца грубая, мрачная наружность злодея из телевизионного фильма. В деловом мире его называют пиратом. Огромное состояние он нажил спекуляциями, за которые, между прочим, однажды был арестован в Нью-Йорке.
Став госпожой Онассис, «первая вдова Америки» поселилась на собственном острове, купленном новым мужем. Она катается на яхте, настоящем плавучем дворце, где ванны из мрамора, краны из чистого золота, а камин отделан драгоценной ляпис-лазурью. За салатом или свежей земляникой она может посылать личный самолет.
Говорили, что «первая вдова Америки» покинула страну, разочаровавшись в ней. Другие намекали, что это не брак, а союз ради больших денег. Писали и спорили по поводу свадьбы много и долго. А меня лично больше всего поразила маленькая газетная заметка: «Миссис Жаклин Кеннеди (ныне Онассис) не понравился свитер, который подарил ей ее муж Джон Кеннеди на рождество десять лет назад. Она отправила свитер в магазин вместе с письмом, в котором потребовала вернуть ей 17 долларов. Письмо оказалось намного ценнее свитера: на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе оно было куплено за 200 с лишним долларов».
Такова Америка…
Америка, где уживаются поразительный размах и унизительная мелочность. Америка, которая благополучно отправляет космонавтов на Луну и в которой человек, гуляющий по Центральному парку самого большого города, не уверен в благополучном возвращении домой. Америка, где короли гангстеров устраивают пресс-конференции, а сторонники мира оказываются за решеткой. Америка сложная, противоречивая, где много отталкивающего и много поучительного, — Америка, которую нужно знать, чтобы понять сегодняшний день капиталистического мира, у которого нет будущего, достойного Человека.
Это было в Ираке
Рай на земле, как утверждали легенды, находился вблизи библейских рек, Тигра и Евфрата. Это, понятно, более чем спорное утверждение.
Но зато бесспорно, что именно здесь грозно высились стены Вавилона, благоухали сады Семирамиды и величественный храм «основания небес и земли» породил легенду о вавилонской башне.
На той же земле Междуречья — древний Багдад, столица современного Ирака, город «Тысячи и одной ночи», где главная улица носит имя героя сказок Шехеразады, халифа Харуна ар-Рашида.
И та же земля однажды на рассвете услышала пулеметные очереди. Ими началась революция, которая смела «черный режим» королевского Ирака. Автору книги посчастливилось пройти по ее горячим следам.
Путь иракской революции оказался трудным, и впереди было еще много жертв и трагических ошибок — о них тоже рассказывается в книге.
Ночь на четырнадцатое июля
Сказочный Багдад. — Халифы и визири. — Перестрелка у дворца Рихаб. — По горячим следам революции. — Смерть героев. — Авдей Иванович, потомок древних ассирийцев
Утомительный ночной полет. За окном лишь звезды да красный огонек на крыле. Где-то внизу, в непроглядной черной бездне, пустыня.
Около пяти часов утра свет прогнал тьму с непостижимой для северян стремительностью. Предрассветная полумгла не продержалась и пяти минут. Обозначились серебряные извилины реки. Это, конечно, Евфрат. Видны и каналы, по которым река делится водой с желтовато-серой пустыней.
Снова серебро на горизонте: Тигр! Под нами поплыло самое узкое место Междуречья, где у сближения рек и на перекрестке караванных путей тысячу двести лет назад встал Багдад.
Пошли на посадку.
В вокзале багдадского аэропорта ни одного человека в штатском. У дверей часовые. Чиновник протянул бланк. Я заполнил; чиновник привычно следил за моей рукой. Графа: «Гражданство». Пишу: «СССР».
— Руси?! — вскричал чиновник.
Разорвав бланк, он бросил обрывки в корзину: к чему, мол, формальности! Ведь в Ираке революция!
Революция 14 июля 1958 года. Революция в стране библейских рек. В стране, где прошлое упрямо и долго не хотело уступать дорогу новому. Она только что произошла, эта революция, и вот по горячим следам событий я в Багдаде, в сказочном Багдаде…
Но где же ты, город «Тысячи и одной ночи», где твои роскошные дворцы, пышная зелень, томное журчание фонтанов? Мне казалось, что дорога из аэропорта идет по окраинам, что вот-вот кончатся невзрачные серые дома и где-то за поворотом откроется всяческое великолепие.
Шофер остановил машину возле двухэтажного небольшого здания. Это была гостиница, носящая имя сказочного Синдбада-морехода. Центр города?!
Да, похоже, что так.
После бессонной ночи хорошо бы поспать часика три. Да разве заснешь? Ведь какая редкая для писателя удача: увидеть страну в первые послереволюционные дни, когда все в движении, когда одни ликуют на улицах, а другие прячутся по особнякам, когда одни полны надежд, а другие уже готовят заговоры! Увидеть страну, начинающую ломку старого, отжившего, и застать еще это старое, потому что оно не исчезает сразу, оно сопротивляется всеми силами…
Но это общие рассуждения. А как все в жизни, как люди живут, что говорят, что чувствуют, чего ждут от завтрашнего дня?
Дворик-сад моей гостиницы выходит на берег Тигра. Неподалеку мост. Оттуда, наверное, виден весь город.
Иду, прикрыв ладонями голову от огня, льющегося с неба. Под мостом ленивые зеленоватые струи.
С реки город довольно невзрачен. Минареты, купола мечетей, несколько высоких зданий, но больше двухэтажные и даже одноэтажные дома. Мало деревьев, и пальмы не яркие, а серовато-зеленые, будто покрытые пылью.
Усатый полицейский в белом блестящем шлеме дважды проходит мимо. Ему явно не нравится, что иностранец долго задержался на мосту и чего-то высматривает. С виду полицейский старый служака.
Прошел еще раз, остановился за моей спиной, покашливает. Смотрит, как и я, на вытянувшиеся далеко от берегов желтые языки кос. До чего же обмелел Тигр! К нефтеналивной барже, стоящей почти посередине реки, бредут трое парней с узелками одежды на голове. Они зашли уже далеко, а вода им только по пояс.
— Сэр! — произносит полицейский. В его тоне полувопрос, полуприказ.
Я понимающе киваю головой: сейчас, мол, уйду, не беспокойтесь.
— Как называется этот мост?
— Мост павших борцов. — Полицейский пристально смотрит на «сэра».
Мне кажется, что явно новое, послереволюционное название моста он произносит с гордостью, почти с вызовом. Полицейский, сочувствующий революции? Или в тоне его ответа желание увидеть замешательство «сэра»? Иностранцы никогда не приходили в Ирак как друзья. Это знают даже полицейские.
С моста поток машин и пешеходов вливается в улицу Рашида. Возвращаюсь по ней. Это главная улица Багдада. Узкая, в каком-то горячечном движении автомобилей, она заставлена конторами, магазинами, лавками, лавчонками, загромождена разложенными прямо на тротуарах товарами уличных продавцов, пропахла бензиновой гарью и застоявшимися в безветрии испарениями большого тесного города.
У подъезда гостиницы вдруг слышу:
— Ну, как вам Багдад?
Фраза произнесена по-русски. Смуглый молодой человек наслаждается моей растерянностью.
Корреспондент «Правды» Павел Демченко на Востоке считался уже в некотором роде старожилом, свободно говорил по-арабски. В Ирак прилетел немедленно после революции. Он предложил мне помощь в незнакомом городе.
Мы поехали в Дом радио. Вход в длинное одноэтажное здание охраняли пулеметчики. Ослепительно и чуть виновато улыбаясь — ничего не поделаешь, время тревожное, — караульный быстро провел рукой по моим карманам: нет ли оружия.
В небольшом кабинете, где бросалась в глаза циновка с пестрым павлином, нас встретил руководитель радиовещания, которому поручили опеку иностранных корреспондентов. Он предупредил, что путешествовать по стране пока трудно. Лучше поехать с каким-нибудь военным: теперь народ верит людям в армейской форме.
Из Дома радио мы направились в «Багдад», лучший отель города. Там в киоске продавались карты и путеводители. Этот отель, сказал Демченко, раньше был заповедником богатых иностранцев: искусственно охлажденный воздух, бар, виски со льдом, ресторан с европейской кухней. Говорят, что один джентльмен прожил в Багдаде полтора месяца, проведя вне этой гостиницы около часа — столько, сколько занимала дорога с аэродрома и на аэродром.
Мы сделали большой круг по городу. В узких старых улицах над тротуарами нависали подпертые деревянными колоннами вторые и третьи этажи домов. Потом были южные пригороды, где в тени финиковых пальм стояли виллы багдадских богачей и иностранных дельцов. Из восточной левобережной части города — ее называют ар-Расафа — по мосту переехали в правобережный район аль-Кярх. Несколько довольно красивых, обсаженных пальмами улиц как бы старались отвлечь внимание от тесноты и убожества кварталов старого Багдада.
Более близкое знакомство с городом только укрепило первое впечатление. Багдад действительно был довольно невзрачным городом, грязноватым и беспорядочным.
Несколько лет спустя я узнал уже другой Багдад, со строгой аркой и вечным огнем над могилой неизвестного солдата, с монументом в память революции, с первыми высотными домами, с весьма современным зданием счетно-вычислительного центра на улице Свободы. Над улицей Рашида появились прямоугольники стекла и бетона, какие увидишь во всех городах Европы, улица Саадуна застроилась кинотеатрами, магазинами, банками.
Но в 1958 году почти ничего этого не было. Правда, та же улица Саадуна существовала и тогда, но это был всего лишь широкий проспект с бульваром и живой стеной кустарника, отделявшей проезжую часть от двухэтажных домов, а кое-где — от пустырей. «Черный режим» и в столице страны обнажал свое убожество, свою отсталость от века.
Я видел до первого приезда в Ирак не очень много стран. И почти всюду действительность разрушала книжные представления. Все оказывалось более будничным, менее привлекательным, чем рисовало воображение…
Прошло несколько дней — поездки, встречи, знакомства. Я выбрал вечер, чтобы привести в порядок свои записи. Разложил на столе карты, планы и книжки с яркими обложками, где над неправдоподобно прекрасным Багдадом летали волшебные ковры-самолеты с туристами. Постарался представить себе страну, о которой мы тогда знали очень мало.
Итак, она начинается на юге узким клинышком, омываемым водами Персидского залива. Здесь впадает Шатт-эль-Араб, образованный слиянием Тигра и Евфрата. Вверх по реке морские корабли доходят до города Басры. Якорь на карте означает, что Басра — важный морской порт.
За Басрой клин резко расширяется. Между пересекающими всю страну Тигром и Евфратом, то расходящимися далеко Друг от друга, то сближающимися снова, лежит Месопотамская низменность. Слово «Месопотамия» можно перевести как «междуречье».
В узком месте междуречья — Багдад. Если бы карта была «немой», то и тогда можно было бы сразу найти его: туда стянуты, там перекрещены речные, железные, шоссейные, воздушные дороги.
Севернее столицы — полупустыня, сухие холмистые степи, переходящие в предгорья, где растут дуб и платан, а на полях зреет пшеница. Еще дальше, в северо-восточном углу страны, поднимаются уже настоящие горы, зимой забеленные снегом.
Главное богатство Ирака долгие годы было причиной бедствий и страданий иракского народа. Это — нефть. Она есть и возле Басры, и неподалеку от Багдада, и севернее — вблизи Мосула и Киркука. Нефть привлекла в страну иностранные капиталы и иностранных солдат. Добывали ее иракские рабочие, а распоряжались ею английские, американские, французские нефтяные «короли».
Ирак — это четыре пятых всех фиников, потребляемых на земном шаре. Есть в стране хорошо плодоносящие сады, превосходные пастбища, изобилующие рыбой реки. Одним словом, вовсе не беден Ирак. Однако до последнего времени арабы и курды, населяющие его, жили плохо, бедно и не дружно.
Курды, составляющие примерно пятую часть жителей страны, при королевском режиме были угнетаемым национальным меньшинством. В 1943 году они восстали. Английские генералы повели против повстанцев иракскую армию. В родных горах на севере курдские отряды показали чудеса храбрости. Королевское правительство было вынуждено заключить перемирие, но потом вероломно нарушило его, смета с лица земли десятки курдских селений. С тех пор королевский режим всячески старался натравливать арабов на курдов, разжигать национальную рознь.
А что было делить двум народам? Оба жили в нищете. И в арабских и в курдских деревнях из каждых десяти детей шестеро умирали в дошкольном возрасте. Средняя продолжительность жизни иракца не превышала 26–27 лет. Пять — семь веков назад в Междуречье жило гораздо больше людей, чем живет сейчас!
Четыре столетия страну давило турецкое иго. После первой мировой войны турок сменили англичане. Поскольку с древних времен в Багдаде управляли халифы, султаны и короли, новые хозяева не стали нарушать традицию. Они подыскали подходящего молодого человека из знатного арабского рода. Посадить его на трон было в 1921 году поручено английскому подполковнику Вильсону и английской разведчице Гертруде Белл. Две фразы из ее опубликованного позже дневника обиженный монарх, которого при коронации назвали Фейсалом I, не мог забыть до конца своих дней: «Мы пережили ужасную неделю… Я никогда не буду больше браться за производство королей, это требует слишком большого напряжения».
При Фейсале I и вынырнул в Ираке Нури Саид. Офицер турецкой армии, запутавшийся в темных делах, он тайком бежал из Стамбула, оставив записку, что решил покончить жизнь самоубийством. Нури Саид попал к англичанам. Сам сэр Лоуренс, знаменитый английский разведчик, Лоуренс Аравийский, стал выводить его «в люди». На Нури Саиде появились генеральские погоны, его стали называть сэром и пашой.
А народ дал ему еще один титул: «кяльб-ибн-кяльб». Это переводится как «собака, сын собаки», или, проще, «сукин сын».
В Ираке менялись короли и правительства. Нури Саид сохранял влияние и власть. Король Гази попытался было отстранить пашу, но не успел: с королевской машиной произошла загадочная катастрофа, причем не на оживленной улице, а в тихом дворцовом парке. Много лет спустя узнали, что подкупленный Нури Саидом слуга оглушил ударом по голове короля, сидевшего за рулем. Машина врезалась в дерево. Слуга отделался ушибами, король погиб.
Сыну короля, наследнику престола, было четыре года. Правителем назначили его дядю, принца Абдул Иллаха. Принца знали под кличкой «Жокей»: он проводил целые дни на ипподроме. Этот человек бешеного, необузданного нрава охотно подписывал смертные приговоры, подготовленные Нури Саидом. Приговоренных вешали на арке перед зданием министерства обороны. Абдул Иллах приезжал туда по утрам, чтобы плевать на трупы. Палачи редко сидели без дела. Нури Саид говорил своим приближенным:
— Не отступайте перед улицей, открывайте огонь без колебаний, пока не замолчит тот, кто должен молчать, и не умрет тот, кто должен умереть. У нас в Ираке шесть миллионов человек. Мы не много потеряем, если уничтожим один миллион.
Нури Саид, Абдул Иллах и достаточно подросший для исполнения несложных королевских обязанностей молодой Фейсал II — вот тройка, которую называли «арабами ее величества», то есть королевы Великобритании.
«Арабы ее величества», властвовавшие в Багдаде, не походили на багдадских властителей из «Тысячи и одной ночи».
Вспомним: халиф Харун ар-Рашид (кстати, личность вполне историческая), призвав однажды ночью своего первого министра — визиря Джафара, сказал, что хочет пойти в город, чтобы расспросить народ о поведении властвующих правителей.
— Всякого, на кого пожалуются люди, мы отставим, а кого похвалят — наградим, — сказал халиф.
— Слушаю и повинуюсь, — склонил голову визирь. И, никем не узнанные, они в сопровождении верного слуги отправились по багдадским улицам и рынкам.
Нури Саид никогда не отвечал королю: «Слушаю и повинуюсь». Напротив, первый министр приказывал, а король покорно склонял голову: он не забыл, как погиб его отец. Фейсал II, в отличие от Харуна ар-Рашида, не смел сказать Нури Саиду: «О собака среди визирей», хотя тот заслуживал этого куда больше, чем сказочный визирь Джафар.
Не в пример героям «Тысячи и одной ночи» Фейсал II, Нури Саид и Абдул Иллах ни ночью, ни среди бела дня не ходили по узким багдадским переулкам и тесным рынкам. За полчаса до проезда «арабов ее величества» на тротуарах и перекрестках появлялись личности, внимательно рассматривавшие прохожих. Багдадцы легко определяли, кто именно должен промчаться по улице в охраняемой машине: если «личностями» хоть пруд пруди, значит, жди «пашу-злодея», если их поменьше — едет Абдул Иллах, еще меньше — король.
Расспросы же об отношении к властвующим правителям последние багдадские халифы и визири поручили 24 тысячам платных агентов тайной полиции. Недовольных хватали и тащили в суд.
И вот тут-то их судьба напоминала порой судьбу некоторых героев «Тысячи и одной ночи»: ведь в давние времена непокорных тоже вешали…
* * *
«Из аэропорта вы должны будете пройти через новый вокзал, который почти готов и в котором помещаются железнодорожные учреждения.
Первая площадь, на которую вы попадете, будет Музейная площадь… Затем вы проследуете на улицу Фейсала I, декорированную пальмами… Улица Фейсала I ведет на площадь Фейсала I, где стоит памятник первому королю современного Ирака, королю Фейсалу I. Улица слева ведет к Британскому информационному бюро и британскому посольству. Следуя дальше по улице Фейсала I, вы достигнете моста Фейсала I. Пересекши его, очутитесь на площади Фейсала II».
Путеводитель, где было написано все это, еще продавался в книжных и табачных лавках Багдада: новый не успели составить. Но уже не было ни улицы Фейсала I, ни площади его же имени, ни памятника, где тот же король на манер древних героев восседал в классической позе на бронзовом коне…
Хроника революционных событий 14 июля 1958 года, когда был сметен старый «черный режим» и сорваны таблички со старыми названиями улиц, необычайно проста и коротка: от первых выстрелов, возвестивших революцию, до ее победы прошло всего два часа!
Вот как это было.
Девятнадцатая и Двадцатая бригады иракской армии получили приказ Нури Саида — выступить из летних лагерей. Девятнадцатой бригадой командовал полковник Абдель Керим Касем, возглавлявший тайную организацию «Свободные офицеры».
Обычно войскам не давали боевых патронов и снарядов, но на этот раз части, выступавшие в поход, получили то и другое. Маршрут проходил через Багдад. Полковник Касем и его единомышленники связались с революционным подпольем.
Вечером, когда войска шли к Багдаду, королевский дворец Рихаб ярко освещали огни. В саду, по аллее, ведущей к беседкам из живых растений, и возле освежавшего духоту фонтана, прогуливались придворные и дипломаты: король Фейсал II устраивал прием.
Среди гостей был и Нури Саид. Последние годы он редко надевал генеральский мундир, предпочитая обычный темный костюм. Твердый белый воротник плотно охватывал старческую морщинистую шею: в жарком Багдаде Нури Саид подражал своим лондонским друзьям.
Скуку дворцовых приемов несколько рассеивала семнадцатилетняя принцесса Фазилет и ее двоюродный брат, принц Мухаммед Намык. Свадьба короля с Фазилет считалась решенной, и принц приехал для того, чтобы окончательно договориться. Этот родственник бывшего турецкого султана слыл за весьма делового человека и был известен как представитель нескольких швейцарских торговых фирм.
За полночь роскошные машины стали развозить гостей. На аэродроме механики готовили самолет. Нури Саид и король должны были рано утром вылететь в Стамбул на совещание. И в эти же сонные полуночные часы к Багдаду подошла первая рота восставших.
В четыре часа утра броневики и автомашины с солдатами растеклись по безлюдным темным улицам, ведущим к дворцу, к дому Нури Саида, к радиостанции, почтамту, полицейскому управлению, министерству обороны.
Короля разбудил шум моторов. Кто-то по ту сторону дворцовой ограды требовал, чтобы он отрекся от престола в пользу республики.
— Стреляйте, стреляйте по ним! — закричал король.
Гвардейцы открыли огонь. Принц Абдул Иллах, выглядывая в окно, стрелял из маузера.
— Сдавайтесь, сопротивление бесполезно! — прокричали из-за ворот.
Вслед за тем по дворцу ударила пушка.
Гвардейцы побросали оружие. Говорят, Фейсал тоже хотел сдаться, но Абдул Иллах дал ему пощечину и, отстреливаясь, бросился к автомашине, стоявшей во дворе.
Машина не завелась. Тогда королевское семейство кинулось в кусты у фонтана. Абдул Иллах успел выпустить еще несколько пуль, прежде чем пулеметная очередь покончила с ним и с королем.
— Вот отсюда стреляла пушка!
Лейтенант республиканских войск показывает место у дороги. Дворец Рихаб рядом, он скрыт листвой эвкалиптов. Мимо часового проходим во двор через железные ворота с обломанными коронами.
Дворец представлялся мне роскошным зданием в том стиле, который у нас называют восточным. Ничуть не бывало! Большой особняк, вполне подходящий для какого-нибудь миллионера средней руки.
Дворец уцелел. Лишь одна из колонн, поддерживающих портик, обнажила погнутый металл с, нависшими кусками бетона. Выбита часть оконных переплетов, дым пожара закоптил стены над окнами второго этажа.
В стороне от входа лежит на «брюхе» кузов обгоревшей машины Абдул Иллаха.
— Вот тут эту собаку достала пуля. — Лейтенант показывает на живой заборчик из подстриженных кустов.
Внутри дворца пусто. Кое-где с потолка свисают искореженные пожаром железные балки. Под ногами хрустят обломки стекла, в прах рассыпается оббитая штукатурка.
Все стены исписаны. Тут и проклятия предателям, и предостережения тем, кто попытается мешать народу. «Изменникам — только смерть!», «Он дождался своей участи!», «Каждого изменника ждет то же!»
А в зале, где король совещался с приближенными и дипломатами, — огромные буквы: «Смерть империализму!»
Но вернусь к событиям 14 июля.
В 6 часов утра тот, кто включил радио Багдада, услышал взволнованный голос:
— Благородный иракский народ! В тесном сотрудничестве героический народ и его доблестная армия освободили нашу дорогую родину от власти преступной клики, отдавшей страну и ее богатства в руки империалистов!
Через пять минут весь Багдад был на ногах.
— Братья! — продолжал тот же взволнованный голос. — Победа может быть полной только при поддержке народа!
Радио звало народ на улицы — защищать дело революции, обезвреживать ее врагов. И прежде всего люди задавали друг другу вопрос:
— Где Нури Саид! Где старый пес? Убит или за решеткой?
А он ускользнул! Один из тайных агентов успел по телефону предупредить злодея о странном передвижении войск. Нури Саид не знал, верить или не верить агенту.
Разговор оборвался на полуслове: к воротам подошли автомашины с солдатами. Но владелец успел покинуть дом. Утверждали, что Нури Саид воспользовался тайным ходом, пока восставшие перестреливались с часовыми и телохранителями.
Дом Нури Саида стоит среди финиковых пальм на самом берегу Тигра. На крыше башенка, с узким, напоминающим бойницу, окном. Там был пост охраны.
Снаружи дом пострадал меньше, чем королевский дворец. Даже деревянные жалюзи на окнах целы, а пули лишь повредили изразцы фасада и изрешетили двери.
Хожу по комнатам.
Колонны красноватого полированного мрамора подпирают потолки. Старинная мебель свалена по углам. Гардеробная способна вместить костюмерную небольшого театра.
На второй этаж хозяин поднимался в бесшумном большом лифте, какие ставят в дорогих гостиницах. В кабинете Нури Саида массивнейший стальной шкаф — не сейф, а именно шкаф. Его дверка разрезана, оплавлена. Многое хранил этот шкаф на своем веку — нити заговоров против арабских народов тянулись в особняк на берегу Тигра.
Но где подземный ход, которым воспользовался Нури Саид?
— Я думаю, его нет и не было, — говорит лейтенант. — У багдадцев живое воображение. Ну подумайте сами, зачем было рыть подземный ход к берегу, если до реки десяток шагов?
Лейтенант считает более вероятным, что Нури Саид выскочил к Тигру, нашел неподалеку рыбака и, угрожая оружием, заставил грести к другому берегу…
Ранним утром 15 июля из дома одного богача вышли три женщины в черных платьях. Их лица были скрыты чадрой. Они сели в машину и доехали до Южных ворот. Одна из них подошла к дому и позвонила. Дверь открылась, но сейчас же резко захлопнулась перед гостьей. Та, неуверенно покружив по улице, спросила у игравшего мальчугана, как пройти к дому известного феодала. Мальчик показал дорогу, но его удивило, что у незнакомки мужской голос. Он внимательно смотрел вслед «тете». Порывы ветра раздували полы ее платья. Мальчуган закричал на всю улицу:
— Смотрите, смотрите! Штаны!
Женщина бросилась бежать. Мелькали голубые в полоску брюки пижамы.
Когда толпа прижала Нури Саида к стене дома, он отстреливался из двух револьверов. Подоспели автоматчики.
— Не стреляйте, я старая больная женщина! — завопил Нури Саид, увидев, что дело плохо.
Труп диктатора сожгли в пылающей нефти…
* * *
— Да, «черный режим» был сметен за два часа, — говорит Альяс Дауд. — Но к ним надо прибавить еще четыре десятка лет. Так вернее.
Альясу Дауду лет тридцать, может, немного больше. Однако он прошел и через подполье и через эмиграцию. Вон сколько седины на висках.
— Я был совсем маленьким, когда отец стал брать меня в чайхану. Там играют в «шеш-беш» — у вас, я слышал, тоже есть эта игра, только ее называют «нарды», — но отец любил поговорить, поспорить о политике. Очень его уважали в чайхане. Его и еще одного медника. Тот дрался с колонизаторами в тысяча девятьсот двадцатом году; потерял три пальца на левой руке, и шрам у него был от брови до темени.
Да, так вы говорите: два часа. Нет, считать надо с семнадцатого года. Для вас он был годом освобождения, для нас — началом новой борьбы. Когда англичане пришли в Ирак, они говорили, что лишь помогут нам прогнать турок. Турок прогнали, англичане остались. Спустя несколько недель начались восстания феллахов. Потом англичанам пришлось усмирять курдов и бедуинов. Чтобы напугать народ, каратели сожгли все деревни по дороге на Мосул. У вас тогда тоже не было спокойно — я знаю, англичане расстреливали ваших комиссаров. А когда вы прогнали англичан, у нас поняли, что враг не так страшен. Началась наша бессмертная национальная революция тысяча девятьсот двадцатого года.
Альясу Дауду с детства запомнились рассказы человека со шрамом о том, как восемьдесят тысяч хорошо обученных английских солдат отступали перед вооруженной чем попало армией свободы. Отряды революции освободили большую часть страны, они почти окружили Багдад, когда феодалы и вожди племен, напуганные победами «черни», стали предавать крестьян — феллахов, переходя на сторону врага.
— Пять месяцев героической народной борьбы посеяли семена свободы. Мы подсчитали — с тех пор наши повстанцы сто шесть раз поднимались против угнетателей. И, наконец, революция четырнадцатого июля…
Альяс Дауд бережно достает из кармана фотографию:
— Снято в тюрьме. Видите, человек в ножных кандалах. Это товарищ Юсуф Сальман Фахед, Генеральный секретарь Коммунистической партии Ирака. Его повесили четырнадцатого февраля тысяча девятьсот сорок девятого года.
Альяс Дауд говорит спокойно, но возле глаза нервно подергивается кожа.
Юсуфа Фахеда два года держали в застенках. На суде он сказал: «Мы, коммунисты, являемся врагами империализма и будем бороться с ним». Его повесили в Багдаде вместе с ближайшими товарищами по партии. Когда Фахеду накинули петлю на шею, он успел крикнуть: «Коммунизм сильнее смерти!»
Партия боролась в подполье. Трусы и слабые духом в нее не шли: коммунист знал, что для него готова тюрьма или пуля.
— Народ нам верит, потому что наши люди шли за народ на казнь. — Альяс Дауд смотрит на фотографию человека в кандалах: — А он не дожил…
* * *
Меня удивляло в Багдаде обилие новых мостов. Как-то, переехав Тигр по одному из них, мы сразу попали в страшную тесноту переулка. Я спросил, почему к такому хорошему мосту не сделали приличного подъезда.
— Не заплатили, — кратко ответил спутник.
— Кому?
— Тому, кому следовало. Здешние мосты ведь «золотые»: стоят столько, будто их делали не из железобетона, а из золота, Даже цемент привозили из-за границы.
— Так зачем же было строить?
— Министр получил от иностранной фирмы, строившей этот мост, такой подарок, что мог бы уйти в отставку и жить на проценты с капитала.
Он добавил, что другие министры скупали земли в пустыне, а потом утверждали проекты их орошения за счет государства. Кроме «золотых» мостов, строили «золотые» плотины. Они задерживают воду при наводнениях, но эта вода не вращает ни одной турбины в стране, где во многих местах не видели электрического света.
Среди новых зданий Багдада выделялся огромный вокзал. Ему недоставало «пустяка»: настоящей железной дороги. Кто-то положил в карман круглую сумму, а под вокзальными сводами застучали машинки канцелярий.
Во многих кварталах Багдада нет водопровода и канализации, улицы окраин тесны и запущены, почти треть горожан нуждается в жилье. Но Фейсаду II казались тесными не хижины бедноты, а дворец Рихаб. Он строил новый, роскошный.
К этому дворцу меня повел мой новый багдадский знакомый, Он ассириец. В Ираке ассирийцы, армяне, турки, иранцы относятся к национальным меньшинствам.
Зовут моего знакомого Авдеем Ивановичем. Вернее, его зовут Авдышу, но он просил, чтобы я называл его тем именем, которое было у него очень давно, еще во времена нэпа, когда он жил в нашей стране.
Обычно наша память связывает ассирийцев с картинами учебников истории, с грозными воинами древности, с боевыми колесницами, с завоевательными походами.
Однако современные ассирийцы, или айсоры, — народ вполне мирный. Они обитают не только в Ираке, но и в других странах. У нас в Закавказье есть ассирийские колхозы; на ассирийском языке издаются книги. Авдей Иванович жалеет, что я не захватил с собой хотя бы самую тоненькую книжицу…
По стариковской привычке Авдей Иванович рассуждает вслух. «Отчего нельзя — можно», — к месту и не к месту вставляет он. Ему хочется, чтобы гостю было приятно. Он сначала переводил так, что получалось, будто все встречные ужасно однообразно и нудно изъясняются в давней и пылкой любви к русским. Только после моих просьб Авдей Иванович стал переводить точнее и лишь временами сбивался снова на приторную сладость.
Мы с Авдеем Ивановичем много ходили по городу. Обычно выйдя из гостиницы на улицу Рашида и величественным жестом отклонив услуги шоферов такси, углублялись в кварталы Багдада по следам Харун ар-Рашида.
На этот раз идем кривобоким переулком под выступами балконов. Где переулок пошире, там торговля. Товар лежит на разостланных в пыли циновках. Возле торговцев понурые ишаки.
Неожиданно выходим на уличный простор, редкий для городов старого Востока. Эту улицу проломали в бестолковщине и тесноте старой глиняной застройки. Ее покрыли асфальтом, но на ней самые что ни на есть неприглядные домишки. Раньше они прятались внутри кварталов. Некоторые были обломаны наполовину при прокладке улицы. Так и стоят.
— Нури Саид и король ехали вместе, я видел, — бормочет Авдей Иванович. — Король разрезал ленточку, ножницы золотые… Музыка тоже была, без музыки нельзя.
Нури Саид вознамерился увековечить себя в названии этой улицы. Теперь с домов-калек содраны старые таблички с его именем. Отныне это улица Свободы.
Снова углубляемся в лабиринт замусоренных переулков. Сколько мух — и какие! Наши мухи — образец деликатности в сравнении с багдадскими. Эти прямо-таки липнут к тебе, будто тебя намазали смесью клея с медом.
Возле двери каждого дома желобок. Из него течет грязная вода, выливаемая после мытья посуды и прочих хозяйственных дел. Она стекает в канавку посредине улицы, а по ней — к поглощающему колодцу на перекрестке. Так же сочились дома и во времена Харун ар-Рашида. Теперь муниципалитет Багдада обещает столице современную канализацию.
В узком просвете переулка голубоватая глазурь купола знаменитой мечети Гайлани. Вокруг еще купола, высокий минарет, украшенный изразцами. К ограде мечети, занимающей целый квартал, лепятся лавочки, чайные, мастерские ремесленников. В соседних улочках изготовляют медную и глиняную посуду, ткут ковры, шьют седла, чеканят серебро и тут же продают свои изделия.
Авдей Иванович не бывал в мечети Гайлани: ассирийцы исповедуют христианство.
— Много, много религий, — бормочет он. — Ислам, конечно, главная. Кто хочет молиться по-другому — отчего нельзя, можно и по-другому. У багдадских христиан свои церкви. А о езидах слышали? Дьяволу поклоняются. Дьявол-то, по-ихнему, он вроде царя ангелов, только бог назначил ему испытание. Если кто плюнет при езиде на землю, тот ему худший враг, потому что, значит, оскорбил дьявола, который под землей сидит, в преисподней…
Опять сворачиваем в какую-то улочку и оказываемся среди лавок, где в витринах серебро и золото. Это улица ювелиров.
В каждой лавочке-мастерской восседают старцы, похожие на библейских патриархов. Лица самые благообразные, седые бороды по пояс, недостает только посоха.
Но в глазах этих патриархов мирская суета. Бороды прячутся за ювелирные верстачки. Массивные несгораемые шкафы солидно поблескивают никелированными ручками в глубине мастерских.
Интересно, для чего предназначены крохотные браслеты, украшенные десятками золотых горошинок-бубенчиков?
Бородач, заметив интерес иностранца, встряхнул браслет. Бубенчики зазвенели тихо и мелодично, будто рассмеялся кто-то очень маленький и звонкоголосый.
— Пусть веселится сердце отца, — сказал патриарх и добавил деловито: — Тридцать пять динаров.
Браслеты покупают для новорожденных. Когда младенец, играя, сучит ножками, из колыбели несется тихий звон. Но чтобы сердце отца могло возвеселиться, он должен быть обладателем толстого бумажника: браслет стоит столько, сколько крестьянская семья не заработает и за год.
Почему, однако, все ювелиры бородаты? Что это — профессиональный обычай? Авдей Иванович выразился в том смысле, что почему, мол, нельзя носить бороды, это можно. Но ответить по существу не смог и вступил в разговор с патриархом. Они говорили долго и горячо; мой спутник зачем-то перекрестился, но бородач отрицательно замотал головой. Мне послышались слова: «баптист», «халдей», «сабей».
Потом я узнал, что патриархи принадлежат к древней народности сабейцев, считающих себя и последователями первых христиан, и наследниками древних вавилонян. У каждого из них есть обычное имя и второе, «звездное», которое показывает, под каким знаком Зодиака родился человек. Сабейцы с давних пор передают из поколения в поколение тайны ювелирного мастерства. Никто на Востоке не может сравняться с ними в чеканке серебра.
Мы пошли дальше, и Авдей Иванович долго еще бормотал себе под нос, продолжая, видимо, религиозный спор с патриархом.
Улица кончилась. Я развернул туристский план Багдада. Мы пришли как раз туда, где на плане был нанесен жирный черный пунктир. Он обозначал границу города. А перед глазами тянулись кварталы глинобитных домишек и совсем уже жалких лачуг. Начался район сарифов.
Вообще говоря, «сариф» в переводе с арабского — просто «хижина». Но слово это означает деревенскую нищету на городской земле. Самодельные лачуги, сложенные из всего, что попало, под руку: из кусков жести, битых кирпичей и, конечно, прежде всего из глины, — кольцом окружали крупные города Ирака. Здесь жили те, кого нужда, безземелье, голод выгнали из родных деревень.
Старый режим впихнул в трущобы окраин пятую часть миллионного населения Багдада. У многих обитателей сарифов не было постоянной работы. Они жили в своих конурах, не зная, будет ли у них кусок лепешки на утро.
Сколько же предстоит сделать, чтобы жители Ирака зажили, наконец, по-человечески?
Да, революция свершилась. Но я вспоминал нашу Февральскую революцию. Что было бы, если бы за ней не последовал великий Октябрь? В феврале 1917 года народ сбросил царя, однако капиталисты и помещики остались.
После событий 14 июля в Ираке тоже не стало короля и «паши-злодея». Найдутся ли на иракской земле силы, думал я, которые помешают феодалам и капиталистам использовать революцию только в своих корыстных целях?
Путь к Вавилону
Ева-стрит и Адам-авеню. — «Врата бога». — Висячие сады Семирамиды. — Кусок Вавилонской башни. — Клеймо царя Навуходоносора. — Что испугало газель тысячу шестьсот лет назад?
Дорога уходит из Багдада в сухую степь. Земля пышет жаром. Злые смерчи бегут по степи. Мельчайшая желтая пыль носится в воздухе, и горизонт теряется в ее дымке.
Наша степь — раздолье равнины в пышном цветении трав, серебряные волны ковыля, звонкий жаворонок в синеве. Степи Ирака зелены лишь после зимних дождей. За долгое лето они прокаливаются так, что редкие пучки иссохшей сероватой травы не шелестят, а звенят, как жестяные, под ударами ветра.
В стороне от дороги — стадо тощих верблюдов. Длинные, открытые ветрам шатры и палатки темнеют в ложбине. Ветер стелет над землей дым костров. Это становище бедуинов, кочевых арабов.
Чепуха, будто бедуины — вольные сыны пустынь и степей. Верно, они не привязаны к одному месту: сегодня здесь, завтра там. Но гоняет их жестокая необходимость: верблюдам и овцам нужны пастбища, нужна вода.
С незапамятных времен верблюд кормил, поил и возил бедуина. Города арабского мира были связаны между собой лишь караванными путями, «корабли пустыни» бесконечными вереницами вышагивали с путниками и кладью.
Не было в пустыне более опытных проводников, чем бедуины. Верблюды в те времена очень ценились. Хороший верблюд был гордостью хозяина, он стоил дороже арабского скакуна. Не счесть песен и ласковых выражений, превозносящих достоинства сильного, выносливого животного. При нужде бедуины всегда могли продать часть стада скупщикам. Главный верблюжий рынок всех арабских стран был в Багдаде, и тысячи людей — их называли «векили» — жили барышничеством, обманывая доверчивых бедуинов.
Но пришел век железных дорог, через пустыню помчались по асфальту автомашины. Цены на верблюдов снизились, и, понятно, это не обогатило кочевников.
Будь пригодная земля, бедуины могли бы перейти к оседлой жизни. Но земля у помещиков, у старейшин племен — шейхов, к ней не подступишься. И кочуют бедуины со своими стадами так же, как их предки кочевали в далекую пору средневековья. Разница только в том, что стада бедняков сильно поредели и что все чаще «вольный сын пустыни» превращается в пастуха овец и верблюдов разбогатевшего шейха племени.
Шатры бедуинов чередуются в степи с деревушками феллахов. Возле придавленных к земле глинобитных хижин с плоскими крышами пристроены шалаши из пальмовых листьев либо из камыша. Хоть бы одно деревце, хоть бы один дом, поднимающийся над другими, — нет, все ровно, плоско, бедно, все покрыто пылью. А ведь библейские легенды называли Междуречье Тигра и Евфрата раем на земле!
Как бы угадав мои мысли, шофер, показывая на гряды невысоких бугров, смеется:
— Ева-стрит! Адам-авеню!
Правда, некоторые толкователи Библии считали Северную Индию тоже подходящим местом для рая, но большинство все же склонялось к тому, что первые человеки до грехопадения обитали именно на земле нынешнего Ирака. Утверждают, что райские сады находились возле слияния Тигра и Евфрата. Сомневающиеся могут увидеть там дерево, окруженное железной решеткой. Надпись туманно напоминает, что оно в родстве со священным древом праотца нашего Адама. Ботаники же находят в этом колючем дереве родство с обыкновенной аравийской акацией.
Мы с востоковедом Евгением Михайловичем Подвиги-ным, недавним гостем Ирака, едем как раз в ту сторону. По этой же дороге багдадские паломники направляются в Нед-жеф и Кербелу, чтобы поклониться гробницам мучеников Али и Хусейна.
Черту священных городков, построенных вокруг гробниц, имеет право переступить только мусульманин.
Может быть, вы слышали выражение «шахсей-вахсей»? Так на русском языке называются ежегодные торжественнотраурные церемонии в честь мусульманского святого Хусейна, убитого в Кербеле. Вероятно, это искаженное звучание арабских возгласов «шах Хусейн, вай Хусейн». В дни шахсей-вахсей люди ходят по улицам в черной траурной одежде, с черными знаменами, толпами собираются вокруг проповедников и актеров, изображающих сцены из жизни святого. Наиболее фанатичные бьют себя цепями и колют кинжалами, чтобы кровь, струящаяся из ран, напоминала о мучениях Хусейна.
Мы обгоняем автобусы с паломниками. Навстречу несутся как бы огромные охапки сухих пальмовых листьев, в которых поблескивают ветровые стекла кабин. Шофер кивает на грузовую машину, где вдоль борта чинно сидят трое, а посередине кузова возвышается нечто прикрытое тканями:
— Наверное, купил себе место.
Оказывается, по верованию мусульман, тот, кого погребут в городе, где покоятся останки святого, скорее попадет в царство небесное. С давних пор купцы еще при жизни покупали себе место для могилы в Неджефе или Кербеле. Богатеи не надеялись, что дела, которые они творили на грешной земле, откроют им дорогу в рай…
В местах, через которые везли труп умершего от заразной болезни, вспыхивали эпидемии. Теперь перевозить трупы можно только по особому разрешению. Должно быть, трое, везущие гроб на машине, получили такое разрешение.
Над степью обозначились между тем рощицы молодых финиковых пальм. Мы приближались к берегам Евфрата. Смутно угадывались следы заброшенных каналов, по которым река некогда поила степь. Блеснула вода в действующем оросителе. Феллах раздирал ссохшуюся землю деревянным плугом, который волочил тощий буйвол. Полуголая ребятня гонялась за лохматой собакой. Запахом жженой глины потянуло от кирпичного завода, поднявшего трубу возле дороги.
Наконец черная лента асфальта прорезала невысокий, далеко тянущийся вал земли. Неужели это остатки знаменитой внешней стены великого города?
Шофер сбавил ход. На развилке дорог стоял обыкновенный полосатый столб с указателем. Такие понаставлены и у нас вдоль шоссе. Они сообщают путнику, что, скажем, до Линьково еще тридцать один километр, а до поворота на Белый Яр осталось двести метров.
У этого дорожного столба на стрелке было буднично написано черными буквами: «Бабилон» (Вавилон).
Вавилон!
Колыбель одной из древнейших культур планеты Земля!
Дорожная стрелка показывала туда, где быль переплелась с легендой, где на заре истории жили жестокие деспоты и великие ученые, где придумали семидневную неделю и с высоты башен следили за ходом небесных светил, где царь Хаммурапи писал свои знаменитые законы и огненные знаки выступали на стене во время последнего пира Валтасара.
Там, куда указывала стрелка, еще в древнейшие времена светлые головы впервые разделили год на двенадцать месяцев и разбили круг на триста шестьдесят градусов. Там научились извлекать квадратные и кубические корни, умели возводить числа в степень, знали теорему Пифагора задолго до рождения Пифагора.
Мы повернули к Вавилону.
Я бы никогда не поверил, что до недавнего времени туда вел обычный пыльный проселок, если бы не видел этого своими глазами. Асфальтовые котлы чадили в жидкой тени пальм, рабочие укладывали камни: республиканское правительство приводило в порядок место, которое должно стать национальной святыней. Наверное, со временем будет построен и настоящий музей вместо домика, где теперь хранятся древности, найденные при раскопках.
Хаджи Омран, служитель музея, открывает дверь.
— Я рад людям из России, — говорит он. — Рад друзьям!
Он привычно начинает рассказ, уводящий нас в лабиринты истории. Господа, конечно, знают, что находятся на земле, где человек жил за тысячелетия до того, как пророк Мухаммед поведал миру откровение аллаха. Эта земля многое видела, и если собрать всю кровь и весь пот, которые пролиты в Ираке, то Тигр и Евфрат вышли бы из берегов, как в половодье. Великое множество народов жило и умирало на здешней земле, и только мудрые ученые знают, как назывались все эти народы.
Но о некоторых народах может рассказать и он, Хаджи Омран, простой служитель музея. Уже шесть тысячелетий назад — мысль человека неясно различает эту даль времен — в Междуречье жили шумеры. Они умели орошать землю, строить города. Создав клинопись, шумеры палочками на влажных глиняных дощечках оставили для потомков знаки. Так ученые узнали о шумерских богах и героях.
Я прерываю Хаджи Омрана: слышал ли он такое имя — Михаил Никольский?
— Нико… Никоски? — с трудом повторяет Хаджи Омран и отрицательно качает головой.
А впрочем, чему удивляться? Кто стал бы при старом режиме говорить служителю музея о талантливом ученом, о невероятно упорном и неистощимо терпеливом человеке из России, разгадавшем тайны надписей на глиняных табличках, найденных при раскопках шумерских городов.
— Никоски, Никоски… — бормочет Хаджи Омран.
Просим его продолжать рассказ.
Возвышение Баб-Илу, что значит «Врата бога», началось после того, как шумеры смешались с другими племенами. Это было не так давно, всего только четыре тысячи лет назад. Город Баб-Илу, или Вавилон, стоял на берегу Евфрата, и купцы с севера и юга торговали здесь зерном и рабами, медью и лесом. А где торговля — там и золото, где золото — там и сила.
— О, велика была сила и слава Вавилона, когда он стал столицей Междуречья! — Хаджи Омран почтительно закрывает глаза. — А возвеличил его Хаммурапи. Вот, не угодно ли взглянуть…
В музейной витрине фотография черного каменного столба, испещренного надписями. Сам столб хранится в Париже. Наверху выбито изображение Хаммурапи, принимающего законы из рук самого бога Солнца и правосудия. Двести восемьдесят два закона передал щедрый бог царю.
Прочитав те из них, которые не стерты с камня, можно представить жизнь Вавилона. Сильное царское войско, защищавшее купцов и рабовладельцев, держало в страхе жителей соседних стран. Законы требовали, чтобы на богатеев и чиновников работали земледельцы, ремесленники, клейменные раскаленным железом рабы. Законы определяли, как торговать рабами и за какие провинности владелец мог избить раба до полусмерти или отрезать ему ухо.
Хаммурапи царствовал три тысячи семьсот лет назад. У тех, кто сменил его на троне, не было, как видно, ни мудрости, ни твердости. Через полтора века после того, как на черном камне были выбиты законы, Вавилон пал под ударами армии касситов.
Потом в верхнем течении Тигра стала укрепляться военная держава — Ассирия. Ассирийцы и вавилоняне долго враждовали друг с другом. В конце концов Ассирия покорила Вавилонское царство. Мстительный и жестокий ассирийский царь в наказание за мятеж велел смести, срыть Вавилон с лица земли. Рушились стены, в груды мертвой глины были превращены храмы, обломками и землей засыпали каналы, где еще недавно струилась вода.
Конец могуществу Вавилона? Нет, не конец. Вскоре на берегу Евфрата опять поднялись стены, еще грознее прежних. Власть ассирийцев ослабла. Город стал столицей быстро набравшего силу Ново-Вавилонского царства. Начался новый его расцвет.
— А теперь, господа, посмотрим этот Вавилон, — пригласил Хаджи Омран.
Мы поднялись на пологий холм за музеем и… ровно ничего, кроме беспорядочных груд битого камня, остатков глиняных стен, колонн, сводов. Все это почему-то в углублении, как бы в огромной яме.
— Вместо этой выемки был бугор, — сказал наш проводник. — Ведь Вавилон умер, обезлюдел навсегда больше двух тысяч лет назад, и ветры нанесли над остатками холм. Его раскопки, как видите, продолжаются.
Поодаль белели палатки. У невысокого обрыва копались в земле люди. Они осторожно разгребали песок вокруг кирпичной стены, насыпали его в фартуки из брезента и, придерживая полу, уносили к вагонеткам узкоколейки.
— Священная Дорога процессий! — торжественно произнес Хаджи Омран.
Вот когда из хаоса обломков вдруг приоткрылся нам великий город! Узкую улицу, или дорогу, обступали глухие высокие башни, мало тронутые временем. На них повторялись рельефные изображения странного драконоподобного животного с острым рогом на змеиной голове. Здесь при царе Навуходоносоре II устраивались пышные торжественные процессии в честь бога Мардука.
В конце Дороги процессий были медные ворота богини Иштар.
— Но они не у нас, их вывезли в Европу, — с горечью сказал наш проводник.
Мы углубились в развалины. Ящерицы скользили между камней, пыль вилась из-под ног. Только отличный знаток истории Вавилона мог бы угадать в руинах, к которым мы пришли, остатки былого великолепия Южного и Главного дворцов.
— Навуходоносоры и Валтасары оставили меня своим единственным наместником в этом городе, — пошутил Хаджи Омран. — Но король Фейсал не дал мне ни одной медной монеты, чтобы привести в порядок здешние дворцы, о которых знает весь мир. Ему хватило денег только на свой новый дворец.
— А висячие сады Семирамиды? Они не здесь? — спросил Евгений Михайлович.
— Мы скоро увидим их, господин. Но взгляните сюда.
На пьедестале грозно поднималась тяжелая, массивная фигура свирепого льва. Он стоял над поверженным человеком, Не так ли и Вавилон держал в своей власти города и народы? Изваянный из глыбы черного камня, лев был символом вавилонской мощи.
— Вот бы увезти в Москву на память кусочек вавилонской башни! — рассмеялся Евгений Михайлович и перевел остроту Хаджи Омрану.
— Если господа не устали, мы можем пойти туда.
— Куда?!
— К вавилонской башне.
Господа, наверное, знают, сказал Хаджи Омран, что в Междуречье умели строить многоярусные башни — зиккураты. Главным был зиккурат бога Бэл-Мардука. Его ярусы-этажи поднимались чуть не на сотню метров над землей. Изразцы на самой вершине башни были синее неба, а золотые рога, украшавшие ее, сверкали так, что издали ослепляли странников, подходящих к городской стене. Эта башня называлась «Домом основания небес и земли». Ее остатки, увы, почти сровнялись с землей. Ученые полагают, что именно эта башня, слух о которой разносился по соседним странам, и дала повод для создания библейской легенды.
Хаджи Омран рассказал затем о новогоднем «празднике очищения». Верховный жрец приводил в храм-башню к золотому изображению бога Мардука живого барана и после заклинаний отрубал ему голову. Теплой кровью принесенного в жертву животного он брызгал на стены и пол храма, а затем под громкие крики толпы бросал голову барана в воды Евфрата. Считалось, что вместе с головой река унесет и все прегрешения, все дурные поступки, совершенные жителями Вавилона. Другие древние народы поступали схожим образом: например, угоняли в пустыню «козла отпущения», который должен был своею гибелью искупить людские грехи.
— А где же все-таки сады Семирамиды? — повторил Евгений Михайлович.
— Но вы подле них, господа.
Эти жалкие развалины?! Эти полуразрушенные каменные своды, похожие на руины склада? Не может быть!
— Да, сады Семирамиды были именно здесь, — повторил Хаджи Омран.
Мы знали, конечно, что в действительности «висячие сады» вовсе не висели и что легендарная ассирийская царица Семирамида не имела к ним отношения. Эти сады Навуходоносор приказал посадить для своей любимой жены Амитис, тосковавшей на опаленной равнине по лесистым горам, где она родилась. Возле дворца были сложены из камня прочные террасы, поднимавшиеся ступенями к городской стене. На них насыпали слой земли и посадили множество растений, собранных со всей страны. Рабы день и ночь вращали огромные колеса, поднимая воду для полива садов.
Да, мы знали все это. Но террасы рисовались мне какими-то необыкновенными сооружениями. Тут же, судя по руинам, были не сады, а садики. Должно быть, древних поражала сама необычность царской затеи.
Геродот писал о Вавилоне в годы его нового расцвета: «Устроен он так прекрасно, как ни один из известных нам городов». И таким надежным казался наполненный водой глубокий защитный ров, так высоки и крепки были стены, по верху которых ездили на четверке лошадей, так массивны были медные ворота Вавилона, что сменявшие друг друга после Навуходоносора вавилонские цари, говоря нашим обиходным языком, самоуспокоились.
Когда войска персидского царя Кира темной ночью внезапно начали штурм столицы, сын вавилонского царя Валтасар, которому поручалась ее оборона, беспечно пировал с друзьями. В разгаре пира, по преданию, неведомая рука и начертила на стене таинственные огненные слова «Мене, мене, текел уфарсин», пророчащие скорую гибель Валтасару.
Персы, овладев городом, не жгли и не разрушали его. Тяжелые поборы и дани сделали свое дело не хуже меча и огня: Вавилон стал хиреть. А потом персидский царь Ксеркс — тот, что в отместку за поражения своего флота велел высечь море, — рассердившись на строптивых вавилонян, разграбил город.
Не возродил его и Александр Македонский, вошедший через городские ворота после разгрома персов. Вавилон стал последним городом великого завоевателя. Погиб он не в бою. Виновником его смерти, сказал Хаджи Омран, возможно, оказался лишний бокал вина. После пира Александр искупался в прохладной воде Евфрата, который тогда нёс воды возле самого города. Началась злая лихорадка. Несколько дней спустя, чувствуя приближение смерти, полководец в последний раз сделал смотр войскам.
— Солдаты шли мимо его ложа много часов. Александр Македонский был последним великим человеком, которого видели стены Вавилона. А потом Евфрат прорвал плотину, размыл часть глиняного города и, изменив русло, ушел от него, предоставив пескам пустыни похоронить руины.
Мы провели среди руин целый день. На прощание Хаджи Омран подарил нам по кусочку серого камня. Мне показалось, что это просто осколок кирпича. Но вечером, вынув подарок из кармана, я при боковом свете лампы увидел переплетения странных углубленных линий на гладкой его стороне.
Возможно, этот камень был ровесником вавилонской башни.
…Все то, о чем вы только что прочли, я, вернувшись в Москву, рассказал по радио. Передача кончалась словами о камне. Вскоре зазвонил телефон:
— Простите, пожалуйста, это вы рассказывали о Вавилоне? Да? Так зачем вам гадать, чьим ровесником был ваш камень? Вы говорите, что на нем углубленные линии. Стало быть, это клинопись. Вот пусть вам и прочтут, что там написано… Только и всего…
— Извините, — перебил я, — но вы говорите так, будто прочесть древнейшую надпись — это, это…
— Для нас с вами это невозможно, — ответил голос в трубке, — но есть люди, которые совсем неплохо справляются с древними текстами. В Ленинграде бываете? Так вот, запишите адрес: Государственный Эрмитаж, Дьяконов Игорь Михайлович. Желаю успеха!
Приехав при случае в Ленинград, звоню в Эрмитаж. Да, Игорь Михайлович Дьяконов у себя, заходите, пожалуйста…
Просторный кабинет с низкими полукруглыми сводами. На стенах рисунки боевых колесниц с грозными бородатыми царями. Большой стол завален рукописями, книгами, свитками плотной бумаги. Тут же покрытые клинописью плитки из обожженной глины.
— Давайте-ка ваш камень, — промолвил Игорь Михайлович, когда я рассказал, зачем пришел.
Сейчас он возьмет лупу, в долгом сосредоточенном молчании застынет над моим сокровищем… Однако Игорь Михайлович лупы не взял, а подошел к окну, за которым катила серые волны Нева и поблескивал в небе шпиль Петропавловской крепости.
— «Царь Вавилона, попечитель храмов…» Тут кусочек отломан, дальше знаки сохранились… В целом это будет звучать примерно: «Навуходоносор, царь Вавилона, попечитель храмов Эсагилы и Эгиды».
Все это Игорь Михайлович произнес так, будто он не переводил надпись, сделанную в незапамятные времена, а просто читал обрывок вчерашней газеты, где легко было по сохранившемуся слогу восстановить слово и пробел во фразе.
— А мне-то думалось, что, может, он действительно из вавилонской башни… — сказал я с разочарованием.
Мой собеседник рассмеялся:
— Не огорчайтесь: с некоторой долей вероятности вы можете считать себя обладателем кусочка вавилонской башни, если, конечно, иметь в виду зиккурат храма Мардука. Навуходоносор достраивал его.
Я спросил, не пригодится ли мой камень для коллекций Эрмитажа? Но Дьяконов отрицательно покачал головой:
— Кирпичи с клеймом Навуходоносора, при котором очень много строили, отнюдь не редкость. Их давно находят при раскопках Вавилона. Они есть во многих музеях, есть, разумеется, и у нас. Кстати, хотите посмотреть наши коллекции?
Экспонаты, найденные в земле, омываемой водами Тигра и Евфрата, занимали четыре зала Эрмитажа. Игорь Михайлович повел меня к витринам, где лежали глиняные таблички, испещренные клинописью.
Он напомнил мне о том, что русская наука еще задолго до революции интересовалась историей Востока. В Петербурге жил знаменитый коллекционер и знаток древностей Лихачев. Он был богат и за огромные деньги купил много глиняных плиток с клинописными знаками, найденных при раскопках в иракской земле. Крупный исследователь-ассиролог Михаил Васильевич Никольский работал много лет над коллекциями Лихачева, перевел восемьсот пятьдесят пять глиняных документов.
В том зале, где были собраны коллекции из Ассирии, чуть не всю стену занимали алебастровые рельефы грозных и жестоких царей. Они хотели властвовать над миром. Царь Ашшурбанипал велел писать о себе: «царь вселенной». А всего через десяток лет после его смерти ассирийская военная держава распалась под ударами порабощенных ею народов.
И сам Ашшурбанипал затерялся бы в длинном списке полузабытых деспотов, если бы не собранная по его приказанию библиотека. В этой библиотеке, которую нашли при раскопках разрушенного царского дворца, оказалось около двадцати тысяч «глиняных книг» — табличек. По правде говоря, она заслужила больше права именоваться «чудом света», чем висячие сады.
О чем только не рассказывали ее «книги»! Там нашли и знаменитое «Сказание о Гильгамеше». На глиняных табличках была записана поэма, которую ставят в один ряд с «Илиадой», «Одиссеей», «Калевалой», «Словом о полку Игореве». Игорь Михайлович Дьяконов сделал ее новый перевод. Он сравнил самые древние записи поэмы о подвигах героя, богатыря, полубога, с более поздними, в том числе с той, которая нашлась в библиотеке Ашшурбанипала.
Мы прошли еще в один зал. Бронзовые фигурки крылатого божества, похожего на ассирийское, были найдены при раскопках у нас в Армении, на территории древнего государства Урарту, соседа и соперника могущественной Ассирии. Раскопками городов Урарту давно увлечен крупный ученый, ныне академик Борис Борисович Пиотровский.
Ассирия, Вавилон, Урарту… Какая даль времен! На крутых перевалах истории, тысячелетиями отделенных от наших дней, армии этих государств не раз скрещивали мечи. Но вольно или невольно их народы обменивались и тем, что человеческий гений создает в науке, культуре, искусстве.
Далеки от нас Египет, Сирия, Ирак, и, однако, их история живо интересует нас. Знаки на камне, привезенном с развалин Вавилона, понятны советскому ученому. Археолог музея в Багдаде посылает запрос московскому коллеге. Записи путешествовавшего в X веке из Багдада на Волгу арабского писателя Ибн Фадлана помогают нам лучше узнать прошлое великой русской реки. Работы русских ассирологов проясняют туманные страницы истории цивилизации на земле Ирака.
Позднее, во время других своих поездок на Восток, я встречал знакомых москвичей и ленинградцев в Каире и Асуане. Наши археологи поставили палатки южнее Асуана, в той части Нубийской пустыни, которой было суждено стать дном гигантского водохранилища.
Раскопками руководил Борис Борисович Пиотровский. Археологи нашли орудия, относящиеся еще к палеолиту, раскопали поселения времен I династии фараонов, обнаружили на скалах ряд ценнейших для науки древнеегипетских надписей.
1970 год принес много открытий советским археологам, ведущим раскопки на родине первых земледельцев и скотоводов планеты. Холмы Синджарской долины в Ираке скрывали остатки селений, существовавших за шесть тысяч лет до нашей эры! И уже в те времена жители Месопотамии знали серп — правда, не железный, а каменный, — превращали в муку зерна ячменя и пшеницы, приручали овец и коз. Но, пожалуй, больше всего обрадовали археологов кости домашней коровы: до сих пор считалось, что человек приручил ее гораздо позже.
Арабские и советские ученые трудятся над тем, чтобы в истории Древнего Востока не осталось неразгаданных страниц.
А что касается моего камня из Вавилона… Что ж, пусть он не из вавилонской башни, пусть не тоскует о нем музейная витрина! Для меня он дорог уже тем, что получил я его от человека, видевшего во мне представителя великой страны, которая протягивает братскую руку Востоку.
* * *
Земля Ирака — это земля-музей. Я пользовался каждой свободной минутой для коротких вылазок по уходящим в глубокую древность тропам истории. И ведь это не только история Ирака, это отчасти и наша с вами история, потому что Междуречье — колыбель цивилизации, влияние которой распространялось очень далеко.
Вот вы прочли эти фразы меньше, чем за минуту. А понятие «минута» пришло к нам, как вы знаете, тоже из Междуречья.
Мне не удалось побывать на севере страны, где находятся развалины Нимруда и Ниневии — столиц соперничавшей с Вавилоном Ассирийской державы. Не было у меня возможности увидеть и расположенные южнее Вавилона раскопки шумерских городов Урука и Ура — с последним связано возникновение легенды о всемирном потопе: так буйно разливались в низовьях Тигр и Евфрат. Мои поездки ограничивались местами, откуда можно было в тот же день вернуться в Багдад. Это условие я обязан был выполнять неукоснительно.
Мне разрешили посетить Ктесифон — столицу еще одного исчезнувшего государства, главный город парфян и правивших четыре столетия после них персидских царей.
Машина мчалась по степи. Вдруг над кронами придорожных эвкалиптов, над глиняными жалкими хижинами возникло сооружение каких-то совершенно иных, непривычных масштабов и форм. К гигантской арке с одной стороны примыкала столь же гигантская стена, но не гладкая, а вся в небольших, ложных, несквозных арках, как бы подчеркивающих необыкновенные размеры главного свода.
Это были остатки всемирно известного царского дворца Таб-и Кисра, о времени постройки которого до сих пор идут споры. Некоторые ученые утверждают, что ему тысяча триста лет, тогда как большинство склонно прибавить к этому почтенному возрасту еще три с лишним столетия.
Дворец построили, по-видимому, персидские зодчие. И как построили! Главная его часть сохранилась до наших дней, хотя Ктесифон не раз подвергался нападениям и разгрому: в первую мировую войну возле него вели ожесточенную артиллерийскую дуэль турецкие и английские войска.
Запрокинув голову, я рассматривал главную арку. Ни одной подпорки! Серый массивнейший свод, сложенный из кирпичей, казалось, должен был обрушиться раньше, чем его достроят. Но он пережил десятки царств, от которых не осталось ничего, кроме полузабытых названий.
К стене у другого конца арки прислонился слепой старик с седыми усами, бродячий певец, кобзарь месопотамских равнин. Смычком, похожим на детский лук с натянутым вместо тетивы пучком конского волоса, он водил по единственной струне рабабы — инструмента, может быть известного уже во времена строителей Ктесифона. Певца слушали несколько мальчишек.
Старик пел о героях. Но их имена не были знакомы ни мне, ни переводчику. Я спросил, не знает ли он песен об этом дворце. Нет, такой песни старик не знал.
Один из мальчуганов, не по летам серьезный, босоногий, в перепачканном сером халатике, робко сказал, что он кое-что слышал о дворце. Тут один человек рассказывал приезжим, вот он и запомнил. Этого человека знают даже в Багдаде, он там служил в музее, пока не состарился. Так вот, он говорил, что под сводами арки был царский зал и стоял трон. Царь хотел, сидя на троне, видеть, что происходит в его царстве, и поэтому одна сторона зала и раньше была открыта, — не думайте, что она разрушилась. Это был могучий царь, его золотую корону не могли поднять четыре человека. Вся арка была тогда в настоящем серебре, а пол застилал один ковер, такой огромный, что, когда враги ворвались в Ктесифон, каждый воин получил от этого ковра кусок, чтобы покрыть коня или верблюда. Все получили свою долю, и еще осталось столько, что можно было бы накроить ковров для большой мечети.
Кто-то осторожно тянет меня за рукав. Курчавый худой парнишка, оглядевшись с видом заговорщика, вынул из кармана и молча протянул мне красную глиняную фигурку, жестом показывая, что нашел ее в земле. Но я был уже достаточно опытен для того, чтобы раскусить этот невинный обман. Конечно, фигурку слепил и тщательно обжег он сам, а потом поцарапал и измазал, чтобы выдать за «древность».
— Талиб, покажи господам след, — сказал старик.
Мальчуган, рассказывавший о дворце, повел нас вдоль стены. Во многих местах до высоты человеческого роста слой кирпича был вынут: должно быть, феллахи выковыряли его для своих убогих жилищ.
Талиб подвел нас к тому месту, где кирпичи нависали над выемкой в стене.
— Вот! — с гордостью произнес он и потянулся к странной, очень отчетливой вмятине в одном из кирпичей.
Мы недоуменно переглянулись.
— След газели, — сказал Талиб.
Тысячу шестьсот лет назад, когда эти кирпичи сохли на солнце, что-то испугало пасущихся в степи газелей. Может быть, из зарослей выскочил лев. Испуганные животные бросились в ту сторону, где люди строили дворец. Легкие ноги газели, коснувшись непросохшей глины, оставили след. Солнце высушило кирпич с отпечатком копытца. Строители дворца уложили его в стену вместе с другими.
— Отец говорил: в одном месте, где вода размыла землю, феллахи нашли глиняную девушку, почти как настоящую. Англичане увезли ее в свой музей. Я там тоже рыл. Правда, пока ничего не нашел.
У Талиба ясные глаза мечтателя. Может быть, ему суждено стать археологом? До сих пор здешнюю землю копали люди, которым она была чужой. Для Талиба это земля предков, хранительница тайн многих поколений.
Земля и люди
Сага о финиковой пальме. — Салех ибн-Ясин, который не унывает. — Иракский Тит Титыч. — Кто такой серкал? — Вечер в Багдаде. — Уроки истории. — Парни рабочей окраины
Отъехав иногда всего сто — полтораста километров от Багдада, мы встречали людей, почти ничего не знавших о последних событиях. Феодалы лишь затаились там до поры до времени в надежде вернуть прошлое силой. Иными словами, я увидел иракскую деревню почти такой, какой ее застала революция. Без этого знакомства трудно было бы понять драматические повороты в судьбе Ирака, которые произошли позднее.
…Вокруг Багдада и на юге страны подчас не поле пшеницы, а роща пальм кормит феллаха. Ей, финиковой пальме, отдает он время и труд.
Заблуждается тот, кто думает, что плодоносящие финиковые пальмы растут в жарких странах так же естественно, как сосны или кедры в сибирской тайге. Пальма — не дикое, а культурное растение. Арабская пословица говорит о ней: «Голова — в огне, ноги — в воде». Солнечного огня для головы-кроны в Ираке не занимать. Но с влагой плохо, и, чтобы «ноги» пальм были в воде, нужно орошать землю.
Ирак — классическая страна фиников. Древние греки писали, что хотя в Междуречье сеют ячмень и пшеницу, но все, что нужно людям, здесь может дать и пальма: из ее плодов приготовляют лепешки, вино, уксус, мед, из листьев плетут корзины, финиковые косточки жгут в кузнечных горнах или, размягчив, скармливают скоту. Коран, священная книга мусульман, называет финиковую пальму благословенным деревом, которому каждый правоверный мусульманин должен воздавать почести. Один историк слышал певца, перечислявшего триста шестьдесят случаев, когда пальма служит для пользы человека! Видимо, это была очень длинная песня.
И не менее длинную, но печальную песню можно сложить о том, как иракский феллах приходил к помещику и тот отводил ему клочок сухой, растрескавшейся земли. На нем ничего не росло, Феллах рыхлил землю мотыгой, привозил слабые саженцы, поливал их, копал оросительные канавы. За это помещик милостиво разрешал ему сеять в тени подрастающих пальм ячмень или пшеницу. А когда через семь-восемь лет под кроной длинных перистых листьев появлялись грозди фиников, помещик приезжал однажды на готовую плантацию. Добрый хозяин либо оставлял феллаху клочок земли с самыми хилыми деревьями, либо платил за выращенные пальмы поштучно, вычитая из нищенской суммы и за старые мотыги, и за одолженный мешок ячменя, и за лекарство для умирающего ребенка, и еще бог знает за что: мало ли долгов накопилось у феллаха за эти годы!
Я слышал не раз подобные печальные истории и удивлялся покорности и безнадежности, которые чувствовались в голосе рассказчиков-феллахов.
Моим спутником в поездках и переводчиком был лейтенант Бадри. Показывая на безрадостные, серые крестьянские деревушки, он говорил:
— Положение феллахов отчаянное, хуже некуда. Но скоро все переменится.
Как-то мы поехали с ним в большой поселок Сальман-Пак. Он славится мечетью с могилой святого. Руки паломников до блеска отполировали металлическую решетку вокруг святыни. Почему-то в мечети было много зеркал и громко тикающих стенных часов с маятником.
В тени буйно разросшихся голубоватых эвкалиптов за покрытыми липкой клеенкой столами паломники ели финики с пресными ячменными лепешками. Тучи мух роились над ними, и я вспомнил: в мякоти плода — больше половины сахару.
За поселком начались рощи пыльных финиковых пальм. Подле одной приткнулась слепленная из глины и прикрытая пальмовыми листьями хижина. В ней жил Салех ибн-Ясин, человек лет сорока, с усталым лицом. Он настороженно и выжидательно смотрел на нас.
Лейтенант расспрашивал его. Он отвечал односложно, потом разговорился. За четыре десятка лет Салех странствовал много, а видел мало. Скитания его в Междуречье напоминали верчение белки в колесе: Салеха, сына Ясина, голод гнал с места на место по почти замкнутому кругу.
Вокруг хижины ни кола, ни двора. Я спрашиваю Салеха: которое это по счету его жилье?
— У-у-у!
Салех горько смеется. Может быть, двадцатая, а то и тридцатая хижина. Сколько он сменил за свою жизнь помещиков, столько и хижин слепил, благо глина есть везде и пальмовые ветви тоже.
Внутреннее убранство хижины…
Да какое там убранство! Пол — глина, стены — глина, закопченный котел и чайник, четыре мешка с хлопком в углу, пара циновок, которые расстилаются по полу на ночь, а сейчас заменяют диван для гостей, — вот и все.
Кто такой Салех ибн-Ясин? Сын феллаха, внук феллаха. Один из тех тружеников, которые, поливая землю своим потом, не владели ни единым ее клочком.
Зла была к Салеху ибн-Ясину судьба — и все же, в отличие от многих, у него улыбка несогнувшегося, несломленного человека. Трудно живется? Да, трудно. А другим разве лучше? Долгие годы батрачил, теперь — издольщик, засевает клочок чужой земли. Нынешний помещик хороший, забирает себе всего чуть больше половины урожая. Остается Салеху немного, но в этом году, пожалуй, удастся купить рису на зиму. Сейчас у него только финики. До продажи хлопка он ест очень мало: горсть фиников, варево из фиников да кусок лепешки. Мясо?! Кто же из феллахов ест мясо?
Спрашиваю у Салеха, чего бы он хотел больше всего?
— Кровать! Кровать и еще стол. И еще радио. Новый дом получше этого можно слепить самому, а радио не слепишь. А на кровать и на стол нет дерева…
— Постой-постой, — перебивает лейтенант. — Кровать?!
А земля?
— Какая земля?
— Та, которую ты получишь.
Салех не понимает. Может, господин лейтенант шутит? Откуда у него, бедного феллаха, может быть земля? Вот вся его земля — и он стучит ногой по глиняному полу.
Лейтенант возбужденно вскакивает с циновки:
— Подумайте, он не слышал о земельной реформе!
Горячо и торопливо лейтенант стал говорить Салеху, что недавно правительство приняло важный закон: у помещиков отрежут за справедливую плату часть земли и…
Салех — весь внимание. Впился в рассказчика глазами.
— Так вот, — продолжает лейтенант, — эти излишки помещичьей земли разделят между безземельными, правда не бесплатно, а за деньги, которые придется выплачивать двадцать лет. Если пожелает аллах, то и у Салеха будет своя земля.
И тут Салех, сорвав с головы повязку, закричал почти исступленно:
— Земля! Земля!
Закон о земельной реформе, который лейтенант Бадри пересказал феллаху, был, вероятно, первым за несколько тысячелетий законом, защищавшим тех, кто трудится на библейских равнинах.
Жизнь не баловала этих людей.
В последнюю ночь «черного режима» 4 миллиона феллахов забылись в тяжелом сне на земляном полу своих хижин.
3 миллиона из них легли спать с пустыми желудками — много лет они ели впроголодь.
3960 тысяч феллахов не смогли наутро прочесть в газетах, о революции: из 100 крестьян 99 не знали грамоты.
200 тысяч обитателей степей и пустынь встретили утро революции в шатрах и палатках: их удел — вечные перекочевки с места на место.
Чтобы вырастить урожай, иракский крестьянин вместе с женой, вместе с детьми, едва научившимися ходить, вместе со стариками родителями, согнутыми болезнями, должен весь год копаться в земле. Он не знает, что такое машина. У него соха, увидя которую в музее раскопок Вавилона неискушенный человек легко поверит, что это современница Навуходоносора, а не орудие труда второй половины XX века.
В стране, где летом жарче, чем в накаленной духовке, где не годятся наши термометры, потому что ртутный столбик упрямо ползет выше последней черточки, за 50 градусов, крестьянин не всегда мог позволить себе такую «роскошь», как глоток чистой воды.
Иракский крестьянин жил хуже, чем его собратья в большинстве стран земного шара. Но, может быть, земля Ирака и не способна прокормить его?
Когда, покинув родной Галикарнас, «отец истории» Геродот две тысячи лет назад отправился путешествовать, он увидел в Междуречье такое плодородие и изобилие, что сгоряча написал о колосьях пшеницы и ячменя толщиной в четыре пальца и о просе, вырастающем с дерево.
Несколько сот лет спустя Страбон уверял, что в Месопотамии ячмень родится сам-триста и выращивают его больше, чем в любой другой стране.
Перебросим на счетах истории еще несколько столетий. Средневековая арабская держава Междуречья была богатейшей страной. Ее земли, орошаемые величайшими для своего времени каналами, кормили, по предположению иракских ученых, от тридцати до сорока миллионов человек.
Потом — нашествия завоевателей, дикое своеволие и алчность, необузданная жажда мести тем, кто посмел сопротивляться, разрушения и грабежи. А после веков турецкого за-силия — английский генерал Мод, весной 1917 года под звуки гимна «Правь, Британия!» въехавший в Багдад во главе своих войск.
В одичавшей сухой степи Междуречья не осталось и следа средневековых каналов, но сохранились средневековые отношения, превращавшие земледельца в раба.
Об иракской земле говорят: пощекочи ее плугом, и она рассмеется урожаем. Но крестьянин не имел ни земли, ни плуга. У него отнимали почти все, что он выращивал на чужой земле. И в наш век 4 миллиона феллахов не могли прокормиться там, где в средние века кормилось 40 миллионов.
Зато иракские феодалы XX века жили куда лучше своих средневековых предшественников.
Среди иракских помещиков мало ветхозаветных коробочек и сладкоречивых маниловых. Это скорее прижимистые собакевичи на лимузинах. Впрочем, не меньше и прожигателей жизни, заглядывающих в свое поместье, как на экскурсию: зимой — Багдад, летом — курорты Средиземного моря. Наконец, есть феодалы, по обычаю предков превратившие свои владения в маленькие вотчины со сворой вооруженных телохранителей, с тюрьмами под помещичьим домом.
Понятно, все эти господа были очень встревожены законом о земельной реформе. Зато сколько надежд породил он у феллахов!
…Деревушка Худейфе — это скорее «эзба», или хутор. Желтый глиняный забор, высокий, прочный, огораживает его со всех четырех сторон, словно крепость. Недостает только башен по углам. Но за этими стенами одна мирная семья: десять братьев с чадами и домочадцами.
Внутри несколько глиняных хижин с плоскими крышами. В каждой по одному небольшому оконцу. Из ближайшей хижины вытащили цветастый матрац, и мы уселись на него в короткую тень стены.
Меня удивило, что мать хозяина, старая женщина с синими полосками татуировки на подбородке, сама подошла к незнакомым людям, поздоровалась, спросила, откуда мы. В деревнях соседних арабских стран женщины почти никогда не выходят к гостям-мужчинам.
— Двух сыновей вырастила я для армии, они прогнали короля, — гордо сказала старушка.
Она тут же ушла: разговоры с гостем — дело мужчин. А мужчин собралось много. Старики, молодые, даже подростки — все, кто был свободен в этот час, — присели на корточки в тени. Их босые ноги привычны к почве, которая показалась бы жителю севера раскаленной плитой. Просторные домотканые халаты — зебуны перехвачены ремнем. На головах — куфии, платки, завязанные наподобие тюрбана.
Как идут дела у братьев? Землю они арендуют. Сажают немного помидоров, огурцов, лука, сеют ячмень и пшеницу. Мне вспомнились строчки из «Конька-горбунка»: «Братья сеяли пшеницу да возили в град-столицу!»
Но братьям возить в Багдад пока, в сущности, нечего. Земля сухая, без орошения на ней ничего не растет. Своего насоса у братьев нет. Его дает господин Хасан. За это забирает половину урожая.
— А где господин Хасан?
— Как — где? В Багдаде, конечно.
— Что же он там делает?
— Пьет чай, — отвечает один из братьев.
«Пьет чай» — это по крестьянским понятиям значит наслаждается жизнью, бездельничает. Да и зачем господину Хасану работать, если за него работают насос и братья? Господин Хасан пшеницы не сеет, но в град-столицу свою долю возит и там продает не без выгоды. И его еще считают хорошим человеком, другие опутывали феллахов покрепче!
Так что же изменила революция?
О, многое изменила, очень многое! Прежде братья должны были оставлять все семена из своей доли. Но правительство — да продлит аллах его дни! — постановило, чтобы такие люди, как Хасан, тоже раскошеливались бы на семена.
Вскакивает Хамад Аджиль:
— Я приехал в Багдад и сказал: «Здравствуй, господин Хасан, с тебя причитается кое-что». Он рассердился, стал кричать, топать ногами. Но я сказал, что теперь никто не выбросит меня за дверь.
Хамад Аджиль — ходатай по делам всей семьи. Правда, он неграмотен — читать умеют только дети, — но аллах наградил его умом не хуже, чем иного чиновника. Год назад господин Хасан, рассердившись за что-то на Хамада Аджиля, написал ложный донос. Аджиля схватили, надели наручники и бросили в тюрьму. Там он сидел, пока все выяснилось. Ад-жиль хотел, чтобы Хасана наказали за ложный донос, но, когда пришел с жалобой, его не стали слушать, а вытолкали за дверь.
Теперь другое дело. Господину Хасану самому пришлось приехать сюда, в «крепость», к братьям. Разговор был жарким, господин Хасан кричал, что братья пожалеют о своей дерзости, что он разделается с ними…
А как земельная реформа?
— Очень, очень хороший закон!
— Это закон для нас!
— Мы написали бумагу, просим землю!
Все говорят хором. Земли еще нет, но они верят, что правительство не забудет их. И какие планы уже вынашиваются!
— Кирпичные дома вместо глиняных!
— Электричество! Мы слышали, у нас тоже будет электричество, как в городе!
А насос? Может, братьям есть смысл накопить денег и самим купить машину для полива? Нет, покупать насос они не собираются. За всех отвечает Хамад Аджиль:
— Если правительство дает землю, то оно, может быть, даст нам и воду.
И все заулыбались, закивали головой.
…Если двор братьев напоминает крепость, то Ибрагим ибн-Сауд обитает в неприступном замке. Правда, его стены тоже вылеплены из глины, но они и толще и выше. А воротам могли бы позавидовать в Древнем Вавилоне: массивные, железные, с кирпичными столбами.
Ибрагим ибн-Сауд скорее кулак, чем помещик. Кулак ловкий, предпочитающий купить не автомашину, от которой одни расходы, а движок для насоса, обладающий чудесным свойством приумножать капиталец.
Вот хозяин выкатился из двери дома, огромный, толстый, в сером несвежем халате. Увидев незнакомых людей, да еще иностранцев, ибн-Сауд проворно исчезает. Через несколько минут появляется снова. Смотрите, совсем другой человек!
Он почти величествен. Несмотря на жару, ибн-Сауд облачен в серый халат, пиджак, а на плечи накинута легкая коричневая «аба», расшитая золотыми нитками. Куфия — шелковая, белая, с золотыми цветочками, и придерживает ее на голове плетеный шестигранник, тоже отливающий золотом.
Ибн-Сауд тяжело дышит. Индюк индюком, если бы не плутоватое выражение лица и не бойкость заплывших остреньких глазок. Он немного глуховат и время от времени прикладывает к уху ладонь.
На ибн-Сауда работают шестнадцать феллахов.
— Я справедливый, у меня не то что у других, — хвалится он, подмигивая и улыбаясь как можно простодушнее. — У меня феллахи довольны, живут по нескольку лет, никуда не уходят. Я их старший брат, аллах тому свидетель.
Толстяк отирает пот платком размером в пеленку, сверлит глазками гостей, но в дом не ведет и садиться не предлагает.
— Вот он арендует у меня землю тридцать лет. Если бы я был плох, разве он не ушел бы? Ты ведь ушел бы, правда?
Пожилой феллах угрюмо переминается с ноги на ногу и ничего не отвечает.
Господин ибн-Сауд прибрал к рукам не только землю. На берегу Тигра он поставил три моторных насоса, день и ночь качающих воду. От земли доход и от воды доход. А сколько же всего? Господин ибн-Сауд вместо ответа растопыривает пухлые пальцы и выразительно дует на ладонь: все, мол, идет на ветер, фу-фу — и нет денежек!
Что он думает о земельной реформе?
— Я вынужден быть довольным… Закон…
Но тут же начинает сердиться, наступает на переводчика, кричит, что скоро станет нищим, прибегает к жестам: делает вид, что перекладывает деньги из одного кармана в другой, считает их, сокрушенно качает головой, растопыривает пальцы, дует на ладонь.
Почему все-таки реформа должна разорить господина ибн-Сауда? Он, видите ли, боится, что феллахи получат — землю. Но даже если его арендаторы не получат земли, арендная плата в стране все равно снизится, а это убыток бедным помещикам.
— Вы такой умелый хозяин, наверное, что-либо придумаете…
Да, он уже придумал. Если правительство разрешит, он сам арендует побольше земли и на эту землю пустит побольше арендаторов. С каждого будет получать меньше, но зато их будет больше.
Нет, не намерен выпускать феллахов из своих цепких рук иракский Тит Титыч!
* * *
Из Багдада уходит на запад дорога к границам Сирии, Она пересекает Междуречье и Сирийскую пустыню. Вокруг дороги разбросано много хуторов и деревень. В одну из них мы едем вместе с уже знакомым читателю лейтенантом Бадри и Павлом Демченко.
На боковом проселке, проложенном вдоль канала, машину подбрасывает так, что все молчат, боясь откусить язык. Обгоняем двух подростков, нагруженных охапками степных колючих кустарников.
— Как проехать к дому уважаемого шейха Сулеймана аль-Хадж Бари?
Подростки показывают на деревню. Ее глиняные дома видны возле низкорослой рощи.
Подъезжаем. Шофер окликает феллаха, длинные ноги которого свешиваются с ишака до земли. Тот говорит, что благородный шейх уехал в Багдад, но серкал дома.
Я не успел толком расспросить, кто такой серкал, как орава разномастных свирепых псов бросилась нам навстречу и атаковала машину.
Глиняные дома деревни разбросаны как попало. Оград нет. Хижины «слепые» или с крохотными оконцами. Над домом, стоящим в стороне, между криво воткнутыми палками натянута антенна. Это и есть дом серкала. Хозяин — сухощавый, с небольшой бородкой, крючковатым носом и глубоко запавшими глазами — жестом приглашает в дом.
Лейтенант Бадри поясняет, что серкал — посредник между крестьянами и помещиком, доверенное лицо феодала, правая его рука, надсмотрщик и еще бог знает кто…
Салех аль-Хамдани — так зовут нашего серкала — отрывисто, властно покрикивает на двух подростков, пока те втаскивают в комнату для гостей ковры, подушки, скамейку и почему-то даже металлическую кровать с сеткой. Перебирая четки, хозяин косится на робко втискивающихся в дверь феллахов.
Снова разговор о земле, об урожае. Лейтенант спрашивает феллахов, но едва те откроют рот, как серкал перебивает их: он-то лучше знает, о чем думает и как должен отвечать феллах! «Не вмешивайся, сиди и молчи», «Не твое дело», «Разве я тебе разрешил открывать рот?» — так и сыплет он.
Старый феллах говорит, что его семья заработала в год сорок динаров.
— Шестьдесят! — сердито поправляет серкал.
Старик покорно кивает головой:
— Да, да, может быть, и шестьдесят…
Спрашиваем, какие перемены произошли за последнее время.
— После переворота? — остро щурится серкал.
— После революции, — поправляет лейтенант Бадри.
— После переворота, — упрямится тот.
Да, он слышал о новых законах. Но здесь они пока не применяются. Почему? Потому, что шейх сказал феллахам: если они хотят жить, как жили до переворота, то пусть живут, а не хотят — пусть убираются прочь. Ну и договорились, чтобы все было по-старому.
Слышали ли в деревне о земельной реформе?
— Ля! Ля! (Нет! Нет!) — хитрит серкал.
Но когда лейтенант сам хочет рассказать феллахам о новом законе, он идет в атаку:
— Плохая реформа!
Наступает неловкое молчание. Тихо вошедший во время беседы чистенько одетый человек, которого представили как друга шейха, шепчет что-то на ухо серкалу. Мой спутник различает слова: «Не ругай, хвали». Серкал мямлит, что реформа плоха, мол, тем, что многосемейные получат мало земли. Феллахи вокруг улыбаются, и один не выдерживает:
— Разве немножко земли хуже, чем ничего?
Серкал мечет в него недобрый взгляд.
* * *
Вечер в Багдаде. Мы сидим с Нури в садике на берегу Тигра. Вспыхнула лампочка, приделанная прямо к стволу сбросившего кору эвкалипта. Две большие ящерицы, светло-коричневые, как ствол, застыли возле нее: караулят летящих на свет москитов. Такие же ящерицы бесшумно бегают вечерами по стенам моего гостиничного номера. Это гекконы, они безвредны. Уж лучше ящерицы, чем необыкновенно надоедливые, прилипчивые багдадские мухи или москиты.
Чьи-то тихие голоса доносятся с реки. На той стороне тускло светятся окна домов — в заречной части Багдада нет рекламных огней.
— Я хочу написать книгу о тех, кого старый режим томил в тюрьмах и истязал пытками, — начинает Нури. — Я хочу назвать в ней людей, которых пытали, и людей, которые пытали. В книге будут подлинные имена и факты. Мне кажется, что напомнить о мучениках террора — долг писателя. О «черном режиме» нельзя забывать. Это прошлое, но это и предостережение, это напоминание тем, кто беспечен. Когда я рассказал о замысле своей книги через газету, мне стали писать люди, сидевшие в лагерях и тюрьмах. Мне пишут бывшие узники «Нукрат ас-Сальман» и «Аль-Кут». Вы слышали об этих тюрьмах?
Нури пересказывает содержание одного письма. На измученных заключенных, посмевших протестовать, напал отряд полицейских. Они осадили тюрьму, бросали гранаты со слезоточивым газом, потом стали стрелять в окна, наконец ворвались в камеры, пустив в ход штыки и приклады. После расправы всюду валялись тела убитых, десятки людей с тяжелыми ранами плавали в лужах крови. И такие побоища устраивались не в одной тюрьме и не один раз.
Тюрьмы были понастроены всюду. На них тратилось больше денег, чем на просвещение. Особенно пугал людей «Нукрат ас-Сальман», каменный гроб в совершенно безлюдной пустыне на юге страны. Заключенные мучились в страшной тесноте и жаре «железного сундука» — так прозвали обитую железом камеру — или в полутемном подвале под ней.
— Я хочу, чтобы моя будущая книга звала к бдительности, — говорит Нури.
Литератору в Ираке нелегко. Многие рабочие, а тем более крестьяне не умеют читать. При старом режиме почти не издавалось книг для народа.
— Зато у нас народная беспроволочная связь, — смеется Нури. — В редком квартале нет чайханы, и в редкой чайхане найдутся пустые столики. А за стаканом чая или холодной воды высказывается много хороших мыслей. Там говорят громко, чтобы слышали все.
Нури занимается пропагандой земельной реформы.
— Я хочу на специальном автомобиле поехать по деревням. У нас будет с собой аппаратура. Мы станем записывать разговоры крестьян о реформе на магнитофонную ленту и передавать их потом по радио. Я хочу также записывать народные песни и сказки.
С Тигра доносятся странные звуки, будто неведомая большая птица с силой бьет по воде крыльями. Нури прислушивается:
— Рыбаки. Загоняют рыбу в сети.
Неподалеку от берега загорелся огонек лампы вроде нашей «летучей мыши». Блики задрожали на темной воде, осветили до тех пор невидимую лодку, белые фигуры рыбаков.
— Пора, — говорит Нури. — Патрули уже вышли на улицы, скоро комендантский час.
Рыбаки гребут к берегу. На мосту почти не видно прохожих. Площадь пуста, железные шторы закрыли витрины на улице Рашида. С полуночи до утра выходить на улицу запрещено. Город патрулирует армия.
….На следующий день Багдад встречал Муллу Мустафу аль-Барзани, одного из руководителей антиимпериалистического восстания курдов. В Ираке их около полутора миллионов.
Я много слышал о Барзани. Говорили, что еще мальчишкой он сражался против турок и в те годы, когда другие сидели за партой, узнал тюремную решетку. Потом его ссылали англичане. Он снова тайком возвращался в родные горы на севере страны, чтобы продолжать борьбу.
Барзани провел долгие годы за границей, но его хорошо помнили. Под окнами гостиницы, где он остановился, собралось множество людей. Большинство пришло в национальной курдской одежде: чалма с бахромой, мешковатые брюки, суженные у лодыжек, несколько раз обернутый вокруг талии широкий матерчатый пояс, за которым нож, пистолет и трубка.
Барзани вышел на балкон в темно-синем костюме обычного европейского покроя. Он выглядел очень взволнованным и прикуривал сигарету от сигареты.
Через вестибюль толпа прорвалась в садик на берегу Тигра. Барзани подняли на стул посредине тесного людского круга. Он поднял руку:
— Друзья, разрешите мне передать вам привет от ваших братьев курдов, которые много лет были в эмиграции. Мы вернулись, чтобы работать вместе с нашими братьями и защищать нашу родину. Да здравствует братство арабов и курдов!
Толпа, словно наэлектризованная, скандировала лозунг арабско-курдской дружбы:
— Арабия — Курдия! Арабия — Курдия!
И затем много раз подряд:
— Яыш, яыш, яыш!
Это можно перевести, как «да здравствует!». Буквально же возглас означает «жизнь».
Над головами взметывались руки, сплетенные в рукопожатия.
После революции временная конституция республики объявила, что арабы и курды объединены в одной стране. Курды впервые за долгую историю их жизни в Ираке были названы полноправными гражданами.
* * *
Небо над рабочими окраинами Багдада не замутнено дымом фабричных труб. По числу заводов он, наверное, на одном из последних мест среди больших городов мира. Тем, кто хозяйничал в Ираке, нужен был рынок для продажи привозных товаров.
На окраинной улице Омара — гаражи, склады, кустарные мастерские, лавчонки и харчевни. Был час обеда, и рабочий люд закусывал чем бог послал.
А бог пока не очень щедр к труженикам. Хорошо, если утром к лепешке с помидорами удастся добавить горсть фиников и стакан чая. Неплохо похлебать и «лабан» — простоквашу из молока буйволиц, овец или коров. Подают ее в больших чашах на пять-шесть человек, и тут уж не зевай, если не хочешь остаться голодным!
В Ираке не скажут: «Дешевле пареной репы». Пареной репой торгуют повсюду, но она не так уж дешева, и босоногие ребятишки только облизываются у лотков с этим лакомством.
Я и мой друг завтракаем в уличной харчевне, где подают «пачу». Под огромным закопченным котлом рвется из нефтяной форсунки пламя. В котле булькает варево из бараньих голов и ног. Запах вареного мяса дразнит аппетит.
Хозяин заведения наливает нам в миски суп, кладет туда по кусочку мяса и крошит лепешку. В углу ест «пачу» молодой парень в комбинезоне. Хозяин шепнул ему, что мы «ру-си», и парень не сводит с нас глаз.
Через несколько минут наши миски стоят рядом. Парня зовут Абдуль. Он работает жестянщиком. В мастерской их двенадцать человек. Почти все — члены отрядов Народного сопротивления.
Глаза у парня блестят:
— Они злобствуют, но мы сильнее!
«Оки» — это все, кто мешает народу: империалисты, предатели, заговорщики, жулики.
Абдуль живет в сарифе на окраине. Он еще не женат, но теперь женится непременно. Он верит, что скоро будет жить лучше, гораздо лучше.
Абдуль не коммунист. Но он считает коммунистов хорошими людьми. Это храбрые ребята, они не боялись пуль старого пса Нури Саида и всегда первыми шли на демонстрациях. Нури Саид боялся коммунистов и убивал их за то, что они были против империалистов.
Пора уходить. Абдуль непременно хочет заплатить за нашу «пачу», хотя, может быть, это лишит его возможности прийти сюда завтра. Мы протягиваем деньги. Абдуль — тоже, но хозяин делает зверское лицо:
— Пусть монеты гостей останутся в карманах, не сердите меня!
Абдуль провожает нас до особнячка на углу, над которым горят золотые буквы вывески Коммерческого банка. Серый тяжелый особнячок гордо высится над лавками, где торгуют большими глиняными сосудами для фильтрации грязной речной воды. Банк хвастлив: на вывеске крупными буквами написано, что его капитал — ровно миллион, ни динаром меньше. Решетки на окнах такие, будто этот миллион лежит в мешках внутри помещения.
— Вон там, за углом, большой дом. Правительство отдало его под школу. Снимите, пожалуйста, пусть в Москве узнают!
Мы пошли к школе, но, должно быть, не туда повернули. Нигде не было видно больших зданий.
Неподалеку, возле спущенных железных жалюзи магазина, на стульях и на тротуаре сидели парни, по виду старшие школьники и студенты.
Они спорили о чем-то. Один поднял руку, требуя внимания, и отчетливо прочел несколько фраз из книги, которую держал в руке.
Воспользовавшись паузой, мы попросили показать дорогу. Парни окружили нас: «Руси! Руси!» Дергая меня за рукав, подросток с глубоким розовым шрамом на щеке твердил, сверкая глазами:
— Можно будет в Москву? Да? Да?
Парень с книгой выждал, пока страсти немного улеглись. Тогда он протянул книгу и, показывая на обложку, сказал просто:
— Ленин.
Студенты рассказали о своих товарищах, погибших за дело народа. Рашид Аладхами был застрелен полицейскими, Мусу Сулеймана казнили, Шемран Олуен был убит на демонстрации, Наджи аль-Семани и Аль-Джали погибли, участвуя в студенческих протестах против политики Нури Саида.
Я спросил моих новых знакомых, есть ли среди них коммунисты. Парень с книгой задал мне встречный вопрос: разве Ленина читают только коммунисты? Ленин для всех!
* * *
Я пишу эту книгу почти тринадцать лет спустя после событий 1958 года. Мне удалось еще раз побывать в Багдаде, но и со времени второй моей поездки там снова произошли важные перемены. Не много стран на земном шаре за эти тринадцать лет знали столько событий и потрясений, сколько выпало на долю Ирака!
Я постарался рассказать, что думали, чувствовали, делали, на что надеялись люди, которым предстояло строить новую жизнь после падения «черного режима». И вот передо мною блокноты моих поездок, письма из Ирака, фотографии, газетные заметки, накопленные за тринадцать послереволюционных лет. Я перебираю их, вспоминаю, размышляю…
Вспоминаю вечер своего первого дня в Багдаде. Потный, грязный, усталый, я плелся в гостиницу, когда увидел автомашину, где сидел худощавый военный с седыми висками. Его портрет примелькался мне за день во всех витринах. Абдель Керим Касем, командир дивизии, выступившей в ночь на 14 июля против «черного режима», стал премьер-министром Ирака.
Машина двигалась медленно. Касем приветственно поднимал руку. Он чувствовал себя в центре внимания улицы, и это, видимо, нравилось ему. Сзади шла машина с охраной. Рослые парни с автоматами наготове зорко поглядывали по сторонам. Они охраняли еще вчера никому не известного полковника, ставшего человеком, о котором писали газеты всего мира.
Разглядываю снимок: Касем выступает с балкона министерства обороны перед огромной толпой. Я сделал этот снимок той же осенью 1958 года. На Касеме — скромная полевая форма, пилотка, рубашка с короткими рукавами.
И другая фотография: генерал Касем, изрешеченный пулями, валяется на полу в луже крови. Это снято иностранным корреспондентом в Багдаде зимой 1963 года.
А между этими двумя датами история взлета и падения человека, поставленного судьбой во главе страны, полной надежд и противоречий.
Читаю свои записи первых послереволюционных речей премьер-министра Касема.
— В ближайшие годы Ирак станет процветающим государством, — с воодушевлением говорил Касем. — Не более чем через три года уровень жизни народа в громадной степени возрастет.
Он обещал феллахам:
— Революция освободила вас от петли рабства. Мы предоставим вам землю, о которой мечтали ваши отцы и деды.
Он говорил рабочим:
— Наша политика ставит целью строительство новых предприятий. Никто не будет сидеть без работы. Отныне мы будем праздновать Первое мая, как день мира и труда.
Он сулил обитателям сарифов:
— Ваши жалкие лачуги исчезнут в недалеком будущем с лица земли.
Он обнадеживал курдов:
— Правительство считает, что арабы и курды составляют единый братский фронт.
Так говорил Касем. Он щедро обещал. И сначала кое-что выполнял. Однако постепенно становилось ясным: за его пышными фразами — затаенный испуг перед революционным народом. Владельцы нефтяных монополий, присмотревшись к честолюбивому премьеру, раскусили его, и один из них сказал:
— Господа, он не опасен. Он лишь бессвязно разглагольствует о процветающих предприятиях и удобных жилищах для рабочих, которые каким-то чудом должны появиться в пустыне.
Касем охотно позировал фотографам. На стенах приемной премьер-министра появилось восемь его больших портретов, уже в генеральской форме. Больше всего он старался укрепить личную власть.
Когда из окон кабинета генерал Касем увидел толпы демонстрантов с лозунгами: «Коммунистов в правительство!», он распорядился выпустить из тюрем сторонников «черного режима». Потом распустил созданные для защиты революции отряды Народного сопротивления. А вскоре коммунистов стали бросать в тюремные камеры, где они томились при Нури Саиде…
Время как бы пошло вспять.
В довершение всего Касем, забыв свои речи о народах-братьях, послал на север танки и самолеты против курдов. Но свободолюбивые курды снова ушли в горы. Война затянулась, потребовала больших жертв и расходов.
Кончался 1961 год, когда Касем заговорил о демократии и благе народа, выпустил на свободу большую часть коммунистов, объявил о переговорах с вождем курдов Мустафой аль-Барзани. Но это был лишь коварный маневр. Над местом, где должны были встретиться представители враждующих сторон, неожиданно появились бомбардировщики. Если бы Барзани был менее опытным и осторожным, он погиб бы в ловушке вместе со своим штабом…
Правительство Касема стало далеким от народа и близким к иракской буржуазии, к высшим офицерам — сынкам феодалов и фабрикантов. Им были недовольны многие. Но одни хотели продолжения и углубления революции, другие — полного возврата к прежним порядкам.
В начале февраля 1963 года багдадцы услышали разрывы бомб. Эскадрилья самолетов на бреющем полете бомбила министерство обороны.
Вооруженные люди ворвались в здание.
Касем отстреливался из автомата до последнего патрона, потом сдался.
На следующий день американское агентство печати распространило по всему миру сенсационную фотографию с подписью: «Этот исторический снимок сделан в здании министерства обороны в Багдаде через несколько минут после расправы с бывшим премьер-министром Ирака Абдель Керим Касемом и двумя его соратниками».
Абдель Керим Касем, изрешеченный пулями, в обгоревшем генеральском мундире, скорчившись, лежал на полу…
Падением режима Касема воспользовались реакционеры. На перекрестках Багдада они раздавали зеленые нарукавные повязки, призывая записываться в «национальную гвардию», чтобы расправиться с коммунистами.
Через несколько дней после событий в Багдаде там побывал мой старый знакомый Павел Демченко. Он рассказывал о вымерших улицах, о ночной стрельбе в рабочих районах столицы. «Зеленые повязки» искали там коммунистов, чтобы уничтожить их на месте. Демченко видел глиняные хижины, под развалинами которых погибли женщины и дети.
Вскоре радио Багдада сообщило, что Генеральный секретарь Иракской коммунистической партии Салям Адиль, а также два члена Центрального Комитета приговорены к смертной казни и повешены. А позднее из иракской столицы пришло письмо: на самом деле никакого суда не было. Салям Адиль и его товарищи стали жертвой зверской расправы: «Убийцы сначала выкололи товарищу Саляму Адилю глаза, затем вырезали мышцы на ногах, густо посыпали раны солью, залили их кислотой и бросили героя под дорожный каток. Точно так же они поступили с его боевыми товарищами по партии».
События в Ираке были еще одним жестоким, кровавым уроком истории. Касем, преследуя коммунистов, настоящих патриотов своей страны, верных сынов народов, тем самым поощрял разные темные реакционные силы, расчистил им дорогу. Его антикоммунистическая политика стоила жизни почти десяти тысячам людей, убитых без суда и следствия. Она стоила многих мучительных месяцев ста двадцати тысячам иракцев, подвергшихся избиениям, истязаниям, брошенных за колючую проволоку и в тюремные камеры.
Коммунистическая партия не сдалась. Обескровленная, лишившаяся многих лучших сынов и дочерей, она ушла в глубокое подполье.
После кровавых событий февраля 1963 года в Ираке много раз сменялись премьер-министры и правительства, возникали заговоры и лилась кровь. Страна узнала еще немало тяжелых испытаний, прежде чем пришедшее к власти летом 1968 года правительство объявило о намерении объединить весь иракский народ. Оно закончило, наконец, миром долгую, несправедливую войну с курдами, провозгласив дружбу двух народов Ирака.
С тех пор были национализированы многие крупные предприятия, а у иностранных нефтяных компаний отрезана часть земель. Впервые сами иракцы приступили к разработке нефтяных богатств. Наша страна помогла Ираку построить десятки заводов, первый атомный реактор, железную дорогу.
Немало перемен произошло и в иракской деревне. Пятьдесят тысяч крестьян получили землю, причем в дальнейшем ее решено распределять бесплатно. Появились первые сельские кооперативы и прокатные станции, где работают советские тракторы и комбайны. Это еще не значит, однако, что феодалы вовсе утратили силу в деревне.
Старое сопротивлялось, сопротивляется и будет сопротивляться.
Выступая на XXIV съезде нашей партии, представитель иракских коммунистов говорил, что его страна все еще переживает сложный и трудный период, что для выполнения задач революции нужна сплоченность всего народа. Но речь его была полна веры в творческую силу народных масс. И хочется думать, что иракский народ — на пути к выстраданному, дорогой ценой купленному светлому будущему.
…Закончу же рассказ письмом, которое я получил не так давно. Вот оно: «Здравствуйте, премногоуважаемый гражданин Кублицкий Георгий Иванович, примите сердечный привет от вашего друга ассирийца Авдея Ивановича (Авдышу), который вам служил переводчиком в Багдаде в 1958 году, в настоящее время я приехал из Ирака и живу у сестры в Краснодарском крае, и многие мои родственники живы, и я очень счастлив здесь, с крепким приветом и рукопожатием к вам, ваш знакомый Авдей Иванович (Авдышу)».
Там, где течет Нил
Порой рассказ уходит здесь в даль времен, к истокам пяти тысячелетий истории Египта. Читатель отправляется к местам раскопок и сенсационных находок, бродит по развалинам города Солнца, где жила прекрасная Нефертити, едет в Долину царей… Он знакомится и с самыми последними открытиями египтологов, с тем, например, как рентген помог узнать тайну гибели юного фараона Тутанхамона.
Но как бы ни была увлекательна история Египта, где находились два из семи «чудес света» древнего мира, она отнюдь не заслоняет в рассказе сегодняшнего дня страны. Автор не раз побывал в Объединенной Арабской Республике, которая с осени 1971 года стала называться Арабской Республикой Египет. Однажды его спутником был научный работник-арабист. Вдвоем они объехали долину Нила. Знание арабского языка распахивало перед путешественниками двери крестьянских хижин и помещичьих усадеб, позволяло лучше узнать быт, обычаи, мечты египтян.
И наконец, читатель встретится на страницах книги со своими соотечественниками, узнает, как «руси» помогали строить Садд аль-Аали, великую плотину Асуана, «восьмое чудо света».
Восьмое чудо света
С гребня великой плотины. — У тропика Рака. — Перемены в столице. — Наги человек в Африке. — Африканец Витька. — Труд и пот феллаха. — Семнадцать пирамид Хеопса. — Рождение чуда
И снова рассвет над Асуаном — на этот раз зимний рассвет, Здесь зима — лучшее время года: тепло и солнечно, как весной в Крыму.
На берегах — праздничные толпы. Люди пришли сюда затемно. И как почти семь лет назад, в памятный майский день, когда был перекрыт Нил, ни на минуту не смолкают восторженные возгласы:
— Садд аль-Аали! Садд аль-Аали!
Садд аль-Аали, великая плотина Асуана, — перед глазами. Осуществленная мечта многих лет. Надежда миллионов египтян. Не просто стена бетона и камня. Садд аль-Аали — это энергия заводам, а значит, работа для тех, кто ее еще не имеет, новые товары, нужные городу и деревне. Это воды полям, а значит, два-три урожая там, где зерна, брошенные в иссохнувшую почву, не давали даже всходов.
— Садд аль-Аали! Садд аль-Аали!
Но вот поют фанфары. В триумфальной арке, воздвигнутой на гребне плотины, разлетаются концы перерезанной ленты: гидростанция открыта, гигантское сооружение вступило в строй. Тысячи голубей взмывают над людским морем.
В этот же день, 15 января 1971 года, подписи приехавших на торжества Председателя Президиума Верховного Совета СССР и Президента Объединенной Арабской Республики скрепляют Декларацию, начинающуюся знаменательными словами:
«От имени Советского Союза и Объединенной Арабской Республики объявляем, что строительство Асуанского гидротехнического комплекса успешно завершено в установленный срок».
А за этими словами — нелегкие годы для страны пирамид, которая строит новую жизнь всего лишь два десятилетия. Нелегкие годы, скрашенные дружбой и братской помощью тех, кому не безразлична судьба египетского феллаха и вьетнамского партизана, иракского бедуина и чилийского пастуха…
Впервые я проехал по дорогам Египта много лет назад, вскоре после национальной революции 1952 года. Мне довелось затем видеть страну в разное время года — и в конце весны, и поздней осенью, и в период летнего разлива Нила. Во многих египетских городах бывал по нескольку раз. Я находился в Асуане в те дни, когда стало известно, что Советский Союз поможет египтянам строить Садд аль-Аали. Несколько лет спустя на моих глазах последний самосвал сбросил последнюю каменную глыбу, завершив перекрытие великой африканской реки.
Многое из того, что я видел при первом знакомстве с Египтом, исчезло в стране, по-новому перекраивающей жизнь. В первый приезд я встречался с видными египетскими капиталистами, с миллионерами. Позднее мне показывали национализированные крупные предприятия, владельцы которых думали, что все обойдется, что обычные капиталистические порядки еще долго сохранятся в Египте.
Я встречал в первый приезд помещиков, которых лишь слегка задела первая земельная реформа. Тогда они еще чувствовали себя хозяевами в деревне. Но с тех пор были приняты новые законы. Урезая наделы помещиков, землю распределяли между феллахами.
С гребня сегодняшней Асуанской плотины мне хочется оглянуться как на совсем близкое, так и на бесконечно далекое прошлое одной из интереснейших, одной из древнейших стран мира. Стержнем моего рассказа о недавних днях будет история великой плотины.
Для меня она началась поздней осенью 1958 года.
Асуан был тогда маленьким, тихим городком. Летом он почти вымирал: жара здесь дьявольская, самое пекло Египта. В октябре появлялись первые туристы. У подъездов оживающих после летнего застоя гостиниц их поджидали извозчики, чтобы везти на каменоломни, к неоконченному обелиску, так и оставшемуся лежать в скале, из которой его начали вырубать тысячелетия назад. На базаре молчаливые нубийцы продавали рога добытых в пустыне газелей и фигурки, искусно вырезанные из темного дерева. Между огромными камнями, которыми загромождено русло Нила, скользили парусные суденышки — дахабие, точно такие, какие ходили и сто и двести лет назад.
Выше Асуана Нил перегораживала тогда старая плотина, достроенная еще в начале века. Там же находилось управление, разрабатывавшее проект новой плотины. Мы приехали туда рано утром. Нас проводили прямо к директору.
Ибрагим Заки Хенауи приветливо протянул нам руку и со сдержанной яростью сказал чиновнику:
— Я же занят! Зачем вы их сюда притащили?
Он сказал это по-арабски, не подозревая, что мой спутник — арабист. Мы присели в уголке к деревянному столу, заваленному чертежами и образцами горных пород.
Ибрагим Заки совещался с приезжими иностранцами. Чиновник шепнул, что тут представители швейцарских фирм, а господин в безрукавке — крупный западногерманский инженер. Приезжие попивали воду со льдом, много курили и небрежно тыкали окурки в блюдечко с песком, заменявшее пепельницу.
Мы просидели так около получаса, перечитывая проспекты, захваченные из гостиницы: «Приезжая в Асуан, турист обнаруживает живописный провинциальный городок. Здесь сохранилась экзотика африканской действительности». О высотной плотине в проспекте даже не упоминалось.
Совещание затягивалось, и, прервав его на минуту, директор проекта попросил инженера Шакира показать нам место, выбранное для строительства.
По дороге инженер сообщил, что Нил у Асуана течет в крепчайшем каменном ложе. Глубина в сорок метров не редкость, а река быстра и норовиста.
Мы увидели старую плотину. Двухкилометровой невысокой стеной она перерезала Нил в том месте, где прежде бурлил труднопроходимый порог — знаменитый Первый катаракт. Ее строили только для орошения. Вода вырывалась из множества отверстий в нижней части плотины. Напор придавал струям почти горизонтальное направление. Эти водяные пушки на сотни метров вспенивали Нил. Какая бессмысленная растрата энергии великой реки!
Еще несколько километров асфальта — и машина выскочила на расчищенную от камней площадку.
— Здесь!
Дорога оборвалась возле кручи. Над Нилом нависали темные скалы, раскаленные октябрьским полуденным солнцем. Казалось, будто свирепый великан в раздражении разбросал, разворочал вокруг гранитные глыбы.
Знойный ветер перевевал принесенный из пустыни песок. Золотистые его струйки бежали по липкому асфальту, стекали в расщелины придорожного гранита.
Пейзаж был диким и мрачноватым. Только геолог и гидростроитель находят его восхитительным: можно ли желать лучшей опоры для плотины, чем этот гранит, проверенный на прочность еще создателями обелисков в честь богов и фараонов?
— Если все будет хорошо, плотина именно здесь станет копить сокровища Нила.
Инженер показал на противоположный берег. Там темнели такие же голые, безрадостные скалы.
Итак, новая дорога, зданьице лаборатории для испытания грунта да водопроводные трубы, наспех проложенные по уступам. Не богато! Но ведь и в Жигулях осенью 1950 года я видел лишь буксующие в прибрежной грязи тракторы и жиденькие треноги буровых вышек на огородах приволжского села. Оно стояло как раз там, где воды великой нашей реки работают теперь в турбинах Волжской ГЭС…
Путешествуя по арабскому Востоку в конце пятидесятых годов, я слышал о будущей высотной плотине, может быть, сто, а может, и триста раз. С узким каньоном возле Асуана связывалось будущее Египта.
Но, думалось мне, нелегко будет здесь справиться с Нилом, ох нелегко! Стиснутая скалами река зло и стремительно гнала сквозь каньон мутные воды тропической Африки. Шум доносился к нам на высоту. Вон парусную барку, пробирающуюся под крепким горячим ветром в сторону суданской границы, вдруг потянуло к водовороту. Суденышко завертелось, судорожно затрепетал парус, похожий на крыло птицы.
А жара! Правда, зимой в Асуане благодать: теплынь. Но сегодня, например, тридцать два градуса, и это в октябре. Летом же ртуть термометра подолгу не спускается ниже черточки «40».
— Сколько отсюда до тропика Рака?
— Напрямую? — прикидывает наш спутник. — Думаю, километров пятьдесят — шестьдесят.
— Только-то?! Так давайте завтра возьмем такси и…
Но инженер качает головой:
— Разрешается не меньше чем на трех машинах с цепями на колесах. Одна застрянет — другие вытянут. Пустыня, опасно. Застряли, остались без воды — верная смерть.
— Но как же здесь работать? Как строить?
— Ничего, здешний феллах привык. Тем, которые приезжают из Дельты, труднее.
— А европейцам?
— Совсем плохо. Долго не выдерживают. Летом здесь европейские туристы такая же редкость, как дождь. Вы же видели — гостиницы почти пусты.
Поджариваемые солнцем, вяло карабкаемся по камням.
— Здесь будет машинный зал, — говорит инженер и стучит каблуком, как бы пробуя надежность опоры.
— Так высоко?
Я все забываю о высотности будущей плотины: сто десять метров! Наша скала, с которой еле различимы люди на барках, конечно, окажется под водой.
— Деньги, деньги… — вздыхает инженер. — Двести миллионов фунтов на строительство первой очереди! Республика молода, у нас много нужд, а западные державы отказали нам в помощи, вы же знаете.
— Давайте спросим первого встречного: что он думает о Садд аль-Аали? — предлагаю я на обратном пути.
Первым встречным оказался каменщик Хишмет Сильданис, рослый парень из Асуана.
— Это руси, — сказал инженер. — Понимаешь: руси из Москвы.
— Москва? — переспросил парень.
— Ну да. Вот ему хочется знать, что ты сказал бы при встрече Ивану, который строит плотины на Волге. Слышал о Волге?
Но парень не слышал.
— Это русский Нил, понимаешь?
Хишмет закивал головой, подумал секунду:
— Ты мой брат, сказал бы я ему. Иван, давай строить вместе — такой была бы моя речь.
Тут иной читатель, пожалуй, подумает, что уж как-то очень кстати было это сказано: ведь немного времени спустя, той же осенью 1958 года, газеты всего мира облетело сообщение, что Советский Союз поможет строить великую Асуанскую плотину.
Но слова о братстве не мною были сказаны. Парень из Асуана не слышал о Волге, а о Москве он слышал и в том, где его настоящие друзья, разбирался.
* * *
Летят они в самолетах, качает их морская волна на палубах кораблей. В карманах у них паспорта с красной обложкой и золотыми буквами «СССР». В паспортах — визы посольств африканских стран.
Обладатели паспортов едут в Африку работать. Едут в одиночку, едут семьями. Едут не на месяц — на год, а то и на два, на три. Едут надолго, оставляя все, к чему привыкли, что им дорого, оставляя землю, на которой родились и выросли.
Едут потому, что их пригласили, позвали.
Господин президент попросил об этом нашего посла. Или господин посол некой африканской страны, посетив в Москве Министерство иностранных дел, обратился с соответст-ствующей просьбой.
Смысл этих обращений на высоком уровне примерно одинаков. Мы, сказал господин посол, решили строить завод, но у нас еще нет достаточного опыта; было бы хорошо, если бы советские специалисты согласились приехать в качестве консультантов. Или: мы думаем возвести на реке Тиваронго гидростанцию, но, к сожалению, наши инженеры встретились с рядом трудностей… Советский опыт разведок нефти заслуживает самых высоких оценок, и мы хотели бы пригласить…
Просьбы разные — смысл одинаков: приезжайте, пожалуйста.
И наши люди собираются в дальнюю дорогу. Едут искать нефть в мертвой пустыне, строить стадион на болоте, отвоеванном у непроходимых джунглей, лечить больных тропической лихорадкой, обучать охотников за носорогами искусству сталеварения.
Едут в одиночку, едут семьями, со своими Вовиками и Машеньками, с Валерками и Тамарками, привыкшими к детским садам, «Пионерской зорьке», лыжным вылазкам. В Африке «Пионерскую зорьку» не передают, лыж там нет, и многие вообще не верят, что вода может падать с неба белыми звездочками. Зато у Валерок и Тамарок появляется возможность увидеть тысячелетние баобабы, приручить смешную птицу абукрдана, выучиться болтать по-арабски или на языке одного из народов африканских джунглей.
Африка перестала быть загадочным материком из книг о путешествиях и географических хрестоматий, она теперь проще, ближе, понятнее. По Африке многие наши люди ходят на работу так же буднично, как ходили по земле Полтавщины или Ставрополья…
Примерно такие мысли занимают меня, пока «ИЛ-18», рейсовый самолет линии Москва — Каир, набирает высоту и ложится на курс.
Шесть лет минуло с той поры, когда я летел в Африку впервые, летел с посадками и пересадками, едва ли не целые сутки. А теперь… Мы с сыном вышли из дому вместе. Я поехал на аэродром, Никитка побежал в школу, крикнув на ходу, чтобы я не забыл насчет египетских марок. Когда он вернется из школы, я буду уже в Каире.
В самолете ни одного свободного кресла. Рядом со мной африканцы из Кении, молодые ребята в щегольских фуражках, таких же, как у пилота лайнера. Они окончили наш институт Гражданского воздушного флота. Оба говорят по-русски. Возвращаются домой; видимо, станут начальниками аэропортов. Их провожала толпа, они поднимались по трапу с балалайками в руках и с торчащими из всех карманов матрешками.
Африканцы — добрая треть пассажиров самолета. Летят также двое французов, муж и жена, тоже с балалайкой. Остальные — наши. Возвращаются в Африку из отпусков, из служебных командировок. Есть и новички.
Меня ждет в Каире заблаговременно вылетевший туда кинорежиссер Марк Антонович Трояновский. Через несколько дней строители Садд аль-Аали должны перекрыть Нил. Вместе с кинооператорами мы будем работать над документальным фильмом о стране и ее великой плотине.
Марка Антоновича я знаю давно. Он много снимал в Арктике и Антарктике, летал с первой воздушной экспедицией на Северный полюс, а потом неожиданно «заболел» Африкой, исколесил с кинокамерой Египет, мечтал пробраться к истокам Нила. Марк Антонович отличается редкостным хладнокровием и выдержкой, которые не изменяли ему ни на дрейфующих льдинах, ни на фронте, где он провел всю войну.
Еще в Москве нас обоих весьма заинтересовала карта Египта, которую мы увидели у одного крупного экономиста. На ней цветными кружками, треугольниками, ромбиками были обозначены места, где наши люди строили, проектировали, консультировали. Я насчитал сто тридцать значков!
За этими значками были новые цехи, металлургический завод в Хелуане, завод лекарств в Абу Заабале, учебные центры, трассы каналов, лаборатории исследователей и многое, многое другое.
Еще в Москве мы решили проехать из Каира в Асуан на машине, останавливаясь там, где работают наши. В самом деле, в Асуане около двух тысяч советских инженеров и рабочих, у них и клуб, и кино, и школа. А вот как живут наши одиночки среди людей с чужим языком, с незнакомыми обычаями, с другим укладом, с другой психологией, с иным отношением к труду? Как живет наш человек в Африке, если его Африка — тихий провинциальный городок, где впервые увидели загадочного «руси»?
…«Не курить, застегнуть ремни!» — вспыхивает красная надпись над входом в пилотскую кабину. Уже Каир? Да, идем на посадку.
— Вы готовы? — спрашивает Марк Антонович после первых приветствий, когда мы усаживаемся в машину.
— То есть? — не понимаю я.
— Да вот, думаю, завтра утром в Асуан. Как раз на этой машине. Саид, — тут Марк Антонович кивает в сторону шофера, который сдержанно улыбается, — хорошо знает дорогу и говорит…
— Марк Антонович, — чуть не кричу я, — дайте хоть на Каир взглянуть одним глазком! Нельзя же так!..
— Ладно, — вздыхает Марк Антонович. — Но послезавтра до рассвета — в дорогу.
Весь день мы носились по Каиру и пригородам, по знакомым улицам центра и по незнакомым улицам Миер аль-Гедида, нового района, или, вернее, каирского города-спутника. Мы объехали набережные Нила, и я пытался вспоминать, какие здания тут были и прежде, а каких прежде не было. Разглядывали город с верхней площадки новой ажурной башни «Панорама Каира», поднятой над Нилом выше высоты птичьего полета. Проехали через Гелиополис, район богатых вилл и особняков. Не знаю, много ли прибавилось здесь новых зданий, но толпа на улицах была куда проще, чем прежде, и уже не стояли у оград вереницы роскошных машин.
Некоторых обитателей Гелиополиса сильно пощипали. Еще совсем недавно они ворочали миллионами египетских фунтов, заседали в правлениях концернов, держали в сейфах толстые пачки акций, устраивали пиршества, о которых говорил весь Каир. Здесь жили люди, по выражению президента Насера, евшие золотой ложкой.
Эту ложку у них отняли. Сначала правительство прижало иностранные монополии. Каирские миллионеры потирали руки: меньше конкурентов! Но вот громом среди ясного неба ударил декрет о национализации египетского банка «Миср», тесно связанного с десятками египетских монополий. Встревоженные банкиры, фабриканты, владельцы крупных торговых фирм попробовали противиться политике правительства, пытались переводить капиталы за границу, но тут новые декреты обрушились на них. Постепенно под контролем государства оказались три четверти всего промышленного производства страны, все банки, все страховые компании, транспорт, судостроение.
В витринах Каира красовались свои, египетские, холодильники, египетские радиоприемники, египетские телевизоры на транзисторах — плоские, портативные, изящные. Ничего похожего прежде не было. За стеклом автомобильных магазинов блестели малолитражки «Рамзес» и «Наср». В витринах были многие другие товары, которые страна прежде получала за границей, а теперь производит сама.
У витрин толпились люди. Каирцы были лучше одеты, чем прежде. Но главное было не в одежде. Главное было в том, что человек из рабочего квартала, из перенаселенных районов каирской бедноты, понял, что его жизнь пошла по-иному, что в ней — перемены к лучшему.
Стало легче найти работу, потому что строилось много новых заводов. Каирский рабочий на государственных предприятиях работает семь часов, у него повысился заработок, он получает оплачиваемый отпуск. Представители рабочих появились в административных советах заводов и фабрик.
Нам надо было наверстать потерянный в Каире день.
Покинув столицу на рассвете, мы проскочили почти четыреста километров до города Асьюта и тотчас отправились в местный университет искать земляков.
Как же они обрадовались нам! Не знали, куда усадить, потчевали всяческими египетскими деликатесами, удивительно нежной нильской рыбой и даже московской копченой колбасой, сохраняемой для особо торжественных случаев…
Когда первый «руси» приехал в Асьют, ребятня собиралась у подъезда дома, где он поселился. Любознательных юных асьютцев особенно интересовали его уши. Уши были, в общем, такие же, как у арабов. Это доказывало, что слухи, будто русские, ложась спать, одно ухо подкладывают под голову, а другим прикрывают лицо, не вполне достоверны.
С удивлением убедился наш «руси», что его коллеги по университету тоже были изрядно начинены всякими небылицами. Нет, разумеется, они хорошо знали, что русским уши не заменяют подушку. Но в их вообще-то верные представления о советской науке странно вторгались бородатые комиссары, разгуливавшие в огромных сапогах из шерсти домашних животных… Все это давно позади.
В Асьюте наших специалистов раз-два и обчелся. Тот наш земляк, о котором пойдет мой рассказ, выглядит лет на сорок пять — возраст для советских «африканцев» сравнительно редкий, сюда едут кто помоложе. В действительности Сергею Николаевичу Калинину больше, значительно больше.
— Не думал, что пенсию буду выслуживать в Африке, — смеется он. — А ее, чего уж таить, ждать недолго… Я, знаете, в душе садовод. Глаза закрою — садик, садик, садик… Люблю я это дело!
Садик? Стоит только послушать, как говорит наш земляк о своих пятидесяти станках, которые он устанавливал в университетских мастерских и которые находятся теперь под неусыпным его попечением!
Он ужасно огорчен, что мы приехали в канун выходного дня, когда в университете всё уже на замке. Я едва отговорил его от попытки тотчас показать «свое хозяйство».
Наши «руси» поневоле живут замкнуто, в гости ходят редко: здесь не очень принято приглашать чужеземцев в дом. Отрада наших земляков — прогулки. Каждый вечер они, наслаждаясь относительной вечерней прохладой, делают один и тот же большой круг по одним и тем же улицам.
Сегодня мы кружим вместе. Сначала через центр с ярко освещенными магазинами и древними мечетями, потом по тихим кварталам, где в садах укрылись особняки асьютских богачей, потом по берегу Нила, потом вдоль какого-то пыльного пустыря, где одинокий фонарь высвечивает кроваво-красный куст цветущей акации.
— Знаете, собак боялся, честное слово, — с простодушным удивлением вспоминает Сергей Николаевич. — Тут дикие бегали, вернее, одичавшие. Идешь ночью, вдруг с пустыря мимо тебя стая… Да, всякое бывало… Языка я ни в зуб ногой, пальцами разговаривал. Когда показываешь, как на станке работать, пальцы еще туда-сюда. Ну, а о душевном? Ведь хочется с арабом, рабочим человеком, душевным словом перекинуться. И такая, бывало, тоска возьмет…
Сергей Николаевич круглолиц, громогласен, переполнен сердечной добротой. Мы убедились позже, что как раз он-то отлично ужился с местными жителями, научился обиходному разговору, ладит со стариками и детворой, ладит со всеми, не подлаживаясь, а покоряя прямотой и добродушием.
Наши русские — болельщики Асьюта. Я неосторожно заметил вскользь, что асьютский «небоскреб» — десятиэтажный новый дом в центре города — несколько скучноват на фоне живописной старины. Сергей Николаевич надулся:
— Как можно говорить этакое… Ведь сейчас темно, вы на него завтра утром взгляните — красавец! Нет, с утра первым делом сюда.
Утром наши новые друзья торопили с завтраком, боясь что мы чего-нибудь не успеем, чего-либо не увидим. Прежде всего потащили нас к «небоскребу», который при дневном свете действительно был гораздо симпатичнее. Заставили подняться на его крышу, откуда виден весь Асьют. Панорама была великолепной, я охал и ахал. Добрейший же Сергей Николаевич таял от удовольствия и все тянул меня за рукав:
— Нет, а вы посмотрите на Нил, вы на него, на красавца, взгляните, вон паруса-то какие!
В поездке по городу повторялась та же история:
— Нет, давайте повернем направо, арабы там такой домик отгрохали… А потом — на кладбище.
— Да зачем же на кладбище?
— Как это — зачем? Там, знаете, такие гробницы…
И конечно же, изрядную часть дня мы провели в университете, в студенческом городке. Сергей Николаевич не преувеличивал своей роли, не говорил: «мой университет», «мои мастерские», «мои станки», «мои студенты». И все же университет в Асьюте для него — свой.
У наших людей особая психология рабочего места. Тут свои огорчения и радости. И если это рабочее место перенеслось волей обстоятельства в Африку, это все равно твое место, твой труд, твое сердце! Наверное, потому-то наши рабочие и инженеры так быстро и так легко приживаются на африканских стройках. Приезжают, дивятся чужим нравам, стесняются, не понимая, о чем их спрашивают, а через недельку работают в Асьюте так же, как в Серпухове.
Позднее, уже в Асуане, один египетский инженер, который подолгу бывал у нас на Днепре и волжских стройках, сказал о советских специалистах:
— Когда ваши приехали, к ним присматривались. И увидели, что они наши обычаи уважают; вино пьют, но немного, а у нас говорили, что раз русские в бога не верят, раз им религия не запрещает пить вино, то они пьют его вместо воды, прямо с утра. А самое важное — увидели, что к людям они относятся как к людям. Не считают себя выше других. К нам приезжают некоторые господа с Запада… Приезжает такой господин и ведет себя… ну будто он сверхчеловек, этакий маленький божок с дипломом. Вы меня понимаете? Мы таких не любим. Арабы — гордый народ.
…Последний вечер в Асьюте. Делаем прощальный круг по городу — привычный ежевечерний круг наших друзей. Одуряюще пахнут невидимые цветы. Под луной серебрится Нил.
Шагаем молча, обо всем главном переговорили, а ночь так хороша. Но что это за странные звуки? Откуда они? Из темной мечети, подле которой жмутся несколько фигур.
«Вах… Вах… Вах…»
Помпа? Но зачем в мечети помпа, да еще ночью?
«Вах… Вах… Вах…»
Нет, похоже на человеческие голоса.
— Вот собрались, и все враз, все враз, — нехотя говорит Сергей Николаевич. — И так часами…
Я представил гулкую мечеть, лунный луч на полу, темные фигуры, отрывисто, в молитвенном экстазе вскрикивающие все враз. Это, наверное, радения дервишей — монахов одной из мусульманских сект.
Мы шли, не говоря ни слова, а вслед нам неслось приглушенное:
«Вах… Вах… Вах…»
— Африка… А что Африка? — неожиданно сердито, будто споря с нами, вскричал Сергей Николаевич. — Народ-то все равно хороший, верно? Это главное!
* * *
Гирга?
Ну кто из вас слышал об этом городке в нильской долине, затерявшемся между Асьютом и Луксором?
В школах Гиргу не проходят, на картах страны жирный шрифт не для нее. А поскольку история не наделила Гиргу памятниками древности, то и для туристов этот главный город одноименной сельскохозяйственной провинции звук пустой.
Мы знали, что в Гирге, около которой на карте был нарисован ромбик, работают наши мелиораторы. Первый встречный передал нас второму, второй показал улицу, третий — дом, четвертый ткнул пальцем в дверь на первом этаже:
— Фамеко! Мистер Фамеко!
«Мистер Фамеко», он же руководитель гиргинского отряда советских специалистов Владимир Николаевич Фоменко, встретил нас сдержанно. Но ровно через три минуты все мы были устроены, через пять — знакомы со всеми членами отряда, а через пятнадцать — блаженствовали в ваннах.
Владимир Николаевич оказался человеком дела: «Эмоции потом». Без лишних слов он выяснил, что нам хотелось бы запечатлеть на пленке, и тут же наметил, когда и где именно мы сможем это сделать.
Через полчаса все мы тесно сидели за общим столом, болтая о прохладной московской весне, новых стихах и фильмах, программе торжеств в Асуане и о матчах «Спартака», за который болели все, за исключением Юнусова-младшего, который еще не определил свои футбольные симпатии.
Отряд Фоменко помогает тем, кто перестраивает крупный оросительный канал. Его расширяют, углубляют, спрямляют, готовят к приему большой воды.
— Проект арабский от начала до конца, — сказал Фоменко. — Превосходные ирригаторы! У них какое-то наследственное тончайшее инженерное чутье во всем, что касается орошения. Аккумуляция опыта множества поколений, начиная с дофараоновых времен. Тут мы учимся, а не учим.
Утром поднимаемся чуть свет, едем с новыми друзьями по пыльному узкому проселку… Ба, советские землесосы! Приткнувшись к берегам канала, они всасывают со дна густейший раствор благодатного нильского ила и гонят его по трубам подальше на берег. Феллахи из ближайшей деревеньки нагребают грязь в корзины, тащат на свои поля.
Вот вам размежевание эпох: по одну сторону канала гудение моторов, бугор, намытый землесосами, землемерные рейки, стальные трубы; по другую — хижины из камыша, женщины с глиняными кувшинами на голове, буйволица, медленно волочащая тяжелые салазки: так обмолачивали урожай и триста, и пятьсот, и тысячу лет назад.
Фоменко знакомит меня с феллахами, ставшими помощниками багермейстера на землесосах. Марк Антонович с тяжелой кинокамерой карабкается на шаткий помост из досок, выбирая точку для съемки. Неведомо откуда появившиеся мальчишки преданно сопровождают его, норовя в самый неподходящий момент тщеславно выскочить перед объективом.
— Муш куейс! Нехорошо! — сердито кричит Марк Антонович.
Он заставляет Фоменко раз пять подниматься к пульту землесоса, сам ложится на землю, чтобы снять несколько кинокадров с нижней точки, месит перекачиваемую со дна грязь; сгорает на солнце, обливается потом, покрывается густейшей пылью — одним словом, работает, как обычно…
Вечером я был гостем Захара Юнусова и его жены Веры. Захар самый молодой в отряде, родом он из Башкирии, по специальности тракторист. Служа в армии, научился работать на бульдозере и немного на экскаваторе. Его всегда тянуло в Арктику. Он сам не знает почему. Прежде всего, наверное, потому, что там трудно. Захар зачитывался книгами о подвигах арктических путешественников.
— Вот люди, вот люди! — восклицает он. — Это же какую волю надо было иметь!
Вера, библиотекарь по специальности, тоже не прочь была поехать, скажем, в бухту Двух медведей или на мыс Челюскина: библиотекарю везде найдется дело, а она ведь и стряпать умеет, и всякой другой работы не чурается.
Захар подал заявление. Но подумайте, как не повезло: работники его специальности временно на полярные станции не требовались. Ждать? Ждать не хотелось. Захар пошел в ЦК комсомола. «В Арктику? А почему бы, товарищ, не в Африку? Разница всего в двух буквах и в одном знаке: в Арктике — минус сорок, а в Африке — плюс сорок».
Вера обрадовалась: Африка! В ее памяти еще свеж был школьный учебник истории древнего мира, раскрашенная таблица с белым храмом и пальмами, рисунки пирамид и статуй фараонов.
— Вот и приехали, — как бы все еще удивляясь, говорил Захар. — Первым делом — к пирамидам. И храмов насмотрелись. Бывали вы в Лусоре? Там в храмах краска сохранилась с фараоновых времен. Вот это краска! А какие колонны! Мы сейчас всей нашей техникой здешний гранит едва пробиваем, а они, древние-то египтяне…
Тут в соседней комнате раздается рев Юнусова-младшего. Утирая кулачком мужественные слезы, он появляется в дверях заспанный, в длинной рубашонке.
— Не хочу-у-у такой сон смотреть! — басом ревет он. — Не хочу!..
Витьке скоро четыре года. Африка останется первым воспоминанием его детства. Если он в Юнусова-старшего, много удастся ему повидать!
…Чем дальше на юг, тем заметнее, что стройка Асуана втянула в свою орбиту всю нильскую долину, что ее строительная площадка — вся страна.
Весна была томительно жаркой и сухой, пыль поднималась над долиной и долго держалась в воздухе. Рубчатые следы скреперных колес тянулись всюду, горы вырытой земли местами подступали к самой дороге, надолго скрывая горизонт. Казалось, что страна навеки утратила покой и уже никогда не сможет замедлить этот сумасшедший, невиданный для нее разгон.
Останавливая машину, мы карабкались на земляные валы, чтобы сообразить, где Нил и откуда может пойти вода. Чаще всего, грязные и потные, с раздражением вытряхивая землю из башмаков, мы возвращались не солоно хлебавши, потому что Нила не было, а виднелись лишь каналы разной глубины, старые и новые, валы земли и облака пыли, в которых рокотали моторы.
В одном месте работал, как выразился Марк Антонович, «многоковшовый шагающий экскаватор». На штурм вышли тысячи феллахов. Разбившись на артели, они состязались с землеройными машинами. По тропинкам, протоптанным босыми ногами, непрерывно двигались вереницы людей. Вверх — вниз, вниз — вверх. Одни нагребали землю в плетеные корзины, другие торопились вынести эти корзины по крутым откосам и, высыпав содержимое, бежали назад. Вниз — вверх, вверх — вниз.
Потом мы долго ехали вдоль другого канала, сухого и непонятного: не то осушенного, не то ждущего воду. На голом откосе каркали вороны. Женщины в черном с кувшинами на голове пересекали дорогу. Они уходили за водой куда-то дальше. Куда? Мы опять поднялись на откос.
Да вот он, Нил! Наконец-то! До него метров триста, и к нему, увязая в песке, тянутся вереницы женщин.
Женщины в Верхнем Египте обычно не участвуют в самых тяжелых полевых работах. А прошагать несколько раз в день от той вон деревушки, приткнувшейся к жародышащему плато, прошагать с кувшином на голове через сухой канал, карабкаясь по его склонам, потом проделать тот же путь, имея уже не меньше ведра воды на голове, — это что же, увеселительная прогулка? Да еще под черной накидкой, босыми ногами по камням, на которых, наверное, можно жарить яичницу.
Ласточки носятся низко-низко. «К дождю», — сказали бы у нас. А тут дождя надо ждать лет этак пять, а то и десять… Вот вам и верные приметы.
Канал тянется до самых окраин городка Исны.
За белым забором — фруктовый сад, огромное дерево манго прикрывает одноэтажный просторный дом.
— Помещичья усадьба! — смеется Марк Антонович.
Сам «помещик» Константин Васильевич Свитов спешит нам навстречу. Какие новости в Каире? Давно ли мы из Москвы? Но Марк Антонович, который любит во всем порядок, прежде всего осведомляется о канале.
— Канал? — переспрашивает Свитов. — Есть старый и есть новый. Совсем новый. Вдоль него вы и ехали. Это большой канал для большой воды. Ясно?
Сознаемся, что не очень. Инженер рад просветить новичков.
— Здесь было бассейновое орошение. Как в древности. Как при фараонах. Разливается Нил, заливает всё на два месяца. Потом земля начинает подсыхать, ее пашут, засевают и собирают один урожай. Понимаете, один! Это и есть бассейновое орошение. Как при фараонах. Шесть месяцев земля пустует. В Верхнем Египте эта старая система сохранялась до сих пор. Теперь Садд аль-Аали покончит с ней. Канал, который вы видели, оросит много земли. Но счет надо вести не только по площади. До сих пор здесь снимали один урожай. Теперь, при круглогодовом орошении, будут получать два-три. Вот вам арифметика Садд аль-Аали. Для здешних феллахов это как сказка.
Свитов кончал политехнический институт в Куйбышеве. И жена его, Алла, тоже волжанка. Работали на ремонтном заводе. Пришла заявка: нужны люди в Африку. Африканская жара не очень пугала: летом в засушливом Заволжье ведь тоже бывает за тридцать, а кто привык к тридцати, перенесет и сорок.
Смотрел я на семейство Свитовых и думал: легок на подъем наш человек! Спрашивал у многих наших людей в Африке, что заставило их сняться с насиженных мест, долго ли они раздумывали, прежде чем решиться на такой шаг. И что же? У большинства, особенно у молодых, все решалось быстро, без колебаний: хотелось увидеть, узнать мир.
Свитов пришел домой, сказал жене: «Алла, предлагают в Египет». — «В Египет? Надо же! Конечно, поедем!» Прилетели в Каир под Новый год. Остановились в отеле «Виндзор». За окном дерево цветет розовым цветом, маленький сынишка хнычет: «Где снег? Хочу на коньках…»
Потом приехали вот сюда, в Иену. Тут работает около сотни наших машин, надо помогать их осваивать. Свитовы соскучились, конечно, по Волге, хотелось бы посмотреть, как там… Но вообще-то скучать особенно некогда.
К нашей машине, остановившейся у канала за Иеной, направляется какой-то индиец. Смуглое лицо, короткая бородка чернее воронова крыла — даже отливает сизым, — черные пронизывающие глаза. Недостает только чалмы.
— Здравствуйте, товарищи! — говорит индиец с сильным акцентом.
Мы онемели. Он бросает взгляд внутрь машины:
— Кино, да?
— Где вы так хорошо научились говорить по-русски? — спрашиваю я.
— Не так хорошо. Приехал сюда, чтобы совершенствовать свой арабский и русский.
— Давайте познакомимся, — осторожно говорит индийцу Марк Антонович. — Кинорежиссер Трояновский.
— Трояновский? Очень приятно. Слышал о вас.
— Вот как? — Марк Антонович польщен: индиец, а знает!
— Рад познакомиться. Абульфаз. В Египте на практике. Окончил факультет восточных языков. Есть такой в Баку.
— Так вы азербайджанец?!
— Из горного села неподалеку от Нахичевани. Здесь — переводчик при наших изыскателях. Строим канал для воды Садд аль-Аали. Поворачивайте к нам, да?
За поздним ужином я расспрашивал Абульфаза о феллахах. Марк Антонович, по обыкновению, заперся в темной комнате, и перезаряжал кассеты. Шофер Саид оставался с нами.
— Я хожу по деревням, у меня тут везде знакомые, — говорил Абульфаз. — Настоящий народный язык — у феллахов. Поговорки и пословицы очень интересны. Есть такие, что нам с вами как раз подойдут. Вот например: «В чужой стране и зрячий слеп». Почему? Потому что «У каждого дерева своя тень, у каждого народа — свои обычаи», и пока ты их не узнаешь, не поймешь, будешь зрячим слепцом, да? И еще в Египте говорят: «Выучил новый язык — узнал новых людей». Нам хочется больше узнать о феллахах, феллахам — о нас. Идешь по деревне, тебя остановят: «Можно с тобой говорить, руси?» — «Пожалуйста!» Или в поезде едешь. Узнают, откуда ты, и сейчас начинают спрашивать. Отвечаешь. За весь Советский Союз отвечаешь. Феллах спрашивает: «Деньги у вас есть? Религия у вас есть? Феллахи у вас есть?»
Абульфаз хорошо знает египетскую деревню. Да, за последние годы сделано много. Феллахов впервые избирают в Народное собрание, в парламент, феллахи заседают в Каире вместе с президентом. В деревнях появилась чистая питьевая вода, строятся школы, ребят учат бесплатно, стало больше врачей. Но разве короткие годы способны изменить все, что сложилось за тысячелетия гнета и бесправия? Верно, среди феллахов распределено немало земли, однако безземельных еще много и живут они трудно. Вот сейчас несколько тысяч работает на постройке канала…
— Привезли с собой сухие лепешки из дома. Размачивают в воде и едят. У некоторых есть еще с собой сыр. Из снятого молока сыр, калорий мало, его бы хорошо тем, кто хочет вес терять. Еще лук. Феллах везде лук найдет. От такой еды силы настоящей нет. А работа весь день на солнце.
Спрашиваю Абульфаза, что здешние феллахи думают о великой плотине.
— Феллах? Он не думает о плотине. Он не представляет себе плотину так, как представляем мы. Садд аль-Аали для него больше, чем сооружение. Если ему сейчас живется туго, он говорит: «Ничего, скоро будем кончать Садд аль-Аали, будем жить лучше, будет свет, телефон». Зачем ему телефон? Он видел: в городе телефон, в полиции телефон. Значит, это нужная штука, раз она у важных господ. Телефон как мечта, понимаете? Земля, вода — это уж само собой, но еще и телефон. Феллах — ведь он поэт, мечтатель.
Абульфаз на минуту уходит в соседнюю комнату и возвращается со стопкой книг. Книги очень старые, дорогие. Абульфаз влюбленно гладит корешки. Когда удается вырваться в Каир, он сидит в библиотеках над древними рукописями: ведь в давние годы некоторые азербайджанские философы пользовались арабским языком, арабские ученые и путешественники писали об азербайджанцах. Он узнал много нового, сделал интересные переводы. Кроме того, составляет русско-арабско-азербайджанский технический словарь.
Утром Абульфаз поехал с нами. И как хорошо понимали его феллахи! Уроженец горной деревни, сам еще недавно корнями связанный с землей, он знал их беды и надежды.
…После встречи в Египте мы переписываемся с Абульфазом. Он вернулся в свой Азербайджан, стал кандидатом наук. А Свитова, «помещика» из Иены, я летом 1970 года разыскал на Волге, в молодом городе Тольятти.
* * *
Крылатая фраза Геродота, что Египет — дар Нила, в сущности, не точна. Пять тысячелетий лишь труд земледельца превращал великую реку в источник живой воды, питавшей корни могучей цивилизации. Сегодняшний феллах — потомок египетских патриархов земледелия. Он пашет те же земли, которые пахали они. Из каждых трех жителей современного Египта двое, продолжая дело предков, трудятся в деревне.
По дороге к Асуану, как и на дорогах Ирака, — кроны пальм и согнутые спины феллахов. Отправляемся в предрассветный час, а всюду уже смутно белеют фигуры тружеников. Полдень, сорок пять градусов в тени — на полях полно народу. Закатное солнце, коснувшееся на горизонте верхушек пальм, по-прежнему видит согнутые спины. Вот блеснул его последний луч, и только тогда, стараясь опередить стремительно надвигающуюся африканскую ночь, уходят феллахи с полей.
В пыли дорог темные силуэты движутся на гаснущем лимонном закате: люди верхом на осликах, на верблюдах, люди, устало бредущие с мотыгами на плечах, овцы, буйволы.
Горьковатый дым стелется над деревнями, где в этот поздний час растапливают очаги. А люди идут и идут по дорогам — люди земли, в поте лица добывающие нелегкий хлеб свой…
В пейзаж нильской долины, в бесконечную череду серых скучных деревень, вписались теперь сотни образцовых «социальных центров». Там школы, медицинские пункты, водопровод, машины, здания новых сельских кооперативов. И все же лишь Садд аль-Аали окрыляет египетского крестьянина. Великая плотина — это два миллиона триста тысяч федданов [2] земель, из которых миллион триста тысяч осваивается вновь, а миллион переводится с бассейнового на круглогодовое орошение. И это — для феллахов!
Мы приехали в Асуан после полудня. Но куда исчез тихий, сонный городок, живущий воспоминаниями и туристами? От прежнего, знакомого, сохранились лишь прогулочные лодки да лавочки сувениров, где продавали уже не только опахала из перьев, черные резные фигурки и головки Нефертити, но и открытки с видами строящейся плотины.
Мы кружились в лабиринте дорог, между разбитыми, расколотыми, пробуренными скалами, между горами песка, а навстречу, грозя сплющить нашу машину в блин, с ревом неслись огромные самосвалы. Пробирались среди подсобных заводов, кабелей, праздничных арок, заборов, времянок. Неожиданно выскочили к главному шатру для гостей, поставленному высоко над каналом, по которому пойдут воды Нила. Они темнели за валом песчаной перемычки. Перемычку взорвут, и река ринется в канал к тоннелям, пробитым в скалах под нами.
Покатили с горы. Дорога круто летела вниз. Впереди — шесть тоннелей, по которым вода пойдет к турбинам гидростанции. Через любой можно было бы проталкивать пятиэтажные дома, беспокоясь разве что за целость крыши.
Я читал, конечно, что наша страна послала в Асуан многие десятки экскаваторов, землесосов и гидромониторов, мощный парк бульдозеров и скреперов, сотни автомашин, кранов, бетононасосов, камнедробилок. Но, только увидев всю эту технику в действии, только увидев, что сотворил здесь человек, ощутил я, какую богатырскую братскую руку помощи протягивает наш народ Африке.
Нас проводили к заместителю главного советского эксперта Асуана. А ведь мы знакомы! Товарищ Морозов, сколько лет, сколько зим после наших встреч на волжских стройках! Говорят, тут, в Асуане, вообще много волгарей? Например… И я назвал имя, гремевшее когда-то в Жигулях.
— Не очень получилось у него в Африке, — с сожалением и даже болью сказал Морозов. — Стал слишком дорожить драгоценным здоровьем, но просмотрел главную свою болезнь: ослабло зрение, товарищей стал хуже различать… У нас ребята любят, чтобы так: пусть ты семь раз знатный, но голову держи пряменько, не задирай вверх.
А вот вы Колю Огневенко прежде знали? Нет? Парень трудовой! В тоннелях с первого дня. Три года под землей — это кое-что значит. Когда на экскаваторе Колина смена — вопросов нет. Ни разу ни он, ни его ребята не пищали. А ведь Коля и на «отказ» налетел. Что это такое? А это заряд, поставленный бурильщиками и отказавший при взрыве. Другие заряды взорвались, а он остался. Когда потом экскаватор убирает породу и задевает его ковшом, тут он, проклятый, не отказывает… Пугливый после этого второй раз в тоннель не идет. У Коли «отказ» был. Рвануло здорово. Но Коля отработал и вторую смену. А как-то было у нас плохо с вентиляцией. Это при здешней-то жаре, представляете? Тошнота, боли, обмороки. И Колю тоже в больницу увозили. Но никогда он не жаловался.
Ну и конечно, Вася Сердюков… А, вы даже писали о нем? Да, тот самый, из знаменитой бригады Коваленко, что на все Жигули гремела. И сам Коваленко был здесь, в Асуане, погиб нелепо по дороге домой, в отпуск… Так вот, Сердюков Вася. Он у нас почти четыре года. Приехал такой незаметный… Год незаметный, два незаметный. А как стали подсчитывать, кто что наработал, стал заметным. И даже очень. Громких речей на собраниях не держал, но, когда кубометры его прикинули, ахнули. Экскаваторщик экстра-класс! Так и идет у нас первым на всей стройке.
Тут вошел Николай Александрович Малышев, главный инженер проекта Асуанского гидроузла. Я пытался расспрашивать его, но Николай Александрович отмахивался:
— Ой, слушайте, в другой раз! Да и рассказывать особенно не о чем. О проекте вы, наверное, все знаете, а его генеральная проверка через два дня, уж потерпите как-нибудь!
Я знал, что первый проект гидроузла составила английская фирма «Александр Гибб и партнеры», солидная фирма, основатель которой был членом Королевского общества, соответствующего нашей Академии наук. Фирма составила хороший проект.
Но нашлась еще более знаменитая фирма: «Гидропроект». Проект, составленный советским институтом под руководством Малышева, международная комиссия признала наилучшим. Помимо многих чисто технических преимуществ, он позволял построить гидроузел гораздо экономнее, сберечь республике много денег.
Выписки о великой стройке Асуана из моих блокнотов хоть бульдозером выгребай: цифры, цифры, цифры… Их множество. Они неопровержимо доказывают, что стройка на Ниле — «самая»… Например, самая механизированная в Азии и в Африке, самая большая стройка, возводимая с помощью иностранного государства, самая выгодная из гидротехнических строек в мире — все затраты на нее полностью окупятся в первые же годы.
А объем работ под Асуаном? Великая плотина — семнадцать пирамид Хеопса! Она поднимается на сто одиннадцать метров, в основании будет шириной почти в километр.
За ней возникнет первое искусственное море Египта. Оно протянется в глубь Африки на пятьсот километров от плотины, и в нем для работы турбин и орошения полей человек будет держать огромный запас воды, большая часть которой прежде во время паводка стекала в Средиземное море. Это водохранилище «Наср», море Победы, станет одним из величайших искусственных водоемов планеты.
Гидростанция при плотине втрое увеличит в стране выработку энергии. Цифры, цифры, цифры… А Николай Александрович Малышев говорит:
— Знаете, что в этой стройке самое главное? То, что от нее в выигрыше весь народ. Не жители какого-нибудь одного района, а именно весь народ. Для одних — это земля, для других — энергия, для третьих — обеспеченность работой, для четвертых — конец наводнениям, для пятых… Впрочем, вы, наверное, сами все знаете. Весь народ в выигрыше. Это главное, а не семнадцать пирамид Хеопса!
…Ночь на 14 мая 1964 года не принесла прохлады. Молодому месяцу полагалось показывать людям только яркий серп, но в поразительно ясном небе просвечивал весь лунный лик.
Спутница Земли недолго смотрела на то, что делают люди с Нилом, и ушла за гребни темных холмов Нубийской пустыни. Нил не освежал, хотя паруса поздних лодок были наполнены ветром.
Рассвет вспыхнул багровым заревом.
Часть нашей киногруппы выдвинулась на скалы, поближе к перемычке. Стоя у края обрыва, я все же не мог представить, что, хлынув через взорванную перемычку, вода под своей толщей скроет целиком, без остатка, не только тоннели, но и высокую скалу над ними, подберется к серым башням водоприемника, напоминающим бастионы неприступной крепости.
Над этими башнями вокруг пульта с кнопкой укрылись под шатрами многие тысячи гостей. Зрители облепили все остальное, доступное обозрению пространство — и скалы, и дороги, и крыши зданий, и стрелы экскаваторов, и даже столбы, хотя, по-моему, продержаться на них до полного поджаривания на солнце можно было не более десяти минут.
Приехал президент и главы правительств стран, приглашенные на торжества. Ораторы говорили о том, что тридцать тысяч египтян и две тысячи русских трудились вместе, как братья, говорили о мосте дружбы, переброшенном нашей страной народам Арабского Востока и Африки, говорили о трудолюбии и терпении советских инженеров и рабочих, делавших чудеса в непривычном климате.
— Друзья! Соотечественники! — взволнованно воскликнул в конце речи президент Гамаль Абдель Насер. — Мужчины, женщины и дети! Великий подвиг совершен!
Серовато-желтый гриб поднялся над перемычкой, взрыв ударил в уши. Несколько секунд длилось молчание. Но вот чей-то слабый крик, тотчас подхваченный толпой, перешел в неистовый восторженный вопль: мутная струя выбилась из-под оседавшего дыма, Нил пошел по новому руслу.
И хотя мы выстояли на обжигающих скалах под солнцем уже несколько часов, ноги вдруг сами понесли нас по острым камням туда, вниз, к перемычке. Мы мчались навстречу Нилу.
Взрыв лишь проложил дорогу первым его струям. Застоявшийся перед преградой, воздвигнутой людьми, Нил теперь торопливо расширял лазейку, подмывая, обрушивая перемычку.
Поток ширился с каждой секундой. Неслась не вода, не пена, а коричневая жижа. Но она светлела с каждой минутой, и вот уже обозначилась в центре прорыва зеленоватая зеркальная струя водопада.
Люди испуганно шарахнулись от дикого потока. Нил ревел, как ревели, быть может, боевые слоны завоевателей, ворвавшиеся в стан врага. Он быстро затапливал тоннели. Видны были лишь вершины их полусводов.
Вот тогда-то из-под полукружья неистового водопада, между остатками перемычки, вырвался белый пенный султан высотой в десяток метров, и, может быть, впервые зримо ощутил человек, с какой могучей рекой вступил он в единоборство.
В этот момент наивысшего и, казалось, победного разгула водной стихии из-за серых бастионов скал глухо ухнул второй взрыв. Человек внезапно и расчетливо ударил из засады, пустив Нил против Нила. Взорвав перемычку на другом, нижнем канале, он заставил встречный поток остановить, утихомирить первый, прорвавшийся через тоннели.
И только что взявший наимощнейший разбег Нил приостановился в замешательстве, забурлил, завихрился водоворотами у подножия скал…
Еще немного — и он покорился! Он пошел в новое русло через тоннели к еще не достроенному зданию гидростанции.
А в старом русле, по которому Нил тек задолго до фараонов, самосвалы сбрасывали каменные глыбы в последние слабенькие его струи. На экскаваторе, загружавшем машины, работал русоволосый Василий Сердюков.
— Приехали мы сюда в шестидесятом. Что о нас арабы знали? Они нас не понимают, мы — их. А теперь? Теперь мы в труде сдружились, в беде и радости побратались.
С орденом Ленина, полученным за службу народам Африки, с медалью в честь перекрытия Нила вернется Василий Сердюков домой.
Его экскаватор поднял гору асуанского гранита. Этого камня хватило бы на пирамиду средней величины.
В стране пирамид, одного из «семи чудес света», наш земляк помог рождению «восьмого чуда» — великой плотины. Доброго чуда, которое облегчит людям труд и украсит их жизнь.
* * *
Между майским днем, когда был остановлен Нил, и январским, когда торжественно открыли все величайшие сооружения Саад аль-Аали, прошло около семи лет. За эти годы страна перенесла войну, узнала горечь поражения. Она потеряла лидера, который вел ее много лет: Гамаль Абдель Насер не дожил до заключительного праздника в Асуане.
Годы завершения стройки были грозными и трудными. Враг сумел выйти к берегу Суэцкого канала и омертвить эту межокеанскую водную магистраль. Самолеты Израиля бомбили мирные города и села. Израильские диверсанты подбирались и к Асуану. Они взорвали подстанцию в городе Наг-Хаммади, через который проходит линия высоковольтной передачи на север страны, на Каир. Бригада советского монтажника Героя Социалистического Труда Владимира Комара первой бросилась в бушующее пламя, а потом сутками не уходила с места диверсии, вместе с египтянами восстанавливая подстанцию.
Да, Садд аль-Аали народ достроил в трудные времена, но тем радостнее был праздник завершения поистине всенародного дела. На этом празднике не раз вспоминали бескорыстную помощь, которую оказывал и оказывает народу Египта советский народ. Свыше трехсот наших заводов посылали Асуану оборудование. Турбины для Садд аль-Аали изготовили ленинградцы.
Теперь, когда эти турбины дали ток, наши люди заботятся о том, чтобы он пришел в дома феллахов. Мы помогаем строить каналы для вод Садд аль-Аали, оживляющих пустыню.
Чтобы по-настоящему понять, что значат эти перемены для страны, вернемся к прошлому. Я хочу рассказать дальше про Египет 1958 года — мне довелось тогда довольно долго прожить на берегах Нила. А попутно в следующих главах пойдет рассказ и о теряющейся в веках далекой истории Египта, о всемирно известных памятниках, о фараонах и грабителях гробниц, о городе Солнца и прекрасной Нефертити, о находках археологов и о многом другом: ведь долина Нила, как и Междуречье, — один из очагов древней цивилизации.
Последнее убежище фараонов
Мой ученый спутник. — Загадки «домов вечности». — Сфинкс, который заговорил. — Гала-гала, фокус-покус! — Пробую пахать. — Город Солнца. — Там, где жила Нефертити. — Мумия Рамзеса Второго. — По следам грабителей. — Золотой гроб Тутанхамона
Я понял, что доктор Мавлют Ата Алла презирает меня. Мы сидели на балконе моего номера в гостинице. Под нами шумела набережная Нила. Ее жизнь была для меня еще непонятной и чужой; для доктора — привычной, примелькавшейся.
В уличном гаме я различал лишь гудки автомашин и свистки полицейских. Доктор же знал: вон тот старик нараспев расхваливает свой товар — моченую фасоль. Он понимал, что мальчишка-газетчик во все горло выкрикивает по-арабски название газеты «Пирамиды». Доктор мог даже сказать, о чем именно шумно спорят у подъезда два молодца в белых рубахах до пят (я уже не говорю о том, что для него это были не рубахи, а галабеи). В общем, он знал о Каире очень много, тогда как я, впервые прилетевший сюда три дня назад, — только то, что прочитал в книгах.
В светлом костюме и белоснежной рубашке, он сидел, не пытаясь ослабить узел галстука, хотя было около сорока градусов в тени. Он посматривал на меня сквозь дымчатые выпуклые очки близорукого человека, и взгляд его мог бы заморозить воду в графине.
— Нет, вы действительно совсем не говорите по-арабски? — переспросил он.
Я подтвердил. Доктор покачал головой:
— Так в каком же, простите, аспекте вы занимаетесь проблемами арабского мира?
Когда я смущенно пролепетал, что до сих пор был довольно далек от упомянутых проблем, доктор сделал жест, который мог бы сопровождать примерно такую невысказанную вслух мысль: «Этот писатель поистине странный тип, и непонятно, почему он попал сюда». Вслух, же доктор сказал:
— Но чем же я могу быть вам полезен, уж если так-то говорить?
Я нарисовал соблазнительную картину. Мне обещано всякое содействие в поездках по Объединенной Арабской Республике. Если он, доктор, согласится стать моим спутником, мы побываем далеко в стороне от проторенных, изъезженных туристских дорог. Нет, мы, разумеется, осмотрим и классические древности, но, сверх того, постараемся окунуться в самую гущу жизни народа. Ученый-востоковед, прекрасно владеющий арабским языком («И немного английским», — вставил тут доктор), вместе с писателем, обладающим, увы, лишь любознательностью, могут стать хорошими спутниками, не так ли?
По скептическому взгляду, брошенному из-под дымчатых очков, я понял, что ничуть не убедил доктора.
«Прекрасно, — говорил этот взгляд, — вашему будущему спутнику, очевидно, отводится роль переводчика. Но какая польза ученому-востоковеду от путешествия с человеком, который хвалится любознательностью и, значит, будет надоедать бесконечными вопросами?»
Я заторопился дальше. Стихия ученого, увлекающегося проблемами экономики Востока, — строгие, точные факты и цифры. И вот мы, не довольствуясь экономическими сведениями, так сказать, в разрезе всей республики, сможем не торопясь сами собрать интересный, подробный материал, скажем, в какой-либо одной деревне.
Ого, дымчатые очки потеплели! Лед тронулся!
— Вы извините, пожалуйста, — перебил меня доктор, — но не начнем ли мы скакать «галопом по Европам»? То есть в данном случае, разумеется, галопом по Арабскому Востоку?
Доктор сказал: «Мы». Отлично!
— Поймите, я не думаю ничего плохого о журналистах и писателях, однако…
Я поспешил уверить доктора, что понимаю его опасения. Так заключим же джентльменское соглашение: пусть командует парадом он, доктор. Если его особенно заинтересует что-либо во время нашей поездки и ему понадобится задержаться где-либо подольше — пожалуйста!
— Придется обдумать ваше предложение. — Доктор поднялся с кресла. — Буду звонить вам завтра утром до десяти.
С балкона мне была видна удалявшаяся широкая спина. Доктор не обернулся, не помахал рукой. Он шел по солнцепеку размеренно, солидно, без спешки…
Еще по дороге в Каир я мечтал о знающем, опытном спутнике, который помог бы освоиться в незнакомом арабском мире. Дни летели, а он не появлялся.
И вот теперь, видимо, сама судьба указала на такого спутника. О, если бы согласился доктор Мавлют Ата Алла, как арабы на свой лад переделали имя научного сотрудника Института народов Азии Академии наук СССР Мавлюты Фазлеевича Гатауллина!
Строго говоря, он не был доктором ни с ударением на первом «о», ни с ударением на втором «о». Однако в Каире, где он находился в длительной командировке, его ученая степень кандидата экономических наук соответствовала докторской, и все называли его доктором.
…Все утро я ждал звонка, даже завтракать не ходил. Наконец в трубке загудел знакомый голос:
— Если не возражаете, давайте поговорим серьезно.
Высокие договаривающиеся стороны при встрече быстро пришли к полному согласию. До поездки по стране мы осматриваем достопримечательности Каира. Вечерами будем просто ходить по улицам, базарам, лавкам, кофейням, мастерским ремесленников, наблюдая, изучая жизнь Каира.
— Великолепно! Отличное начало! Ей-ей, мы увидим массу интересного! — воскликнул я.
— Пиша алла! Если пожелает аллах! Так говорят здесь, — спокойно заметил доктор. — Вы, надеюсь, уже размышляли над маршрутом поездок по Египту? Обсудим его при следующей встрече. А теперь позвольте откланяться.
Конечно, я думал о маршруте еще в Москве и сразу по приезде в Каир, еще до встречи с доктором (я буду и впредь называть его только так, как называли арабы: запомните, пожалуйста, с ударением на втором «о»!), поспешил в Национальный музей. Пробыв там день, покинул его усталым, голодным, сбитым с толку. В блокноте теснились номера залов, сумбурные записи и множество восклицательных знаков. Получилось, что мне совершенно необходимо побывать, хотя бы недолго, и в Луксоре, и в Эдфу, и в Мемфисе, и в Саккаре, и в Абидосе, и, уж конечно, в Амарне.
Но, черт возьми, следовало обуздать жадность! И я до поздней ночи просидел над блокнотом, пытаясь сократить маршрут до разумных пределов.
О том, что было задолго до пирамид, когда нынешние пустыни еще радовали пышной зеленью трав, воздух не был так сух и горяч, как в наши дни, и в заболоченной нильской долине, в лесах тамариска, акаций, финиковых пальм бродили слоны, жирафы, антилопы, рассказывали музейные витрины с обломками орудий из кремня. Там же были экспонаты «веков полированного камня», когда стали иссыхать степи, а наступление пустынь заставило человека около десяти тысяч лет назад перебраться в долину Нила и поразмыслить о пользе орошения.
Но не мне, дилетанту, путешествовать по местам, где археологи ищут и находят памятники додинастического периода, в конце которого страна делилась на Верхний Египет и Нижний Египет, а те, в свою очередь, на небольшие княжества — номы.
Да, начать придется, должно быть, с тех мест, которые связаны с Ранним царством, когда из дали времен смутно вырисовываются фигуры царей первых двух династий. Третья династия открыла уже эпоху Древнего царства, эпоху пирамид Саккары и Гизы, а уже давно известно, что каждый гость Египта либо сначала идет в музей, а потом отправляется к пирамидам, либо, прокалившись у пирамид, спешит в прохладные музейные залы.
Так было и со мной.
На второй или третий день моей каирской жизни Петр Иванович Егоров, корреспондент ТАСС, повез меня по ночному городу.
Он сам сел за руль.
Водить машину в Каире может человек, обладающий железными нервами и быстрой реакцией. Он должен быть готовым ко всяким неожиданностям. Главное требование, которое предъявляет ему каирская улица, примерно таково: «Выбрось, парень, из головы всякие там правила движения, поскольку никто из пешеходов, никто из водителей встречных, обгоняющих или пересекающих улицу машин все равно их не соблюдает. Если ты, наивно полагая, что по правилам тебя могут обгонять только слева, потеряешь бдительность, то, возможно, аллаху будет угодно сделать тебя жертвой уличного происшествия. В общем, будь готов ко всему и почаще проверяй тормоза!»
Петр Иванович, впившись в руль, утратил на некоторое время дар речи. Малодушно боясь за жизнь, я не пытался отвлекать его расспросами о том, куда мы мчимся.
Машина перенеслась по мосту через Нил, выскочила на загородное шоссе, потом повернула влево и остановилась, как показалось, в открытом поле или пустыне. Петр Иванович с торжеством посмотрел на меня, и в его взгляде был вопрос: «Чего же вы молчите?» Я поспешил с комплиментами по поводу его действительно мастерской езды.
— Да нет, при чем здесь это? — удивился Петр Иванович. — Вы что, ничего не видите?
Я высунулся из машины. В бархатной темноте, закрыв часть усыпанного яркими, незнакомыми звездами неба, высилось нечто таинственное и непостижимо огромное.
То была пирамида Хеопса, главная из трех великих пирамид Гизы.
Она уходила вершиной в самую середину неба. Фары машин освещали на мгновение ее выщербленную грань и громадные прямоугольные глыбы. У подножия сидели, скрестив ноги, трое в белом и тихо разговаривали. В одном из углублений склона, там, где недоставало глыбы, горел невидимый костер, и его отсветы блуждали по шероховатой поверхности камня.
Пирамида уходила в бездонье черной ночи. Широчайшая в начале, эта темная дорога становилась чем дальше, тем уже и кончалась у неведомой звезды. Было в пирамиде нечто нечеловеческое. Ночью она не походила ни на что другое, знакомое, ее не с чем было сравнить. Тьма и звезды умножали ее величие.
Много раз я бывал потом возле пирамид, но уже никогда более не повторились ощущения первой ночной встречи.
Три великие пирамиды в Гизе, под Каиром, считались первыми из «семи чудес света» древнего мира. Напомнить об остальных? Кроме египетских пирамид и висячих садов Вавилона, это храм Артемиды в древнегреческом городе Эфесе, статуя Зевса в Олимпии, царский мавзолей в городе Галикарнасе, колосс Родосский — статуя бога Гелиоса на острове Родос и, наконец, гигантский маяк в Александрии.
Века сохранили нам не столько сами чудеса, сколько легенды и предания об их великолепии. Статуя Зевса погибла в V веке нашей эры, храм Артемиды уничтожили готы, а галикарнасский мавзолей — крестоносцы, колосс Родосский рухнул при землетрясении… В Александрии мы побываем, а пока — о пирамидах.
В Египте около восьмидесяти пирамид. Почему «около»? Хотя это и покажется странным, но вполне возможно, что даже и сегодня открыты еще не все пирамиды. Перед поездкой в Африку я выписал из журнала «Вокруг света»:
«На юге Египта найдена новая пирамида. Она разрушена временем и занесена песком. Археологи считают, что пирамида построена около 1700 года до нашей эры. Раскопки продолжаются».
В 1954 году египетский археолог Мухаммед Гонейм открыл пирамиду неизвестного до той поры царя Сехемхета. В ней был саркофаг, а также множество предметов, пролежавших под землей почти пять тысяч лет.
Но как случилось, что пирамиду не замечали до той поры? Ведь, скажем, пирамида Хеопса видна за десятки километров!
Сехемхет не успел достроить пирамиду, вот в чем дело. Было готово лишь огромное основание, позднее засыпанное песками пустыни. Тысячи людей, среди которых были и археологи, не обращали внимания на странное каменистое плато.
Открытая Гонеймом пирамида находится не в Гизе, а в Саккаре. Это тоже неподалеку от Каира. Саккара была кладбищем города Мемфиса, древнейшей столицы Египта.
Главная из саккарских пирамид не похожа на те, какие мы привыкли видеть на снимках и рисунках. Она подымается ввысь несколькими уступами или ступенями. Ее построил для Джосера, первого фараона Древнего царства, зодчий Имхотеп. Это не только старейшина среди пирамид, но, вероятно, и первое в мире крупное каменное сооружение.
Мухаммед Гонейм считал Саккару самым интересным местом в Египте для всякого, кто увлекается далеким прошлым. Он упрекал туристов, которые, побывав у великих пирамид в Гизе, возвращаются в Каир, вместо того чтобы проехать еще несколько километров и осмотреть величайший некрополь мемфисских фараонов.
Разве гробницы царей первой династии, живших до Хеопса, не достойны внимания? А более поздние мастабы — усыпальницы, сложенные из кирпича-сырца? Как много могут они рассказать внимательному исследователю! Уже тогда египтяне очень заботились о благополучии мертвецов на том свете и окружали гробницы подземными камерами, где хранилась пища для покойника. А скелеты в скромных погребениях вблизи усыпальницы царицы? Не слуги ли это, убитые для того, чтобы они и в загробной жизни могли работать на свою повелительницу?
Я знал, что Мухаммед Гонейм уже давно переселился в Саккару и живет в доме неподалеку от «своей» пирамиды. Мне почему-то казалось, что он находится на раскопках безотлучно, и я был разочарован, услышав:
— Доктор Гонейм уехал по делам. Вы можете оставить ему письмо или визитные карточки.
Осматривать Саккару, не познакомившись с талантливым египетским ученым? У меня ведь теплилась надежда, что, может быть, он захочет рассказать приезжему «руси» о своих последних находках…
В конце концов, решил я, Саккара ближе от моей гостиницы, чем Архангельское от Москвы; приедем в другой раз, предварительно условившись о встрече с первооткрывателем пирамиды Сехемхета.
Но я так и не познакомился с молодым ученым: вскоре он стал жертвой несчастного случая. Мухаммеду Гонейму не удалось довести до конца дело своей жизни. Его книга «Потерянная пирамида» обрывается на словах:
«Сейчас ясно одно: мы только приступили к работе. Мы едва начали «царапать» поверхность… Понадобится по крайней мере еще лет двадцать, чтобы исследовать весь этот комплекс, созданный почти пятьдесят веков назад, в те времена, о которых история хранит молчание».
Пирамида Хеопса до середины прошлого столетия была самым высоким сооружением на земле. Свыше сорока шести веков она удерживала этот рекорд.
И, наверное, на вечные времена останется за величайшей из пирамид другой рекорд — рекорд бессмысленной, расточительной растраты человеческого труда.
В самом деле, для чего, спрашивается, были изготовлены два миллиона триста тысяч огромных известняковых глыб, так тщательно отшлифованных, что при кладке между ними нельзя было всунуть даже лезвие ножа? Зачем понадобилось взгромоздить странным сооружением почти в сто сорок семь метров высотой эти глыбы, которыми можно загрузить шестьсот тысяч железнодорожных платформ и которых хватило бы для постройки целого города? Во имя чего по три месяца в году сто тысяч человек на протяжении трех десятилетий, как свидетельствовал Геродот, трудились в пустыне?
Многим хотелось верить, что в сооружении пирамид был какой-то глубокий смысл, неизвестный нам. Английский астроном Смис в прошлом веке два года прожил возле пирамиды Хеопса, занимаясь измерениями и тщетно стараясь доказать, что в размерах и расположении пирамид увековечены для потомства обширнейшие астрономические познания древних египтян. Другие исследователи выдвигали свои предположения, иногда совершенно фантастические. Однако большинство думает, что пирамиды — это гробницы древнеегипетских фараонов, и ничего более.
Египтяне верили в продолжение жизни на том свете. Но, по их представлению, загробная жизнь продолжалась лишь в том случае, если сохранялось тело умершего. Потому-то его и превращали в мумию, почти недоступную тлению. Мало того: требовалось укрыть мумию в таком месте, куда не могли бы добраться враги или грабители, привлеченные сокровищами, которые фараоны «брали с собой». Лишь душа «Ба», лишь «Ка» — незримый двойник, заступник и покровитель покойного в загробном мире — могли иметь доступ внутрь «дома вечности». И горе, если этот дом будет осквернен, если руки святотатцев коснутся приготовленного к вечной жизни тела!
Так родились пирамиды — грандиозные, прочнейшие сооружения, казалось надежно защищавшие прах «бессмертных».
Но три пирамиды в Гизе — Хеопса (или Хуфу), его сына Хефрена (или Хафры) и фараона Микерина (Менкаура) — не хранят ни мумий, ни драгоценностей. Давно ли их опустошили? По-видимому, очень давно.
В IX веке покой фараона Хеопса нарушил багдадский халиф аль-Мамун, сын Харуна ар-Рашида.
Арабские предания утверждают, что люди аль-Мамуна, надеясь на богатейшую добычу, долго искали следы замурованного входа внутрь великой пирамиды. Не найдя его, начали наугад пробивать штольню железными ломами, растворяя неподатливый известняк уксусом. Когда штольня уже далеко углубилась в каменную толщу, любители наживы случайно наткнулись на один из тайных переходов внутри пирамиды. Потом был обнаружен второй переход, третий. По нему они проникли в погребальную камеру.
Не существует достоверного описания их находок. Упоминается статуя, похожая на человека, золотой нагрудник, драгоценный камень величиной с яйцо, горшок с изумрудами… Но некоторые историки думают, что халиф тайком сам подложил все это, чтобы хоть как-то вознаградить людей за долгий, изнурительный труд внутри пирамиды. Ясно одно: аль-Мамун не нашел сказочных несметных сокровищ фараона, на которые рассчитывал. Те, кто позднее шел по следам людей халифа, видели лишь пустой саркофаг без крышки.
Значит, до арабов в пирамиде побывали удачливые грабители? Но современных египтологов не удовлетворяет это простое и правдоподобное объяснение.
Хорошо, допустим, неведомые грабители унесли сокровища Хеопса. Но зачем понадобилось похищать и тащить по узким галереям внутри пирамиды тяжелую гранитную крышку саркофага, следов которой так и не удалось найти? Почему строители в свое время не опустили громадные каменные заслонки, которые надежно закрыли бы вход в зал погребальной камеры? Каково назначение второй камеры внутри пирамиды, условно называемой «комнатой царицы»?
Не так давно выяснено, что некоторые египетские фараоны строили два и даже три «дома вечности». Похоже, что, помимо настоящих, сооружались еще и кенотафы, или ложные гробницы. Почему? Для чего?
Вот точка зрения ряда египтологов. В древнем, дофараоновом Египте существовал обычай умерщвления одряхлевших вождей. Этот обычай во времена фараонов превратился в обряд «хеб-сед», когда «убивалась» статуя фараона, а сам он считался как бы вновь рожденным и полным сил. «Хеб-сед» впервые справлялся после того, как фараон просидел на троне тридцать лет. Так, может быть, кенотаф, ложная гробница, как раз и была нужна для ложных мумий лжеубитых фараонов?
«Если верить Геродоту, то Хеопс строил пирамиду 30 лет, значит, он должен был дожить до «хеб-седа», а может быть, и праздновать его дважды. Стало быть, у него могло быть два кенотафа, то есть один — «комната царицы», а второй — большая верхняя камера. В кенотаф никаких сокровищ не помещали. И тогда становится объяснимым, почему здесь нет следов ограблений и почему не опущены каменные заслонки.
Если это так, то был ли вообще кто-либо похоронен в самой грандиозной из египетских пирамид?
А может быть, когда-нибудь найдут другую гробницу Хеопса. Будущие раскопки, возможно, дадут ответ на этот вопрос».
Это выписано из работы египтолога Р. И. Рубинштейн «Загадки пирамид». Предположение, что великая пирамида, сооружением которой Хеопс основательно истощал силы целой страны, не стала даже местом укрытия его праха, потрясает, кажется невероятным, и не все согласны с ним. Но, как мне представляется, в его пользу говорит и упоминание в арабских преданиях о находке людьми аль-Мамуна статуи, похожей на человека: не была ли она лжемумией Хеопса?
Мысль ученых не стоит на месте, и, видимо, еще преждевременно говорить о разгадке всех тайн величайших из пирамид!
В новейших исследованиях работа «муравьев» аль-Мамуна, долгие месяцы долбивших камень, поручена элементарным частицам, мю-мезонам. Известно свойство этих частиц — терять часть энергии при прохождении через различные вещества. Если в толще пирамид окажутся до той поры не известные пустоты погребальных камер, чувствительные приборы, возможно, обнаружат их.
Когда я впервые был у пирамид, их сосед, сфинкс, хранил молчание. Его обезображенное лицо оставалось загадочным и непроницаемым.
Потом сфинкс заговорил, да еще как! Он выбрал для разговоров начало ночи, когда тьма окутывает пустыню. Громоподобным голосом, который слушают тысячи туристов, сфинкс повествует о тысячелетиях, прошедших перед его глазами. Он говорит о Геродоте, впервые назвавшем его сфинксом, о строителях пирамид, о мире, который боится времени, и о времени, которое боится пирамид.
«В сущности, я не имею ничего общего со странным мифологическим существом, — откровенничает сфинкс. — Я человек. Правда, этому трудно поверить при первом взгляде на мое обезображенное лицо. Но ведь было время, когда люди превратили меня в мишень для пушек. А эти отвратительные ветры пустыни! Они всегда причиняли мне беспокойство и даже заносили меня песком до самой головы. Лишь несколько десятилетий назад меня откопали полностью и, я надеюсь, навсегда. Теперь вы можете видеть мое львиное туловище с гигантскими лапами».
В эти минуты лучи прожекторов, которые освещали голову сфинкса, выхватывают из тьмы всю его фигуру.
«В Древнем Египте лев был символом силы, и потому фараоны любили изображать себя вот в таком виде, — продолжает сфинкс. — Моя голова, служившая загадкой для многих поколений, — это всего лишь изображение головы фараона Хефрена. Он велел вырубить меня из целой скалы диорита. Долгие тысячелетия маленькие фигурки людей, толпясь у моих ног, смотрели на меня, как на стража пирамид. Древние египтяне почитали во мне бога Солнца и потому называли меня Гармахис. Позднее арабы совершенно несправедливо назвали меня Абу эль-Холь — отцом страха.
Я не мог защититься от всяческой таинственной мистики, которой наделили меня люди в фильмах и романах. Поэтому я особенно рад, что теперь в моем распоряжении новейшее радиооборудование и в звукосветовом представлении, которое вы видите теперь, я могу на разных языках поведать, что было со мной и с моим «городом мертвых» за четыре с половиной тысячи лет».
Сфинкс говорит затем о пирамидах и фараонах, показывая недурную осведомленность в исторических событиях. Я не поручусь, что история страны освещается им с последовательно материалистических позиций, но, право же, странно было бы ждать этого от столь древнего существа, да еще разверзшего каменные уста при дружеской поддержке всемирно известного голландского радиоконцерна «Филлипс»…
Искусная игра света и цвета, стереофоническая звукозапись, передающая то грохот боя у подножия пирамид, когда отчаянное ржание коней, запряженных в боевые колесницы, заглушается звоном мечей, то стоны рабов и свист бичей надсмотрщиков, то нежные мелодии танцев, переносят нас во времена фараонов. А сфинкс продолжает повествование. Он говорит о том, что уже тысячелетия первый луч солнца, встающий за Нилом, прежде всего касается его лица. Говорит сфинкс о древних иероглифах, слагавших песни любви, говорит о прекрасной Нефертити и о многом, многом другом.
Но стоп, стоп!
Уже давно известно, что тот, кто пишет о Египте, рискует заблудиться в веках или завязнуть в египтологии. Поэтому ему время от времени следует выбираться из гробниц фараонов, чтобы взглянуть на витрину шляпного магазина, афишу кинотеатра или на регулировщика.
Это хороший совет. Пока что из гробниц фараонов и от сфинкса я намерен вернуться в гостиничный номер, чтобы оттуда выбраться на каирскую улицу, а потом и в магазин…
* * *
Просыпаюсь на влажной от пота простыне. Номер у меня без искусственного охлаждения воздуха. Мне предстоит путешествовать по таким местам, где, возможно, вообще нет гостиниц; значит, надо заранее привыкнуть к дневному зною и ночной удушающей жаре.
Смотрю на часы и термометр. Четыре часа утра и 32 градуса жары. Эх, нырнуть бы сейчас в прохладную речную глубину!.. Или выскочить на балкон, а там чтобы снега невпроворот, хватай его пригоршнями, растирайся, чувствуя, как ледяная вода струйками бежит по телу.
Но на балконе та же духота. Нил рядом, однако от него не прохлада, а влажность, делающая жару еще нестерпимее.
Иногда меня будит призыв на молитву. Он несется со всех минаретов Каира задолго до восхода. Если призыв не помог, действует другой будильник — бубенцы. Лошадки и ослики тянут по набережной к базарам длинные телеги — платформы на колесах с резиновыми шинами. Цок-цок-цок, динь-динь-динь…
На телегах белые и черные пятна. Сидят густо, по пятнадцать, двадцать человек, да еще кладь. Между плетеными корзинами прикорнули детишки. Цок-цок-цок, динь-динь-динь…
Светает быстро, резко. Бледно-лимонное небо мутновато от легких облаков. Затем оно синеет, облака бесследно тают.
Белые крупные птицы парами, едва не касаясь друг друга крыльями, летят над самым Нилом к морю. Я тупо и сонно смотрю с балкона на коричневые нильские воды, густо насыщенные плодородным илом. В синеве над минаретами плавают коршуны.
Поднялось солнце, и каирская улица орет уже в полный голос, без всякого стеснения. Машины гудят непрерывно. Уличные продавцы выкрикивают название своего товара так, будто их бьют палками и они взывают о помощи. Велосипедисты звонят, гудят в рожки и, не доверяя технике, пронзительно свистят и кричат, пугая зазевавшихся прохожих.
Велосипед в Каире удивительно вынослив. На ином катят по трое здоровенных парней: один на седле, другой на раме, третий верхом на багажнике. Лихо мчится разносчик из пекарни. На голове у него огромная корзина с нанизанными на палочки свежими рогаликами. Одной рукой он поддерживает ее, другой вцепился в погнутый руль, вихляет, орет, а раздувающаяся галабея, того и гляди, зацепится за встречную повозку.
Арабу велосипед заменил лошадь. Он молодецки вскакивает в седло со щегольской бахромой. Серебряные стремена и чеканную уздечку на велосипед не наденешь, зато его можно украсить двумя зеркалами, поставить три звонка разной громкости, укрепить над рулем флажок или портрет какой-либо популярной личности.
С треском катит мотоцикл. Его коляска самодельно расширена и удлинена по потребностям разросшегося семейства: в ней сидят четверо. Бесшумно мчится огромная мощная машина, последняя американская модель, и сухонький старичок в феске затерялся на огромном кожаном сиденье. Пестр Каир!
Пью чай на балконе. Пока еще не так жарко, женщины высыпали на плоские крыши богатых домов, где натянуты тенты и даже посажены деревья.
Крыша в Каире ночью — спальня; ранним утром и вечером — место отдыха. Там же склад всяческого добра, вроде обезноженных стульев, отслуживших свой век кривобоких кроватей и просто кусков дерева, которые никогда не валяются на улице в этой безлесной стране. Здесь же ночуют велосипеды. В домах победнее по крышам разгуливают куры.
Ближе к полудню солнце поджаривает Каир на адской сковородке. Кажется, если постоишь минут двадцать под его прямыми лучами, то начнет тлеть рубашка.
По-моему, после часу дня в Каире может сносно чувствовать себя только саламандра. Улицы совершенно пусты, магазины закрыты. Деловой день делится надвое перерывом на жару. Люди спасаются в тени, которая в эту пору совсем коротка.
Но вот солнце медленно спускается к горизонту. Открываются двери лавок, постепенно густеет толпа. Каир выходит на улицу.
В любви к уличной жизни каирец превосходит парижанина. Кажется, он покидает улицу только для сна, да и то неохотно. А многие и спят на улицах.
В Париже кафе занимают часть улицы. В Каире улица вторгается в кофейни, но у владельцев и посетителей нет ни малейшего желания отделиться от уличной сутолоки. Ни дверей, ни барьеров. Столики выставлены прямо на тротуар, Посетители — одни мужчины, только мужчины — сидят лицом к улице. Некоторые выдвинули стулья совсем к проезжей части, так, что пешеходы остаются у них за спиной, а под носом скрежещут тормозами такси. Кое-где стулья поставлены рядами, как в кино. Экран — сама улица с ее жизнью, всегда интересной старожилу.
В кофейнях почти никто не ест. Пьют холодную воду, кофе, чай. Пьют не спеша. За стаканом воды можно просидеть и час и два, разглядывая толпу или поджидая знакомого.
Во всех каирских кофейнях вместо еды и питья можно заказать только трубку. Мальчик тотчас притащит довольно сложное сооружение, имеющее мало общего с теми безделушками, которые чудаки европейцы по недоразумению называют трубками. Каирская трубка стоит на полу. В руках у курильщика ее гибкая часть с мундштуком. Мундштук делается из янтаря, чубук украшен арабесками. Дым проходит через сосуд с водой. Курят медленно, развалившись на диване или откинувшись на стуле. Иногда двое-трое, сидя вокруг столика, по очереди сосут одну трубку.
А это что за странные звуки? Неужели шарманка? Она! Я видел такие только на рисунках и в фильмах о Петербурге прошлого столетия. Шарманка оклеена картинками несколько вольного содержания. Одноглазый старик крутит ручку, гибкий подросток-акробат кувыркается на мостовой.
Парень несет за плечами огромную бутыль, примерно такую, в каких у нас перевозят серную кислоту. Только эта бутыль покрыта узорами, вокруг горлышка бахрома, внутри плещется прохладительный напиток со льдом.
А рядом ресторан на двухколесной тележке. Кушанья разложены под куполом из цветных, ярко раскрашенных стекол. Тележка дымит трубой, кушанья с пылу, с жару.
Но вот солнце садится в гущу домов и минаретов. Почти тотчас зажигаются вечерние огни: сумерки короче воробьиного носа.
Шумит, бурлит вечерний Каир. Работают все учреждения, конторы, банки, магазины.
Десять часов вечера, а в узких улочках и переулках старых арабских кварталов еще самый разгар торговли, игр, гуляний. Прямо на улице — вешалки продавцов старья. Они предпочитают полутьму, чтобы покупатель не разглядел заплатку на выцветшей рубахе. Некоторые лавки устроены просто в нишах, нет у них ни дверей, ни замков.
И что за смесь запахов! Подгоревшее масло, нежный аромат плодов манго, керосиновая гарь примусов, дым дешевых сигарет, нагретый асфальт, чеснок, напоминающее ладан неведомое благовоние…
При тусклом свете лампочки над входом в дом босоногая ребятня гоняет по переулку тряпичный мяч. Мальчишки подоткнули полы галабей. Тени мечутся по стенам. На крылечке сидят трое: пожилой толстый мужчина в феске и двое парней в солдатских рубахах. Поодаль на корточках черная фигура женщины. Она прислушивается к разговору, однако не смеет вмешиваться в дела мужчин. Возможно, это жена толстяка.
Скоро полночь, но люди не спят. По-прежнему густа толпа в узких улочках. Полны кофейни, и ребятишки азартно играют в арабские пятнашки.
Гортанный голос, нараспев, с паузами произносящий незнакомые слова, плывет над ночным Каиром. Это муэдзин, служитель мечети, призывает правоверных совершить очередную молитву.
Пять раз в сутки раздаются голоса муэдзинов, повторяемые множеством громкоговорителей. Пятым, последним призывом и заканчивается каирский день.
* * *
Согласившись стать моим спутником, доктор Мавлют Ата Алла несколько дней заканчивал свои дела. Я не торопил его, памятуя рожденную еще в средневековье арабскую поговорку: «День ученого ценнее, чем вся жизнь невежды».
Наконец мы вместе отправились в департамент информации, ведающий поездками иностранцев по стране.
— Что хотел бы дорогой брат из великой России увидеть в моей стране? — обратился ко мне чиновник.
Доктор обстоятельно изложил программу, составленную двумя «дорогими братьями». Чиновник внимательно записал все, одобрительно кивая головой.
— Окончательный ответ по поводу этой поистине великолепной программы дорогому брату будет сообщен, как я думаю, в самое ближайшее время.
С этой беседы в департаменте информации для нас начались чрезвычайно пестрые дни и недели. Иногда мы спали четыре-пять часов в сутки, иногда вынужденно бездельничали добрых полдня. Мы уезжали из Каира и возвращались в Каир не меньше десяти раз. Дважды мы пересекали даже границу страны. У нас бывали разные спутники. С первым из них мы познакомились во время той же беседы в департаменте информации.
— Пока уточняется программа, — сказал чиновник, — вы могли бы совершить несколько коротких поездок по окрестностям Каира на нашей машине. Они, несомненно, доставят вам удовольствие. И если, конечно, вы не будете возражать, я хотел бы представить вам спутника в этих поездках.
В комнату вошел распаренный блондин. Его плечи оттягивали два фотоаппарата и кинокамера.
— Знакомьтесь, ваш коллега Том Аллен из Канады. — Чиновник перешел с арабского на английский. — Ваши русские коллеги, позвольте вам представить.
— О, иес, — неопределенно пробормотал канадец, протягивая руку. — О, иес!
Блондин со светлой кожей северянина имел неосторожность знакомиться с Каиром, почтительно сняв шляпу. Солнце наказало его за это. Теперь Том Аллен выглядел неопытным курортником: кожа клочьями слезала со лба и носа бедного канадца и он стеснялся своего нелепого вида.
Чиновник предложил развезти всех нас по гостиницам на машине департамента. Ему хотелось, чтобы мы быстрее нашли общий язык, необходимый для совместных поездок.
Том Аллен показался мне, в общем, славным малым, немножко увальнем. По дороге он рассказал, что в Африке впервые, что должен написать несколько очерков для своей газеты, что очень тяжело переносит жару и что ему хотелось бы побывать в Сибири, которая, говорят, напоминает Канаду.
Машина остановилась у подъезда гостиницы «Континенталь».
— Ахмед! — Чиновник выразительно показал шоферу на портфель канадца.
— Эй, раис! — тотчас высунулся из окна шофер.
Раис, старший слуга у подъезда, открыл дверцу машины, взглянул на портфель и обернулся назад:
— П-ст, п-ст!..
Выросший из-под земли мальчишка схватил портфель. Вся эта цепная реакция заняла несколько секунд.
Когда мы подъехали к отелю «Гезира-палас», где жил я, доктор тоже вышел из машины.
— Если вы собираетесь и дальше изучать жизнь Каира с балкона этой гостиницы, то я едва ли смогу быть вам полезным, — сказал он. — Нам надо переехать в недорогой пансионат и жить вместе.
— Согласен! Но где мы найдем такой пансионат?
— Уже, — сказал доктор. — Он уже найден. Собирайте вещи и прикажите принести счет.
Пансионат занимал второй этаж старого дома. Привратник в застиранной галабее держал в руке белую розу и смотрел на нее глазами поэта. Комната была огромной, окна выходили в тихий переулок.
В столовой подали рис с какими-то специями, зеленый едкий перец и пресные лепешки. Вокруг сидели арабы. Мы были единственными чужестранцами.
Этот пансионат надолго стал нашим домом, и мы с удовольствием возвращались сюда после поездок.
Возле Каира немало уголков, которые непременно показывают гостям. Один из них — сооружения у начала нильской Дельты. Дельта часто пишется с прописной, потому что это не только дельта реки, но и важнейший район страны, сильно отличающийся от остальных.
Среди роскошных садов, где пальмы и густо разросшиеся смоковницы перемежаются полянками с подстриженной на английский манер травой, поднимаются грозные башни, сторожевые и орудийные. Это не замок, не крепость, а плотина. Ее достраивали при правителе, который бредил пушками и укреплениями.
К гибриду плотины и крепости мы приехали впятером: доктор, Том Аллен, Абу Самра, Осман и я.
Мухаммед Абу Самра, чиновник департамента информации, должен сопровождать нас во всех поездках по стране. Ему 25 лет, у него ладная фигура спортсмена, густейшие черные волосы, маленькие усики и ослепительная улыбка. Он уже не первый раз ездит с иностранными журналистами и писателями.
Осман — наш водитель. Это само добродушие и спокойствие. Осман грузноват, нетороплив и, как видно, любит поесть: не выпуская руля, он то и дело достает что-то из кармана и украдкой отправляет в рот.
Мы сидели в тени смоковницы, когда худой, высохший человек в белой галабее и красной феске, со старой кожаной сумкой через плечо подошел к нам и сказал по-английски:
— Не окажут ли мне уважаемые господа честь? Несколько маленьких фокусов, только и всего.
С этими словами он расстелил на траве тряпочку и вынул из сумки три медные ступки. Вслед за тем появились три мячика. Фокусник предложил Тому положить мячики под ступки. Затем он поднял их одну за другой — и три цыпленка, выскочив из-под ступок, принялись деловито искать в траве букашек.
— Это просто, — неуверенно сказал я. — Об этом писал, кажется, в «Огоньке» какой-то наш иллюзионист.
Когда показывают фокус, мы почему-то прежде всего говорим себе и другим, что это очень просто, что мы даже знаем, как все делается, но, к сожалению, забыли кое-какие подробности. Знаем лишь, что все очень, очень просто.
Должно быть, это общая черта зрителей всех национальностей. Фокусник, который ни слова не знал по-русски, угадал смысл моей фразы и предложил мне самому вырастить цыплят под ступками.
Тем временем собрались еще зрители. Мальчишки глазели на чудеса, раскрыв рты. Фокусник попросил меня и канадца взяться за концы длинной палки. Доктор получил кольцо. Фокусник попросил его отойти в сторону и дунуть на кольцо. Доктор сделал это не без колебаний и с таким видом, будто хотел сказать: «Это не очень-то солидно для ученого, но чего не сделаешь, чтобы доставить удовольствие легкомысленным друзьям». Он нехотя дунул — и кольцо оказалось у нас на палке. Я смотрел на Тома. Том — на меня, доктор — на кольцо.
— Еще раз, — строго сказал доктор. — Я сам буду держать, а Том пусть дует!
— О, иес! — согласился Том.
Мы с доктором взялись за концы, Том подул — и кольцо снова зазвенело на палке.
— Гала-гала, фокус-покус!
Мы вознаградили фокусника. Он с достоинством поблагодарил и хотел уйти, когда доктор обратился к нему по-арабски. Я увидел на лице фокусника почти то же выражение, которое минуту назад было у нас с Томом.
— Вы знаете мой язык? Кто вы? Откуда?
Доктор сказал и стал в свою очередь расспрашивать фокусника. Рагиб Мухаммед Гинди с семи лет выступает перед публикой. Отец его был фокусником, дед — тоже, а возможно, и прадед. Два брата Рагиба — фокусники в Порт-Саиде и Александрии. Заработок? Когда нет туристов — почти ничего. Все зависит от их щедрости. Он приходит сюда каждый день из деревни, которая за мостом.
— Не могли бы мы навестить вас? — спросил доктор.
Тень испуга пробежала по лицу фокусника.
— Господин, мое жилище слишком скромно… Но если таково ваше желание…
Мы пробирались среди возвращающихся с базара женщин, несших пустые корзины на головах, среди погонщиков ослов и верблюдов, вышагивающих по мосту с кипами хлопка. Впереди фокусник, за ним двое русских, обвешанный кинокамерами и фотоаппаратами «инглиз» (так египтяне называют англичан), затем ватага босоногих мальчишек и, наконец, с тихим урчанием ползущая роскошная американская машина департамента информации.
В узких деревенских улицах машина отстала. Худые собаки нюхали воздух, не решаясь лаять. Куры блаженствовали в пыли. Женщина поклонилась фокуснику и сказала что-то.
— «Я рада приветствовать тебя, моя сладость, но куда ты ведешь эту свору?» — спросила она нашего друга, — посмеиваясь одними глазами, бесстрастно перевел доктор.
Мы втиснулись в какую-то щель и поднялись по земляным ступеням на второй этаж. Испуганно шарахнулся прочь теленок. Фокусник толкнул дверь. Это был скорее чулан с крохотным оконцем, чем комната. На нарах сидела женщина, устало и безразлично кивнувшая в ответ на наши приветствия. Двое ребятишек возились в соломе на полу. Третий, совсем крохотный мальчик, лежал на стареньком одеяльце в жаре, в духоте, и мухи роились над ним. Ему было семь дней от роду.
Я вспомнил рождение своего сына, белые халаты, стерильную чистоту родильного дома, смущенных и счастливых отцов с букетами осенних астр… И острая жалость полоснула сердце.
Пробормотав что-то о пыли, я попятился прочь из каморки. Заметил ли фокусник мое состояние? К счастью, кажется, нет. Он с любовью смотрел на крошку и шептал что-то нежное и трогательное…
В Каир мы возвращаемся другой дорогой.
Что за белые здания на берегу канала, по которому медленно тянутся барки?
— О, там школа! — оживляется Абу Самра. — Школа, где учат учителей!
Гостей не ждали. Нет ни директора, ни заместителя, и нас принимает Сеид Рабия, парень неполных девятнадцати лет. Год назад он окончил вот эту школу, которая выпускает учителей для деревни, и пока оставлен здесь, чтобы помогать преподавателям.
Школа совсем молода, прошлогодний выпуск был первым.
— Двадцать палаток — вот все, что было у нас, — рассказывает Сеид Рабия, и глаза его горят. — Приехал министр просвещения. Все мы сели на землю под знамя республики — все сто пятьдесят человек, которые решили стать учителями. «Чего вы хотите?» — спросил министр. «Воды и света», — сказали мы. «Куейс» («Хорошо»), — сказал министр. Нам провели свет и дали денег на водопровод. Все остальное сделали мы сами. Мы сами строили, мы сами обрабатывали землю.
Не только канцелярия, но и все коридоры, все закоулки школы увешаны картинами. Их рисовали студенты. Когда я смотрел на них, мне вспомнились первые наши послереволюционные годы. Я был тогда мальчишкой и частенько заглядывал в окна «Студии пролетарских художников», занявшей нижний этаж каменного дома красноярского купца Полякова. Художники не прятали свои творения, стен в студии не хватало, и некоторые картины в погожие дни вывешивались даже на заборе. На них изображались мускулистые рабочие, пожимавшие руки обутым в лапти крестьянам, атаки красной кавалерии, бронепоезда, из труб которых валил густой дым, а пушки грозно извергали пламя.
Художников учительской школы тоже влекла революционная романтика и героика. Кажется, охотнее всего они рисовали битву за Суэцкий канал.
Маленькую комнату занял музей кустарных изделий. Студенты, собравшиеся из разных провинций, делали на досуге то, чему учили их отцы и деды. Один вырезал из корня буйволицу, да как здорово!.. А это что? Откуда у них наш украинский кувшин?
— Абрик, — пояснили мне.
Я сказал, что на Украине делают такие же сосуды.
— О, мир между нами! — воскликнул наш провожатый.
В комнате были еще и предметы деревенского быта. Здоровенная ложка-поварешка: такой и убить можно. Деревянные ступки для перца. Висячая лампа из полосок жести. Стулья, плетенные из пальмовых дранок. Глиняные балласы — кувшины для ношения воды.
Нас повели в поле. Я попробовал стать за плуг. Тяжело! Да это и не плуг вовсе, а скорее соха: деревянный брус, к которому снизу прибита металлическая пластинка, с трудом разрывающая пересохшую землю. Том с удовольствием запечатлел мои неловкие движения.
— О, иес! — смеялся он. — Я не думаю, чтобы вы могли прокормить себя в этой стране трудом земледельца!
Он шутил, но наш провожатый счел нужным вступиться:
— Я уверен, что русский друг быстро научился бы. Я благодарен ему за то, что он не погнушался трудом феллаха. И мы просим вас всех приехать к нам завтра, мы устроили бы обед, и пусть каждый расскажет о своей стране!
— Едва ли это возможно, — быстро, но решительно возразил Абу Самра, — у наших гостей уже разработана программа.
— Инша алла, — развел руками провожатый, — мир всем вам. И мир между нами!
* * *
Лишь побывав в Национальном музее второй, третий, четвертый раз, понял я, как велики заслуги человека, памятник которому поставлен перед зданием.
Огюст Мариэтт приехал в Египет в середине прошлого столетия. Он собирался купить парижскому музею несколько папирусов и тотчас вернуться в Европу. Но он остался в Египте до конца своих дней, и прах его покоится в древнем саркофаге — честь, которой удостаиваются лишь очень немногие!
Мариэтт сделал ряд важных открытий. Но самое главное: создав музей в Каире, он добился принятия закона, положившего конец расхищению египетских древностей. До той поры их беспрепятственно вывозил кто хотел и куда хотел. При Мариэтте находки, сделанные в египетской земле, стали оставаться на этой земле. Уже не в музеи Лондона или Парижа приходили ящики с саркофагами и мумиями — нет, с тех пор их бережно распаковывали в залах Национального музея.
Обычно я ходил по этим залам без доктора. Но перед поездкой в Амарну — туда, где жила Нефертити, — мы пришли вместе. Мы надеялись также выхлопотать разрешение на вход в «зал мумий», который закрыт для обычных посетителей музея. В него допускались только ученые-египтологи. Но, может быть, для нас сделают исключение?
На этот раз хотели обойтись без гида. Не тут-то было! Появился рослый мужчина с царственной осанкой и хрипловатым голосом:
— A-а, господин доктор! Какое удовольствие для глаз снова видеть столь ученого человека в нашем музее! Это ваш друг? Тоже ученый? A-а, катиб!
Катиб — это писатель. Доктор и гид переходят на арабский, обсуждая какие-то важные новости.
Когда несколько раз смотришь одни и те же музейные коллекции, начинаешь относиться по-своему и по-разному к каждой вещице. Одна заставляет возвращаться к ней снова и снова, другая оставляет равнодушным, третья становится любимой.
…Вельможа Рахотеп и его жена Нофрет сидят рядышком, в одинаковых позах. По-видимому, у нее на голове парик, губы неярко накрашены. Глаза из голубого камня со вставным хрусталиком кажутся подведенными. На шее ожерелье из нескольких рядов разноцветных пластинок. У мужа коротко подстриженные усы. Мода третьего тысячелетия до нашей эры не так уж устарела. Право, на улицах Каира можно увидеть сколько угодно рахотепов в галабеях и пиджаках…
Писец Ка-Иру-Хуфу поджал ноги и расстелил на коленях лист папируса. Какая-то важная персона будет ему сейчас диктовать, и в нее, невидимую, впился подобострастным взором полуобнаженный египтянин из подкрашенного известняка.
Иду к «деревенскому старосте».
Здравствуй, человече! С тобой заочно знакомы десятки, а может, и сотни миллионов людей. Твое изображение есть, наверное, в доброй половине книг о Египте, в трех четвертях книг о египетском искусстве да и во многих учебниках. Я представлял тебя в обычный человеческий рост, а ты мне всего по пояс. Но какой же ты важный, надменный, как твердо держишь посох!
Гид видит, что я остановился у фигурки «старосты».
— Обратите внимание, скульптура, включая согнутую левую руку, сделана из целого куска сикомора.
Хрипловатым голосом он рассказывает давно знакомую историю о том, как феллахи деревни Саккара, случайно откопав фигурку толстяка, собрались вокруг нее с криками: «Шейх эль-балад! Деревенский староста! Наш деревенский староста!»
Что за глаза у этой покрытой трещинами, коричнево-серой деревянной фигурки! Такой сквозь землю видит, от такого ничего не скроешь!
Он не холост, деревянный человечек: в соседнем зале есть подходящая фигурка, прозванная «женой старосты». Но брак этот исторически незаконен: фигурки сработаны в разное время, найдены в разных местах и поэтому разлучены безжалостными археологами.
А в действительности «деревенский староста» вовсе и не староста. Поднимай выше: толстяк, послуживший моделью для неизвестного скульптора, был вельможей Каапером, смотрителем великой пирамиды.
Толстяк Каапер жил во времена одной из первых династий, имена фараонов которой назовет не каждый. Для человека, далекого от египтологии, это как бы фараоны-середнячки, не то что Хеопс.
О жизни людей при их царствовании рассказывают нам изображения на стенах гробниц. Особенно известна гробница вельможи Ти, рабовладельца и крупного землевладельца. Она была открыта Мариэттом в Саккаре.
Рельефы, мастерски, четко сделанные на стенах залов и коридоров гробницы, как бы обращаются к грядущим поколениям из глубины веков: смотрите, четыре с половиной тысячелетия назад ваши далекие предки уже умели ткать, строить корабли, плавить золото, дубить кожи, изготовлять папирусы. Они были гончарами и охотниками, садоводами и пахарями. Но многие из них были рабами, и важный вельможа Ти недаром всюду изображен великаном, подавляющим их, возвышающимся над ними.
Многое узнаём мы о земной жизни вельможи Ти. Его развлекали танцовщицы — вон они, мы даже угадываем по рельефу, что каждый поворот танцующих сопровождался хлопком в ладоши. На суд к нему тащат по земле провинившихся. Он принимает дары. Он охотится на гиппопотамов, которыми так и кишат заросли. И крокодилов в его времена в Ниле водилось множество — видите, выползают из воды, — не то что теперь, когда настоящего нильского крокодила в Египте увидишь только в зоопарке.
Один из рельефов гробницы рассказывает небольшую историйку. Несколько пахарей пашут. В упряжках у них пестрые и белые коровы. Пахари размахивают палками, подгоняя животных. Но один из пахарей схитрил. Он выпряг корову из плуга, а мальчик проворно доит ее. Должно быть, пахарям не разрешалось этого делать. Иероглифы объясняют, почему нервничает пахарь, спеша развязать веревку, которой корове на время дойки опутали задние ноги: «Торопись, пока не вернулся пастух».
Но пастух задержался где-то по своим делам четыре с половиной тысячи лет назад и не возвращается до сих пор…
Иду из зала в зал, вглядываюсь в скульптурные изображения фараонов, собранные музеем. Величественный, хмурый Джосер, строитель ступенчатой пирамиды. Сидящий на троне властный Хефрен, Микерин с женой. Усеркаф в виде сфинкса.
Слово «фараон» кажется одним из древнейших, родившихся в долине Нила. Но ученые разъяснят вам, что оно чуть не на два тысячелетия моложе пирамид, в которых погребены фараоны. Хеопс даже не подозревал, что он — фараон. Египтяне в древности называли своих владык просто царями, а египетское слово «пер-о-о», перешедшее в древнееврейский язык как «фарао» и превращенное затем греками в «фараон», означало первоначально не персону властелина, а его дворец.
Пройдя по музейным залам сквозь пять веков, попадаю в Среднее царство, когда после междоусобиц Египет почти вернул прежнее величие. В эти времена изображения людей сошли со стен и превратились в глиняные фигурки, заполняющие теперь витрины. Это очень деятельный народ! Фигурки плотничают, ткут, прядут, поют, рыбачат, воюют, варят пиво.
Но почему именно пиво? Может, они варили что-либо другое? Где доказательства?
Есть доказательства! На стенках глиняных сосудов, найденных в одной из пирамид, оказался осадок. Его исследовали: пиво! И специалисты сумели даже определить рецепт древнеегипетских пивоваров, а потом, воспользовавшись им, сварить напиток. Знатоки, впрочем, нашли, что современное пиво куда вкуснее. Однако древнее было все же достаточно крепким, иначе зачем понадобилось бы высекать иероглифами поучение, которое пригодится и нам, далеким потомкам: «Никогда не пей слишком много пива, ты падаешь и ломаешь себе кости, и никто не протягивает тебе руки, твои же друзья продолжают пить и говорят: «Вышвырните вон этого пьяницу!»
Во времена Среднего царства те, кто трудился, не всегда покорно сгибали спины перед властелинами. В 1750 году до нашей эры произошло народное восстание — возможно, первое в истории человечества. Но папирусов, рассказывающих о нем, в Национальном музее нет. Они находятся в других крупнейших коллекциях мира.
Больше всего места в музее отведено не великим фараонам, прославлявшим самих себя и прославленных другими, а правителю, о делах которого почти ничего не известно.
Я говорю о коллекциях из гробницы Тутанхамона — из первой не разграбленной царской гробницы. Ее известность поистине всемирна.
Здесь драгоценнейший гроб из чистого золота — и зерно, пролежавшее в земле свыше трех тысячелетий. Здесь роскошный трон фараона — и складное походное ложе, древнеегипетская «раскладушка». Здесь все знаки грозной царской власти — и скромные венки из васильков, которые цветут в Египте весной и по которым установили, что фараон погребен между серединой марта и концом апреля.
Здесь не только фантастическая масса золота, но и множество вещиц, вплоть до игральных досок, набора железных инструментов, рассказывающих о том, что именно окружало фараона при жизни и, следовательно, должно было служить ему в потустороннем мире.
«У Тутанхамона» можно провести не один день. Каждый раз делаешь для себя маленькие открытия.
…Но вот возвращаются из канцелярии музея доктор и гид: разрешение на осмотр «зала мумий» получено, мы можем пойти туда в любой день.
Усталые, мы шли из музея по еще дышащим зноем улицам.
— Хорошо бы сейчас пива… — заискивающе начал я. — Можно и обыкновенного, не обязательно по рецепту фараона.
Доктор сделал вид, что целиком погружен в размышления.
— Да, — вздохнул он после паузы, — все у них было, уж если так-то говорить.
Доктор часто употреблял это странное выражение «уж если так-то говорить».
— У кого все было? — спросил я.
— У древних. Вас почему-то, как я понимаю, взволновало только пиво. Гм!.. Каждому свое, конечно. Кстати, о мумиях. Известно ли вам, что у одной мумии обнаружили протез вместо руки?.. Краски древних египтян не выцвели за четыре тысячи лет, а вот я купил у их потомков рубашку, и она начала выцветать на третий день. Все было у древних, даже, к сожалению, полиомиелит, детский паралич. Да-да, нашли же рисунок. Такой, знаете, реалистический рисунок юноши с сухой ногой, по которому любой врач районной поликлиники может поставить диагноз: последствия полиомиелита, перенесенного в детском возрасте, инвалидность второй группы…
— Но тайна болезни тех, кто побывал в гробнице Тутанхамона… — перебил я.
— Это особый разговор, — сказал доктор. — Тут вопрос спорный. Но зато бесспорно то, что когда вы будете писать о гробнице, то обязательно накрутите вокруг этой тайны несколько страничек.
Я сердито взглянул на доктора, но побоялся твердо сказать «нет»…
* * *
Весь вечер я читал о Нефертити и утром проснулся с мыслью: сегодня едем туда, где она жила.
Наверное, она не такая, какую мы, не египтологи, ее напридумывали. В фараонах есть что-то нечеловеческое — и в облике, и в поступках. Они — над своими современниками, они — как боги на земле. А в Эхнатоне, фараоне-еретике, проглядывал человек. Посмотрите хотя бы изображения: фараон всюду вдвоем с Нефертити. И дети не где-то у ног, как, скажем, на статуях храма Рамзеса в Абу-Симбеле, а на руках у отца и матери, у Эхнатона и у Нефертити. Это любовь, это семья…
Нефертити стала символом женственности и красоты, хотя она, может быть, и не очень красива. Она обаятельна.
Едва ли мы когда-либо узнаем подробности ее жизни. Нам далеко не все известно и о ее царственном супруге. Открытия последних лет позволяют предполагать, что у Нефертити в конце царствования Эхнатона была удачливая соперница, некая Кийа… Но тут еще много неясного.
Вот короткая историческая справка о царствовании фараона-еретика, сухая, как пергамент.
В период расцвета Египта во времена Нового царства в стране обожествлялись животные, стихии, небесные светила. Были божественные быки и крокодилы, был бог умирающей и возрождающейся природы Осирис, были боги Солнца и Луны, был бог Нила Хапи, был бог царской власти Хор и многие другие боги. То один, то другой бог становился главным; впрочем, в разных частях страны были свои главные боги, которым воздвигались великолепные храмы.
Когда на египетском троне воцарился фараон Аменхотеп Четвертый, главным богом считался Амон-Ра. Жрецы, служившие этому богу в Фивах, столице Египта, были грозной силой, с которой должен был считаться двор фараона.
И вот Аменхотеп Четвертый решился на шаг смелый и необычный. Он отменил поклонение всем старым богам во главе с Амон-Ра и единственным богом провозгласил Атона, которого изображали солнечным диском с лучами, похожими на длинные руки, простертые к земле.
Себя фараон объявил сыном нового божества и сменил имя на Эхнатон (Угодный Атону). В 1350 году до нашей эры он покинул Фивы, закрыв там храмы, и велел построить новую столицу Ахетатон (Горизонт Атона) примерно в трехстах километрах севернее прежней. Жрецы Амон-Ра утратили прежнюю силу и влияние; они люто возненавидели фараона, считая его еретиком, богоотступником.
В недолгое семнадцатилетнее царствование Эхнатона необычайно расцвело искусство, причем искусство правдивое и живое. Художники и скульпторы по-новому увидели человека, по-новому стали изображать его.
Судьба города фараона-еретика драматична. После смерти Эхнатона притихшие и лишенные было привычной власти жрецы тотчас объявили своего врага «преступником из Ахетатона». Они мстительно уничтожали его изображения, разрушали построенные при нем храмы, чтобы полностью возродить прежнюю славу Фив и свое былое могущество. Со временем было полузабыто даже место, где находился Горизонт Атона, и лишь в 1907 году возле деревушки бедуинского племени Тель эль-Амарна археологи произвели первые научные раскопки удивительного города Солнца…
Мы до рассвета выехали туда из Каира, мчались по берегу широкого канала и восход встретили в пути. Был базарный день. Крестьянки в черных платьях, поднимая пыль босыми ногами, тащили на рынок кур, кроликов, гусей.
Часам к одиннадцати мы были у поворота к району раскопок.
Когда Эхнатон строил свой город Солнца, канала не было. Но гиды, показывавшие его город, наверняка уже были. Я готов поклясться, что они вот так же облепляли колесницы путников, как облепили нашу машину их потомки. Наверное, они тыкали в нос папирусы, удостоверявшие, что именно они, только они одни — дипломированные, незаменимые люди, без которых вы ничего не увидите и ничего не узнаете в городе Солнца.
Обрастая толпой, катим мимо полей, где обмолачивают урожай. Дорога заканчивается у крутого обрыва. Внизу Нил. Заднеколесный старый пароход спускается вниз по реке. Две барки приткнулись к обрыву.
Так вот где жила Нефертити!
За рекой равнина, замкнутая и защищенная полукольцом гор. Выше по течению они светлым обрывом подходят к самому Нилу, потом отступают, освобождая место для человеческого поселения. Там и был город Солнца. Ниже горы снова выходят к реке.
Путеводители не рекомендуют туристам посещение этих мест: трудная, утомительная дорога, неудобная переправа.
Переправляемся на дрянной шаткой лодке. Похоже, что ее смастерили из обломков, оставшихся от кораблекрушения. Весла кривые, тяжелые, неудобные. Четыре человека с трудом выгребают против довольно сильного течения. Вместе с нами американец, преподаватель истории, и сопровождающие его двое студентов из Каира.
К противоположному берегу лодка не доходит: мелко. О ужас! Нас перетаскивают на плечах! Одного из каирцев, отнюдь не великана, роняют в воду.
— Инша алла! — разводят руками лодочники.
Ведь если бы аллах не пожелал, они донесли бы пассажира благополучно. Моя очередь. Я самый тяжелый, и вообще мне ужасно стыдно. Аллах пожелал, однако, чтобы меня доставили на берег сухим.
А на берегу уже гарцует ослиная кавалерия. От осла я отказываюсь. Лучше идти пешком. Меня отговаривают. Но классические путешественники преодолевали пустыню на верблюдах, не на ишаках! «Авось я пешой не отстану».
Но что это? Иду полным шагом, а кавалерия поспешает еще быстрее: песок становится глубже, и ноги вязнут. Погонщики вскочили на осликов по двое, в пешем строю остался я один. А на мне фотоаппарат, бинокль, сумка.
Ровно полдень. Палит нещадно. Сердце колотится, как после бега, пот заливает лицо. Еще раз меня соблазняют ишаком, но я и сам упрям как ишак…
Разрыв между мною и кавалерией все увеличивается. Погонщику в голубой галабее и босоногому мальчишке, очевидно, приказали покинуть сидячие места на ишаке, чтобы присоединиться ко мне. Моего знания языка достаточно для того, чтобы мы, помогая себе жестами, установили, что сегодня очень жарко, что наше путешествие до гор займет полтора или два часа, что туристов здесь бывает мало и что по дороге воды нигде нет.
Раскопки города Солнца мы будем смотреть на обратном пути, а пока шагаем к горам, где вырублены в скалах пещеры-гробницы придворных фараона.
Я давно уже убедился: многие арабы страдают от жары почти так же, как мы, северяне. Но вот в самом паршивом месте голой прокаленной пустыни — хижина, сложенная из земляных кирпичей. Если бы ее обитатели торговали водой или кока-колой… Нет, они просто живут в этом пекле. Может, последние поклонники бога Солнца?
Горы все ближе, ближе. Надо подниматься по крутой узкой тропе. Кавалеристы спешились, ослы останутся внизу. Мои спутники на негнущихся, затекших ногах сразу теряют преимущество. Я легко обгоняю их.
Тропинка кончается у пещеры, закрытой железными воротами. Они выкрашены под цвет гор. Наш главный проводник, вооруженный двустволкой (против львов, надо полагать), торжественно достает ключи.
Нет, в пещере отнюдь не прохладно. Горы, наверное, прогрелись до самой подошвы. В камне высечены три зальца, соединенные неширокими коридорами.
Многие из тех, для кого предназначались погребальные пещеры в скалах, пережили фараона. Бывшие царедворцы покинули опальную столицу. Гробницы не понадобились, но росписи на их стенах отражают многие события, происходившие в городе Солнца почти три с половиной тысячелетия назад.
В полутьме замечаю бегущих воинов. Они прикрылись щитами, копья наперевес. Они бегут по стенам, и это необычно и ново, потому что нигде и никогда раньше, до возникновения города Солнца, египетские художники не изображали бегущих людей.
Возле выхода из гробницы на стене остатки краски, передающей оттенок смуглого тела. Неясно обрисовываются две человеческие фигуры, изображенные в натуральную величину.
После полутьмы пещеры долина, лежащая внизу, ослепляет. Она мертва. Лишь кое-где угадываются следы забытых дорог или, быть может, каналов. Солнце палит нещадно. Кажется, сейчас начнет плавиться песок и зальет огнедышащей лавой далекую зеленую полоску пальм у нильского берега.
Тропинка ведет к погребальной пещере Мерира, высшего жреца Атона. На ее потолке остатки невыцветшей лазурной краски. Вот и картуш с изображением Атона. По стенам рассыпаны иероглифы, рисунки, узоры орнамента.
Наконец я вижу Нефертити. Очертания ее фигуры прорезаны на стене. В сравнении со знаменитыми, известными всему миру скульптурными портретами она здесь не так хороша и кажется непохожей. Но шея… Да, это ее тонкая шея и царственная головка. Руки согнуты в локтях, как бы для приветствия входящих. И на этих руках краска, передающая смуглость кожи.
А напротив Нефертити — Эхнатон. Так и хочется воскликнуть: «Боже, какая уродина!» Тоненькие ножки поддерживают чересчур широкие бедра и вздутый живот. А голова! Как бы приплюснутый с боков, сильно оттянутый назад череп, далеко выдающийся вперед подбородок! Любой из предшественников Эхнатона велел бы за такое надругательство над священной особой казнить художника.
Но многие историки убеждены, что Эхнатон как раз хотел, чтобы его изображали именно так, усиливая и преувеличивая недостатки, по-видимому, действительно болезненного и некрасивого фараона. Фараоны всегда изображались богоподобными. А ведь Эхнатон отверг прежних богов. Так мог ли он допустить, чтобы эти боги как бы возродились в его статуях, на его портретах?
В следующей пещере — Эхнатон на колеснице. Он во главе воинства маленьких фигурок. Изображение очень живое, полное движения. У лошадей, запряженных в колесницу фараона, сохранились голубые украшения гривы.
А изображение солнца над фараоном изуродовано: остались лучи, само же светило выщерблено с немалым усердием. Это, конечно, постарались жрецы Амон-Ра, уничтожавшие все следы культа Атона.
Еще пещера — и снова встреча с Нефертити. Она стоит за спиной Эхнатона, но фигура ее символически не уменьшена против фигуры фараона. Оба в лучах солнца. Оба обращены к Атону, изображение которого на этот раз уцелело.
За царственной четой склонились перед божественным светилом люди, много людей.
Мы переходим из пещеры в пещеру, звякают ключи. Глаза, привыкая к полутьме, различают картины празднеств и богослужений, дворцы и храмы, сцены из семейной жизни фараона и его приближенных.
Все устали, еле волочат ноги, а ведь пещер-гробниц свыше двух десятков. Проводники отказываются идти к последним, расположенным в стороне. Начинаем спуск. Желтые горы, желтые пески, ослики, понуро стоящие у подножия. А там, ближе к Нилу, был город Солнца.
По его границам фараон приказал выбить на стелах памятные надписи. Иероглифы рассказывали, что место для города выбрано фараоном по воле Атона, что в городе будет дворец Атона, что фараон хочет, чтобы его усыпальница была в горах над городом и чтобы там же было сотворено погребение «великой жены царя Нефертити».
Некоторые из этих памятных стел сохранились до наших дней.
Но сам город Солнца исчез. В начале прошлого столетия, говорят, путешественники могли по отдельным руинам различать его планировку, однако позднее жители окрестных селений растащили все, что казалось им пригодным для постройки хижин.
Город исчез с лица земли, но пришло время, когда археологи добрались до того, что оставалось скрытым под землей. Мы знаем теперь, где были главные дворцы и храмы. Они не поражали величиной и монументальностью — их строили слишком поспешно, большей частью из кирпича-сырца. Но зато сколько было в них прекрасных росписей, передающих дыхание и краски самой жизни!
Здесь же нашли поистине бесценный для науки клад: множество покрытых клинописью глиняных дощечек, оказавшихся дипломатическим архивом Эхнатона, который вел обширную переписку с ассирийскими, вавилонскими, хеттскими царями.
По раскаленной равнине мы возвращаемся туда, где был город. Бродим меж отрытых из-под слоя песка фундаментов. Они слежались, окаменели. Они ничего не говорят мне, я не понимаю их немой речи. Мои познания в археологии слишком ничтожны, чтобы воображение могло воздвигнуть на этих фундаментах стены домов и храмов.
Я хочу лишь знать, где нашли «ее».
— Вон там, где была мастерская скульпторов, — показывает проводник. — Нашли перед первой мировой войной и увезли в Германию.
«Ее» — это знаменитую скульптурную головку Нефертити. Немецкие археологи, нарушив закон, тайно вывезли находку за пределы страны. Говорят, скульптуру ловко скрыли под слоем гипса. Чиновник, проверявший, что вывозят археологи, принял аляповатую глыбу за грубую подделку, которую подсунули доверчивым немцам его соотечественники.
Мало на свете ценителей искусства, которым была бы незнакома головка Нефертити. Может быть, выразительнее всего сказал о ней археолог, первым увидевший ее: «Описывать бесцельно. Нужно смотреть!»
И сотни миллионов людей смотрят и не насмотрятся на творение гениального скульптора, почти три с половиной тысячелетия назад сумевшего передать куску сероватого известняка теплоту, обаяние и женственность царицы города Солнца.
* * *
Я думал, что увижу ряды саркофагов, поднятых на высокие постаменты. Мрамор, роскошные барельефы, великолепные украшения…
Но выцветшие светло-коричневые покрывала лежали в «зале мумий» на возвышениях, которые правильнее было бы назвать витринами.
Мумиям, сказали нам, нужна постоянная температура и покой: ведь внутри гробниц время и движение останавливали свой бег. Кроме того, зал стал усыпальницей людей царской крови, и шумный поток посетителей оскорблял бы их память. Наконец, не у всех выдерживают нервы: ведь мумия — не бесстрастный памятник истории, а человеческий труп, пусть необычный, но труп. Поэтому только часть мумий выставлена в Западной галерее, доступной публике. Остальные — здесь.
В этом музейном тихом зале нашли последнее убежище десятки всесильных властителей Египта. Здесь лежали мумии тех, кто, пошевелив пальцем, мог обречь на смерть сотни тысяч людей. Здесь было все, что осталось от наместников бога на земле, от строителей дворцов и храмов, от разрушителей городов и покорителей стран.
В застоявшемся воздухе непроветриваемого помещения пронумерованными музейными экспонатами хранились ссохшиеся тела «бессмертных», имена которых повторены в тысячах иероглифических надписей, во множестве книг и каждый день повторяются миллионами школьников и студентов на разных языках мира.
Я пожалел, что пришел сюда. Лучше бы фараоны остались в моей памяти каменными изваяниями на тронах, чем жалкими трупами почти черного, иногда коричневого, иногда желто-коричневого цвета. У некоторых белел черепной оскал зубов, у многих сохранились волосы. Изредка можно было угадать черты лица.
Позднее с помощью рентгена ученые исследовали мумии и обнаружили много интересного. Например, один фараон умер от инфаркта, который считается болезнью нашего века. Рамзес Второй перенес оспу. К удивлению ученых, оказалось, что древние египтяне были знакомы с лечением и даже протезированием зубов…
Научный сотрудник музея приоткрывает покрывала, коротко рассказывает о мумии, снова натягивает ткань, переходит к следующей. Он точен и бесстрастен. Он знает, что мы не специалисты, не египтологи, и ему, видимо, жаль тратить на нас лишнюю минуту.
— Фараон Секененра. Семнадцатая династия. Взгляните на голову: тяжелая рана, след боевого топора.
Фараон погиб в бою с азиатскими кочевниками-гиксосами, нашествием которых на Египет закончилось Среднее царство, а изгнанием началось Новое царство. Изгнал гиксосов Яхмос Первый. Вот он, в следующей витрине. На его мумии тоже след раны.
Я спрашиваю сотрудника музея, удалось ли, наконец, узнать секрет бальзамирования мумий? И как бы разочаровал его ответ тех царственных особ, которые придавали значение сохранению своего бренного тела!
Из описаний Геродота известно, сказал наш сопровождающий, что опытные египетские бальзамировщики извлекали у трупа внутренности, наполняли его различными благовониями, потом клали в самородную щелочную соль на семьдесят дней, затем обмывали и заворачивали тело в тонкий холст, смазанный клейкими смолами. Но главными бесплатными и поистине общедоступными бальзамировщиками были сухой климат и чистый воздух Египта. Археологи обнаружили трупы бедняков, тысячелетия назад попросту зарытые в песок пустыни, и некоторые из них сохранились лучше, чем тщательнейшим образом набальзамированные, обвернутые тканями и укрытые в саркофаги тела фараонов.
Я не могу сейчас вспомнить, мысленно представить себе мумии всех великих и не столь великих, увиденных в тот день. Особенно тягостное воспоминание оставили женские мумии. Нефертари, жена Яхмоса Первого. Коричневая мумия с провалившимся носом принадлежала женщине, божественную красоту которой воспевали современники. И я порадовался, что так и не найдена мумия Нефертити, что память о ней сохранилась лишь в чудесных скульптурах да в легенде о том, как много десятков лет назад со скал у города Солнца тайком спустились искатели сокровищ с найденным ими золотым гробом царицы…
Минуем несколько витрин, не открывая покрывал. Затем видим мумию, будто выточенную из черного дерева.
— Тутмос Третий.
— Неужели тот самый? — не удержался я.
Сотрудник музея посмотрел на меня с холодным недоумением. Так взглянул бы, наверное, наш гид на иностранца, воскликнувшего «Неужели тот самый?» при виде статуи Петра Первого.
— Тутмос Первый и Тутмос Второй тоже здесь, мы прошли мимо их мумий, но это именно Тутмос Третий, — подчеркнул наш провожатый.
Черная мумия принадлежала силачу и храбрецу, мастерски стрелявшему из боевого лука и на колеснице врезавшегося с мечом в гущу вражеских войск. Тутмос Третий, если можно так сказать, царствовал воюя. Он семнадцать раз водил войска в боевые походы. На юге воины фараона дошли до Четвертого нильского порога, завоевав большую часть страны непокорных эфиопов. Множество рабов пригнал Тутмос Третий в Египет и щедро раздавал их приближенным, а также жрецам храмов бога Амон-Ра. При этом могущественнейшем из египетских фараонов необычайно возвысились и украсились Фивы, а границы империи раздвинулись до Евфрата.
Мумия же этого человека неукротимой энергии, личности яркой, разносторонней, фараона-воина, в часы отдыха охотившегося на слонов, а иногда набрасывавшего рисунки для ваз, жалка. Да, жалка: как бы недоуменно поднятые брови, изуродованный нос, растянутый чуть не до ушей в нелепой усмешке рот…
А другой великий фараон, Рамзес Второй? Статуя сохранила нам облик высокого гордого красавца в полном расцвете сил. Мумия же этого фараона, царствовавшего целых шестьдесят семь лет и пережившего двенадцать сыновей, принадлежит дряхлому старцу. У него крючковатый птичий нос, тонкая шея и растрепанные редкие пучки рыжеватых волос над висками.
Вспоминают, как однажды в Каир приехали важные господа из Берлина. Они попросили разрешения сфотографировать и измерить уши мумии. Их интересовали только уши Рамзеса Второго, и ничего более. У приезжих были специальные измерительные приборы. Им важно было доказать, что у фараона «настоящие арийские уши». Господа действовали по заданию Гитлера и Геббельса. Расистам хотелось зачислить Рамзеса Второго в свои отдаленные арийские предки: великий фараон, с ним лестно породниться…
В зал Каирского музея, в свое последнее убежище, большинство «бессмертных» попало при необычных обстоятельствах. Мумии были найдены отнюдь не в пирамидах, и обнаружили их вовсе не египтологи.
Мы отправляемся к месту удивительной находки. Едем из Каира в Луксор.
Поезд бежит на юг. У станции навалены желтоватые горы стеблей сахарного тростника. Продают свежие финики и предлинные огурцы, похожие на кривые турецкие ятаганы. Вдоль дороги вышагивают верблюды, и шерсть у них не желтая, как на севере, а совсем светлая, почти белая.
Долина Нила все сужается. Здесь ее, стиснутую пустыней и голыми желтыми горами, можно видеть поперек всю сразу, от восточной границы до западной. В сущности, эта долина и есть Египет: пустыня, простирающаяся по обе ее стороны, почти необитаема.
Не буду описывать всемирно известные луксорские дворцы и храмы, изображения которых есть во всех учебниках… Город Луксор и его сосед, поселок Карнак, расположены там, где были «стовратные Фивы», столица Египта. Главная цель нашей поездки — Долина царей, или, как ее иногда называют, Город мертвых. Это на противоположном берегу Нила.
Накануне была душная ночь. Горячий ветер дул из Города мертвых. Лимонная луна висела над пальмами. Шумела листва, и одуряюще пахло цветами. Была пора москитов, они проникали сквозь сетки, натянутые в окнах отеля, и мы проворочались в постелях до рассвета, когда в дверь осторожно постучал Ахмад Яхья.
Луна еще виднелась за Нилом, а наша лодка уже отвалила от берега. На ее носу было выведено: «Тутанхамон». Обшитые кожей щегольские весла погружались в воду под монотонные выкрики-вздохи гребцов:
— Ы-лл-ла! Ы-лл-ла!
Лодка мягко ткнулась в берег, вдоль которого зеленели плантации бананов и сахарного тростника. Через полчаса мы были возле серых гор, прорезанных неширокой извилистой Долиной царей. Входы в гробницы напоминали огромные траншеи, заканчивающиеся дверной железной решеткой. Проводники наливали керосин в лампы, переругиваясь между собой.
В начале прошлого века итальянец Бельцони обнаружил в этой долине огромную гробницу фараона Сети Первого с алебастровым саркофагом. Саркофаг был пуст. Мумия из него исчезла неведомо когда. Никаких ее следов в гробнице не было.
Фараоны Нового царства не воздвигали пирамид. Они перестали также объединять свои могилы с поминальными храмами, поняв, что никакие стены, никакие запоры не спасут прах от ограбления и поругания. Неприкосновенность мумии, а следовательно, и бессмертие в потустороннем мире могла сохранить только тайна, абсолютная тайна места погребения. И, должно быть, люди, которым поручалось долбить в скалах Долины царей тайные пещеры, безжалостно умерщвлялись после того, как заканчивали работу.
Помогло ли это?
…Весной 1881 года в Луксоре появился иностранец, один из многих скупщиков древностей. Он был щедр, но хорошо платил только за подлинные редкости. Торговцы вскоре поняли это. Однажды иностранцу предложили статуэтку, подобных которой ни у кого не было. Он дал хорошую цену. Ему принесли еще и еще. И тут-то «иностранец» — он был сотрудником Национального музея в Каире — окончательно убедился, что воры-торговцы нашли какие-то неизвестные гробницы фараонов Нового царства, откуда и черпали сокровища.
Когда потянули за ниточку, следы привели к заделанному камнями отверстию высоко в скалах, неподалеку от Долины царей. Оказалось, что некий Абд ар-Расул, глава древнейшей династии грабителей гробниц, обнаружил вход в тайную погребальную камеру. Из нее-то он и брал редкости, осторожно сбывая их.
Абд ар-Расул во всем сознался и привел сотрудника музея к отверстию в скалах. Тот спустился вниз на веревке, зажег факел и оказался… среди множества саркофагов! В том, что стоял ближе других ко входу, судя по надписям, была мумия Сети Первого, которую Бельцони тщетно искал в гробнице Долины царей.
Пещера, вырубленная в скале, хранила саркофаги и мумии почти всех выдающихся фараонов Нового царства, в том числе Тутмоса Третьего и Рамзеса Второго. Сорок мумий, которые находятся теперь в последнем убежище — в Национальном музее!
Как попали они все вместе в одно подземелье? Надписи не оставляли сомнения в том, что прах фараонов был перенесен сюда жрецами из других убежищ, которые, очевидно, одно за другим стали известны грабителям. На этот раз выбор тайника был удачным: три тысячелетия пролежали здесь мумии, пока Абд ар-Расул, рыская по скалам, не наткнулся на искусно замаскированное отверстие.
Фараонов погрузили на пароход. Никогда еще ни одно судно в мире не перевозило одновременно столько царственных особ. Неизвестно, сопровождали ли их в Каир «Ка» и «Ба», но вдоль берегов Нила повсюду шли толпы, и мужчины салютовали из ружей, а женщины с криками скорби посыпали себя землей.
Какая ирония судьбы: фараонов прятали и перепрятывали от грабителей, но именно грабителю было суждено открыть тысячелетний тайник!
Тут я хочу на минуту отвлечься от судьбы мумий и проследить судьбу грабителей. Однажды в Нью-Йорке мне попалась в руки газета с сенсационной заметкой о раскопках. Вот она слово в слово:
«Археологическая экспедиция ведет лихорадочные раскопки на месте, где много лет назад была найдена гробница фараона Сети Первого, царствование которого было прозвано «золотым» и продолжалось 21 год. Рядом с гробницей недавно на большой глубине обнаружен подземный коридор. Высказывается предположение, что в конце коридора находится потайное помещение, где собраны все сокровища Сети Первого.
Сети Первый считался одним из богатейших фараонов. Мебель его дворца была вся из золота. Сокровища Сети до сих пор обнаружены не были. Не исключена поэтому возможность, что в подземной сокровищнице фараона будет найдено невероятное богатство.
Происходящие ныне раскопки финансируются богатым египтянином Али Абд ар-Расулом, владельцем крупного отеля и ансамбля артистов около так называемой Долины царей. Расул — внук человека, открывшего мумию Сети Первого, которая находится в египетском музее древностей. Саркофаг этого фараона был перевезен в Лондон».
Отыскался-таки след династии Абд ар-Расула! Потомков, как и предков, по-прежнему влечет блеск золота…
Обратимся, однако, к летописи находок и открытий начала нашего века. Когда в 1916 году Говард Картер начал в Долине царей поиски гробницы Тутанхамона, многие считали, что его ждут лишь неудачи и разочарования.
Имя этого фараона было тогда известно, пожалуй, только египтологам. Даже сейчас мы знаем о нем не так много.
После смерти фараона-еретика очень недолго царствовал молодой Сменхкара, который, возможно, был женат на старшей дочери Эхнатона. Когда Сменхкара умер, фараоном объявили девятилетнего мальчика Тутанхамона. Думают, что он считался мужем одиннадцатилетней дочери того же Эхнатона. Жрецы вывезли Тутанхамона из города Солнца, преданного забвению, а немного позднее варварски разрушенного противниками новой религии. Вероятно, юный фараон утвердил декрет о возвращении к прежнему культу Амона, составленный жрецами Фив.
Вот почти и все о нем. Царствовал Тутанхамон всего девять лет. Неизвестная болезнь скосила его в юношеском возрасте. Тутанхамона должны были похоронить в Долине царей — в этом твердо был уверен Говард Картер, начавший раскопки.
За шесть лет Картер вместе с лордом Карнарвоном, финансировавшим работы, планомерно и безрезультатно изрыли намеченный район. В конце концов неисследованным остался только небольшой участок, откуда они когда-то начинали раскопки — место, занятое хижинами возле давно открытой гробницы Рамзеса Шестого.
…Вот она, эта гробница. Нечто вроде вывески: «Гробница № 6, Рамзес VI, XX династия». Ахмад Яхья, наш проводник, постукивает тростью-зонтиком по полу наклонного коридора. Он тычет в стены, где сохранилась бледная роспись: иероглифы, фигурки. По наклонному деревянному трапу спускаемся ниже. Идем, идем… Опять трап. И наконец подземный зал, а в нем две расколотые глыбы саркофага.
— Так в большинстве гробниц, — говорит Ахмад Яхья. — Расписанные стены и пустые саркофаги. Но Картер был большим упрямцем. Он верил, что ему повезет. Говорят, он часто спускался сюда, в эту гробницу, и о чем-то раздумывал, даже разговаривал сам с собой.
Мы выходим на поверхность. Вход в соседнюю гробницу огражден невысоким барьером из камня.
— Вот здесь стояли хижины. — Трость-зонтик стучит по глыбам. — Картер велел снести их. Дело было в ноябре двадцать второго года. И подумайте, под первой же хижиной кирка ударилась о каменную ступеньку. Значит, шесть лет они ходили вокруг да около… Ну, а тут Картер сразу наткнулся на вход в гробницу. Дальше, вы знаете, все похоже на сказку. Дверь с неповрежденными печатями царского некрополя. Представляете, что почувствовал Картер! Затем печати Тутанхамона… Подземные камеры, полные сокровищ… Деревянный саркофаг, покрытый золотом сверху донизу. В нем другой, тоже весь в золоте. Нетронутый! То, о чем мечтали все, кто копал нашу землю, — и грабители, и ученые. Третий саркофаг, четвертый, и в нем еще саркофаг, уже из камня, а в том — три гроба, один в другом, и только в последнем, золотом, — мумия. Идемте!
Снова трап, на этот раз железный, потом наклонный коридор — и погребальная камера. Великолепный саркофаг, целиком выточенный из желтой кварцитовой глыбы.
Картеру, когда он смотрел на саркофаг, представлялось, что вокруг витают тени древних богов. С особым чувством касался он хрупких венков и гирлянд из полевых цветов, лотоса, ветвей оливы, сорванных задолго до нашей эры. С величайшими предосторожностями сняли археологи золотую маску с мумии фараона и увидели нежное и тонкое юношеское лицо…
Мумия Тутанхамона теперь находится в Долине царей. Забегая вперед, упомяну, что она пролежала непотревоженной до тех пор, пока в 1969 году крупные специалисты не произвели вскрытие, чтобы попытаться проникнуть в тайну смерти юного фараона. И тут выяснилось: вероятнее всего, Тутанхамон умер от кровоизлияния в мозг, которое произошло после сильного удара по черепу. Значит, убийство? Нельзя исключить такую возможность.
Я коснусь все же и «проклятия фараона», доставив тем самым злорадное удовольствие доктору, который, как вы помните, был уверен, что без рассказа о тайне гробницы мне не обойтись.
Вот начало этой странной истории. Вскоре после открытия гробницы скончался от неизвестной болезни лорд Карнарвон. Потом умирает его брат. Умирает секретарь экспедиции. Выбрасывается из окна высокого дома его отец. Когда смерть настигает рентгенолога, хотевшего сделать исследование мумии, в печати поднимается шум о «проклятии фараона», о таинственно-грозной каре всем, кто нарушил покой могилы. Внезапная смерть леди Карнарвон становится мрачной сенсацией мировой прессы.
Восемь лет спустя после находки в Долине царей остается в живых лишь один участник исследования гробницы —? сам Говард Картер. И именно он называет всю историю с «проклятием фараона» глупой болтовней, которую здравый человеческий разум должен с презрением отвергнуть, поскольку нет на земле более безобидного места, чем гробница.
Картер дожил до шестидесяти шести лет. Он умер в 1939 году. Но и после его смерти, даже в наши дни, время от времени о «проклятии фараона» вспоминают вновь — правда, лишь для того, чтобы найти научное объяснение смерти лорда Карнарвона и некоторых участников экспедиции, скончавшихся, возможно, от одной и той же неизвестной болезни. Высказывалось предположение, что причиной заболевания был вирус, содержащийся в помете летучих мышей; однако едва ли они могли проникнуть в гробницу. Было сообщение и о болезнетворных бактериях, обнаруженных в земле, которую археологи потревожили при раскопках.
* * *
Поезд Каир — Александрия переполнен. В четверг, канун дня отдыха — у мусульман он по пятницам, — состоятельные люди едут к морю, в город, который называют второй столицей Египта, восточным Парижем, жемчужиной Средиземного моря.
Основанная за? три с лишним столетия до нашей эры Александром Македонским и названная его именем, Александрия вскоре стала одним из знаменитейших и крупнейших городов мира. Жители современной Александрии совершенно твердо убеждены, что именно здесь человечество было осчастливлено рождением анатомии, географии и геометрии. Александрийский Мусейон — нечто вроде Академии наук — и Александрийская библиотека, самая большая в древнем мире, обессмертили название города. С Александрией связывают имена великих Архимеда и Эвклида, астронома Птолемея, географа Эратосфена и многих, многих других.
Наконец, именно над александрийской гаванью некогда горел огонь знаменитого маяка, одного из «семи чудес света»…
Город сначала показался мне тем же Каиром, которому вдвое поубавили жителей, но зато дали море. А поездив и походив по улицам и площадям, я нашел, что Александрия не столь своеобразна, как столица, и более похожа на европейский город.
По набережной, застроенной конторами пароходных компаний, банков, страховых обществ, толпы моряков шли к местному «Луна-парку». Слышалась разноязыкая речь. На рейде и у причалов дымили корабли. Пляжи скрывала масса разноцветных зонтиков.
В то время, о котором я рассказываю, Александрия еще не привыкла к кораблям под красным флагом. Позднее ее порт стал главными морскими воротами Асуана, а сам город породнился с Одессой. При содействии нашей страны здесь соорудили верфь для постройки морских судов.
Но, повторяю, все это было позднее, и в тот день, когда мы приехали в Александрию, к нашему большому огорчению, на рейде не оказалось ни одного советского корабля.
Отправились в музей египетских древностей, относящихся к греко-римскому периоду истории страны, полюбовались прекрасной мраморной статуей императора Марка Аврелия и гранитным изваянием черного священного быка Аписа с солнечным диском между рогами. Не менее величественный, чем император, бык высокомерно взирал на редких посетителей.
Куда теперь? К маяку? Или туда, где была знаменитая библиотека? Обратились к служителю, дремавшему на стуле подле священного быка.
— Александрийская библиотека была величайшим сокровищем древности, господа, — мгновенно перейдя от сна к бодрствованию, привычно начал тот. — Девятьсот тысяч экземпляров!
Тут последовал всем известный рассказ о том, как Юлий Цезарь, опасаясь, что его флот, попавший в ловушку на александрийском рейде, достанется врагу, велел поджечь корабли, а огонь перекинулся на берег и…
— Известно ли, по крайней мере, где была библиотека?
— Книги, рукописи, пергаменты погибли в огне, уважаемые господа, — продолжал служитель, уклоняясь от прямого ответа. — Но не все книги, надо полагать, потому что ведь еще что-то жгли и христианские монахи, когда четыре с половиной века спустя разрушали храм бога Сераписа. Я думаю, что они сожгли даже больше книг, чем погибло от пожара при Цезаре.
— Так где же была библиотека?
— Думают, что неподалеку от колонны Помпея. Но другие думают, что в другом месте.
— Нас, впрочем, больше интересует маяк. Не скажете ли…
— О, конечно, чудо света! — воодушевился служитель. — Как, вы не видели его?
Он увлек нас в соседний зал. А мы и не заметили этого рисунка! Волны плескались у подножия вполне современного небоскреба, увенчанного, однако, статуей бога морей Посейдона. Нет, серьезно, маяк был похож (на рисунке, во всяком случае) на здание, построенное не за три столетия до нашей эры, а в тридцатых годах нашего столетия.
— Зодчий Сострат Книдский создал это чудо. Сто семьдесят метров высоты, и у вершины пылал костер из смолистых деревьев, а зеркала отбрасывали его свет далеко в море. И корабли…
— Нам хотелось бы посмотреть то, что осталось от маяка.
— Посмотреть? Гм… Это не так далеко. Остров Фарос, где стоял маяк, соединен с берегом молом. Можно пешком. Но… остатки фундамента, больше ничего. Жалкие остатки… Почти никаких остатков…
Александрия знала вражеские нашествия, ее сжигали, бомбардировали с моря. Одна из мировых столиц, в которой жило около миллиона человек, к концу XVIII столетия превратилась в жалкий городишко с семью-восемью тысячами жителей.
Александрия славилась когда-то обелисками, так называемыми иглами царицы Клеопатры. Я видел их, но не в Александрии: одну на набережной Темзы в Лондоне, другую в Центральном парке Нью-Йорка. Их подарил англичанам и американцам один из правителей Египта. Говорят, хитрец надеялся, что из-за своего огромного веса подарки так и останутся в Александрии. Однако со временем англичане все же забрали свою «иглу». Они заключили обелиск в полый железный цилиндр. Превращенный в судно с рулем, он со многими приключениями был отбуксирован к берегам Англии. А вскоре забрали подарок и американцы.
Мы пошли все же на мол. Арабские историки еще успели описать маяк: он был разрушен землетрясением только в XIV веке.
— Маяк? Он стоял вон там…
«Там» — это в конце мола. Торчит на том месте невысокий форт, только и всего. Единственное из «семи чудес», действительно приносившее пользу человеку, исчезло почти бесследно…
По дорогам дельты
Откуда пришли арабы? — Чтобы следить по высоте черты… — Университет, которому тысяча лет. — Цитадель Саладина. — На Суэцком канале. — Мы встречаем паломников. — Салам, день первый. — Таам, день второй. — Калам, день третий. — Провинция «Освобождение»
Когда на берегах Нила поселились арабы?
Вот что пишет современный египетский ученый Фахри Азиз:
«До византийского владычества традиции страны уважались, но в течение двух с половиной веков этого владычества по Египту прошла волна разрушений. Храмы и памятники, которые напоминали об эре фараонов, были разрушены или превращены в христианские монастыри и церкви.
В 640 году нашей эры в долине Нила появились арабы. Византийскому владычеству пришел конец. Египет стал провинцией арабского халифата.
Страна снова вернулась к восточной цивилизации, к которой принадлежала до того, как попала под влияние эллинизма».
Так сами историки-арабы оценивают приход своих предков в Египет. Некоторые же западные историки видят в арабах только завоевателей, которые вторглись в цивилизованную страну, как полудикие кочевники, и ничего не дали ей.
В поисках истины беспристрастный исследователь отправляется на Аравийский полуостров. Он убеждается: арабы, уже свыше трех тысячелетий обитавшие там, и до своих завоеваний имели развитую культуру.
Через Аравию проходили великие торговые пути. Караваны с товарами Индии и Восточной Африки тянулись по аравийским горячим пескам к Средиземному морю. Вдоль этих «путей пряностей», «дорог благовоний» стояли торговые арабские города, среди которых особенно выделялась богатая Мекка, хранившая за своими стенами арабские святыни.
Начало нашей эры не принесло радостей жителям этих городов. Ветер удачи надувал паруса кораблей мореплавателей, пускавшихся с товарами в плавание по Красному морю и Индийскому океану. И не так густо пошли караваны по дорогам «счастливой Аравии», как ее называли римляне, стали хиреть города, золото не оттягивало уже кошели купцов. А тут еще раздоры среди арабской знати, нападения иранцев и эфиопов… В общем, к концу V века нашей эры оскудела, обеднела, обессилела Аравия.
Был и тогда, правда, один город, где дела шли не так плохо: Мекка. Караваны не обходили его. Хотя и не такими шумными стали здешние ярмарки, но мекканские купцы не оставались без барыша, торгуя зерном, тканями, рабами и ссужая деньги под грабительские проценты. Особенно же выделяло Мекку всеарабское святилище — храм Кааба, где хранился «небесный камень», вероятно упавший в давние годы метеорит.
Мекке суждено было стать родиной ислама, одной из наиболее распространенных на земном шаре религий.
Ислам исповедуется сегодня многими народами Африки и Азии. Это государственная религия ряда арабских стран. Ее роль в жизни некоторых народов настолько велика, что нам, живущим в стране, где церковь отделена от государства, трудно даже это себе представить. Например, кое-где действуют законы, по которым за нарушение мусульманского поста полагается тюрьма.
Основателем ислама был Мухаммед, или, как иногда называют его у нас, Магомет. Предание утверждает, что он родился в Мекке около 570 года, то есть уже в трудные для Аравии времена. Его отец не был богатым. Умерев в раннем возрасте, он оставил семье шесть верблюдов и одного невольника. Вскоре умерла и мать. Осиротевший Мухаммед был пастухом, погонщиком верблюдов. Став позднее приказчиком богатой вдовы Хадиджи, он женился на ней и превратился в состоятельного человека.
Мухаммеду было около сорока лет, когда он выступил с проповедью новой веры, объявив себя пророком единого бога аллаха. Сначала над ним смеялись, потом мекканская знать стала его преследовать. Вместе с небольшой горсткой приверженцев пророк бежал в город Ясриб, нынешнюю Медину. Жители этого города давно враждовали с Меккой. Они охотно приняли Мухаммеда и объявили себя его последователями.
Переселение пророка — по-арабски хиджра — произошло в 622 году, и поскольку именно с этого времени началось быстрое возвышение Мухаммеда, мусульмане по лунному календарю ведут летосчисление с этой даты.
Учение Мухаммеда объединяло арабские племена. Пророк обещал своим последователям вечное блаженство в раю, где они будут возлежать на шелковых золототканых подушках у берегов рек из меда и молока.
Мухаммед начал борьбу с Меккой. Его приверженцы оставили без привозного хлеба этот город, лежащий в неплодородной местности. Его воины нападали на караваны мекканцев. В одной из схваток был ранен сам пророк.
В 630 году, после тайных переговоров со вчерашними врагами, Мухаммед, облаченный в красную одежду, торжественно въехал в Мекку на любимом верблюде и велел выбросить древних арабских идолов из храма Каабы.
Новая религия, запрещающая единоверцам-мусульманам сражаться друг против друга и сулящая райское блаженство воинам, павшим в бою против «неверных», облегчила завоевательные войны арабов. Первые успешные походы начались еще при жизни Мухаммеда. Арабы-кочевники, так называемые бедуины, издавна славились храбростью. Вера, что война под знаменами пророка угодна аллаху, поддерживала в арабах-завоевателях высокий боевой дух.
Мухаммед, согласно преданиям, умер в 632 году признанным повелителем, Аравии. Ислам стал к этому времени религией и идеологией объединения кочевых арабских племен. Продолжая завоевания, арабы создали раннее феодальное государство — халифат. Его границы всё расширялись и расширялись за счет сопредельных стран.
В годы правления халифа Омара арабы во главе с Амром вторглись в Египет. В передовом отряде было всего три с половиной тысячи воинов. Пусть после подхода подкреплений силы арабов возросли до десяти, даже до пятнадцати тысяч человек. Но разве такая армия могла бы покорить пяти-шести-миллионный народ! Ясно, что египтяне предпочли арабов совершенно чужим им по духу византийцам. Уже много столетий египетская земля попадала под власть то эфиопов, то ассирийцев, то персов. Ее завоевывал Александр Македонский. Она была провинцией Рима. Последние повелители египтян, византийцы, усиленно насаждали в долине Нила христианство, не считаясь с древними верованиями.
Амр не стал убивать побежденных. Он обложил их данью. Помимо денег, египтяне давали победителям хлеб, масло, мед, уксус. Каждый мусульманин раз в год должен был получать также плащ из шерсти, тюрбан, штаны и пару обуви.
Правда, в Дельте, оказавшей сопротивление, арабы жгли и грабили в полном соответствии с жестокими традициями века. Известно также, что после завоевания всего Египта они ввели тяжелый, обременительный налог — харадж.
В 642 году Амр построил мечеть, носящую ныне его имя. Она сохранилась в той части города, которую называют теперь Старым Каиром.
Сняв ботинки, как того требует обычай, мы в носках пошли по ее каменному полу. Вдоль главного зала в несколько рядов тянулись мраморные колонны. Амр велел перенести их в мечеть из разрушенных византийских зданий: его воинам некогда было заниматься резьбой по камню.
Но где же здесь испытывают честность правоверных? Где две колонны, стоящие так близко друг от друга, что между ними мог протиснуться лишь тощий человек (строители мечети считали честность несовместимой с большим живот ом)?
Нет больше этого испытания, о котором я читал в старых книгах. Просвет между колоннами заделан камнем. Вряд ли об этом распорядились тощие…
Мечети украшает резьба, мозаика, ковры, изречения из Корана и лампы, свисающие с потолка на длинных металлических цепочках. Икон у мусульман нет. Религия запрещала изображение человека и вообще живых существ. Толкователи Корана грозили несчастьем художнику, нарушающему запрет. Ведь в день Страшного суда нарисованные люди сойдут с картин и потребуют: «Дай нам душу! Где наша душа?» А откуда взять художнику души для изображенных им людей? И бросят его в огонь, где он будет гореть вечно.
Но зато как преуспели арабские художники и скульпторы в изображении деревьев и цветов! Каких поразительных успехов добились в искусстве орнамента, образно называемого «музыкой для глаз»! Фантазия средневековых резчиков придавала камню легкость кружева, превращала каменные стены в узорчатые ковры, и тут я чувствую свое полное бессилие: это надо видеть.
Была пора нильских разливов. По утрам на небе белели хлопья облаков. Воздух повлажнел, и от этого жара переносилась еще хуже.
Иные годы Египет получает меньше воды, чем обычно. Бывают годы обильной воды и даже катастрофических наводнений. Но если бы Нил один год не разлился вовсе, плодородная нильская долина осталась бы без урожая.
Сведения об уровне Нила передают в последних известиях по радио раньше самых важных международных дел.
Как-то слышим: на ниломере двадцать четыре дираа девять киратов. А где он, этот знаменитый ниломер? Где именно египтяне
…отмечают след Разлива на ступенях пирамиды, Чтобы судить по высоте черты, Что предстоит им, голод или сытость?— Пирамида тут, по-видимому, ни при чем, — в раздумье замечает доктор, выслушав в моем исполнении отрывок из «Антония и Клеопатры», без которого не обходится ни одно популярное описание Нила. — Нил, если так-то уж говорить, никогда не заливал подножие пирамид. Что же имел в виду Шекспир?
Ниломер построен на окраине острова Роуда, Рода или Равда. Все эти названия правильны и звучат по-разному в зависимости от того, кто произносит их: араб, англичанин или русский.
Остров сигарой лежит в русле Нила. На конце сигары остроконечная башенка. Издали она, пожалуй, похожа на маленькую пирамиду — не тут ли разгадка шекспировских «ступеней пирамиды»?
Нил с неистовой силой бьет в каменный выступ, выдвинутый в русло. Отбойная мутная струя закручивается воронкой водоворота, но возле самой башенки вода спокойна.
Внутри — квадратный колодец размером с большую комнату. Стены выложены белым камнем. Посередине, в углубленном круглом бассейне, шестигранная колонна из желтоватого камня, покрытая насечками и арабскими куфическими письменами. Но где же вода?
— Почтеннейшие господа, уже более двух десятилетий ниломер не видит воды, — говорит служитель. — А приходила она вон там. Осторожнее, умоляю вас!
Спускаемся по стертым ступеням лестницы, вырубленной в одной из стен.
— Нил входил здесь!
В боковой тоннель можно проникнуть лишь пригнувшись. Там три отверстия на разном уровне. Теперь они закрыты. Представив бешеный напор воды снаружи, невольно делаю шаг назад.
Доктор рассматривает надписи на колонне и стенах. Крупные насечки обозначают дираа, мелкие — кираты. Сегодняшняя отметка — двадцать четыре дираа девять киратов — равна приблизительно восемнадцати метрам.
Смотритель говорит, что ниломер, или, как его называют арабы, макиас, построен в 716 году при халифе Сулеймане. Возможно, здесь же находился ниломер древних египтян.
— Макиас был заново переделан в восемьсот семьдесят третьем году, при Ахмеде ибн-Тулуне, построившем много новых каналов и великолепную мечеть. Надеюсь, ваши очи уже наслаждались ее видом? Он велел украсить макиас и во время прибыли воды каждый день оповещать жителей Каира о том, каков ее уровень. Глашатаи ходили по всем площадям и базарам, и один выкрикивал, каков сегодня Нил, тогда как другой прославлял аллаха за его щедроты. Когда вода поднималась до пятнадцати дираа шестнадцати киратов, достаточных для орошения полей нильской долины, начинался большой праздник.
Вернувшись в Москву, я нашел упоминание о том, что нильская вода все же могла доходить к подножию пирамид. Геродот, описывая строительство пирамиды Хеопса, замечает, что на том холме, где теперь стоит пирамида, фараон «сооружал подземные покои для себя, как усыпальницу, на острове, для чего провел канал из Нила».
* * *
Если бы нормальных, здоровых канадцев переселили в Каир, сказал как-то Том Аллен, то половина из них отдала бы богу душу к концу первой недели. Бедный Том постоянно был похож на человека, только что выскочившего из парной русской бани, где его, по обычаю, отхлестали березовым веником. Он уверял, что покидает гостиницу только в случае острой необходимости, связанной с нелегкими обязанностями журналиста.
И все же мы встретили Тома Аллена на Хан Халили. Даже он не выдержал и перед отъездом домой, в Канаду, соблазнился призывом путеводителя; «Пройдя несколько сот ярдов по улице Муски, турист как бы попадает в атмосферу сказок «Тысячи и одной ночи»: здесь ароматы восточных пряностей, роскошные ковры, золотых дел мастера, сверкающие драгоценности».
Так написано о знаменитом Хан Халили, оазисе чудес, или, проще говоря, о главном каирском базаре.
Улица Муски, или Мускусная, которая туда ведет, говорят, была первой широкой улицей в Каире. Но будь она втрое шире, на ней все равно было бы тесно. Тщетно наш таксист, не полагаясь на сигнал, высовывался из машины:
— Свет моих очей, разве ты хочешь умереть под колесами? Эй, горе своей матери, тебе надоело носить голову? Почтенный отец, открой шире глаза!
Доктор, сладко жмурясь, переводил мне эти выкрики.
— Какой язык, какое богатство! — шептал он.
Едва мы свернули с узкой боковой улочки в совсем уже тараканью щель, как черный нубиец, растопырив руки и дружелюбно сверкая синеватыми белками глаз, преградил нам путь.
Он был зазывалой. Каждый владелец магазинчика-мастерской держит одного-двух таких джентльменов. Они должны перехватывать покупателей у конкурента-соседа и заманивать их в свои сети.
В том магазине, куда завлек нас нубиец, было все, что угодно для туристской души. В полутьме тускло поблескивали тончайшие филигранные изделия из серебряной проволоки и сверкали ярко начищенной медью подносы с выбитыми на них пирамидами, сфинксами, верблюдами. Желтые кожаные сумки и диванные подушки были украшены аппликациями из разноцветной кожи. Бронзовые браслеты для рук и ног лежали грудой на лотке у окна. Тяжелые брелоки с пирамидами, профилем президента, головкой Нефертити и изречениями, написанными арабской вязью, раскачивались на тонких проволочках. Атмосферу сказочного Востока нарушало лишь равномерное гудение подвешенного под потолком электрического вентилятора с большими лопастями.
У меня разбежались глаза. Доктор смотрел на все прелести с совершенно безразличным видом. Хозяин — стреляный воробей — немедленно занялся им. Появились кофе и чай с перечной мятой. Доктору был подвинут мягкий кожаный пуф. По знаку хозяина мальчишка притащил большой кусок парчи.
— Ручная работа, только что получено из Дамаска, — сказал хозяин по-английски, а мальчишка проворно развернул кусок до самого окна.
— О, иес, — промямлил доктор совершенно в стиле Тома Аллена. — Сколько?
Хозяин назвал цену. Дороговато, конечно… Но ведь и парча хороша!
— Прикажете отрезать на платье?
— Я готов заплатить вам за ярд по… — К ужасу моему, доктор назвал едва пятую той цены, которую назначил хозяин.
Ну, быть скандалу! Хозяин схватился за голову.
— Господин шутит, — сказал он. — У господина есть дети?
Доктор подтвердил. Хозяин осведомился, кого послал доктору аллах — мальчика или девочку? Выяснив, что мальчика, которого назвали Тимуром, он изобразил борьбу противоречивых чувств и сказал, что для такого уважаемого покупателя готов сбросить треть цены. Доктор невозмутимо повторил свое предложение.
Я вертелся как на угольях. Хозяин предложил доктору еще чашечку кофе. Доктор отказался. Хозяин заметил, что в этом году в Каире не так жарко, как обычно, и осведомился, слушали ли мы пение госпожи Умм Кульсум, этого соловья Египта. Получив ответ, он сказал, что в виде исключения уступит отрез за полцены.
Не выдержав, я попросил доктора быстрее завершить сделку. Хозяин, к моему удивлению, уступил еще, и они сошлись на трети первоначально запрошенной цены! Я тоже достал бумажник: представится ли еще случай купить так дешево?
— Переплатили, — сухо сказал доктор, когда мы вышли из лавки с двумя свертками. — И давайте будем придерживаться местных обычаев. Если бы я сразу выложил столько, сколько запрошено, хозяин стал бы ломать голову, кто мы: сумасшедшие или фальшивомонетчики? На Хан Халили цены зависят от полета пышной восточной фантазии, уж если так-то говорить.
Нас зазывали со всех сторон, но доктор коротко бросал:
— Шукран! Спасибо!
Мы решили только смотреть.
С непривычки у меня слегка кружилась голова. Мы шли как бы сквозь плотные и тяжелые запахи лука, подгоревшего бараньего сала, рыбы и еще бог знает чего, но уж, во всяком случае, не мускуса и не сандалового дерева, обещанных путеводителем.
Тут-то из лавки, торгующей яркими тканями, и появился Том Аллен. Распаренный, красный, сердитый, он тащил большущий сверток. Не утерпел-таки! Я хотел было окликнуть канадца, но доктор удержал меня:
— Не будем смущать человека.
К выходу мы пробирались через «обжорные ряды».
Всюду жарили кукурузу, засовывая початки в раскаленные угли жаровни и медленно поворачивая их. От жаровен пахло свежеиспеченным хлебом. Шипела на огне куфта — каирский шашлык. Когда наружная часть нанизанной на железный стержень горы тонко нарезанных пластов мяса поджаривалась, ее срезали острым ножом. Я попробовал: вкусно!
Дома доктор сказал:
— Некоторые думают, что, купив парчу и отведав полусырой баранины, они уже имеют право говорить: «Хан Халили? Да, вот это настоящий Восток!»
Я вопросительно повернулся к доктору, но он закрылся газетным листом…
Прошло несколько дней, и однажды доктор предложил:
— А не съездить ли нам сегодня после обеда в Хан Халили?
Я осторожно заметил, что при недостатке времени едва ли разумно уделять два дня базару, пусть даже весьма известному.
— Некоторые думают… — И доктор повторил фразу о парче и шашлыке.
Он развернул план Каира и молча ткнул пальцем в условное изображение мечети возле надписи «Хан Халили — базар». Затем палец скользнул к указателю, разъяснявшему, что это не просто мечеть, а ал-Азхар — мусульманский университет.
И вот мы у стен и минаретов одной из знаменитейших мечетей Каира. Сероватая пыль покрывает ее камни с незапамятных времен. Столько я слышал об этой великолепной мечети! Почему-то она виделась мне утесом над теснотой старинных кварталов, а уж никак не по соседству с главным городским базаром.
Доктор не преминул упрекнуть меня в незнании простейших вещей. Разве ал-Азхар исключение? Большинство мечетей издревле окружали лавки. А сколько соборов в старых русских городах поднимали золотые главы именно над базарными площадями!
История мечети ал-Азхар… Но вернемся к цепочке событий, оборванной у стен покоренной крепости, где арабский полководец Амр велел заложить город ал-Фустат.
Волны арабских завоеваний за одно столетие прокатились по долине Нила, по междуречью Тигра и Евфрата, захлестнули большую часть Ирана, почти достигли стен Константинополя. Боевой клич арабов «Аллах велик» услышали индийцы и китайцы, армяне и грузины, испанцы и североафриканцы. Повелители правоверных купались в славе. Их дворцы в столице покоренной Сирии — Дамаске, потом в новой столице — Багдаде поражали пышностью и великолепием.
Но огромная, мечом скроенная мировая держава арабов не имела запаса прочности. Ахмед ибн-Тулун, наместник Миера (так стали называть Египет арабы), объявил себя самостоятельным халифом. И, разумеется, позаботился о том, чтобы его столица не выглядела беднее Багдада. Мечеть ибн-Тулуна и по сей день остается самой большой на берегах Нила.
Войска египетских халифов, сменявших друг друга в дворцах ал-Фустата, держали в страхе ближайших соседей. Но однажды им самим пришлось отступать с большой поспешностью. Случилось это летом 969 года, когда вторгшиеся в Египет войска полководца Джаухара ас-Сикили разбили защитников города в битве у пирамид.
Защищали ал-Фустат мусульмане, считавшие себя правоверными из правоверных. А кем были пришельцы? Мусульманами, убежденными, что именно они, а не кто-либо другой являются истинными последователями пророка: к этому времени в исламе появлялись различные секты и направления.
В битве под пирамидами победили последователи крупной мусульманской секты исмаилитов, обосновавшихся на побережье Африки. К северо-востоку от ал-Фустата они заложили новую столицу. Ее название происходит от арабского слова ал-Кахира — «победоносная». С годами на разных языках оно зазвучало по-разному: на итальянском — Каиро, на французском — Кэр, на русском — Каир.
Мечеть ал-Азхар была одним из первых зданий в новой столице. Вскоре она стала мусульманским университетом.
Двор мечети — как сохранившийся уголок арабского средневекового города. В тени колоннад, на коврах, застлавших мраморный пол, в окружении слушателей восседали седобородые старцы. Сидя на циновках, студенты мерно раскачивались, повторяя, видимо, слова старцев, перед которыми на низеньких кафедрах лежали святые книги.
Студенты-богословы должны наизусть знать Коран. А ведь это сто четырнадцать глав, шесть тысяч двести двадцать пять стихов.
В Коране собраны записи речей и проповедей Мухаммеда, его «пророческие откровения». Само слово «коран» означает «чтение» или «чтение вслух». Старцы, восседавшие на коврах во дворе мечети ал-Азхар, были учеными толкователями Корана. Но неужели обучение в древнейшем мусульманском университете сводится только к постижению премудростей святой книги?
Доктор посмотрел на меня с сожалением:
— Ал-Азхар стар, но готовит-то он служителей ислама в атомный век. Да, они изучают Коран, сидя на циновках, так же как сидели студенты во времена крестовых походов. Однако эти парни знают иностранные языки, отлично разбираются в политике и спорят о марксизме.
Университет, сказал доктор, готовит не только служителей для мечетей. Там, где ислам — государственная религия, он основа обучения в школе. И в суде никакой судья не решит дела вопреки духу и букве Корана. Вот ал-Азхар и выпускает, кроме будущих служителей культа, также учителей арабского языка, историков, администраторов, юристов, медиков… Его новые факультеты оборудованы вполне современно. Некоторые студенты проводят в ал-Азхаре двенадцать, пятнадцать, а то и двадцать лет, тогда как в другом, светском, Каирском университете сроки обучения близки к европейским.
Преподаватели ал-Азхара обучают представителей чуть ли не шестидесяти стран. Сюда приезжают суданцы и пакистанцы, нигерийцы и афганцы, черные мусульмане, белые мусульмане, желтые мусульмане, подданные королей и даже наши сограждане из республик Средней Азии.
На земном шаре несколько сот миллионов мусульман. Ал-Азхар, крупнейший в мире мусульманский университет, рассылает своих питомцев по всем странам ислама.
* * *
Каир лежал внизу в дымке знойного полдня.
Даже сюда, в высоту, к стенам цитадели, долетал многоголосый слитный гул города. Каир был все еще непонятным, но уже не чужим. Это был знакомый, к которому испытываешь расположение и хочешь сойтись поближе, чтобы лучше узнать его.
В полуденный час цитадель, занявшая плоскогорье над Каиром, была пустынна. Я присел в тень стены, разглядывая желто-белый город, отражающий солнечный свет.
Сколько же видел Каир за долгую свою жизнь!
Идут столетия… Мало-помалу пески засыпают полузабытые древности Египта, изрядно разрушенные во времена распространения христианства. У арабов средневековья своя культура и свои святыни. Камни из развалин Мемфиса они свозят на стройки дворцов и мечетей.
Растет, богатеет Каир, становится огромным для средневековья городом, где дома поднимаются на пять-шесть этажей, множество караван-сараев дают пристанище купцам со всего света, двадцать тысяч лавок завалены товарами, а минаретов над оживленными улицами поднимается столько, что их невозможно сосчитать.
Этот Каир притягивает под свои стены зодчих, поэтов, ученых. Средневековые географы называют арабский халифат грудью мира, в которой бьется сердце мировой цивилизации. Не только воинская доблесть, но и знания считаются добродетелями человека: в народе говорят, что чернила, стекающие с пера ученого, достойны такого же уважения, как и кровь правоверного мученика.
Цитадель Каира построил герой восточных сказаний Салах ад-Дин, которого в средневековых хрониках европейцы называли Саладином.
Крестоносцы уже разграбили Иерусалим и воздвигли замки на побережье Сирии, когда Салах ад-Дин стал султаном Египта. Он собрал большое войско и наголову разбил крестоносцев. Возвратившись в Каир, Салах ад-Дин построил немало школ и госпиталей, а также цитадель, где жил с необычной для восточных правителей скромностью.
Его мужество и благородство признавали даже крестоносцы.
Когда он умер, в его кошельке нашли лишь несколько монеток. Самый последний крестоносец, рыскавший в поисках добычи по чужим землям, был богаче Саладина.
В цитадели есть место со странным названием: «Прыжок мамлюка».
«Мамлюк» в переводе звучит как «белый раб». Повелители правоверных покупали в дальних странах мальчиков-рабов, чтобы воспитывать из них бесстрашных телохранителей. Один из преемников Саладина купил сразу тысячи подростков — черкесов, абхазцев, мингрельцев — и создал грозный корпус отменных воинов. Но и мамлюки осознали свою силу. Они захотели сами посидеть на том месте, которое им поручали охранять.
И полетели головы! На султанском троне один мамлюк сменял другого. Народ, начиная трудовой день, не знал, какой именно повелитель правоверных распоряжается сегодня его судьбой.
Среди мамлюкских султанов были талантливые полководцы. Султан Кутуз, например, сумел отбить натиск всесильных монгольских орд. Однако он правил недолго: на охоте ударом меча мамлюк Бейбарс снес ему голову. У Бейбарса оказались способности государственного деятеля; при нем Египет не только воевал, но и строил дороги, суда, каналы, морские гавани. Бейбарс не обладал благородством Саладина, но мог поспорить с ним храбростью. Его имя тоже наводило ужас на крестоносцев.
Подобно некоторым другим мамлюкским султанам, Бейбарс не говорил по-арабски, и с ним постоянно ходили переводчики. К удивлению египтян, султан ел лошадиное мясо и пил кумыс, как это делали на его родине, в приволжских степях, в те времена принадлежавших Золотой Орде. В детстве он знал Волгу, а не Нил.
Волжским кипчаком — так называли тогда жителей Золотой Орды — был не только Бейбарс, но и султан Калаун. Берке, хан Золотой Орды, в свою очередь принял ислам, у берегов Волги появились минареты, а имя хана стало упоминаться в молитвах на берегах Нила.
Последнее столетие султанской чехарды оказалось особенно тяжелым для Египта. Двадцать три султана успели посидеть на троне!
Были тут и алчные проходимцы, и злобные маньяки, и отвратительные садисты. Подавив восстание доведенных до отчаяния феллахов, один султан распорядился гонять по каирским улицам обезумевших женщин с повешенными на шею отрубленными головами мужей.
Обескровленная, обобранная страна не смогла противостоять натиску новых грозных завоевателей — турок-османов. В начале XVI века Египет был превращен в провинцию Османской империи, подчиненную турецкому паше и мамлюкам, интриговавшим при его дворе.
В конце XVIII века этот застойный Египет, где время, в сущности, остановилось, столкнулся с деятельной Европой. Триста двадцать восемь кораблей Наполеона бросили якоря неподалеку от Александрии. Армия французов высадилась ночью. Александрия стала ее легкой добычей.
Через двадцать дней Наполеон был под Каиром. Он увидел пирамиды и произнес фразу, которая должна была воодушевить его войско перед решающим сражением:
— Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты пирамид!
Наполеон ошибся на несколько столетий. Никто, однако, не ставил ему ошибку в вину: она доказывала, как плохо Европа знала Египет.
Разношерстная конница мамлюков столкнулась с военной выучкой и дисциплиной наполеоновских полков, сабля — с пушечным ядром. Каир пал.
Египет был завоеван, но не покорен. Дважды восставал Каир, и французские пушки с холмов били по минаретам и уличным толпам.
Сопротивление арабов нарастало, а тем временем английский адмирал Нельсон потопил стоявший у египетских берегов французский флот. «Сорок веков с высоты пирамид» вскоре увидели, как Наполеон бросил свою армию и как ее остатки капитулировали перед англичанами.
Египетский поход французов встряхнул страну, доказав ее отсталость и необходимость перемен. Человек, который понял это лучше других, стал вскоре властителем Египта. Его имя Мухаммед-Али.
Он родился в Македонии, а по происхождению был албанцем. В Египет попал с албанским корпусом турецкого паши.
Можно исписать не одну страницу, рассказывая о чрезвычайно ловком и, увы, не всегда чистоплотном продвижении Мухаммеда-Али к должности египетского наместника султана. В конце концов на его пути встали мамлюки, которых поддерживали англичане.
1 марта 1811 года Мухаммед-Али устроил в цитадели торжество: его сыну присудили звание паши. Собрались все видные мамлюки. Пировали долго, Мухаммед-Али был сердечен и ласков с гостями. Наконец мамлюки сели на коней, и блестящая кавалькада во главе с отрядом почетной стражи тронулась по узкому проходу, ведущему в город.
Отряд стражи миновал железные выходные ворота — и тут они внезапно захлопнулись. Сзади с грохотом закрылись другие. Мамлюки не успели опомниться, как град пуль и картечи обрушился на них в западне.
Раненые были превращены в кровавое месиво копытами взбесившихся лошадей. Несколько человек пробилось назад, но Мухаммед-Али приказал их тут же обезглавить. Из трехсот, а может, даже пятисот гостей уцелел один. Пришпорив окровавленного коня, он прыгнул вниз. Конь разбился, всадник спасся.
Это место у обрыва с тех пор и называют «Прыжком мамлюка».
Покончив с врагами одним безжалостным и коварным ударом, Мухаммед-Али стал осторожно и настойчиво уводить страну из-под турецкой опеки.
Он пригласил в Египет европейцев и щедро платил им. Французская речь слышалась не только при дворе, но и на плацах, где обучали солдат, на верфях, где спускали корабли. В маленьких городишках Мухаммед-Али приказывал возводить фабрики. Даже в самой каирской цитадели, неподалеку от дворца, дымила литейная мастерская и оружейники изготовляли ружья для армии.
Египет был выведен на дорогу более быстрого исторического развития жестоко и круто: рабочих на заводы сгоняли насильно, феллахов вылавливали по деревням и забирали на пожизненную службу в армию.
Обеспокоенные усилением Египта, Англия и Турция, объединившись против Мухаммеда-Али, вынудили его пойти на уступки, губительные для честолюбивых планов. Больной и разбитый Мухаммед-Али умер в 1849 году, и все сделанное им стало стремительно разрушаться после его смерти. Дешевые английские товары хлынули в Египет. Одна за другой закрывались фабрики, которыми так гордился Мухаммед-Али. Английские и французские банкиры торопились обосноваться в Каире и Александрии. Европейский капитал устремился в Египет, чтобы властвовать и распоряжаться.
* * *
Я знаю уже десятка три-четыре самых нужных в обиходе арабских фраз и обхожусь без плана в лабиринте улиц центральной части столицы. Могу, различая арабскую вязь названий, купить нужные газеты. Исчезло чувство робости, неуверенности, даже растерянности, которое было у меня в первые дни каирской жизни.
Да, Каир перестал быть для меня чужим. Появились любимые улицы и площади, любимые уголки набережной, любимый монумент, который мне, однако, никак не удавалось сфотографировать по-настоящему: скульптуры, снятые при полуденном солнце, выходят на снимках плоскими.
Как-то мы с доктором и Абу Самрой возвращались из дальней поездки через площадь у Каирского университета. Освещение было удачным: вечерний боковой свет. Он рельефно обрисовывал сфинкса, напружившего могучие лапы и слегка приподнявшегося рядом с женщиной, босоногой, гордой и прекрасной, которая, выпрямившись, отбрасывала с лица покрывало. «Пробуждение Египта» — так называлась эта скульптура.
Сделав снимки, я вернулся в машину:
— Кстати, нельзя ли побывать в мастерской у создателя этого прекрасного монумента?
— Невозможно, он давно умер, — ответил Абу Самра.
Но как мог давно умереть создатель скульптуры, олицетворяющей послереволюционный Египет?!
— Махмуд Мухтар умер четверть века назад, — повторил Абу Самра, — Этой скульптуре много лет, она создана задолго до нашей революции. Быть может, Мухтара вдохновили события девятнадцатого года.
Для Египта 1919 год ознаменовался новым подъемом давней борьбы против Англии. Возбужденные толпы громили английские магазины в Каире. Пулеметы не знали отдыха. Еще не были убраны с улиц трупы убитых, как восстали другие города и села. Повстанцы разбирали железнодорожные пути, бедуины нападали на поезда с английскими войсками. В деревнях узнали русское слово «Совет» — так называли феллахи свои комитеты управления.
Англичане поняли, что Египет пробудился для борьбы долгой и упорной.
Оставив в стране свои монополии, свои войска и своих людей при дворе послушного короля, Англия в 1922 году объявила Египет независимым государством. Это была важная победа народа, и вскоре после нее Махмуд Мухтар закончил многолетнюю работу над монументом «Пробуждение Египта».
Английские колонизаторы продержались в Египте немало лет и после 1922 года.
По образному выражению египетского историка, они некогда вошли в Египет через причалы Порт-Саида. После семидесяти четырех лет господства их вышвырнули вон с причалов этого же города-порта, стоящего у входа в Суэцкий канал.
Был обычный жаркий день. Струя раскаленного воздуха, врываясь в окна машины, которую Осман вел на предельной скорости, не освежала, а скорее размаривала. Доктор и Абу Самра дремали, приоткрывая мутные глаза при толчках.
Кругом же все было в движении. По судоходному каналу Исмаилия, вдоль которого мы неслись к Суэцкому каналу, ползли парусники и старые пароходики.
Приткнувшиеся к берегам барки загружались камнем. Подле разгружались суденышки с изделиями гончаров Верхнего Египта. Горы желтых кувшинов громоздились вдоль берега.
Уже началась уборка хлопчатника. В тени редких придорожных смоковниц прятались овцы. Возле дремали пастухи.
Потом поля кончились. Скука пустыни овладела нами. Незаметно дремота прислонила меня к сонному доктору…
Открыв глаза, я увидел над песками мачту с флагами.
— Корабль!
Суэцкий канал там, где мы выскочили к нему, был наедине с пустыннейшей из пустынь. Высокая мачта, которую я принял за корабельную, поднималась над небольшим зданием с застекленной вышкой.
Мы поспешили к воде, к откосу. Тотчас от здания отделился полицейский. Абу Самра успокоил его.
Канал был пуст. Ни одного суденышка. Хотя бы лодка появилась, что ли! Нет, все мертво.
— Господа, а не отправиться ли нам из Африки в Азию? — предложил Абу Самра, показывая на противоположный берег. — Метров сто пятьдесят, не более. Рискнем?
— А можно? — спросил доктор.
Абу Самра направился к зданию поста.
— Вообще-то купаться здесь запрещено, но для русских начальник делает исключение, — сказал он, вернувшись минут через десять.
Вот неожиданный подарок! Будет что рассказать в Москве: купался в Суэцком канале. И как хорошо освежиться после дороги!
Я нырнул следом за Абу Самрой и в ту же секунду вынырнул в испуге, сам хорошенько не понимая, что случилось.
Во всех морях и реках, где мне доводилось купаться, первым всегда было ощущение прохлады. В канале же вода была словно в горячей ванне. Здесь-то прекрасно подходило выражение «вынырнул как ошпаренный».
Я не рискнул плыть в Азию, да и Абу Самра, видимо, побоялся безжалостного солнца. Кроме того, мы спешили в Порт-Саид.
Полоса асфальта лежала у самой воды. Рядом блестели рельсы, и навстречу нам за тепловозом пронеслось несколько вагонов тускло-серебряного цвета. Густые заросли камышей окаймляли узенький пресноводный канал, прорытый рядом с морским.
Едем дальше. По-прежнему ни единого корабля; лишь на озере, что синело слева, скользило несколько суденышек с косыми парусами вразлет, напоминая птиц, только что севших на воду и не успевших сложить крылья.
То и дело надписи: «Стоп! Контроль через 300 метров». Часовой с примкнутым к винтовке штыком проверяет у шлагбаума документы.
В пути мы нагоняем «конвой», ночью вышедший из Порт-Саида.
Сев однажды в нью-йоркском порту на величайший в мире корабль «Королева Елизавета», я по наивности думал, что большую часть шестидневной дороги к берегам Франции проведу на палубе, разглядывая в бинокль караваны встречных судов. Однако океан был пуст. Лишь изредка на горизонте очерчивался темный силуэт или виднелись легкие дымки. Наверное, той осенью судов в океане было не меньше, чем всегда, но, как всегда, шли они своими дорогами и терялись в необъятности водного простора.
И вот теперь, на канале, я видел сразу не менее двух десятков океанских кораблей, чинно тянувшихся друг за другом. Это и был конвой — колонна судов, по строжайшему расписанию проходящая канал. Шли новехонькие турбоэлектроходы и замарахи угольщики с темными потеками на бортах. Старый лесовоз с высокой черной трубой, на которой ярким суриком был нарисован скачущий олень, тянулся за огромным танкером, светло-серым, величественно-строгим, как современный небоскреб. Никто не должен спешить, никто не может отстать.
На мачтах конвоя была вся география планеты, но каждый корабль вместе со своим флагом вывесил флаг Объединенной Арабской Республики — дань уважения владельцу канала.
Еще до заката мы были в Порт-Саиде. Весь вечер бродили по его улицам. Шелестели пальмы, продавцы воды звенели маленькими медными тарелочками, в ресторане оркестр играл танго, и трое европейцев за столиком у окна пили вермут «Чинзано». Из казино «Палас» вышла группа моряков, парни были заметно навеселе. Маленькие двухтрубные паромчики бегали через канал.
Ничто не напоминало о боях, бомбежках, разрушениях. Ничто, казалось, не говорило здесь о долгой, упорной, драматической борьбе египетского народа за возвращение канала, созданного его руками.
Первая лопата земли из русла будущей водной дороги была вынута весной 1859 года. На акционерную компанию, возглавляемую французом Лессепсом, работали феллахи, согнанные со всей страны. Надсмотрщики без устали орудовали бичами. Под африканским солнцем людей сутками держали в пустыне без воды и пищи. Никто не знает точно, сколько скелетов осталось в песках по берегам канала, но говорили, что число жертв перевалило за сотню тысяч.
Канал был готов осенью 1869 года.
К берегам Африки спешили корабли с гостями. Украшались роскошные гостиницы и дворцы. В новом, специально построенном здании Каирского оперного театра знаменитые итальянские примадонны и сладкоголосые тенора разучивали арии тогда еще никому не известной «Аиды». Джузеппе Верди написал оперу на египетские темы по заказу правителя страны, и первое ее исполнение должно было состояться в честь открытия канала.
Канал открыли в солнечный ноябрьский день. На рейде Порт-Саида собралось шесть десятков судов, среди них — корабли французской императрицы и австрийского императора.
Египту канал принес лишь бедствия. Когда египетский патриот Ораби-паша поднялся против англичан, их военные корабли воспользовались каналом. Разбив египетские войска, англичане в 1882 году под предлогом защиты интересов акционеров Суэцкого канала утвердились в стране на долгие семь десятилетий.
Летопись борьбы за возвращение канала неотделима от летописи революции 1952 года, когда тайная организация «Дуббат ал-ахрар» («Офицеры свободы»), опираясь на армию, свергла королевский режим. Во главе организации, созданной еще в сороковых годах, стоял Гамаль Абдель Насер.
Весной 1954 года полковник Насер стал премьер-министром Египта, а с лета 1956 года — президентом страны.
И вот, выступая в том же году на праздновании четвертой годовщины революции, президент Насер объявил огромной ликующей толпе о национализации Суэцкого канала. Президент сказал, что те сто миллионов долларов, которые каждый год присваивала себе компания канала, отныне будет получать сам Египет. Эти деньги помогут построить высотную плотину Асуана, столь нужную стране.
Когда у капиталистов отнимают прибыль, они приходят в бешенство. Неважно, по какому праву текли миллионы в карманы держателей акций в Лондоне или Париже, — существенно одно: золото перестало течь.
В прежние времена можно было бы сразу открыть огонь по строптивым египтянам. Теперь приходилось действовать осторожнее. Был поднят шум: египтяне не смогут самостоятельно проводить корабли по каналу, мировое судоходство придет в ужасный упадок. Каналу срочно нужны опекуны!
Но когда английские и французские лоцманы, подчиняясь распоряжениям из Лондона и Парижа, спешно покидали Порт-Саид, на каирском аэродроме приземлился самолет с пятнадцатью советскими капитанами дальнего плавания. Прилетели поляки, югославы. Да и египетские моряки к тому времени многому научились. И хотя к Порт-Саиду и Суэцу подошло гораздо больше кораблей, чем обычно, их успешно провели по каналу. Обошлось без опекунов.
А корреспонденты уже сообщали, что в военных министерствах Лондона и Парижа далеко за полночь не гаснет свет. Было замечено, что французская эскадра во главе с линкором «Жан Барт» ушла в неизвестном направлении. На аэродромах, откуда рукой подать до Египта, появились английские парашютисты в полном боевом снаряжении.
Позже подсчитали: на базах вторжения было сосредоточено свыше тысячи самолетов и сто восемьдесят пять боевых кораблей.
Нападение начала армия Израиля. В ночь на 30 октября 1956 года завязались бои на Синайском полуострове, к востоку от канала. Англия и Франция заявили, что, поскольку канал должен служить мировому судоходству, они готовы «взять на себя ответственность» и ввести свои войска в зону канала. Ввести временно, ненадолго, только для поддержания порядка, ни для чего более…
Но египтяне-то знали, что такое «временно»: семь десятилетий английской оккупации тоже были только «временными». И Египет твердо сказал: «Нет!»
Тогда самолеты интервентов начали бомбить египетские города. Ранним утром 5 ноября начались операции по вооруженному захвату Суэцкого канала.
Порт-Саид был атакован с моря и с воздуха. В пылающих кварталах начались упорные бои. Бомбардировщики сбрасывали бомбы на канал. Искореженные железные фермы Фер-данского моста рухнули в русло. Загораживая путь кораблям, затонул фрегат «Абукир», опустился на дно корабль «Акка». Канал был выведен из строя.
В эти дни Советское правительство поддержало борющийся Египет. Было сказано, что, если агрессоры не уймутся, советские граждане-добровольцы не встретят препятствий к выезду в Египет для участия в борьбе египетского народа за независимость.
Это было грозное предупреждение. Утром 7 ноября агрессоры прекратили военные действия.
Вечером 22 декабря 1956 года их последние солдаты покинули Порт-Саид.
…Помнят ли этот урок израильские захватчики, предпринявшие летом 1967 года новую военную авантюру и надолго превратившие Ближний Восток в пороховую бочку?
* * *
Абу Самра, который по поручению департамента информации часто сопровождает нас, неожиданно пригласил в свои родные места, в дельту Нила. Там живут его отец, мать, братья.
Едем сначала новой, недавно проложенной дорогой. Едем час, другой, третий, а вокруг одно и то же: пальмы, ослики, желто-серые глинобитные стены деревенских хижин…
И вот тоска по родной природе, тоска, исподволь накапливавшаяся на чужбине, овладевает мной. Глаза не видят ничего вокруг, а в памяти то синие таежные горы над Енисеем, то ласковые холмы Подмосковья, то приокские луга. Все сочное, умытое, влажное, как будто после дождя, как будто в обильной утренней росе…
Стряхнув воспоминания, возвращаюсь в дельту Нила. Мы то и дело либо пересекаем канал, либо едем вдоль канала. Их в Египте множество. Каналы — артерии жизни, питающие все сущее. В августе, в разлив, я как-то записал в блокнот: «Весь Египет качает воду руками, насосами — всем, чем можно». Потом убедился, что это верно и для мая: весь Египет весной тоже качал воду всем, чем можно.
Я не раз летал над Нилом на самолете. Весной вода только в каналах, рассекающих черно-зелено-желтую чересполосицу вспаханных, засеянных и убранных полей, среди которых серыми бесформенными пятнами разбросаны деревни. Их строят не там, где удобнее жить, а там, где хуже земля. Хорошую землю грех застраивать, она должна рожать! У реки, где лучшая земля, — поля, а не улицы.
По весне, когда дует всеиссушающий ветер пустыни, даже главные рукава нильской дельты, Розеттский и Дамиеттский, кажутся с воздуха узкими речками. Но и в осенний разлив во многих местах не увидишь моря воды, из которого торчат полузатопленные деревья и крыши, не ощутишь буйства стихии, по-своему прекрасного. Нил здесь не разливается, нет! Его с помощью каналов разливают по полям, причем как можно аккуратнее, стараясь не потерять зря ни капли.
До постройки плотины Асуана Нил мощно разливался лишь по вееру дельтских низин. В лазурь Средиземного моря он вклинивал массу своих мутных вод. Контраст между прозрачной морской синевой и грязевым раствором был почти таким же, как между морем и песчаным берегом.
Да, Нил мутен и грязен. Но это муть плодородия, благословенное обилие питательных веществ, нужных злакам. Издавна в честь обожествляемого Нила складывали люди гимны, славя реку за то, что она дарит жизнь Египту, называя ее создателем ржи и производителем ячменя, причиной благоденствия животных, населяющих землю: «Едва твои воды подымаются, земля наполняется ликованием, всякая жизнь радуется…»
И на всех изображениях более поздних времен бог Нила то держит вазы, наполненные цветами, плодами, водой, хлебом, то протягивает рог изобилия, то с любовью смотрит на резвящихся детей.
Нил и сегодня почитается теми, кто трудится на земле. Феллахи уверены, что нильская вода обладает особой жизненной силой, дарует людям здоровье и счастье. В период разливов в деревнях справляют свадьбы. К разлившейся реке приносят больных детей, чтобы те бросали в воду хлеб или финики, приговаривая: «Нил, сделай так, чтобы у меня было столько сил, сколько в тебе глубины». Глоток нильской воды дают умирающему.
* * *
Теперь, когда мы видим Дельту не с заоблачных высот, а поднимаем пыль на ее дорогах, нильский разлив — это вздувшийся водой ближайший канал или залитое рисовое поле, по которому пара буйволов тащит бревно, разравнивающее гребни жирной грязи.
Чем дальше, тем ярче зеленый цвет, тем заметнее вытесняет он все другие. Возделан каждый клочок. Поле начинается в полшаге от дорожного асфальта. Особенно буйствует кукуруза. В ее густых зарослях легко может затеряться человек.
— А все же у нас рай земной, — вдруг говорит доктор. Вопросительно оборачиваюсь.
— У нас, говорю, рай! — сердится доктор. — Пусть кукуруза не такая. А все равно хорошо! Простор, воздух.
Вот оно что! Значит, и доктору взгрустнулось, потянуло и его к родным березкам!
И мы запели. Первый раз с тех пор, как ездим вместе. Доктор робко затянул «Эй, ухнем». Я подхватил, как мог.
У меня нет ни слуха, ни голоса. Это выяснилось уже давно, в школьные годы. Пение у нас преподавал бывший регент императорского хора, после революции попавший в Сибирь. Мы прозвали его Жуком за крашеные длинные усы, которые он весьма холил. Жук презирал нас, безголосых и бездарных. Я любил петь до самозабвения, но когда, увлекшись, фальшивил, Жук останавливал спевку и тыкал в меня перстом с длинным ногтем: «А ты, мальчик, постой-ка пока за дверью. Да».
Пожалуй, с доктором Жук поступил бы так же, и едва ли наши голоса порадовали слух спутников. Но когда мы спели еще что-то про Волгу и конфузливо замолкли, Осман обернулся к Абу Самре:
— У русских сердца детей.
А машина все дальше бежала вдоль полей, жадно впитывающих воду. И казалось, что их никогда не напоить вдоволь, что само солнце мешает этому…
Полуголые тела наклонялись и распрямлялись подле древних, как земля Египта, шадуфов, напоминающих колодезные журавли. Ритмически поблескивали струи поднятой из канала и выливаемой на поля воды. Скрипели и стонали сакии, легкая пыль курилась под ногами буйволов, крутивших их колеса, к которым приделаны ковши. Подгоняемые мальчишками, мерно, уныло, обреченно шагали животные под этот неумолчный скрип. Им казалось, может быть, что идут они нескончаемой пыльной дорогой куда-то вдаль: ведь хозяева завязывают буйволам глаза, прикрывают их плотными шорами, чтобы однообразие кружения не помутило буйволу голову. Впрочем, говорят, есть покорные и тихие животные, отупевшие настолько, что им можно уже и не завязывать глаза…
Ночевать будем в Танте.
Это, по словам Абу Самры, типичный провинциальный город. Не то чтобы очень промышленный, но и не чуждый индустриализации: варят мыло, очищают хлопок, выпускают краски, производят ткани, ремонтируют автомашины.
У гостиницы на главной площади, залитой беспощадным солнцем, вереница извозчиков. В Танте есть и такси, но извозчиков все же больше. То тут, то там несется переделанное на арабский лад: «Эх, прокачу!»
Такта сохранила узкие улочки и шумные базары. Полосатая будка стражника стояла при въезде на главную улицу, на которой находятся канцелярия губернатора и присутственные места. В их гулких коридорах вместо урн — железные бочки из-под бензина. Вдоль стен на маленьких скамеечках разместились писцы и кляузники — ну совершенно Иваны Антоновичи Кувшинные Рыла, только в фесках… Поминутно кланяясь одному из них, старый феллах жаловался на что-то. Писец рассеянно слушал, кося глаза в нашу сторону.
Вечером мы видели свадьбу. Вернее, часть свадебной церемонии. Жениха везли в дом невесты. Он только что помылся в доме лучшего друга и облачился в праздничную одежду. Теперь лучший друг лобызал его перед толпой любопытных, а жених прикрывался большим белым платком. У парня был смущенный и глуповатый вид. Вокруг бегали еще какие-то парни со свечками и фонарями в руках. Женщина посыпала жениха чем-то белым. Нам сказали, что это соль, но не смогли объяснить, зачем жениха солят перед свадьбой.
Едва процессия скрылась за углом, как на площади возле вокзала стали собираться люди, очевидно для какого-то нового торжества. У фонтана поставили четыре флага и протянули гирлянды разноцветных лампочек. Пробежал с медной трубой музыкант из военного оркестра. Чинно прошли мужчины в белых галабеях с зелеными знаменами, покрытыми вязью изречений. Несколько ярких керосинокалильных ламп, укрепленных на шестах, бросали свет на быстро нараставшую толпу.
Свисток приближавшегося поезда. Все бросились на перрон. Несколько минут спустя под звуки музыки на площадь вывалилась ликующая толпа. Так вот оно что! Город встречал паломников, вернувшихся из Мекки. Они шли важные, гордые. Отныне это не Мухаммед или Ибрагим, но хаджи Мухаммед и хаджи Ибрагим. Теперь простые смертные должны оказывать им знаки всяческого внимания и уважения.
Паломничество к святыням не обязательно для каждого мусульманина. В Мекку отправляется тот, кто в состоянии это сделать. Богач может нанять вместо себя другого паломника, чтобы тот семь раз обошел вокруг Каабы и поцеловал черный камень — «окаменевшего ангела». Тогда ангел во время Страшного суда заступится и за совершившего паломничество, и за человека, нанявшего его.
…Проснулся я от адского кукарекания и готов, пожалуй, засвидетельствовать, что в Танте самые горластые, заливистые петухи Ближнего и Среднего Востока. Они разбудили воробьев, и те зачирикали в эвкалиптах. И вот уже радиомуэдзин гортанно прокричал, что правоверным пора на утреннюю молитву; а нам самое время ехать дальше, пока солнце не приступило всерьез к своим обязанностям.
По улочкам-щелям выбрались мы на окраины, к белым башням-голубятням, и покатили среди хлопковых полей. Незаметно исчез асфальт. Хорошо еще, что дожди здесь не часты и на дорогах нет луж и ухабов. Машин мало, всюду пылит ослиная кавалерия.
Городок Кафр эш-Шейх в самом сердце Дельты. Никакими Европами тут не пахнет вовсе, нет ни одной надписи на английском языке, и даже рекламу кока-колы можно узнать лишь по изображению бутылочки.
В тесноте улочек густо идут женщины, закутанные во все черное. На головах у них плетеные корзины с пищащей, крякающей, гогочущей живностью. Орут зазывалы на порогах лавок. Орут разносчики воды и сладостей. Орут голодные ослы, привязанные на солнцепеке.
— Торговый город, — поясняет Абу Самра. — Правда, есть еще завод для очистки хлопка. Но без торговли город зачах бы.
Радостный возглас:
— О, салам!
Это дальний родственник Абу Самры, очень похожий на него, но поплотнее сбитый. У Закарии могучий затылок борца-профессионала и щегольская зеленая галабея. Он только что окончил университет ал-Азхар и полон радужных надежд. Кажется, его ждет служба в полиции. Закария садится к нам в машину: ему по пути. Начинается оживленный обмен новостями.
Теперь мы уже в самой настоящей египетской «глубинке». Но вот слово «глушь» в Египте применимо разве что к пустыне. Глушь предполагает ведь не только отдаленность, но и малолюдность. Дельта же с давних лет не только населена, но и перенаселена.
Нет такого уголка, где каждый не был бы на виду у других. Некуда спрятаться, негде уединиться. Все открыто соседнему глазу.
Всюду люди, люди, люди…
Над долиной, где пейзаж, вероятно, мало изменился за последние тысячелетия, вырастают мачты электропередачи. И не какие-нибудь захудалые, местного значения, а опоры высоковольтной линии.
Но мысли Абу Самры заняты другим.
— Доктор, моя земля!
Каюсь, мне вспомнился Ноздрев, показывающий свои владения Чичикову: «Что по эту сторону леса — мое, и по ту — тоже мое». Слишком уж широкозахватным был жест Абу Самры.
Но тут же я пристыдил себя: конечно, он говорит о земле, на которой родился.
— Справа — земля брата. А это — опять моя! — возбужденно и гордо твердит Абу Самра.
Так он помещик, что ли?
— Земля Закарии, — продолжает Абу Самра, кивая на нашего спутника с каленым затылком.
Тот важно наклоняет голову. Но вон уже кисточки пальм над родной деревней Абу Самры.
Переехав по мостику канал с мутной, почти стоячей водой, в которой блаженствовали утки и купались ошалевшие от жары куры, попадаем в кольцо белозубых улыбок. Народ валит изо всех переулков. Старшие протягивают руки. Остальные застенчиво жмутся к глиняным стенам.
Абу Самра представляет родственников — чуть не половину встречающих!
Отец Абу Самры хочет показать нам свои владения. За плечом у него двустволка. Охотник? Нет, ружье скорее символ власти, влияния. Дядя Латыф берет в руку небольшой радиоприемник. Плотно набиваемся в машину, медленно выезжаем из деревни под крики мальчишек.
У перекрестка чуть не сталкиваемся с машиной, набитой еще плотнее нашей. Приветствия, рукопожатия. Это шейх бедуинского племени Абдель Юнее Сакр со своими приближенными, увешанными оружием. Старший Абу Самра держится с ним, как с равным, младший дружески похлопывает его по плечу. Он молод, но уже глава племени, в котором двести мужчин. А сколько женщин и детей? Он не считал, это неважно.
— Пусть русские приезжают и к нам, — величественно приглашает шейх.
Наверное, его имя забылось бы, если бы однажды доктор, просматривая в Каире утреннюю почту, не наткнулся на статью в журнале «Булис». Там описывались как раз озера в Дельте, где мы встретились с шейхом. Эти места журнал называл «кровавым королевством Абдель Юнеса Сакра». Шейх распоряжался судьбой тысяч рыбаков. Для расправы с непокорными у него была целая банда (я вспомнил молодцов в машине). Шейх завел себе четырнадцать жен и сам устанавливал порядки, сам вершил суд в своем «кровавом королевстве»…
Об арабском гостеприимстве кто не наслышан. Ни один волос не должен упасть с головы даже нежеланного гостя, пока он находится в доме хозяина, радушно принимающего его.
Однако настоящий гость должен знать меру. Не следует злоупотреблять гостеприимством. Три дня — вот наилучший срок для пребывания в гостях.
Первый день — салам, посвященный знакомству и радостям встречи с гостями. Второй — таам, когда гость вправе рассчитывать на особенно обильное и вкусное угощение. Третий — калам, он проходит в откровенных дружеских беседах. Четвертый… Четвертый день гость должен предаваться приятным воспоминаниям по пути домой.
Когда садится солнце, нам предлагают провести вечер в обществе самых почтенных людей деревни, чтобы лучше познакомиться с ними. Сумерки сменяются ночью, пока мы делаем сотню шагов по каким-то переулкам и закоулкам.
Нас приводят в большую комнату, где вдоль стен расставлены диванчики и стулья, обитые красным плюшем. Под потолком гудит керосинокалильная лампа. За окнами теснятся взрослые и детвора, переглядываются, перешептываются.
Просим рассказать о деревне, в которой мы находимся.
Деревня существует на этом месте совсем недавно, всего полтораста лет, говорят нам. Прадед нашего Абу Самры поселился здесь в молодые годы, женился, построил дом, пошли дети, внуки, правнуки. Его старшему сыну сейчас девяносто лет, и к этому старейшине по-прежнему ходят за советом.
— Вся деревня — одно целое, — подчеркивает Абу Самра.
Слушая рассказ о деревне, мы начинаем понимать, почему так влиятельна семья, вернее, даже не семья, а разросшийся клан родственников нашего Абу Самры. Это деревенское ядро «сильных мира сего».
Клан имеет крепкие, полезные связи и в ближней округе, и в Каире. Там, в столице, кроме нашего Абу Самры, живет его брат, который служит в министерстве сельского хозяйства. Один дядя — каирский адвокат.
А здесь, в деревне? Отец — крупный землевладелец. Дядя — тоже, да сверх того знаток и толкователь Корана. У дядюшки Латыфа — земля и деньги. А четвертый дядя, хаджи Ахмед, — сельский староста.
— Сколько жителей в деревне? — спрашиваю я.
Ответ, переведенный доктором, кажется мне настолько странным, что я прошу повторить вопрос. Доктор переспрашивает и обращается ко мне уже не без нотки раздражения:
— Да, шесть тысяч. Ио чему вы удивляетесь?
Я был уверен, что в этой кучке хижин, плотно прилепленных друг к другу, живет человек пятьсот, ну семьсот, не больше. И вдруг — шесть тысяч!
— Вы забыли, что в Дельте плотность населения свыше тысячи человек на квадратный километр, — добавляет доктор.
Нам задают вопросы. Главных — три:
— Каждый ли день пьют русские водку?
— Что это за штука: встреча с хлебом и солью? Кого так встречают? Много ли нужно хлеба и соли?
— Есть ли в Советской стране люди, которые могут прочесть Коран?
При последнем вопросе доктор берет со стола священную книгу, две-три строчки читает вслух, потом, закрыв книгу, произносит дальше немного нараспев фразу за фразой по памяти.
С этой минуты и до самого нашего отъезда из деревни никто не обращает на меня ни малейшего внимания. Я просто жалок рядом с ученым человеком.
Конечно, даже неграмотные феллахи заучивают иногда наизусть целые главы Корана, но доктор был здесь первым чужеземцем, знающим и язык, и религию, и обычаи страны…
Ночь в деревне обогатила меня несколькими новыми арабскими словами: «баргут» — «блоха», «сурсур» — «таракан», «баргаша» — «комар».
Мы спали в комнате, где останавливаются приезжающие в деревню чиновники. Над кроватями свешивались кисейные пологи, концы которых полагалось заткнуть под матрац, чтобы разные ночные твари не беспокоили спящих. Вместо простынь нам дали галабеи, вместо подушек — два длинных жестких валика.
Спал я беспокойно. В абсолютной темноте кто-то носился по моему пологу с писком и шуршанием. Глубокой ночью вдруг всполошились все деревенские псы и долго брехали.
Доктор тоже проснулся до зари. Рассвет, по обыкновению, был стремительным и ярким. Все вокруг зашумело, закряхтело, задвигалось. Доктор приоткрыл окно, и три феллашки шарахнулись прочь от взгляда незнакомца, едва не уронив с головы большие глиняные кувшины.
Мужчины, кто на ослах, а кто пешком, с мотыгами за плечами, торопились в поле. Для нас начинался таам, второй день в гостях, для деревни — обычный долгий трудовой день.
— Будем знакомиться сегодня с тем новым, что появилось здесь после революции, — сказал Абу Самра, когда мы запивали кукурузные лепешки жирным молоком буйволицы.
Здание с маленькой вывеской: «Сельскохозяйственный кооператив». Угол забит бумажными мешками с удобрениями и химикатами против вредителей хлопчатника.
Председатель кооператива по-родственному обнял Абу Самру: давно не видел племянника. Спросил о каирских новостях: что там слышно насчет новых кредитов? На председателе чалма, он опирается на новенькую трость-зонт, говорит не спеша, поглаживая подбородок.
Значит, так. Организовали кооператив семь именитых жителей деревни. Сейчас в нем уже двести семьдесят членов-пайщиков. Феллахи покупают один пай в складчину, а некоторые уважаемые люди имеют по нескольку паев. Так, Абу Самра-старший приобрел тридцать паев, дядюшка Латыф — десять. Кооператив помогает феллахам выгоднее продавать урожай и дешевле покупать то, что нужно. Они могут получить в долг деньги, удобрения, семена, платя небольшие проценты. Если кооператив закончит год с прибылью, ее распределят по паям.
— Но сейчас время завтрака, — прерывает рассказ председатель. — Не окажут ли русские честь моему дому?
Стол накрыт на веранде: очищенные вареные яйца, фасоль, маслины, кусочки сыра. Нет ни ложек, ни ножей, ни вилок. Нам, впрочем, предложили их, но, к удовольствию хозяев, мы отказались: вон же горка лепешек, обойдемся ими. Лепешка тонкая, ею можно подцепить что угодно, не роняя ни кусочка на стол.
Завтракали молча: обильная еда в день таам, в день угощения гостей, слишком важное занятие, чтобы отвлекаться на разговоры. Потом подали крепчайший чай в маленьких стаканчиках.
Кажется, что хорошего в горячем переслащенном чае, когда во рту от жары все пересохло и язык прилипает к нёбу? Сейчас бы квасу со льда, газировочки, на худой конец просто холодной воды…
Нет, я — за стаканчик чая, липкий от сахара, за стаканчик, обжигающий руки! Холодная вода принесет лишь минутное облегчение. Жажды все равно не утолишь — ни ледяной водой, ни горячим чаем. Но чай дает бодрость.
Это самый популярный в Египте напиток. Беда, однако, в том, что феллах, проводя день в тяжелом, изнурительном труде, прибегает к бодрящему стаканчику, пожалуй, слишком часто. А это уже вредно, человек становится рабом опасной привычки. Без густейшего, как деготь, напитка руки феллаха не держат тяжелую мотыгу. Он чувствует себя слабым, разбитым, несчастным. Знатоки утверждают, что когда у феллаха нет денег на покупку чая, он не в силах работать.
После чая мы еще долго говорили о деревенских делах. Как еще велики здесь власть и влияние тех, кто владеет изрядным наделом земли! На их стороне обычаи, родственные связи. Земля и деньги по-прежнему открывают им дорогу к почетным должностям в маленьком, замкнутом деревенском мирке, где даже очень хорошие новые законы ослабляются всем укладом жизни, сложившимся за века угнетения и несправедливости.
Настал калам, день третий.
Мы попросили Абу Самру рассказать о себе. Он не стал отказываться — это было бы нарушением законов гостеприимства.
Иногда речь араба кажется нам слишком цветистой, пышной, декламационной. Абу Самра не представлял исключения. На мой взгляд, многие жители деревни не согласились бы с некоторыми его утверждениями. Но приведу здесь рассказ Абу Самры таким, каким его слышал и почти дословно записал в переводе доктора:
— Вы видели теперь деревню, где я родился. Вы убедились, что я из благородной семьи, что мой отец — уважаемый человек и все мои родственники — уважаемые люди. Наш род как могучее дерево. Корни его здесь, а многие молодые ветви дотянулись до Каира.
Слово моего отца — закон. Все считают, что сказанное им — правда. Он справедлив. Однажды мы, ребятишки, играли в кура-шурраб — гоняли мяч, сделанный из старых чулок. Мяч разбил окно в хижине феллаха, который работал на нашей земле. Феллах пожаловался отцу, Отец сказал мне: «Запомни: этот человек работает на нас, он все равно что наш родственник, ты не должен его обижать». Так сказал отец. Это было еще до революции. Тогда многие обращались с феллахами, как с рабами.
Я был первенцем у отца. Отец женился три раза. В нашей семье было одиннадцать детей, но в живых осталось восемь. Меня особенно берегли как наследника. А я семь раз тонул. Да, в каналах есть опасные места. Вы знаете, мало кто из арабов умеет плавать. А мне хотелось научиться. Меня драли. Лозой и за уши. Учитель, чтобы я не плавал, писал мне на руке чернилами. Если чернила смылись — за уши! Или лозой!
И еще мне запрещали брать ружье. А я брал и стрелял, когда отец уезжал в город. Отец приедет, понюхает, посмотрит ствол — сразу все поймет… Но тут меня защищал дед. Он говорил, что мужчина должен быть мужчиной и прежде всего должен уметь стрелять. Он так говорил: наша деревня далеко от государства, оно нас не защитит, мы сами себе защитники и судьи. Дед сам расправлялся с жуликами. Они обходили стороной нашу деревню, зная, что, взяв здесь буйвола, можно оставить взамен свою голову.
Да, я рос настоящим чертенком. Мне нравилось отрывать головы голубям и уткам. Если учитель наказывал меня, я бил его детей. Никто не мог влезть на пальму быстрее меня. У нас есть игра, называется «шибра аль-али». Двое или трое встают близко друг к другу, наклоняют головы, а один разбегается и прыгает через них. Что? У вас тоже так играют? О, мир тесен! Как вы называете свою игру? Чехарда? А ездят ли у вас верхом на тех, кто не мог перепрыгнуть? Тоже ездят?
Так вот, я прыгал лучше всех, и не было мальчишки, который мог бы похвастать, что ему хоть раз удалось прокатиться на моих плечах. Я был ловок и в борьбе. Вы заметили, какие плечи у шейха бедуинов, которого мы встретили в машине? Абдель Юнес Сакр старше меня. Когда мы были мальчишками, я клал его на обе лопатки. Я и сейчас готов побороться с ним. Да и с любым из вас. Или по очереди с обоими. Может, хотите попробовать?
У нас в деревне было три куттаба — три начальных школы, где учат читать Коран. Я думаю, что был настоящим чертенком, иначе меня не выгнали бы из первой во вторую, а из второй в третью. А учитель третьего куттаба пришел к отцу и заплакал… Тогда отец определил меня в начальную школу города Кафр аш-Шейх. Помните, мы проезжали этот город по дороге сюда?
В деревне я жил среди своих. В городе — другое. Я не сразу понял это и учился не очень хорошо, надеясь, что как-нибудь все обойдется. Тогда отец отвез меня в Каир и устроил в ту школу, где учились в свое время некоторые наши будущие министры. Там у меня появилась цель, я понял, что образование откроет мне дорогу куда-нибудь повыше, чем в провинциальную канцелярию.
За школой — университет. Если вы сегодня, спустя два года после того как я покинул его с дипломом в кармане, пойдете на литературный факультет и спросите обо мне, каждый скажет вам, каким уважением пользовался Абу Самра.
В университете я руководил спортом, устраивал студенческие вечера и защищал идеи республики от всяких посягательств. Я чувствовал, что мое призвание — не карьера религиозного деятеля, не военная карьера, а нечто другое. Я люблю общество и хочу познавать людей. Лосле окончания университета я пошел в департамент информации и, работая с иностранными журналистами, стараюсь приносить пользу республике.
Спасибо вам за то, что вы приехали в нашу деревню. Спасибо также за то, что вы со вниманием выслушали мой рассказ. Вы уедете в свою страну, но, если аллаху это угодно, мы встретимся еще, может, через год, а может, через десять лет…
Мы поблагодарили Абу Самру за рассказ, за добрые слова и отправились спать.
Но мне не спалось.
— Доктор, — сказал я, — вы ведь соблюдаете здешние обычаи, если так-то уж говорить?
— Стараюсь, — буркнул он. — А к чему вы это?
— А к тому, что сегодня калам, день третий. Мы слышали рассказ Абу Самры. Теперь ваша очередь.
Доктор долго отнекивался, но я все же настоял на своем. Конечно, многое о докторе я знал и раньше, но кое-что было для меня новым. Постараюсь совсем коротко изложить и без того короткий рассказ доктора, который я вытянул из него клещами.
Он родился в селении Вятские Поляны — это пристань на реке Вятке. Отец был красногвардейцем, потом воевал против Колчака в рядах знаменитой дивизии Азина. Дома говорили по-татарски, но отец, который хотел, чтобы сын знал и русский, определил его в русскую школу. Школа была в четырех километрах. В мороз, в распутицу — все равно четыре километра в школу, четыре обратно. В девятом классе сын стал комсомольцем, научился водить трактор. Тут война, попросился в армию — отказали: возраст не вышел. Определился на завод, но «не солидно получалось, все воюют, а я…». Писал секретарю райкома, в обком — отказали. Но вот исполнилось восемнадцать лет…
Полевая почта отца оказалась в пятистах метрах от полевой почты сына. Они встретились. Месяц спустя отец погиб на Курской дуге. Гатауллин-младший был танкистом, стрелком-радистом, получил контузию под Сандомиром, орден Красной Звезды, медали за Берлин и Прагу… Приехать после войны в Москву. Никого там не знал, вспомнил, что один земляк учится в Институте востоковедения. Приняли и его. Стипендия невелика, а надо было помогать матери с сестрой. Три года подрабатывал в бригаде грузчиков на Рижском вокзале: руки заняты, голова свободна, твердишь арабские слова…
Окончил институт, написал работу об аграрных отно-тениях в Сирии. Работу заметили, нашли склонность к научной деятельности. Вот и все, «в общем, ничего интересного, уж если так-то говорить».
* * *
На карте Египта — две краски: желтый цвет пустынь и узкая зеленая полоска долины Нила, расширяющаяся в дельте. Пустыни — почти девяносто шесть процентов территории страны. Но Египет, который знают все: его главные города, его памятники древности, его житницы — это четыре процента территории, закрашенные на карте зеленой краской.
Пустыни — всюду. Они подступают к городским окраинам, начинаются у межи засеянного поля. Едешь из Каира в Александрию — за окном бежит пустыня. Отправляешься к Асуану — пустыня тут как тут. Твой путь в оазис Файюм — и пустыня сопровождает тебя сразу за Гизой, где туристы, взгромоздясь на пестро убранных верблюдов и престарелых арабских скакунов, фотографируются на фоне пирамид.
Те пустыни, с которыми обычно знакомится гость страны, не пугают и не отталкивают его. Он не знает караванных троп. Под колесами машины стелется асфальт. Время от времени мелькают щиты, рекламирующие прекрасно освежающее мороженое. На других — кружки, наполненные несравненным пенящимся пивом «Стелла».
Ветер гудит в проводах. Но сама пустыня безмолвна. Иногда чудится какое-то движение, вон темное животное скользнуло за холмик. Нет, это камень. Пустыня притворяется, будто в ней есть жизнь. Впрочем, кое-где мелькают все же серые кусточки в низинах. Арабы называют их ашеб.
Сколько читал я в детстве о возникающих в мареве пустыни прекрасных городах, волшебных садах, наконец, синих озерах, манящих истомленных жаждой путешественников! И однажды пустыня подкрепила хрестоматийные о ней представления: окаймленный темной зеленью, на горизонте заколыхался синеватый водный простор.
— Мираж! — обрадовался я. — Фата-моргана!
— Ля! (Нет!) — покачал головой шофер. — Это Карун.
То было не призрачное, а настоящее озеро Карун, вокруг которого зеленели пальмы Файюмского оазиса…
В разные годы путешествуя по Египту, видел я и Ливийскую, и Нубийскую пустыни, и другие, поменьше, менее известные. Но разве человек, пересекающий пустыню по асфальту, вправе сказать, что действительно знает и чувствует ее? Сел на кожаное сиденье, высунул руку под струю горячего воздуха — только и всего, вот и все твои путевые ощущения.
А если едешь по пустыне долго, то в сонной жаркой одури видится тебе дождь в березняке. Прохладный… Вода так и льется за шиворот, чудесная, холодная вода…
Что такое полтораста километров Нубийской пустыни для сегодняшнего путешественника? Два часа езды. А прежде? «На другой день пустыня явилась во всем ужасе разрушений и смерти. Остовы верблюдов и быков попадались на каждых десяти шагах, иногда чаще…» Так писал о Нубийской пустыне Ковалевский.
Лишь однажды — это было в Сирии, где мы, разыскивая становища бедуинов, застряли в песках без запаса воды, — пустыня напомнила, что шутить с ней не следует. Я почувствовал это по настроению спутников, местных жителей, очень встревоженных нашей вынужденной задержкой. Но часа через три шофер исправил мотор, мы выбрались на дорогу, и маленькое происшествие быстро забылось.
Я попал как-то к нашим бакинцам, помогающим арабам бурить нефтяные скважины по ту сторону Суэцкого залива. Вот они-то почувствовали полной мерой, что такое жизнь в пустыне без асфальта, без искусственно охлажденного воздуха, порой без защиты от солнца. Но рассказывать о ней с чужих слов не буду.
Думаю, что самое сильное впечатление, которое дарит сегодня египетская пустыня, — чудо орошения. Видел его десятки раз, но не перестал удивляться.
Вот пустыня резко, сразу переходит в зеленую рощу. Завожу обычный разговор. Ну хорошо, а если вода дойдет до мертвого, голого песка возле дороги?
И мне отвечают: будет роща. Или поле. Почва одинакова. Разница только в том, что там, где роща, — вода и солнце, а здесь — только солнце. Дайте воду — поднимется роща. Или сад. На этой земле все растет.
Народ Египта теснит пустыню во многих местах. Даже далеко в стороне от Нила, в самом пекле, возникают оазисы, использующие воды артезианских колодцев. Но главный фронт — в провинции Ат-Тахрир, что в переводе значит «Освобождение».
Эта провинция рождена мечтой о новой жизни. Первые люди пришли сюда в 1953 году, всего год спустя после революции.
На карте Ат-Тахрир — зеленая полоса, разлинованная каналами. Она тянется от Нила к Александрии через желтизну песков. На ней квадратики новых селений.
Один из них назван в честь Умм Сабер. «Матушка» Сабер погибла во время партизанской войны против англичан.
Поселок, на взгляд северянина, неуютен. Вдоль улиц одноэтажные домики с плоскими крышами, серые, одинаковые, без каких-либо украшений. Строгость геометрии сменила здесь обычную хаотичность старых египетских деревень. Даже минарет поселковой мечети лишен обычной затейливой резьбы, и репродуктор на нем кажется настолько же уместным, насколько он чужд старинным минаретам Каира.
На плантациях вокруг поселка журчит вода в каналах, льется из артезианских скважин, идет к корням пальмочек, к посадкам лимонных деревьев и манго. Здесь выращивают также ячмень, кукурузу, пшеницу.
Мы пришли на пчельник. Там феллахи в галабеях. Наш сопровождающий несколько смущен и рассержен.
— Униформа фи? — спрашивает он. — Костюмы есть?
— Фи, фи!
— Так почему вы в галабеях?
— Униформа в стирке.
Это невинная ложь. Просто не хочется пачкать на работе красивый костюм из хлопчатобумажной ткани. Кроме того, галабея привычнее.
Но смысл-то социальных начинаний в Ат-Тахрире именно в том, чтобы освободить феллаха от многих старых привычек! Галабея, понятно, мелочь. Главное — психология.
В провинцию Ат-Тахрир может переселиться не всякий желающий. Предпочтение отдается солдатам, отслужившим в армии. Очень ценятся здоровье и жизнерадостность. Провинции не нужны нытики, ворчуны, неуживчивые люди, готовые затеять ссору с соседом из-за перелетевшей через ограду курицы.
Мне рассказали об этом по дороге в другой поселок, названный в честь убитого в 1951 году во время антианглий-ских выступлений студента Омара Шахина. В учебном центре поселка феллахов учат не только по-новому работать, но и по-новому жить.
Они приезжают сюда, в этот поселок, на грузовиках со своим скудным скарбом, немного растерянные и сильно взволнованные. Они видят знамя новой провинции, трехцветное знамя, где желтый цвет напоминает о песках пустыни, синий — о животворной силе воды и зеленый — о том, что дает союз земли, воды и человеческого труда. Им отводят жилье и знакомят с будущей работой.
Дом переселенца — барские хоромы в сравнении с обычным жилищем феллаха: три комнаты, кухня с водопроводом и примусом. На столах скатерти, кровать покрыта новым солдатским одеялом.
Кроме поселков, есть в провинции новый город Бадр. Здесь несколько фабрик. Мы пошли на швейную. В десятке километров от Бадра еще скрипят древние сакии, а тут просторнейшие корпуса, огромные, бесшумные вентиляторы, ледяная вода для питья, электрические раскройные машины, электрические утюги. И ни одного человека в галабее, ни одного черного покрывала на женщинах…
Провинция была огромной моделью, образцом перестройки труда и быта. После того как вступила в строй Садд аль-Аали, она становится плацдармом для нового наступления на пустыню. Воды, накопленные великой плотиной, помогут оросить и здесь, далеко от Асуана, почти сто тридцать тысяч гектаров — а это много, очень много для страны!
В провинции Ат-Тахрир нет крохотных земельных наделов. Здесь феллахи трудятся на государственных фермах, где вместо мотыги — современные машины. Одна из ферм построена с помощью нашей страны.
…Я заканчиваю свой рассказ о стране пирамид весной 1971 года. Это трудная весна Египта. Нет мира на древней земле. По одну сторону Суэцкого канала — войска Объединенной Арабской Республики, по другую — израильские захватчики. В некогда цветущих городах — Суэце, Порт-Саиде, Исмаилии — не дымят заводские трубы, многие дома превращены в руины. Омертвлен Суэцкий канал. Полузатемнены огни Каира.
Но египетский народ верит в свои силы. Он полон решимости бороться за свое будущее. Он знает: придет час освобождения захваченных врагом земель, непременно придет! Во имя этого часа люди Египта готовы на любые жертвы. С первых дней строительства новой жизни им мешали и продолжают мешать империалисты, а также свои внутренние реакционеры. И с тех же дней народ Египта чувствует все возрастающую поддержку и помощь друзей — Советского Союза и других социалистических стран. Знаменательно, что именно трудной весной 1971 года был заключен очень важный Договор о дружбе и сотрудничестве между нашей страной и Объединенной Арабской Республикой.
Недаром говорят: весна — пора надежд!
* * *
Я расстаюсь с читателем на жаркой земле Египта, которую надеюсь увидеть хотя бы еще раз. Хочу вновь услышать горластую каирскую улицу, подняться на стены цитадели, покружить по дорогам Дельты, встретиться со своими египетскими друзьями.
Хотелось бы побывать снова в Америке. И на Таймыре. Побывать там, где уже бывал, и там, где еще не успел побывать. Не обязательно в далеких странах — иногда интересное, увлекательное совсем рядом с нами.
Получилось так, что, поставив точку в конце главы об Египте, поехал я в Курск, где никогда не бывал. Поезд ушел из Москвы ночью, а утром древний русский город уже встретил пассажиров ароматами цветущей белой акации. Всего ночь езды от столицы, — но сколько нового для себя я увидел!
Под Курском — единственный на земном шаре сохранившийся заповедный уголок никогда не знавших плуга черноземных степей, покрытых дивными лазоревыми цветами, серебряных от ковыля. Взглянуть на это чудо природы приезжают ученые из Соединенных Штатов Америки, из Австралии, из Новой Зеландии. А неподалеку от Курска — знаменитая магнитная аномалия. Там самые богатые на земном шаре залежи железной руды. Ее добывают в огромном руднике — карьере, таком большом и глубоком, что эта «оспина» на лике планеты наверняка заметна даже с космических высот. Работают в карьере роторные экскаваторы высотой почти в двадцатиэтажный дом. Перед ними бледнеют фантастические гигантские машины марсиан, изображенные на рисунках к «Борьбе миров» Уэллса. И все это — под Москвой, ночь пути в поезде «Соловей», названном в честь прославленного солиста курских рощ и садов…
— Как прекрасна жизнь, между прочим, и потому, что человек может путешествовать!
Эти слова Гончарова, сказанные в плавании на фрегате «Паллада», относятся не только к тем, кто ищет нехоженые дальние тропы. Даже в туристском трехдневном походе по окрестностям родного города узнаешь что-то новое для себя, сравниваешь, наблюдаешь, размышляешь, учишься. Однако наиболее глубокое, активное познание мира приходит, если ты не только смотришь, но смотришь, работая, смотришь, вживаясь в окружающее. Тот же Гончаров вовсе не был праздным пассажиром «Паллады». Ревностный секретарь экспедиции, член экипажа корабля, он одновременно без устали работал над книгой и сумел почти закончить ее во время плавания. Единственный русский классик, совершивший путешествие, приравненное к кругосветному, сознавался, что отправился в него не без больших колебаний. А на склоне лет настойчиво советовал молодым: если представится случай идти на корабле в отдаленные страны — «ловить этот случай, не слушая никаких преждевременных страхов и сомнений».
Я думаю теперь, что в свое время все же недостаточно пользовался этим прекрасным советом. Мог бы увидеть куда больше, если бы действительно ловил каждый случай поработать там, где трудно и интересно. Больше всего я увидел и узнал, когда работал на теплоходе, ходил по тайге в изыскательском отряде, ездил или летал с командировочным удостоверением туда, куда требовали интересы дела, — на остров Диксон, за океан, на стройку Волго-Балтийского канала, в Багдад, в Якутск…
Человек хочет знать все.
Он жаждет проникнуть в тайны Марса, но его интересует также, как живут люди в соседней республике или области. Он радуется безделушке, подаренной другом, говорящим на другом языке, и газетным известиям о подвиге покорителей горных вершин в Гималаях. Он отправляется в Кижи, чтобы своими глазами увидеть чудо русского деревянного зодчества и терпеливо стоит в очереди у дверей выставки мексиканского народного искусства.
Человек хочет знать все. Большое и малое. Он — Человек, и мир его безграничен. Уходя в свой первый туристский поход, подросток начинает познание планеты. И кто скажет, в какие дали приведет его дорога странствий, чью эстафету примет он, чтобы нести ее дальше и дальше…
Для среднего и старшего возраста
Оформление Б. Лаврова
Ответственный редактор Г. В. Малькова. Художественный редактор Н. 3. Левинская. Технический редактор Л В. Гришина Корректоры Т П. Лейзерович и 3 С. Ульянова. Сдано в набор 29/VI 1971 г. Подписано к печати 18/XI 1971 г. Формат 60Х90 1/16. Печ. л. 27. (Уч — изд. л. 26,56). Тираж 100 000 экз. ТП 1971 № 566. А 09458. Цена 93 коп. на бум. № 2. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Зака^ № 2565.
Примечания
1
В Соединенных Штатах Америки не принята метрическая мера систем. Фут — 30,48 сантиметра.
(обратно)2
Феддан — 0,42 гектара.
(обратно)



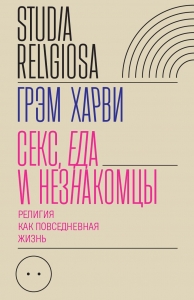

Комментарии к книге «Таймыр, Нью-Йорк, Африка... (Рассказы о странах, людях и путешествиях)», Георгий Иванович Кублицкий
Всего 0 комментариев