Бруно Латур Политики природы. Как привить наукам демократию
Изабель Стенгерс – философу требовательности
Bruno Latour
Politiques de la nature
Comment faire entrer les sciences en démocratie
La Découverte
© Editions La Découverte, Paris, France, 1999, 2004
© Блинов, Е., перевод, послесловие, 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2018
* * *
Концепции политического и концепции природы всегда оставались в тесной связке подобно двум сиденьям на детских качелях: когда одно поднималось, другое неизменно стремилось к земле. Никогда не существовало политики, которая не была бы одновременно политикой природы, как и природы, которая не была бы политической. Эпистемология и политика – это, как мы теперь поняли, составные части одного и того же процесса, объединенного под грифом (политической) эпистемологии, чтобы сделать недоступными для понимания как научные практики, так и саму суть общественной жизни.
Бруно ЛатурУведомление
Смысл всех терминов, отмеченных знаком •, разъясняется в конце настоящего тома в Глоссарии. Поскольку я воздерживаюсь от любых лингвистических нововведений, этот знак использован для напоминания читателю, что смысл устоявшихся выражений я буду уточнять постепенно.
Текст примечаний находится в конце книги и распределен по главам в Примечаниях.
Введение Что делать с политической экологией?
Что делать с политической экологией? Да ничего. Что нам тогда остается? Заниматься политической экологией!
Первый вопрос задавали те, кто надеялся на обновление общественной жизни через политику природы, констатируя при этом стагнацию движений, которые принято причислять к «зеленым». Они хотели бы знать, почему гора так часто рождала мышь. На второй вопрос, несмотря на мнимые расхождения, у всех один ответ. Мы не можем поступать иначе, ведь не может быть политики с одной стороны и природы – с другой. С тех пор как возникло само понятие, всякая политика определяется через ее отношение к природе, причем каждое ее проявление, каждое свойство, каждая функция зависит от полемически заостренного намерения ограничить, реформировать, обосновать, попытаться обойти или же разъяснить характер общественной жизни. Поэтому у нас нет выбора, заниматься или нет политической экологией, однако мы можем заниматься ею либо тайком, разделяя вопросы политики и вопросы природы, либо открыто, рассматривая их как составные части одного вопроса, который встает перед любым коллективом. В то время как экологические движения заявляют о вторжении природы в область политики, нам нужно попытаться представить, чаще всего вместе с ними, но иногда и вопреки им, чем могла бы быть политика, над которой больше не висит дамоклов меч под названием природа.
Нам могут возразить, что политическая экология уже существует. У нее есть бесчисленные нюансы, от самой глубинной до самой поверхностной, не говоря уже о всевозможных разновидностях утопий, рационализма или либерализма. Со всеми возможными оговорками, эти движения уже связали политику и природу тысячами нитей. Ведь все хотят именно этого: проводить, наконец, политику природы; изменить общественную жизнь таким образом, чтобы она, в конце концов, считалась с природой; приспособить нашу систему производства к ее требованиям; словом, оградить природу от негативного воздействия человека за счет взвешенной и дальновидной политики.
Как же мы смеем утверждать, что в этой области есть новая задача, к решению которой еще никто не приступал? Можно спорить о ее пользе, придираться к ее практическому применению, но нельзя делать вид, будто ею вообще не занимались и она вовсе не сформировалась. Если политическая экология потерпела неудачу, то явно не из-за того, что никогда не пробовала приспособить природу к условиям общественной жизни. Если она утратила свое влияние, скажут одни, то только потому, что ей противостояли слишком могущественные силы; или, как скажут другие, она никогда не была настолько содержательной, чтобы бросить вызов традиционной политике. В любом случае слишком поздно возвращаться к этому вопросу. Надо либо навсегда похоронить это движение на и без того переполненном кладбище идеологий прошедшего века, либо сражаться еще отважнее за ее победу в нынешнем виде. В обоих случаях ставки уже сделаны, понятия определены, точки зрения известны. Вы слишком поздно встреваете в давно заглохшую дискуссию. Тут не о чем больше думать. Высказываться надо было лет десять тому назад.
Мы хотим предложить в этой книге иную гипотезу, которая, возможно, оправдает наше несвоевременное выступление. С теоретической точки зрения политическая экология даже не начиналась; до сих пор просто объединяли слова «политика» и «природа», совершенно не вдумываясь в их содержание; поэтому вызовы, с которыми до сих пор сталкивалась политика природы, не доказывают ровным счетом ничего: ни в отношении ее прошлых неудач, ни в отношении ее возможного триумфа в будущем. Эта задержка объясняется очень просто. Мы никогда не поймем значения слов ойкос, логос, фюзис и полис, если не будем рассматривать все четыре концепта одновременно. До сих пор считалось, что на этой теоретической работе можно сэкономить, не отдавая себе отчета в том, что понятия природы и политики на протяжении веков разрабатывались именно для того, чтобы сделать невозможным их сближение, синтез или какое-либо сочетание. Но, что еще хуже, в порыве экуменического энтузиазма делались попытки «преодолеть» античное разделение людей и вещей, субъектов права и объектов науки, без всякого понятия о том, что они были задуманы, сформированы и отшлифованы именно для того, чтобы со временем стать несовместимыми.
Вместо того чтобы «преодолевать» дихотомии между человеком и природой, субъектом и объектом, промышленностью и окружающей средой, для скорейшего нахождения средства выхода из кризиса стоило бы, напротив, замедлить движение, не спеша приостановить его, а затем подобраться к этим дихотомиям снизу, подкапываясь, как старый крот. Во всяком случае, наш довод состоит именно в этом. Вместо того чтобы рассечь гордиев узел, мы распутаем его тысячью разных способов, до тех пор, пока не протащим в угольное ушко, чтобы расплести, а затем сплести заново. В политической философии, чтобы не потерять время, все надо делать не спеша. Экологи чересчур льстили себе, выбрав в качестве девиза: Act locally, think globally [1]. На самом же деле, из глобального они позаимствовали только идею природы, уже сформированной, обобщенной [totalisée] и учрежденной [instituée] для того, чтобы нейтрализовать политику. Чтобы мыслить «глобально», надо было начинать с изучения социальных институтов, за счет которых медленно формируется эта глобальность. Поскольку, как мы вскоре убедимся, природа в нее совершено не вписывается.
Да, в этой книге мы будем двигаться как черепаха из басни, и, смеем надеяться, подобно ей, в конце концов обгоним зайца, который своим великим умом постиг, что политическая экология это уже давно пройденный, закрытый вопрос и что он не в состоянии побудить нас к мысли, обновить мораль, эпистемологию и демократию, или же рассчитывает в три прыжка достигнуть «примирения человека с природой». Чтобы заставить себя двигаться медленно, мы будем интересоваться одновременно науками, разновидностями природы и политики.
Научное производство – это первая преграда, которую мы встретим на нашем пути. Политическая экология, скажут нам, занимается «природой в ее отношении к обществу». Прекрасно. Но эта природа становится познаваемой посредством наук; она сформирована при помощи соединенных в сеть приборов; она определяется при участии профессий, дисциплин, протоколов; она распространяется через базы данных; она обосновывается учеными сообществами. Экология, как указывает ее название, не имеет доступа к самой природе; она является «логией», как и все прочие научные дисциплины. За тем, что принято называть науками, мы находим достаточно сложное сочетание доводов и их производителей, ученый Град [Cité], который действует как третье лицо во всех отношениях с обществом. А ведь именно от этого третьего лица экологические движения хотели бы избавиться, чтобы приблизить успех своей борьбы. Наука для них – это зеркало природы, причем до такой степени, что почти всегда в подобной литературе природа и наука употребляются как синонимы (1). Согласно нашей гипотезе, напротив, загадку научного производства нужно поместить в число важнейших проблем политической экологии. Возможно, таким образом мы замедлим процесс получения очевидностей, которые можно использовать как оружие в политической борьбе, но введем третий термин между природой и обществом, роль которого окажется первостепенной.
Природа – это второй «лежачий полицейский», который встретится на пути политической экологии. Каким образом природа, возразят нам, может в принципе мешать всей системе научных дисциплин и инициатив активистов, которые направлены на то, чтобы лучше ее сохранить, внушить к ней уважение, защитить и встроить ее в политический механизм, сделать эстетическим объектом, правовым субъектом, так или иначе – предметом наших забот. Однако именно в этом заключается проблема. Всякий раз как мы пытаемся смешивать научные факты с эстетическими, политическими, экономическими и моральными ценностями, мы ставим себя в затруднительное положение. Если мы во всем соглашаемся с фактами, то все человеческое попадает в сферу объективности, становится чем-то предсказуемым и поддающимся расчету, энергетическим балансом, еще одним видом среди всех прочих. Если мы во всем ориентируемся на ценности, то природа оборачивается зыбким мифом, растворяется в поэзии и романтике; все становится душой и духом. Если мы смешиваем факты и ценности, то выбираем наихудшее из зол, так как лишаемся одновременно автономного знания и независимой морали (2). Мы никогда не узнаем, к примеру, скрывается ли за апокалиптическими прогнозами, которыми нас пугают экологические активисты, власть ученых над политиками или господство политиков над бедными учеными.
В этой книге выдвигается гипотеза, согласно которой политическая экология вообще не занимается «природой» – этой помесью греческой политики, французского картезианства и американских парков. Скажем прямо: с природой совершенно ничего нельзя поделать. Более того, ни в одном моменте своей короткой истории экологическая политика не занималась ни природой, ни ее защитой, ни ее сохранением. Как мы покажем в первой главе, вера в собственный интерес к природе – это детская болезнь политической экологии, которая мешает ей преодолеть свое бессилие, осознав, наконец, смысл собственной деятельности. Мы надеемся, что этот процесс отучения от материнской груди, каким бы резким он ни казался, даст куда более важные результаты, чем искусственное поддержание веры в то, что природа является единственным предметом экологической политики.
Третье препятствие, самое обсуждаемое и вызывающее наибольшую тревогу, возникает из-за политики. Известна разница между экологией научной и политической, между экологом и борцом за защиту окружающей среды [écologiste militant]. Известны и трудности, которые всегда испытывали экологические движения, пытаясь найти свое место на шахматной доске современной политики. Правые? Левые? Крайне правые? Крайне левые? Ни правые, ни левые? В администрации? Неизвестно где, в утопии? Сверху, вместе с технократами? Снизу, вернувшись к истокам? По ту сторону, в полной самореализации? Везде, как предполагает изящная гипотеза Геи о Земле, которая собирала бы все экосистемы в единый организм? Но если возможна наука Геи, культ Геи, существует ли политика Геи? Если мы вмешиваемся, чтобы защитить Мать-Землю, это все еще политика? Если все это нужно, чтобы покончить с вредными воздействиями на окружающую среду, закрыть муниципальные свалки, снизить шум от коллекторов, то не стоит лезть из кожи вон: на это хватит одного министерства. Наша гипотеза заключается в том, что до сих пор это была попытка поместить себя на шахматную доску без перечерчивания клеток, создания новых правил игры и способа движения фигур.
На самом деле, нет никаких доказательств того, что перераспределение задач между человеческой политикой и наукой о вещах, между требованиями свободы и властью необходимости само по себе может надежно защитить политическую экологию. Не стоит ли пойти дальше и предположить, что определения человеческой свободы всегда давались ради того, чтобы подчинить ее законам естественной необходимости. В таком случае демократия была бы бессильной изначально. Человек рожден свободным, но повсюду он в цепях; общественный договор призван его освободить; только политическая экология способна на это, но не от свободного человека ей стоит ожидать спасения. Вынужденная в поисках своей ниши заново определять политику и науку, свободу и необходимость, человеческое и нечеловеческое, политическая экология растеряла свой запал в процессе. Она полагалась на природу в надежде ускорить наступление демократии. Сегодня она испытывает недостаток и в том, и в другом. Стоит заново взяться за решение этой задачи, выбрав более долгий и опасный путь.
К какому высшему авторитету мы можем апеллировать, чтобы подвергнуть политическую экологию тройному испытанию научным производством, расставанием с природой и новым определением политического? Являются ли автор и те, кто его вдохновляют, борцами за окружающую среду? Нет. Известными экологами? Тем более. Влиятельными политиками? Ни в коем случае. Если бы мы могли сослаться на какой-нибудь авторитет, которому стоило бы довериться, читатель выиграл бы время. Но речь не идет о том, чтобы выиграть время, набрать темп, обобщить большие объемы данных, наскоро решить безотлагательные проблемы, предотвратить молниеносное наступление катаклизмов при помощи столь же молниеносных действий. И даже не о том, чтобы с педантичностью эрудита воздать должное мыслителям, рассуждающим об экологии. В этой книге просто еще раз ставится вопрос, адресованный себе, и, возможно, только себе самому, как могут взаимодействовать природа, наука и политика. Эта слабость, как нам кажется, позволит нам продвинуться дальше, чем сила.
Если у нас нет никакого особого авторитета, мы тем не менее воспользуемся определенным преимуществом, которое только и позволяет нам обращаться к читателю: нас настолько же интересует научное производство, как и производство политическое. Или, скорее, мы в одинаковой мере восхищаемся политиками и учеными. Как может представить себе читатель, подобное уважение к обеим сторонам встречается не так часто. Отсутствие у нас авторитета служит гарантией того, что мы не будем использовать ни науку для закабаления политики, ни политику для закабаления науки. Это незначительное преимущество мы рассчитываем сделать нашим главным козырем. На поставленный вопрос «Что делать с экологической политикой?» у нас пока нет окончательного ответа. Мы знаем только, что если не попытаться разрубить гордиев узел науки и политики, изменив выражения, в которых ведется дискуссия, то самый масштабный эксперимент никогда ничего не докажет ни одной из сторон. О нем невозможно будет составить адекватный отчет; и мы вечно будем укорять себя за упущенный шанс дать новое определение политики, которое могла бы дать экология.
Добавим последнее ограничение, которое мы на себя накладываем. Хотя мы должны перекроить три взаимосвязанных понятия природы, науки и политики, мы предпочитаем избегать как разоблачительного, так и пророческого тона, который столь часто звучит в работах по политической экологии. Хотя мы готовимся рассмотреть целый ряд гипотез, одну причудливее другой, мы прежде всего хотели бы отстаивать точку зрения здравого смысла [sens commun]. Похоже, на данном этапе он противопоставляется благоразумию [bon sens], ведь чтобы успеть быстрее, нужно продвигаться постепенно, а в поисках простоты мы временно должны притвориться радикалами. Таким образом, наша цель заключается не в изменении сложившегося концептуального порядка, а в описании текущего положения дел: политическая экология уже на практике осуществила все то, чего мы от нее ожидали. Мы берем на себя риск утверждать, что необходимость действовать немедленно до сих пор мешала ей в полной мере осознать оригинальность работы, которую она выполняла на ощупь, будучи не в состоянии определить новое место науки, связанное с инновациями. Единственная услуга, которую мы можем ей оказать, это предложить новую интерпретацию себя самой, другой здравый смысл, чтобы она могла прикинуть, подходит ли он ей. До настоящего момента, как мы полагаем, философы не предлагали политике природы ничего, кроме готовых платьев. Мы же считаем, что она заслуживает, чтобы для нее шили на заказ, и тогда, возможно, она будет не так стеснена в своих движениях (3).
Чтобы размер этой книги не превысил разумного объема, мы мало говорили о полевых исследованиях, на которых она основана. Не имея возможности прояснить суть предъявленных аргументов посредством надежных эмпирических доказательств, мы намеренно расположили их таким образом, чтобы читатель был в курсе ожидающих его затруднений: помимо словаря, мы поместили в конце краткое резюме, которое можно использовать наподобие «шпаргалки»! (4) В любом случае ни одна лачуга, забитая концептами, не в состоянии передать великолепие пейзажа, посреди которого возвышается ее жалкий деревянный остов, оставляя лишь узкий просвет, только и доступный для теории, выглядывающей из-за своих тесных окон.
В первой главе мы избавимся от понятия природы, последовательно обращаясь к данным социологии наук, практике экологических движений (рассматриваемой в отдельности от их философии) и сравнительной антропологии. У политической экологии, как мы увидим, нет рецепта сохранения природы. Во второй главе мы обратимся к вещественному обмену между людьми и нелюдьми́ [non-humains], что позволит нам, обозначив его как коллектив, найти замену существующим политическим учреждениям, до сих пор по недоразумению объединенным под эгидой природы и общества. Этот новый коллектив позволит нам в третьей главе перейти к пересмотру одной священной границы – между фактами и ценностями, поставив на ее место новое разделение властей, которое даст нам более подобающие моральные гарантии. Эта граница между двумя новыми ассамблеями, одна из которых задаст себе вопрос «Сколько нас?», а вторая – «Можем ли мы жить вместе?», которые и лягут в основу Конституции политической экологии. В четвертой главе усилия читателя будут вознаграждены «экскурсией» по новым учреждениям, а также представлением новых ремесел, позволяющих вдохнуть жизнь в политическое тело, которое наконец-то станет жизнеспособным. Трудности вновь возникнут в пятой главе, когда мы будем вынуждены найти замену старому разделению на природу в единственном числе и культуры – во множественном, чтобы заново поставить вопрос о числе коллективов и постепенном становлении общего мира, который столь поспешно упростил наши представления о природе и обществе. Наконец, в заключении мы зададимся вопросом о разновидности Левиафана, который позволит политической экологии выйти из естественного состояния. Возможно, оценив открывшийся вид, читатель простит нам эти скитания по бесплодной земле.
Прежде чем покончить с введением, следует уточнить тот особый смысл, который мы вкладываем в сам термин «политическая экология». Мы знаем, что принято различать экологию научную и политическую, поскольку первая практикуется в лабораториях и полевых экспедициях, а вторая – в политических движениях и в парламенте. Но поскольку мы собираемся основательно пересмотреть само разделение терминов науки и политики, будет понятно, что мы не сможем принять за чистую монету это разделение, которое станет совершенно непригодным по мере нашего продвижения. После нескольких страниц станет ясно, что нам совершенно непринципиально разделять тех, кто хочет изучать экосистемы, защищать природу и окружающую среду, и тех, кто намерен возродить [régénérer] общественную жизнь, поскольку мы хотим научиться различать построение общего мира «при соблюдении процессуальных норм» от того, что осуществляется без всякой утвержденной процедуры. В настоящий момент мы сохраняем термин «политическая экология», которая останется для нас некоей таинственной эмблемой, обозначающей, пока мы не торопимся с его точным определением, приемлемый способ построения общего мира, который греки называли космосом.
Благодарность
У подобной книги имеется не автор, а скорее редакционный секретарь, ответственный за составление текста и вывод правильных заключений. Автор выскажется на эту тему подробнее и с указанием личностей в комментариях, где он сошлется на опыты и процитирует тексты, которые более всего на него повлияли; в основном тексте книги секретарь будет придерживаться первого лица множественного числа, что более всего подходит тому, кто говорит от имени огромной «коллаборатории», и воздержится, по мере возможности, от того, чтобы прерывать неспешный и трудоемкий ход концептуальной работы, которая должна полностью занять внимание читателя.
Министерство окружающей среды при помощи своего Отделения разработок и исследований [Division des études et recherche] любезно поддержало этот необычный проект фундаментального исследования, которое с самого начала подразумевало написание книги (контракт 96060). Разумеется, оно ни в коей мере не несет ответственности за конечный результат. На протяжении моей длительной работы над проектом я мог рассчитывать на неоценимую помощь Клода Жильбера, посредничество которого позволило создать своеобразную исследовательскую среду для изучения коллективного риска. Я благодарю студентов Лондонской школы экономики, и в особенности Нортье Маррес, которые посещали все мои занятия по политике природы и которые придали этому начинанию его окончательную форму. Я в высшей степени признателен экспертам, которые согласились взять на себя труд оценить мои первые наброски, в особенности Мари-Анжель Эрмитт и Лорана Тевено. Назвать их всех – означало бы слишком рано обнаружить широкий диапазон моей некомпетентности и степень, в которой я им обязан. В примечаниях будет указан их наиболее значимый вклад.
Составление этой книги продвинулось вперед только благодаря ценнейшим исследованиям Флориана Шарволяна о Министерстве окружающей среды, Рэми Барбье – об отходах, Патриции Пелегрини – о домашних животных, Элизабет Рэми – о линиях высокого напряжения, Жан-Пьера Ле Бури – о водной политике, Жан-Клода Пети – о заключительном цикле переработки ядерного топлива, Янника Барта – о захоронении ядерных отходов, Волононы Рабизора и Мишеля Каллона – о французской Ассоциации по борьбе с миопатией.
Следуя слегка измененному изречению Сюлли «Воровство и бриколяж – суть два кормящих сосца науки», я беззастенчиво обворовывал «Космополитики» Изабель Стенгерс, которой посвящено настоящее произведение, а также исследования Мишеля Коллона по антропологии рынка. На протяжении этих двух лет я постоянно воздавал должное подлинно историческому опыту моего друга Дэвида Вестерна, который в решающий момент был главой «Службы охраны дикой природы Кении» [Kenya Wild Life Service], вполне отдавая себе отчет в том, какая дистанция отделяет политику природы, которую я задумал в своем кабинете, от той, что он реализовал каждый день на практике, окруженный слонами, масаи, туристами, меценатами со всего мира, местными политиками, стадами буйволов и гну, не говоря уже о «дорогих коллегах» и прочих хищных тварях…
1. Почему политическая экология не может сохранить природу?
Нам говорят, что интерес к природе является нововведением политической экологии. Что она расширила узкое поле зрения классической политики, поместив в нее новые существа, которые до сих пор были мало представлены или не представлены вовсе. В первой главе мы хотим проверить на прочность эту связь между политической экологией и природой. Мы покажем, что политическая экология, несмотря на ее постоянные заявления, не может сохранить природу. На самом деле, природа вечно препятствует проведению общественных дискуссий. Этот тезис, который, как мы убедимся, лишь на первый взгляд кажется парадоксальным, заставляет нас объединять результаты трех различных исследований: одного – из области социологии наук, другого – из практики экологических движений, третьего – из сравнительной антропологии. В этом и заключается вся сложность этой главы: чтобы увидеть подлинный предмет нашего исследования, мы должны принять на веру свидетельства, каждое из которых потребовало бы не одного тома. Или же мы теряем драгоценное время, чтобы убедить в этом читателя, или же продвигаемся максимально быстро, давая ему возможность судить о древе по плодам его, то есть ждем следующих глав, чтобы увидеть, каким образом изложенные постулаты позволяют видоизменить различные формы общественной жизни.
Начнем с небольшого достижения из области социологии науки, без которого весь наш маневр был бы неосуществим. В дальнейшем мы просим читателя различать науки• во множественном числе с маленькой буквы и Науку• в единственном числе с заглавной; признать, что рассуждения о Науке не относятся напрямую к научным практикам; что проблема знания предстает в совсем ином виде, когда ей грозят Наукой и когда она связана с настоящими науками, которые часто идут обходными путями; а также принять идею о том, что если природа в единственном числе непосредственно связана с Наукой, то науки совершенно не нуждаются в подобном объединении. Если мы попытаемся рассмотреть вопрос политической экологии, делая вид, что Наука и науки являются частью одного проекта, мы придем к совершенно различным выводам. На самом же деле в первых разделах мы определим Науку• как политизацию наук посредством эпистемологии, призванную парализовать обычную политическую жизнь перед лицом постоянной угрозы со стороны не терпящей возражений природы. Нам, разумеется, придется обосновать это определение, вступающее в очевидное противоречие с благоразумием. Но если в одном только слове «Наука» скрывается целый клубок противоречий, связанный с политикой, природой и знаниями, который нам предстоит распутать, то нетрудно догадаться, что мы не можем отправиться в путь, не устранив помеху, которую Наука всегда создавала для осуществления политики и исследовательских практик ученых (5).
Для начала – выйти из Пещеры
Чтобы продвигаться быстро и без ущерба для ясности, нет ничего лучше мифа. Запад издревле унаследовал одну аллегорию, определяющую отношения Науки и общества: а именно аллегорию Пещеры•, рассказанную Платоном в «Республике». Мы не будем погружаться в хитросплетения истории греческой философии. В этом хорошо известном мифе мы всего лишь зафиксируем два разрыва, позволяющих нам драматизировать эффект добродетелей, которые мы приписываем Науке. Ведь именно тиранию социального, общественной жизни, политики, субъективных ощущений, пошлой суеты, говоря коротко – темной Пещеры должен искоренить Философ, а позднее – Ученый, если он хочет добраться до истины. В этом, согласно мифу, суть первого разрыва. Не существует никакой связи между миром людей и доступом к «нерукотворной» истине. Аллегория Пещеры позволяет одновременно сформировать определенную идею Науки и определенную идею социального мира, которая позволит оттенить ее красоту. Но этот миф также предполагает и другой разрыв: Ученый, отныне вооруженный нерукотворными законами, которые он узрел, вырвав их из ада социального, может вернуться в Пещеру, чтобы навести там порядок при помощи не подлежащих обсуждению выводов, которые заставят замолчать невежд с их бесконечной болтовней. Здесь также нет никакой непрерывности между неопровержимым отныне объективным законом и человеческим, слишком человеческим многословием потерянных во тьме узников, которые не знают, как прекратить свои бесконечные дискуссии.
Находка этого мифа, позволяющая объяснить столь продолжительное его воздействие, заключается в одной странности: ни один из этих разрывов не исключает появления его прямого антипода, воплощенного в единой героической фигуре Философа-Ученого, одновременно Законодателя и Спасителя. Хотя мир истины отличается от мира социального абсолютно, а не относительно, Ученый, несмотря ни на что, может переходить из одного мира в другой и обратно: ему одному открыт путь, недоступный для остальных. В нем и благодаря ему волшебным образом рушится тирания социального мира, позволяя Ученому созерцать объективный мир, а по возвращении дает ему возможность, подобно новому Моисею, попрать тиранию невежества скрижалью непререкаемых научных законов. Без этого двойного разрыва нет ни Науки, ни эпистемологии, ни зависимой политики, ни западной концепции общественной жизни.
В оригинальном варианте мифа, как известно, Философу удавалось порвать цепи, связывавшие его с миром теней, лишь ценой неимоверных усилий, но как только он, преодолев все препятствия, возвращался в Пещеру, его старые сокамерники предавали смерти гонца, принесшего добрую весть. Много веков спустя, слава Богу, Философа, ставшего Ученым, ожидает куда лучшая участь. Серьезные бюджеты, огромные лаборатории, влиятельные компании, высокопроизводительное оборудование позволяют сегодня в полной безопасности путешествовать между социальным миром и миром Идей, а затем возвращаться обратно в темную Пещеру, которую они только что озарили. За двадцать пять веков только одна вещь не изменилась ни на йоту: двойной разрыв, радикальный характер которого позволяет поддерживать саму форму бесконечно воспроизводимого мифа. Таково препятствие, которое мы должны преодолеть, если хотим изменить понятия, в которых рассуждаем об общественной жизни.
Лаборатории могут быть огромными, зависимость исследователей от промышленников – сколь угодно велика, технический персонал – неисчислим, средства преобразования информации – эффективны, теории – конструктивны, а модели – искусственны, но все это не будет работать, заявят вам с порога, так как Наука может выжить только при условии абсолютного, а не относительного разделения на вещи «как они есть» и «представления о них людей». Без этого разделения между «онтологическими» и «эпистемологическими» вопросами нравственность и социальная жизнь окажутся под угрозой (6). Почему? Потому что без него не будет непререкаемого авторитета, который сможет оборвать бесконечную болтовню мракобесов и невежд. Больше не будет способа отличить истинное от ложного. Не будет возможности избавиться от социального детерминирования, чтобы понять, каковы вещи на самом деле, и за отсутствием этого фундаментального понимания нельзя будет лелеять надежду на поддержание мира в общественной жизни, которому всегда будет угрожать гражданская война. Природа и человеческие представления о ней смешаются в ужасном хаосе. Общественная жизнь, погруженная сама в себя, будет лишена той трансцендентности, без которой нельзя будет завершить ни один спор.
Если вы вежливо возразите, что именно та легкость, с которой ученые переходят из мира социального в мир внешних фактов, та непринужденность, с которой они осуществляют импорт-экспорт научных законов, и та скорость, с которой они конвертируют человеческое в объективное, доказывают, что между двумя мирами нет существенного разрыва и что речь идет о ткани без швов, то вас обвинят в релятивизме; заявят, что вы пытаетесь дать «социальное объяснение» науки; обнаружат у вас пугающую склонность к имморализму и, возможно, прилюдно спросят, верите ли вы в реальность внешнего мира и готовы ли броситься с пятнадцатого этажа, поскольку законы притяжения также «социально сконструированы» (7).
Необходимо найти способ обезвредить этот софизм философов науки, который на протяжении двадцати пяти веков лишает слова политику, как только она затрагивает вопросы природы. Признаемся сразу: избежать этой ловушки практически невозможно. Хотя, казалось бы, что может быть невиннее эпистемологии•, знания о знании, скрупулезного описания научных практик со всеми свойственными им сложностями. Не будем путать эту разновидность эпистемологии, пользующуюся заслуженным уважением, с другим видом деятельности, который мы обозначили при помощи выражения (политическая)• эпистемология, поместив первое слово в скобки, так как эта дисциплина утверждает, что ограничивается Наукой, хотя ее единственной задачей является принижение политики (8). Эта разновидность эпистемологии не ставит своей задачей описание наук, в противоположность тому, что подразумевает ее этимология, она направлена на то, чтобы приостановить всякое исследование природы сложных отношений между науками и сообществами, призывая Науку в качестве единственного спасения от ада социального. Двойной разрыв, отсылающий к Пещере, не основан ни на одном эмпирическом исследовании, наблюдаемом факте, он прямо противоречит как здравому смыслу, так и повседневной практике ученых; а если бы он и существовал когда-либо, то двадцать пять веков существования наук, лабораторий, научных институтов давно не оставили бы от него и следа. Но этого не произошло: эпистемологическая полиция постоянно обнуляет это обыденное знание, создавая двойной разрыв между элементами, которые связывают все воедино, при этом выставляя тех, кто подвергает ее сомнению, релятивистами, софистами и имморалистами, которые хотят лишить нас возможности доступа к внешней реальности и косвенным образом реформировать общество.
Для того чтобы идея двойного разрыва на протяжении веков держалась под напором очевидных, но противоречащих ей фактов, в пользу ее необходимости должен быть весьма весомый довод. Этот довод может быть только политическим или религиозным. Необходимо предположить, что (политическая) эпистемология зависит от чего-то другого, что позволяет ей сохранять свое положение и придает ей сомнительную эффективность. Чем иначе объяснить то чувство затаенной мести, с которым всегда встречали социологию наук? Если бы речь шла только об описании лабораторных практик, мы не слышали бы всех этих криков, а социологи без всяких проблем смешались бы со своими собратьями антропологами. Своим праведным гневом (политические) эпистемологи выдали сами себя: их уловка больше не действует. Больше в эту паутину не попадется ни одна мошка.
В чем сегодня польза мифа о Пещере? В том, чтобы узаконить Конституцию•, которая разделяет общественную жизнь на две палаты (9): в первой размещается придуманный Платоном кинозал, в котором заключены невежды, не способные видеть друг друга и осуществляющие связь друг с другом посредством неких фикций, спроецированных на некое подобие киноэкрана; тогда как вторая находится снаружи, в мире, населенном не людьми, а нелюдьми́, безразличными к нашим раздорам, нашему невежеству и ограничениям, которые наложены на наши представления и фантазии. Основная хитрость этого примера заключается в том, что существует очень небольшое количество людей, способных путешествовать между двумя собраниями и конвертировать свой авторитет в другом мире. Несмотря на гипнотический эффект, производимый Идеями даже на тех, кто претендует на ниспровержение платоновской модели, речь ни в коем случае не идет о противопоставлении мира теней и реальности, а скорее о том, чтобы распределить полномочия и одновременно дать некоторое определение Науки и некоторое определение политики. Вопреки первому впечатлению, речь в данном случае идет не об идеализме, а о самом что ни на есть приземленном способе политической организации: миф о Пещере делает возможным демократию, одновременно нейтрализуя ее – в этом его единственное преимущество.
Каково на самом деле распределение полномочий между этими двумя палатами согласно Конституции, ограниченной (политической) эпистемологией? Первая включает в себя совокупность людей, наделенных даром речи, но лишенных всякой власти, кроме той, что позволяет им пребывать в полном невежестве или вырабатывать некоторый консенсус относительно фикций, которые не имеют ничего общего с внешней реальностью. Вторая состоит исключительно из реальных объектов, способных определять то, что действительно существует, но не наделенных даром речи. С одной стороны – вздорная болтовня, с другой – безмолвная реальность. Это изящное построение основывается исключительно на власти, данной тем, кто способен переходить из одной палаты в другую. Небольшая группа избранных экспертов, способных осуществлять переход между двумя ассамблеями, в свою очередь будет иметь право голоса, поскольку эти эксперты являются людьми; а также возможность говорить правду, потому что они избегают социального мира за счет наложенной на самих себя аскезы истинного знания и наконец способны навести порядок в человеческой ассамблее, заткнув ей рот: ведь только они могут вернуться в нижнюю палату, чтобы преобразить томящихся в заключении рабов. Одним словом, эти немногие избранные располагают самыми невероятными политическими возможностями из когда-либо изобретенных, а именно: заставить заговорить безмолвный мир, глаголить истину, не встречая возражений, положить конец нескончаемым прениям за счет непререкаемого авторитета, которым их наделили сами вещи.
Однако, на первый взгляд, подобное разделение властей продержится недолго. Для этого потребуется слишком много неправдоподобных гипотез и необоснованных привилегий. Народ никогда не согласится считать себя сборищем пожизненно осужденных, которые не могут ни общаться напрямую, ни понимать, о чем они вообще говорят, и которым только и остается, что болтать попусту. К тому же никто не согласится наделять подобной властью путешествующих туда и обратно экспертов, которых никто не выбирал. Даже если мы согласимся с этим очевидным набором нелепостей, как можно предположить, что только Ученые имеют доступ к вещам, которые сами по себе непостижимы? Еще одна сумасбродная идея: каким чудом можно объяснить, что безмолвные до сих пор вещи обретают дар речи? Что еще за четвертый или пятый фокус наделяет эти реальные вещи, обретшие дар речи благодаря вещающим от их лица королям-философам, невероятной способностью стать настолько непререкаемыми, чтобы заставить замолчать всех остальных? Как вообразить, что все эти неодушевленные предметы могут быть использованы для решения проблем узников, когда удел человеческий изначально был определен через разрыв со всякой реальностью? Нет, право же, едва ли эта волшебная сказка может сойти за политическую философию, не говоря уже о том, чтобы стать ее высшей разновидностью.
Это означало бы забыть о вкладе, малозаметном, но при этом весьма весомом, (политической) эпистемологии: одну из этих ассамблей мы обозначим, помещая ее в скобки, как «Науку», а другую – как «Политику». Мы превратим этот определенно политический вопрос о распределении полномочий между двумя палатами в проблему разграничения между необъятным и чисто эпистемологическим вопросом о природе Идей и внешнего мира, а также пределов нашего познания, с одной стороны, и исключительно политическим и социологическим вопросом о природе социального мира – с другой. Это означает, что политическая философия навеки останется кривоглазой. Важная работа политической эпистемологии постоянно вытесняется очевидной путаницей, которую создает эпистемологическая полиция, смешивая политику (в смысле границы между Наукой об Идеях и миром Пещеры) с политикой (в смысле страстей и интересов тех, кто в этой Пещере заключен).
Поскольку речь идет о конституционной теории, которая заставляет заседать отдельно людей, отрешенных от всякой реальности, и нелюде́й, наделенных всей полнотой власти, то мы спокойно утверждаем, что нельзя смешивать возвышенные вопросы эпистемологии о природе вещей с низменными политическими вопросами о ценностях и трудностях совместного проживания. Что за дешевый трюк! Как те ловушки, в которые легко проскальзывает угорь, не имея никакой возможности выбраться наружу. Если вы попытаетесь выбраться из нее за счет активных телодвижений, она затянет вас еще сильнее, поскольку вас тут же обвинят в желании «смешать» вопросы политики и познания. Вам заявят, что вы политизируете Науку, что вы хотите свести окружающий мир к тем проекциям, которыми вынуждены довольствоваться рабы, скованные одной цепью! Что вы не признаете никаких критериев для суждения об истинном и ложном! Чем больше вы спорите, тем больше вас дурачат. Те, кто политизировал науки•, чтобы сделать невозможной политическую жизнь, оказываются в положении обвиняющего, упрекая вас в том, что это вы осквернили чистоту науки своими пустыми рассуждениями об обществе. Те, кто разделяет при помощи софизма общественную жизнь на Науку и социум, объявят софистом именно вас. Вы умрете от жажды или удушья, прежде чем сможете перекусить прутья решетки этой тюрьмы, в которую позволили себя заточить.
Политический замысел, скрытый за этими требованиями эпистемологического характера, было бы несложно обнаружить, если бы не одна незначительная с виду гипотеза, которая выдвигается вместе с мифом о Пещере: весь этот механизм не будет работать, если народ не помещен предварительно во мрак подземелья, при этом каждый индивид, прикованный к своей скамье, помещается отдельно от других, не имея никаких контактов с реальностью, и, как и подобает жертве слухов и предрассудков, всегда готов вцепиться в горло тому, кто попытается их искоренить. Одним словом, без определения социологии нельзя представить себе эпистемологическую полицию. Разве так живут люди? Да какая разница! Миф предполагает, что мы сначала спускаемся в Пещеру, обрываем бесчисленные связи с реальностью, прекращаем любое общение с себе подобными, забрасываем всякую научную работу и становимся невежественными, полными ненависти паралитиками, чьи головы забиты всяким вздором. Именно в этот момент к нам на помощь приходит Наука. Куда менее убедительный в этом смысле, чем библейская притча о грехопадении, миф начинается с описания нашего ничтожества, причина которого от нас скрыта. Поскольку никакой первородный грех не обязывает нас отсчитывать начало общественной жизни от эпохи пещерных людей. И здесь (политическая) эпистемология несколько переоценила свои возможности: она может какое-то время забавлять нас своим театром теней, в полумраке которого контрастно выступают Добро и Зло, Right and Might [2], но она не может – заставить нас купить билет на свой нравоучительный спектакль. Поскольку просвещение не сможет пустить нам пыль в глаза, если (политическая) эпистемология не заставит нас спуститься в Пещеру, то для выхода из нее есть средство куда проще предложенного Платоном: не входить в нее!
Любая нерешительность в вопросе о внешнем характере Науки должна вмиг отбросить нас к «простой социальной конструкции». Мы постараемся уйти от этой пугающей дилеммы: либо реальность внешнего мира, либо ад социального. Этот капкан может сработать только при условии, что никто не возьмется за одновременное исследование Науки и общества и не поставит под сомнение одновременно эпистемологию и социологию. Необходимо, чтобы изучающие Науку верили в то, что социологи говорят о политике, а социологи, в свою очередь, верили утверждениям (политических) эпистемологов относительно Науки. Другими словами, необходимо, чтобы не было никаких социологов различных наук, потому что в этом случае отчетливо просматривались бы возможные альтернативы и контраст был бы сглажен, так как стало бы понятно, что в Науке нет ничего похожего на науки, а в коллективе – на ад социального. Спасение посредством Науки снисходит только в социальный мир, предварительно лишенный всякой возможности стать нравственным, рациональным и ученым. Но для того чтобы эта теория Науки могла выполнять объяснительную функцию для научных практик, необходимо ввести не менее абсурдную теорию социального, которая занималась бы анализом общественной жизни (10).
Как только эта уловка будет разоблачена, она лишится всякого эффекта. Мы сомневаемся, что эпистемологические вопросы можно рассматривать как если бы они существовали отдельно от организации социального тела. С этого момента, в ответ на требование цензоров поставить «важные» вопросы о существовании объективной реальности, не стоит больше выбиваться из сил в попытке доказать, что мы, несмотря ни на что, остаемся «реалистами». Достаточно задать встречный вопрос: «Смотрите, как интересно; вы пытаетесь организовать жизнь гражданского общества, разделив ее на две палаты, одна из которых обладает авторитетом, но не имеет дара речи, а вторая им наделена, будучи лишенной авторитета; вы действительно считаете, что это разумно?» Вопреки эпистемологической полиции, нужно заниматься политикой, а не эпистемологией. При всем при этом политическая мысль Запада длительное время была парализована этой пришедшей извне угрозой, которая в любой момент могла сделать бессмысленными столь долго занимавшие ее дискуссии: неоспоримость нечеловеческих законов, смешение Науки и наук, сведение политики к адской Пещере.
Отказавшись от мифа о Пещере, мы значительно продвинулись, поскольку отныне знаем, как избежать ловушки, связанной с политизацией наук (11). Задача нашей книги не в том, чтобы доказать эту нехитрую мысль из области социологии науки, а в том, чтобы понять ее последствия для политической философии. Как представить себе демократию, которая существуют вне постоянной угрозы со стороны Науки? На что будет похожа общественная жизнь тех, кто откажется войти в Пещеру? Какую форму примут науки, освобожденные от необходимости политической поддержки Науки? Какими свойствами обладала бы природа, если у нее больше не было бы возможности прерывать политические дискуссии? Подобные вопросы можно поставить, едва мы все вместе однажды выйдем из Пещеры, в завершении сеанса (политической) эпистемологии, которая, как мы теперь понимаем, оглядываясь назад, только сбивала нас с пути, который должен был вести нас к политической философии. Подобно тому как мы различали Науку и науки, мы противопоставим политике-власти•, наследнице Пещеры, политику, понимаемую как постепенное построение общего мира•.
Экологический кризис или кризис объективности?
Нам возразят, что социология наук пока не получила достаточного распространения. Поэтому едва ли с ее помощью можно заново изобрести признаваемые всеми формы общественной жизни. Каким образом эти выводы, понятные лишь немногим, помогут нам составить представление о здравом смысле будущего? В первую очередь мы добавим их к мощному социальному движению политической экологии, в котором, как это ни странно, они помогут многое прояснить. Отныне всякий раз, когда речь будет заходить о природе, будь то с целью защитить ее, подчинить, подвергнуть критике, сохранить или же попытаться игнорировать, мы будем знать, что подразумевается вторая палата, управляющая общественной жизнью, работу которой таким образом хотят парализовать. Поскольку речь идет о проблеме политической Конституции, а не о выделении определенной сферы бытия, то возникают два вопроса: почему наши оппоненты настаивают на существовании двух отдельных палат, притом что только одна из них называется политической? Какой властью обладают те, кто осуществляет сообщение между двумя палатами? Ведь теперь, после развенчания мифа о Пещере, нас больше не будет смущать призыв обратиться к природе, поскольку мы в состоянии отличить, что в политической экологии является традиционным, а что новым, что является продолжением эпистемологической полиции, а что позволит создать политическую эпистемологию• будущего.
Результат не заставит себя долго ждать: литература о политической экологии, прочитанная в этом ключе, окажется сплошным разочарованием. На самом деле, она всего лишь воспроизводит Конституцию модерна•, которая сводится к политике двух палат, одна из которых называется собственно политикой, а вторая именем природы лишает ее всякой власти (12). Все эти воспроизведения, эти ремейки, могут даже показаться занимательными, когда заявляется претензия на переход от антропоцентризма модерна, который иногда называют «картезианским», к природоцентризму экологов, как если бы, начиная с истоков западной цивилизации, то есть с первоначального мифа о заключении в Пещеру, никто не задумывался об организации общественной жизни, не сводя ее к двум палатам, одной из которых является природа. Если политическая экология представляет проблему, то не потому, что она наконец включает природу в сферу политических интересов, которые до этого были сосредоточены на людях, а потому, что она, к сожалению, продолжает использовать природу, чтобы помешать рождению политики. Серую и безразличную природу (политических) эпистемологов прошлого экологи попросту заменили на зеленеющую и отзывчивую. Во всех остальных отношениях эти две природы похожи друг на друга: будучи аморальными, они предписывают стандарты нравственного поведения вместо этики; оставаясь аполитичными, они принимают политические решения вместо политики (13). Необходимо сделать эти малоприятные выводы, чтобы обеспечить различные экологические движения философией, которая отвечала бы масштабу их амбиций и соответствовала бы их подлинной новизне.
В таком случае, почему мы интересуемся политической экологией, если произведенная ею литература возвращает нас к Пещере? Чтобы показать, что мы и предлагаем в настоящем разделе, что политическая экология не занимается или перестала наконец заниматься природой, а в еще меньшей степени – ее сохранением и защитой (14). Чтобы следить за ходом этой деликатной операции, читателю необходимо вслед за различением наук и Науки согласиться на новое различие между практикой экологических движений последних тридцати лет и теорией, которой пользуются ее активисты. Первую мы будем называть активистской [militante] экологией•, а вторую – философией экологии• или Naturpolitik• (выражение по образцу Realpolitik [3]). Если кажется, что мы столь часто к ней несправедливы, то именно по причине нашего живого интереса к экологическим движениям (15).
Всегда есть опасность, которую мы прекрасно осознаем, в отделении теории от практики: риск заключается в том, что мы как бы намекаем на неспособность активистов понять, чем они занимаются, а также на то, что они впадают в заблуждение, которое уже было развеяно философом. Если мы прибегаем к этому опасному разделению, то только потому, что «зеленые» движения, намереваясь придать природе политическое измерение, затрагивают самую суть того, что мы называем Конституцией модерна• (16). Ибо, избрав довольно странную стратегию, которая является предметом настоящей главы, экологические движения под предлогом ее защиты способствовали сохранению концепта природы, который делает их борьбу неосуществимой на практике. Поскольку «природа», как мы вскоре убедимся, создана именно для того, чтобы выпотрошить политику, мы не можем претендовать на ее сохранение, даже вынося ее на публичное обсуждение. Поэтому в весьма занимательном случае политической экологии у нас есть полное право говорить о всевозрастающем разрыве между цветущей пышным цветом практикой и ее теоретическим обоснованием (17).
Как только мы переключим свое внимание на реальные экологические кризисы, то сразу поймем, что они предстают совсем не как кризисы, связанные с «природой». Они, скорее, предстают в виде кризисов объективности, как если бы новые предметы, которые мы совместно производим, не умещались в прокрустово ложе двухпалатной политической системы, а традиционным «лысым объектам» отныне противопоставлялись «лохматые» или всклокоченные объекты, которыми активисты усыпают свой путь. Нам необходима эта нелепая метафора, чтобы подчеркнуть, до какой степени кризис касается всех объектов, а не только отмеченных товарным знаком «натуральных» – ярлыком столь же сомнительным, как и контроль подлинности происхождения (18). Поэтому политическая экология раскрывается не благодаря кризису объектов экологии, а за счет общего конституционного кризиса, который затрагивает все объекты. Попробуем это доказать, набросав список различий между тем, что политическая экология считает своим делом, и тем, чем она занимается на практике (19).
1. Политическая экология претендует на то, чтобы рассуждать о природе, но на самом деле она рассуждает о всевозможной путанице, которая всякий раз предполагает участие людей.
2. Она претендует на то, чтобы охранять природу, защитив ее от человека, но практически во всех случаях это оборачивается еще большим участием людей, которые вмешиваются все чаще, все более изощренными способами, воздействуя на чувствительные зоны при помощи всепроникающего научного оборудования.
3. Она претендует на защиту природы ради нее самой, а не в качестве суррогата человеческого эгоизма, но всякий раз эта высокая миссия осуществляется ради уюта, удовольствия и спокойной совести небольшого количества тщательно отобранных людей, главным образом американцев, мужчин, богатых, образованных и белых, которым удается ее обосновать.
4. Она претендует на то, чтобы мыслить в категориях Систем, известных как Законы Науки, но всякий раз, когда она пытается свести все к действию высшей причины, она оказывается вовлечена в научный спор, в котором нет согласия между экспертами.
5. Она претендует на то, что ее научные модели заимствованы у кибернетически организованных иерархий, но при этом всегда выставляет напоказ самые причудливые и гетерархические конструкции, причем масштаб и время, необходимое на их взаимодействие, всегда поражают тех, кто берется рассуждать о хрупкости или прочности Природы, о ее величии или незначительности.
6. Она претендует на то, чтобы рассуждать обо Всем, но ей не удается поколебать сложившиеся мнения или изменить расстановку сил, не привязываясь к местам, биотопам, ситуациям, конкретным событиям: двум китам, зажатым во льдах, семи слонам в Амбосели, тридцати платанам на площади дю Тертр.
7. Она желает увеличить свой авторитет и стать воплощением политической жизни будущего, но повсюду ограничена небольшим количеством катапультируемых кресел и откидных сидений, предусмотренных избирательной системой. Даже в тех странах, где она становится все более влиятельной, это все еще не более чем вспомогательная сила.
Вернемся к этому списку, рассматривая ее вышеперечисленные слабости как достоинства.
1. Политическая экология не рассуждает о природе и никогда не пыталась этого делать. Она занимается сложноорганизованными ассоциациями различных существ: распорядками, приборами, потребителями, учреждениями, нравами, быками, коровами, свиньями, выводками, поэтому было бы легкомысленно включать ее в нечеловеческую и внеисторическую природу. Природа не является проблемой экологии, которая, напротив, размывает ее контуры и перераспределяет ее движущие силы.
2. Политическая экология не собирается охранять природу и никогда не пыталась этого делать. Напротив, она пытается еще полнее вобрать в себя неисчислимое многообразие элементов и судеб. Если модернизм претендовал на то, чтобы править миром, экология вмешивается буквально во все.
3. Политическая экология никогда не претендовала на то, чтобы служить природе ради нее самой, потому что она никогда не была в состоянии отличить общее благо от собственно природы, свободной от присутствия людей. Она делает нечто гораздо более важное для защиты природы (как для нее самой, так и для грядущего блага человечества). Она ставит под вопрос нашу уверенность относительно высшего блага людей и вещей, целей и средств (20).
4. Политическая экология не понимает, что такое эколого-политическая Система, и не развивается за счет сложной Науки, чье устройство и приемы недоступны несчастному человечеству, которое посвящает ей свои изыскания и помыслы. В этом ее огромное достоинство. Она не знает, что составляет систему, а что нет. Она понятия не имеет о взаимосвязях. Разногласия ученых, в которых она запуталась, как раз и отличают ее от любых научно-политических движений прошлого. Только она может извлечь пользу из новой научной политики.
5. Ни кибернетика, ни иерархия не позволяют понять воздействие агентов, потерявших равновесие, хаотических, дарвинистских, то локальных, то глобальных, иногда быстрых, иногда медленных, которые проясняются благодаря множеству экспериментальных и абсолютно оригинальных установок, совокупность которых, к счастью, не является частью определенной Науки.
6. Политическая экология не в состоянии включить свои конкретные и своевременные действия во всеобъемлющую и четко организованную программу и никогда не пыталась этого делать. Именно эта неосведомленность относительно целого ее и спасает, поскольку она не может уместить в рамках одного порядка мелких людишек и необъятные слои озона или же маленьких слоников и среднего размера страусов. «…Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» (Мф. 21: 42).
7. Политическая экология, к счастью, до сих пор оставалась маргинальной, поскольку до сих пор не понимала, в чем заключается ее политика или экология. Она думала, что рассуждает о Природе, о Системе, об упорядоченной Целостности, о мире, в котором отсутствуют люди, о надежно застрахованной Науке, но именно эти заумные разговоры ставят ее в маргинальное положение, тогда как ненавязчивое обсуждение ее реальных практик, возможно, позволит ей достичь политической зрелости, если она сможет понять, в чем заключается ее смысл.
Таким образом, политическую экологию характеризует не кризис природы, а кризис объективности. На смену объектам, находящимся вне зоны риска•, или привычным нам лысым объектам приходят рискованные соединения• или всклокоченные объекты (21). Попробуем определить, в чем состоит отличие между объектами старого и нового образца, коль скоро мы отвыкаем от понятия природы.
Объекты вне зоны риска обладают четырьмя отличительными чертами, которые сразу позволяют их распознать. Прежде всего, произведенный объект имеет отчетливые границы, определенную сущность•, признаваемые всеми свойства. Он, вне всякого сомнения, принадлежит к миру вещей, состоящему из устойчивых и неизменных элементов, подчиненных законам каузальности, эффективности, рентабельности, правдоподобия. После чего исследователи, инженеры, администраторы, предприниматели и специалисты, которые сохраняют, производят и выводят эти объекты на рынок, становятся невидимыми, едва его производство завершено. Все виды научной, технической и промышленной деятельности остаются вне поля зрения. Наконец, эти «объекты вне зоны риска» приводят к ожидаемым и неожиданным последствиям, которые осмысливаются, исходя из их влияния на другую вселенную, состоящую из элементов, контуры которых определить значительно сложнее и которые неопределенно обозначают как «социальные факторы», «политическое измерение», «иррациональный аспект». Согласно мифу о Пещере, объект вне зоны риска, относящийся к старому конституционному порядку, производил впечатление метеора, который обрушивается извне на социальный мир, служивший ему мишенью. Наконец, некоторые из этих объектов могли, иногда по истечении многих лет, стать источником серьезной опасности, то есть спровоцировать катаклизмы. В любом случае эти последствия или катастрофы никогда не подпадали под первое определение объекта, его границ, поскольку они всегда принадлежали миру, несоизмеримому с миром объектов, а именно миру непредсказуемой истории, хаоса, политического кризиса, беспорядка. Несмотря на это влияние, которое мы могли, вопреки всему, отследить, катастрофические последствия не подпадают задним числом под определение объектов и не находятся в зоне их ответственности; они ничему не учат тех, кто их спровоцировал, и не заставляют их изменить свойства самих объектов.
Случай асбеста может послужить для нас примером, потому что речь идет об одном из последних объектов, которые можно назвать модернистскими. Идеальный материал (его называли magic material [4]), одновременно стабильный, эффективный и рентабельный; потребовались десятки лет, чтобы его воздействие на здоровье заставило усомниться в нем изобретателей, фабрикантов, апологетов и проверяющих; десятки предупреждений и судебных процессов потребовались для того, чтобы профессиональные болезни, случаи рака, а также проблемы с утилизацией в конце концов позволили обнаружить их причину и стали ассоциироваться с асбестом, который из идеального и стабильного материала сжался в пугающий клубок, сплетенный из права, гигиены и риска. Такого рода объекты по-прежнему часто встречаются в благоразумном мире, в котором мы живем. И все же, подобно диким травам во французском саду, объекты еще более причудливых очертаний начинают портить картину, закрывая своими ветвями модернистские объекты (22).
Как нам представляется, лучший способ охарактеризовать экологический кризис – это признать все большее распространение, наравне с лысыми объектами, рискованных соединений• (23). Они имеют принципиально иной характер по сравнению с предыдущими; это объясняет, почему всякий раз при их появлении мы говорим о кризисе. В отличие от предшественников, у них нет ни четких очертаний, ни определенной сущности, ни резко обозначенного разрыва между твердым ядром и окружающей средой. Именно это свойство делает их всклокоченными и помещает в ризомы и сети. Во-вторых, их производители не остаются невидимыми, вне поля зрения, но в один прекрасный момент проявляются, привнося проблемы, противоречия, сложности, интересы вместе со своим оборудованием, лабораториями, цехами, заводами. Научное, техническое и промышленное производство с самого начала закладывается в их определение. В-третьих, влияние этих псевдо-объектов не объясняется их внезапным вторжением из другого мира. У них есть масса связей, щупалец, ложных ножек, которые связывают их с существами столь же мало уверенными в собственном бытии, которые по этой причине больше не образуют иную, независимую от первой, вселенную. Для их анализа больше не нужен социально-политический мир, с одной стороны, и объективно-рентабельный – с другой. Наконец, что самое странное, их больше нельзя отделить от неожиданных последствий, к которым они приводят в долгосрочной перспективе, в каком-то отдаленном и несоизмеримом мире. Напротив, от них, как это ни парадоксально, ожидают связанных с ними неожиданных последствий, которые они не замедлят вызвать, признавая при этом свою ответственность и извлекая из этого уроки, в соответствии со вполне прозрачным познавательным процессом, который отражен в их определении и протекает в том же самом мире.
Знаменитые прионы, вызывающие так называемое коровье бешенство, символизируют рискованные соединения точно так же, как асбест – старые объекты вне зоны риска. Мы считаем, что бурный рост политической экологии можно связать с распространением новых существ, которые теперь смешиваются с классическими объектами, всегда определявшими общую перспективу (24). Нам кажется, что разница между объектами вне зоны риска, «лысыми объектами» и «лохматыми» является более существенной, чем разница между кризисами, которые ставят под сомнение экологию, и теми, что ставят под сомнение природу. Мы констатируем не включение проблематики природы в сферу политических дебатов, а резкое увеличение числа лохматых объектов, которые больше нельзя ограничивать одним природным миром, точнее, что ничто больше нельзя подвергнуть натурализации.
Изменяя таким образом само понятие экологического кризиса, мы можем осмыслить самую парадоксальную черту политической экологии, которая прямо противоречит тому, на что она претендует. Ни в коем случае не обобщая свою предметную область и не доверяясь полностью природе, практика политической экологии отличается полным непониманием тех ролей, которые отводятся различным акторам• (25). Политическая экология не переключает все внимание с одного полюса на другой, переходя от человека к природе; она плавно перемещается от уверенности относительно производства объектов вне зоны риска (с его четким разделением людей и вещей) к неуверенности во взаимоотношениях, последствия которой угрожают нарушить все предписания, смешать все планы, создать помехи любому влиянию. Она столь убедительно ставит под сомнение саму возможность раз и навсегда собрать воедино действующие лица и ценности, чтобы поместить их в рамки строгой иерархии (26). Так самая ничтожная действующая сила начинает производить огромный эффект; разрушительный катаклизм исчезает как по мановению волшебной палочки; изумительный продукт приводит к страшным последствиям; чудовище приручается безо всякого труда. В случае политической экологии мы всегда оказываемся в невыгодном положении, поражаясь то устойчивости экосистем, то их уязвимости (27). Действительно, не пора ли всерьез отнестись к апокалиптическим прогнозам некоторых экологов о «конце природы».
Конец природы
Теперь мы понимаем, почему политическая экология не в состоянии сохранить природу: если под природой мы подразумеваем некое общее понятие, которое позволяет нам объединить все существа в рамках одной упорядоченной иерархии, то политическая экология на практике проявляется именно в упразднении идеи природы. Улитка может заблокировать плотину, Гольфстрим может внезапно исчезнуть, террикон – стать биологическим резервом, а черви – превратить почвы Амазонии в бетон. Больше нет никаких оснований для ранжирования различных сущностей в порядке их значимости. Когда неистовые экологи с дрожью в голосе восклицают: «Природа скоро умрет», то они сами не знают, насколько они правы. Слава Богу, природа умрет. Да, великий Пан умер! После смерти Бога и человека природе тоже пора на покой. Давно пора, ведь мы уже практически не в состоянии заниматься политикой.
Читатель, возможно, возмутится этим парадоксом. Он имеет представление о глубинной [profonde] экологии в ее популярном изводе, этом расплывчатом движении, претендующем на то, чтобы реформировать политику во имя «высшего природного равновесия». Между тем глубинная экология находится максимально далеко от экологии политической, и путаница между ними вносит разлад в стратегию «зеленых» движений. «Зеленые» убеждены, что могут располагаться в самом широком политическом спектре: от самого радикального до реформистского, но при этом согласны с тем, что глубинная экология занимает крайнюю позицию. Отсюда параллель, которая совершенно не кажется нам случайной: глубинная экология завораживает экологию политическую, как коммунизм завораживал социализм, а змея – свою жертву… Но глубинная экология не является радикальной формой экологии политической; она вообще не имеет к ней отношения, так как иерархия существ, которую она выстраивает, состоит из объектов вне зоны риска, лысых, современных, которые располагаются ярус за ярусом, в определенном порядке: от Космоса до микробов, не забывая о Матери-Земле, человеческих сообществах, обезьянах и т. д. Производители этого знания неизменно остаются за кадром, точно так же, как источники возможной неопределенности, а разделение между объектами и миром политического, на котором они так настаивают, остается настолько совершенным, что может показаться, будто у глубинной экологии нет другой цели, кроме принижения политического и уменьшения его власти, которую надлежит подчинить куда более могущественной и куда лучше замаскированной власти природы и невидимых экспертов, решающих, что и как она должна и может делать (28). Претендуя на то, чтобы освободить нас от антропоцентризма, глубинная экология возвращает нас в Пещеру, потому что она целиком зависит от классического определения политики, которую природа делает беспомощной и от которой политическая экология, по крайней мере посредством своих практик, пытается нас избавить (29).
Мы наконец понимаем, почему должны различать то, чем занимаются экологические активисты, и то, что они думают о своей деятельности: если мы определяем политическую экологию как то, что увеличивает число рискованных соединений, то даем ей новый важный принцип отбора, не ограниченный вопросом о том, занимается ли она природой, тем более что подобный вопрос очень скоро покажется нам не только поверхностным, но и политически опасным. В своей практике политическая экология постоянно нарушает порядок классификации существ, открывая во все большем количестве неожиданные взаимосвязи и в корне изменяя представления об их важности. В любом случае, если в силу модернистской теории, от которой, как ей кажется, она не в состоянии отказаться, и если она все еще верит, что «защищает природу», то она будет столь же часто терять свой предмет, сколь и попадать наугад. Ее будет в еще более извращенной манере смущать глубинная экология, защищая наиболее важные существа, расположенные в самом строгом и непререкаемом порядке, всегда оказываясь выше и используя в своих интересах власть, которой ее наделил миф о Пещере. Всякий раз сталкиваясь с существами, связи между которыми непонятны и непредсказуемы, политическая экология будет сомневаться в себе самой, полагая, что теряет свою силу, приходя в отчаяние от собственной беспомощности и стыдясь этой слабости… Как только ситуация начнет развиваться непредвиденным образом, то есть практически всегда, политическая экология будет считать, что ошибается, поскольку она надеялась отыскать, в соответствии с принципами природы, возможность расставить в порядке важности все существа, связь между которыми она пыталась установить. Но именно ошибаясь и вводя лохматые объекты, возможная форма которых непредсказуема и делает невозможной использование самого понятия природы, политическая экология наконец-то занимается своим делом, обновляет политическую систему, избавляя нас от модернизма и препятствуя бесконечному умножению лысых и не подверженных риску объектов, с их невероятным перечнем неоспоримых истин, невидимых ученых, предсказуемых эффектов, просчитанных рисков и неожиданных последствий.
Теперь мы видим проблему, с которой сталкиваемся, смешивая практику и теорию политической экологии: оппоненты как глубинной, так и поверхностной экологии чаще всего упрекают ее за то, что она сливает человека с природой, забывая при этом, что человечество определяет себя именно через свою «оторванность» от законов природы, от «данности», от «простой причинности», «чистой непосредственности» или «предрефлексивности» (30). Они вменяют экологии в вину ее желание низвести человека до уровня объекта, заставив его ходить на четвереньках, как иронически заметил Вольтер по поводу Руссо. «Именно потому, что мы, утверждают они, свободные субъекты, несводимые к простым законам природы, мы достойны называться людьми». Что лучше всего подходит под это определение оторванности от природы? Конечно же политическая экология, потому что она кладет конец тысячелетней неразрывной связи природы и публичного обсуждения! Она и только она выводит из игры политическое по своей сути понятие природного порядка.
Мы без труда понимаем, что уже не можем мыслить политическую экологию как принципиально новую сферу деятельности, необходимость которой была осознана Западом в середине XX века, как если бы, начиная с пятидесятых или – не суть важно – шестидесятых или семидесятых годов, политики наконец-то поняли, что вопрос природных ресурсов должен быть включен в перечень их повседневных забот. Никогда, начиная с первых греческих дискуссий о совершенстве общественной жизни, о политике не говорили в отрыве от природы (31); или, точнее говоря, к природе никогда не обращались, не желая тем самым преподать политический урок. Не было написано ни единой строчки, по крайней мере в западной традиции (32), где за такими словами, как природа, природный порядок, закон природы, естественное право, жесткая причинность, незыблемые законы, не следовало бы, через несколько строчек или параграфов, некоторое утверждение о том, как реформировать общественную жизнь. Разумеется, можно изменить смысл этой притчи и с одинаковым успехом критиковать как социальный порядок при помощи природного, так и порядок природы с точки зрения человека; можно даже попытаться положить конец их связи; однако в любом случае нельзя сделать вид, будто бы речь идет о принципиально различных сферах деятельности, которые развивались отдельно друг от друга и впервые пересеклись каких-то тридцать или сорок лет назад. Концепции политического и концепции природы всегда оставались в тесной связке подобно двум сиденьям на детских качелях: когда одно поднималось, другое неизменно стремилось к земле. Никогда не существовало политики, которая не была бы одновременно политикой природы, как и природы, которая не была бы политической. Эпистемология и политика – это, как мы теперь поняли, составные части одного и того же процесса, объединенного под грифом (политической) эпистемологии, чтобы сделать недоступными для понимания как научные практики, так и саму суть общественной жизни.
Этот двойной результат, полученный за счет совместных усилий социологии науки и практической экологии, позволит нам дать определение ключевому понятию коллектива•, смысл которого мы постепенно будем уточнять. На самом деле, важность самого понятия «природы» заключается не в исключительном характере сущностей, которые она предположительно объединяет, и не в том, что они относятся к какому-то определенному региону бытия. Сила воздействия этого выражения объясняется тем, что мы всегда употребляем его в единственном числе: та самая природа [la nature]. Когда мы апеллируем к понятию природы, объединение, которое она узаконивает, значит бесконечно больше, чем онтологическое качество «природности», происхождение которого она гарантирует. Благодаря природе мы убиваем сразу двух зайцев: мы определяем некое существо по его принадлежности некоторой сфере реального, одновременно помещая его в объединенную иерархию, которая простирается на все виды существ от самых больших до самых малых (33).
Доказательства привести не сложно. Замените повсюду единственное число множественным, природу на природы. Этим природам будет невозможно найти какое-либо применение. «Естественные» права? Сложно сочинять конкретные законы, руководствуясь подобным множеством. Как вдохновить пылкие умы на классический спор о роли генетики и окружающей среды, если мы примемся сравнивать влияние природ и культур? Как умерить аппетиты промышленности, если мы говорим, что она должна защищать «природы»? Как сделать науки своим рычагом, если мы считаем их науками, изучающими «природы»? Каким образом «законы природ» могут смирить гордыню законов человеческих? Нет, множественное число категорически не подходит политическому определению природы. Множество плюс множество в сумме дают еще одно множество. Однако, начиная с мифа о Пещере, именно единство природы является ее главным политическим достоинством, потому что только это объединение, это упорядочивание, может конкурировать с иной формой объединения, компоновки, самой что ни на есть традиционной и издревле называемой той самой политикой. В этом споре между политикой и природой, как в старой тяжбе, что на протяжении всех Средних веков противопоставляла Папу Императору, можно найти две лояльности по отношению к двум одинаково легитимным типам тотального, между которыми разрывалась тогда совесть христианина. Если сегодня мы к месту и не к месту используем понятие мультикультурализма•, то понятие мультинатурализма• все еще кажется нам шокирующим и лишенным всякого смысла (34).
Какое влияние на этот давний спор оказывает политическая экология? На это указывает само ее название. Вместо двух отдельных полей, в которые можно попытаться поместить все иерархии существ, чтобы иметь возможность выбирать между ними, никогда, впрочем, не достигая внятного результата, политическая экология предлагает учредить единственный коллектив, роль которого как раз и заключается в обсуждении подобной иерархии и поиске приемлемого решения. Политическая экология предлагает переместить объединяющую функцию различных классов сущего из двойного поля политики и природы в единое поле коллектива. По крайней мере, она занимается этим на практике, не позволяя ни природному, ни социальному порядку по отдельности и окончательно определять, что принимать в расчет, а что нет, что разделено и что связано, что находится внутри, а что – снаружи. Умножение объектов, которые ведут к кризису классического конституционного порядка, это то средство, которое политическая экология, со всей свойственной ей практической изощренностью, сумела использовать для делегитимации одновременно политической традиции и того, что можно назвать традицией натуралистической – Naturpolitik•.
Но именно того, что она осуществляет на практике, по крайней мере в нашем понимании, политическая экология старательно избегает в теории. Даже если она ставит под вопрос природу, проблема ее единства никогда не рассматривается (35). Причина этого несоответствия вскоре прояснится, хотя нам потребуется целая книга, чтобы извлечь из этого пользу. Пока мы принимаем всерьез (политическую) эпистемологию, то есть пока мы не изучаем с одинаковым интересом научные практики и практики политические, природа ни в коем случае не может стать объединительной силой высшего или сопоставимого с политикой порядка. По крайней мере пока. А когда сможет? Как обосновать употребление единственного числа: «та самая» природа? Почему она не может предстать как множество? Почему она, наконец, не решит опираться на политику, как Папа на Императора, чтобы мы увидели, что речь идет о двух ветвях власти, которые можно критиковать одновременно? Благодаря одному волшебному изобретению, от которого она уже давно избавилась на практике, но для того, чтобы сделать это в области теории, потребуется приложить немало весьма болезненных усилий. Из-за разделения между фактами и ценностями, которым мы займемся в третьей главе. Природа, как мы охотно признаем, обладает мощной объединительной силой, но исключительно в отношении фактов. Политика, все с этим согласятся, тоже наделена силой, способной объединять, устанавливать иерархию, упорядочивать ценности и только лишь ценности. Два порядка выглядят не просто различными, а несовместимыми. Не об этом ли велся в Средние века спор между сторонниками Папы и Императора? Именно об этом, но сегодня мы представляем их как вполне совместимые, хотя и враждебные ветви власти, по той причине, что мы подвергли их одновременной секуляризации. В этом и заключается наша гипотеза: мы еще не подвергли секуляризации две связанные друг с другом ветви власти, коими являются природа и политика. Они по-прежнему представляются нам как две совершенно различные области, причем первая даже не заслуживает того, чтобы называться властью. Мы все еще живем в плену мифа о Пещере (36). Мы все еще ждем спасения от двухпалатного парламента, одна из палат которого называется политической, а вторая всего лишь выражает скромное желание определять факты, нисколько не сомневаясь, что эта надежда на спасение грозно нависает над нашей общественной жизнью, подобно тому как когда-то небо грозило «нашим галльским предкам». Эта ловушка установлена (политической) эпистемологией, именно она до сих пор мешала экологическим движениям прийти к адекватной политической философии.
Мы пока не надеемся убедить читателя в справедливости этого важного утверждения, возможно самого трудного для понимания во всем нашем совместном обучении. Нам потребуется вся вторая глава, чтобы придать связность понятию коллектива людей и нелюдéй, вся третья глава, чтобы избавиться от разделения на факты и ценности, а затем – вся четвертая, чтобы заново определить этот коллектив при помощи различных процедур, как научных, так и политических. Но читатель, без сомнения, уже готов допустить, что политическая экология больше не может быть описана как нечто, побуждающее политический разум заниматься экологическими проблемами. В этом случае можно было бы говорить о непоправимом смещении фокуса с непредсказуемыми последствиями, потому что оно полностью перевернуло бы смысл истории, помещая природу, изобретенную как средство сделать политику беспомощной, в эпицентр движения, призванного ее ассимилировать. Мы считаем, что куда продуктивнее было бы рассматривать новый подъем политической экологии как то, что, напротив, положит конец господству инфернальной пары политики и природы, чтобы посредством множества инноваций, которые еще только предстоит внедрить, заменить ее на новое понятие общественной жизни в едином коллективе (37). В любом случае тезис о том, что политическая экология вырывает нас из объятий природы или что она является свидетельством «конца природы», больше не должен казаться провокационным. Речь может идти о спорном утверждении, поскольку оно не вполне отражает то, чем занимаются экологи, однако оно, как мы, во всяком случае, надеемся, не сводится к поверхностному парадоксу. Мы находимся на перекрестке двух мощных движений, разнонаправленное влияние которых на протяжении длительного времени усложняло интерпретацию экологии: с одной стороны – вторжение природы как нечто принципиально новое в политике; исчезновение природы как способа политической организации – с другой.
«Социальные репрезентации» природы как подводный камень
В первой части мы отделили науки от Науки, во второй – политическую экологию от Naturpolitik. Теперь нам предстоит осуществить третье смещение, если мы хотим извлечь максимальную пользу из столь удачного сочетания социологии науки и экологических движений. Мне кажется, что наиболее изощренные социальные науки давно отказались от понятия природы, подчеркивая, что мы никогда не имеем доступа к «той самой» природе. Мы не имеем к ней доступа, утверждают одновременно историки, психологи, социологи, антропологи, иначе чем через историю, культуру и прочие ментальные категории, присущие исключительно человеку. Со своей стороны, мы как будто благоразумно присоединяемся к этим наукам, утверждая, что понятие «той самой» природы не имеет смысла. В конечном счете надо лишь призвать экологических активистов к отказу от наивной веры в то, что под предлогом защиты природы они защищают всего лишь специфические представления Запада. Желая покончить с антропоцентризмом, они лишь демонстрируют свой этноцентризм (38). К сожалению, если кто-то считает, что аргумент политической эпистемологии сводится к утверждению «никто не может отказаться от социальных представлений о природе», то наша попытка обречена на провал. Другими словами, мы опасаемся не того, что читатель отвергнет наш аргумент, а того, что он согласится с ним слишком быстро, смешав нашу критику экологической философии с тематикой «социального конструирования» природы.
На первый взгляд, сложно отказаться от помощи столь ценных работ по истории восприятия природы. Первоклассные историки продемонстрировали нам, что идея природы у греков IV века не имеет ничего общего с природой англичан XIX века или французов XVIII века, не говоря уже о китайцах, малайцах и сиу. «Если вы беретесь утверждать, что изменение представлений о природе отражает политическое устройство общества, в котором оно зародилось, то в этом нет ничего удивительного». Если выбрать один из многочисленных примеров, то все мы знаем губительные последствия социального дарвинизма, который подарил столько метафор политикам, затем заново приложил их к природе, чтобы еще раз вернуться в политику и скрепить власть богатых печатью неумолимого природного порядка. Феминистки не раз объясняли нам, каким образом отождествление женщин с природой с давних пор мешало им иметь какие-либо политические права. Примеры связи между представлениями о природе и представлениями о политике столь многочисленны, что можно не без основания утверждать, что любой эпистемологический вопрос также является вопросом политическим.
Если это действительно было бы так, то политическая эпистемология потерпела бы немедленное фиаско. На самом деле, подобные рассуждения сохраняют представление о двухпалатной политической системе, перенося их в академическую сферу. Идея о том, что «природы не существует», поскольку речь идет о «социальной конструкции», лишь подчеркивает контраст между Пещерой и Небом Идей, добавляя к нему разделение на гуманитарные и естественные науки. Если мы от лица историка, психолога, антрополога, географа, социолога, эпистемолога говорим о «человеческих представлениях о природе», об их изменениях, о материальных, экономических и политических условиях, которые их определяют, то мы, конечно же, подразумеваем, что за это время природа не изменилась ни на йоту. Чем больше мы настаиваем на социальном конструировании природы, тем меньше мы занимаемся тем, что с ней происходит на самом деле, поручая это Науке и ученым. Мультикультурализм получает свое право на множество только потому, что он основан на мононатурализме•. Любая другая позиция не имеет ни малейшего смысла, потому что тогда пришлось бы вернуться под сень идеализма и верить, что изменение идей меняет положение Луны, планет, светил, галактик, падающих в лесу деревьев, камней, животных – одним словом, всего, что находится вне нас. Любой, кто гордится своей принадлежностью к гуманитариям, поскольку они не разделяют наивной веры в существование непосредственно воспринимаемой природы, признает, что, с одной стороны, существует человеческая история природы, а с другой – естественная и внеисторическая природа, состоящая из электронов, частиц, вещей грубых, причинно-детерминированных, объективных и совершенно независимых от явлений, попадающих в первую часть списка (39). Даже если человеческая история при определенных усилиях может с помощью знаний об экологических изменениях существенно преобразовывать природу, нарушить ее порядок, трансформировать и формировать, то все равно остается две истории или, точнее говоря, одна история, полная шума и ярости, которая заключена в рамки того, что само по себе не имеет истории или не пишет ее. Именно от этой позиции, диктуемой благоразумием, нам предстоит отказаться, чтобы найти для политической экологии подобающее ей место.
К сожалению, при всей своей критической изощренности, гуманитарные науки ничему не могут научить политическую экологию, о которой даже нельзя сказать, что она балансирует между природой и обществом, естественными и социальными науками или наукой и политикой, а расположена совсем в другой области, по причине того, что она отказывается искать основания общественной жизни в двух принципах сборки, двух центрах притяжения. Если мы принимаем концепцию социальных презентаций природы, то неизбежно возвращаемся к бесполезному аргументу о внешней реальности, и нам придется отвечать на угрожающий вопрос: «Имеете ли вы доступ к природе в ее внешних проявлениях или навсегда остаетесь прозябать в застенках Пещеры?» – или, в более вежливой форме: «Вы говорите о вещах или об их символических репрезентациях?» (40) Наша проблема заключается не в том, чтобы принять ту или иную сторону в дискуссии, которая позволяет установить пропорции природного и общественного в наших представлениях о вещах, а в том, чтобы изменить концепцию социального и политического мира, которая сегодня представляется чем-то самоочевидным как социальным, так и естественным наукам.
В двух предыдущих разделах мы намеревались обсуждать именно природу, а никак не человеческие представления о ней. Но каким образом можно говорить о природе как таковой? Этот вопрос уж точно не имеет никакого смысла. Однако именно это мы и имели в виду. Как только мы добавим достижения экологических активистов к политической эпистемологии, мы сможем разделить природу на множество составных частей, не возвращаясь тотчас же к представлениям, которые имеют о ней люди. Вера в то, что существуют всего две точки зрения – реализма и идеализма, природы и общества, является залогом могущества власти, которую символизирует миф о Пещере, и именно ее секуляризацию должна осуществить политическая экология (41). Это один из самых деликатных моментов нашей аргументации, и мы должны действовать осторожно, как если бы нам нужно было удалить занозу из пятки…
Первая операция, которая отучит нас от преклонения перед природой, на первый взгляд покажется рискованной, потому что потребует, в соответствии с обязательствами, принятыми нами в предисловии, различать науки о Науке, а также заново вытащить на свет устройства, которые позволяют нам что-то сказать о природе и которые принято называть научными дисциплинами. Как только мы добавляем к динозаврам палеонтологов, к частицам – их ускорителей, к экосистемам – собирателей гербариев, к энергетическим балансам – их стандарты и расчетные гипотезы, к озоновым дырам – метеорологов и химиков, мы больше не говорим о природе, а о том, что производится, конструируется, решается, определяется в Граде ученых, экология которого почти так же сложна, как и экология мира, знание о котором она производит. Выбрав этот путь, мы добавляем к бесконечно долгой истории планеты, солнечной системы, эволюции жизни историю науки – куда более короткую, но и куда более драматическую. Миллиарды лет большого взрыва начинаются в пятидесятые годы; докембрий – в XIX веке; что касается микрочастиц, из которых состоит наша Вселенная, то все они появились в XX веке. Мы имеем дело не с внеисторической природой и историческим обществом, а с общей историей наук и природы (42). Всякий раз когда мы подвергаемся опасности подпасть под чары природы, для отрезвляющего эффекта достаточно будет присовокупить сеть научных дисциплин, позволяющих получить знания о ней.
Можно сказать, что наша операция еще глубже загнала занозу, которую мы пытались вытащить, потому что мы добавили социальное конструирование наук к более традиционным представлениям о природе, выработанным в определенной культуре. Все зависит от того, рассчитываем ли мы совместить историю наук и историю природы на временной или постоянной основе. В первом случае воспаление только усилится, поскольку к старой болячке культурного релятивизма прибавится новая, вызванная релятивизмом эпистемологическим; во втором – мы перейдем от одной проблемы к еще более серьезной. «Конечно, возразит наш оппонент, вы можете поместить, если у вас получится, историю наук в длинный перечень попыток человека осмыслить природу, сделать ее понятной и познаваемой, но тем не менее, как только это знание будет получено, оно по-прежнему будет разделено на знание о природе как таковой и наши изменчивые представления о ней». История наук относится к тому же типу знания, что история менталитетов и представлений. Однако эта разновидность человеческих представлений, если они оказываются точными, целиком переходит в ведомство природы. Другими словами, если мы дополнительно вводим историю науки, это принципиально ничего не меняет в разделении представлений и природы: она лишь временно вносит в него неясность, на то короткое время, что ученые блуждают в неизвестности. Как только они совершают открытие, все проверенные сведения определенно относятся к природе, а не к представлениям. В этот момент природа находится вне игры, она неуязвима и недоступна, поэтому ей нет никакого дела до человеческой истории наук или человеческой истории восприятия природы. По крайней мере, если мы не желаем свести историю наук к обычной истории и запретить ученым искать истину, навсегда оставляя их в томительном плену социальных репрезентаций природы.
Нас не удивляет подобное возражение: двойной разрыв между историей и природой, как мы знаем, не является следствием каких-то выводов, сделанных из эмпирических наблюдений, а служит именно тому, чтобы в корне пресечь саму возможность наблюдения, так, чтобы ни один пример не мог поставить под сомнение политически важную границу между онтологическими и эпистемологическими вопросами, создавая риск объединения в рамках одной дисциплины двух различных ассамблей: человеческой и ассамблеи вещей. Задача всякой (политической) эпистемологии состоит в том, чтобы помешать созданию политической эпистемологии•, так как, сводя историю науки к узкой области изобретений, она лишает ее влияния на устойчивую совокупность знаний. Мы же, напротив, утверждаем, что, именно вытащив на свет историю и социологию ученого Града, мы навсегда сотрем границу между природой и обществом и никогда больше не вернемся к модели двух различных ассамблей, в одной из которых будет находится природа, а в другой – человеческие представления о ней.
«Ага, так я и знал! Социальный конструктивист наконец-то показал свои ослиные уши! Именно поэтому софисты размножаются во мраке Пещеры. Вы хотите свести все точные науки к социальным представлениям. Распространить действие мультикультурализма• на физику. Лишить политику единственного трансцендентального принципа, который может положить конец бесконечным спорам». Но именно поэтому социология наук в сочетании с экологическим активизмом позволяет нам порвать с обманчивыми истинами гуманитарных наук и навсегда закрыть тему социального конструктивизма. Если наш оппонент все еще сомневается, то только потому, что не понимает, что политическая экология в сочетании с социологией науки позволяет создать движение, которое до сих пор находилось под запретом. Делая акцент на посреднической роли науки, мы, разумеется, рискуем свалиться в социологизм и вернуться к допотопным представлениям человека о природе, но мы также имеем возможность прояснить разницу между присутствием многочисленных нелюде́й• и теми политическими приемами, которые до сих пор позволяли заключать их в рамки единственной природы. Для этого достаточно изменить понятие социального, которое, помимо всего прочего, мы унаследовали от века Пещеры.
Мы будем различать две концепции социального мира, первую мы назвали тюрьмой социального•, под второй мы подразумеваем концепцию, которая рассматривает социальное как ассоциацию•. Когда мы только приступаем к сравнению этих концепций, одна из которых восходит к мифу о Пещере, а ко второй мы стараемся постепенно приучить читателя, то они на первый взгляд выглядят практически неразличимыми, что становится очевидным из схемы 1.1.
По версии, представленной слева, коллектив разделяет на две части неопределимая граница между ассамблеями вещей и людей. Но загадочным образом (о чем известно из самого характера задаваемых вопросов) ученые получают три важные способности: достигнуть объективности и порвать свои связи с миром, невзирая на пропасть, разделяющую два различных мира, приручить немые вещи при помощи человеческого языка и, наконец, «вернуться на землю», чтобы организовать общество в соответствии с идеальными моделями, продиктованными разумом.
Схема 1.1. Политическая модель, основанная на двухпалатной системе, включающей в себя природу и общество, базируется на двойном разрыве. Модель коллектива, напротив, заключается в простом распространении на человеческих и нечеловеческих членов
Версию, представленную справа, можно отличить от предыдущей по трем малозаметным, но весьма важным признакам, которые мы проясним в следующих двух главах. Прежде всего, речь идет не об обществе, которому «угрожает» апелляция к объективной природе, а о коллективе, находящемся в процессе экспансии: поэтому свойства человеческих и нечеловеческих существ, из которых он состоит, ничем не гарантированы. Кроме того, нет никакой необходимости прибегать к драматическому и загадочному «обращению» для создания новых нелюдéй: небольшие трансформации, к которым прибегают ученые в лабораториях, создают их в достатке. Разумеется, внешняя реальность существует, но ее внешний характер не является окончательным и всего лишь означает, что новые нелю́ди, до этого момента не вовлеченные в работу коллектива, мобилизуются, призываются под его знамена, подвергаются социализации и одомашниванию. Этот новый вид внешней реальности, жизненно важный для коллектива, лишен драматизма, связанного с разрывом или обращением. Внешняя реальность налицо, но овчинка выделки не стоит. Наконец – и в этом заключается третье «незначительное» отличие, – поскольку мобилизованные нелю́ди лишь недавно влились в коллектив, то у них нет права прерывать дискуссии, препятствовать осуществлению процедур, в корне пресекать рассуждения: напротив, они усложняют их, чтобы сделать более открытыми (43). Возвращение ученых вместе с их нелюдьми́ живо интересует других членов коллектива, но не разрешает вопрос о характере общего жизненного пространства, созданием которого они занимаются, а, наоборот, только усложняет его.
Вместо трех загадок левой модели, в правой мы находим три типа поддающихся полному описанию операций, ни одна из которых не предполагает резкого разрыва, или, что самое главное, не упрощает, при помощи обращения к бесспорной трансценденции, работу по созданию коллектива (44). Уловка старого мифа о Пещере, который пережил свой собственный яд, заключалась в том, чтобы внушить идею о полном совпадении правой схемы с левой. При этом не существует никакой другой версии общества, помимо ада социального (тюрьма социального в левой схеме), как если бы мы не могли говорить об обществе, не теряя всякой связи с внешней реальностью. Западня, расставленная эпистемологической полицией, заключалась в том, чтобы лишить права говорить о какой бы то ни было внешней реальности тех, кто оспаривал исключительно внешний характер Науки•: тот, кто сомневается в Науке, должен довольствоваться социальными условностями и символизмом. Сами по себе они никогда не смогут вырваться из плена Пещеры. Хотя, как мы теперь понимаем, все обстоит ровным счетом наоборот: апеллируя к внешней реальности, намеренно совмещались два элемента, которые теперь разделены вполне четко: с одной стороны, множество новых существ, на которые теперь предстоит положиться, чтобы иметь возможность жить вместе; с другой – прерывание всякой дискуссии посредством внешнего вмешательства. Подобная апелляция может быть эффективной только при том условии, что она препятствует осуществлению политики в собственном смысле за счет одного неполитического дополнения, которое называется Наукой•, уже объединившей все сущности в рамках нелегитимно собранной ассамблеи под названием «природа». Согласно левой схеме, мы не можем взывать к реальности внешнего мира, не покидая мира социального или же не лишая его права голоса, в правой мы можем взывать к внешним мирам, но множество, которое мы получим таким образом, не решает ни один существенный вопрос в жизни коллектива. Вместо идеи тюрьмы социального, которую социология получила в наследство, никогда не задаваясь вопросом о ее врожденных недостатках, возникает новый смысл социального, близкий к его этимологии, указывающей на ассоциацию или собрание [collection] (45). В левой схеме 1.1 Наука являлась частью решения политической проблемы, которую она делала неразрешимой, постоянно угрожая делегитимацией любой человеческой ассамблее; в правой – науки являются частью самой проблемы.
На первый взгляд может показаться, что чем больше мы показываем работу ученых, внутридисциплинарную рефлексию и подчеркиваем важность истории науки, тем дальше мы удаляемся от природы, чтобы сблизиться с человеком. Искушение велико, ему стоит лишь поддаться, перед нами открыта бесплатная дорога; все словно говорит нам, что благоразумнее всего скатиться с горы без лишних усилий, ведь это настоящий тобогган. Однако, вняв доводам коллектива, можно занять иную позицию, куда менее четкую, которая может стоить нам нервов и денег, но к которой нас подводит здравый смысл политической экологии будущего. Проясняя посредническую миссию наук, мы сможем отталкиваться от природы, но двигаться не в направлении человеческого, а, повернув на девяносто градусов, прийти к множеству природ, которые заново создаются науками, или к тому, что можно было бы назвать плюриверсумом•, и ввести таким образом терминологическое различие между понятием внешней реальности и чисто политической работой по объединению. Иными словами, политическая экология в союзе с социологией наук наносит на карту новое разветвление: вместо того чтобы метаться от природы к человеку или от реализма к конструктивизму и обратно, мы теперь можем прийти от множества, которое пока еще не содержит никакого коллектива, или от плюриверсума к коллективу, который всегда содержал в себе множество в обобщенных терминах политики и природы. Только политическая экология позволяет раскрыть выдающийся потенциал истории и социологии науки, потому что она в состоянии различать, что относится к множеству, а что – к той силе, которая собирает его в единое целое. Что касается вопроса, осуществляется ли это собрание, объединение или унификация при помощи политических инструментов природы или политических инструментов политики, то теперь он не имеет никакого значения.
Таким образом, существует отличный от идеализма способ уйти от природы, отличный от субъектов способ уйти от объектов, отличный от диалектики метод «снять» предполагаемое противоречие между субъектом и объектом. Если сформулировать еще жестче, то благодаря политической экологии Наука больше не может похитить внешнюю реальность, чтобы сделать из нее суд последней инстанции, всякий раз грозя общественной жизни страшными карами. Все представления гуманитарных наук о социальном мире, которые они использовали, чтобы выстроить свои дисциплины в разрыве с науками естественными, сформировались во мраке Пещеры. Запуганные Наукой, они смирились с самой страшной из всех диктатур: «Да, – хором каются они, – мы охотно признаем, что чем больше говорим о социальных конструкциях, тем больше отдаляемся от правды истинной». Тогда как нужно было отвергнуть эту диктатуру и, несмотря на все угрозы Науки, прильнуть к воспроизводимой науками реальности, чтобы заново поставить вопрос о построении общего мира.
Смогли ли мы достать занозу, которая мешала нам при ходьбе? Рана еще не зажила окончательно, она еще ноет, но уже начала затягиваться и больше не гноится. Мы уничтожили основной источник инфекции – понятие репрезентации, которое заражало все, к чему прикасалось, это невозможное и в корне противоречивое разделение эпистемологической и онтологической проблематики. Именно оно оставляло нам единственно возможный путь от природы к обществу и обратно посредством двух удивительных превращений. Это оно обязывало нас или вернуться к вещам, удаляясь от человеческих представлений, или переходить к человеческим понятиям, отдаляясь от самих вещей. Это оно навязывало нам невозможный выбор между реализмом и конструктивизмом. Мы больше не будем говорить о представлениях о природе, разделяя таким образом рассудочные категории и «ту самую» природу. Однако мы сохраним изящный термин «представительство»•, наделив его привычным политическим смыслом. Нет никаких представлений о природе в том значении, которое придавала ему раскритикованная нами двухпалатная политика, однако нам необходимо представить через вполне определенные процедуры ассоциации людей и нелюдéй, чтобы решить, что собирает их вместе и делает единым целым в общем мире будущего.
На самом деле, расставаясь с природой, мы оставляем в неприкосновенности два наиболее важных ее элемента: множество нелюдéй и тайну принципа их ассоциаций. Термин «представительство» потребуется нам в последующих главах для обозначения новой задачи политической экологии, но мы надеемся, что нам удалось устранить двусмысленность, которая столь долго ассоциировалась с гуманитарными науками. Мы полагаем, что у них есть занятия поинтереснее доказательства существования «культурных фильтров, через которые» человек должен пройти, «чтобы понять природную реальность, какова она есть на самом деле». Отказываясь от помощи, которую нам якобы оказывали гуманитарные науки, политическая экология освобождает их для выполнения других задач, обозначая новые, куда более продуктивные направления поиска (46). Речь нужно вести о плюриверсуме или о космосе, который предстоит создать, а никак не о тенях, спроецированных на стены Пещеры.
Сомнительная помощь сравнительной антропологии
Политическая экология лишает драматизма извечный конфликт природы и социального порядка. Если из этого урока сложно извлечь мораль, то совсем не потому, что, как до сих пор думают некоторые теоретики, она должна была изобрести новые формы слияния, гармонии и любви между человеком и природой, а потому, что она совершенно секуляризовала двойной вопрос политики, двойной конфликт лояльности между властью природы и властью общества. У нас нет ни малейшего представления о том, на что были бы похожи вещи сами по себе, если бы они не были вовлечены в битву за натурализацию. На что были бы похожи те, кого мы называем нелюдьми́•, если бы они не облачались в форму объектов и не маршировали бы строем для покорения субъектов? На что были бы похожи люди, если бы они не рядились партизанами, храбро сражающимися против тирании объектов? Потому что если мы хотим в оставшейся части этой книги наметить контуры новых демократических учреждений, то, начиная с этого момента, мы должны иметь в своем распоряжении множество ассоциаций людей и нелюдéй, притом что их собирание как раз и является задачей коллектива. В отсутствие концептуальных учреждений и форм жизни, которые могли бы послужить альтернативой Конституции модерна, мы всякий раз, сами того не желая, рискуем быть втянутыми в совершенно ненужную нам войну между реализмом и социальным конструктивизмом, забывая таким образом о принципиальной новизне политической экологии, которую мы хотим создать.
К счастью, мы располагаем альтернативами, на которые щедра антропология незападных культур. Чтобы вникнуть в суть этого предложения, мы, однако, столкнемся с другим очевидным парадоксом и разочаруем тех, кто воображает, будто другие культуры могли бы иметь куда более «глубокий» образ природы, чем жители Запада. Нельзя осуждать тех, кто разделяет эти иллюзии. Действительно, чего только ни говорили, чтобы высмеять несчастных белых, виновных в том, что они желали контролировать, истязать, подчинить, присвоить, отвергнуть, изнасиловать и осквернить природу. Нет ни одной книги по теоретической экологии, которая бы не пристыдила их, противопоставляя презренную объективность Запада вековой мудрости «дикарей», которые уважали природу, жили с ней в полной гармонии, знали ее самые потаенные секреты, сливаясь душой с вещами, разговаривая с животными, вступая в брак с растениями, говоря на равных с планетами (47). Ах, эти дикари в одеждах из перьев, дети Матери-Земли, как бы мы хотели быть похожими на них! Гости на их свадьбе с природой, какими ничтожными мы себя ощущаем, будучи всего лишь инженерами, учеными, белыми, людьми модерна, не способными найти этот потерянный Эдем, на поиски которого хотела бы направить нас глубинная экология…
Ведь если сравнительная антропология и предлагает альтернативу, то в совершенно ином смысле, чем это делает экология в вульгарном смысле слова. Незападные культуры никогда не интересовались природой, они никогда не использовали ее в качестве отдельной категории и никогда не могли найти ей применения (48). Именно жители Запада придали природе такую важность, превратив ее в политическую мизансцену, в занимательную и вместе с тем нравоучительную гигантомахию, неизменно включая ее в свое определение социального порядка. К сожалению, теоретики экологии больше не обращаются к антропологии или социологии наук. Deep ecology [5] часто означает shallow anthropology [6] (4) (9).
Если сравнительная антропология необходима, то совсем не потому, что она является источником различных экзотических рецептов, благодаря которым белым удается выйти за пределы своих материальных и секуляризированных представлений о природных объектах, а потому, что она, напротив, позволяет лишить обитателей Запада экзотизма, который они сами себе навязали и, по аналогии, всем остальным, впав в заблуждение об исключительно политическом характере природы. Мы не утверждаем таким образом, что незападные культуры до мелочей совпадают с политической экологией, отчет о которой мы пытаемся составить. Напротив, как мы увидим в четвертой главе, все учреждения коллектива являются временными изобретениями, не имеющими прецедентов в истории. Мы всего лишь хотим сказать, что другие культуры, именно потому, что они никогда не жили в природе, сохранили для нас концептуальные учреждения, рефлексы, стандартные операции, в которых мы, обитатели Запада, нуждаемся для того, чтобы пройти процесс детоксикации от идеи природы. Если мы сделаем выводы из материалов сравнительной антропологии, то эти культуры (если придерживаться этого крайне неудачного термина) смогут предоставить нам столь необходимые альтернативы дихотомии природа/политика, предлагая различные способы сочетать ассоциации людей и нелюдéй, которые использует единый коллектив, четко идентифицируемый как политический. Точнее говоря, они отказываются от использования всего двух собраний, одно из которых – социум – будет считаться политическим, а второе – природа – останется вне власти, вне общественного мнения, вне учреждений, вне человечества, вне политики.
Как научная дисциплина, антропология всегда в этом сомневалась, и она стала необходимой для политической экологии (50) совсем недавно, поэтому мы не можем осуждать здравый смысл за то, что он так долго отказывался от экзотических побрякушек, которые пыталась ему всучить глубинная экология под предлогом того, что варвары с бо́льшим уважением относятся к Матери-Земле, чем люди цивилизованные. Антропология, начиная с самых первых контактов на заре Нового времени, поняла, что между теми, кого называли «дикарями», и природой что-то не так, а в природе обитателей Запада есть нечто, что не может быть усвоено другими народами. Но ей потребовалось длительное время, примерно три столетия, чтобы понять, что понятие природы, имеющееся у антрополога, слишком политизировано, чтобы усвоить урок «добрых дикарей» (51). Вернемся ненадолго к истокам этих представлений, позволивших сформулировать столь необычную политику природы.
В своем изначальном порыве она приняла этих первобытных людей за «детей природы», увидев в них нечто среднее между животным, человеком и обитателем Запада, что не особо льстило ни животному, ни человеку, ни обитателю Запада, ни один из которых никогда не жил «в» природе. На втором этапе появилась умеренная гипотеза, что автохтоны, даже если они, как и белые, выделялись из природы, тем не менее жили с ней «в гармонии», уважали и берегли ее. Она не выдержала испытание ни этнологией, ни первобытной историей, ни экологией, которые тотчас привели массу примеров беспощадного уничтожения экосистем, чудовищной дисгармонии, вопиющего нарушения равновесия, вплоть до лютой ненависти к окружающей среде. На самом же деле антропологи постепенно убедились, что если говорить о гармонии, то речь идет не столько о благожелательном отношении к природе, сколько о классификации, ранжировании, упорядочении сущностей, которые не видят резкого отличия между людьми и вещами. Разница заключалась не в том, что дикари лучше обращались с природой, а в том, что они не обращались к ней вовсе.
На третьем этапе появилась куда более изощренная идея рассматривать автохтонов (которых теперь окрестили незападными народами) как носителей сложных культур, которые посредством своих категорий устанавливают соответствия между природным и социальным порядком. Утверждалось, что нет ничего, что происходило бы с их мироустройством и не происходило бы с людьми и наоборот. Нет такой классификации животных и растений, которые не отражались бы в социальном порядке; нет такой классификации внутри общества, которая не отражалась бы на разделении природных существ. Но достаточно быстро антропологи, становясь все более проницательными, заметили, что эта идея является доказательством невыносимого этноцентризма, потому что она предписывает упразднение одного различия, которое совершенно не интересовало тех, кого они изучали. Утверждая, что другие культуры искали «соответствия» между природным и социальным порядком, антропологи все еще предполагали, что это разделение было само собой разумеющимся и в определенном смысле заключалось в самой природе вещей. Тогда как другие культуры не смешивали естественный и социальный порядок, им было неизвестно само это различие. Игнорировать его – совсем не то же самое, что принимать две различные совокупности за единое целое, и в еще меньшей степени – «снять» его.
Этой антропологии, которая, наконец, стала симметричной и монистской, другие культуры причиняют теперь куда больше беспокойства: они используют принципы категоризации, которые помещают в одну категорию или, как мы выражаемся, в один коллектив существа, которые мы, жители Запада, непременно разделяем, или, скорее, пока мы считаем, что для управления нашим коллективом необходимы две палаты, большинство других культур уверенно отказываются от этой двойственности. Мы больше не можем определять их как другие культуры, у которых есть определенная точка зрения на одну-единственную природу, к которой только «мы» имеем доступ; теперь, разумеется, становится невозможным отделять одни культуры от других на основании принципа универсальной природы. Не существует ничего, кроме природ-культур, или коллективов, которые, как мы увидим в пятой главе, пытаются понять, что между ними может быть общего. Теперь, как мы видим, перспектива изменилась: дикари больше не кажутся нам иными, потому что они смешивают то, что ни в коем случае нельзя смешивать, а именно «вещи» и «людей»; это мы, обитатели Запада, до сих пор странным образом жили в убеждении, что необходимо четко разделять два коллектива, скроенных по совершенно разным лекалам: «вещи» с одной стороны и «людей» – с другой (52).
Ощущение инаковости, которое вызывает другая культура, представляет интерес только в том случае, если она заставляет задуматься над инаковостью в своей собственной, в противном случае она сводится к экзотизму и ориентализму. Чтобы не впасть в ступор от извращенного удовольствия, которое доставляют отличия, необходимо как можно скорее создать общее поле, в котором удивление уступит место цветущей сложности решений. Сочетая последние открытия в области сравнительной антропологии с открытиями в политической экологии и социологии наук, мы получим возможность совершенно избавиться от двух экзотических и вполне симметричных убеждений: что нужно верить жителям Запада, якобы оторванным от природы и забывшим уроки других культур и живущим в мире действенных, рентабельных и объективных вещей, а также что другие культуры слишком долго жили в условиях слияния природного и социального порядков, поэтому им нужно принять вещи такими, какие они есть, чтобы перейти наконец к модерну.
Современный мир, о принадлежности которому иногда сожалеют жители Запада, настаивая при этом, что все остальные должны к ним присоединиться, не соответствует своему описанию, потому что в нем совершенно отсутствует природа. Ни для одних, ни для других природа не играет существенной роли. Для жителей Запада по той причине, что она насквозь пронизана политикой, для всех остальных потому, что они никогда ею не пользовались, чтобы отдельно разместить половину своего коллектива. Белые ни ближе к природе, потому что они, и только они, благодаря Науке наконец поняли принципы ее функционирования, ни дальше от нее, потому что они утратили древний секрет жизни в гармонии с ней; «другие» не приблизятся к природе, потому что они никогда не отделяли ее от своего коллектива, и дальше от природы вещей, потому что смешивали их с потребностями своего социального порядка. Ни те ни другие не удаляются и не приближаются к природе. Природа играла лишь временную роль в политических отношениях Запада с самим собой и с другими культурами. Но со временем она ее утратила благодаря политической экологии, которая, наконец, была переосмыслена для нужд экологического активизма. К тому же если мы отменяем природу, то больше нет никаких «нас» и «других». Экзотический яд мгновенно испаряется. Едва мы оторвемся от масштабной политической диорамы «той самой» природы, нам останутся самые банальные ассоциации множества людей и нелюдéй, ожидающих объединения за счет работы коллектива, который должен уточнить ресурсы, концепты и учреждения, необходимые всем народам, возможно призванным жить на земле, ставшей общей для всех благодаря долгой объединительной работе.
Теперь все зависит о того, как мы оцениваем эту объединительную работу. Одно из двух: или эта работа уже завершена, или ее только предстоит проделать. Придет ли ей на смену (политическая) эпистемология или Naturpolitik, она будет уверена в том, что эта работа под эгидой природы уже в основном завершена; тогда как политическая экология, с нашей точки зрения, уверена в том, что она едва началась. Чтобы принять участие в формировании политических учреждений, приспособленных к исследованию этого общего мира и этой «общей земли», антропология должна стать экспериментальной•. Что за политический выбор стоит перед ней? Сохранит ли она навсегда мультикультурализм в сочетании с единой природой, которую она неумышленно сделала своей философией?
Начиная с XVII века общим местом было различение первичных качеств•, которые присущи вещам независимо от нашего знания, и того, что называли вторичными качествами• или формой, в которой они доступны сознанию. Когда мы говорим об атомах, о частицах, о генах, о фотонах, мы обозначаем первичные качества, основательным образом обустраивая вселенную. Когда мы говорим о цветах, запахах, световых потоках, мы обозначаем вторичные качества. На первый взгляд нет ничего безобиднее подобного разделения. Однако стоит лишь немного видоизменить его, чтобы обнаружить политический заговор, которому оно негласно потворствует. На самом деле, первичные качества составляют общий мир, который мы все разделяем. Мы все одинаково состоим из генов и нейронов, белков и гормонов, из вакуума и энергии. Вторичные же качества, напротив, привносят различия, так как относятся к особенностям нашей психики, наших языков, наших культур и парадигм. Следовательно, если мы определим политику• не как стремление к власти в отдельно взятой Пещере, а как постепенное построение общего мира•, в котором мы живем, то сразу поймем, что разделение на первичные и вторичные качества завершает основную часть политической работы. Когда мы окажемся в достаточно обустроенной вселенной, то сразу поймем, что у нас общего и что удерживает нас вместе. Остается то, что нас различает, или вторичные качества, в которых, однако, нет ничего существенного, так как их сущности находятся где-то в другом месте, оставаясь недоступными в виде незримых первичных качеств (53).
Теперь мы понимаем, что если антропология раньше уделяла столько внимания множественности культур, то именно потому, что она считала решенным вопрос о том, что природа универсальна. Если она могла объединить столь разнородный материал, то именно потому, что могла собрать его вместе, предварительно разделив на общем основании. Поэтому есть два в равной степени непоследовательных решения проблемы единства: мононатурализм• и мультикультурализм•. Мононатурализм не очевиден изначально, это всего лишь одно из возможных решений, которое основывается на неудачном опыте построения общего мира: одна природа, много культур; за единство отвечают точные науки, за множественность – гуманитарные. Мультикультурализм• – это нечто большее, чем пугало для маленьких детей, поскольку он предлагает иное решение, также чересчур поспешное: культуры не просто разнообразны, но каждая из них претендует на то, чтобы по-своему описывать реальность; они больше не выделяются на общем основании единой природы; они несовместимы друг с другом; больше нет никакого общего мира. С одной стороны – невидимый мир, который могут видеть лишь ученые, чья работа остается за кадром, с другой – видимый и осязаемый, но несущественный мир, которому не хватает научного описания. С одной стороны, мир, не соответствующий пережитому опыту, в котором нет места ценностям, но при этом единственно сущий и объясняющий природу различных феноменов; с другой – мир ценностей, никакой ценности при этом не имеющий, так как он не имеет отношения к устойчивым формам реальности, хотя только он и переживается по-настоящему. Решение, предложенное мононатурализмом, стабилизирует природу, рискуя при этом лишить всякого смысла понятие культуры, сведенное исключительно к воображению; тогда как мультикультурализм стабилизирует культуру, ставя под угрозу универсальность природы, которая сводится к иллюзии. И это нелепое решение считается благоразумным! Чтобы продолжить наш эксперимент по построению общего мира, о завершении которого было столь поспешно объявлено со ссылкой на два неудачных решения, нам стоит избегать как понятия культуры, так и понятия природы. Именно это делает столь деликатным вопрос об использовании политической экологией антропологических данных и объясняет, почему до сих пор она не использовала их в большем объеме.
Одно сравнение позволит нам лучше понять эту нестабильность, которой мы не должны бояться, если хотим придать смысл тому, что можно было бы назвать политикой без природы. До феминизма слово «человек» [homme] было категорией, которая не имела кодового характера, в отличие от слова «женщина». Говоря «человек», мы, совершенно не задумываясь, обозначали тем самым всю совокупность мыслящих существ; говоря «женщина», мы имели в виду «самку», которая в число этих мыслящих существ не входила. Сегодня никто на Западе больше не рассматривает слово «человек» в качестве категории, не имеющей кодового характера. Самец/самка, мужчина/женщина, he/she [7] – вот что возникло на месте старой очевидности. Оба ярлыка теперь промаркированы, закодированы, материализованы. Ни один из них больше не может претендовать на то, чтобы обозначать нечто универсальное, за пределами которого навсегда остается «другой», не вызвав тем самым всеобщий протест и не спровоцировав напряжение. Благодаря колоссальной работе феминисток у нас есть концептуальные учреждения, которые позволяют обозначать различие не просто между мужчиной и женщиной, но между старым сочетанием, состоящим из человека как незакодированной категории, с одной стороны, и женщины как категории маркированной – с другой, и между новым, куда более проблематичным сочетанием, состоящим из двух в равной степени маркированных категорий мужчины и женщины (54). Можно предсказать, что то же самое вскоре произойдет с категориями природы и культуры. В настоящий момент «природа» звучит примерно как «мужчина» двадцать или сорок лет назад: как категория, не подлежащая обсуждению, неоспоримая, универсальная, на фоне которой можно четко и ясно выделить «культуру», которая, в свою очередь, остается категорией частной. «Природа», таким образом, является немаркированной категорией, тогда как «культура» – маркированной. Тем не менее политическая экология предлагает достаточно серьезную трансформацию, проделав с природой то же самое, что феминизм сделал и продолжает делать с мужчиной: стряхнуть с нее древний налет очевидности, благодаря которому она выдавала себя за всеобщее (55).
Заключение: что придет на смену двухпалатному коллективу?
В этой главе мы бегло рассмотрели наиболее простой и наиболее сложный вопросы: наиболее простой – потому что до сих пор не было и речи о том, чтобы оставить псевдопроблемы и перейти к обсуждению по-настоящему трудной задачи построения новых социальных институтов; наиболее сложный – потому что теперь мы знаем, каким ожиданиям эти институты должны соответствовать. Если мы в ускоренном темпе пересекли живописную местность, которая заслуживала куда большего внимания, то, по крайней мере, мы добрались до своего главного лагеря. Объединив результаты социологии наук, политической экологии, наук об обществе и сравнительной антропологии, которые мы последовательно представили в самом общем виде (притом что из любая из них, как мы прекрасно понимаем, заслуживала того, чтобы посвятить ей куда больше страниц), мы склоняемся к единственной формуле: что за коллектив мы можем созвать после того, как больше нет двух палат, лишь одна из которых признавала свой политический характер? Что за новая Конституция может прийти на смену старой? Что касается вопроса «Нужна ли нам политика в интересах людей или та, что также принимает в расчет природу?», то теперь мы понимаем, что это ложная дилемма, поскольку природа и человечество, по крайней мере в западной культуре, всегда жили в состоянии взаимной угрозы. Мы знаем также, что сегодня впервые появилась заслуживающая доверия альтернатива двухпалатной политической системе, так как нам представляется в равной степени неубедительным как отождествление научной работы с Наукой, так и сведение политики•, или идеи построения общего мира, к проблеме власти и интересам. Хотя мы все еще слышим вопли ужаса защитников старой Конституции, они производят все меньше впечатления, делая возможным разговор о внешней реальности, не смешивая ее с тем поспешным обобщением, которое осуществляла власть, не осмеливающаяся даже называться властью и выступающая под все менее надежным прикрытием эпистемологической полиции. Мы впервые можем наконец убрать скобки и говорить о специфической форме политической философии, чтобы представить ее преемника, прямо говоря о политической эпистемологии•, при условии что вопрос наук, а не Науки будет увязан с вопросами коллектива, а не с тюрьмой социального.
Как и все результаты, к которым мы стремимся, он поначалу выглядит весьма экстравагантно. Сама его банальность делает его сложным для понимания. Точнее говоря, для нас настолько непривычно говорить о природе, не драматизируя этот вопрос и не сводя все к гигантомахии, что мы просто не в состоянии признать, насколько легким может быть доступ к множеству, которое только предстоит собрать. Новая разделительная линия, к которой, как нам кажется, нас подводит политическая экология, проходит не между природой и обществом или экологией и политикой, но между двумя операциями, которые мы научимся осуществлять в третьей главе. Одна занимается умножением существ, а вторая – их композицией и объединением. Другими словами, нелю́ди, в чем мы теперь имеем возможность убедиться, не являются объектами, и в еще меньшей степени – социальным конструкциями: объект• был не чем иным, как не-человеком в сочетании с полемикой о природе, из которой следовала определенная мораль для политики субъектов. Если мы выведем объекты за рамки этой полемики, этой бифуркации природы (56), то нелю́ди предстанут в совершенно новом свете.
Все «основные проблемы», канонизированные эпистемологией, покажутся после этого показательными выступлениями на фестивале боевых искусств. Насколько же отличается нечеловеческое дерево, в одиночестве падающее в лесу, от дерева-объекта, которое обрушивается в том же лесу на голову идеалиста, ведущего спор с реалистом в пабе напротив Кингс Колледж? Что можно сказать о первом дереве? Что оно падает и падает в одиночестве. Ни больше ни меньше. Зато второе дерево служит аргументом в полемике о конфликте ветвей власти в споре о правах природы и политики. Только объект оказывается втянут в конфликт лояльностей между Папой и новым Императором. Но никак не не-человек. Нелю́ди заслуживают чего-то большего, чем бесконечное исполнение не слишком почетной и пошлой роли объекта на великой сцене природы. Например, сила тяжести, эта утонченнейшая тяжесть, эта восхитительная ризома, которая, начиная с пятидесятых годов XVII века, изменила Европу и твердые объекты, заслуживает куда лучшей участи, чем роль неоспоримого довода в споре с социальным конструктивистом, претендующим на то, чтобы безболезненно прыгнуть из пресловутого окна на пятнадцатом этаже, поскольку он настаивает, как полагают его оппоненты, на своем релятивизме. Когда мы, наконец, повзрослеем и перестанем пугать самих себя историями в духе «Гран-Гиньоль»? Когда мы сможем секуляризировать нелюдéй, прекратив их объективировать?
Выводя нелюдéй за рамки полемики о природе, мы в то же время не претендуем на то, чтобы оставить их наедине с самими собой, сделав недоступными, неприступными и не подлежащими определению, как если бы они заняли малопочетное место «вещей в себе». Если они заслуживают освобождения, то именно из-за той блокады, на которую их обрекло кантианство, лишив всякой связи с объединениями людей. Социальное больше не состоит из субъектов, точно так же как природа больше не состоит из объектов. Поскольку, благодаря политической экологии, мы отличаем нечеловеческие объекты, то мы также благодаря ей сможем отличать людей и субъекты: субъект• был человеческим существом, втянутым в полемику о природе и героически противостоящим объективации со стороны Науки. Он был обречен либо на разрыв с природой для реализации своей свободы, либо на подавление этой свободы и низведение до уровня природного объекта (57). Но этот выбор стоит только перед субъектами, человек больше не обязан им довольствоваться. Если мы однажды положим конец этой холодной войне, то перед нами откроется совершенно новый аспект человечности и, вместо того чтобы существовать отдельно, люди смогут использовать целую сеть нелюдéй, без которых о свободе не может быть и речи.
Что касается научных дисциплин, то, став однажды прозрачными, наличными, активными, взволнованными и утратив свой угрожающий характер, они смогут в полной мере использовать фантастический потенциал плюриверсума, развивать который у них до сих пор не было никакой возможности, поскольку их постоянно подавляли, обязывая как можно скорее производить объекты «природы», избегая «социальных конструкций», чтобы тут же вернуться к задаче реформирования общества посредством непререкаемого разума. Вырываясь из этой смертельной схватки эпистемологии и социологии, политическая экология позволяет научным дисциплинам, освобожденным от необходимости заниматься (политической) эпистемологией, умножать пространства, площадки, учреждения, форумы, опыты, вызовы, лаборатории, соединяющие заново освобожденных людей и нелюдéй. Наука мертва, да здравствуют исследования и да здравствуют науки!
Все это только предстоит сделать, но, по крайней мере, мы выбрались из пещерного века! Общественные обсуждения можно вести, не опасаясь постоянной угрозы спасения, исходящей от высших сил, которые, за счет нечеловеческих законов, могут обходиться без процедур, позволяющих дать определение общего мира. Но – какая неожиданность – отказываясь от этой древней конфигурации разума, мы не отказываемся ни от внешней реальности, ни от наук, ни от разума, ни тем более от его перспектив. На смену старому противопоставлению политика и ученого, Сократа и Калликла, силы и разума приходит новое, куда более продуктивное противопоставление, с одной стороны, векового спора эпистемологов с софистами и коллектива – с другой. Старая Конституция, изобретенная для содержания под стражей узников Пещеры, действовала достаточно долго, чтобы мы могли увидеть ее последствия и попытаться наконец представить политическую философию, пригодную для объединения людей и нелюде́й. Как мы увидим в последующих главах, поскольку жители Запада всегда искали возможность, прикрываясь природой, изобрести двухпалатный коллектив, то на этот раз мы можем сделать это, соблюдая процессуальные нормы.
Приложение Нестабильность понятия природы
Все согласятся со следующим утверждением: нет ничего менее стабильного, чем понятие природы. Эта нестабильность возникает с самого начала. Если следовать натурализму, рассматривая его как один из способов идентификации Запада (Descola P. Constructing Nature: Symbolic Ecology and Social Practice. [1996]), то слово «природа» означает три различные вещи: A) Часть мира, которая подчиняется строгой причинности, а также исключительно власти принципа необходимости; в этом смысле природа противостоит власти человеческого общества, ее субъективности, отличительной чертой которой, напротив, является власть свободы и отмена принципа строгой причинности. Б) Однако слово природа – именно в этот момент почва начинает уходить из-под ног – также означает целое, сформированное из объединения природы несоциальной и природы социальной. Другими словами, природа обозначает и часть, и целое, поскольку человеческое общество в своей эволюции не мыслит себя вне причинности. В) Но как в таком случае быть с разделением между природой (несоциальной) и (природой) социальной? В этом случае его также можно понимать по-разному: или же это различие относится к природному порядку: можно сказать, к примеру, что эволюция освободила человечество от жесткого детерминизма природы (не социальной); или же это различие можно считать свойством социального порядка: в этом случае можно будет утверждать, что речь идет о категоризации человеческим разумом искусственного разделения, или о некотором договоре, который не относится к природе вещей, однако играл существенную роль в определении границ человеческого на протяжении всей человеческой истории. Это последнее разделение, естественно, не позволяет стабилизировать ситуацию, поскольку само общество в той мере, в какой оно отличает человеческое от природного, относится к природе в первом и более общем смысле слова. Из этого следует следующая схема.
Это первичное определение границ позволяет, как нам кажется, составить вполне сносную карту некоторых зон нестабильности Запада: на самом деле, их можно классифицировать в зависимости от того, тяготеют ли они к одному из полюсов, зависят ли от самого факта разделения или объединения.
Если мы сначала рассмотрим формы нестабильности, которые тяготеют к одному из противоположных полюсов, то получим следующие тропы:
Схема 1.2
Разрыв: каждый полюс расположен на максимально возможной дистанции от другого; так, например, утверждается, что человеческая свобода определяется разрывом с жестким природным детерминизмом (Ferry. Le nouvel ordre écologique [l’arbre, l’animal et l’homme]. [1992]); или же, наоборот, критикуются тщетные ухищрения человеческого сообщества, чтобы вернуться к базовым данным, предоставляемым природой, которая никогда не лжет, потому что ей нет дела до человеческих причуд, и которая всегда жестко детерминирована. Если этот разрыв удается осуществить, то мы получаем взаимное презрение в двух различных формах: природа, которая совершенно игнорирует социальный мир, и социальный мир, который совершенно игнорирует природу. Этот троп встретится нам в самых различных декорациях: как разница между «научным» и «литературным», как противопоставление «города» и «деревни» и т. д.
Вторжение: нестабильный характер полярности природа/общество на этот раз проявляется в попытке оккупировать один полюс, принеся ему блага, связанные с другим: в этом случае речь идет о хорошо известных шаблонах. Натурализация заключается прежде всего в том, чтобы максимально расширить список причинно-детерминированных сущностей или первичных качеств• (электроны, фотоны, частицы, мозговые волны, гены и т. д.), чтобы навсегда покончить с фантазмами иллюзорной человеческой свободы, сведенной ко вторичным качествам•. Социализация же, напротив, заключается в том, чтобы наложить на дикую и бесформенную природу печать человеческой дисциплины за счет присущей людям творческой свободы. В обоих случаях объем власти будет зависеть от того, как далеко мы сможем зайти, расширяя влияние одного полюса на территорию другого. Отличительной чертой данного тропа является его воинствующий характер, а также дух соперничества и жажда завоевания или мстительное чувство, которым сопровождается каждый выпад в этой бесконечной вендетте. Именно к этому типу относятся споры о роли природы и окружающей среды, а также бесконечные дискуссии о различиях души и тела, роли психосоматических заболеваний и т. д.
Зеркало: согласно этому тропу различие между двумя полюсами считается окончательным, однако возможность его преодолеть ставится под сомнение вне зависимости от того, стоит ли задача оторваться от одного из них или, как в предыдущем случае, расширить свое влияние. В этом случае мы имеем дело с классическими разновидностями тотемизма и анимизма, хотя они предстают в полемической и смягченной форме: природа в том виде, в каком она познается человеком, является лишь отражением социальных категорий; и наоборот, никто не сможет попасть по ту сторону зеркала, которое всего лишь отражает образ общества, преобразованный в форму вещей; напротив, преобразования человеческой свободы, которые она совершает в поисках еще большей свободы, являются отражением самой строгой природной необходимости. Разделение природа/человек преодолеть невозможно, зеркало заменяет бездну: природа не видит в обществе ничего, кроме природы, общество не видит в природе ничего, кроме общества. Только эстетизация (в кантовском смысле) позволяет понять отношения между различными сторонами зеркала. В этом смысле показателен пример Тромма (Tromm. La production politique du paysage. [1996]).
Диалектика: диалектическое решение не ставит под вопрос само разделение природа/общество, необходимость/свобода, но представляет его по-другому. Как только мы сталкиваемся с природой, мы обнаруживаем человека и его свободную и творческую деятельность; как только мы сталкиваемся с человеком, мы обнаруживаем природу с ее жесткой необходимостью. Необходимо различать две разновидности диалектики: первая восходит к французской традиции, это диалектика Леруа-Гурана, Московичи, Дагоне. Согласно ей, мы живем в очеловеченной на протяжении тысячелетий природе, постижимой при помощи категорий нашего разума, изначально социализированной; воздействие на природу само по себе является следствием человеческой природы, которая ведет свое начало от невероятно длинной биологической истории, определяющей сущность человека как Homo faber [8]. Ее можно назвать умеренной, так как она отсылает к общей натурализации, основанной на производственном принципе, точнее, на модели инженера или демиурга. Что касается более радикальной версии, воспринятой Марксом от Гегеля, то она основана на противоречии между объективностью и субъективностью, превращая его в двигатель истории, который отсутствует в первом случае. Вместо эволюции, одновременно дарвиновской и бергсонианской, во втором случае мы получаем разновидность обобщения (см. далее).
Соотношение сил: эта версия появилась куда позже, она рассматривает отношение между природой и человечеством как одно из соотношений сил, которое значительно изменилось за последнее время, так как на протяжении XX века могущество человека приобрело тектоническое измерение, способное соперничать если не с космосом, то по крайней мере с земными силами. Все эти метафоры насилия над природой, ограниченной по неизвестной причине, которые постоянно встречаются у Московичи, Серра, Нэсса, Мерчант (Merchant. The Death of Nature. Woman, Ecology and the Scientific Revolution. [1980]); человечество, за счет демографического роста и технического прогресса соперничающее с природой и становящееся для нее опасным, тогда как до настоящего момента оно было генетически слабее и уязвимее. Эта разновидность отношений человека и природы в корне противоречит предыдущей, так как делает невозможным творческий порыв, свойственный диалектике (как умеренной, так и радикальной); она также несовместима с проблематикой разрыва или завоевания; кормящая мать становится дряхлой старушкой, которая нуждается в защите.
Резюмируя:
Схема 1.3
Во всех вышеупомянутых случаях поддерживается разделение природа/общество, и в особенности в случае диалектики, которая делает его двигателем истории. Но слово «природа» также обозначает целое или, точнее говоря, объединение, которое включает в себя как природу (не социальную), так и человеческое общество. Вместо того чтобы подчеркивать различия, для определения всеобщности природы можно исходить из совокупности. Эта стратегия обобщения не выглядит более уравновешенной, чем все предыдущие, так как у нас нет твердой почвы, на которой можно было выполнить эту операцию по охвату. В случае обобщения мы имеем дело с той же полярностью природа/общество, но еще более невнятной, потому что обобщать природу можно, взяв за отправную точку любую из существующих возможностей, начиная от природы натуралистов, заканчивая обществом, не забывая при этом о Боге. Поэтому было бы полезно продвинуться в составлении нашей небольшой карты несколько дальше. Как мне представляется, можно говорить о трех различных отправных точках, отталкиваясь от которых можно объединить природу и общество в рамках единой совокупности.
Во-первых, можно начинать с элементов природы в рамках самого обычного редукционистского представления о мире; речь больше не идет, как в случае с натурализацией, о том, чтобы найти военное решение вопроса, а скорее об установлении множественности уровней детерминации, начиная с атома и заканчивая общественным устройством. При помощи этого тропа мы можем себе позволить такую роскошь, как критика редукционизма, утверждая, что если даже все дано в природе, то не все детерминировано на одном уровне причинности. В отличие от предыдущих версий, мы ставим себе задачу не унизить оппонента (разум, человеческое, свободу), а интегрироваться с ним, признавая отдельный уровень детерминации.
Вместо того чтобы исходить из заранее утвержденного перечня природных элементов, можно сделать выбор в пользу метанауки, науки о сложности, науки о процессах, науки о том, потребность в чем мы еще не ощутили. Мы рискнем утверждать, что отныне исходим не из «редукционистской» или «картезианской» науки, а из науки целостности, единственно способной охватить живое во всей его сложности. Эта метанаука, если она включает в себя целостность, не может быть тем же, что предшествующая ей форма научного знания, так как она в той или иной степени зависит от некоей сверхприроды: забытый и отвергнутый, принцип божественного проявляется снова в форме щедрого, насыщенного энергией, избыточного целого, которое не сводится к равнодушной причинности классических наук. Все находится в природе, которая является сверхприродой, пропитанной божественным. В любом случае божественность рассматривается не как таковая, так что в этом случае пришлось бы отказаться от монизма, присущего этой форме обобщения.
Схема 1.4
Наконец, третья возможность – хотя у этих способов объединения имеется множество неопределенных градаций, что усложняет задачу их четкого определения, – состоит в том, чтобы осуществлять объединение, исходя из истории человечества как таковой, включая все, в том числе не социальную природу, в понятие рукотворной конструкции или истории человечества. Речь больше не идет, как в случае воинствующей социализации, о том, чтобы победить природу, приручить ее и дисциплинировать, а о том, чтобы приобщить ее к приключению духа. Мы можем рассматривать все формы идеализма, Naturphilosophie [9] и даже большинство разновидностей социального конструктивизма как относящиеся к этому тропу объединения. Размышления об антропном принципе, о социальной экологии, об экотелеологии или даже о критическом реализме позволяют постепенно перейти к другой форме объединения. Если дух созидания и творчества оказывается сочетанием человеческого и божественного, то мы можем выделить множество нюансов, переходя от сверхприроды к социальной конструкции. В зависимости от того, признаем ли мы плодотворной идею поляризации, становится возможным постепенный переход к различным видам диалектики.
Ни один из этих способов объединения не является по-настоящему всеобщим, все они допускают наличие некоторого остатка, неохваченного и насильно переведенного в одну из предыдущих классификаций. Так, например, натуралистическое обобщение, возможно, признает наличие божественного вдохновения или не подлежащей исключению свободы; критическое построение дойдет до своего предела, не справившись с весьма существенным и внеисторическим остатком, таким как, например, элементарные структуры материи или упорная неискоренимость вещей в себе; сверхъестественное обобщение внезапно оставит в остатке, который ей не удается ассимилировать, необоснованную и безразличную геометризацию природы (как, например, у Бергсона). Однако основным итогом всех этих усилий по объединению будет то, что они сводятся не к ограничению действия одного из полюсов, а к его полному охвату.
Эта картография, разумеется, не дает полного перечня всех видов нестабильности, но, что важнее всего, она позволяет без предупреждения перейти от одного из этих положений к другому и вернуться к отправной точке, начать заново. Нет ничего менее обоснованного, чем идея природы. Однако все изменится, если мы полностью отбросим идею природы вместе с нестабильностью, которую она создает. Отметим напоследок, что существует опасность смешения идеи коллектива• с той или иной стратегией объединения, которые мы только что рассмотрели. Коллектив космополитики• – это не всеобъемлющее единство, в котором несоциальная и социальная природы, наконец, мирно сосуществуют, собраны заново и подведены под общее понятие. Коллектив в этой книге определяется как то, что отказывается объединять природу и общество.
2. Как объединить коллектив
Из предыдущей, довольно пространной главы, мы узнали, что понятия природы и политики обозначают не пребывающие в мире существа или отдельные регионы бытия, а определенный тип организации общества. В целом, возможно, не все является политическим, но политика занимается формированием целого, если мы заранее соглашаемся с ее новым определением как набора задач, выполнение которых позволяет постепенно построить общий мир•. Однако ими занимаются не только политики (в профессиональном смысле слова): в наших западных странах ученые издавна находятся в привилегированном положении за счет подлинно королевской власти, которой их наделяет природа. Политическая философия не вняла словам из Писания: «…всякое царство, разделившееся в самом себе, опустеет…» (Мф. 12: 25), поскольку она как ни в чем не бывало продолжала пребывать в человеческом мире политических проблем, оставляя решение большей части вопросов на усмотрение заговорщиков из ассамблеи нелюдéй, которая втайне, в нарушение любых процедур и посредством загадочных манипуляций решала, из чего состоит природа и в какое объединение с ней мы можем вступать.
Разделяя общественную жизнь на две неравные палаты, старая Конституция приводила исключительно к застою, получая лишь преждевременное единство природы и бесконечный разброс культур. В конечном счете старая Конституция приводила к созданию двух одинаково незаконных ассамблей: первая, объединенная под покровительством Науки, была нелегитимной, так как определяла общий мир в нарушение всех публичных процедур; вторая была незаконнорожденной, так как была лишена вещественной реальности, которую она уступила другой ассамблее, поэтому вынуждена была довольствоваться «соотношением сил», множеством противоречивых мнений, различными макиавеллистскими ухищрениями. Одна из них имела отношение к реальности, но не к политике, другая – к политике и к «социальному конструированию». В арсенале и той и другой имелся убийственный прием, при помощи которого можно было положить конец дискуссии: неоспоримый разум, неоспоримая сила, right и might, knowledge и power [10]. Каждая палата угрожала другой уничтожением. Главной жертвой этой продолжительной холодной войны была третья сторона – третье сословие, коллектив, навсегда лишенный как политических, так и научных компетенций при помощи разума или силы.
Из первой главы можно сделать исключительно негативные выводы: даже если мы поняли, что природа не может служить политической моделью, ничего лучше природы у нас пока нет… Поэтому теперь перед нами стоит куда более сложный вопрос: как отредактировать Конституцию, чтобы она позволила нам построить общий мир, соблюдая процессуальные нормы? Но для начала – что за термин мы используем для описания того, что придет на смену разделившемуся в себе королевству? Этим термином будет республика•. Это гордое имя подойдет как нельзя лучше, если мы заставим громче звучать слово res, слово «вещь» (58). Как уже было неоднократно замечено, дело можно представить таким образом, будто политическая экология заново открыла в res publica, в общей вещи, старинную этимологию, которая с незапамятных времен связывала во всех европейских языках слово «вещь» с другим словом из юридического лексикона, Ding и Thing, res и reus (59).
Империя модернистской Конституции, которая сегодня пришла в упадок, заставила нас немного забыть о том, что вещь• появилась прежде всего как проблема, которая обсуждается определенной ассамблеей и требует совместно принятого решения. В данном случае речь идет не об антропоморфизме, который возвратил бы нас в прошлое пре-модерна, а, напротив, о конце разорительного антропоморфизма, используя который безразличные к человеческой участи вещи вторгались извне, чтобы вне всяких процедур уничтожить плоды работы этих ассамблей. Однако, несмотря на создаваемую видимость, пресловутое «безразличие космоса к человеческим страстям» предполагает самую странную из всех разновидностей антропоморфизма, потому что оно претендует на то, чтобы придавать людям форму, заставляя их замолчать при помощи непререкаемой власти объективности, свободной от любых страстей. Так нелю́ди были похищены и обращены в камни, которыми побивают собравшийся демос! Прикрываясь объективностью, чтобы избежать политических процедур, науки стали путать с этим насильно навязанным сокращением, и все во имя высокой морали и самой чувствительной из добродетелей! К природе хотели прийти посредством силы, то есть посредством разума. Да, это настоящее интеллектуальное шарлатанство, к счастью давно разоблаченное.
Единственное новшество нашего проекта состоит в том, что мы пытаемся найти то, что придет на смену этому «разделившемуся в себе царству», используя возможности третьего сословия, ведь только в силу предрассудка мы могли отождествлять его с собранием рабов, заточенных в Пещере, и с узниками социального. Поскольку внезапное вторжение природы больше не парализует постепенное строительство общего мира, мы получаем возможность созвать коллектив•, которому, как следует из названия, предстоит «собрать» [collecter] множество ассоциаций людей и нелюдéй, не прибегая к насильственному разделению между первичными• и вторичными качествами•, до сих пор позволявшему втайне исполнять функции королевской власти. Эта компетенция есть у третьего сословия, но она остается скрытой и существует в виде двойной проблемы репрезентации•, которую старая Конституция обязывала рассматривать по отдельности: эпистемология, желающая знать, каковы должны быть условия для получения точной репрезентации реальности; политическая философия, которая пыталась понять, на каких условиях уполномоченный может честно представлять себе подобных. Никто не желает признавать, что у этих двух вопросов есть много общего, поскольку само их радикальное различие стало признаком высочайшей добродетели: «не будем смешивать» вопросы природы и политики, бытия и того, что должно быть (60). Как утверждалось, именно по отсутствию этого смешения всегда распознавали и распознают сегодня философскую добродетель. К счастью, в этот час шума и ярости история была занята чем-то прямо противоположным, всячески смешивая природы и политики, вот уже несколько десятилетий диктуя необходимость создания ясной политической эпистемологии•, которая придет на смену старой эпистемологической полиции.
Один короткий анекдот позволит нам проиллюстрировать переход от разделенного царства к республике вещей. Из дела Галилея философия науки всегда делала выводы в свою пользу: собравшись в одной палате, конклав принцев и епископов обсуждает, как править миром и во что должна верить их паства, чтобы попасть на Небеса; в другой палате, уединившись в противоположном крыле дворца, в своем кабинете, обращенном в лабораторию, Галилей разгадывает законы, управляющие миром и движением небесных сфер. Эти два помещения никак не сообщаются между собой, поскольку в одном обсуждаются различные мнения, а в другом – единственно возможная реальность. С одной стороны, множество вторичных качеств, из-за которых люди пребывают в иллюзиях; с другой – единственный человек, пребывающий в истине, один на один с природой, описывающий невидимые для остальных первичные качества. Так устроен двухпалатный коллектив старой Конституции.
Осенью 1997 года в Киото был только один конклав, в котором собирались сильные мира сего, принцы, лоббисты, главы государств, промышленники, а также исследователи в самых различных областях, чтобы вместе решить, в каком состоянии находится планета и что мы должны сделать для сохранения нашего неба (61). Однако этот конгресс в Киото не просто собрал воедино две старые ассамблеи ученых и политиков, чтобы поместить их в третью палату, более просторную, более органичную, более синтетическую, более всеохватывающую, более сложную. Нет, политики и ученые заполнили места единой ассамблеи, не имея больше возможности рассчитывать на старые привилегии вроде спасительного вмешательства Науки или ворчать, пожимая плечами: «Что нам за дело до всех этих споров? В любом случае Земля вертится и без нас, что бы мы ни говорили». Мы перешли от двух палат к единому коллективу. Политика должна идти своим чередом без трансценденции природы: это исторический феномен, и мы взяли на себя обязательство его осмыслить (62).
Конец природы не означает, что нашим затруднениям пришел конец. Напротив, осознав опасности, которые нас поджидают, мы поймем, какое преимущество давало неумеренное использование понятия природы нашим предшественникам: обходясь одновременно без науки и политики, они как по волшебству упростили прохождение препятствий. Но мы, освободившись от чар и заклятий природы, после марш-броска, проделанного в предыдущей главе, оказываемся у подножия стены или на пороге создания. При условии, что читатели, подобно евреям в пустыне, не будут грезить о терпком вкусе египетского лука…
Сложности с созывом коллектива
Что мы должны сделать, чтобы созвать коллектив в соответствии с новыми принципами? Есть немало теоретиков экологии, которые ратуют за то, чтобы «преодолеть» гибельное противопоставление «человека и окружающей среды». Почему бы не представить этот созыв как объединение вещей и людей? На первый взгляд, объединяя два термина, целое с его дополнением, мы очень быстро придем к искомому единству и без лишних усилий перенесемся в объединенное королевство, которому двухпалатное разделение не сможет навязать свой апартеид. В таком случае политическую экологию можно определить как соединение экологии и политики, вещей и людей, природы и общества. Достаточно будет объединить две ассамблеи, чтобы решить проблему построения общего мира и составить отличную Конституцию. К сожалению, «тот самый» коллектив, несмотря на создаваемую видимость, невозможно получить путем простого присоединения природы к обществу. В этом заключается первая сложность.
Если для преодоления экологических кризисов было бы достаточно соединить «человека и природу», конституционный кризис, к которому они привели, был бы давно преодолен. Однако он только начинается. Если кризисы проявляются в исчезновении природы, то они проявляются еще ярче в исчезновении традиционных инструментов, необходимых для созыва двух ассамблей природы и общества. Объединить их путем простого сложения было бы преступлением одновременно против знаний, морали и политики (63). Теперь мы знаем почему: природа позволяла подчинить ассамблею людей, постоянно угрожая ей спасением, исходившим от Науки, с самого начала парализуя ее работу; и наоборот: ад социального позволял подчинить ассамблею природы, постоянно угрожая осквернить ее насилием. Поэтому очевидно, что нельзя просто собрать воедино, без осуществления неких дополнительных процедур, две палаты, призванные парализовать работу друг друга: для начала нужно заново определить принципы их созыва. В политической философии, в представлении гуманитарных наук о социальном мире, в определении, которое психология дает субъектам, пока нет ничего, что могло бы заменить природу. Поэтому не стоит надеяться, что некий «природный договор» поможет преодолеть ограниченность старого общественного договора, как если бы могли просто собрать в единое целое субъекты и объекты, формировавшиеся годами, чтобы вести самую беспощадную из всех холодных войн (64). Как бы долго ни переваривал этот боа-констриктор, он не сможет проглотить слона природы. Тело, созданное для того, чтобы оставаться чужеродным для общественного организма, не подлежит социализации; поэтому надо полностью изменить химический состав его пищи и соков, его полостей и выпуклостей. Именно этим, с нашей точки зрения, занимается политическая экология, и теперь она должна научиться извлекать из этого уроки.
Столь соблазнительное обобщение представляется еще более неизбежным при условии, что экологические кризисы чаще всего выражаются в исчезновении всего, что находится за пределами человеческого мира, любых условий для человеческой деятельности, какой бы то ни было разгрузки, за счет которой мы до сих могли, выражаясь при помощи изящного эвфемизма, изобретенного экономистами, экстернализировать• действия. На этот парадокс уже неоднократно обращали внимание: забота об окружающей среде• начинается в тот момент, когда никакой окружающей среды больше нет, то есть нет больше определенного пояса реальности, за счет которого можно было бы избавиться от нежелательных последствий политической, промышленной и экологической деятельности человека (65). Историческое значение экологических кризисов заключается не в появлении какой-то особой озабоченности природой, а, напротив, в том, что становится невозможно представить по отдельности политику и природу, которая одновременно была для нее эталоном, возможностью, ресурсом и свалкой. Политическая философия внезапно сталкивается с необходимостью интернализации• окружающей среды, которую она до сих рассматривала как особый мир, который настолько же отличается от нашего, как у древних в догалилеевскую эпоху физика подлунного мира отличалось от небесной. Поскольку сегодня человечество осознает, что для осуществления политики у него больше нет ни возможности разгрузки, ни резервов, то все прекрасно понимают, что мы должны не просто всерьез заняться природой, а перестать считать, что совокупность нелюдéй должна навсегда остаться под ее властью. В последние несколько десятилетий человеческая ассамблея считает своим долгом вернуться к изначальному разделению и заново спрашивает со старой ассамблеи, которая втайне собиралась веками, держа в строжайшей тайне свою политическую деятельность. Все хотят знать, в соответствии с какой статьей из какой Конституции люди и нелю́ди должны были заседать по отдельности, одни под контролем проводимой властью политики, а вторые – эпистемологической полиции. И если никакого текста вдруг не обнаружится, то мы должны во весь голос требовать изменений устройства нашей общественной жизни, отредактировав Конституцию в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.
Если мы используем слово «коллектив»• в единственном числе, то совсем не для того, чтобы описать тип объединения, аналогичный тому, что обозначают при помощи слова «природа», и совсем не для того, чтобы обозначить мифическое «единство человека с природой». «Та самая», уникальная природа, как нам прекрасно известно, никогда не была стабильной, она всегда была следствием непреодолимого разрыва с социальным и человеческим миром. Потому что самим словом «коллектив» мы хотели подчеркнуть работу по сбору множества в единое целое. Это слово имеет преимущество, поскольку напоминает нам, что система сбора сточных вод состоит из сети малых, средних и больших «коллекторов», которые позволяют сбрасывать уже использованную воду, а также поглощать дождевые потоки, которые обрушиваются на большой город. Нам прекрасно подходит метафора cloaca maxima [11], с ее приспособлениями для расчета параметров и контроля, водопроводами, очистками и отверстиями человеческого тела, необходимыми для ее поддержания. Чем больше мы ассоциируем материальные предметы, учреждения, техники, ноу-хау, процедуры и проволочки со словом «коллектив», тем точнее будет их применение: так тяжелый, но необходимый труд по постепенному и публичному построению будущего единства станет заметнее.
Именно по этой причине под словом «коллектив» в единственном числе мы подразумеваем не ответ на вопрос о числе коллективов (к которому мы приступим только в пятой главе), а всего лишь актуализацию проблемы постепенного построения общего мира, которую старая Конституция с ее разделением на две палаты не позволяла даже сформулировать, так как природа, столь поспешно унифицированная, решала ее раз и навсегда. Мы понятия не имеем, существует ли один-единственный коллектив, три их или больше – шестьдесят пять или несметное множество. Мы используем этот термин исключительно для обозначения политической философии, в которой больше нет двух аттракторов, один из которых сохранял бы единство в виде природы, а второй поддерживал бы множество в виде различных обществ. Этот коллектив означает все что угодно, но только не разделение на две части. Проявляя интерес к коллективу, мы заново ставим вопрос о том, как собрать ассамблею, нисколько не заботясь о прежних титулах, которые позволяли одним заседать в ложах природы, а другим – всего лишь на узких скамейках общества. В настоящей главе мы попробуем определить, чем оснащены, если можно так выразиться, эти «граждане», призванные заседать в единой ассамблее, притом что до сих пор, если развивать метафору, они жили в сословном обществе, разделенном на аристократию, духовенство и третье сословие. Мы уверены, что объединение этих двух палат будет иметь те же последствия для будущей республики, что и день, когда третье сословие, аристократия и духовенство отказались заседать по отдельности и голосовать в соответствии со своей сословной принадлежностью.
Хотя у революционных примеров прошлого определенно есть свой шарм, все сопровождавшие их конституционные потрясения касались исключительно людей. Однако сегодня контрреволюционные выступления затрагивают нелюдéй в равной степени. Что для этого объединения людей и нелюдéй служит эквивалентом принципа «один человек – один голос», изобретенного нашими предками, как только они отказались заседать в соответствии с классовым делением Старого порядка•? Такова вторая сложность, которую мы должны преодолеть, чтобы созвать коллектив.
Должны ли мы пойти дальше и дать нелю́дям право голоса (66)? Достаточно лишь вскользь упомянуть о подобных проблемах, чтобы перед нами возник пугающий призрак необходимости заниматься метафизикой, то есть самим определять обустройство плюриверсума, а также свойствами, которыми должны обладать граждане этой республики. Мы впадаем в болезненное противоречие: как если бы нам нужно было разработать одну метафизику для людей и нелюдéй, хотя мы уже отбросили разделение природа/общество именно потому, что оно навязывало нам особую разновидность метафизики, выпадающую из всех публичных механизмов, а именно метафизику природы•, если прибегнуть к нарочито парадоксальному выражению. Если же, как предлагают нам многочисленные теоретики экологии, мы должны покончить с традиционной метафизикой, чтобы прийти к новой, менее дуалистичной, более щедрой, более отзывчивой, то мы никогда не сможем написать эту новую Конституцию, поскольку у любой метафизики есть неприятное свойство заканчиваться бесконечными спорами… Мы хотим возобновить общественную дискуссию, которая длительное время находилась под запретом, но мы не можем ожидать, что она будет зависеть от предварительного согласия относительно обустройства плюриверсума – ведь именно к этому стремилась королевская власть, которая распределяла объединяющие нас первичные качества и вторичные качества, которые нас разделяют, стараясь сделать это без лишних затрат и дискуссий. Мы хотим прийти к этому общему миру после того, как будет написана новая Конституция, а не заранее. Перед нами стоит классическая проблема бутстрэпа: для того чтобы чаемая нами экспериментальная метафизика• могла прийти на смену произволу или арбитражу природы, мы для начала должны определить некий прожиточный минимум, «метафизический МРОТ», который сделает возможным созыв коллектива. Какой смысл читателю отказываться от собственной метафизики и принимать нашу или же метафизику теоретиков настолько глубинной, сколь и поверхностной экологии? Почему он должен лишать себя той надежной базы, что дает ему «метафизика физики»?
К счастью, нам совершенно не требуется противопоставлять одну метафизику другой и продолжать бесконечные споры об устройстве Вселенной. Чтобы возобновить общественную дискуссию о распределении первичных и вторичных качеств, о построении общего мира, о res publica, достаточно будет перейти от военной концепции общественной жизни к гражданской. Политическая экология не занимается «одновременно» вещами и людьми. Что значит «заниматься»? Что значит «одновременно»? Что значит «вещами»? Что значит «людьми»? Все эти словечки мы подбираем на ходу, а ведь они уже прошли соответствующую подготовку, оснащены и готовы показать себя на поле боя прошедших войн, до которых нам нет никакого дела. Чтобы они могли послужить нашим целям, мы должны осуществить их «конверсию», как выражаются работники оборонной промышленности, когда речь идет о переводе целой отрасли военного производства на мирные рельсы.
Мы покажем, как люди и нелю́ди, если они больше не находятся в состоянии гражданской войны, могут изменить свои свойства и послужить материалом для создания коллектива. Тогда как стратегия противопоставления субъект/объект состояла в том, чтобы запретить любой обмен качествами, связка человек/не-человек делает этот обмен не просто желательным, а необходимым. Именно он позволит составить коллектив из реальных существ, наделенных подлинной волей, свободой и даром речи. Общая судьба подобных существ позволит ответить на вопрос, почему политическая экология не сможет развиваться путем простого сложения экологии и политики. Вместо науки об объектах и политики субъектов мы получим в конце главы политическую экологию коллективов, состоящих из людей и нелюдéй.
Менее сложная, чем предыдущая, и особенно – следующая, эта глава требует от читателя только одного: не прийти в ужас от того любопытнейшего изменения свойств, к которому мы теперь приступим. Если предпринятая нами процедура конверсии все еще кажется удивительной, то ее следует сопоставить с той неоднозначной ролью, которую играли милитаризированные объекты в соответствии со старой Конституцией: лишенные дара речи, они были наделены способностью говорить от своего лица; будучи аморальными, они тем не менее навязывали людям высокую мораль, которая заставляла их смиренно склониться перед неоспоримой очевидностью фактов; чуждые делам человеческим, они благодаря промышленности и лабораториям без труда вторгались в повседневную жизнь; неодушевленные, они воодушевляли, если не сказать больше, были душой принадлежащих нам тел; невидимые, они всегда оставались в поле зрения ученых; несущественные, поскольку они были лишены дара речи и чужды ценностям, они формировали самую суть реальности, определяя правила общего мира; безразличные к нашим страстям, они тем не менее проводили отличия, которые были решающими в наших спорах; лишенные воли, при помощи своих скрытых движений они заставляли жалких людишек действовать… Если совмещение человеческих и нечеловеческих компетенций, к описанию которых мы приступим, кажется удивительным, то читатель должен проявить добрую волю и сравнить их простоту с тем чудовищным захламлением, которое мы привыкли считать разумным и естественным, а также помнить, что мы оставляем солдат в их казармах и ведем речь исключительно о гражданской жизни людей и нелюдéй.
Первое разделение: научиться не доверять своим официальным представителям
Если построение общего мира больше не принимается за данность и должно стать предметом обсуждения, то единственный способ рассматривать коллектив в качестве материала, представляющего общественный интерес, это определить его как ассамблею существ, наделенных даром речи. Традиционно политическая философия полагала, что насилие должно уступить место дискуссии; сегодня от нее требуется в одно и то же время прийти на смену молчанию и неоспоримым истинам. Как это непонятное словечко «дискуссия», позаимствованное из шумных человеческих ассамблей, поможет нам дать новое определение политической экологии, которая занимается как раз существами, лишенными дара речи и относящимися к немой природе (67)? Говорит и разглагольствует политика, а не природа, если только речь не идет о старых мифах и волшебных сказках. Однако стоит лишь немного переключить наше внимание, чтобы показать, как нечеловеческие существа, в свою очередь, являются причиной многочисленных затруднений речи•, что позволит нам изменить смысл слова дискуссия, который плавно перетечет из политической традиции в область того, что в будущем станет традицией экологической, при этом закрепив за речью, за логосом, то центральное место в политической философии, которое никогда не оспаривалось.
Первое затруднение речи проявляется в умножении противоречий: конец природы также означает конец научной очевидности относительно природы. Как неоднократно было замечено, всякий экологический кризис становился отправной точкой полемики среди экспертов, которая чаще всего мешала созданию совокупности неоспоримых фактов, на которую затем могли бы сослаться политики в процессе принятия решений (68). В подобной ситуации, в которой можно без труда узнать споры о глобальном потеплении, функции червей в амазонской почве, об исчезновении амфибий или о деле зараженной крови, возможны два подхода: подождать, пока научный прогресс положит конец неопределенности, или же рассматривать неопределенность как неизбежный элемент экологических или санитарных кризисов (69). Преимущество второго подхода состоит в том, что мы заменяем неоспоримое оспоримым и сводим воедино понятие объективной науки и полемики: чем больше различных реальностей, тем больше споров.
Но и теперь мы не сможем обновить политическую экологию, не воспользовавшись теми преимуществами, которые дает нам социология наук. Вынесение ученых споров на публику совершенно не означает, что мы переходим от установленных фактов к беспочвенным фантазиям, а всего лишь то, что понятие о внешнем и внутреннем пространстве науки отживает свой век. Сегодня, как и раньше, ученые спорят в своих лабораториях (70). Заметим, что смысл слова «дискуссия» изменяется, как только мы переходим к «белым халатам». Мы больше не можем противопоставлять научный мир неоспоримых фактов политическому миру бесконечных дискуссий. Появляется все больше общих дискуссионных площадок, на которых находится место как научной полемике, так и дрязгам, типичным для политических ассамблей (71). Ученые спорят между собой о вещах, которые благодаря им обретают дар речи и присоединяются к политическим дискуссиям. Если подобное совмещение до сих пор встречалось редко, то только потому, что оно осуществлялось и поныне осуществляется где-то в другом месте, в лаборатории, за закрытыми дверями, тогда как исследователи выступают в качестве экспертов на общественных слушаниях, монотонным голосом и в унисон зачитывая сверенный текст о положении дел. Таким образом, внутри самих наук существуют некоторые процедуры, которые могут прервать ход дискуссии, сделать нужные акценты и подвести ее итоги, чтобы затем сообщить о них разным палатам. Поэтому было бы неправильно противопоставлять тех, кто не спорит, а именно ученых, которые располагают доказательствами, и спорящих, то есть политиков, не способных прийти к согласию в отсутствие убедительных доказательств.
Так где же мы найдем тот выступ, на который сможет временно примоститься эта промежуточная форма речи между «я говорю» и «факты говорят», между искусством убеждения и доказательством, перед тем, как окончательно определить ее место в третьей и четвертой главе? В политике существует вполне подходящий термин для обозначения всего спектра посредников между тем, кто говорит, и тем, кто говорит от его лица, между сомнением и неуверенностью: официальный представитель [porte-parole]. Тот, кто всегда говорит от лица других и никогда – от своего. Если бы мы, напротив, утверждали, что через него говорят другие, то это было бы слишком наивно, и хотя подобная наивность встречается в некоторых эпистемологических мифах, политические традиции накладывают на нее запрет. Для описания подобного рода промежуточных состояний обычно используются такие понятия, как перевод, предательство, фальсификация, изобретение, синтез, транспозиция. Одним словом, вводя понятие официального представителя, мы обозначаем не полную ясность речи, которую он передает, а ее полный спектр, начиная с тотального сомнения (официальный представитель говорит от своего лица, а не от лица тех, кто его уполномочил) до полного доверия: когда он говорит, то его устами глаголют уполномочившие его лица.
Следует признать, что понятие официального представителя замечательно подходит для определения того, чем занимаются «белые халаты». Сильно укоренившийся предрассудок должен был сделать несовместимыми лаборатории и ассамблеи, поэтому мы отказались от этого удобнейшего понятия: «белые халаты» являются официальными представителями нелюдéй, и мы должны, как и в отношении всех прочих представителей, всегда сомневаться в их способности говорить от имени уполномочивших их лиц, хотя и не полностью отказывать им в этом праве. Ожесточенная научная полемика предполагает не менее широкий спектр позиций, чем ожесточенные дебаты в политических ассамблеях, начиная от обвинений в предательстве («это говорят не объективные факторы, а вы и ваша субъективность») до поощрения за величайшую преданность: «То, что вы говорите о фактах, они сказали бы сами, если бы только умели говорить, впрочем, они говорят именно благодаря вам, ведь вы говорите не от своего лица, а от лица фактов…» Благодаря понятию официального представителя можно получить собрание, которое больше не будет заранее разделять участников в зависимости от того, говорят ли они то, что представляют собой вещи, или то, чего хотят люди. От общей ассамблеи, собравшейся в Киото, можно ожидать, что каждая участвующая в ней сторона будет как минимум рассматривать всех прочих в качестве официальных представителей, вне зависимости от того, представляют ли они людей, пейзажи, лобби химической промышленности, планктоны южных морей, леса Индонезии, экономику Соединенных Штатов Америки, неправительственные организации или администрации…
«Дискуссия», этот ключевой термин политической философии, который ошибочно считали уже сформировавшимся понятием, в каком-то смысле доступным в каталоге, претерпевает серьезные изменения: дар речи больше не является исключительно человеческим свойством, по крайней мере, люди больше не являются его единственными обладателями (72). Один из наиболее простых способов описать экологический кризис – это признать, что чаще всего он начинается с научной регистрации, которая облекает его в форму слов, фраз и графиков, в рамках тех дисциплин, которые способны предупредить нас о проблемах, но не в состоянии найти устраивающее нас решение. Никто больше не может найти спасения от ожесточенных политических дебатов за стенами лабораторий. Если читатель все еще сомневается в этом, то ему достаточно бросить беглый взгляд на страницы научных журналов, чтобы обнаружить свидетельства этих фундаментальных изменений: вместо того чтобы завершить дискуссию, обратившись к фактам, всякая новость из области науки только подливает масла в огонь, вызывая ажиотаж публики (73). Кто-то все еще надеется, что в один прекрасный день мы станем настолько учеными, что вернемся в старые добрые времена, когда природа была лишена дара речи, а эксперты говорили о неоспоримых фактах и могли с помощью своих знаний покончить с любой политической дискуссией. Блажен, кто верует… С нашей точки зрения, подобная организация речи означает самый страшный модернистский кошмар, в который хотели погрузить общественную жизнь и от которого его может теперь избавить политическая экология. В дальнейшем мы всё и всегда будем обсуждать вместе, прежде чем принять какое-то решение (74). Употребляя слово спор [controverse] в позитивном смысле, мы упраздняем не очевидность различных наук, а одну из старых преград, воздвигнутых между видимой ассамблеей людей, которые препираются между собой, и ассамблеей ученых, которые, конечно же, занимаются тем же самым, но втайне, производя in fine [12] неоспоримые факты (75).
Однако это первичное освобождение речи само по себе ничего не решает: как бы то ни было, мы заметим, что труженики, занимающиеся поиском доказательств, проводящие эксперименты в лаборатории, осуществляющие регистрацию при помощи инструментов, публикующие результаты в журналах, обсуждающие их значение на конгрессах, делающие выводы в отчетах, совмещающие законы с новыми инструментами, новыми правилами, новыми доктринами, новыми привычками, являются людьми, – только они говорят и спорят. Как можно сомневаться в этом очевидном факте? Как можно доказывать, что не только человек обладает уникальным даром речи? Нам не стоит тотчас же соглашаться. В области политической экологии ничего нельзя делать быстро: как мы уже неоднократно замечали, благоразумие столь же скверный советчик, что и гнев.
Можно пойти намного дальше в перераспределении ролей между политиками и учеными, если мы примем всерьез неприметные суффиксы -логии или -графии, которые все научные дисциплины, точные или не очень, бедные или богатые, знаменитые или безвестные, горячие или холодные, непременно включают в свой состав. Всякая дисциплина может быть описана как сложный механизм по наделению миров даром речи и обучению письму, как всеобщее обучение грамоте немых существ. Поэтому странно, что политическая философия, одержимая своим логоцентризмом, не заметила, что существенная часть этого логоса находилась в лабораториях. Напомним, что нелю́ди – это не объекты, и в еще меньшей степени – факты. Они сперва появляются в качестве новых существ, которые наделяют даром речи тех, кто собирается вокруг них и обсуждает их между собой. Именно так мы в предыдущей главе описали форму, которую принимает внешняя реальность, как только ее освобождают от наложенного на все объекты обязательства затыкать людям рот.
Кто говорит в лаборатории на самом деле, используя для этого инструменты и включая в сеть различные приборы от имени ученой ассамблеи? Разумеется, не сам ученый. Если вы хотите представить как шутку какой-либо установленный факт, то достаточно сказать, что о нем говорит какой-то один ученый, что это только его рассуждения, его предрассудки, его жажда власти, его идеологические установки, его предвзятые идеи а не… а не что? Конечно же, не сами вещи, не вещь сама по себе, не реальность. Идея о том, что «факты говорят сами за себя» – одно из самых распространенных клише ученого Града. Но что на самом деле подразумевается под говорящим «сам за себя» фактом? Это настолько неинтересно «белым халатам», что они верят в то, что частицы, ископаемые, экономики, черные дыры производят некоторый эффект без посредников, без исследований, одним словом – без артикуляционного аппарата, который отличается крайней сложностью и весьма хрупок. Едва ли кто-то настолько безумен, чтобы утверждать, что факты говорят сами за себя, но вряд ли кто-то будет настаивать на том, что «белые халаты» являются единственными, кто говорит о вещах, лишенных дара речи. Нечто подобное утверждают, когда хотят подвергнуть беспощадной критике некоторое высказывание, которое больше не претендует на истину и из объективного становится субъективным, из факта превращается в артефакт. Поэтому мы утверждаем, что «белые халаты» изобрели артикуляционные аппараты, которые позволяют нелю́дям принимать участие в дискуссиях людей, как только они сталкиваются с трудностями относительно участия новых существ в коллективной жизни. Это пространная, неуклюжая и довольно расплывчатая формулировка, однако мы считаем, что в данном случае затруднения речи предпочтительнее аналитической ясности, которая одним ударом разрубила бы гордиев узел проблемы немых вещей и говорящего человека. Лучше мямлить, когда мы говорим об ученых, чем безрассудно доверять рассуждениям непререкаемого авторитета о немых вещах, ничего не понимая в этой метаморфозе, которая обывателям кажется обычным фокусом. Тогда как миф о Пещере принуждал нас к волшебному преображению, в данном случае речь идет всего лишь о переводе, за счет которого вещи становятся, в стенах лаборатории и посредством некоторых инструментов, релевантными нашим рассуждениям о них (76). Вместо навязанного Наукой• абсолютного различия между эпистемологическими вопросами и социальными репрезентациями, мы обнаружим в науках• самое тесное переплетение двух видов речи, до сих пор чуждых друг другу.
Прежде чем читатель с ужасом воскликнет, что мы заставляем его читать сказку, в которой животные, вирусы, звезды, волшебные палочки заговорят человеческими голосами подобно сорокам или принцессам, подчеркнем, что речь совершено не идет о каких-то нововведениях, которые противоречат здравому смыслу. Напротив, именно благоразумие использует эпистемологический миф о природе, который «должен быть признан как таковой», это оно говорит о «поразительной очевидности» и об «удивительных фактах». Чтобы построить политическую экологию на новых принципах, перед нами не стоит выбор между рациональной теорией, предполагающей немую природу и говорящего человека, с одной стороны, а с другой – теорией, притянутой за волосы и отводящей «белым халатам» роль артикуляционного аппарата нелюдéй. Мы имеем дело с мифом о благодетельной жене, которая одновременно верит в немые вещи и говорящие факты, а также в вещи, которые говорят сами за себя, и в непререкаемых экспертов. И мы выступаем с рациональным предложением осмыслить это мифическое противоречие, реконструировав все те сложности, которые возникают у человека при разговоре о нелю́дях вместе с ними.
Другими словами, если новый миф уже существует, то концептуальное учреждение, который может сделать его продуктивным, еще не появился. Именно его нам предстоит изобрести. Как и во всех модернистских мифах, нелепое противоречие между немой природой и говорящими фактами призвано сделать непререкаемым мнение ученых, которое за счет непонятной операции, напоминающей чревовещание, превращалось из «я говорю» в «факты говорят сами за себя», а затем в «вам остается только замолчать». Можно говорить что угодно про миф о Пещере, но он не ассоциируется ни с разумом, ни со справедливостью, ни с простотой. Сложно придумать что-то более архаичное и отдающее колдовством, даже если для этого строятся примитивные декорации, на фоне которых с благословления социологии вступают в противоестественную связь эпистемологическая полиция и политическая философия.
Мы не утверждаем, что вещи говорят «сами за себя», поскольку никто, включая людей, не говорит сам за себя, а всегда за счет чего-то другого. Мы не заставляем человеческие субъекты разделить право голоса, которым они заслуженно гордятся, с галактиками, нейронами, клетками, вирусами, растениями и ледниками. Мы просто привлекаем внимание к феномену, который предшествует распределению различных видов речи, которые мы назвали Конституцией. Мы напомнили о том, что раньше считалось само собой разумеющимся: между говорящими субъектами политической традиции и немыми вещами традиции эпистемологической всегда помещается третий термин, а именно речь, не подлежащая обсуждению, до сих пор остававшаяся невидимой формой политической и научной жизни, то позволявшая превращать немые вещи в «говорящие факты», то заставляющая онеметь говорящие субъекты, принуждая их смириться с фактами.
Как мы уже заметили в предисловии, у нас нет выбора, заниматься ли нам политической экологией. Отказываясь от нее, мы принимаем самое странное из всех распределений: речь говорящего субъекта может быть прервана в любой момент более авторитетным выступлением, которое никогда не проявляется само по себе, потому что остается непререкаемым, и которому никто не в состоянии возразить. Защищая права человеческого субъекта говорить и говорить в одиночестве, мы не закладываем основы демократии, а делаем ее все менее осуществимой (77). Все прояснится, если мы согласимся поместить республику до распределения этих форм, разновидностей и продолжительности выступлений, если мы позволим проявиться во всем их многообразии затруднениям речи, которые препятствуют поспешным суждениям о том, кто говорит и по какому праву. Мы не заменяем старую метафизику объектов и субъектов «более проработанной» концепцией вселенной, в которой человек и вещи заговорят как поэты, мы всего лишь хотим заново поставить вопрос о том, что за речь необходимо произнести, чтобы снова собрать вместе людей и нелюдéй. Мы можем не задаваться вопросом, кто говорит, но в таком случае не стоит требовать от коллектива объединения демократическим путем.
Демократию можно представить только в том случае, если мы имеем возможность свободно пересекать упраздненную ныне границу между наукой и политикой, с тем чтобы иметь возможность подключить к дискуссии и услышать самые различные голоса, которые до сих не были слышны, хотя, как утверждалось, их возражения постоянно учитываются в ходе дебатов, а именно голоса нелюдéй. Ограничивать дискуссию людьми, их интересами, их правами, их субъективностью через несколько лет будет казаться настолько же странным, как отказывать в праве голоса рабам, беднякам или женщинам. Употреблять понятие дискуссии исключительно в отношении людей, не осознавая, что существуют миллионы тончайших механизмов, чьи голоса могут влиться в общий хор, значит в силу предубеждения лишиться той огромной власти, которую дают нам науки. Одна часть общественной жизни протекает в лабораториях, именно там ее следует искать. Если мы забудем об их существовании, то это не принесет нам ничего, кроме неудобств: из политической дискуссии было исключено множество голосов, которые могли бы быть услышаны и могли изменить таким образом состав будущего коллектива; «белые халаты» были обязаны становиться учеными и постоянно вмешиваться, пользуясь своей властью, при этом забывая обо всех их сомнениях, навыках, инструментах, чтобы всякий раз избегать дискуссий, апеллируя к неоспоримым фактам и железным законам (78). С одной стороны, люди лишались доступа к тому неисчерпаемому источнику демократии, которым являются нелю́ди; с другой – «белые халаты» лишались доступа на равных правах к неиссякаемому источнику путанных речей, который называется демократией, созданной людьми.
Мы не можем просто свести воедино ученый спор и дискуссию, а потом подключить к обсуждению нелюдéй. Понятие официального представителя позволяет нам пойти намного дальше, а именно распространить сомнение верности принципам представительства на нелюдéй. Речь не является чем-то очевидным и свойственным исключительно человеческому роду, способность к которой может лишь метафорически приписываться нелю́дям. Речь любых официальных представителей, старой науки или старой политики становится загадкой, целым спектром различных убеждений, начиная от самого радикального сомнения, назовем ли мы его артефактом, предательством, субъективностью или эгоизмом, до самого полного доверия, назовем ли мы его точностью, верностью, объективностью или единством. Таким образом мы не «политизировали природу». Репрезентативная функция этих официальных человеческих представителей остается столь же глубокой тайной, что и функция лабораторий. Человек, говорящий от лица других, – вот великая загадка наравне с загадкой человека, который говорит таким образом, что больше не произносит ни слова, но при этом с его помощью говорят сами за себя факты. Того, кто говорит: «Государство – это я», «Франция решила, что…» – понять ничуть не проще, чем того, кто в своей статье высчитывает массу Земли или число Авогадро.
На данном этапе мы не претендуем на решение проблемы официального представителя, а хотим всего лишь подчеркнуть, что существует не две проблемы: с одной стороны, научной репрезентации, с другой – репрезентации политической, а одна. Как к ней приступить, чтобы заставить говорить самих за себя тех, от имени которых мы собираемся говорить? Отказываясь от сотрудничества, политическая философия и философия науки не дали нам никакой возможности решить этот вопрос. Политическая экология впервые четко определяет проблему, которую нам предстоит решить. Она не относится непосредственно ни к политике, ни к эпистемологии, ни к их сочетанию: смещенная трижды, она лежит в совсем другой области.
Второе разделение: ассоциации людей и нелюде́й
Несложно возразить, что, как бы мы ни петляли, говорит всегда ученый. Если мы готовы поставить на одну доску научный спор и политическую дискуссию, мы не можем без подозрения относиться к неконтролируемому распространению речевой сферы на вещи. Хотя на самом-то деле ругаются именно люди. Существует асимметрия, которая непреодолима не только на практике, но и с точки зрения права. Если мы хотим сохранить особое место человека и это восхитительное определение «политического животного», которое издавна служит фундаментом общественной жизни: человек, по крайней мере гражданин мужского пола, имеет право гражданства поскольку он свободно выступает на агоре. Да кто же с этим спорит? Кто хочет вернуться к этому определению? Кто хочет уничтожить его окончательно? Мы по-прежнему находимся под влиянием этих принципов, долгой и почтенной традиции, которая расширяла определения того, что мы называем человеком, гражданством, свободой, речью и правом на гражданство. Но это еще не конец истории. Получается, что греки, изобретая одновременно Науку и демократию, завещали нам проблему, которую до сих пор никто не смог решить. Желать запрета использования новых артикуляционных аппаратов, чтобы учитывать всех нелюдéй, которых мы заставляем говорить самыми различными способами, как раз и будет означать, что мы отказываемся от почтенной традиции и добровольно становимся варварами. Потому что варвар, по определению Аристотеля, – это тот, кто не имеет понятия о представительских ассамблеях или, в силу предрассудков, ограничивает сферу их применения и значимость; тот, кто при помощи неоспоримой власти намерен обойтись без неспешной представительской работы. Меньше всего желая повторить этот опыт, мы, напротив, хотим назвать Цивилизацией• распространение речевой сферы на нелюдéй, чтобы решить наконец проблему представительства, которая делала бессильной демократию практически с момента ее изобретения из-за того, что в качестве ее противовеса была изобретена Наука•.
Мы прекрасно понимаем, в чем заключается сложность: определяя заново затруднения речи•, мы лишаем драматизма первое противопоставление между немым сущим и говорящими субъектами. Вернувшись к гражданской жизни, демобилизованные люди и нелю́ди могут сбросить свои ветхие одежды субъектов и вещей, чтобы вместе участвовать в жизни республики. Однако наш нелегкий труд далек от завершения, так как нам предстоит подвергнуть конверсии другие области этой военной индустрии с тем, чтобы получить более-менее представительных «граждан». Помимо наделения их даром речи, надо привить им способность действовать и собираться в некоторые ассоциации; в следующей главе нам предстоит найти им подходящую корпорацию.
Чтобы понять природу существ, которых нам предстоит собрать воедино, мы в любом случае должны избавиться от противопоставления двух ассамблей. Это единственный способ найти определение совместного занятия экологии и политики. Однако нам могут возразить, что это отнюдь не противоречит тому, что по-прежнему есть «вещи» и «люди» и что мы используем выражения «человек» и «не-человек»: даже если мы переключаем внимание на их общие артикуляционные аппараты, даже если мы, чтобы собрать их вместе, совмещаем процедуры, позаимствованные как из лабораторий, так и из репрезентативных ассамблей, наш взгляд по-прежнему, как в теннисном матче, перемещается от объектов к субъектам. Таким образом, у нас по-прежнему нет общего дела для наук и политики. Пускай каждый занимается своим делом и коровы будут под присмотром, если, конечно, они не заражены бешенством… Мы никогда не сможем поверить, что необходимо было объединить эти два термина, чтобы оценить получившуюся смесь, приготовленную в чудовищном плавильном котле, этого монстра, еще более диковинного, чем речь нелюдéй, представленная нами в предыдущем разделе. Так что же это за общее дело, которым занимаются профессиональные ученые и политики?
Пример с теннисным матчем не так уж и плох. Он ни в коем случае не отсылает к каким-то изолированным областям, которые потом нужно соединять при помощи высшего разума, и не предлагает «преодолеть» при помощи диалектического маневра понятия объекта и субъекта, единственная цель которых состоит в том, чтобы отправлять мяч на другую сторону и постоянно быть начеку. Мы не можем сказать о субъекте ничего такого, что не унизило бы объект, а об объектах ничего, что так или иначе не вызывало бы у субъекта чувство стыда. Если политическая экология отталкивалась бы от этих понятий, то она быстро потонула бы в бесконечной полемике, которая ее постоянно сопровождала. Если бы она попыталась «преодолеть их противоречия» при помощи чудесного синтеза, то она умерла бы еще быстрее, зараженная насилием, которое противно ее характеру (79). Иначе говоря, субъекты и объекты не принадлежат плюриверсуму, метафизику которого нам нужно заново создать: «субъект» и «объект» являются наименованиями, данными двум различным представительским ассамблеям, чтобы они никогда не могли собираться вместе в одном помещении и дать клятву в зале для игры в мяч. Не мы помещаем эти понятия в центр политической дискуссии. Они были там с самого начала. Они были созданы для того, чтобы наводить страх друг на друга. Единственный вопрос заключается в том, можем ли мы положить конец этой взаимной неприязни и построить вокруг них новую общественную жизнь.
Именно этот поворот позволит нам понять огромную разницу между гражданской войной в противопоставлении объект/субъект и сотрудничеством в связке человек/не-человек. Точно так же как определение речи в предыдущем разделе служило не для обозначения кого-то, кто говорит от имени немой вещи, а для затруднений, проблем, целого спектра возможных позиций, глубокой неуверенности, связка человек/не-человек отсылает не к разделению плюриверсума, а к неуверенности, к глубокому сомнению относительно природы действия, к целому спектру позиций по вопросу об испытаниях, которые потребуются для определения природы актора•.
Начнем с очевидности, которую подсказывает нам благоразумие и от которой мы постепенно попробуем отойти. Традиция разделяет, с одной стороны, социального актора, наделенного сознанием, даром речи, волей, замыслами, с другой – вещь, которая зависит от причинной детерминации. Даже если он зачастую обусловлен чем-то, то есть детерминирован, можно сказать, что актора характеризует прежде всего свобода, тогда как вещь всегда зависит от причинных цепочек (80). О вещи нельзя сказать, что она является актором, во всяком случае, не актором социальным, потому что в она в буквальном смысле не действует. Она причинно обусловлена.
Все эти определения вызывают паралич: ее не так-то легко понять, эту политическую экологию. Они обязывают ее слишком рано делать выбор между двумя катастрофическими решениями, каждое из которых возвращается к терминологии двух незаконных ассамблей: натурализация, с одной стороны, социализация – с другой (см. приложение к первой главе). Она либо берет в качестве модели вещь и расширяет ее на всю биосферу, включая человека, чтобы разрешить проблемы планеты, но тогда у нее в распоряжении нет людей, наделенных свободой и волей, чтобы произвести отбор и решить, что нужно и что не нужно делать; или же, наоборот, она распространяет модель воли на все, включая планету, но у нее больше нет чистых фактов, неуязвимых, нечеловеческих, которые позволили бы заставить замолчать множество голосов, выражающих определенную точку зрения и свои интересы. Не нужно думать, будто у политической экологии есть решение, соответствующее золотой середине, которое включало бы в себя немного натурализации и немного социализации, потому что в подобном случае снова потребовалось бы провести границу между фатальной неизбежностью вещей, с одной стороны, и требованиями свободы социальных акторов – с другой. Это предполагало бы, что проблема уже решена, поскольку политическая экология уже знала бы, что представляют собой социальные акторы, чего они хотят, что они могут и чем являются вещи с их причинными связками. Что за чудо необходимо, чтобы она смогла преодолеть эту дихотомию? Откуда у нее это абсолютное знание? Или от природы, или от общества. Но для того чтобы произвести это абсолютное знание, которое устанавливает границу между «вещами» и «людьми», политическая экология должна была заранее сделать выбор между натурализацией и социализацией, между экологией и политикой. Она не может заниматься одновременно и тем и другим, не впадая в противоречие. Именно это и делает ее, начиная с момента ее появления, настолько нестабильной и насильно заставляет метаться между абсолютной властью и настолько же абсолютным бессилием. Однако, с нашей точки зрения, политическая экология сможет избавиться от этого противоречия, если перестанет считать, что она занимается либо «вещами», либо «людьми», либо и теми и другими одновременно.
На наше счастье, это почтенное определение не обладает устойчивостью, которую, как может показаться, ей придает многовековая патина. Честно говоря, оно уже основательно изъедено червями и может протянуть еще немного только за счет полемики, которая возникает вокруг нее. Лишенные претензий на описание определенных сфер бытия, «объект и «субъект» сводятся к двусмысленным ролям, которые позволяют сопротивляться их чудовищной, как принято думать, встрече. Чем в действительности является субъект? Тем, что не поддается натурализации. Чем является объект? Тем, что не поддается субъективации. Как мифологические близнецы, они ведут войну и являются наследниками разделения на две бессильные ассамблеи, от которого мы уже отказались выше. Меняя Конституцию, мы узнаем, как нам избавиться от давно надоевшей дискуссии об объектах и субъектах.
Если вы настаиваете, что свободны, а вам надменно заявляют, что вы всего лишь мешок с аминокислотами и протеинами, вы, конечно же, будете отчаянно сопротивляться подобной редукции, гордо заявляя о неписаных правах субъекта. «Человек – это не вещь!» – скажете вы, стукнув кулаком по столу. И будете правы. Если вы укажете на существование неоспоримого факта, а вам надменно заявляют, что вы подтасовали этот факт, руководствуясь своими предрассудками, и речь идет «всего лишь о социальном конструировании», то вы изо всех сил будете сопротивляться этой редукции, на этот раз поддерживая автономию Науки против любого субъективного давления. «Факты – упрямая штука!» – скажете вы, опять стукнув кулаком. И вы опять будете правы. Чтобы избежать встречи с одним монстром, мы готовы защищать другого, но это двоякое сопротивление является крайним средством. Чтобы участвовать в подобных схватках и изнурять себя, постоянно стуча кулаком по столу, нужно, чтобы больше не было никакой гражданской жизни; для этого нужно согласиться сойти в Пещеру и приковать себя цепями.
Предположите теперь, что вам показали ассоциацию людей и нелюдéй, точный состав которой никто пока не знает, однако серия испытаний позволяет утверждать, что они действуют, то есть просто изменяют других акторов посредством серии простейших трансформаций, перечень которых можно составить при помощи отчета о произведенных опытах. Таково минималистское, светское и неполемическое определение того, что действует (81).
Идет ли речь об объектах? Ни в коем случае. Всякий не-человек, претендующий на существование, оказывается в окружении целой свиты «белых халатов» и множества других профессионалов, которые указывают на инструменты, ситуации, протоколы до того, как мы сможем понять, кто говорит и насколько весом его авторитет. Здесь имеются акторы, или, чтобы избавить этот термин от малейших признаков антропоморфизма, актанты, действующие агенты, интерференты. Идет ли речь о субъектах? В еще меньшей степени. Существуют лаборатории, участки, ситуации, эффекты, которые никак не могут быть сведены к серии действий, которые до сих пор были предусмотрены для субъекта. Мы снова узнаем рискованные соединения•, которые встречались нам в предыдущей главе, умножение которых, как мы уже заметили, свидетельствует о глубине экологических кризисов.
Если вместо того, чтобы реагировать на резкий выпад объекта или субъекта, вам предложат гражданский способ ассоциации людей и нелюдéй в состоянии неопределенности, то вам незачем будет возмущаться, стуча кулаком по столу, в ритме двух модальностей реализма (82). Ни один бесспорный аргумент не сведет вас до уровня вещи. Речевой механизм как раз будет весьма прозрачным и окажется задействован во вполне определенных ученых спорах. Речь идет не о том, чтобы заменить серию действий, традиционно ассоциирующуюся с субъектом, на упрощенную серию, которая подвергнет ее редукции. Напротив, предлагаемые вам ассоциации хотят добавить к первому перечню куда более длинный перечень претендентов на осуществление деятельности. Отвергает ли сам факт того, что механизм речи становится более прозрачным, обвинения в сведении его к социальному конструированию, предрассудкам, аффектам, мнениям – всему тому, что заставляет вас протестовать против власти субъективности? Ни в коем случае, так как теперь предлагаемые вам ассоциации не сводят серию действий к серии предрассудков, интересов, социальных аффектов, которые уже были зафиксированы; они всего лишь вежливо предлагают вам расширить репертуар действий при помощи перечня более длинного, чем тот, которым мы располагали до сих пор.
Мы утверждаем, что этого довольно безобидного понятия о серии простейших действий из короткого или длинного перечней вполне достаточно, чтобы смешать карты в игре между людьми и нелюдьми́ и показать им выход из вековой войны, которую с таким воодушевлением ведут объекты и субъекты, причем одни собираются под знаменами природы, а другие хотят объединиться под эгидой общества. Отчетливое преимущество понятия из более длинного или короткого перечня заключается в его банальности. Оно ведет скромную, гражданскую, общественную жизнь, вдали от канонады бесконечной холодной войны, которую ведут между собой субъект и объект, а также другой, еще более бесконечной войны, которую ведут против всех остальных претендующие на то, чтобы «выйти за пределы» противопоставления объекта и субъекта.
Теперь мы понимаем, что расширение коллектива позволяет осуществить новую презентацию людей и нелюдéй, отличную от той, что требовалась во время холодной войны между объектами и субъектами (83). Они все время играли с нулевой суммой: то, что теряли одни, немедленно приобретали другие, и наоборот. Что касается людей и нелюдéй, то они могут взаимно дополнять друг друга, не требуя уничтожить своего визави. Говоря иными словами: объекты и субъекты никогда не могут вступить в ассоциацию, а люди и нелю́ди способны это сделать. Как только мы перестанем принимать нелюдéй за объекты и позволим им влиться в коллектив в качестве новых членов, чьи контуры пока не определены и которые сомневаются, дрожат, приводят в смущение, мы не сможем, стоит это признать, присвоить им статус акторов•. Если мы будем буквально понимать термин ассоциация•, то у нас больше не будет повода отказывать им также в статусе социальных акторов. Традиция отказывала им в этом звании, присваивая его субъектам, которые действовали в мире, в определенных рамках, в окружении вещей. Но теперь мы понимаем, что этот отказ был связан с паническим страхом, что человек окажется сведен к вещи или же, наоборот, что предрассудки социальных акторов ограничат доступ к вещам. Чтобы избежать подобной реификации, равно как и социального конструктивизма, необходимо было внимательно патрулировать границу между социальными акторами и объектами: таков был сюжет всех этих фильмов ужасов, снятых в Пещере.
Эти страхи теперь беспочвенны, если то, что постучало в дверь приходит не в виде полемики об объектах с заклеенными ртами, а в виде экологии (84) сложного и растерянного не-человека, который вступает в отношения с коллективом и понемногу социализируется в лаборатории при помощи различного оборудования. Нет ничего проще, чем составлять все более длинные перечни актантов, притом что мы никогда не могли уладить отношения между объектами и социальными акторами, какие бы диалектические пируэты мы для этого ни проделывали и какими бы ловкими мы себя ни считали. Создать ассоциацию социальных акторов с другими социальными акторами – вот более реальная задача, справиться с которой нам уже никто не помешает.
Третье разделение между людьми и нечеловеческими существами: реальность и непокорность
Вся история конфликтов подтверждает одно: если оружие не оставлено при входе, никакое гражданское собрание невозможно. Наша стратегия состоит в последовательной дедраматизации, которая позволяет перековать мечи нынешних воинов на орала будущих граждан. В этой главе мы не пытаемся представить некую фундаментальную метафизику, которая позволила бы нам раз и навсегда обустроить вселенную. Напротив, она направлена против любого принятого втайне решения о подобном обустройстве, которое мы хотим сделать предметом общественного обсуждения. Мы всего лишь хотим понять, как должны быть оснащены существа, чтобы собрать жизнеспособный коллектив, вместо того чтобы разделяться на две одинаково незаконные ассамблеи, которые делают друг друга бессильными и препятствуют нормальному течению общественной жизни.
Для этой миротворческой операции мы предлагаем что-то вроде обмена любезностями, своего рода джентльменское соглашение: почему бы не признать за вашими противниками достоинства, которые вы цените выше всего? Мы убедились в том, что это было возможно в отношении терминов «речь» и «социальный актор», которые мы считали антропоморфными: не было ни одной причины закреплять их исключительно за людьми, потому что они прекрасно подходят для нелюдéй, с которыми люди ежедневно пересекаются и которые все быстрее становятся частью общего коллектива благодаря работе лабораторий. Теперь нам нужно проделать обратную операцию и выяснить, так ли это в отношении терминов, которые обычно относятся к так называемым объектам, например в отношении реальности. У этих «граждан» уже есть артикуляционный аппарат, они могут действовать и вступать в ассоциации, остается только снабдить их телом.
Разумеется, ни в коем случае нельзя сохранять ту часть понятия внешней реальности, которая ранее ассоциировалась с полемикой вокруг Пещеры. Но нам также известно, что, отказываясь от подобной полемики, мы не утрачиваем всякой связи с реальностью, какой бы незавидной участью ни грозила нам эпистемологическая полиция. Мы еще раз можем оценить разницу между работой, которую выполняет противопоставление субъект/объект, и тем, что позволяет осуществить ассоциацию людей и нелюдéй. Всякий раз когда мы используем понятие субъекта, мы пытаемся избежать чего-то отвратительного, известного как «реификация», «овеществление», «натурализация». Чтобы не дать этому монстру прийти к власти, мы готовы на все, вплоть до того, что будем настаивать на существовании субъектов, «отделенных» от природы, наделенных сознанием и волей, неотъемлемым правом на свободу, одним словом, навечно и полностью освобожденных от установленного порядка вещей. И этот монстр на самом деле угрожает субъекту, поскольку, прикрываясь природой, он вводит понятие не допускающей возражений речи, в нелепости которого мы убедились во втором разделе.
Но для чего нам понадобилась подобная нелепость? Для этого есть довольно веские причины, ведь иначе станет ясно, чем является эта не допускающая возражений речь, а именно: противоречием в определении. Если кто-то сможет пользоваться ею без угрызений совести, то только для того, чтобы бороться с чем-то еще более отталкивающим: с жестокостью политических аффектов, изменчивостью мнений, убеждений, ценностей, интересов, которые угрожают повлиять на установление фактов, упразднить объективность, уничтожить доступ к самим вещам, заменить реальный мир бесконечным круговоротом человеческих страстей. Чтобы не дать этому монстру прийти к власти, мы готовы на все, вплоть до того, чтобы настаивать на существовании вне какого бы то ни было человеческого общества непререкаемых законов, вечных и объективных, которые неподвластны возбужденной толпе и пред которыми субъекты должны смиренно пасть ниц. С каждым колебанием весов амплитуда увеличивается, на любой абсурд следует еще более абсурдный ответ с другой стороны. На протяжении столетий именно эта инфернальная диалектика постепенно делала понятие внешней реальности неосуществимым на практике. Нет ничего более простодушного, чем это понятие, и нет ничего, что было бы столь дьявольски политическим. Нет ни одной незначительной детали, которая не говорила бы о желании избавиться от власти одного монстра и ускорить приход другого, еще более ужасного, который преградит ему дорогу.
В последующих главах мы увидим, как заменить плохо обоснованную экстериорность [extériorité], упоминаемую сегодня в дискуссиях, на чаемую нами экстериоризацию [extériorisation], которую мы уже обсудили в общих чертах и характер которой определили. Пока же мы должны убедиться в том, что, собирая в коллектив социальных акторов, наделенных даром речи, мы не потеряем доступ к внешней реальности и не останемся один на один с привычными фантомами социальных наук: символами, репрезентациями, означающими и прочими эфемерными феноменами из того же теста, которые существуют лишь по контрасту с той природой, что закреплена за естественными науками. Если мы хотим, чтобы коллектив мог собраться, то достаточно отделить понятие внешней реальности от понятия непреложной необходимости, чтобы равномерно распределять власть между всеми «гражданами», являются ли они людьми или нелюдьми́. Поэтому для нас понятие внешней реальности будет ассоциироваться скорее с неожиданностью и событием, чем с «наличным бытием» [être-la] военной традиции, неоспоримым присутствием matters of fact [13].
Свобода является принципиальным отличием человека не более, чем речь; точно так же как отличительной чертой не-человека не является необходимость. О них можно сказать только то, что они вторгаются внезапно, пополняя собой перечень тех, с кем нужно считаться. Читатель должен понять, что речь не идет о каком-то удивительном, диалектическом, новом, экзотическом, барочном, восточном, глубоком решении. Нет, оно является весьма банальным, и именно в этом его достоинство. Оно является мирским, светским, обыкновенным; оно поверхностно, оно бесцветно (85). Его банальность делает его идеальным кандидатом для замены скандального противопоставления субъект/объект. Разве может быть более надежное основание здравого смысла, чем очевидность этих человеческих и нечеловеческих акторов, ассоциация которых порой удивляет? Ни больше ни меньше.
Теперь мы понимаем этот урок политической экологии, который казался нам парадоксальным, когда мы впервые получили его в первой главе: экологические и санитарные кризисы, утверждали мы, обнаруживают себя в непонимании связей между акторами и внезапно возникшей невозможности собрать их вместе. Подлинное достоинство экологического активизма заключается именно в неожиданности: когда мы вдруг замечаем, как новый актор, человек или не-человек внезапно вмешивается в некоторое действие в момент, когда мы ожидаем этого меньше всего. Но окончательная форма человеческой натуры, предрешенное устройство природы менее всего ему доступно. Политическая экология не может раз и навсегда определить свободу или необходимость; она не может с самого начала решить, что природа будет предрасположена к необходимости, а человек – к свободе. Она оказывается вовлечена в эксперимент, в ходе которого акторы пытаются соединиться друг с другом или избежать друг друга. Да, коллектив – это плавильный котел, но в нем смешиваются не природные объекты и субъекты права, а определенные в соответствии с перечнями действий актанты, ни один из которых не является исчерпывающим. Если бы на знамя политической экологии нужно было бы нанести какой-нибудь девиз, это была бы вовсе не топорная формула, в которую еще верят некоторые активисты – «Защитим природу!», а совершенно другая, куда более подходящая для многочисленных неожиданностей, с которыми она сталкивается на практике: «Никто не знает, на что способна окружающая среда…»
В ситуации неведения, когда вмешательство объекта или субъекта может вызвать возмущение, вмешательство новой ассоциации людей и нелюдéй (иных протоколов, испытаний, перечней действий) скорее приведет к облегчению, потому что эксперимент является открытым, а репертуар действий – неограниченным. Тогда как субъект считает невыносимым, что его лишает слова объект, произнося речь, не допускающую возражений, человек испытывает удовольствие, получив в свое распоряжение новых нелюдéй, которые примут участие в построении их коллективной жизни (86). Если объект считает скандальным, что его подвергают сомнению при помощи социального конструирования, то нелю́ди видят только преимущества в предоставлении ему возможности, если можно так выразиться, «причалить» к коллективу (87). Ни субъект, ни объект не смогли бы без возмущения принять изменение перечня актантов, которые нужно принимать в расчет. То, что давалось одному, необходимо было забрать у другого. Тогда как пара человек/не-человек сформирована именно для этой цели: позволить коллективу собрать как можно большее количество актантов в одном и том же мире. Игра началась. Перечень нелюдéй, принимающих в ней участие, расширяется. Перечень людей, которые займутся их приемом – также. Нам больше не нужно защищать ни субъект от реификации, ни объект – от социального конструирования. Вещи не угрожают субъектам. Социальная конструкция больше не ослабляет объект.
Читатель возразит, что всегда есть принципиальная разница между социальными акторами-людьми и социальными акторами-нелюдьми́, поскольку первых невозможно контролировать, а вторые, напротив, не подчиняются ничему, кроме жесткой причинности. Это означает, что он по-прежнему использует старую модель, которая рассматривала человеческую субъективность как то, что нарушало объективность законов, негативно влияло на качество суждений, упраздняло последовательность причин и следствий. Он все еще обращается к старому распределению ролей между необходимостью вещей и свободой субъектов, чтобы заклеймить природу и возвысить человека или чтобы восславить природу и принизить человека. В обоих случаях он продолжает пользоваться сомнительными качествами субъекта и объекта. Он ведет себя так, словно мы все еще живем в старом космосе с его радикальным отличием подлунного и надлунного миров. Которое было необходимо для того, чтобы людские страсти не мешали объектам и мы всегда могли настаивать на «строгом подчинении каузальности».
Чтобы совершенно убедить в этом читателя, необходимо, чтобы он принял всерьез определение «актор»•, введенное в предыдущей главе. Акторы определяются прежде всего через препятствия, скандалы – все то, что мешает господству, препятствует доминированию, нарушает целостность коллектива и принципы его построения. Выражаясь обыденным языком, человеческие и нечеловеческие акторы предстают прежде всего возмутителями спокойствия. Их действие можно описать при помощи понятия непокорность. Если кто-то верит, что нелюдéй можно определить через покорность по отношению к строгим законам причинности, то он просто никогда не присутствовал при продолжительной постановке эксперимента в лаборатории. Тот, кто верит, что человека можно определить через свободу, наоборот, никогда не придавал значения тому, с какой легкостью он замолкает и подчиняется, той податливости, которую он проявляет, когда его регулярно пытаются свести к роли объекта (88). С ходу распределять роли между управляемым и покорным объектом, с одной стороны, и свободным и упрямым человеком, с другой, означает отказ от исследования – на каких условиях, посредством каких опытов, на каком поприще, какими усилиями мы должны лишить их замечательной способности появляться на сцене в качестве полноценных акторов, то есть тех, кто препятствует безусловному переходу (осуществленному при помощи силы или разума), как посредников, с которыми стоит считаться, как действующих лиц, возможности которых пока неизвестны. Мы не утверждаем, что следует свести воедино роли субъектов и объектов, однако мы должны, как это уже было проделано в отношении понятий дискуссии и актора, заменить очевидное распределение ролей спектром неопределенностей, который варьируется от необходимости до свободы. Достаточно признать, что на старом поприще природы последствия всегда слегка опережают причины, а на новом то, что приводит в действие, остается под вопросом, так как это необходимо для переведения дискуссии в мирное русло и наделения новых ассоциаций людей и нелюдéй тем минимумом реальности, который требуется, чтобы собрать их вместе.
Более или менее внятно артикулированный коллектив
Распределив компетенции речи, способности к ассоциации и доступ к реальности между людьми и нелюдьми́, мы положили конец антропоморфному разделению объект/субъект, которое обрекало все возможные существа на войну за обладание общим миром. Мы не предлагали альтернативной версии метафизики, более щедрой, более всеохватывающей, однако старались не рассматривать метафизику природы• в качестве единственно возможного принципа политической организации. Мы добились прогресса при созыве коллектива, потому что знаем, через какой обряд должны отныне проходить данные субъекты и данные объекты, чтобы сложить оружие и заново открыть в себе способность объединяться в коллектив. Заново наделяя их даром речи, способностью к ассоциации и делая их непокорными, чтобы они смогли найти общий язык.
При этом нет никакой гарантии, что эта ассамблея пройдет удачно и они соберутся на чем-то вроде экуменического Вудстока во славу Геи. У нас нет ни малейшей идеи о последствиях подобного объединения и даже начала подобного рода объединительной работы. Мы знаем: теперь снова стало возможным то, что было запрещено из-за разделения на две палаты. Мы не строим иллюзий: политическая экология не обернется буколикой или сельской идиллией, не станет проще, симпатичнее, чем во времена старой двухпалатной политической системы. Она станет одновременно проще и сложнее: проще, потому что больше не будет существовать в условиях постоянной угрозы двойного ступора, спровоцированного Наукой или властью; гораздо сложнее – по той же самой причине: не впадая в ступор, она снова начнет постепенно конструировать общий мир. То есть она будет заниматься политикой, тем родом деятельности, от которого мы немного отвыкли, поскольку наша вера в Науку позволяла нам бесконечно откладывать оплату счетов и полагать, что общий мир давно построен при покровительстве природы.
Как нам обозначить эти ассоциации людей и нелюде́й в рамках коллектива, находящегося в стадии формирования? Мы до сих пор использовали довольно неудачный термин, ведь никому не придет в голову обращаться к черной дыре, слону, уравнению, авиамотору, торжественно приветствуя его: «Гражданин!» Нам необходимо новое выражение, от которого не отдает Старым порядком, в то же время способное объединить в себе затруднения речи, неопределенность действий, а также различные градации реальности, при помощи которых теперь определяется жизнь гражданского общества. Для этого мы выбрали термин пропозиции•: мы хотим сказать, что река, стадо слонов, климат, Эль Ниньо, мэр, коммуна, парк делают коллективу некоторые предложения [proposition]. У этого слова есть преимущество, так как оно включает в себя смысл, изложенный в предыдущих четырех разделах: «У меня есть для вас предложение [proposition]» означает неопределенность, а не высокомерие, мирное предложение, которое положит конец войне; оно относится к области языка, который стал общим для людей и нелюдéй; оно дает понять, что речь идет о новой и непредвиденной ассоциации, которая будет усложняться и расширяться; наконец, хотя оно пришло из лингвистики, оно совершенно не ограничено языком и может означать непокорность при «определении позиций» [prise de position], которые мы занимаем и не желаем оставлять, не придавая при этом внешней реальности застывшую форму неоспоримых фактов. Мы не утверждаем, что плюриверсум состоит из пропозиций, а то, что, начав свою гражданскую работу по созыву коллектива, Республика будет принимать во внимание только пропозиции, а не вышеуказанные субъекты и объекты.
Повторю еще раз: речь идет не об онтологии, ни даже о метафизике, а только о политической экологии (89). Употребление слова «пропозиция» просто позволяет нам не использовать старую систему высказываний [énoncés], ведь именно используя ее, люди говорили о внешнем мире, отделенном от них пропастью, для преодоления которой был построен узенький мостик референции, хотя он никогда полностью не удовлетворял этой задаче. Мы не ожидаем, что термин «пропозиция» позволит нам сразу прийти к какому-то невероятному компромиссу относительно философии альтернативного знания. Мы просто хотим помешать философии Науки под шумок выполнить половину работы философии политической. Для того чтобы логос снова стал центром Града, не должно быть с одной стороны языка, с другой – мира, а между ними референции, устанавливающей более или менее точное соответствие между двумя несопоставимыми явлениями. Это безобидное с виду решение просто перенесет в область языка миф о Пещере с его разделением на две несовместимые вселенные. Для политической экологии нет одного мира и множества языков, точно так же как нет одной природы и множества культур: есть пропозиции, которые настойчиво желают стать частью одного и того же коллектива в соответствии с процедурой, которая станет предметом обсуждения в третьей главе.
Очень простой пример позволит нам проиллюстрировать этот важнейший момент, который необходим для того, чтобы сделать выводы, хотя мы и не можем развивать его в деталях (90). Предположим, что вас приглашают в винный погреб в Бургундии на дегустацию, которая называется «вертикальной» [longitudinale], так как она предлагает одно и то же вино разных лет (в отличие от «горизонтальной» [transversale], которая предлагает разные вина одного года). Перед тем как алкогольные пары́ лишат вас способности рассуждать здраво, вы в течение одного или двух часов, благодаря безостановочной смене вин, обретете чувствительность к различиям, о которых накануне не имели ни малейшего представления. Погреб, расстановка бокалов на бочке, надписи на этикетках, наставления хозяина погреба, составление некоего отчета об эксперименте – все это формирует определенный инструмент, который позволяет вам относительно быстро приспособить ваши нос и нёбо для того, чтобы отмечать все более тонкие различия, которые становятся для вас все более и более очевидными. Предположим, что затем вас попросят пройти в лабораторию и вы обнаружите в комнате, облицованной белой плиткой, сложный набор инструментов, позволяющий, в чем вас примутся уверять, установить связь между отличиями, которые вы смогли почувствовать при помощи языка, с другими отличиями, проиллюстрированными картинками или кривыми на миллиметровой бумаге либо на экране компьютера. Предположим теперь (и эта гипотеза будет куда более экстравагантной, чем две предыдущие), что мы больше не используем для сравнения этих двух экскурсий философию знания, которую мы выучили за партами, установленными в Пещере, и что мы больше не пытаемся доказать, что первый опыт был субъективным, потому что он воздействует на наш ум посредством вторичных качеств•, а второй – объективным, поскольку, с точки зрения «белых халатов», только он позволяет нам открывать первичные качества•. Как мы можем квалифицировать эту двойную дегустацию в терминах мирного времени?
Благодаря бондарю, благодаря газовому хроматографу мы стали чувствительными к различиям, которые ранее не фиксировались нашим нёбом или в виде записи на логарифмической бумаге. Мы сделали намного больше, чем просто установили связь между ощущениями, словами, расчетами с некоторой вещью из внешнего мира, которая уже существовала; мы приобрели способность, умножая количество инструментов, фиксировать новые отличия. При производстве этих различий и выявлении все новых нюансов с нами нужно считаться, с нами и нашим обонянием, с нами и нашими инструментами. Чем больше у нас приспособлений, чем больше времени мы проводим в погребе или лаборатории, чем искушеннее наше нёбо, чем изобретательнее хозяин погреба, чем чувствительнее хроматограф, тем больше становится реальностей. В соответствии со старой традицией, мы должны были отдать должное реализму, так как имеем доступ к реальности, и делать одолжение единственно возможной природе объекта, вечно недоступного. Однако из нашего небольшого примера хорошо видно, что степень реальности возрастает пропорционально усилиям, которые мы потратили на то, чтобы повысить чувствительность. Чем больше становится инструментов, тем более изощренными становятся устройства и тем шире наши возможности фиксировать состояние различных миров. Искусственные приспособления и реальность окажутся в списке достоинств, тогда как на другой стороне мы обнаружим нечто принципиально отличное от нашей работы, а именно – нечувствительность. Таким образом, различие пролегает не между речью и реальностью, которые разделяет хрупкая бездна референции, как в старом и довольно сомнительном споре об истинных и ложных высказываниях, а между пропозициями, способными создать устройства, чувствительные к самым незначительным нюансам, и теми, чья чувствительность притуплена и не способна фиксировать даже значительные отличия.
Язык не оторван от плюриверсума, это одно из материальных устройств, при помощи которых мы «загружаем» плюриверсумы в коллектив. Только в условиях беспощадной гражданской войны язык мог быть отделен от того, о чем он говорит, чтобы гражданские вроде нас забыли об очевидной вещи, продиктованной здравым смыслом: мы постоянно работаем над соответствием вещей тому, что мы о них говорим. Если мы прекратим эту работу, они больше ничего не расскажут; но когда они говорят, то делают это самостоятельно, в противном случае, какого черта мы день и ночь работаем, чтобы добиться от них хоть слова? (91)
Чтобы обозначить то, что станет будущим коллективом, коль скоро мы рассматриваем его как ассоциацию людей и нелюдéй, определенных длинными перечнями элементарных действий, именуемыми пропозициями, мы будем использовать замечательное слово артикуляция•. Главное достоинство этого термина в том, что он никогда не использовался в теперь уже неактуальной полемике о субъекте и объекте. Другое его достоинство состоит в том, что он позволяет нам лучше использовать артикуляционные аппараты, которые мы описали в первом разделе, им также можно воспользоваться для обозначения навязчивой реальности материальных предметов. Мы можем сказать о коллективе, что он более или менее артикулирован, во всех смыслах этого слова, то есть что он больше «говорит», что он изысканнее, находчивее, что он включает в себя больше предметов, дискретных единиц или активных участников, что он совмещает их, пользуясь большей свободой, что он может быть собран разными способами, что он использует широкий репертуар действий. О другом коллективе мы скажем, что он практически безмолвен, что в нем меньше активных участников, меньше свободы, меньше самостоятельных предметов, что он менее гибок. Мы можем сказать о двухпалатном коллективе, который состоит из свободных субъектов и бесспорных природ, что он совершенно безмолвен, потому что цель противопоставления объект/субъект – заставить его замолчать, упразднить дискуссии, затруднить артикуляцию, построение, ввести общественную жизнь в ступор, заменить постепенное построение общего мира на молниеносный переход к бесспорному – факты или насилие, right or might.
Мы же, наоборот, утверждаем, что новые процедуры, связанные с политической экологией, направлены на то, чтобы всеми средствами осуществлять артикуляцию. Кто собирается, кто говорит, кто принимает решения в области политической экологии? Теперь мы знаем ответ: это не природа и не люди, а внятно артикулированные существа, ассоциации людей и нелюдéй, правильно сформированные пропозиции. Нам, конечно же, потребуется в пятой главе объяснить, чем отличается внятная артикуляция от невнятной, но теперь мы, по крайней мере, имеем представление об общей задаче.
Остается последнее приспособление, которым мы должны снабдить членов вновь созданного коллектива. Артикулированные пропозиции должны иметь скорее привычки•, а не сущности• (92). Если коллектив отмечает вторжение сущностей, очертания которых определены и бесспорны – природных каузальностей и человеческих интересов, – переговоры ни к чему не приведут, потому что нам не стоит ожидать от пропозиций ничего, кроме войны до полного изнеможения противника. Все изменится, если у пропозиций появятся привычки, имеющие то же значение, что и сущности, но которые можно пересматривать по ходу действия, если игра действительно стоит свеч. Рассказывают, например, что этологи, специализирующиеся на жабах, превратили их повадки в неоспоримые сущности, а это заставило автодорожные компании прорыть дорогостоящие «тоннели для жаб», чтобы они могли плодиться непосредственно в местах своего рождения. Вопреки толкованиям Фрейда, жабы не собирались, подобно людям, возвращаться в «неорганическое состояние» [mare primitive]. Стало понятно, что на самом деле жабы, обнаружив пруд у подножия холма, до такой степени верят, что вернулись к своей колыбели, что тут же откладывают в них свои бесчисленные яйца и больше не пользуются дорогими и опасными тоннелями. После проведения этого эксперимента расположение кладки яиц превратилось из сущности в привычку: то, что раньше не обсуждалось, стало предметом обсуждения; лобовой конфликт земноводных с автодорогами принял другую форму… Как мы увидим в дальнейшем, построение общего мира на основе опыта и обсуждения снова становится возможным только после того, как его обитатели соглашаются перейти от спора о сущностях• к вопросу о совместимости привычек.
Заключение: восстановление гражданского мира
«Неодушевленные предметы, так есть ли у вас душа?» Возможно, нет, но определенная политика есть точно. Секуляризируя, дедраматизируя, прививая цивилизацию, демобилизуя, мы заменили определенности относительно разделения между различными существами на три неопределенности. Первая относится к затруднениям речи: кто говорит? Вторая – к возможности ассоциации: кто действует? И, наконец, третья – к непокорности событий: кто может? Вот несколько долгожданных банальностей, которые выталкивают нас из темных глубин, с помощью которых теоретики политической экологии полагали возможным «примирить человека с окружающей средой». В качестве отправной точки они рассматривали разделение на объекты и субъекты, которое не описывало существа, обитающие в плюриверсуме, а было призвано обходить политику стороной. С таким же успехом можно пахать на танках. Обвиняя другие культуры в анимизме, эпистемологическая полиция тщательно скрывала экстравагантность своего собственного инанимизма [inanimisme]: настолько глобальной политизации плюриверсума, что он всегда приводил к «унанимизму» без всяких обсуждений. Врачуя «нарциссические травмы», которые научные революции наносили несчастным людям, открывавшим вместе с Галилеем, с Дарвином, а затем вместе с Фрейдом, что нет никакой связи между миром и человечеством, между космологией и антропологией, она еще тщательнее скрывала внезапное появление все более радикального антропоцентризма, который давал новой группе ученых право регулировать непреложный порядок Науки (93). Наслаждаясь отчаянием, возникавшим от безразличия мира к нашим страстям, (политическая) эпистемология поместила общественную жизнь в эту империю страстей, скромно оставляя за собой единственную империю упрямых фактов. Теперь мы знаем, как снова вернуться к демократической политике взамен старой империалистической. Таблица 2.1 позволит нам подвести итоги и описать ту противоречивую роль, которая ранее отводилась объектам в состоянии войны, а также самые обычные задачи, которые мы поставим перед артикулированными пропозициями, как только мир будет восстановлен.
Таблица 2.1. Политическая роль объектов сильно отличается от роли артикулированных пропозиций: первые делают общественную жизнь невозможной, тогда как вторые ее вполне допускают
Созыв невозможен из-за метафизики природы
Созыв возможен благодаря экспериментальной метафизике
Теперь мы до конца проделали путь, намеченный в начале этой главы. Ничего еще не решено, однако угроза чудовищного упрощения общественной жизнь теперь миновала. Мы произвели секуляризацию коллектива, если под этим понимается прощание с невозможной мечтой о высшей трансценденции, которая сможет чудесным образом сделать общественную жизнь проще. Мы также в общих чертах описали экономику мирного времени, которая отныне может прийти на смену экономике войны, до сих пор известной благодаря батальонам объектов, целившихся в субъекты, и субъектам, роящим траншеи для защиты от объектов.
Вместо грандиозной битвы между наукой и политикой, которые пытались поделить между собой различные сферы сущего или защищались от захватнических планов, которые они строили друг против друга, мы просто предложили им вместе работать над артикуляцией коллектива, определяемого как постоянно расширяющийся перечень ассоциаций между человеческими и нечеловеческими акторами. Взяв на себя эту ответственность, мы определили, где взять материал для коллектива, которым занимается политическая экология. Таким образом, сочетание этих слов имеет смысл. В коллективе сочетается столько всевозможных существ, голосов, акторов, что ими всеми не может заниматься исключительно экология или политика. Первая стала бы заниматься натурализацией всех этих существ, а вторая – их социализацией. Отказываясь сводить политику к людям, субъектам, свободе, а Науку – к объектам, природе, необходимости, мы обнаружили область совместной работы политики и наук: перемешать существа в коллективе, чтобы артикулировать их и наделить даром речи.
Нет ничего более политического, чем подобная работа, но и ничего более научного, а самое главное – нет ничего более обыденного. Если мы обратимся к самым классическим, самым банальным представлениям о науках как о наиболее канонической и почтенной разновидности политики, то они всегда будут соответствовать задаче «наделения даром речи» артикулированных существ. Мы не должны требовать от здравого смысла ничего, кроме выполнения этих задач, а также отказа от предоставления ученым права говорить от имени объектов, а политикам – от имени субъектов. Помимо этого «небольшого» изменения, мы теперь можем считать вполне очевидным, что коллектив состоит из существ, которые наделены достаточным количеством общих черт, чтобы иметь отношение к политической экологии, которая никогда не заставит их без обсуждения становиться или природными объектами, или социальными субъектами.
Мы не требуем от читателя отказаться от любых попыток упорядочивания, иерархизации или классификации и бросить все в общий котел коллектива. Мы просим его всего лишь не путать это законное желание порядка и приведения в норму с онтологическим разделением объекта и субъекта, которое, как мы полагаем, не только не позволяет привести все в порядок, но и вносит чудовищную путаницу. Пускай читатель не беспокоится, он найдет в следующих главах столь дорогие ему различия, но в конце процесса, а не в начале. Как только коллективные институты придадут устойчивость этому распределению ролей и функций, мы сможем снова узнать субъекты и объекты, экстериорность, людей, космос. Но не в начале, не раз и навсегда, не в нарушение всех процедур, не как варвары вне всяких ассамблей, то есть как существа модерна без огня и совести. Да, мы, наконец, вышли из пещерного века, войны, холодной войны, естественного состояния, войны всех против всех, «каждого против всех». Способ внятно артикулировать пропозиции или то, что наши предки называли логосом, снова можно найти в центре агоры.
3. Новое разделение властей
Теперь мы начинаем понимать, как отделить зерна от плевел, анализируя понятие природы. Экстериорность природы как таковая не может угрожать общественной жизни, которая живет исключительно благодаря ей: коллектив в состоянии экспансии подпитывается всем ее существом, ее сенсорами, ее лабораториями, различными отраслями ее промышленности, ее ноу-хау, с помощью которых экстериорность становится щедрой и доступной. Нет людей без нелюдéй. Единство «той самой» природы само по себе также ничем не угрожает политике: нет ничего необычного в том, что общественная жизнь пытается построить мир, общий для нас всех, и что в конечном итоге она приходит к каким-то общим формам. Нет, если нам следует отказаться от сохранения природы, то совсем не потому, что она реальна или едина. Это необходимо сделать исключительно потому, что она признает законными обходные маневры, которые используются для того, чтобы раз и навсегда учредить это единство, вне процедур, вне дискуссий, вне коллектива, а затем при помощи вмешательства извне прервать, именем природы, последовательное построение общего мира. Именно отсутствие того, что называется правовым состоянием, которое мы распространяем на науки, мешает использованию природы в области политики. Поэтому единственным вопросом для нас становится следующий: как, соблюдая процессуальные нормы•, произвести реальность, экстериорность и единство природы.
Мы также поняли, почему (политическая) эпистемология не может считаться корректной процедурой, несмотря на все ее высокоморальные притязания. Вместо соблюдения этих процедур она совершает страшную ошибку, потому что из утверждения «Существует внешняя реальность» она делает вывод «Так что – закройте рот!»… Тот факт, что мы придавали этой нелепой идее высокий смысл, через несколько десятилетий будет казаться противоестественной антропологической причудой. Из того, что существует внешняя реальность, или, скорее, реальности, подлежащие интернализации и унификации, мы как раз делаем вывод, что дискуссию нужно возобновить и ее придется вести достаточно долго. Ничто не должно прерывать эти процедуры ассимиляции до того, как будет найдено решение, как сделать эти новые пропозиции полноценными обитателями расширяющегося коллектива. Это требование здравого смысла не знает никаких исключений. Разве что миф о Пещере, с его неправдоподобным разделением на две палаты, одна из которых болтает, не обладая знанием, а вторая знает все, но ничего не говорит, причем их связывает узкий коридор, по которому, за счет удивительной двоякой трансформации, путешествуют умы достаточно ученые для того, чтобы заставить заговорить вещи, и достаточно искушенные в политике, чтобы заставить замолчать людей. Только этот миф мог сделать разделение на две палаты главным побуждающим мотивом интеллектуальных драм. Разумеется, с точки зрения эпистемологической полиции, отказ от этого разрыва повлечет за собой страшную катастрофу, потому что он помешает Науке вырваться из социального, чтобы получить доступ к природе, а затем снова спуститься из мира Идей, чтобы спасти общества от упадка. Но делать из этого трагедию, вокруг которой кипит столько страстей, могут только те, кто хочет снова поместить коллектив в Пещеру. Кто виноват в том, что Науке угрожает всевозрастающая иррациональность? Те, кто изобрел эту невероятную Конституцию, работу которой может нарушить малейшая песчинка; однако не в эпоху, которая различными способами продемонстрировала ограниченность этой непродуманной системы, и точно не нам, ведь мы указали на ее неустранимый недостаток.
В конце концов, предыдущие главы позволили нам понять, до какой степени официальные теории политической экологии заблуждались в своем описании процедур. Они унаследовали главный недостаток старой Конституции: чтобы положить конец многообразию политических страстей, они требовали сразу определить наш общий мир под эгидой природы, выступающей в качестве объекта исследования для ученых, невидимую работу которых поддерживала Naturpolitik. Как правило, политическая экология, по крайней мере в теории, пытается не изменить философию политики или эпистемологию, а предоставить природе власть над делами человеческими, которой ее не наделяли даже самые надменные из ее прежних ревнителей. Неумолимая природа, известная науке, определяет порядок значимости различных существ, и этот порядок исключает любую дискуссию между людьми по поводу того, что важно делать и что важно защищать. Мы довольствуемся тем, что покрываем яблочно-зеленой краской невзрачность первичных качеств. Ни Платон, ни Декарт, ни Маркс не решились бы столь резко оборвать все свойственные общественной жизни дискуссии, ссылаясь на единственно возможную точку зрения, продиктованную природой, более того – вещами в себе, которые теперь имеют не только каузальные, но также моральные и политические обязательства. Этим достижением модернизма мы обязаны теоретикам политической экологии, особенно тем из них, кто считает, что они осуществили «радикальный» разрыв с «западными представлениями», с «капитализмом», с «антропоцентризмом», ведь именно они и довели их до логического завершения!
К счастью, экологические кризисы, в чем мы могли убедиться, обновляют политическую философию гораздо глубже, нежели их теоретики, которые ни за что не хотят лишаться преимущества, предоставляемого борьбой за сохранение природы. То, что можно было бы назвать «правовым состоянием природы», которое нам предстоит открыть, потребует других жертв и проволочек. Старая Конституция претендовала на то, чтобы раз и навсегда объединить мир, вне каких бы то ни было процедур и без всяких дискуссий, за счет метафизики природы•, определявшей первичные качества и списывавшей вторичные качества на различия в убеждениях. Мы понимаем, как трудно лишать себя преимуществ, предоставляемых подобным разделением на спорное и бесспорное. Конституция, которую мы хотели бы написать, напротив, утверждает, что единственный способ построить общий мир и таким образом в дальнейшем избежать конфликта интересов и различий в убеждениях состоит именно в том, чтобы не решать раз и навсегда и вне процедур, что является общим, а что – частным. Поэтому нравственный вопрос об общем благе• был отделен от физического и эпистемологического вопроса об общем мире•, тогда как мы, напротив, утверждаем, что их нужно объединить на новых основаниях, построив пригодный для жизни новый мир, лучший из возможных миров, космос•.
Хотя каждая из двух Конституций считает принципы другой возмутительными, они не противостоят друг другу как нечто рациональное и иррациональное, потому что каждая из них претендует на то, чтобы говорить от имени разума, и по-своему определяет неразумие [déraison]. Старая форма организации предполагает, что разум может использовать свой потенциал только при условии строгого разделения между фактами и ценностями, между общим миром и общим благом. Стоит нам их смешать, утверждает она, как мы оказываемся безоружными перед иррациональным, так как не в состоянии покончить с неопределенным множеством мнений и лишены возможности апеллировать к неоспоримой точке зрения, которая точкой зрения не является. Новая же, наоборот, смешивает Науку с науками и ад социального с политикой, то есть отказывается считать своей единственной целью общее благо и общий мир, ценности и факты, возлагая на себя тяжелую ответственность и прерывая раньше времени построение коллектива, исторический эксперимент разума (см. пятую главу). Как мы видим, сложно придумать более резкое противопоставление: тогда как Старый порядок нуждается в противопоставлении рационального и иррационального ради конечного триумфа разума, мы хотим достичь той же цели, воздерживаясь от проведения границы между рациональным и иррациональным, этого наркотика, который ввел политику в ступор. Вместе с тем мы признаем существование иррационального: ведь вся старая Конституция отмечена этой печатью неразумия (94).
Чтобы понять, насколько отличаются два режима, нам нужно войти в самую суть дела, обратившись к наиболее сложным главам этой книги. Коллектив не существует в «единственном числе», как мы знаем, коллективов может быть «сколько угодно, только не два». С помощью этого термина мы обозначаем некоторую совокупность процедур для изучения и постепенного собирания в единое целое, существующее в потенциале. Разница между этим коллективом, который только предстоит сформировать, и смутными понятиями о сверхорганизме, «единении человека с природой», «преодолении объекта и субъекта», которые столь широко используются в различных философиях природы, заключается в нашей способности не торопить процесс объединения. Нас не устраивает дуализм, но монизм нам также не подходит. Так как в конце второй главы мы всего лишь подошли к огромному плавильному котлу: всем этим ассоциациям людей и нелюдéй, формирующим пропозиции•, артикулировать которые должен новый коллектив. Остается описать, каким образом должны проходить дебаты, необходимые для выбора пропозиций, которые никто и ничто, включая природу, не сможет объединить заранее. Собрав коллектив вопреки мнимым различиям, закрепленным в старой Конституции, нам теперь остается снова разделить его, установив «подлинные» различия, которые позволят избежать упрощения процедуры, делавшего нелегитимным большинство решений, принятых в условиях старого разделения властей• между природой и обществом.
Определенные недостатки понятий факта и ценности
Искушение провести различие между фактами и ценностями объясняется его видимой непритязательностью, его полной безобидностью: ученые устанавливают факты и только факты, предоставляя политикам и моралистам играть куда более сомнительную роль, устанавливая ценности. Кто не выдохнет с облегчением от подобной формулировки? Постель еще не остыла, достаточно нырнуть в нее и забыться праведным сном. Но именно от этого догматического сна мы должны пробудиться. Почему мы думаем, что рассуждать о том, чего стоят вещи, сложнее, чем говорить о том, чем они являются?
Чтобы понять, что придет на смену различию фактов и ценностей, проанализируем обычное употребление этих понятий, составив своего рода перечень обязательств, куда будут включены основные требования, которым должны отвечать возможные преемники.
Что сейчас не так с употреблением слова «факт»? Оно заставляет нас забыть о работе, необходимой для установления фактических данных, устойчивых и упрямых. Противопоставляя факты и ценности, мы обязаны ограничивать «факт» финальной стадией длительного процесса по его установлению. Если факты сфабрикованы, или, как принято говорить, «факты произведены», они проходят через различные стадии, которые историки, социологи, психологи и экономисты вынуждены описывать и классифицировать. Помимо фактов доказанных, мы теперь имеем в своем распоряжении их полный набор: они могут быть сомнительными, горячими, холодными, легкими, тяжелыми, твердыми, мягкими. Их главной отличительной чертой является то, что они больше не заслоняют исследователей, которые их производят, лаборатории, необходимые для подобного производства, инструменты, с помощью которых осуществляется их подтверждение, полемику, зачастую довольно острую, которая разворачивается вокруг них, – одним словом, все то, что позволяет артикулировать пропозиции. Поэтому, называя «фактом» без всяких оговорок одну из этих зон, получившихся в результате проведения границы межу фактами и ценностями, мы напускаем туман на разнообразнейшую деятельность ученых и заставляем факты, в независимости от стадии их производства, застыть в неподвижности, как если бы они уже обрели свою окончательную форму. Эта заморозка обязывает нас обозначать одними и теми же словами великое множество набросков, прототипов, попыток, отбраковок, отторжений в отсутствие термина, который позволил бы нам расширить их диапазон, как если бы «машинами» называли следующие друг за другом этапы конвейерной сборки, не замечая, что этим словом мы обозначаем то отдельные двери, то шасси, то километры электропроводки, то фары. Какой бы термин мы впоследствии ни выбрали для замены «факта», отметим сразу, что нам потребуется вытащить наружу процесс производства, который только и позволяет описать последовательность его этапов и различия в качестве или отделке (95).
У понятия «факт» есть и другой, куда более известный недостаток: оно не позволяет сделать акцент на теоретической работе, необходимой для сведения данных в некоторую систему. Противопоставление фактов и ценностей нечаянно задевает другое различие с длительной эпистемологической историей, а именно теорию фактов, которые по контрасту называют «необработанными» [brutes]. Философия науки, как мы знаем, никогда не могла выступить единым фронтом в этом вопросе. Уважение к matters of fact всегда лежало в основе деонтологии ученых, но от этого не становится менее верной идея о том, что изолированный факт лишен смысла до тех пор, пока мы не выясним, примером какой теории он является, демонстрацией, прототипом или выражением чего он служит (96). В истории науки можно найти как насмешки над авторами пустых теорий, опровергаемых простейшими наблюдениями, так и шуточки по поводу «коллекционеров почтовых марок», жадно собирающих массу разрозненных данных, которую могла бы заменить одна проницательная догадка. Работы по отделке, редактированию, упорядочению, разработке, определению необходимы, если мы хотим, чтобы необработанные, говорящие, приглушенные факты могли жестко противостоять болтунам, которые о них разглагольствуют. Однако в этом случае мы никак не решаемся сделать выбор между позитивизмом и рационализмом, так что едва ли слово «факт» можно считать адекватным описанием столь различных задач. Поэтому добавим в наш перечень обязательств пункт о том, что термин, который нам требуется в качестве замены слова «факт», помимо описания этапов своего производства должен подчеркивать важнейшую роль редактирования, т. е. всего того, что можно было бы описать словом «теория» или «парадигма» (97).
Перейдем по другую сторону границы: понятие «ценности» также не лишено недостатков. Его слабость заключается прежде всего в зависимости от предварительного определения «фактов», необходимого, чтобы очертить ее территорию. Ценности всегда появляются слишком поздно, когда их ставят, если можно так выразиться, перед свершившимся фактом. Если для приближения того, что должно быть, ценности требуют отбросить то, что есть, им всегда можно возразить, что упрямство фактов не позволяет ничего изменить: «Факты налицо, хотите вы этого или нет». Невозможно установить границы второй области до стабилизации первой: области фактов, очевидностей, неоспоримых данных Науки. После этого, и только после этого, ценности смогут обозначить свои приоритеты и пожелания. Как только клонирование овец или мышей становится фактом, можно, к примеру, поставить «серьезный этический вопрос», должны ли мы клонировать млекопитающих, включая людей. Формулируя подобным образом историю составления этих чертежей, мы хорошо понимаем, что ценности колеблются вместе с изменением фактов. Поэтому нет знака равенства между тем, кто может определить неумолимую и бесспорную реальность или то, что действительно «есть» (общий мир), и тем, кто наперекор стихиям отстаивает неумолимую и бесспорную необходимость того, что должно быть (общее благо).
Если они оставят эту уязвимую позицию, которая обязывает их всегда находиться по ту сторону изменчивой границы фактов, ценности не смогут утвердиться в свой собственной сфере и выстроить иерархию существ или расставить их в порядке важности. В таком случае им придется выносить суждение в отсутствие фактов, не используя весь тот богатый материал, благодаря которому факты определяются, получают устойчивость и становятся предметом суждений. Скромность говорящих «только о фактах» не доступна тем, кто должен судить о ценностях. Наблюдая, с каким смирением ученые определяют «всего лишь реальность, состоящую из фактов, не претендуя судить о том, что желательно с нравственной точки зрения», моралисты полагают, что им остается самая важная, самая трудная и благородная часть работы. Они принимают за чистую монету все эти личины скромного помощника кочегара, ревнивого служителя, беспристрастного инженера, которые надевают те, кто ограничивается фактами и оставляет им почетную роль учителей и распорядителей. «Наука предлагает, мораль располагает», – говорят хором, надувая щеки, моралисты и ученые, одни из ложной скромности, другие – от ничем не обоснованной гордыни. Однако, ограничиваясь фактами, ученые оставляют по свою сторону границы различные формы, которые может принимать мир и которые как раз позволяют составить о них мнение и судить одновременно о необходимости и возможности, о том, что есть, и о том, что должно быть. Что же тогда остается моралистам? Апелляция к универсальным и всеобщим ценностям, поиску основ, этическим принципам, соблюдению процедур и прочим веским доводам, не влияющим напрямую на конкретные факты, которые продолжают подчиняться тем, кто говорит «только» о них (98).
Пленники Пещеры по-прежнему могут судить только о том, что «говорят». Принимая дихотомию факт/ценность, моралисты согласны искать источник своей легитимности вне фактов, в совсем другой области, а именно в универсальных или формальных основаниях этики. Соглашаясь на это, они рискуют лишиться доступа ко всякой «объективной морали», тогда как нам как раз нужно связать вопрос общего мира с вопросом общего блага. Как мы можем распределить пропозиции в порядке важности, что и является назначением всякой ценности, если мы не способны понять интимные привычки• всех этих пропозиций? Не забудем прописать в перечне обязательств концепт, который заменит ценность, функцию, позволяющую моралистам вникнуть в нюансы споров о природных состояниях, вместо того чтобы отдаляться от них в процессе поиска оснований.
Эта осведомленность будет тем более полезной, что в настоящий момент нам достаточно определить что-то вроде фактического положения дел, чтобы потом к этому не возвращаться при условии, что данное определение относится к сфере реального. Поэтому у нас всегда будет сильное искушение включить в состав фактического мира одну из ценностей, которую мы намерены поощрять. Постепенно, в результате этих манипуляций, реальность как она есть окажется насыщенной тем, что мы хотели бы в ней увидеть. Общий мир и общее благо оказываются незаметно совмещены, официально оставаясь разделенными (не пользуюсь при этом преимуществами общих организаций, которые мы намереваемся открыть). Этот парадокс больше не должен нас удивлять: и так не особо полезное для решения нашего вопроса, различие между фактами и ценностями станет еще менее понятным, если у него не будет возможности отделить то, что есть, от того, что должно быть. Чем больше мы разделяем факты и ценности, тем скорее мы получаем непригодный для жизни общий мир, то, что можно было бы назвать какосмосом [kakosmos]. Поэтому концепт, заменивший понятие «ценности», должен предусматривать механизм контроля, позволяющего пресечь мелкое жульничество, с помощью которого понятие возможного смешивается с понятием желательного. Не забудем же занести это четвертое требование в наш перечень обязательств.
Постепенно изучая территорию по обе стороны границы, проведенной при помощи столь высоко чтимого разделения на факты и ценности, мы начинаем понимать, что понятие факта не дает точного описания производства знаний (оно опускает как промежуточные этапы, так и формирование теорий), а понятие ценности не помогает нам лучше понять мораль (она начинает действовать, когда факты уже определены, и не находит ничего лучше, как взывать к принципам сколь универсальным, столь и бесполезным). Так стоит ли сохранять эту дихотомию вопреки всем недостаткам или отказаться от нее, рискуя навсегда лишиться преимуществ, которые нам предоставляет благоразумие? Чтобы принять разумное решение, необходимо понимать, что различие фактов и ценностей может принести несомненную пользу.
Именно как принцип разделения идеологии и Науки она все еще имеет достаточное влияние, и в этом как будто заключается ее основная добродетель. На самом же деле те, кто ищет в биологических, экономических, исторических и даже физических дисциплинах следы идеологических влияний, заставляющие усомниться в их приверженности фактам, больше всех эксплуатируют разделение факты/ценности, потому что нуждаются в нем, чтобы пресечь вышеупомянутое мелкое жульничество, при помощи которого аксиологическое предпочтение незаметно помещается среди природных фактов. Показать, например, что иммунология отравлена метафорами войны, нейробиология в значительной степени построена по принципу коммерческих организаций, а генетика использует детерминистскую идею, которую ни один архитектор не стал бы использовать для описания своего проекта (99), означает пресечь мошенничество, при помощи которого контрабандисты пытаются пронести сомнительные ценности под видом фактов. Точно так же, как разоблачать использование определенной политической партией популяционной генетики, писателями – фракталов и хаоса, философами – принципа квантовой неопределенности, промышленниками – железных законов экономики, означает пресечь контрабанду с другой стороны, когда именем Науки пытаются нелегально продвинуть некоторые утверждения, которые никто не решается сформулировать достаточно определенно, опасаясь шокового эффекта, но которые очевидно относятся к сфере предпочтений, то есть ценностей.
Желая провести четкое разделение между Наукой и идеологией, старая Конституция пыталась защищать эту постоянно патрулируемую границу, чтобы избежать двух типов нарушений: злоупотребления тайной ценностей ради прекращения дискуссии (в этом смысле дело Лысенко остается образцовым), а также обратного примера, когда положение дел незаметно используется, чтобы навязать предпочтения, о которых не решаются говорить открыто (научный расизм – это наиболее типичный и хорошо изученный случай). Достоинство борьбы с научной идеологией как будто заключается в том, что она защищает ученых от заражения политикой или моралью, которые они надеялись использовать; она призывает их к порядку и заставляет не смешивать факты и ценности, оперируя фактами, одними только фактами. Борьба против идеологического использования Науки запрещает тем, кто обсуждает ценности, прикрываться природной очевидностью, обязывая их декларировать свои ценности и только ценности, не впутывая науку, потому что, как говорят в таких случаях, «то, что есть, не должно определять то, что должно быть».
Похоже, избавиться от установки на защиту как автономии науки, так и независимости моральных суждений достаточно сложно. К сожалению, у дихотомии, которую она призвана защищать, есть определенные недостатки. Если ей удается достичь своей цели, то даже с самой эффективной пограничной службой она получает только чистые факты и чистые ценности. Однако мы продемонстрировали, что факты не годятся для описания научной работы, а ценности – морального принципа. Беспомощность разделения Наука/идеология объясняется тем, что она ставит перед собой благородную цель, при достижении которой мы не продвинемся ни на миллиметр! (100) Различие между Наукой и идеологией, между невинностью и осквернением, даже если оно когда-то интересовало и по-прежнему интересует различных интеллектуалов, не дает того эффекта, на который они надеялись, учитывая затраченные усилия и количество полицейских сил, задействованных для патрулирования границы (101). Миф о Пещере предназначен совсем не для того, чтобы бесповоротно разделить две палаты, без чего факты были бы лишены дара речи, а ценности – силы, а для того, чтобы эту задачу было невозможно решить снова и чтобы она таким образом заслонила собой все остальные. Если бы Сизиф однажды выполнил свою работу, то он продвинулся бы не намного дальше.
Поэтому мы не можем отказаться от важнейшего различия под предлогом того, что эта задача невыполнима: не слишком ли сильно льстит себе мораль, настаивая на своих требованиях, вопреки всякой очевидности? Мы должны пойти дальше и показать, что эта затея не только неосуществима, но и вредна. Хотя, на первый взгляд, отказ от нее приведет к страшной путанице, как если бы мы больше не могли отличить Божественные Идеи от призрачных образов Пещеры. «Так вы хотите смешать факты и ценности? Поставить на одну доску научную работу и поиск оснований нравственности? Осквернить производство фактов социальным воображаемым? Позволить сумасшедшим ученым с их безумными идеями решать, какой будет наша повседневная жизнь?» Поскольку природа как таковая непременно нуждается в нравственном обществе, а общество как таковое должно пребывать в неограниченной свободе, то, не имея больше возможности разделять факты и ценности, мы определенно почувствуем, что из нашей общественной жизни исчезнет нечто крайне важное. Все опасения относительно познавательного и морального релятивизма немедленно возродятся. Корова больше не обнаружит своих клонов. Определенно, столь тяжелый пробный камень нельзя бросать без веских причин.
Перед тем как приступить к исследованию этих причин в следующем разделе, добавим еще один пункт в наш перечень обязательств. Мы прекрасно понимаем, что нет смысла жаловаться на бесполезность какой-либо разделительной линии, не понимая, что она должна выполнять определенную функцию. Так, например, Великая Китайская стена, хотя никогда не останавливала вторжения, служила многочисленным императорам для самых различных целей (102). Мы не сомневаемся, что разделительная линия, которая столь тесно ассоциируется с благоразумием, призвана что-то объяснять. То, что мы считаем ее недостатком, имеет отношение к ее основной функции: сделать непонятным формирование того, что должно быть, постепенное построение космоса, пригодного для жизни мира. Отделить факты от ценностей, никогда не достигая своей цели, – это единственный способ обеспечить власть природы с помощью «фактов и только фактов», власть природы над тем, что «должно» быть. Если мы решим отказаться от понятия границы между фактом и ценностью, не разделять отныне науку и идеологию, не использовать пограничную службу и не следить за контрабандой, то, чтобы успокоить разгоряченные умы, нам потребуется делать все как минимум не хуже, а по возможности лучше того порядка, который мы упраздняем. От этого будет зависеть убедительность нашей политики природы. Контроль за качеством необходимо поддерживать одновременно в отношении будущих фактов и будущих ценностей, вне зависимости от смысла, который мы вложим в эти слова, подобно тому, как французская пограничная служба выполняет свою работу даже в рамках общеевропейского пространства, известного как шенгенское.
Избавиться от определенной дихотомии и стоящей за ней метафизики совсем не означает, что мы можем запросто уклониться от сопутствовавших ей требований, хотя причины этой связи, которые мы считали существенными, оказались довольно случайными. Поэтому мы предлагаем не отказываться от важнейших различий, которые столь неловко пытались описать при помощи разделения фактов и ценностей, а выразить их через другое противопоставление концептов, доказав, что так будет значительно лучше. Если только Сизиф согласится, что его должность теперь будет называться по-другому, то он обнаружит, что его труд может наконец стать производительным…
Власть принятия в расчет и власть упорядочения
Как отказаться от невразумительного различия фактов и ценностей, сохранив при этом зерно истины, которое оно, по всей видимости, содержит? Точнее говоря, предъявляемое коллективу требование не смешивать все пропозиции в темноте, когда все коровы (клонированные или нет) кажутся серыми. В трех последующих разделах мы распечатаем, а потом снова упакуем разделение факт/ценность. Решение, которое мы нашли в этой главе, состоит в том, чтобы вскрыть оболочку, под которой находятся факт и ценность, чтобы избавить их от противоречивых требований, которые им незаконно предъявлялись, а затем, в следующем разделе, рассортировать их по-новому и поместить под другим именем в новую, куда более герметичную упаковку. Это непростая операция, но у нас нет возможности сделать все быстрее или проще, потому что мы всерьез намерены заново учредить здравый смысл, столь отличный от благоразумия.
Два противоречивых требования, заключенных в понятии факта
Сначала вскроем упаковку, в которой до сих пор содержался концепт факта, который противопоставлялся концепту ценности. Мы увидим, что он содержит в себе два различных требования: сколько новых пропозиций внезапно вторглись в дискуссию? Какова определенная сущность или неизменная природа этих пропозиций? Если мы настаиваем на существовании упрямых, возмутительных, неприятных фактов, то выделим две черты, которые мы можем и просто обязаны различать, потому что они являются полной противоположностью друг другу: первая делает акцент на важности и неопределенности дискуссии, а вторая, напротив, на том, что дискутировать не стоит, больше не стоит.
Займемся для начала первой чертой, которую путают со второй, иногда по ошибке, иногда по недосмотру. Под двусмысленным выражением факта подразумевается способность некоторых существ изменять ход дискуссии, нарушать дискурсивный порядок, вступать в противоречие с привычками, затруднять определение плюриверсума, которое мы хотели бы сохранить. Если использовать выражения из предыдущей главы, в этом первом значении факты указывают на существование неожиданных акторов•, в ходе некоторой последовательности событий изменяющих перечень посредников, которые до этого момента определяли привычки коллектива. Если факт причиняет неудобства, то от этого он не перестает быть объективным, достоверным или неоспоримым. Напротив, он действует, причиняет неудобства, усложняет, заставляет высказываться, возможно, вызывает оживленную дискуссию. Внешняя реальность, как мы уже поняли, означает две совершенно различные вещи, которые нельзя больше путать, и, более того, их необходимо поместить в две ячейки: одна их которых содержит усложнение, а вторая – унификацию. Именно из первой свежие факты появляются в лаборатории, на переднем краю исследования, имея вид существ с неопределенным статусом, которые хотят, чтобы их принимали в расчет, но о которых неизвестно, являются ли они серьезными, стабильными, ограниченными, присутствующими, а не будут в результате другого эксперимента, другого испытания распылены на множество артефактов, сократив число тех, чье существование что-то значит. На этом этапе, если можно так выразиться, пропозиции только выдвигают свою кандидатуру на совместное существование и подвергаются испытаниям, результат которых пока неизвестен (103). Скажем, что под именем факта новые существа появляются и озадачивают• тех, кто их обсуждает.
Когда мы настаиваем на упрямом характере фактов, мы хотим быть уверенными, что их число нельзя произвольно сокращать, чтобы облегчить нам задачу и упростить процесс достижения согласия, избегая дискуссии. Когда мы говорим: «Факты налицо, нравится нам это или нет», то это не означает, что мы стучим кулаком по столу, пытаясь избежать социального конструктивизма, а сообщаем о чем-то куда более обыденном, менее воинственном и совсем не окончательном. Мы не хотим, чтобы наши собеседники, заранее ограничивая перечень миропорядков, избегали таким образом риска, ставящего под угрозу наше повседневное существование. Сформулируем это первое требование в виде категорического императива: ты не будешь сокращать число пропозиций, которые необходимо принимать в расчет в ходе дискуссии.
Что нам теперь делать с другой чертой, которая случайно оказалась в одной ячейке с «фактами»? Она определенно ничем не напоминает первую, поскольку делает акцент на несомненности объективного факта, который закрывает дискуссию или, по крайней мере, переводит ее в другое русло, на другие темы, например, на тему ценностей. Озадаченность не является устойчивым состоянием, как и ученый спор. Как только кандидаты из числа новых, признанных, прошедших согласование, легитимных существ оказываются допущены в круг пропозиций с более продолжительной историей, они превращаются в естественные состояния, очевидности, черные ящики, привычки, парадигмы. Никто больше не оспаривает их положение и значимость. Они зарегистрированы в качестве полноценных участников жизни коллектива. Они теперь причастны к природе вещей, здравому смыслу, общему миру. Их больше не обсуждают. Они выступают в качестве бесспорных предпосылок для бесчисленных рассуждений и доводов, которые могут зайти достаточно далеко. Если мы все еще стучим кулаком по столу, то не для того, чтобы кого-то озадачить, а для напоминания о том, что «факты налицо, и это упрямая штука!» Как мы должны определить состояние, когда факты становятся бесспорными? Скажем, что пропозиции учреждены (104).
Когда мы настаиваем на достоверности фактов, то требуем от наших собеседников, чтобы они прекратили оспаривать положение дел, которое теперь имеет твердые границы, четкое определение, пороги, фиксированные привычки, одним словом – сущность•. Сформулируем это второе требование в виде еще одного императива: как только пропозиции учреждены, ты больше не будешь оспаривать легитимность их включения в жизнь коллектива.
Эта формула может показаться странной, однако она прояснится довольно скоро, как только мы выпотрошим концепт ценности. В любом случае мы уже понимаем, почему упаковка, содержащая факты, была так плохо запечатана: под одной и той же оберткой скрывались две совершенно разные операции, первая из которых давала ход дискуссии, а другая ее прекращала. Неудивительно, что мы никогда не понимали эксперта, который стучал кулаком по столу из-за «упрямых фактов»: его поступок мог означать как озабоченность, так и уверенность, нечто спорное и бесспорное, необходимость провести исследование и прекратить поиски! Первая операция также направлена на умножение числа существ, с которыми нужно считаться, доводя до максимума озадаченность задействованных акторов, как и вторая на то, чтобы обеспечить собранным пропозициям максимальную продолжительность, прочность, согласованность, когерентность, уверенность, чтобы никто больше не мог придираться по мелочам и приводить их в замешательство. В этом и заключалась жалкая уловка Пещеры: так как слово «факт» могло означать нечто самое слабое и самое мощное, наиболее спорное и наиболее бесспорное, внешнюю реальность в зачаточном состоянии и внешнюю реальность в состоянии учреждения, то было достаточно просто смешать оба термина, перескакивая от одного к другому, чтобы избежать любых процедур и покончить с общественной жизнью, угрожая ей реальностью, которая заставит ее замолчать.
Два противоречивых требования, содержащихся в понятии ценности
Теперь нам нужно разорвать путы, которые удерживают вместе противоречивые требования, содержащиеся в понятии ценности. Что на самом деле хотят сказать, утверждая, что необходимо продолжать дискуссию о ценностях даже после того, как факты уже известны? Чего добиваются, используя неудачное выражение «должно быть», которое обязано стать для «того, что есть» новым образцом? Что за непреложную необходимость пытаются выразить столь неловким способом?
Под обращением к ценностям прежде всего подразумевается, что другие пропозиции не были приняты в расчет, с другими существами не посоветовались, хотя они также имели право высказаться по этой проблеме. Всякий раз когда начинается спор о ценностях, речь идет о расширении списка участников дискуссии. При помощи фразы «Имеется одна этическая проблема» мы выражаем свое негодование, утверждая, что сильные мира сего забыли принять во внимание некоторые ассоциации людей и нелюдéй; мы обвиняем их в том, что нас поставили перед фактом, приняв решение слишком быстро, в слишком узком кругу, мало с кем советуясь; мы возмущаемся, что они упустили, забыли, запретили, не признали, отвергли определенное количество голосов, которые, если бы к ним прислушались, могли бы существенно изменить определение фактов или направить дискуссию в иное русло. (Напомним, что право голоса теперь принадлежит объединениям людей и нелюдéй и что нетвердые голоса иных выступающих значат столько же, сколько голоса тех, кто наделяет их даром речи, см. вторую главу.) Таким образом, взывать к ценностям значит сформулировать требование предварительной консультации•. Нет, с одной стороны, тех, кто определяет факты, а с другой – определяющих ценности, тех, кто говорит об общем мире•, и тех, кто говорит об общем благе•: есть узкий и широкий круг; есть те, кто втайне собирается, чтобы объединить то, что есть, и те, кто публично заявляет, что они способны внести путаницу в обсуждение Республики•. Если упрек состоит в том, что мы забыли о некоторых фактах или некоторых ценностях, его можно перевести фразой: «Некоторые голоса отсутствуют в списке» (105).
Как мы сформулируем третье требование, относящееся к консультации? При помощи следующего императива: ты гарантируешь, что количество голосов, принимающих участие в артикуляции пропозиций, не будет произвольно сокращаться. Более того, именно в этом императиве, определяющем порядок дискуссии, мы, скорее всего, обнаружим то первичное зерно истины, которое было столь небрежно упаковано в понятие ценности.
Отметим сразу, прежде чем развить эти выводы в следующем разделе, что третье требование напоминает первое требование озадаченности•, с которым его сближает поразительное фамильное сходство, хотя традиция всегда считала, что они противоречат другу, облачая одно в белый халат Науки•, а другое – в белую тогу с пурпурной каймой, именуемую «ценностями». В любом случае это вопрос количества: первое правило предписывает максимальное количество новых существ, выдвигающих свою кандидатуру, тогда как второе подчеркивает важность и качество тех, кто должен заседать в комиссии, которая примет их или отвергнет.
Рассмотрим теперь другое требование, которое встает на повестке дня, когда мы пытаемся говорить о ценностях. Можно просто сказать, что мы должны принимать в расчет максимальное количество действующих лиц, которых американцы называют stakeholders [14]. Содержание второй упаковки не ограничивается требованием консультации, потому что понятие ценности не более однородно, чем понятие факта. Остановиться на этом означало бы свести ценность к простому требованию сохранения формы, забыв о содержании. Но тут есть нечто другое, и проявляется оно в том, что в разговорах мы постоянно возвращаемся к тому, что «нужно» делать, тому, что «должно» быть сделано, к порядку приоритетов и целей. Эта озабоченность никогда толком не была осмыслена, поскольку она никогда не появляется ни по отдельности от первой, ни вместе со вторым категорическим императивом, с которым она связана.
Образуют ли эти многочисленные пропозиции, начинающие усложнять жизнь коллектива, пригодный для обитания общий мир или же, напротив, нарушают его порядок, уменьшают его, пытаются уничтожить, искалечить, сделать непригодным для жизни? Могут ли они соединяться с уже существующими или требуют отказа от старых соглашений и сочетаний? Когда мы ставим вопрос о ценностях, мы не отдаляемся от фактов, как если бы мы внезапно меняли средство передвижения, переходя от автомобиля к стратосферному самолету. Мы задаем все тем же пропозициям другой вопрос: вы, существа, претенденты на совместное существование, совместимы ли вы с теми, кто уже формирует общий мир? Как мы сможем расставить вас в порядке значимости? Как мы видим, возникает требование создать определенную иерархию•, включающую в себя как старые, так и новые существа, исходя из относительной значимости, которую необходимо установить. Именно эта иерархия ценностей позволяет судить о нравственной состоятельности, идет ли речь о том, кого нужно спасти при трудных родах, мать или ребенка, или, как во время Киотской конференции, решить, что важнее: благоденствие американской экономики или же климат планеты Земля.
Мы сформулируем это четвертое и последнее требование в виде следующей максимы: ты будешь обсуждать совместимость новых пропозиций с уже учрежденными таким образом, чтобы сохранить их в общем мире, который обеспечит им всем законное место. Хотя наличие этого требования в ячейке ценностей может вводить в заблуждение, его нужно объединить именно со вторым требованием (которое относится к упаковке с фактами), а именно с учреждением•. Чтобы дискуссия не сводилась к определению гарантированных сущностей•, нужно убедиться в том, что существа, намеревающиеся создать коллектив, совместимы с уже имеющимися учреждениями, в рамках которых выбор уже сделан, решения приняты, а также в том, что они смогут найти там свое место.
В заключении этого раздела попробуем резюмировать в виде таблицы проделанную нами операцию, а также ту, к который мы теперь приступим. Распаковав противоречивое содержимое концептов факта и ценностей и дважды разделив их на парные понятия, мы сможем куда лучше перегруппировать основные требования, представив их в виде более стройной системы. Это новое соглашение позволит нам не нарушать взятое в конце прошлого раздела обязательство отказаться от разделения факты/ценности только в том случае, если мы сможем лучше выразить одно существенное отличие, которое было явно на своем месте. Таблица 3.1 определяет процедуру, которую необходимо пройти.
Таблица 3.1. Резюме двух видов власти и четырех требований, которые должны помочь коллективу добиться прогресса в исследовании форм совместной жизни
Что произойдет, если мы отнесем первое и третье требования к принятию в расчет•, а второе и четвертое – к упорядочению• (поместив их в более подобающую упаковку, мы пронумеровали основные требования, руководствуясь соображениями логики и динамики, которые станут понятны только в последнем разделе)?
Мы утверждаем, что это новое, куда более логичное объединение, пришедшее на смену устаревшему разделению на факты и ценности, позволит нам получить две не существовавшие ранее разновидности власти. Первая отвечает на вопрос «Сколько нас?», а вторая – на вопрос «Можем ли мы жить вместе?»
Коллектив и две его представительные власти
Мы только что преодолели одно из четырех или пяти наиболее сложных препятствий, возникающих на нашем пути, но мы не могли экономить на этом силы, поскольку разделение на факты и ценности слишком долго парализовало дискуссию об отношениях науки и политики, природы и власти. Теперь нам нужно исследовать логику этих новых объединений, которые становятся понятными, однородными, логичными и прослужат нам до конца этой книги. Разумеется, термины, которые мы будем использовать в этом разделе, могут показаться немного странными. У них нет преимущества устоявшихся понятий; они еще не стали концептуальными институтами, формами жизни нового здравого смысла. Подобно тому как после падения Берлинской стены мы все еще распознаем восточного и западного немца, хотя теперь они составляют общую нацию, у нас зачастую возникает ощущение, что слова, которые мы сводим в пары, были бы уместнее, если бы мы употребляли их по отдельности, тогда как разделенные нами, напротив, лучше смотрелись бы вместе. Читатель должен принять эту странность и решать после каждой главы, является ли новое разделение властей более удачным, чем предыдущее.
Четыре основных требования составляют две консолидированные совокупности, что давно бросилось бы в глаза, если бы разделение факт/ценность не препятствовало их объединению. Первая совокупность дает ответ на один и тот же вопрос: сколько новых пропозиций мы должны принять в расчет, чтобы последовательно артикулировать общий мир? Это первая власть, которую мы признаем в новом коллективе.
Власть принятия в расчет дает две важнейшие гарантии, одна из которых связана с тем, что раньше было фактами, а другая – с тем, что раньше было ценностями. Во-первых, количество существ-претендентов не должно произвольно сокращаться из соображений простоты и удобства. Другими словами, ничто не должно раньше времени снимать озадаченность, в которой пребывают акторы в результате вторжения новых существ. Это то, что можно было бы назвать требованием реальности•, поскольку (эпистемологическая) полиция больше не отравляет существование реальности и экстериорности. Во-вторых, число тех, кто принимает участие в этом озадачивании, также не должно слишком быстро и произвольно сокращаться. Таким образом, мы могли бы намного быстрее закончить дискуссию, но это заметно упростило бы ее выводы. Потребовались бы более широкие консультации, хотя бы для того, чтобы обеспечить важность и квалификацию новых существ. Напротив, стоило бы убедиться, что надежные свидетели•, обоснованные мнения, заслуживающие доверия официальные представители появились в результате долгой работы по дознанию и провокации (в этимологическом смысле «формирования голоса») (106). Назовем это условие требованием весомости• ассамблей.
Вторая совокупность отвечает на вопрос: что за порядок должен быть установлен для этого общего мира, сформированного группой новых и старых пропозиций? В этом суть второй власти, которую мы называем упорядочением.
Две важные гарантии обеспечивают приемлемый ответ на этот вопрос. Во-первых, ни одно новое существо не может быть допущено в общий мир до того, как мы выясним, совместимо ли оно с теми, кто уже получил гражданство. Невозможно, к примеру, предъявив ультиматум, избавиться от всех вторичных качеств• под предлогом того, что только первичные качества• вне установленного порядка являются составными частями общего мира. Конкретная работа по установлению иерархии посредством компромиссов и соглашений позволит, если можно так выразиться, смириться с новизной существ, которую процедура принятия в расчет склонна преувеличивать. Отсюда следует требование публичности• иерархизированных объединений, которая приходит на смену подпольной деятельности, вполне допустимой при старой Конституции. Во-вторых, как только дискуссия окончена, а иерархия установлена, к ним не следует возвращаться: напротив, нам следует научиться использовать эти миропорядки в качестве безусловной предпосылки будущих рассуждений. Без требования учреждения дискуссия будет бесконечной, и мы больше не сможем узнать, в каком общем, очевидном, несомненном мире должна протекать жизнь коллектива. Таково требование закрытия• дискуссии.
Чтобы выразить это яснее, таблица 3.2 вкратце объясняет предлагаемые нами термины.
Таблица 3.2. Терминология, которую мы выбрали для замены выражений «факты» и «ценности»
Прежде чем двинуться дальше, отметим, что вместе с этим новым разделением властей и его четырьмя вопросами мы не предлагаем никакой опасной инновации: мы всего лишь даем более строгое описание того, что неприемлемое различие фактов и ценностей делало не подлежащим описанию. Пусть это будет пример прионов, этих нестандартных протеинов, которые считаются ответственными за возникновение болезни, известной как «коровье бешенство». Бесполезно, как мы теперь понимаем, требовать от ученых, чтобы они окончательно доказали существование этих агентов, чтобы затем политики скрепя сердце могли задаться вопросом, что они должны делать. В самом начале этого дела г. Ширак затребовал к себе г. Дормона, специалиста по этим крохотным существам: «Возьмите на себя ответственность, господин профессор, скажите нам, ответственны ли прионы за возникновение болезни или нет?» На что профессор, как и подобает добросовестному исследователю, хладнокровно ответил: «Со всей ответственностью заявляю вам, господин президент, что я не знаю…» Предмет оживленной дискуссии, прионы смогли озадачить – условие № 1 – не только исследователей, но и животноводов, еврократов, потребителей и производителей животной муки, не говоря уже о коровах и премьер-министрах. Претенденты на существование, прионы приносят с собой столь необходимую внешнюю реальность, которая требуется для оживления коллектива. Единственное, чего от них никто не ожидает, кроме закоренелых модернизаторов вроде г. Ширака, это лишать слова коллектив, ссылаясь на свою бесспорную сущность. По завершении текущей процедуры они рассчитывают эту сущность• наконец обрести.
Кто должен выносить суждение относительно этих прионов, претендующих на продолжительное и опасное существование? Разумеется, биологи, а также представители широкой ассамблеи, состав которой должен быть определен в результате длительного поиска надежных свидетелей, способных дать свой совет, одновременно сомневаясь и располагая необходимыми компетенциями: требование № 2 – важность консультаций. Этот поиск подходящих официальных представителей заставит проделать сложную работу среди ветеринаров, животноводов, мясников, чиновников, не забывая при этом о коровах, быках, баранах и их детенышах, которые должны все вместе так или иначе принять участие в консультациях, в соответствии с процедурой, которую придется всякий раз изобретать заново: одни придут из научных лабораторий, другие – из политических ассамблей, третьи будут продиктованы законами рынка, четвертые – администрацией, но все они окажутся вовлечены в процесс производства авторитетных или сомнительных советов.
Как мы видим, власть принятия в расчет выражается в чем-то вроде приведения коллектива в состояние боевой готовности: лаборатории работают, фермеры изучают, потребители беспокоятся, ветеринары посылают сигналы, эпидемиологи анализируют свою статистику, журналисты проводят расследования, коровы волнуются, бараны трясутся от страха (107). Нам не следует тотчас отменять этот режим всеобщей готовности, стабилизируя факты – общий мир внешней природы, – чтобы сразу перейти к социальному миру и тем достаточно иррациональным представлениям, которые имеют о нем люди. Нам не стоит впутывать сюда именно продиктованное благоразумием различие фактов и ценностей.
Нам совершено незачем смешивать все в одну кучу: новое разделение властей станет очевидным, заставив коллектив пройти через процедуру, незаконную с точки зрения власти, которая занимается принятием в расчет•, но которая тем не менее может обрести смысл благодаря власти упорядочения•. Та же самая разношерстная и противоречивая ассамблея прионов, фермеров и премьер-министров, молекулярных биологов и поедателей бифштексов подпадет под юрисдикцию этой второй ветви власти, которая должна задать рамки научной дискуссии, успокоить разгоряченные умы, развеять тревогу, но только при условии, что она не будет делать это по-старому, так как теперь это будет, если можно так выразиться, антиконституционным. Прежде всего, нельзя навязывать искусственное разделение на факты и ценности, которое обязывало нас произвольно определять, что подлежит, а что не подлежит обсуждению, предлагая правительству прервать дискуссию своим волевым решением, а точнее – прибегнув к произволу.
Стоит задать себе другой вопрос: можем ли мы жить вместе со столь неоднозначными претендентами на существование, как прионы? Теперь мы переходим к условию № 3 – требованию публичности и иерархии. Нужно ли полностью изменить все европейское животноводство, весь цикл производства мяса или животной муки, чтобы найти место для каждого и встроить их в единую систему, которая расположит их в порядке важности? Мы прекрасно понимаем, что речь идет не об этическом вопросе, который «следует» из вопроса о фактах, уже установленных. Только близкое знакомство с дискуссией о существовании претендентов, которая до сих пор продолжается и окончания которой мы теперь не обязаны дожидаться, позволяет определить важность необходимых изменений одновременно во вкусах потребителей, введении сертификатов качества, биохимии протеинов, пастеровской концепции эпидемий, построении трехмерных моделей протеинов (108). В конце концов, автомобили каждый год убивают восемь тысяч ни в чем не повинных людей, тогда как говяжье филе до сих пор вызвало смерть всего нескольких любителей мяса, да и эти случаи вызывают сильное сомнение. Как расставить в порядке значимости рынок мяса, будущее профессора Дормона, массовое убийство при помощи автотранспорта, вкусы вегетарианцев, доходы моих соседей, бурбоннских животноводов, Нобелевскую премию 1997 года, присужденную профессору Стенли Прузинеру за открытие прионов? Список кажется чересчур эклектичным? Ничего не поделаешь, ведь именно властью составления иерархии несовместимых пропозиций должен быть наделен коллектив. Точно так же как мы не можем унифицировать советы, которые принимают участие в работе власти принятия в расчет, мы не можем не стремиться к унификации тех, кто имеет отношение к власти упорядочения.
Власть упорядочения по определению не может заблаговременно составить два отдельных перечня фактов и ценностей, включив в него доступные ей пропозиции. Она должна приспособиться к этому разнообразию и положить ему конец, что станет итогом длительного и болезненного процесса урегулирования и переговоров. Лазейка matters of fact больше недоступна. Нет больше никакой помощи извне, чтобы упростить решение: не поможет ни природа, ни насилие, ни right, ни might. Когда мы сможем найти решение, как в случае с восемью тысячами французов, погибающих в автокатастрофах, все эти пропозиции, которые связывают прионы, болезнь Кройфельда-Якоба, цикл производства мяса, теории инфекционных заболеваний, обретут устойчивость и станут гарантированными членами коллектива: требование № 4 – о закрытии дискуссии. Мы больше не будем спорить ни об их наличии, ни об их важности, ни об их функции. Прион и все, что с ним связано, обретет свою сущность•, заключенную в строгие рамки. Мы найдем их описание в учебниках. Мы выплатим компенсации жертвам. Мы распределим причинные связи и ответственность в результате операции, которую можно назвать «привлечением к делу», если согласимся, что в этом выражении сочетаются правовая ответственность и научно обоснованные обвинения. Прион со своей свитой будет полностью интернализован, а коллектив претерпит существенные изменения, начиная с того момента, как мы обнаружим, что в дополнение к уже допущенным существам он состоит из прионов, ответственных за возникновение болезней, опасных для человека и животных, которых можно избежать, если мы изменим способ производства животной муки и правила забоя. Прион станет естественным, у нас больше нет оснований избегать этого эпитета, вполне подходящего для обозначения полноправных членов коллектива.
Формулируя в этих терминах случай с коровьим бешенством, столь типичным примером рискованных соединений•, умножение которых привело к тому, что старая Конституция затрещала по швам, мы тем не менее не забывали о важнейших требованиях реальности, весомости, публичности и закрытия дискуссии: все они соблюдены. Сюда не вписывается только «очевидное» различие фактов и ценностей, а также всегда существовавшей экстериорности приона. Но эта оговорка не привнесет ясность и не скажется на нравственности, а только приведет в замешательство. Точнее говоря, она приведет к упрощению, произволу, обходному маневру, краткости, позволив одной из пропозиций перейти от озадаченности сразу к учреждению, то есть сделать именно то, что запрещает новое разделение властей.
Если мы посмотрим на таблицу 3.1, то поймем, что на смену двум палатам старой Конституции пришла новая разновидность двухпалатной системы• (109). Палат по-прежнему две, как и при старой Конституции, но они наделены совсем другими свойствами. Поворачивая на 90 градусов важное различие (выделено жирным шрифтом), которое до сих пор проводилось между фактом и ценностью, мы не только изменили содержание клеток, которые расположены в линию вместо старых колонок, но и его функционирование.
Различие фактов и ценностей было одновременно абсолютным и неприемлемым по той причине, что, как мы заметили выше, оно не называлось разделением властей, а хотело быть увековечено в природе вещей, разделяя, с одной стороны, онтологию, а с другой – политику и представления о ней. Второе отличие между принятием в расчет и упорядочением не является абсолютным, а тем более – неприемлемым. Совсем напротив, оно соответствует двум дополнительным требованиям, относящимся к репрезентации жизни коллектива: сколько вас, тех, кого нужно принять в расчет? Хотите ли вы сформировать пригодный для жизни общий мир? Необходимость четко различать эти два вопроса еще не означает, что нам потребуется пограничная служба, наподобие той, что тщетно патрулировала старые рубежи, пролегавшие между наукой и идеологией. Достаточно уже того, что дискуссия об общем мире не будет постоянно сводиться к спору о претендентах на существование и что дискуссия о новых существах не будет постоянно откладываться под предлогом того, что мы пока не знаем, к какому миру они относятся. Вместо неприемлемой границы между двумя наспех построенными вселенными нам нужно представить что-то вроде челнока между двумя помещениями, двумя палатами одного и того же коллектива в состоянии экспансии. Разумеется, администраторы, ответственные за это разделение властей (о полномочиях которых мы узнаем из пятой главы), должны быть внимательны – но от них никто не будет требовать невозможного – и в одно и то же время играть роль таможенника и контрабандиста.
Схема 3.1. Разделение факт/ценность становится, после поворота на 90 градусов, разделением власти принятия в расчет и власти упорядочения
Контроль за соблюдением основных гарантий
Мы не можем завершить наш скромный труд по распаковке и упаковке фактов и ценностей, не убедившись, что он соответствует нашему списку требований, под которым мы подписались в предыдущем разделе. Как мы уже отмечали, разделение факт/ценность, помимо того что оно позволяло выполнить обходной маневр, который мы, естественно, не намерены повторять (и которому мы должны научиться противостоять), выполняло много других функций, которые смешивались, причем по достаточно случайным предлогам. Напомним в таблице 3.3, что́ мы согласились принимать в расчет, отказавшись сперва от понятия факта, затем от понятия ценности, а затем – от различия между ними.
Таблица 3.3. Памятка по списку требований, предъявляемых к тому, что придет на смену разделению факт/ценность
Первому ограничительному условию наша схема безусловно соответствует. Работа по производству фактов больше не сводится к ее последнему этапу, так как мы последовательно представляем все этапы естественной истории артикуляции пропозиций, начиная от появления существ-претендентов вплоть до их включения в различные миропорядки. Вместо того чтобы ради определения фактов заканчивать любой научный спор, любую дискуссию и устранять любые неопределенности, мы, напротив, можем определить их в соответствии с процедурой, которая будет привлекать любую новую сущность к самым различным задачам. Нет никакого смысла подавлять, скрывать, умолять важность научных споров, посредническую роль инструментов, расходов на науку, шумных дискуссий. Мы поместили научную дискуссию в самый центр коллективной жизни, не задаваясь вопросом, вызваны ли они обычной неопределенностью в процессе исследования или же дебатами, типичными для представительских ассамблей (110). Когда речь идет о новых существах, это всегда вызывает оживленную дискуссию. Поскольку мы теперь не обязаны при помощи словечка «факт» игнорировать бесчисленные конфигурации, которые принимают новые существа, участвуя в жизни коллектива, постольку нам хватит места, чтобы они расположились как им удобно. Мы не утверждаем, что это простая задача, а всего лишь стремимся показать, что мы в состоянии выполнить условия из нашего перечня обязательств.
Мы думаем, что второму ограничительному условию также не сложно соответствовать. Напомним, что недостаток понятия «факт» заключался в том, что оно не позволяло нам осмыслить колоссальную работу по редактированию, форматированию, упорядочению, дедукции, необходимую для того, чтобы придать некоторому набору данных смысл, которым он сам по себе не обладает. Традиция философии науки называет эту работу теоретической. Замечательный эвфемизм, спустившийся с неба Идей, чтобы озарить Пещеру! Выбранный нами термин «учреждение»• позволяет оценить по достоинству всю ту работу по редактированию и привлечению к делу, благодаря которой новое существо становится полноправным и признанным участником общественной жизни. Слово «теория» слишком сильно ограничено количеством агентов, ответственных за объединение и придание им устойчивости (111). Инструменты, корпорации, законы, привычки, язык, жизненные формы, расчеты, модели, метрологии – все это может претендовать на постепенную социализацию, на натурализацию существ, и мы совершенно не обязаны выделять в этом перечне то, что раньше относилось к области «наук», а что – к старой области «политики».
Мы думаем, что можем по достоинству оценить эту редакторскую работу, тем более что мы отказались от понятия социальной репрезентации, которое, как мы увидели в первой главе, до сих пор мешало придать положительный смысл понятию учреждения. Понятие артикуляции• позволяет связать качество реальности с количеством проделанной работы. Нет плюриверсума, с одной стороны, и представлений о нем людей – с другой. Как только существо становится частью миропорядка, это происходит не понарошку и вопреки учреждениям, которые за него отвечают, а «всерьез» и благодаря им. Это решение, которое не могло появиться раньше социологии наук и политической экологии, станет ключом к нашей разъяснительной работе. Теперь мы сможем применительно к коллективу говорить о различиях в степени в производстве и возрастающем уровне определенности, которую дихотомия факт/ценность сводила к противопоставлению знания и незнания (112).
Мы уже дали разъяснения относительно третьего ограничительного условия, предложив рассматривать нормативные требования не в качестве базового сценария, а как частный случай интерпретации фактов. Но так как доказательства будут представлены только в следующей главе, отложим пока их рассмотрение. Пока же приготовимся к тому, что моралист, а также ученый, политик, администратор или гражданин будут играть совсем иную роль.
Перейдем к четвертому ограничительному условию, соответствовать которому значительно сложнее. Единственным оправданием различия факта и ценности является то, что он препятствует контрабанде, с помощью которой не особо изобретательные мошенники представляли свои тайные пристрастия в виде единственно возможного естественного состояния или же, наоборот, использовали так называемые естественные состояния, чтобы избежать подробных разъяснений по поводу ценностей, которые они нам навязывали. Отказываясь от разделения фактов и ценностей, мы приняли на себя обязательство сделать по крайней мере не хуже, и теперь мы в том же положении, что и Евросоюз, который должен постараться сделать так, чтобы отказ от национальных границ не влиял на территориальную целостность. Бросив взгляд на схему 3.1, мы заметим, что совсем не сложно сделать это лучше: никто не сможет обвинить нас в том, что мы пытаемся избежать дискуссии или обойти контроль качества! Напротив, все четыре императива обязывают нас не отказываться поспешно от озадаченности, не форсировать бездумно процесс консультации, не забывать о проверке совместимости с уже принятыми пропозициями и, наконец, не фиксировать без надлежащих причин появление новых миропорядков. Действительно, на данном этапе, существенно не пересмотрев «описание вакансий» ученого, политика, администратора или экономиста, мы все еще не в состоянии доказать, что достоинства траектории исследования общего мира намного превосходят дихотомию наука/идеология. Читатель ожидает, что мы выскажемся подробнее по этому важнейшему вопросу, и имеет полное право сомневаться до тех пор, пока мы в следующей главе не покажем, что наши гарантии надежнее тех, от которых мы призываем отказаться.
Пятому ограничительному условию из нашего списка требований соответствовать намного проще, но доказать его куда сложнее. Если под охраной «автономии науки» и «безупречной нравственности» мы подразумеваем две сферы, взаимодействие между которыми полностью исключено, то мы, естественно, не сможем ему соответствовать. В этом и заключается недоразумение, которое привело к «научным войнам». Мы должны приучить здравый смысл к очевидной мысли, а именно: чем больше мы вмешиваемся в производство фактов, тем лучше они становятся, и чем больше нормативные требования будут заниматься тем, что их не касается, то есть фактами, тем больше они выиграют в качестве суждения… При этом мы можем гарантировать, что есть две власти, которые не нужно смешивать: принятие в расчет определенного количества существ и голосов, с одной стороны, желание этих существ и голосов сформировать общий мир – с другой. Будет потеряно что-то очень важное, если процедура принятия в расчет• будет сокращена, отодвинута, заменена процедурой упорядочения•, и наоборот, если эта последняя будет в свою очередь перезапущена, прервана, поставлена под сомнение с помощью принятия в расчет. Но в этом неосуществимом требовании – поддерживать автономию науки и безупречность морали – скрывается важная функция, которую необходимо сохранить, поместив ее при этом в другое место. Она ничем не напоминает безнадежный поиск безупречности, скорее, заставляет вспомнить о челноке, необходимом для работы новой двухпалатной системы, при этом обе палаты должны одновременно служить противовесом друг для друга и осуществлять координацию, не вмешиваясь в чужие дела. Эта задача станет сутью конституционной работы, осуществляемой политической экологией.
Если кто-то сомневается, что нам стоит зачесть выполнение последнего условия, необходимо вспомнить о той невероятной путанице, к которой на практике приводило это неприемлемое разделение фактов и ценностей. Мы увидим, что, переходя от одной Конституции к другой, мы не сеем хаос в рамках до сих пор прекрасно функционировавшего режима. Напротив, мы привносим немного логики туда, где до сих пор царил чудовищный беспорядок.
Перед тем как нас обвинят в «релятивизме» под предлогом того, что мы призываем не различать факты и ценности, мы хотели бы напомнить о непоследовательности Старого порядка, так как он, несмотря на все свои усилия, никогда не мог установить это различие, хотя, впрочем, он не особенно к этому стремился, поскольку настоящее различие между фактами и ценностями не дало бы ему возможности тайком подстроить под себя пригодный для обитания общий мир…
Никто не может толком разобраться в этом недоразумении. Ни ученый, от которого требуют то пребывать в абсолютной уверенности, то пускаться в рассуждения, то «брать на себя ответственность», лишая его при этом законной возможности перейти от озабоченности к иерархии. Ни моралист, от которого требуют распределить все существа в порядке важности, лишая его всякого точного знания о них и не разрешая ему проводить консультации. Ни политик, который, как считается, должен принимать окончательное решение, но поскольку он не имеет доступа к последним исследованиям, то должен делать это вслепую. Можно сказать, что за ним стоит народ. Ах, народ – сколько преступлений было совершено его именем? Подобно античному хору, он должен оттенять своим низким басом, своими стенаниями, своими меткими замечаниями деятельность тех, кто претендует на то, чтобы давать ему советы, обучать его, представлять, вести, оценивать, удовлетворять его требования. Если с ним советуются, то разве что в насмешку, допуская «участие общества в принятии решений». Если он должен о чем-то знать, то его просто ставят в известность о чем-либо, обнародовав, популяризовав и осуществив вульгаризацию (113). Ему не предлагают зайти в лабораторию и чем-то озадачиться. Когда ему говорят об учреждениях, то делают это исключительно для того, чтобы заточить его в тюрьме социальных репрезентаций, чтобы еще надежнее заковать его в цепи натурализации и неотвратимых законов и навсегда закрыть ему рот. Если ему предлагают выстроить собственную иерархию ценностей, то его лишают доступа к конкретным фактам, к реальной научной дискуссии, любой коллективной неопределенности. Едва ли незаинтересованный наблюдатель, посмотрев однажды на это вопиющее недоразумение, известное как «общественная дискуссия по проблемам науки и техники», сможет прийти к выводу, принципиально отличному от нашего: мы должны сделать намного лучше! При условии, что четырем разработанным нами требованиям будет придана некоторая динамика, которая позволит понять их лучше.
Заключение: новая экстериорность
Мы прекрасно понимаем, что требуется нечто большее, чем эта подробнейшая глава, чтобы отказаться от столь почтенного различия фактов и ценностей. На самом деле, мы так привязаны к этому различию, сколь абсолютному, столь и неуместному, потому что нам кажется, что оно, по крайней мере, обеспечивает некоторую трансцендентность, в отличие от сомнительной имманентности общественной жизни (114). Даже признавая, что она нереализуема на практике, мы хотим сохранить ее в условиях высшей опасности, которая нас ожидает: остаться беззащитными в ситуации, когда все решения принимаются в узких рамках коллектива, который мы путаем с Пещерой. Нам кажется, что без трансценденции природы, безразличной к людским страстям; без трансценденции нравственного закона, безразличного к вызовам реальности; без трансценденции Суверена, способного принимать решения, больше не останется средств для борьбы с произволом общественной жизни, ни одного апелляционного суда.
Если мы вопреки всему сохраним различие между общим миром• и общим благом•, то именно для того, чтобы оставить за собой подобную возможность: или черпая в природе силы для борьбы с предвзятостью, или находя в неопровержимых ценностях средство для борьбы с естественным состоянием, или же требуя от непреложной воли Суверена, несмотря ни на что, придать форму некоторой политической воле. За отсутствием различия фактов и ценностей, мы не сможем заслужить доверие читателя, если не укажем ему в заключении этой главы, что в политической экологии содержится иная трансцендентность, иная экстериорность, которая ничем не обязана ни природе, ни моральным принципам, ни произволу Суверена (115).
Хотя эта экстериорность лишена довольно сомнительной пышности трех апелляционных судов, призванных, согласно старой Конституции, охранять общественную жизнь, у нее есть важное преимущество доступности, если мы согласимся продолжить работу по построению коллектива. Мы хотим заменить различие между общим миром и общим благом простым отличием между приостановкой и продолжением постепенного построения общего мира (в соответствии с определением, которое мы дали политике•). Обратимся к схеме 3.2.
Схема 3.2. Коллектив определяется исключительно по характеру его действий: существа, выброшенные наружу властью упорядочения, подают повторную апелляцию, чтобы «доставить беспокойство» власти принятия в расчет
Предыдущий раздел обозначил не путь, который должен проделать весь коллектив, а всего лишь один из циклов медленного продвижения вперед в болезненном процессе его исследования. Каждая новая пропозиция должна быть проверена на соответствие четырем ограничительным условиям, указанным в данной схеме. Она должна отвечать каждому из наших обязательных требований: она озадачивает тех, кто собирается для ее обсуждения, и предоставляет доказательства, позволяющие рассматривать всерьез ее претензии на существование; она требует, чтобы ее приняли в расчет те, на чьи привычки она может повлиять и кто по этой причине должен войти в состав жюри; если она преодолела два первых этапа, то сможет стать частью миропорядка только при условии, что ей найдется место в уже установленной иерархии; наконец, если она получит свое законное право на существование, то станет учреждением, то есть сущностью, и будет частью не подлежащей сомнению природы пригодного для жизни общего мира.
Работа по построению общего мира не может быть остановлена на этом, потому что у коллектива есть еще и внешняя среда! Если старая Конституция обязывала постоянно интерпретировать изменчивые исторические данные в онтологическом или политическом ключе, то в новой Конституции все изменилось. Различие фактов и ценностей не позволяло фиксировать изменения, потому что свершившиеся факты были налицо по определению: и хотя их открытие имело человеческую историю, у нее не было нечеловеческой историчности (116). Хотя состав акторов плюриверсума постоянно меняется, старая Конституция не регистрировала постоянные колебания позиций иначе, как в виде последовательности незримых реформ способов построения общего мира. Природа меняла метафизику, но мы никогда не понимали, что это был за фокус, так как предполагалось, что она, в соответствии со своим определением, предшествует любой метафизике. Это совершенно не так согласно новой Конституции, цель которой именно в том, чтобы в деталях отслеживать все промежуточные состояния между тем, что есть, и тем, что должно быть, регистрируя все последовательные изменения в рамках того, что мы назвали экспериментальной метафизикой•. Старая система допускала сокращение, ускорение, но она не понимала динамику, тогда как наша, направленная на замедление, неторопливое соблюдение процедур, позволяет понять характер этой деятельности…
Коллектив, как мы помним, пока еще не имеет критериев, в соответствии с которыми осуществляется артикуляция пропозиций. Ему известно только – в чем и заключается наша гипотеза, – что их нельзя разделить на две категории, полученные в нарушение процедур. В определенный момент – скажем, t0 – завершается первый цикл, формирующий некоторое количество сущностей. Прекрасно, но это также означает, что он отсеивает другие пропозиции, не имея возможности предоставить им место в коллективе. (Напомним, что у нас больше нет возможности преждевременной тотализации природы.) Об этих исключенных существах мы можем сказать только то, что они были подвергнуты экстериоризации или экстернализации•: мы приняли совместное решение не принимать их в расчет, не придавать им значения. Как это происходит, например, в вышеупомянутом случае с восемью тысячами погибших в автокатастрофах: мы не придумали, как сохранить их в качестве полноценных, то есть живых, членов коллектива. В соответствии с утвержденной иерархией мы решили, что скорость автомобилей важнее их смерти. На первый взгляд это может показаться шокирующим, но ни один моральный принцип не важнее процедуры постепенного построения общего мира: в настоящий момент использование скорости автомобиля для Франции «значит» намного больше, чем восемь тысяч невинных жертв. Это все, что мы можем сказать об этом выборе. Тем не менее между внутренней жизнью коллектива и тем, что вовне, постепенно появится некоторый зазор, в котором будут скапливаться отвергнутые существа, от которых мы вместе решили избавиться, которым мы отказываем в ответственности: напомним, что речь может идти о людях, а также о различных видах животных, о научных программах, концептах – словом, о любых отвергнутых пропозициях•, в определенный момент подпадающих под разгрузку, осуществляемую данным коллективом.
Однако у нас нет доказательств того, что все эти экстериоризированные существа навсегда останутся вне коллектива. Они не будут больше, как в старой пьесе о фактах и ценностях, играть неблагодарную роль вещей в себе, наличного бытия, объекта, ведущего войну против субъекта, ни еще менее понятую и почетную роль трансцендирующего морального принципа. Что будут делать эти отстраненные от дел существа? Они будут подвергать опасности коллектив при условии, что власть принятия в расчет будет достаточно разборчивой и внимательной. То, что было исключено властью упорядочения• в момент t0, может стать проблемой власти принятия в расчет в моменте t+1; мы еще вернемся к этой динамике в пятой главе. Это ретроактивная (117) петля коллектива в состоянии экспансии, которое делает его столь отличным от общества•, с его репрезентациями посреди инертной природы, состоящей из сущностей, перечень которых утвержден раз и навсегда, ищущего спасения в моральных ценностях, чтобы не принимать в расчет свершившиеся факты. Единственная трансценденция, которая нам требуется, чтобы вырваться из плена имманентности, находится буквально под рукой – вовне.
Согласно новой Конституции, то, что было эсктериоризировано, может подать апелляцию и снова постучаться в дверь коллектива и настоять, чтобы его приняли в расчет, разумеется, при условии составления нового перечня допущенных существ, новых переговоров, нового определения внешней среды. Внешняя среда больше не является неподвижной, инертной, она больше не является ни апелляционным судом, ни запасным вариантом, ни разгрузкой – а объектом внятной процедуры экстериоризации (118).
Принимая во внимание последовательность этапов, мы теперь понимаем, почему никак не могли использовать различие фактов и ценностей и насколько правильно мы поступили, отказавшись от него, истратив на это немало сил. Все наши требования имеют форму императива. Другими словами, все они включают в себя вопрос, что мы должны делать. Невозможно поставить вопрос о нравственности после того, как миропорядок уже сложился. Вопрос о том, что должно быть, как мы теперь понимаем, не просто один из моментов этого процесса, а равен ему по объему. Поэтому мошенничество заключается в том, что его хотят ограничить всего лишь одним из этапов. Соответственно, знаменитый вопрос об установлении фактов не сводится к тому или иному этапу, а задается постоянно. Озадаченность столь же важна для решения этого вопроса, как и весомость для тех, кто берется о ней судить, как и совместимость новых элементов со старыми, необходимых для институционализации и наделяющих их сущностью• с определенными контурами. Этим объясняется недоразумение, которое выражалось в том, что факты сводились только к одному из этапов данного процесса.
Если бы мы хотели любой ценой сохранить разделение между тем, что есть, и тем, что должно быть, мы могли бы сказать, что необходимо дважды пройти все этапы, задавая два отдельных вопроса одним и тем же пропозициям, соответствующим каждому их четырех требований: что за процедуры мы должны придерживаться, ведя дискуссию? Каков ее предварительный результат? За ложным различием фактов и ценностей скрывался важнейший вопрос о качестве процедуры, которую необходимо соблюдать, и о наброске ее траектории. Этот вопрос теперь не имеет никакого отношения к невразумительному спору между (политической) эпистемологией и этикой (119).
Читатели, возможно, заметят, что на самом деле мы заменили различие фактов и ценностей на другое, не менее отчетливое и носящее абсолютный характер, но в то же время превосходящее его и трансверсальное. Мы не говорим о «челноке» между принятием в расчет• и упорядочением•, а о куда более существенной разнице между отказом от построения общего мира и замедлении, которое делает обязательным соблюдение процессуальных норм, due process, которое мы решили назвать репрезентацией•. Мы без колебаний отводим важнейшую нормативную роль этому резкому противопоставлению. Именно из этого источника мы будем черпать силы, чтобы негодовать и сопротивляться. «Представлять вместо того, чтобы обходить стороной» – таков девиз политической экологии. В этом, как нам кажется, можно найти куда более неистощимый и прозрачный исток нравственности, чем в том тщетном возмущении, с которым пытались спасти ценности от осквернения фактами и факты – от осквернения ценностями.
В начале этой главы мы хотели получить реальность, экстериорность и единство природы при соблюдении процессуальных норм. Доведя эту работу до конца, мы знаем, что в этом нет ничего невозможного. Мы должны просто изменить наше определение экстериорности, потому что социальное имеет совершенно иную «окружающую среду», чем коллектив: первое является окончательным и сделано из определенного материала, тогда как второе – предварительным и получено в результате ясной процедуры экстериоризации. Как только член сообщества, существующего в соответствии со старой Конституцией, выглядывал наружу, он решал, что природа состоит из объектов, безразличных к его страстям, и он должен либо подчиниться им, либо навсегда порвать с ними. Когда мы смотрим вовне, мы видим некую совокупность, которую только предстоит сформировать из отверженных (людей и нелюдéй), которыми мы решили принципиально не интересоваться, а также подающих апелляцию (людей и нелюдéй), которые, каждый по-своему, настаивают на том, чтобы стать частью нашей республики. Не остается ничего ни от старой метафизики природы, ни от древнего мифа о Пещере, хотя все существенное для жизни общества сохраняется: нелю́ди, выстроенные в когорты; экстериорность, произведенная в соответствии с правилами, а не тайком; единство развивающегося коллектива, вставшего на путь исследования, к которым стоит добавить дискуссионные процедуры, которые мы намерены прояснить.
Где же теперь находится экстериоризированная природа? Так вот же она – подвергнутая тщательной натурализации, то есть социализированная внутри коллектива в состоянии экспансии. Настало время найти ей достойное место, определив ей постоянное место жительства и снабдив подобающим девизом, но не тем, что выдвигали первые демократии – «Нет налогам без представительства!», а новой максимой – «Нет реальности без репрезентации!»
4. Компетенции коллектива
У метафизики дурная репутация. Политики не доверяют ей почти так же, как ученые. Умозрительные построения, которыми занимаются философы, уединяясь в своих кабинетах и воображая при этом, что они способны понять, как устроен мир, – именно этого теперь стараются избегать все серьезные люди. Но это презрение никак не помогало понять политическую экологию. Если мы воздерживаемся от занятий метафизикой, то это значит, что мы верим в уже известную нам модель мироустройства: в ней есть общая для всех природа, а также второстепенные различия, которые касаются каждого из нас как носителя определенной культуры или как частного лица. Если бы это было действительно так, то тем, кто должен определять общее благо•, не пришлось бы ломать голову, так как большая часть их работы была бы выполнена: объединенный, объединяющий, универсальный мир в таком случае уже существовал бы. Им осталось бы только привести в порядок разнообразные мнения, убеждения и точки зрения – задача, разумеется, весьма деликатная, но принципиально не такая сложная, поскольку это разнообразие не касается ничего существенного, что могло бы затронуть сущность вещей, которая хранится отдельно в холодильном отделении внешней реальности. Если мы понимаем природу подобным образом, разделяя вопрос об общем мире• и вопрос об общем благе•, то, как мы могли убедиться в предыдущих главах, мы приходим к наиболее политизированной разновидности метафизики, а именно к метафизике природы.
Экологические кризисы, как мы теперь понимаем, нисколько не поколебали эту метафизику природы•. Напротив, осмыслявшие их теоретики попытались не только отстоять эти модернистские представления о природе, но и расширить ее полномочия, наделив еще более важной функцией, приведшей к параличу общественной жизни. Усилия эти оказались тщетными, так как они были направлены на то, чтобы погасить пламя свободы, которое рассчитывали разжечь, всячески принижая человека и апеллируя к непреложной истине природного порядка. Пропасть между теорией и практикой активистов является объяснением того, почему вклад экологии в философию политики и науки был до сих пор столь скромен. Эта замедленная реакция кажется тем более странной с учетом того, что каждый кризис так или иначе затрагивал научные дисциплины и исследователей со всеми их неопределенностями: без специалистов по атмосфере, кто узнал бы о глобальном потеплении? Без биохимиков, кто обнаружил бы прионы? Без специалистов по легочным заболеваниям и эпидемиологов, кто смог бы установить связь между асбестом и раком легких? Наследие Пещеры давит тяжким грузом, именно этим можно объяснить тот факт, что мы так долго игнорировали политическую новизну экологии, вызывающую конституционный кризис всякой объективности.
Чтобы устранить это противоречие между практикой экологических и санитарных кризисов и теоретическим уроком, которые они нам якобы должны преподать, – «Вернемся к природе!» – нам следовало бы интересоваться как науками, так и политикой, чтобы полностью отвергнуть старую Конституцию: «Мы знаем, как спасти природу!» Мы предлагаем не какое-то сомнительное решение вместо хорошо зарекомендовавшей себя системы, а замену двух нелегитимных палат старой Конституции на две палаты, созданные при соблюдении процессуальных норм.
Мы не перенесемся в страну молочных рек с кисельными берегами: отказываясь от возможностей, которые дает нам природа, мы только создаем новые трудности! Единственная, но весьма существенная разница заключается в том, что мы сможем извлечь пользу из этого эксперимента, если можно так выразиться, в натуральную величину, в который оказывается вовлечен весь коллектив. Там, где Старый порядок прибегал к сокращениям, не извлекая никакой пользы из своего опыта, мы приведем в действие сложную процедуру, которая позволит нам понять, как заниматься экспериментальной метафизикой•.
На самом деле, модернистская Конституция представляла экологические дебаты как неразделимый сплав рационального и иррационального, естественного и искусственного, объективного и субъективного (120). Новая Конституция видит в тех же самых кризисах отнюдь не спор о рациональном и иррациональном: мы постоянно препираемся по вопросу о пригодном для обитания общем мире, в котором каждый – человек или не-человек – хотел бы жить. Ничто и никто не должен упрощать, сокращать, ограничивать или сводить к чему-либо другому этот спор, утверждая как ни в чем не бывало, что речь идет всего лишь о «представлениях людей», а не о сущности самих феноменов. Пока мы считали себя модерными, мы могли претендовать на то, что нам удалось преодолеть разнообразие мнений благодаря систематической определенности природных фактов: «Чем больше мы будем знать о Науке, тем быстрее будет достигнуто всеобщее согласие и тем меньше будет беспорядка».
Но кто сегодня без дополнительных объяснений готов увязать вместе понятия внешней реальности и единодушия? Маловероятно, что мы с помощью этой аполитичной политики общественной жизни сможем убедить вступить в союз тех, кто считает, что мир состоит из атомов, и тех, кто ожидает спасения от Бога, который создал этот мир шесть тысяч лет назад; тех, кто предпочитает истребление перелетных птиц вступлению в Евросоюз; тех, кто хочет развивать генетическую терапию, чтобы вылечить своих детей, даже вопреки мнению биологов; тех, кто в Швейцарии голосует против превращения своих рапсовых полей в филиал лаборатории; тех, кто против выращивания человеческих эмбрионов и ассоциаций больных синдромом Паркинсона, которые нуждаются в этих эмбрионах для лечения своего недуга… Никто из этих членов коллектива не желает иметь свое сомнительное частное «мнение» «относительно» универсальной и не подлежащей обсуждению природы. Все они хотят принимать решения о судьбе общего мира, в котором живут. Конец модернистского отклонения, начало политической экологии.
Таким образом, выбор состоит не в том, заниматься или нет метафизикой, а в том, вернуться ли нам к старой метафизике или же обратиться к метафизике экспериментальной, позволяющей выяснить, как проблема соотношения общего и обособленного миров, которую мы считали раз и навсегда решенной, может быть поставлена заново, и предложить нам решения, отличные от мононатурализма• и его разрушительного последствия в виде мультикультурализма. Мы, разумеется, не планируем вернуться к метафизике кабинетных философов (под эту категорию не подпадают те, кто согласен тщательно исследовать происходящее во вновь созванных ассамблеях!). После того как мы во второй главе определили общие свойства членов коллектива, а в третьей – новое разделение властей между принятием в расчет• и упорядочением•, нам теперь предстоит затронуть вопрос о компетенциях, которые позволят в реальном времени следить за работой экспериментальной метафизики, которую старая Конституция, в силу своей мании делить все на две категории – природы и общества, – никак не могла занести в протокол. Так или иначе, перед тем, как пожать плоды трудов наших, мы должны устранить еще одно препятствие, полностью осознав опасность иной разновидности натурализма.
Третья природа и спор двух «экополитик»
Домочадцы, поселение, жилище по-гречески называются ойкос. Комментаторы часто выражали недоумение по поводу судьбы слова «экология», «науки о поселении», которое обозначало не человеческое жилище, а именно совместное проживание множества людей и нелюдéй, которых нужно было поместить внутри одного и того же дворца наподобие концептуального Ноева ковчега. Как объяснить, спрашивали они, что термин, который мы используем для обозначения внешней природы, пришел из греческого языка, в котором он был наиболее антропоцентричным, одомашненным, клановым из всех терминов? (121)
Подобная проблема существует и в случае с термином «экосистема». Полагая, что они преодолели старые ограничения антропоцентризма, не различавшего природу и общество, изобретатели термина «экосистема» унаследовали от модернизма его главный недостаток, состоявший в том, что объединение происходило без учета выраженной воли людей и нелюдéй, которые были собраны вместе, объединены и укомплектованы. Был даже найден способ поместить всех этих людей и нелюдéй в некоторую учрежденную всеобщность, вне политического мира, в саму природу вещей. Экосистема занималась интеграцией, но делала это слишком быстро и чересчур экономила средства (122). Наука об экосистемах позволяла уклониться от требований дискуссии, чтобы вне всяких процедур соорудить общий мир, и это стало серьезным просчетом демократии. Наука продолжала свою разрушительную работу даже в философии, которая считала, что может положить этому конец. В этом, возможно, была своя эко-логика, но уж точно не «эко-политически корректная» (123).
У политической экологии, разумеется, была модель: другая «наука о поселении», другой «принцип внутреннего устройства», неотличимый с точки зрения этимологии и названный эко-номия. Именно из нее, а не из общего мира ученых или экологических активистов благоразумие черпает свои представления о природе, давая возможность номосу парализовать жизнь полиса. Нам удалось избавиться от первой природы Пещеры и (политической) эпистемологии, мы смогли поставить под сомнение вторую природу теоретиков экологии, однако наши усилия оказались бы тщетными, если бы мы сохранили в неприкосновенности третью природу, которая претендует на то, чтобы обеспечивать все потребности коллектива, ничем не пожертвовав ради этого ни в политическом, ни в научном плане.
Сняв проклятие «серой и холодной» природы с ее первичными качествами, устранив недоразумения «теплой и зеленой» природы экологов, мы теперь должны преодолеть препятствие в виде «красной и кровавой» природы экополитики, претендующей на то, чтобы заменить отношения, возникающие при постепенном построении общего мира, на закон джунглей, природы, сведенной к животному состоянию и лишенной доступа к политической жизни. Влияние этой третьей природы тем заметнее, что, прикрываясь смутным дарвинизмом, она становится не столько движущей силой, пришедшей извне, сколько фактором, действующим внутри самого коллектива (124).
Экономика не более «эко-политически» корректна, чем экология. Номос и логос относятся по праву к полису только в том случае, если они не используются для упрощения и не нарушают правовое состояние. За эту строгость, которая позволяет ей претендовать на титул самой hard [15] из всех социальных наук, экономике приходится платить высокую цену. На первый взгляд, она занимается вопросами, которые мы до сих пор помещали под рубрикой политической экологии. Она также занимается объединениями людей и нелюдéй, которые она называет «людьми» и «благами»; она также пытается принять в расчет принципы, которые нужно интернализировать при вычислениях; она также желает выработать систему приоритетов при принятии решений, необходимых для оптимального использования ресурсов; она рассуждает об автономии и свободе; она производит некоторую внешнюю среду, состоящую из элементов, предварительно выведенных из расчетов, то есть того, что, как она сама выражается, было «экстериоризировано».
Поэтому коллектив, который мы строим, всего лишь возвращается к здравому смыслу политэкономии, модернистской дисциплины по определению, позволяющей правильно вычислить всю совокупность ассоциаций людей и благ и автоматически сфокусироваться на лучшем из возможных миров, если только грубые притязания государства не вмешаются и не нарушат ее расчеты. Собирая таким образом коллектив, политэкономия остается недостижимым горизонтом нашей эпохи: экономика поглощает экологию, как кит – пророка Иону.
«Природа», в чем мы уже успели убедиться, отсылает не к сфере реального, а к определенной функции политики, низведенной до уровня [кромвелевского] «охвостья», к определенному способу выстроить отношения между свободой и необходимостью, между множеством и единством, к тайной процедуре, необходимой для распределения власти и права голоса, а также для того, чтобы вернуться к разделению фактов и ценностей. Вместе с политэкономией натурализм полностью заполняет внутреннее пространство коллектива. Благодаря понятию самоуправляемого рынка становится возможным обойти вопрос о правительстве, поскольку внутренние отношения в коллективе станут напоминать те, что в экосистемах связывают хищников и их добычу (125). Отношения силы приводят к окончанию любой дискуссии, но это не сила Суверена, а сила неумолимой необходимости, существование которой констатирует Наука. Ни баланс, ни равновесие не будут предпочтительнее напоминания о «природе в нас». Идеальным было бы отсутствие всякого правительства (126). Внутри самого коллектива основная часть отношений между людьми и нелюдьми́ попадет в автономную сферу, настолько же отличную от политики и ценностей, как звезды, морские пучины или пингвины от Земли Адели. Три объединенные природы покончат с коллективом навсегда. Законы серой и холодной природы, моральные обязательства природы теплой и зеленой, строгая необходимость природы red in tooth and claw [16] заранее делают бессмысленными любые выступления (127): за политиками, возможно, остается последнее слово, но сказать им особо нечего…
Благодаря смысловому сдвигу в значении «сберегать», дух языка придал глаголу «экономить» уничижительный смысл «не прилагать усилий», сокращать – одним словом, избегать. Едва ли найдется более подходящий термин для «политэкономии», которую мы определяем именно как «экономию на политике» (128)! Четыре функции, описанные в третьей главе, позволят нам понять, каким образом эта «Наука о ценностях», эта аксиология, позволяет избежать как политики во имя Науки, так и наук во имя требований нравственности. Она понадобится при вычислениях, позволяя сэкономить время на репрезентации•.
Экономика в полной мере использует глубокую двусмысленность фактов и ценностей, разделить которые так же сложно, как принять одно за другое. Можно подумать, что модернистская Конституция была написана специально для нее. Если вы скажете, что она носит научный характер и должна подробно описывать сложные соединения вещей и людей в соответствии с требованием озадаченности•, она вам ответит, что у нее нет времени на то, чтобы быть описательной, потому что она должна максимально быстро перейти к оценочному суждению, а ведь это важнейшая часть ее работы. Если вы согласитесь, удивившись подобному легкомыслию, то вас ожидает сюрприз, так как вы обнаружите, что для получения оптимальных результатов она совершенно не утруждает себя консультациями и переговорами, ограничиваясь вычислениями. Требование весомости• и публичности• ее также не особо беспокоит. Если вас возмутит подобная бесцеремонность, экономика ответит вам «Тссс! Я считаю» – и сделает вид, что не нуждается ни в консультациях, ни в переговорах, потому что она является Наукой, и если определяет то, что должно быть, то только именем железных законов, столь же незыблемых, как и сама природа. Если вы вежливо заметите, что нельзя стать наукой, давно не отвечая условиям описания, не впадая в противоречие, не используя дорогостоящие и хрупкие инструменты, она вам ответит, что именно она решает, что нужно делать; а если вы, теряя терпение, вновь возразите, что экономика относится без должного уважения к ценностям, потому что она нарушила все предписания, то она презрительно ответит вам, что описывает исключительно факты и не занимается ценностями! Давая экономическим дисциплинам возможность развиваться, мы, совершая чудовищную манипуляцию, отказываем коллективу в праве описания во имя предписания и в любой публичной дискуссии во имя простого описания.
Обращаясь к политэкономии, мы делаем эту невероятную работу по разделению фактов и ценностей, которую мы сравнили с сизифовым трудом, настолько эффективной, что она позволяет сбить с толку как ученых, так и политиков: мы больше не можем использовать ни человеческие ценности против грубых фактов, ни нелицеприятные факты против необоснованных ценностей, не прибегая при этом к абсолютному разделению фактов и ценностей! В конечном счете совместная жизнь будет просчитана, а не тщательно выстроена. Железные законы экономики вытеснят экополитику. Коллектив, лишившись главного, не сможет собраться (129).
Если мы просто отведем опасность, которую представляет для демократии апелляция к Науке, то это ничего не даст в том случае, если мы сохраним внутри самого коллектива этот поразительный принцип, в соответствии с которым производство ценностей сводится к констатации фактов! «Наука о ценностях», аксиология, будет править вместо политической экологии, обходясь как без иерархии ценностей, так и без научного производства. Нет, определенно, едва ли что-то может снизить напряжение между в равной степени политическими экономикой и экологией, хотя первая осуществляется вне всяких процедур, а вторая по крайней мере имеет смелость формально соответствовать своей исторической миссии. На смену неофициальной двухпалатной системе, столь типичной для модернизма, должна прийти вполне определенная двухпалатная система, типичная для новой эпохи, предшествующей, охватывающей, сопровождающей модернизм с его невероятными упрощениями.
К счастью, экономика смешивает науку и политику: так как нам удалось освободить науки от засилья Науки, а политику – от ада социального, то должен быть способ избавить экономику• от ее притязаний выдавать поиск ценностей за уже установленные факты, а поиск фактов – за уже выверенные ценности, слегка изменив ее, как в третьей главе. Задаваясь вопросом, каким образом она подчиняется одновременно двум репрезентативным властям («сколько нас?», «можем ли мы жить вместе?»), мы поймем, каким образом она становится куда более презентабельной, поскольку ее репрезентативные возможности увеличиваются. Вместо того чтобы различать факты и ценности вертикально (что никогда в полной мере не удается), становится возможным провести горизонтальное различие верхней и нижней части коллектива (см. схему 3.1). Экономика, наконец, встает с головы на ноги! Теперь мы снова можем отличать экономику как дисциплину и экономику как род деятельности (что мудрейшие англичане выражают при помощи двух слов: economics, отсылающего к науке, и economy — к изучаемому предмету) (130).
Больше нет ни экономики, ни Homo economicus [17], а только возрастающая экономизация отношений. Снизу больше не будет экономической инфраструктуры, которую наверху будут изучать экономисты: экономизаторы (в широком смысле слова этот термин относится к инструментам бухгалтерского учета и разработчикам моделей, математикам, маркетологам и статистикам (131)) будут форматировать коллектив, стабилизируя отношения между людьми и нелюдьми́. В головах агентов нет специальных механизмов, ответственных за экономические расчеты, они конструируют расчетные центры, в которых можно на бумаге произвести некоторые вычисления, необходимые для координации действий (132). Как только мы извлечем экономику одновременно из нашего сознания и окружающего мира и сведем ее к некоторому набору неопределенных процедур, отвечающих за согласование, координацию и производство внешних факторов, политэкономия перестанет нас отравлять и конкурировать с политической экологией. Определенно, желудочный сок политэкономии не может справиться с политической экологией. Библейский рассказ как бы намекает нам: кит три дня спустя изверг Иону на пляж, чтобы тот мог продолжить свой путь… (133) Однажды встав на ноги, экономизация превращается, в чем мы вскоре убедимся, в одну из гильдий, необходимых для функционирования коллектива. Как первая природа серая и холодная или вторая теплая и зеленая, третья – багровая и кровавая, хотя она и имела неограниченную власть внутри коллектива, была всего лишь одной из разновидностей модернизации, способом сэкономить на постепенном построении общего мира. Теперь, когда ни одна натурализация не позволит нам уклониться от обязательств по его построению, мы наконец сможем приступить к выполнению нашей задачи.
Вклад гильдий в оснащение палат
Мы не должны, как в старой спекулятивной метафизике, решать, как будет обустроена вселенная, а только определиться с оснащением, инструментами, полномочиями, компетенциями, необходимыми для запуска экспериментальной метафизики и коллективного решения проблем поселения, ойкоса, внутреннего устройства. Чтобы сделать изложение этого раздела более доступным, мы начнем со старинных ремесел, к которым обращалась старая Конституция (134), и определим их роль в осуществлении различных функций общественной жизни, то есть в четырех функциях, определенных в третьей главе (задание № 1 – озадаченность•; задание № 2 – консультация•; задание № 3 – иерархия•; задание № 4 – учреждение•), к которым мы добавим две компетенции: поддержка разделения или челнока между властью принятия в расчет и властью упорядочения (задание № 5) и, наконец, то, что можно назвать сценаризацией• коллектива как единого целого (задание № 6) (135). Мы извлечем выгоду из того факта, что все гильдии вносят свой вклад в развитие одних и тех же компетенций, вместо того чтобы, как при Старом порядке, ограничиваться искусственно выделенной сферой реальности, когда Наука занималась природой, политика – социальным, мораль – первоосновами, экономика – инфраструктурами, администрация – государством. Как четыре феи, склонившиеся над колыбелью нового коллектива, каждая профессия принесет ему свои дары.
Вклад наук
Чего нам ждать от наук после того, как они освободятся от Науки? Что они будут ограничиваться фактами, феноменами, данными, узкими границами разума, оставляя профессионалам в области нравственности и политики все прочие функции? Разумеется, нет. Напротив, они должны внести свой вклад в осуществление всех функций (136). Разберем каждую из задач, выполнению которых должны способствовать науки, из соображений удобства следуя вышеприведенной нумерации, которую мы еще раз представим в схеме 4.1. Этот до известной степени книжный прием позволит нам постепенно избавиться от дурных привычек, которые обязывали нас заниматься каждой из гильдий по отдельности, вместо того чтобы скоординировать их усилия по возведению одного и того же общественного здания. В дальнейшем мы увидим, каким образом каждое из этих ноу-хау способствует осуществлению тех же самых функций в рамках своих полномочий. В следующем разделе мы изменим порядок изложения и начнем с компетенций коллектива, чтобы определить одновременно его динамику и новые профессии, в которых он нуждается.
Схема 4.1. Каждое ноу-хау в этом разделе (здесь представлен случай наук) вносит вклад в осуществление шести функций коллектива
Науки наделяют озадаченность важнейшим преимуществом в виде инструмента и лаборатории, необходимых для обнаружения едва заметных феноменов (задание № 1). Не будем забывать, что нам необходимо ввести в коллектив ассоциации людей и нелюде́й, которые наделены даром речи только благодаря сложнейшим артикуляционным аппаратам (см. вторую главу). Ибо кто лучше ученых может заставить мир говорить, писать и рассуждать? Их работа состоит именно в том, чтобы добиться, посредством инструментов и лабораторий, изменения точки зрения, столь необходимого для общественной жизни. Как принять в расчет новые существа, если мы не сможем радикально изменить перспективу? Даже если Наука претендовала на то, что она обитает не в этом мире, науки точно живут не на Сириусе. Они предлагают нечто большее, чем точка зрения «из ниоткуда», как если бы они могли быть выше любой точки зрения: они, напротив, позволяют постоянно изменять точку зрения за счет экспериментов, моделей и теорий. А если они могут взглянуть на мир с Сириуса, то только благодаря телескопам, межзвездным кораблям, лучам спектрографов и физическим теориям. Такова свойственная им форма релятивизма. Науки положат в общую корзину свои ноу-хау, необходимые для инструментализации, оснащения, регистрации, прослушивания стремительно умножающихся пропозиций, незаметных и весьма разнообразных, но требующих, чтобы их принимали в расчет.
Они также примут участие в консультации (№ 2), за счет компетенции ставящей их выше прочих профессий, через ученый спор и экспериментальное испытание. Во второй главе мы убедились, что именно затруднения речи• особенно важны для общественной жизни или, другими словами, для качества репрезентации. Так как именно науки ввели принцип, согласно которому всякий претендент на существование связан с целой группой оппонентов ad hoc и со всей совокупностью надежных свидетелей•, выбранных в зависимости от обстоятельств, причем каждый постарается обнаружить недостатки другого, заставляя одни и те же существа по-разному высказываться в ходе различных испытаний. В поиске протокола опыта дисциплины быстро подберут для каждого претендента на существование тех коллег, которые смогут судить о них наилучшим образом и решить, какие испытания быстрее всего заставят их изменить свое мнение (137). Благодаря наукам требование весомости обретает точный смысл, поскольку каждый феномен допускается после соответствующего опроса. Если бы мы только могли сделать публичной и всеобщей эту компетенцию «белых халатов», то смогли бы существенным образом увеличить способность первой палаты идти на риск, так как нам удалось бы понять, каким образом каждое существо может своими собственными словами говорить о своих проблемах и выбирать себе судей.
Как можно хоть на секунду представить, что мы отказались от наук ради того, чтобы распределить в порядке важности разнородные существа и поместить их в рамки однородной иерархии (№ 3), а ведь это требование в недавнем прошлом предъявляли моралисты, запрещая ученым, чья деятельность ограничена фактами, подсовывать им свои пробирки. Но даже в этом случае мы полагаем, что именно наука обладает наиболее важной компетенцией, обдумывая возможные варианты и предлагая общественной жизни разнородные классификации и способы урегулирования. Не будем забывать, что выполнение этой функции не может быть обеспечено, если перечень существ, подлежащих упорядочению, составлен раз и навсегда или если он состоит из сущностей• с определенными контурами. Поэтому нам нужны смелые ученые с фантазией, чтобы иметь возможность сфокусироваться на определенном порядке предпочтения от самого важного до самого незначительного и исправить ситуацию, перенося на другие существа и другие свойства основную тяжесть необходимых компромиссов. Один актуальный ученый спор указывает на этот феномен: если мы можем пересаживать человеку органы свиньи (предварительно «очеловечив» их, чтобы избежать отторжения), сложный этический вопрос о смерти мозга теряет свою важность (138). Самое незначительное изменение в структуре материала, техническая находка, юридическая инновация, новый подход к статистике, ничтожное колебание температуры или давления… и то, что было невозможным, становится возможным, то, что застопорилось, приходит в движение (139). Грех гордыни и высокомерия, в который во имя Науки впадали ученые, становится гражданской добродетелью, поскольку даже в своем безрассудстве они принимают участие в поиске мудрости, предлагая изменить привычки• пропозиций, находящихся на рассмотрении коллектива.
Кто не хотел бы, чтобы ученые со всеми их талантами способствовали осуществлению функции учреждения (№ 4)? Если мы критиковали Науку за то, что она не отличала озадаченность от определенности установленных фактов, то только потому, что она предлагала перейти от одного к другому вне стандартной процедуры. Больше нет ничего незаконного в самом факте использования компетенций ученых не только для получения консенсуса, но и в том, чтобы принять формы жизни, инструменты, парадигмы, учения, привычки, черные ящики. Как только мы вернемся к правовому состоянию, все недостатки ученых превратятся в достоинства: да, ученые знают, как сделать необратимым то, что длительное время являлось предметом спора, и сделать его предметом договора. Коллектив, который не способен на длительное время зафиксировать выработанные позиции, не в состоянии выжить. Эта привязанность к парадигмам, все эти пороки упрямства, узколобости, зашоренности, в которых столь часто обвиняют ученых, становятся важнейшими достоинствами, необходимыми общественной жизни, потому что именно с их помощью коллектив обретает устойчивость (140). Благодаря этим ноу-хау ученых привычки становятся сущностями•, а причинные связи и зоны ответственности оказываются надежно установлены.
Можно сказать, что о разделении двух новых властей (№ 5) исследователям особо сказать нечего, так как они давно привыкли к удобствам Науки, что они только мешали ему, как ни в чем не бывало проезжая остановку принятия в расчет• и останавливаясь только на упорядочении•. Но это означало бы забыть о том, что ученые тратят значительную часть своего времени на защиту своей автономии. Эта борьба говорит не только о привычном для них корпоративном духе. Способность отстаивать свои собственные вопросы, невзирая ни на какой здравый смысл, даже если число тех, кто их понимает, незначительно, а их задачи не представляют особой важности, является эффективнейшим способом самозащиты, необходимым для поддержания непреодолимой границы между требованиями первой и второй палат. Мы не должны ограничивать себя и не принимать в расчет новое существо под предлогом того, что оно не входит в действующий перечень членов коллектива.
У этого требования автономии в постановке вопроса, которое все еще путают с непреложным правом на знание, признание и финансирование, есть всего лишь один недостаток: оно остается привилегией, закрепленной за учеными (141). После его распространения на всех членов коллектива – как на людей, так и на нелюдéй – это требование станет определяющим для хорошего самочувствия коллектива. Эта способность настаивать на своих собственных вопросах, как бы сильно́ не было давление более престижных дисциплин и влиятельных учреждений, должна не просто вызывать восхищение, а стать всеобщей. К тому же это единственный способ использовать вклад первичных качеств•, не позволяя им полностью вытеснить качества вторичные•.
Каков вклад наук в осуществление последней функции (№ 6), которая предлагает всему коллективу сценаризацию, представляя его как единое целое и снимая внутренние и внешние ограничения, как если бы исследователь общего мира наконец обрел свою уютную гавань? И на этот раз благодаря правильной процедуре яд становится лекарством; привлекательные изъяны безумных ученых превращаются в достоинства новых граждан коллектива. Метафизика природы• под властью Науки обладала исключительно недостатками, но теперь она становится важнейшей функцией наук. Нет ничего важнее, чем появление все новых больших нарративов, при помощи которых исследователи «связывают» коллектив как единое целое вместе с человеческой и нечеловеческой историей в форме лабораторного обобщения. Большие нарративы о происхождении мира, начиная с большого взрыва до термической смерти солнца, об эволюции жизни от амебы до Эйнштейна, универсальной истории from Plato to NATO [18], ставшие привычными завтраки с Богом за разговором о «теории всего» – любая из этих причудливых фресок предлагает вариант возможного объединения, и неважно, что они смешивают установленные факты с самыми буйными фантазиями и мечтают о том, что невозможно доказать, и что таким образом они выходят далеко за границы любого благоразумия. Неважно, что даже самая аскетичная из этих редукций рассчитывает утвердиться за счет устранения большинства существ, населяющих мир. Наоборот, чем меньше существ требуется принять в расчет, тем убедительнее будет тотализация. На этой просторной и наспех оборудованной сцене важно лишь производство общего мира, которое на этот раз является законным и представляется коллективу как новый повод для объединения. Натурализация больше не является недостатком, потому что природа не заседает в отдельной палате: она становится генеральной репетицией, предложением услуг, возможным сценарием того, чем может стать коллектив, если он объединится. Речь больше не идет о том, чтобы сделать первичные качества основой всего остального, а о том, чтобы превратить повествование, сведенное к простейшей схеме, во временную оболочку коллектива.
Этот небольшой отрезок пути, по которому мы проследуем в следующем разделе, продемонстрировав взаимодействие различных гильдий, служит доказательством незаменимой роли наук в осуществлении шести функций коллектива, роли тем более плодотворной, что отныне ее выполняют не только они. Как только мы преодолеваем отклонение, навязанное Наукой с ее мечтой о непорочности и экстериорности, науки, посвятившие себя общественной жизни, которую они никогда не могли игнорировать, открывают для себя смысл слова «незаинтересованность», однако отныне это означает не то, что они холодны, оторваны, «не имеют интереса», а то, что они могут наравне со всеми соответствовать требованиям озадаченности и консультации, без всяких ограничений со стороны нижней палаты, заставляющей их быть разумными и реалистичными. И наоборот, как только исследователи станут привлекаться к осуществлению функций иерархии и учреждения, они придут к той форме незаинтересованности, которую они никогда не должны были терять из виду, поскольку верхняя палата больше не будет их угнетать и они смогут наконец избавиться от этой болезненной одержимости своими специальностями, которая делала их столь подозрительными в глазах партнеров, обеспокоенных тем, что они ставят свои интересы и проекты выше интересов общего мира.
Когда мы воспринимали ее всерьез, старая Конституция обязывала нас постоянно критиковать науки за лежащую на них печать идеологии, за незаконное пересечение разграничительной линии между простыми фактами и ценностями, за то, что несчастные люди изнемогали под пятой инструментального разума. Нужно было постоянно наказывать ученых за их надменность и заточать их в лабораторную тюрьму, сажая на нары и запрещая им высовываться наружу. Мы сделали все наоборот: вместо того чтобы критиковать науки, необходимо уважать их ноу-хау, дать им возможность развернуться в полной мере и внести свой неоценимый вклад в построение общего мира. Нам теперь совершенно не требуется более сложная, эмоциональная, человечная, диалектическая «метанаука», которая позволит «преодолеть ограниченный рационализм существующих научных дисциплин». Наукам ни к чему какая-то особая непорочность или сложность: единственное, что сбивало их с пути, это претензия на то, чтобы выполнять все шесть функций, не пересекаясь с другими профессиями, которые преследуют те же цели, но другими средствами. Вернемся же вместе с науками к шумным демократическим собраниям, под сенью которых они якобы были воспитаны.
Вклад политиков
Чтобы понять, каким образом можно объединить различные ноу-хау и предложить коллективу свои компетенции, нам предстоит обратиться к другим гильдиям, и в первую очередь – к гильдии политиков, которая связана с теми же ассоциациями людей и нелюдéй, но имеет принципиально иные полномочия по сравнению с привычными нам «белыми халатами». Слово «политик» обозначает определенную профессию не более чем «ученый»; мы благоразумно отталкиваемся от существующих профессий, чтобы определить их вклад в осуществление шести функций коллектива, которые интересуют нас на данный момент.
Политики, как мы уже поняли, не реализуют свои полномочия в другой сфере реальности – мире социального, ценностей и соотношения сил. Они наделены теми же самыми компетенциями, что и ученые, но обладают иными ноу-хау. На первый взгляд, может показаться странным, что мы требуем от политиков внести вклад наравне с исследователями и их лабораторными инструментами в озадачивание коллектива (№ 1), так как один нелепый предрассудок противопоставляет внимательного к фактам ученого и политика, предающего интересы своих избирателей, выступая вместо них (142). На самом же деле ни тот ни другой не могут совершенно не считаться с мнением тех, кого они представляют, демонстрируя при этом аккуратность и преданность. Но политики, со своей стороны, привносят определенное чувство опасности, которое объясняется тем, что различные изгои могут преследовать коллектив и настаивать на том, чтобы на этот раз с ними считались. Вспомним, что на самом деле принятие в расчет• – это не начало процесса, а его возобновление. Нет никакой гарантии, что те, от кого решили избавиться, не вернутся и не постучат в дверь, руководствуясь некими недоступными нам мотивами, которые нужно понять как можно скорее. Важнейшая компетенция политиков состоит в том, что они живут в условиях постоянного риска, пытаясь сформировать некоторое представление о «нас», притом что до них постоянно доносятся невнятные возгласы: «Может быть, вы, но не мы!» Именно сотрудничая с учеными и пользуясь теми же инструментами, политики смогут обнаружить опасные пропозиции и сделать общественную жизнь более насыщенной, отвечая при этом требованиям внешней реальности.
Никто не спорит с тем, что у политиков есть возможность существенным образом влиять на процесс консультации (№ 2). Подобно тому как исследователи научились организовывать ученые споры и судить о них на основании убедительных опытов, политики лучше других научились превращать в активных участников надежных свидетелей•. Политиков часто упрекают в том, что они используют искусственные конструкции для создания представительной власти, которая имеет право голоса, хотя сказать ей особо нечего, так как ей не дают возможности самостоятельно ставить вопросы. В таком случае мы забываем о том, что умножение инструментов, необходимых для производства участников дискуссии, не менее важно, чем производство фактов в исследовательских лабораториях. Без работы по производству голосов их не будет вовсе. Без этого хитроумного и замысловатого исследования, без непрерывного поиска тех, кто мог бы заседать в жюри, отбирающем претендентов на существование, нельзя говорить о качественной консультации. Создавать из всего, что попадется под руку, голоса, которые запинаются, протестуют и рассуждают, не в этом ли состоит основная функция политиков, объясняющая их непрерывную активность, непременную бдительность, их постоянные повторения, их вечное беспокойство и затруднения речи? В сочетании с голосами коллег и надежных свидетелей, позволяющих судить о качестве фактов, это производство голосов не отправит их снова на нары, а будет способствовать созданию ассамблеи, заслуживающей большего доверия, более серьезной и законной. Ученые сами по себе никогда не смогли бы провести настолько широкую консультацию и соответствовать требованию весомости. У них была привычка слишком быстро договариваться между собой, как только группа компетентных судей была сформирована ad hoc [19]. Получив помощь со стороны политиков, они смогут составить компетентное жюри для каждого претендента, чтобы оценить его шансы на существование, исходя из его специфических требований и проблем (143).
Несмотря на видимость, политики вносят свой посильный вклад в иерархию (№ 3) совсем не потому, что они занимаются людьми. На практике политики никогда не занимаются исключительно людьми, а именно ассоциациями людей и нелюдéй, городов и пейзажей, производств и развлечений, вещей и людей, генов и свойств, благ и различных соединений. Их основная компетенция, которую не могут имитировать даже самые изобретательные ученые, объясняется способностью к компромиссу. Политиков всегда обвиняют, делая это в самых уничижительных выражениях, в сделках с совестью, в уловках и комбинациях, хотя на данном этапе в этом и заключается их главное достоинство. На самом деле нет никакой однородности в иерархии выбора, который необходимо сделать между различными пропозициями, представленными в виде невероятных коллажей и сюрреалистической игры слов. «Собирание под одну гребенку», при помощи которого мы сможем упорядочить бесконечное число существ – от огромных до самых крошечных, – будет удачным только в том случае, если мы постоянно будем изменять интересы, желания, позиции каждого из участников. Официальные представители должны, в свою очередь, иметь возможность изменить тех, чье мнение они призваны выразить с максимальной точностью. Точность меняет свой смысл. Ни один ученый не решится пойти этим путем, который будет казаться ему ложным.
Однако именно в этом мы видим основное преимущество сотрудничества между учеными и политиками, на которое до сих пор накладывало запрет старое разделение Науки и ада социального. На самом деле, возможность перевода-предательства [traduction-trahison] со стороны политиков отвечает требованию иерархизации только в том случае, если они могут постоянно обращаться к способности ученых составлять классификации и предлагать способы урегулирования: они могут только вместе изменить мнение своих избирателей, равно как и перекладывать ответственность на другие существа. Две репрезентации• могут работать только вместе со всеми их ухищрениями, сочетание которых позволяет понять, как по принципу наименьшего зла подогнать друг к другу различные детали несовместимых акторов, притом что эти акторы незаменимы и каждый из них пытается выиграть партию, заставив других платить цену этого компромисса (144). Мы должны научиться уважать это сотрудничество в поиске оптимального сочетания: в отсутствие помощи извне, для нас это единственная возможность получить лучший из возможных миров.
Именно необходимость добиться положительного результата позволяет политикам лучше всего объяснить учреждение (№ 4). «Быстрее, надо уже с этим покончить, время идет, примем решение» – именно подобный порыв вносит оживление в работу второй палаты, в которую политики вносят путаницу. Как мы знаем, исследователи тоже умеют принимать решения и рубить сплеча, но у политиков помимо этого есть один уникальный талант: они умеют находить себе врагов. Без этой способности подобное решение, которое французы обозначают при помощи своего излюбленного выражения «рубить сплеча» [trancher], означало бы произвол, который приводит в ужас ученых, живущих по старой Конституции и вечно обеспокоенных тем, что их заставят получать знание слишком быстро (145). Без этой склонности делить коллектив на друзей и врагов требование закрытия дискуссии• никогда не будет выполнено: мы хотим все охватить, все сохранить, всем угодить, как людям, так и нелю́дям, а коллектив останется стоять с разинутым ртом и больше не сможет ничему научиться, потому что будет не способен вернуться на следующем этапе к интеграции тех, кто был исключен и подал апелляцию (146).
Мы можем быстро рассмотреть вклад политиков в разделение властей (№ 5), потому что именно они его инициировали. Сама идея о том, что мы не должны поспешно объединять коллектив, не разделив его предварительно на герметичные сегменты, обрекает нас на долгий путь, и ничто не может заставить нас проделать его быстрее. В этом и состоит решающий вклад политической философии: изобретение правового государства приобретет новый смысл после того, как оно будет связано с вопросом об автономии при постановке вопроса, привнесенного науками. Так или иначе, политики будут защищать свою границу иными средствами, чем ученые. Они будут настаивать на классическом разделении на два этапа – обсуждения и принятия решения. Первая палата представляется им как оплот свободы — место, где исследуют, обсуждают, консультируют, тогда как во второй выковывается необходимость, то есть составляют иерархии, выбирают, делают выводы, исключают. Но это почетное различие между обсуждением и решением обретет вместе с новой Конституцией принципиально иной смысл. Приписывая свободу людям, а необходимость – природе, Старый порядок не решался разделить коллектив в соответствии с его естественными сочленениями, как того требовал Сократ… Производство свободы и учреждение необходимости отсылают нас не к разделению природы и общества, объекта и субъекта, а к двухпалатной системе политической экологии, к соблюдению принципа разделения власти принятия в расчет и власти упорядочения. Даже если форма этого утверждения все еще шокирует, мы обсуждаем, а также решаем вопросы как в отношении фактов, так и ценностей.
Возможно, именно последняя компетенция коллектива, позволяющая ему осуществлять всеобщую сценаризацию (№ 6), является наиболее важной, но до сих пор наименее исследованной. Коллектив, как мы уже поняли, это не просто какая-то существующая в мире вещь с определенными и окончательными контурами, а предварительное движение к сплоченности, к которой необходимо постоянно возвращаться. Его контуры по определению не могут быть зафиксированы, подвергнуты натурализации, несмотря на постоянные усилия ученых с их большими нарративами объединить то, что собирает нас вместе под покровительством природы. Для осуществления подобной тотализации политики располагают принципиально новой компетенцией: им удается прийти к временному единству, постоянно работая над его оболочкой, именно это мы называли последовательным построением (147). Политики не надеются внезапно и благодаря чистому везению набрести на уже сформированное «целое» или же раз и навсегда составить некоторое представление о «нас», к которому больше не нужно возвращаться. Они ничего не ожидают, кроме самого движения, в котором вновь и вновь воспроизводится работа по очерчиванию контуров коллектива, наподобие светящихся в темноте жезлов, ограничивающих пространство исключительно благодаря придаваемой им скорости. Если политика остановится хоть на секунду, то больше никакая точка зрения, никакая ложь, никакое безумство не позволят сказать «все мы» вместо других. Это совершенно удивительное требование, которое делает политиков столь непостижимыми в глазах представителей иных гильдий и служит поводом для обвинений во лжи и мошенничестве (148). Ничто не сравнится с этим ноу-хау.
Не путаем ли мы науки с политикой? Ни в коем случае, ведь именно теперь, когда ученые и политики сотрудничают для выполнения одних и тех же задач, мы понимаем принципиальную разницу между ними, которую невозможно было обнаружить при старой Конституции, потому что она безнадежно тонула в неосуществимом разделении истины вещей и человеческой воли – как будто нам проще сказать, что представляют собой существа, чем выяснить, чего они хотят. Как политики, так и ученые работают над одними и теми же пропозициями•, одними и теми же группами людей и нелюдéй. Все пытаются представить их настолько точно, насколько это возможно. Должны ли мы сказать, что ученые не отказываются от своих слов, а политики постоянно лгут и скрывают свои мысли, как если бы первые должны были бы убеждать, а вторые – внушать? Нет, обе гильдии находят удовольствие в этом искусстве превращений: одна для того, чтобы получить информацию от надежных свидетелей за счет применения своих инструментов, а другая – для осуществления невероятной метаморфозы, в ходе которой множество яростных или вялых голосов сливаются в один. Можно ли утверждать, что они занимаются одним ремеслом? Не совсем, поскольку смысл слова «точность» существенно отличается в случае двух ноу-хау: чтобы избежать путаницы, ученые должны удерживать дистанцию между пропозициями, которые они наделяют смыслом, и тем, что они говорят о них, тогда как политики должны их путать, постоянно меняя определение субъекта, который говорит «это мы», «мы хотим». Первые охраняют «их», вторые – «нас».
Раньше считалось, что политическая экология должна собирать вместе людей и природу, тогда как она должна сочетать научный и политический способ смешивать людей и нелюдéй. Существует разделение труда, но не разделение внутри коллектива. Мощное влияние политической экологии объясняется именно тем, что она делает возможной синергию между взаимодополняющими компетенциями, которые необходимо связать, так как лишь предрассудки, навязанные старой Конституцией, до сих заставляли нас помещать их в различные сферы реальности. Коллектив нуждается как в поддержании дистанции, так и в том, чтобы брать на себя риск ее отмены. Если бы только в момент рождения мы не разделили этих ложных близнецов, доверив одному задачу честно представлять природу, а второму оставив лишь ад Пещеры! Без этого разделения мы могли бы легко понять, что они должны сотрудничать в осуществлении всех функций коллектива, используя при этом свой особенный талант. Мы не должны больше требовать сотрудничества от каменщиков, слесарей, плотников и оформителей, скрывая от них, в работе над каким общественным зданием они должны использовать свои взаимодополняющие таланты! Каждое ноу-хау должно быть на своем месте и вовремя приложить руку к общему делу, которое каждый раз понимается по-новому.
Теперь уже ничто не мешает нам сказать, что науки идут прямо, а политика описывает кривую, вспоминая старую метафору, которая противопоставляла два режима публичной речи. Установление цепочек референции позволяет за счет целой серии контролируемых преобразований обеспечить точность репрезентаций и четко выделить различные сегменты этой прямой. Тогда как неуверенная речь человека, постоянно проводящего собрания, должна представлять собой промежуточную область между внутренним и внешним, между «ними» и «нами», поскольку для обеспечения точности репрезентации она не может пользоваться прямыми линиями, а только искривленными. Да, политическое животное остается «принцем каламбуров» [prince des mots tordus]. То, что делает его лживым в глазах Науки, окончательно сделает его лжецом, если он будет говорить прямо. Если кто-то пытается провести прямую линию, когда нужно провести кривую, говорят, что он «ловко вывернулся», что он уклоняется от возложенной на него задачи. Не это ли происходит с политиком, который вмешивается в научные споры: в таком случае он оставит поэтапную работу над оболочкой коллектива, поторопится, пойдет напрямик, не сможет больше честно представлять своих избирателей. Чтобы иметь возможность расширяться, коллектив нуждается в этих двух достаточно разрозненных функциях, одна из которых позволяет охватывать множества, не уничтожая их, а другая заставляет их говорить одним-единственным голосом, не разбрасываясь. Чтобы понять, что новые функции коллектива несут позитивный смысл, нам нужно оценить вклад других гильдий: организаторов рынка, моралистов и администраторов.
Вклад экономистов
При Старом порядке экономисты подавляли коллектив, определяя его как естественную и саморегулирующуюся инфраструктуру, подчиненную непреложным законам, которые могли определять ценности путем простых расчетов. Все меняется в тот момент, когда экономическая дисциплина [economics] освобождается от обязательств отражать экономику как вещественность [economy]. «После ста лет слепой погони за “улучшениями” человек принялся восстанавливать свое “жилище”» (149). Экономисты или, точнее, экономизаторы могут внести свой решающий вклад в сценаризацию общего мира (№ 6), так как теперь они способны подчеркнуть различие между внутренним пространством коллектива и внешней средой. Если мы будем говорить об экономике как об особой среде, сводя политику к [кромвелевскому] охвостью, то это не решит наших проблем: предоставить коллективу модель, которая будет четко различать то, что принимается в расчет (интернализируется), и то, что отбрасывается вовне (экстернализируется), позволит драматизировать и театрализовать бухгалтерию коллектива в определенный момент исследования общего мира. Как только Homo economicus становился краеугольным камнем универсальной антропологии, работа по построению общего мира немедленно прекращалась. Но как только мы при помощи термина «глобальная экономика» обозначаем некоторый промежуточный вариант, который позволяет ему принять или отвергнуть тот или иной перечень существ, экономическая дисциплина приобретает, подобно прочим социальным наукам, важнейшее значение: она представляет демос самому себе. Ни ученые, ни политики не могут настолько драматизировать вопрос. Упрощенчество, в котором столь часто упрекают экономику, становится ее наиболее очевидным достоинством. Только она может произвести моделизацию общего мира. Полагая, что они обнаружили саморегулирование, защитники естественного равновесия допустили небольшую ошибку с префиксом «само». Да, экономическая дисциплина является саморефлексирующей, но она не отсылают ни к какому феномену саморегуляции: она всего лишь позволяет «сообществу» [public] смотреть на себя, рассуждать о себе самом, выстраивать само себя в качестве сообщества.
Можно сказать, что экономисты будут не особенно полезны для поддержки разделения властей (№ 5), поскольку они в наибольшей степени способствовали тому, чтобы мы принимали его за неприемлемое различие фактов и ценностей. Но это означало бы проигнорировать, до какой степени компетенции экономики могут измениться после того, как установлено различие между экономизацией и тем, что экономизируется, между требованиями нижней и верхней палат. Как только мы проясняем работу по документации, инструментовке, форматированию, которую бухгалтеры, статистики, специалисты по эконометрии, теоретики выполняют каждый день, мы поймем, что умножение связей людей и нелюдéй никак не зависит от того, что об этом говорит экономика. Это хорошо известно здравому смыслу, который охотно подтрунивает над слабостями экономистов и их неспособностью предсказать будущее какого-нибудь крошечного гаджета, не говоря уже о наступлении кризисов. Но и здесь слабость превращается в силу: никто не может перепутать неизбежную работу по переводу и сведению соединений людей и нелюдéй к расчетам на бумаге с тем, что реально происходит в головах этих людей и в соотношении сил между благами. Экономисты со всеми своими недостатками выполняют важнейшую работу, обеспечивая исследование верхней палаты о различных связях и защищая его от неизбежных ограничений со стороны нижней палаты. Именно ограничивая эти соединения в нарочито неправдоподобной форме расчетов, экономист лучше всех прочих профессий обеспечивает разделение задач принятия в расчет и упорядочения. Никто больше не спутает общий мир с листом бумаги!
Если мы сможем оценить огромную сложность задач иерархии и учреждения, то мы без труда поймем принципиальную важность вклада экономистов, потому что они дадут общий язык разнородному сочетанию существ, которое должно сформировать иерархию (№ 3). Никто не сможет создать упорядоченное отношение между черными дырами, реками, трансгенной соей, земледельцами, климатом, человеческими эмбрионами, очеловеченными свиньями. Благодаря экономическим расчетам, все эти существа становятся совместимыми. Если мы на секунду представим, что эти расчеты устанавливают их подлинную ценность, наподобие того, как при Старом порядке первичные качества• использовались для определения абсолютной ценности вещей, то мы, разумеется, ошибемся. Но при наличии новой Конституции никто больше не допустит подобной ошибки, потому что разница между вещами произведенными, купленными, оцененными, употребленными, выброшенными и хрупкой поверхностью, на которой производятся расчеты, оказывается вполне зримой. В этом случае сила экономики также происходит от ее слабости (150). Вместо того чтобы защищать ее достоинства, как в XVIII и XIX веках, изобретая метафизику, антропологию и психологию, предназначенные исключительно для обслуживания ее утопии, в XXI веке мы могли бы признать за расчетными книгами экономистов уникальную способность наделять единым языком тех, чья задача состоит в поиске лучшего из общих миров (151).
Сколько было жалоб на бессердечность экономизаторов, сводивших неисчерпаемую вселенную человеческих отношений к холодному расчету и выгоде! Мы осуждаем их за порок, которому они никогда не смогут предаться. Блага поддаются экономизации не больше, чем люди. Однако она позволяет придать предварительной версии общего мира (№ 4) характер, поддающийся обоснованию при помощи расчетов. Моделизация отношений в виде расчетов позволяет нам увидеть последствия, которые не может предсказать ни один другой метод, и тем самым окончить дискуссию при помощи весомых доводов. Документируя совокупность сделок в виде статистических таблиц, экономических теорий, прогнозов относительно возможных спекуляций, мы можем добавить к категоричности политических решений и консенсусу решений ученых очевидность bottom line [20]. Если мы хотим основательно обустроить общий мир, то это довольно неожиданный результат: правовое государство расширяется за счет экономизации. При условии, что мы правильно оценим преимущества, которые нам дает совместная работа различных профессий при осуществлении одних и тех же функций: в отрыве от политиков, ученых и моралистов расчеты исключают иную форму дискуссии и самостоятельно оценивают воздействие внешних факторов. Однако в сочетании с компетенциями ученых по установлению причинных связей, талантом политиков находить врагов и способностью моралистов «вновь принимать» исключенных (см. ниже) это умение рассчитывать становится разумным способом уточнить свои предпочтения, предлагая словарь, который будет соответствовать как требованию публичности, так и требованию закрытия дискуссии.
Об экономике часто с уважением говорят, одновременно осуждая ее, что она является «зловещей наукой» (a dismal science), потому что она вводит жестокую необходимость мальтузианской природы и разбивает мечты об изобилии и братстве. Расставшись с мечтой о полной гегемонии, экономика осуществляет медленную институционализацию коллектива, постепенный и болезненный переход от разрозненных пропозиций, как людей, так и нелюдéй, к последовательным, но временным расчетам оптимального деления общего мира. Этот расчет теперь превращается в составление таблиц несколькими тысячами специалистов, несколькими десятками тысяч статистиков, несколькими сотнями тысяч бухгалтеров (152). Экономика перестает быть политической: она больше не навязывает чудовищные решения во имя железных законов, исключенных из истории, антропологии и общественной жизни: она скромно участвует в постепенном форматировании проблем, перенося на бумагу операции, с которыми не справилась бы ни одна другая дисциплина. Представляющая опасность в качестве инфраструктуры, экономика снова становится незаменимой как документация и принцип расчета, как производный продукт бумажного следа, как моделизация.
Мы не станем долго рассуждать о требованиях озадаченности и весомости, так как засилье модернизма было настолько всеобъемлющим, что мы полагали, будто их вполне описывает политэкономия, тогда как она едва о них упоминала (153). Удивительный парадокс движения, у которого не хватало слов для разговора о своих глубинных взаимосвязях, и еще меньше, чем у какого бы то ни было другого коллектива – о связях между людьми и благами! Старая версия экономики, состоявшая из предметов купли-продажи и простых рациональных субъектов, ослепляла нас и не позволяла оценить всю глубину и сложность отношений между людьми и нелюдьми́, постоянно исследуемых торговцами, промышленниками, ремесленниками, создателями инноваций, предпринимателями, потребителями. Этому огромному миру, общему для древности и модерна, требуется совершенно иная антропология, чтобы начать осмыслять себя иначе, чем через суррогаты экономики (154). Цель настоящей книги заключается не в этом. Попробуем оценить, как столкновение субъектов и объектов изменяет артикуляцию пропозиций. Никто не может быстрее обнаружить невидимые элементы и приобщить их к коллективу (№ 1), чем те, кто падок на возможные соединения людей и нелюдéй и кто может перераспределить привязанности и аффекты, влечение и отвращение, новые сочетания людей и нелюдéй, неизвестные до сих пор. Высвобождая данную компетенцию, мы еще более тесным образом связываем судьбу людей и нелюдéй, обладателей и того, чем они обладают. Индивиды станут теснее привязанными к благам, а блага – к индивидам.
Способность экономики соответствовать требованиям весомости и консультации (№ 2) еще удивительнее: открывая в каждом новом соединении свойственную ему заинтересованность, назначая членов жюри, способных выносить о ней суждение, будь то потребитель, специалист, эксперт, любитель, дегустатор или же исследователь, предмет исследования, товар-не-принятый-заказчиком, спекулянт. После всевозможных рассуждений интересы будут артикулированы. Если мы говорим о том, чтобы «дать свободу производительным силам», тогда нужно предоставить верхней палате свободу действий, необходимую для того, чтобы артикулировать заинтересованность. При Старом порядке, как и при новом, экономика вкратце описывает соединения, но смысл этого выражения меняется: если раньше краткое изложение заменяло все первичные качества, то теперь оно присовокупляется. При Старом порядке мы могли избавиться от всего, что не включалось в расчеты, тогда как при новом мы сохраняем в памяти все, что рискуем забыть, и теряем всякую надежду на то, чтобы рассчитаться по долгам (155). Еще скорее, чем в результате действий ученых и политиков, пропозиции смогут обрести право голоса. Перемещая свои разметочные устройства, экономика делает коллектив подлежащим описанию.
Вклад моралистов
Напомним еще раз цель нашего исследования: перечисляя подарки, оставленные в каждой коробке разными феями, мы начнем по-новому понимать их функции, которые не сводятся к гибридным формам наук, политики, администрирования и нравственности. Если они пока производят впечатление наспех найденного компромисса, то только потому, что мы можем лишь постепенно распутывать хитросплетения, появившиеся в результате длительного разделения между различными гильдиями. Позднее, во втором разделе, мы обнаружим функции коллектива для самих себя, в виде вполне классических и упорядоченных ветвей исполнительной, законодательной или судебной властей. Перейдем теперь к четвертой из профессий, которую мы решили осмыслить по-новому, а именно к профессии моралиста.
Как мы убедились в третьей главе, старое разделение фактов и ценностей обязывало моралистов искать спасения в принципах, ограничивать себя формальными процедурами или же тщетно изображать уверенность, которую, как казалось, придавал им натурализм (156). Оторванные от непосредственных фактов, они не приносили никакой пользы: как только они вернутся, если можно так выразиться, на проторенную дорогу и будут обязаны заниматься выполнением общих задач, их таланты снова будут востребованы. Мы можем определить мораль как неопределенность относительно правильного соотношения целей и средств, развивая знаменитое определение Канта об обязательстве «не рассматривать людей исключительно как средство, а всегда – как цель». При условии, что мы также будем прислушиваться к нелю́дям, чего как раз пыталось избежать кантианство, совершая типично модернистскую ошибку (157). Экологические кризисы в нашей интерпретации представляют собой всеобщее восстание средств: больше ни одно существо – будь то кит, река, климат, дождевой червь, дерево, бык, корова, свинья – не согласится, чтобы его «рассматривали исключительно как средство, а не как цель». Нет никакого распространения человеческой морали на мир природы, никакой нелепой проекции права на «грубые и простые существа», никакого принятия в расчет права объектов «на самих себя», есть лишь последствия исчезновения понятия внешней природы: у нас больше нет места, где могли бы быть размещены обычные средства для достижения определенных целей, установленных раз и навсегда вне каких бы то ни было процедур. Инанимизм• исчез вместе с унанимизмом старой политики природы (158). Моралисты могут внести свой вклад в становление гражданских добродетелей не потому, что они знают, что нужно и что не нужно делать, а исключительно потому, что им известно, что все, что должно было быть сделано хорошо, будет сделано плохо, так что к этому придется вернуться. «Никто не знает, на что способна окружающая среда», «никто не знает, что за ассоциации определяют человечность», «никто не может себе позволить раз и навсегда привести в порядок цели и средства и без всякого обсуждения разделить царство необходимости и царство свободы»: благодаря моралистам подобная обеспокоенность станет частью коллективных процедур.
Требование не рассматривать ни одно существо исключительно как средство, которое проявляется в выражениях «возобновляемые ресурсы» или «долговременное развитие», так и в жалости или простом уважении, внесет существенный вклад в выполнение условий озадаченности (№ 1), учреждения (№ 2) и тотализации коллектива (№ 6), поскольку, парадоксальным образом, сделает их куда менее выполнимыми без соответствующей дискуссии.
Вторая же палата по определению сможет выполнять свои обязанности только при условии, что будет рассматривать определенные существа исключительно как средства относительно других существ, которым она отводит роль высших целей (№ 4). Никакая расстановка в порядке значимости невозможна без подобной разгрузки. Ученые, политики и экономисты, хотя и по разным причинам, также одержимы изоляцией коллектива и тем самым совершают тяжкий грех по мнению моралистов, желающих наделить все отвергнутые существа правом на апелляцию, которым они могут воспользоваться в тот момент, когда во имя выполнения требования закрытия дискуссии они будут отторгнуты коллективом из-за своей (временной) незначительности. Напомним о восьми тысячах жертв на дорогах Франции, использованных исключительно как средство ради автомобиля, возведенного в ранг Высшего Блага. Благодаря этике все враги, изгои и оппозиционеры не будут раз и навсегда подвергнуты экстернализации, а смогут снова влиться в коллектив в качестве друзей, полноправных членов и потенциальных союзников.
Именно за счет этого права требование внешней реальности (№ 1) станет еще более строгим, вплоть до того, что мы должны будем добавить чуткость моралистов к сомнениям в разрабатываемых учеными концепциях и к опасности, которую ощущают политики. Исключенные из коллектива еще скорее постучатся в нашу дверь с учетом того, что моралисты, если можно так выразиться, отправятся на их поиски вне коллектива, чтобы облегчить их возвращение и ускорить интеграцию, сопроводив их до предшествующего этапа и облачив в одежды просителей. Если мы сможем одновременно привлечь внимание ученых, политиков, экономистов и моралистов, то сумеем лучше понять то состояние тревоги или озабоченности, в котором находится первая палата, способная отреагировать на малейшее расстройство. Мы можем сравнивать степень чувствительности коллективов – что не означает преувеличенной сентиментальности – и по этому критерию судить о качестве их гражданской жизни (159).
Говоря шире, моралисты дают коллективу постоянный доступ к внешней среде, обязывая остальных признать, что сам по себе коллектив является рискованным предприятием. С точки зрения морали закрытие коллектива (№ 6) в результате некоторой глобальной сценаризации не только невозможно, но и незаконно. Оно предполагает либо включение всех существ в «царство целей», либо преждевременное закрытие, которое превратит огромное количество существ исключительно в средства или же приведет к тому, что получит окончательное признание плюрализм и поиск общего мира будет прекращен. Вопреки политикам и ученым, которые настаивают на разделении внутренней и внешней среды, вопреки экономистам, которые довольствуются экстернализацией всего, что они не могут принять в расчет, моралисты постоянно напоминают о возобновлении собирательной работы.
Без моралистов существует риск, что мы будем видеть коллектив исключительно изнутри; мы в конце концов договоримся за спиной определенных существ, навсегда исключенных из коллектива и рассматриваемых исключительно как средства, или же будем довольствоваться множеством несовместимых миров, не пытаясь больше построить единственный общий мир. От них мы никогда не сможем окончательно избавиться. С ними коллектив всегда опасается оставить снаружи то, что следовало принять в расчет. Паук, жаба, клещ, вздох кита – возможно, именно это не позволяет нам быть в полной мере людьми, если только не зайдет речь о каком-то безработном или уличном мальчишке из Джакарты, забытой всеми черной дыре на окраинах вселенной или вновь открытой планетной системе (160). Требование возобновления отнюдь не противопоставляет себя политике, как предполагало старое распределение ролей, а, напротив, приходит в резонанс с работой политиков, постоянно латающих непрочную упаковку, позволяющую им говорить «мы», оставаясь верными своей присяге. На всякое политическое «мы хотим» моралисты отвечают: «А чего хотят они?» Не противопоставляя себя ученым, моралисты добавляют к стабилизации парадигмы эту постоянную тревогу относительно непризнанных фактов, отвергнутых гипотез, проигнорированных исследовательских программ – одним словом, всего того, что, возможно, позволит нам использовать шанс и ввести в коллектив новые существа в пределах чувствительности приборов.
Разумеется, мы ожидаем, что самый существенный вклад моралисты внесут в выполнение задачи иерархизации (№ 3). Предоставленные сами себе, что легкомысленно допускала старая Конституция, они не могли ничего сделать, так как не умели обрабатывать сырье научных решений, политических комбинаций и экономических описаний. Как только они приступают к задаче распределения в порядке важности разнородных существ, у них обнаруживается важнейшая компетенция, а именно заключить все эти существа, какими бы противоречивыми они ни были, в рамки единственной и однородной иерархии, как если бы нужно было сложить пазл и один из участников должен был бы определить, относятся ли все собранные элементы к одной и той же игре. Вопрос о том, почему мы придаем перелетной птице бо́льшую важность, чем традиционным промыслам охотников из залива Соммы, казавшийся абсурдным в рамках этики оснований, становится неизбежным, если мы отказываемся от поиска «принципов» и становимся более внимательными к требованию универсального распределения. Мы не просим моралистов указать нам, каким образом эти существа должны быть распределены в порядке важности, как они могут знать об этом, если не имеют отношения к постоянно возрастающему коллективному опыту. Мы просим их ни в коем случае не имитировать ту или иную науку, доставая из рукава неожиданное решение; давать уроки политикам, предлагая новый компромисс, и напомнить, что нам нужен один порядок, а не два. «Пока вы не найдете удачное сочетание, – могут заявить они ученым и политикам, – у нас не будет лучшего из общих миров». Их требование станет еще более настоятельным с учетом того, что они освобождены от необходимости проявлять политическое, научное и экономическое благоразумие и знают, что эта задача невыполнима, если мы не рассматриваем некоторые существа «только как средства». Только они могут требовать невозможного и не быть при этом ловкими и предприимчивыми (161). То, что в отрыве от фактов было пороком, пустой декламацией, нелепой претензией на самостоятельность, вновь становится гражданской добродетелью, как только моралисты, выполнив работу по составлению иерархии, объединяются с исследователями, политиками и экономизаторами. Это сотрудничество при условии, что они четко настаивают на своих требованиях, больше не будет их компрометировать. Антигона приступит к выполнению своего безупречного нравственного долга только при условии, что рядом с ней будет политик более искушенный в тонкостях политики вместо этого мрачного идиота Креонта…
Чтобы укрепить границу между двумя принципами власти (№ 5), моралисты делают нечто прямо противоположное тому, что делают политики, и в этом и заключается их вклад. Тогда как политики, в соответствии с классическими принципами политической философии, разделяют обсуждение и решение, свободу и необходимость, моралисты напоминают, что, как сильно бы нам ни требовалось решение, его нужно еще раз обсудить, в этот раз пересекая границу в другом направлении. Другими словами, они возражают против односторонних отношений между двумя палатами и требуют, чтобы процедура была завершена. Они соединяют два помещения при помощи постоянно курсирующего челнока. Именно диктуя правила дискуссии, они вносят свой вклад в процесс консультации (№ 2), поскольку благодаря им активные участники перестают быть всего лишь «средствами выражения», чтобы превратиться в цели (162). Моралисты предоставляют возмутителям спокойствия, акторам•, упрямцам неотъемлемое право на убежище.
При старых порядках моралисты имели довольно жалкий вид, поскольку мир состоял из аморальной природы, а общество было наполнено имморальным насилием. Им ничего не оставалось, кроме как угрожать светскому порядку потусторонним миром, полагаться исключительно на формальные процедуры или оставить все притязания и производить свои расчеты, используя иную меру счастья и горести. При новом порядке они занимают важное место, потому что больше нет внутренней и внешней среды, разделенных при помощи сущности, а есть только длительная работа по интернализации и экстернализации, работа непрерывная и носящая временный характер. Благодаря моралистам мы делаем пористой мембрану, разделяющую коллектив и то, что он должен впитать в будущем, если он желает построить общий мир – вселенную, созданную в соответствии с процессуальными нормами, космос•. Благодаря моралистам всякая совокупность имеет дополнение, которое его постоянно преследует, всякий коллектив – свою обеспокоенность, всякая внутренняя среда – напоминание о том способе, при помощи которого она была очерчена. Возможно, в этом есть что-то от Realpolitik, но в нем также есть политика реальности: если первая, как считается, исключает моральные требования, то вторая их всячески поддерживает.
Чтобы у политической экологии, наконец, появилась собственная мораль, нужно распространить на все существа фундаментальную неопределенность отношений между средствами и целью, а не искать в «естественных правах» новый фундамент, который на этот раз окажется достаточно прочным. Теперь мы видим, до какой степени мораль была извращена натурализмом – как модернистским, так и тем, что предлагает продолжающая его экологическая теория, поняв, что он играл роль прямо противоположную той, что на него возлагалась, когда его заставляли защищать человека от объективации (или объект – от человеческого господства). В новой Конституции роль моралистов заключается именно в том, чтобы избежать этой ловушки, в которой исключительно человеческое общество было окружено исключительно материальной природой! (163) С моралью политической экологии мы больше не подвергаемся искушению поверить в существование той или иной внешней или внутренней среды. Если мы не можем прийти к соглашению в политическом, научном и экономическом смысле, не оставляя за бортом значительное количество существ, то благодаря морали мы сможем выслушать их снова. Приписывать эту добродетель исключительно людям вскоре будет считаться самым безнравственным из всех пороков.
Организация стройки
Закончим этот длинный раздел небольшой сводной таблицей, напоминающий план производства работ, позволяющий начальникам стройки распределить между представителями различных профессий работу, необходимую для выполнения заказа. Нет здания важнее того, в котором разместится коллектив, тем не менее ни одно здание до сих пор не возводилось столь небрежно. Все ноу-хау, необходимые для его постройки, для того, чтобы оно приобрело элегантный внешний вид и было достаточно функциональным, до сих пор использовались вразнобой, и никто не пытался наладить их взаимодействие. Бросив беглый взгляд на таблицу 4.1, мы сразу понимаем, что это произведение искусства, красота которого для нас ни с чем не сравнима, и что речь действительно идет о стройке.
Таблица 4.1. Краткое описание роли каждого ноу-хау в выполнении шести функций, необходимых для того, чтобы коллектив мог исследовать общий мир, соблюдая процессуальные нормы
Вне всякого сомнения, мы ушли от старой логики сфер деятельности: каждая из профессий вносит свой вклад в осуществление шести функций, в работу обеих палат, и мы не можем выделять ту часть реальности, в которой они якобы действовали до этого (164). Также не подлежит сомнению тот факт, что у нас нет никакой возможности вернуться к старому модернистскому раздвоению; мы больше не требуем ни от одного существа, до того, как мы примем всерьез его предложения, деклараций о том, является ли оно естественным или искусственным, соединенным или разъединенным, объективным или субъективным, рациональным или иррациональным. Мы понимаем, до какой степени каждое ноу-хау извлекает пользу из присутствия своих соседей: насколько лучше становятся науки благодаря политикам; как экономисты исправляют свои недостатки, если они позволяют моралистам проявить свою обеспокоенность и объединить свои усилия для моделизации; как политики прибавляют в весе, если их компромиссы и комбинации сочетаются с соглашениями и манипуляциями ученых. Те, кто хотел построить Республику, сочетая недостатки своих партнеров, вместо того чтобы объединять их достоинства, были весьма скверными архитекторами.
Таблица также демонстрирует, что отказ от старой Конституции не оставляет нас связанными по рукам и ногам, то есть в приятном, хотя и не совсем определенном положении. Нет ничего более артикулированного, чем понятие коллектива, на первый взгляд слишком унитарного, слишком тотализирующего, слишком недифференцированного. Мы получили доказательство и можем отказаться от модернистского порядка, ничего не потеряв при этом. Напротив, у нас появляется масса процедур для регистрации бесчисленных конфликтов, возникающих вокруг построения общего мира. Последнее преимущество заключается в том, что нет ни одной компетенции, ни одной профессии, которая не существовала бы в самой обыденной и повседневной реальности. Мы не предлагаем никакой утопии, не производим критического опровержения, не надеемся ни на какую революцию: самого обыденного здравого смысла достаточно, чтобы без всякого предварительного обучения получить все эти инструменты, находящиеся буквально под рукой. Мы не предлагаем картину этого нового мира, мы всего лишь наверстываем потерянное время, облекая в слова новые объединения, конгрегации, синергии, которые уже существуют повсюду, и только старые предрассудки до сих пор мешали нам их увидеть.
Нам возразят, что если бы феи были столь щедры, а корзины заполнены подарками, то к чему было писать десятки страниц, чтобы вывести на сцену коллектив, если он наделен столькими талантами и обречен на успех. Не забудем же про злую фею Карабос! На гору подарков, оставленных ее сестрами, она положит небольшую шкатулку, на которой будет написано: calculemus! [21] Но она при этом не уточнила, кто должен был произвести расчет. Мы полагали, что лучший из возможных миров может быть просчитан при условии, что мы будем избавлены от тяжкого политического труда. Этого достаточно, чтобы свести на нет все прочие добродетели, ведь требуется подлинный героизм, чтобы воспротивиться этому соблазну простоты. Однако ни Бог, ни люди, ни природы сами по себе не являются Сувереном, способным осуществить подобные расчеты. Это «мы» должно быть составлено из различных элементов. Ни одна фея не рассказала, как это сделать. Именно нам предстоит это выяснить.
Работа палат
Все невероятные сложности этой книги остались позади, теперь пришло время собирать урожай. Историки часто описывали торжественный въезд правителей былых времен в верные им города. Последуем их примеру и попробуем с учетом всего нами сказанного представить торжественный въезд суверена, способного построить лучший из возможных миров, оставаясь верным возвышенному изречению Лейбница: «Посчитаем!»
Теперь мы можем встроить учреждения общего мира в общественный порядок, специально для них разработанный. Не будем портить себе удовольствие. Благодаря несколько переосмысленной политической экологии ассоциации людей и нелюдéй впервые могут интегрироваться в коллектив законным образом. Никто больше не требует, чтобы перед воротами города все разбивались на две колонны субъектов и объектов; нет больше Сфинкса, который преграждал бы вход, требуя разгадать дурацкую загадку: «Вы субъективны или объективны?» Впервые люди и нелю́ди могут попасть в гражданское общество, не обращаясь в объекты, которые придут под стены города и приступят к их бомбардировке, чтобы унизить сильных мира сего, избавиться от обскурантизма, возвысить обездоленных, заставить болтунов умолкнуть, а членов муниципалитета – держать язык за зубами. Впервые ни один предатель не откроет им тайком секретный проход, чтобы они смогли войти в город и заново установили демократию «на строгом основании разума». «Впервые», разумеется, для наших почтенных западных городов, так как «другие культуры», которые называют так уважительно и с некоторой долей снисходительности, никогда не теряли привычки радушно принимать эту внешнюю среду, за счет которой они жили. Однако столь долго продержавшееся модернистское отклонение помешало нам встретить «других» в другом контексте, отличном от культурной антропологии. В следующей главе мы увидим, что, как только наши собственные коллективы станут несколько более цивилизованными, мы сможем представить себе менее варварские способы извлечь пользу из их участия.
Попробуем теперь рассмотреть различные функции коллектива, сочетая различные профессии, позволяющие обеспечить выполнение однотипных заданий. В отличие от предыдущего раздела, мы потребуем от читателя немного использовать свое воображение, так как ни один здравый смысл до сих пор не позволял нам считать эти неуклюжие конгломераты очевидными и естественными формами жизни.
Для начала мы имеем две палаты. Мы назвали первую, отвечающую за принятие в расчет•, верхней палатой, а вторую, ответственную за упорядочение•, – нижней. Эти термины не имеют особого значения, так как они в свою очередь станут предметом новых переговоров и используются здесь исключительно для того, чтобы временно обозначить некоторую совокупность компетенций, необходимую для того, чтобы дипломаты нашли общий язык. Мы прекрасно знаем, что речь ни в коем случае не идет об обычных ассамблеях, о местах малодоступных и замкнутых в себе, а скорее о водосборных бассейнах, столь же многочисленных, как притоки, столь же разбросанных, как реки, столь же беспорядочных, как речушки на карте Франции. Тем нем менее мы решили до конца сохранять эти устаревшие выражения, позаимствованные нами у парламентской демократии, потому что их единственная роль заключается в том, чтобы вывесить белый флаг, который будет развиваться на ветру и говорить о том, что мы намерены послать парламентеров, отдавая таким образом должное республиканскому наследию наших предков (165).
Чтобы продолжить наш путь, мы не должны забывать о трех результатах, полученных нами в предыдущих главах. Прежде всего, верхняя палата никогда не принимает вас как общество, находящееся в конфликте с природой, а принимает как одна из ветвей власти, внимательная к множеству, столпившемуся у ее дверей. Далее, это множество состоит не из объектов и субъектов, людей и вещей, а из более или менее артикулированных пропозиций•, причем некоторые из них только что появились, а другие были достаточно давно, на предыдущем этапе, исключены нижней палатой. Наконец, эти множества всегда представляют собой ассоциации людей и нелюдéй: вирус никогда не появляется без вирусологов, пульсар без радиоастрономов, наркоман без наркотиков, лев без масаи, рабочий без профсоюза, собственник без собственности, фермер без окружающего его пейзажа, экосистема без эколога, колдун без своих фетишей, депутат без отданных ему голосов, – каждой из этих пропозиций соответствуют инструменты, которые могут передать ее слова, а также затруднения речи и ее неуверенность в точности репрезентации.
Прием в верхней палате
Как реагирует верхняя палата на глухое давление претендентов? Во-первых, ни один полоумный не должен интересоваться, существуют ли они вообще, представляют ли они рациональные факты или иррациональные убеждения, относятся ли они к природе или «человеческим представлениям о ней», принадлежат ли они истории или находятся вне ее. Подобные вопросы были бы не только невежливыми, но и антидемократичными! (Если какие-нибудь прихвостни эпистемологической полиции хотят этими неуместными вопросами омрачить их торжественный вход, то пускай члены муниципалитета придержат их до конца церемонии…) Верхняя палата отреагирует совершенно противоположным образом, обязывая входящих совершить первичное и совершенно невозможное обращение. Она примется за дело, объявит общую тревогу, проявит беспокойство, щепетильность, внимание, примет меры предосторожности, испугается, объявит чрезвычайное положение, прислушается – мы нарочно смешиваем термины, употребляемые разными корпорациями, сопровождающими шествие кортежа.
Это состояние тревоги имеет свои особенности. Верхняя палата должна артикулировать «нас, коллектив», но, в отличие от своей кумы – нижней палаты, она должна открыть перечень, который содержит это пресловутое «мы», вопросом: «Сколько нас – тех, кого нужно принять в расчет?» Ассамблея, которая найдет окончательный ответ на этот вопрос и которая скажет, к примеру: «Мы, люди», «Мы, коренные французы», «Мы, жители Сан-Мало», «Мы, генетики», «Мы, белые», «Мы, Причастие Святых», «Мы, земляные черви», не станет объявлять тревогу. Она ответит на многочисленные запросы находящихся вовне множеств, не проявив гражданской солидарности; она предстанет неприступной крепостью, которую нужно защищать со всех сторон любой ценой, а совсем не уязвимым коллективом в состоянии поиска.
Подобная ассамблея выполняет свою задачу только в том случае, если она обладает максимальной чувствительностью к инородности тех, кто стучится в двери коллектива. Однако она может сохранить эту удивительную особенность, столь нетипичную для обществ Старого порядка (состоящих из людей и социальных факторов), только при условии, что между ней и нижней палатой установлено самое строгое разделение властей•. Никто не должен навязывать ей следующее ограничение: «Эти новые существа, совместимы ли они с упорядоченной жизнью коллектива?» Этот вопрос адресован другой палате, и только она может на него ответить. Мы снова обнаруживаем требование автономии, которую правомерно отстаивают ученые, но которую они ошибочно считают своей исключительной привилегией, а также с весьма желательным политическим различием между свободой обсуждения и необходимостью принимать решения; добавим к этому этический принцип, допускающий возможность в любой момент и без всяких предварительных условий поставить вопрос о принадлежности. Обязательства становятся еще строже, чтобы неизбежное разделение властей могло выполнить свою задачу. Как же далеко мы ушли от неосуществимой фильтрации фактов и ценностей, от которой мы отказались в предыдущей главе… (166)
Если коллектив поддерживается в надлежащем состоянии, если верхняя палата обладает высокой степенью чувствительности, возникает целый ряд вопросов, которые можно разделить на две группы. Первая группа: «Вы, стоящие у дверей коллектива, что вы предлагаете? Каким испытаниям мы должны вас подвергнуть, чтобы наконец услышать вас и заставить вас заговорить?» (задание № 1, требование внешней реальности). Вторая группа: «Кто может лучше всего судить о характере ваших предложений? Кто лучше всего может оценить оригинальность вашего вклада? С помощью каких надежных свидетелей о вас можно составить отчетливое представление?» (задание № 2, требование весомости и консультации). Напомним, что речь не является исключительно человеческим свойством, а принадлежит разнородным сочетаниям, качество которых как раз и выясняет верхняя палата. Напомним также, что понятие пропозиции• на этом этапе не делает различий между тем, что стремится быть, тем, что есть, и тем, что должно быть. Вначале верхняя палата, а вслед за ней – нижняя должны постепенно вводить различия, которые описывают уже не положение дел, онтологические качества, а последовательные этапы процедуры, формальности которой должны тщательно соблюдаться. Сущность появится позднее, равно как и неодушевленная форма нелюдéй.
Преобразовать глухой ропот множества различных существ, далеко не все из которых хотят быть услышанными, можно не без труда: любому исследователю, политику, моралисту, производителю, администратору это хорошо известно. Потребуется масса различных ухищрений, монтажных приемов, инструментов, лабораторий, анкет, визитов, исследований, демонстраций, наблюдений, сборов данных, чтобы отчетливее услышать их предложения. Не будем забывать, что, в отличие от старой Конституции, вся эта работа записывается не в дебит, а в кредит качества дикции. Чем больше мы работаем в лаборатории, тем быстрее и яснее мы выясним положение дел; чем лучше мы оснащаем оппонентов, тем отчетливее будут их аргументы; чем чаще мы будем предпринимать попытки связать людей и блага, тем выше будет качество исследования; чем строже мы будем воздерживаться от постановки псевдопроблем, тем быстрее мы сможем отточить наше умение выделять нюансы. Это кажется очевидным, но Сфинкс так долго закрывал путь в город, навязывая пропозициям выбор между фактичностью и реальностью, он посеял столько сомнений в их рядах, что будет нелишним напомнить об этом, если мы хотим, чтобы процессия продвигалась в установленном порядке. Именно по ее работоспособности, оснащенности, сенсорам, качеству редактирования, интервенционизму в вопросах монтажа, волюнтаризму в области исследований, уровню ее притязаний можно судить о качестве ассамблеи. Благодаря ей мы через переводчиков понимаем, чего требуют претенденты на существование, столпившиеся у наших дверей.
Таковы пропозиции, практически вовлеченные в жизнь коллектива; в любом случае они уже начинают говорить на ее языке: «Я вызываю смертельную и неожиданную болезнь» – говорят вирусы вместе с вирусологами; «Я особенно быстро загрязняю реки» – говорят эти удивительные удобрения вместе с фермерами и нефтехимиками; «Я предлагаю способ в корне изменить космологию» – говорят пульсары и сопровождающие их радиоастрономы; «Я плачу, но мои пожелания не принимаются в расчет» – говорят потребители с их собственной манерой подсчета; «Я предлагаю еще более радикальным образом изменить космологию» – говорят летающие тарелки вместе со своими уфологами; «Я навожу и снимаю порчу» – говорит фетиш вместе со своим колдуном. Ассамблея, которая одновременно примет все эти предложения, быстро станет недееспособной, прислушиваясь ко всевозможным причудам тех, кто настаивает на своем существовании. Даже те, кто указывал на опасности культурного релятивизма, не могли и представить себе, каким кошмаром все обернется. При этом важно, чтобы верхняя палата не отсеивала их слишком быстро. Не будем забывать, что у нее больше нет старой бритвы, которая позволяла, хотя и без особого успеха, отличать высказывания от фактов и суждения от ценностей. (Нет, ни в коем случае, мы еще не готовы выпустить помещенную под домашний арест эпистемологическую полицию, чтобы она пошла гулять с топором в руке.) Верхняя палата не должна возводить плаху или виселицу: она должна всего лишь расчистить путь для другой палаты, переходя ко второму типу исследования, именуемому консультацией.
Эти слова, возможно, смутили читателя, он чувствует, что чернила еще не высохли и ему предлагают поставить свою подпись, не раздумывая. Это второе задание не менее оригинально и требует не меньших усилий, чем озадачивание. Кто должен судить о качестве пропозиций, толпящихся у дверей коллектива? Модернистская Конституция никогда не могла ответить на этот вопрос, именно поэтому она всегда подавляла демократию, которую якобы однажды вызвала к жизни. Смешивая задачи двух ассамблей, забывая о священном разделении властей, заменяя его нелепым разделением на факты и ценности, того, что есть, с тем, что должно быть, она никогда не имела достаточно смелости «мотивировать решение об отказе», как говорят юристы, довольствуясь произвольным отсеиванием, отбирая претендентов исключительно по внешности, безапелляционно бросаясь словечками вроде: «Рационально! Иррационально!»; «Первичные качества! Вторичные качества!» Никогда эти существа-претенденты, если только им не повезло попасть к «белым халатам», не имели в узких рамках модернизма права на комиссию, составленную с учетом их собственных проблем, вставших теперь перед коллективом.
Ассамблея будет работать еще лучше, если ей удастся подобрать для каждой пропозиции-претендента наиболее компетентное жюри, способное судить о нем и соответствующее требованию весомости•. Несмотря на видимость, это самая сложная из всех задач для тех, кто привык к удобствам модернизма, так как рискованные соединения• делают очевидной некомпетентность привычного нам жюри. Если слово «консультация» пользуется столь дурной репутацией, то именно потому, что мы считаем, что добиться появления активных участников совсем несложно. Однако нет ничего более сложного, чем найти и вызвать надежных свидетелей•, способных покончить с затруднениями речи•. Мы хотим наполнить поля Швейцарии генетически модифицированными организмами? Кто должен судить об этом? Возможно, сами швейцарцы. Употребляющие наркотики придают им такую важность, что предпочтут умереть, нежели отказаться от них? Допустим. Кто должен судить об этом? Почему не сами наркоманы? В любом случае мы не можем отказать им в месте в нашем жюри. Лосось покидает реки Алье и избегает решеток, установленных на плотинах? Кто должен об этом судить? Разумеется, лосось, он так или иначе должен участвовать в жюри. Мы хотим спасти слонов Кении, заставляя их пастись отдельно от коров? Прекрасно, но как вы спросите у масаи отдельно от коров, коров без слонов, прокладывающих для них путь в лесу, и слонов без масаи и коров? Эти щекотливые вопросы встают перед верхней палатой, которая обязана определить для каждого существа свой план исследования, серию испытаний, которая позволит судить о его важности.
Можно сказать, что верхняя палата всего лишь готовит для нелюдéй человеческую экспертизу, и не совсем понятно, зачем распространять принципы социал-демократии на объекты! Однако она занимается чем-то прямо противоположным, так как теперь пользуется всеми преимуществами, которые предоставляет ей кооперация различных гильдий. Социал-демократ может наконец научиться у ученых уважительному отношению к иностранцам… Жестокий парадокс, свидетельствующий о слабостях модернизма, научил нас тому, что консультации с нелюдьми́ даются нам намного легче, чем консультации с людьми. Исследователь не может себе представить, что план изучения какого бы то ни было феномена будет составлен раз и навсегда. Это все равно, что представить, будто существует один-единственный научный метод! Найти подходящее сочетание, вызвать надежного свидетеля, найти способ опровержения гипотезы – этого часто хватает для Нобелевской премии! Никто не может себе представить, что можно говорить со слонами, не проконсультировавшись с ними в соответствии с экспериментальной процедурой невероятной сложности. Однако с людьми мы поступаем не столь деликатно. Под предлогом того, что люди наделены даром речи, политики, а вместе с ними многие специалисты по опросу общественного мнения, социологи, журналисты и статистики воображают, что можно говорить вместо них, не консультируясь с ними на самом деле, не используя рискованные экспериментальные установки, которые позволили бы сформулировать им самим интересующие их проблемы, вместо того чтобы просто отвечать на заданные им вопросы. Пародируя Фигаро: «Если принять в рассуждение все добродетели, которые требуются от объектов, то много ли найдется людей, достойных быть нелюдьми́?» (167)
Мы прекрасно понимаем всю важность принципа разделения властей между двумя ассамблеями: если мы будем вмешиваться в исследование второго типа с вопросом о совместимости кандидатов с коллективом, то никогда не сможем найти подходящее жюри для каждой пропозиции. Мы захотим, напротив, ускорить процесс, отсеивая из жюри тех, чье присутствие может узаконить пребывание в коллективе существ, которые не должны стать его частью – согласно нижней палате и их предшествующему статусу. Именно это больше всего возмущало в старой Конституции: «Если наркоманы будут определять политику в отношении наркотиков, до чего мы докатимся?»; «Если уфологи будут заседать в жюри, которое должно судить о присутствии в нашем небе летающих тарелок, то не станет ли возможным любое сумасбродство?»; «Если масаи вместе со специалистами по слонам должны вынести суждение о своем опыте общения с ними, то как мы сможем получить неопровержимые данные?»; «Если человеческие эмбрионы будут против стариков, страдающих болезнью Паркинсона, то не остановит ли это научный прогресс?» Эти возмущенные реакции в рамках модернизма выдадут за голос нравственности, тогда как они нарушают обязательное этическое условие любой дискуссии: как верно заметил Хабермас, никто не обязан следовать решениям, принятым после дискуссии, в которой он не принимал участия.
Как все великие моральные принципы, изобретенные для того, чтобы защитить человека от объективации, этот замечательный принцип распространяется на всех: как на людей, так и на нелюдéй. Впрочем, его применение не оспаривается, если мы утверждаем, что астрофизики должны заседать в жюри, которое решает, существуют ли пульсары на постоянной основе. Однако в данном случае вопрос заключается в том, должны ли в этом жюри заседать исключительно астрофизики. И на этот раз сочетание различных ноу-хау позволяет нам необходимым образом расширить список членов жюри. Как найти тех, чья жизнь существенно изменится с появлением пульсаров? Возможно, не все они носят белые халаты. Но кто они? Где они прячутся? Как их узнать? Как их собрать? Как заставить их говорить? Таковы вопросы, которые постоянно беспокоят верхнюю палату и которые не должны быть поставлены под сомнение по причине неуместности, противоречия здравому смыслу или существующим обычаям. Именно в этом политическая экология совпадает с древнейшей демократической интуицией и находит ей подобающее место, без страха развивая экспериментальную метафизику, результаты которой не известны заранее, так что судить о них могут только те, кто смог перевести подобные выступления на их собственный язык.
Теперь верхняя палата выполнила свою задачу: она обнаружила претендентов на существование, перевела их предложения на их собственный язык, подобрала для каждого жюри, которое может отвечать за его качество, давая ему рекомендацию. Возвращаясь к нашей исторической фантазии, это значит, что группа иностранцев торжественно входит в город позади более или менее многочисленной группы членов коллектива, с которыми они связаны узами дружбы и которые были назначены в качестве судей, рекомендателей, поручителей или гарантов. Не стоит с ходу возражать, что не существует никакой реальной ассамблеи, способной удовлетворить одновременно требованиям озадаченности и консультации. Мы больше не ищем удовлетворения. Речь идет не о том, чтобы раз и навсегда установить порядок вещей, а всего лишь о том, чтобы как можно точнее следовать за одной из итераций коллектива. В этом смысле все коллективы сформированы достаточно скверно, и так будет всегда. В следующей главе мы увидим все политические, моральные и научные преимущества, которые можно получить от запуска коллектива в режиме обучения на опыте. В настоящий момент для нас важно только то, что наш кортеж достаточно оснащен, чтобы перейти к осаде следующей ветви власти – власти упорядочения, которой наделена нижняя палата.
Прием в нижней палате
Чем чувствительнее, восприимчивее и бдительнее первая ассамблея, тем лучше будут условия для церемонии, которая состоится во второй ассамблее. Как только дело доходит до второй палаты, требования, предъявляемые к пропозициям, совершенно изменятся. Тогда как верхней палате ни в коем случае не стоило обращать внимание на то, согласуются ли вновь прибывшие со старыми членами коллектива, то теперь вопрос совместимости, артикуляции пропозиций друг с другом становится священным долгом. Если верхняя палата занималась принятием в расчет «Сколько нас?», то нижняя задается вопросом «Кто мы такие?» У этого «мы» изменяемая геометрия, которая следует за каждой итерацией. Если только мы не имеем дела с коллективами-занудами, которые заранее знают, из чего они состоят, однако они, хоть правые, хоть левые, основаны на радикальном тождестве, на природе вещей, на гуманизме или на принципе произвольности знака и не относятся к области политической экологии. Все они восходят к Старому порядку, потому что две различные сферы реальности заранее определяют все факты и ценности. Их метафизика не является экспериментальной, это метафизика тождества. Нас же интересуют исключительно коллективы, состав которых будет изменяться вместе с каждой итерацией, даже если речь идет о переизобретении себя с тем, чтобы остаться тем же самым.
Нижняя палата задается новыми вопросами о старшинстве, этикете, вежливости, ранжировании. Хотя она не ставит под сомнение работу верхней палаты, ей ни к чему быть осторожной, бдительной, дерзкой и брать на себя риски. Пропозиции уже здесь, они говорят, у них есть свое жюри, никто не отвергает их метафизику, но уважение к их присутствию не разрешает новой проблемы: как заставить все эти противоречивые существа жить вместе? Как построить мир, который будет общим для них всех? Никакой плюрализм не позволит нам продвинуться в этом вопросе. Нижняя палата политической экологии должна возложить на себя титаническую задачу, которую никогда не решала ни одна ассамблея, разве что в форме мифотворчества. Мы сознательно лишили ее доступа к неограниченным возможностям модернизма, который позволял отсеять большую часть существ по причине их нерациональности или недостаточной реалистичности, чтобы те, кто остался, могли договориться между собой, то есть между людьми, наделенными разумом. Риск, которому мы подвергаем коллектив, возрастет, если верхняя палата прекрасно справится со своей задачей. На самом же деле, если существа-претенденты приходят вовремя, то они хорошо артикулированы и сопровождаются выбранными ими членами жюри, нижняя палата будет постоянно получать ходатайства от существ, которые в их собственных выражениях поставят вопрос о совместимости с общим миром. Они станут, с учетом подхода верхней палаты, еще более несводимыми ко всем остальным и еще более несовместимыми с ними. Чем утонченнее и бдительнее верхняя палата, чем больше она соответствует гражданскому обществу, чем она цивилизованнее, тем сильнее становится релятивизм (168). Всякий раз как верхняя палата будет говорить «мы», она услышит грозный оклик «Но не мы», за которым обязательно последуют многочисленные «Я тоже нет».
В этом и состоит величие ассамблеи: она хочет добиться интеграции, не настаивая на ассимиляции; она берет на себя риски унификации после того, как нижняя палата приняла на себя все риски множества. На первый взгляд, ранжирование всех этих несовместимых существ кажется тем более невозможным, что нижняя палата больше не может прибегнуть к трем старым методам, чтобы прийти к какому бы то ни было соглашению: обратиться к непреложным законам природы, чтобы сгладить различия человеческих интересов; ограничить дискуссию matters of fact, объясняя разногласия либо мнениями, либо внутренними убеждениями; наконец, она не может объединить всех людей за счет внешней природы, с которой дерут семь шкур. Отныне ничто не может ограничить масштаб подобной работы, если мы учитываем, что она полностью вмещает в себя требования той или иной метафизики, в которой колдун встречается со своими богами, гены – с Дарвином, угнетенные – с тем, что необходимо им для выживания, реки – с «водными парламентами», при этом никакое упрощение невозможно. Наблюдая ужас, который охватывает его членов, мы куда лучше понимаем невероятное преимущество, которое давало людям модерна создание еще одной палаты помимо палаты природы, за стенами которой можно было вне всяких процедур и среди своих, без вмешательства людей, по-тихому и без всяких объяснений свернуть шею большей части претендентов на совместное существование! Определенно, нашим избранникам больше не придется скучать, так как больше не будет природы и трансценденции, достаточно унифицированной для того, чтобы лишить коллектив права выбора.
Так или иначе, если представители больше не пользуются всеми преимуществами модернистских упрощений, то они также не страдают от его недостатков. Существа, которых старая Конституция безуспешно пыталась встроить в определенную иерархию, были крайне уязвимы: они были сформированы либо из сущностей, постоянно пребывающих в мире, либо из идеальных, но бездомных ценностей. Хуже того, благодаря совместной работе эпистемологов по описанию природы и социологов по описанию общества нижней палате достались самые неуживчивые посетители, так как природные существа определялись через их безусловные сущности, а группы людей – через столь же безусловные интересы. Вместе с тем их нужно было согласовывать с еще более безусловными ценностями, которые были столь же фундаментальными, сколь и бесполезными. Несмотря на массовое отсеивание существ, принимаемых в расчет (большая часть которых оказалась низведена до уровня убеждений), задача ранжирования в модернистской Конституции казалась настолько неосуществимой, что, подобно ленивым деспотам из сказок, мы должны были перейти к отбору при помощи насилия или под давлением фактов, чтобы вернуться, как мы уже знаем, к Might и Right в одной упаковке. Нижняя палата сталкивается с куда большим числом пропозиций, чем при Старом порядке, но речь идет о пропозициях•, наделенных привычками•, а не сущностями•, которые обеспечивали бы им привилегированные места в коллективе без всякого дополнительного обсуждения.
Разумеется, коллектив переживет демографический взрыв, но и пространство для маневра таким образом расширяется. Если нижняя палата должна допускать гораздо больше претендентов по сравнению с грубой метафизикой природы, оставлявшей их снаружи, и если она не планирует поручить кому-то другому работу по ранжированию, которую она должна в полной мере взять на себя, то она будет иметь дело уже не с людьми и их безусловными интересами, а с ассоциациями людей и нелюдéй в достаточной степени артикулированных, чтобы состоять из привычек•, перечень и содержание которых могут слегка варьироваться. Другими словами, мы сможем обсуждать, договариваться, сглаживать углы, приходить к соглашению между различными существами и запускать наш челнок, которой невозможно было даже представить при Старом порядке, когда объекты стояли лагерем напротив субъектов, так что между ними не могло не возникнуть гражданской войны на основе диалектических противоречий. Если верхняя палата имела экспериментальный характер, разыскивая кандидатов и подбирая жюри, то то же самое можно сказать и о нижней, даже если проводимые ею исследования направлены на поиск того, как лучше манипулировать пропозициями, чтобы встроить их в определенную иерархию, перед тем как под благовидным предлогом закрыть дискуссию.
Слово «переговоры» имеет негативный оттенок, потому что мы меряем их результаты своей меркой, исходя из некой идеальной ситуации, которая хороша всем, кроме одного: в реальности она невозможна. Все то время, пока мы, как нам кажется, конструируем внутри некий компромисс, исходя из фиксированного числа позиций, над нашими переговорами витает тень трансценденции, которая не пойдет ни на какие сделки с совестью. При этом исследование иерархии подобных результатов охватывает именно те пропозиции, которые пока точно не знают, к какой совокупности они относятся. Несмотря на видимость, обращение к какой бы то ни было трансценденции делало невозможной работу по ранжированию, так как слишком быстро – до следующей стадии, на которой появлялось учреждение, – происходила стабилизация (временной) модели, руководствуясь которой мы должны были оценивать все новые результаты. Таким образом, исследование начинается не с устойчивых сущностей и неизменных интересов, а с ситуации неопределенности, в которой находятся все и которая распространяется на характер порядка, связывающего и распределяющего существа в порядке важности. Общий критерий для оценки несовместимых существ не может быть найден иначе, как совместными усилиями ученых, политиков, экономистов и моралистов. Даже если модернизм всегда предпочитал тайно расставлять приоритеты и всячески избегать того, что мы назвали требованием публичности•, он не сильно облегчал задачу получения компромисса, которой он якобы соответствовал, так как он всегда угрожал участникам переговоров возможным соглашением, навязанным извне. Если обращение к имманентности, которое мы назвали секуляризацией, произвело столь ужасного на первый взгляд монстра, то оно, по крайней мере, делает договоренность возможной в принципе, так как обязывает нижнюю палату найти некоторое внутреннее решение. Оно возвращает демосу то, чего его лишили с момента изобретения Пещеры.
Это исследование одновременно о мастерстве инженеров, предлагающих хитроумные решения, дерзости ученых, заменяющих одну разновидность существ другой, чтобы снять ограничения с соотношения сил, о сделках, совершенных в тайных кабинетах, о моделировании посредством вычислений, о хладнокровной дипломатии, а также о том моменте, когда проявляется энтузиазм, призванный несколько оживить эту невероятную череду компромиссов, когда определенные существа меняют репрезентативную базу, на которой до сих пор были основаны их интересы. Так совершается чудо и находится казавшееся невозможным соглашение между несовместимыми существами, хотя и не потому, что нам удалось прийти к компромиссу, и не потому, что мы обратились к некоему внешнему гаранту, а потому, что мы смогли изменить характер этого «мы», с которым каждый решил себя идентифицировать. Эту работу считают недостойной только те, кто полагает, что Старый порядок предлагал более удачные решения, хотя неприемлемое разделение фактов и ценностей приводило только к вопиющему противоречию. Мы только усугубляли ситуацию из самых благих побуждений. На практике все заключенные соглашения имели форму, которую им придавала нижняя палата. С учетом небольшой, но весьма существенной поправки: теперь все компромиссы заключаются вполне определенным образом, публично и правомерно, все они подлежат пересмотру, все они задокументированы и отправлены в архив, поэтому именно они приходят на смену тайным сделкам и кулуарным соглашениям. Мы можем наконец извлечь пользу из «правового состояния природы».
Экспериментирование, сопутствующее работе нижней палаты по составлению иерархии, в упрощенном виде может быть представлено как исследование перечня существ, расставленных в порядке важности от самых дружелюбных до самых враждебных. Оценка переговоров заставляет каждую пропозицию высказываться в следующем духе: «Вот сценарий мира, в котором мы готовы жить, с теми-то и теми-то, а чтобы мы могли делать это и дальше, то мы готовы, вопреки тому, что говорили раньше, пойти на такие-то и такие-то жертвы». То, что было невозможно с сущностями и интересами, становится, хотя и не без проблем, возможным с пропозициями и привычками, при условии, что у них будет полная свобода действий и возможность принимать решения относительно общего мира, в котором они хотели бы жить. Мы не могли вести переговоры с сущностями, мы получим такую возможность, если у нас есть перечень взаимозаменяемых привычек. Какой мир является наилучшим? Именно эту задачу нельзя доверять никому: ни Богу, ни какому-то царю, так как с ней может справиться только нижняя палата. Бог Лейбница спускался с Неба на Землю. Суверен принимается, наконец, за работу, чтобы, экспериментируя с возможными мирами, обсудить наилучшее сочетание, оптимум, который никто не сможет рассчитать за другого.
Остается самое сложное, самое мучительное, самое жестокое: с одной стороны, официальное и недвусмысленное расставание с теми, с кем мы не смогли договориться, с другой – встраивание тех, кого мы приняли, в устойчивые механизмы, то есть учреждение сущностей, в том числе враждебных, организация внутренней и внешней среды, экстериоризация невозможных миров, формулировка внешних факторов – одним словом, риск допустить несправедливость. Это вторая важная задача нижней палаты, которой до сих пор стыдились, но теперь ее будут выполнять с гордостью (169). При старой Конституции нам не требовалось никаких расследований, потому что сущности не нуждались в учреждении, чтобы стать наличными, а исключенные не имели статуса врагов, так как просто не существовали и никогда не принадлежали реальному миру. Хотя, как мы не устаем повторять, он со всей своей педантичной одержимостью не отвечал критериям нашего исследования, модернизм был уверен в моральном превосходстве над всеми своими предшественниками!
Старый порядок заранее получал сущности, изобретая первую метафизику, при этом отказывая ей в собственно метафизическом качестве и называя ее просто природой. И если люди, разумеется, могли открыть ее законы, выводя их из чудодейственной истории наук, то эти законы никогда не выполнялись в рамках прозрачной процедуры. Как раз наоборот: считалось, что между учреждением и истиной существует противоречие (170). Но в этом есть и свой приятный момент: когда мы представляем себе те колоссальные усилия, необходимые для производства, обработки, компоновки, достижения согласия, без которых невозможно прийти к какой бы то ни было определенности относительно фактов. Нижняя палата политической экологии не уклоняется от подобной работы и организованно подходит к учреждению сущностей. Вместо того чтобы противопоставлять учреждение и истину, она, напротив, извлекает максимальную пользу из их синонимии, потому что она и только она может наконец определить различия в степени определенности, т. е. в распространении и верификации фактов (171). Она больше не будет, как при Старом порядке, наполнять мир ученых, недоступный обычным людям, невеждами, которые ни в чем не разбираются, точно так же – как внезапно совершаемыми открытиями. Вместо того чтобы ждать, пока историки наук напомнят нам о средствах, необходимых для получения истины, она заранее позаботится о них, а также о том, как воплотить ее в жизнь. Нижняя палата наконец включит в свой бюджет статью о постепенном увеличении числа гарантированных истин, выплачивая учреждениям необходимую для их установления сумму.
Модернизм почитал за великую добродетель тот факт, что он не исключал насильственно изгоев из коллектива. Он, со свойственной ему слащавостью, довольствовался констатацией их несуществования в форме вымыслов, убеждений, иррациональных утверждений, нелепостей, выдумок, идеологий, мифов. В этом мы видим проявление его извращенной натуры: он считал себя добродетельным, поскольку не был знаком с врагами, а исключенных он презирал настолько, что, как ему казалось, они не существовали вовсе! Обвинение в иррациональности позволяло без суда и следствия отправлять в небытие различные существа и считать, что этот произвол справедливее, чем выверенная процедура, принятая в правовом государстве. Требуется немалая смелость, чтобы сделать выбор в пользу подобной процедуры, основанной на природе вещей и на вещах, относящихся к природе, по сравнению с процедурой куда более прозрачной, последовательной, определенной и позволяющей исключать те или иные существа, которые на данный момент оказываются несовместимыми с общим миром.
Второй способ, или способ, который использует нижняя палата, имеет огромное преимущество благодаря своему гражданскому характеру: если она создает врагов, то не пытается их унизить, не просто удаляя из коллектива, а лишая их права на существование (172). Она всего лишь говорит им: «В тех сценариях, которые мы до сих пор опробовали, вам не находится места в общем мире – выходите, теперь вы стали нашими врагами». Но она не бросает им с высоты своего морального превосходства: «Вы не существуете, вы навсегда потеряли какие бы то ни было онтологические права, мы больше не будем принимать вас в расчет при построении космоса». То есть именно то, что модернизм, кичащийся своей добродетелью, заявлял им без всяких угрызений совести. Исключая, нижняя палата боится совершить ошибку, так как ей известно, что враги, которые ей угрожают, завтра могут стать ее союзниками.
Поскольку ей известно, что верхняя палата в дальнейшем может пересмотреть ее решение, нижняя палата может взять на себя привлечение к ответственности, обобщив и обеспечив устойчивость различных обязательств и причинных связей. Мы вечно говорим о законах природы, мы постоянно иронизируем над юридической метафорой, которая неподобающим образом объединяет безразличную природу с людьми и правовыми нормами Града. Но вместе с нижней палатой политической экологии законы природы наконец обретают свой Парламент, эту общественную ассамблею, которая голосует за них, производит их регистрацию, учреждает их. Да, после определенных рассуждений существа будут надежно связаны посредством действующих причинных связей, а зоны ответственности будут четко установлены. Прион действительно несет ответственность за коровье бешенство; министр здравоохранения – за смерть погибших после переливания крови; Бог не имеет никакого отношения к землетрясению в Лиссабоне; законы притяжения объясняют все, что нужно знать о падении тяжелых тел в пустоте; государство остается собственником побережья; слоны помогают коровам, которых пасут масаи, попасть к их пастбищу… Таким образом, мы наделяем определенными свойствами пропозиции, которые в конце концов обретают устойчивую субстанцию, атрибутами которой они являются.
Все эти полномочия, установление связей, решения относительно характера соединений в итоге приводят к определению сущностей, которые наконец обретают определенные черты. Существа теперь наделены безусловными свойствами. Разделение между ними отныне совершается по праву, а не по факту. Если потребуется, можно даже позволить себе роскошь различать людей и вещи, существа, наделенные даром речи, и немые предметы, тех, кто заслуживает защиты, и тех, чьим повелителем и хозяином мы можем стать, область социального и область природы. Да, все то, что до сих пор было под запретом, становится возможным, так как теперь мы знаем, что те или иные решения, вполне подлежащие пересмотру на следующем этапе, являются кульминацией прозрачной процедуры, которая в том случае, если нижняя палата хорошо сделала свою работу, была осуществлена с соблюдением процессуальных норм. Мы можем прийти, не боясь их перепутать, к субъектам и объектам, при условии, что они будут не отправной точкой анализа, а его предварительным итогом. У реальности теперь есть свое представительство.
На этот раз кортеж вернулся в город, иностранцы ассимилированы, враги отброшены к границам, городские ворота захлопнулись перед ротозеями. Члены городского управления могут спокойно выпускать ополченцев из эпистемологической полиции: они примут участие в принятии решения о квалификации рационального и иррационального, больше не будет благословлений или проклятий, сколь поверхностных, столь и безобидных. Подобно тому как нижняя палата не могла выполнять свою работу без помощи верхней, она сможет снова заступить на свою вахту только при условии, что нижняя добросовестно выполняет свои обязанности. Если она без всякого повода отсеяла одни пропозиции и безосновательно включила другие, верхней палате потребуются невероятные усилия, чтобы обнаружить опасность, которую могут представлять собой изгои. Мы действительно сделали их невидимыми и незначительными. Они полностью утеряны. Рискованные соединения• стали объектами вне зоны риска. Иначе мы потеряли бы шанс на то, чтобы стать цивилизованными.
Заключение: общий дом, ойкос
Опустилась ночь, процесс окончен, Град построен, в него вселился коллектив: у политической экологии теперь появились свои учреждения. Чтобы закончить эту главу, дадим краткое описание четырех видов исследований, формирующих новые компетенции, которые мы обещали использовать (таблица 4.2).
Старая Конституция при всех ее благих намерениях не могла толком соответствовать ни одной из своих функций, так как она создавала непреодолимые сложности для их осуществления. Она рассчитывала максимально точно передать внешнюю реальность, но вместе с тем мешала озадаченности развернуться в полной мере, навязывая преждевременное различие фактов и ценностей, поэтому претенденты на существование не находили в ней своего места. Как озадачить коллектив, если нам заранее известно устройство Вселенной? Мы, разумеется, хотели бы принять в расчет различные мнения, чтобы соответствовать требованию консультации, совершенно не осознавая, какую огромную работу необходимо проделать, чтобы искусственно создать оппонентов. Как мы можем утверждать, что консультировались по этой проблеме с теми, кому мы не дали возможности переформулировать вопрос?
Таблица 4.2. Перечень исследований, необходимых для функционирования двух палат коллектива
Обращаясь к плюралистической демократии, хотели избежать тоталитаризма в единственной и наспех описанной вселенной, которая при этом не оставляла времени для развертывания различных миров и не предлагала общему миру средств для объединения. Почему плюрализмом называется лицемерное уважение к убеждениям, которым мы отказываем в реальности? Ведь все хотели найти свой оптимум, при этом цинично и корыстно обесценивая тщательную работу по подбору комбинаций и поиску компромисса, которая больше не соответствовала требованию публичности. Как прийти к соглашению, если угроза высшей трансценденции заранее дискредитирует все эти сомнительные комбинации? Что касается требования закрытия дискуссии, то ему Старый порядок мог соответствовать разве что тайком, так как он предпочитал не противопоставлять истину всем тем реальным, материальным, институциональным инструментам, которые позволяли бы ее устанавливать, распространять и расширять сферу ее влияния. Невосприимчивость по отношению к внешней среде, которая должна была управлять политикой; снисходительность по отношению к тем, с кем мы должны были проводить консультации; цинизм по отношению к тем, кто хотел бы нарушить компромисс и получить сочетания, еще более далекие от правового государства; наконец, лицемерие, которое состоит в том, что мы запрещаем реализму заявить о своих правах: завидный перечень добродетелей для тех, кто любит приписывать другим коллективам иррациональность, читать им мораль и давать наставления…
Как далеко мы ушли по сравнению с первой главой! Мы не без труда можем вспомнить те давние времена, когда двухпалатная система парализовала все эти движения, профессии и исследования. Как же им идут обновки политической экологии! Какая легкость в формах жизни, которые только кажутся новыми. Разве мы не нашли доказательство того, что традиционное благоразумие в конце концов сойдет со сцены? Напротив, именно Старый порядок теперь кажется оскорблением здравого смысла•, мы теперь понимаем реальный смысл этого выражения: это смысл общего [sens du commun], смысл поиска общего мира. Если благоразумие определяло старое состояние коллектива, то здравый смысл предлагает коллективу форму, которую ему предстоит обрести.
Когда мы достаточно удалимся от модернизма, чтобы иметь возможность его исследовать, историки идей удивятся, насколько причудливой была его политическая организация. Как объяснить нашим внучатым племянникам, что представители разных профессий, созванные отовсюду, чтобы возвести общественное здание, обладали всеми талантами, компетенциями, инструментами, но им не хватало общей директивы: описания дома, который они должны построить. Как мы сможем объяснить рабочим: «Здание уже есть, оно сработано на славу, но его никто не строил, оно возвышается для вечности, оно прочно и монолитно, оно называется природой, так что мы не нуждаемся в ваших услугах», притом что мы приказываем другим мастерам создать совершенно искусственное существо, известное как Левиафан, лишая их инструментов, используя которые ему можно было бы придать твердость, устойчивость, не говоря уже о соответствии законам и справедливости? Один уже существует и его не требуется строить, а другого нужно соткать из ветра? Как объяснить нашим потомкам, что мы хотели основать демократию, помещая конструкцию без материалов – с одной стороны, а с другой – материал без конструкции? Их нисколько не удивит, что общественная жизнь, подобно легендарной вавилонской башне, рухнет сама по себе.
В любом случае несоблюдение норм само по себе не объясняет саморазрушение коллектива, которое мы только что описали. Ни божественная ревность, ни людская гордыня, ни плохое качество кирпичей или строительного раствора не могли стать причиной того, что народы оказались раздроблены на множество несовместимых культур. Все республики устроены кое-как, все они построены на песке. Они могут существовать только при условии, что мы будем их постоянно перестраивать, а исключенные нижней палатой следующим утром постучат в дверь верхней палаты, настойчиво желая стать частью общего мира, космоса, ведь этим словом, согласно Платону, греки называли хорошо устроенный коллектив. Чтобы понять компетенции двух палат, мы больше не будем заниматься динамикой их соглашений. На самом деле, логос никогда не говорит прямо: он подбирает слова, сомневается, заикается и вновь повторяет одно и то же.
5. Исследование общих миров
В процессе построения коллектив подпитывается тем, что осталось снаружи и еще не собрано. Но как определить то, что совершенно от него ускользает? Раньше мы назвали бы это сочетанием природы и различных обществ. Природа объединяла первичные качества• в некий однородный гарнитур; культуры комбинировали разнообразные вторичные качества• и получали массу несовместимых друг с другом сочетаний. Если вселенная, объединенная природой, не имела ничего общего с людьми, то по крайней мере было возможно преодолеть разобщение различных культур, обратившись к той самой природе. Если какой-то вопрос и был урегулирован, то это был именно вопрос о множестве обитаемых миров. Однако ни мононатурализм, ни мультикультурализм не могут помочь коллективу, который теперь находится в ситуации опасности. С одной стороны, слишком много единства, с другой – разнообразия. С одной стороны, слишком много безусловных сущностей, с другой – произвольных идентичностей. У нас нет иного выбора, кроме как методом проб и ошибок искать, что может прийти на смену традиционному компромиссу (одна природа, множество культур), задав достаточно странный вопрос: сколько других коллективов существует?
В окружении сущностей и идентичностей коллектив быстро погибнет (он станет обществом•). Поэтому он должен создать для себя принципиально новую окружающую среду, отличную от культуры, которую окаймляет природа, став чувствительным ко всему тому, что еще не было собрано, где пребывают существа исключенные, но имеющие право на апелляцию и возвращение в коллектив. Чтобы решить невыполнимую задачу построения общего мира, мы приучили демос ожидать помощи свыше, т. е. со стороны Науки. Лишенная возможности обратиться к иному миру, общественная жизнь вроде бы должна замереть. Нас убеждали в том, что если мы хотим, чтобы ассамблеи не чинили произвол и насилие, не впадали в противоречия и не вносили раздор, то они должны стоять на мощных сваях, которые не может поколебать рука человека. Можем ли мы поверить, что невозможность умиротворить общественную жизнь объяснялась именно поддержкой, которую оказывал ей разум? Лекарство убивало больного! Изменяя внешнюю среду, коллектив существенно модифицирует тип трансценденции, в тени которой до сих соглашалась обитать политическая философия. Если существует неограниченное число трансценденций (множество пропозиций, которые стучатся в дверь), то больше не может быть единственной трансценденции, способной положить конец недержанию речи политических ассамблей. Над политикой больше не висит этот дамоклов меч: спасение, которое приносит разум.
Политическая философия никогда не прекращала поиск типа рациональности, способного положить конец гражданским войнам: от Града Божьего до общественного договора, от общественного договора до «необременительных пут торговли», от экономики до этики дискуссии, от морали до защиты природы, политика всегда должна была приносить публичное покаяние за отсутствие мудрости у человечества, которому постоянно грозят распри. Даже когда мыслители, менее одержимые трансценденцией, или же более изобретательные плуты пытались определить сферу политического, им приходилось делать то же самое, признавая врожденную неполноценность этой обычной способности. Желая избежать диктата эпистемологической полиции, они по-прежнему ему подчинялись, поскольку описывали политику как извращенную, жестокую, ограниченную, макиавеллистскую, возможно, на свой манер добродетельную, но, увы, совершенно не способную достичь прозрачной ясности знания (173). Поэтому политику никогда не рассматривали на равных с разумом, особенно в том, что касается ее назначения. Если мы признаем за Realpolitik узкую сферу применения, наравне с Наукой и Naturpolitik, то это совсем не означает, что они работают над решением одной и той же задачи, и тем более – что мы говорим о политике реальности, о реалистичной политике, о реальной политике.
Вместо того чтобы реабилитировать политику, ее всегда нейтрализовывали заранее. Переливать из Науки в коллектив означало бы потерять ту последнюю кровь, которая у него еще оставалась (174). Несмотря на угрозы (политической) эпистемологии, демос страдает не от отсутствия, а от переизбытка Науки. Этот результат покажется парадоксальным только тем, кто изображает коллектив в самых мрачных красках, как общество, погруженное во мрак репрезентаций. Но мы теперь поняли, что политика похожа на ад социального не больше, чем науки – на Науку. Кроме того, она не может прийти на помощь со своей трансценденцией, так же как и политика не может быть полностью сведена к имманенции. Моралистам никогда не надоест противопоставлять рациональные отношения и соотношения сил, неопровержимый аргумент и пистолет у виска, как если бы речь шла об одной-единственной оппозиции, которую нужно сохранить любой ценой, рискуя погрузиться в анархию. Мы узнаем в этой неубедительной постановке, где разум противостоит силе, Right противостоит Might, старые принципы разделения властей. В новой Конституции различие между соотношением сил и рациональными отношениями значит намного меньше, чем разделение на врагов и подающих апелляцию, между состоянием коллектива на данном этапе и его возобновлением на следующем. Те, кого отвергли как врагов, или с помощью аргументов, обрекающих на вечную иррациональность, или с помощью пистолета, бьющего наповал, в любом случае вернутся и будут преследовать коллектив на следующем этапе. Единственное отличие, которое теперь имеет для нас значение, заключается в вопросе: кто вы, те, кто способен поглощать и отвергать? Вы можете сделать ничтожными врагов, вы можете полностью отказаться слушать, но вы только оттянете тот момент, когда они вернутся, увеличивая долговое бремя коллектива. Если вы придумали весь этот театр разума и насилия, чтобы вам не приставили нож к горлу, то мы сможем намного лучше защитить вас от произвола при помощи Конституции, которая не потерпит никаких сокращений, особенно если они продиктованы разумом.
«Что? Вы хотите поставить на одну доску насилие и разум, Might and Right, Knowledge and Power?» Да, на одну доску, то есть рассматривать их как одинаково чуждых функционированию республики: в этом заключается гипотеза политической экологии, выдвинутая в этой книге. Битва разума и насилия, спор Сократа с философом, Калликлом, софистом, противопоставление доказательства и убеждения, па-де-де реализма и релятивизма – все это нас не касается и больше не годится для описания истории наших привязанностей. Это спор между элитами, кто быстрее свернет шею демосу: ошеломляющее ускорение законов природы или столь же ошеломляющий взрыв насилия. Чтобы перейти к новой Конституции, нужно отказаться от предлагаемой нам помощи в виде двух способов упростить общественную жизнь, заменить Науку на науки и общество на медленную работу по политическому строительству (175). Их больше нельзя спутать, они больше не ведут войну между собой, ведь мы давно доказали: если мы говорим о науках во множественном числе и «той самой» политике в единственном, то именно потому, что их функции отличаются. Одни позволяют сохранять множество претендентов на существование, а другие – постоянно возвращаться к единству, к тому, что объединяет их в один коллектив, тогда как старая Конституция, если выразить ее единственной фразой, делала нечто прямо противоположное, говоря о единственной Науке и множестве политических интересов.
Поэтому политика сопротивляется насильственному сокращению точно так же, как параличу, в который ее ввергает разум. Различая ценности и факты, Старый режим пользовался преимуществом двойной трансценденции: он мог оторваться от обычных de facto при помощи требований de jure, при этом он всегда мог обратиться к суровой действительности фактов, чтобы избавиться от устаревших требований ценностей и права. Новая Конституция не может похвастаться подобными трансценденциями. Она не может обращаться к чему-либо кроме множества, которое находится вовне, но не обладает легитимностью или единством и подвергает ее опасности, так как она никогда не сможет от него отделаться. Сперва мы думаем, что без помощи трансценденции задохнемся от нехватки кислорода; однако затем осознаем, что дышим свободнее, чем раньше: трансценденции более чем достаточно в пропозициях, находящихся вне коллектива.
С этими двумя палатами, созванными на понятных условиях, коллектив должен замедлить ход, то есть кстати или некстати ре-презентировать страдания, сопровождающие постепенное построение космоса. Вместо того чтобы различать, как нас обязывала традиция, факт и право, он обязывает факты обрести легитимность (176); отныне он различает неизвестно как полученные сплавы фактов и ценностей от ассоциаций людей и нелюдéй, полученных при соблюдении процессуальных норм. Для него важен всего один научный, политический, моральный, экономический и административный вопрос: эти пропозиции, хорошо ли они артикулированы? Формируют ли они подходящий или неподходящий для жизни общий мир? Теперь недостаточно присутствовать в верхней палате, чтобы влиять на работу нижней. Недостаточно отрицательного решения нижней палаты, чтобы лишиться доступа в верхнюю. При условии, что они работают в связке, две ассамблеи в определенной момент производят предварительные соединения, то есть то, что можно было бы назвать «фактическим состоянием права», de facto de jure.
«В итоге вы хотите целиком оставить нравственность, истину и справедливость на волю случая при переходе коллектива к его следующей версии? Вы оставляете всякую определенность ради метода проб и ошибок? Великая трансценденция Истины и Блага ради ничтожной трансценденции колебаний и повторов? Надо окончательно сойти с ума, чтобы лишать себя апелляции к разуму, ведь только она и делает возможным критический подход. Нет, не сойти с ума, но перестать быть модерными. Это нас вполне устроит, ведь мы никогда ими не были.
Две стрелы времени
В самом начале этой книги мы противопоставили выражения «модернизм» и «политическая экология», так что мы даже могли бы подвести итог проделанному нами пути, спародировав вопрос Гамлета: To modernize or to ecologize? That is the question [22]. Придать прилагательному «модерный», которое мы обычно используем не задумываясь, отрицательный смысл или, по крайней мере, внушить к нему недоверие, вот что может по-настоящему удивить читателя. Мы не могли объяснить этого раньше, потому что его определение зависело от странных представлений людей модерна о Науке и политике. Оказывается, направление того, что называют «стрелой времени», зависит от отношений Науки и общества (177). Люди модерна говорят, что они «идут вперед». Но по каким признакам можно судить, что они продвигаются, а не идут вспять или топчутся на месте? Необходим какой-то критерий для того, чтобы они могли отличить светлое будущее от темного прошлого. Но именно в классических отношениях объекта и субъекта они найдут эту точку отсчета, которая станет для них своего рода триггером: прошлое путалось в том, что будущее должно прояснить. В прошлом наши предки путали факты и ценности, суть вещей с их репрезентациями, суровую действительность с фантазмами, которые они на нее проецировали, первичные качества со вторичными. Но сегодня люди модерна уверены, что различие можно провести гораздо быстрее, так как мы умеем четко отделять установленные факты от сопровождающих их желаний и человеческих прихотей. Для людей модерна без Науки, оторванной от социального мира, нет ощутимого движения, нет прогресса, нет стрелы времени, то есть надежды на спасение. Мы понимаем, что они отчаянно пытаются защитить миф Пещеры и что они видят в смешении наук и политики непростительный грех, который лишает историю всякого будущего. Если Наука больше не может вырваться из ада социального, то эмансипация становится невозможной: ни у свободы, ни у разума нет будущего.
Именно этот темпоральный механизм, эту фабрику времени, эти башенные часы, этот счетчик, должна со всем знанием дела подвергнуть критике политическая экология. Она должна изменить механизм, который генерирует различие между прошлым и будущим, остановить маятник, который задает ритм темпоральности людей модерна. Мы не могли приступить к этому в начале книги, чтобы не оскорблять здравый смысл, однако теперь это совсем несложно. Нужно всего лишь заменить элементы механизма, который мы уже разобрали…
Что за механизм отвечал за обещанное и столь желанное разделение фактов и ценностей? Теперь нам это известно: при производстве двух типов экстериорности один использовался в качестве склада, второй – в качестве разгрузки. Фронт модернизации неумолимо продвигался, подыскивая по ту сторону социального безусловный общий мир, который служил ему чем-то вроде склада, чтобы поместить в него стремительно размножавшиеся мнения, проекции, репрезентации, фантазмы, которые нужно было исключить из реального мира и выбросить на большую свалку – на кладбище архаизмов и иррациональных убеждений. «Продвигаться» в этом режиме означает наводнить коллектив бесспорными фактами, первичными качествами и исключить из реального мира качества вторичные, чтобы поместить их во внутренний мир, в прошлое, в любом случае – показать их незначительность и необоснованность. Мы узнаем этот огромный насос, засасывающий и отбрасывающий прочь (засасывающий неоспоримые факты и отбрасывающий спорные мнения), – это природа, наш политический противник (178).
Машина по производству «времени модерна» основана на принципе максимальной натурализации, то есть, что мы и продемонстрировали, на отрыве на все возрастающей скорости от законных процедур, в соответствии с которыми мы должны учреждать сущности•. Бомбардировка нерукотворных и появившихся из ниоткуда объектов все дальше вытесняет репрезентации в архаику. Удивительная претензия: модернизировать планету до такой степени, чтобы исчез всякий след иррационального, которое заменит неприкасаемый разум. Любопытно, что в конечном итоге история модерна напоминает (очень скверный) фильм «Армагеддон»: объективный болид, комета, появившаяся из другого конца галактики, вскоре положит конец всем человеческим распрям, превратив Землю в стекло! То, от чего она ждет спасения, окончательного освобождения, – это Апокалипсис объективностей, который прольется огненным дождем на коллектив (179). Светлое будущее люди модерна представляют в виде окончательного истребления как людей, так и нелюдéй! Платоновский огонь, пришедший с Неба Идей, наконец озарит темную Пещеру, которая расплавится от столь яркого света. Странный миф о конце истории в результате катаклизма для политического режима, претендующего на то, чтобы давать уроки благоразумия и нравственности жалким и невежественным политикам…
Что же до политической экологии, то ей не нужны ни склад, ни свалка. Она видит, что засасывающий и выбрасывающий насос постоянно заклинивает, что он засорен, что совсем скоро он заржавеет. Поэтому она больше не может использовать различие между рациональным и иррациональным, между неоспоримым природным «фактом» и архаическим характером «репрезентации»: политическая экология не может постепенно смещать временной курсор вдоль единственной линии, проходящей между смутным прошлым и просвещенным будущим. Теоретическая экология, которая позаимствовала у модерна его концепцию природы и времени, которая с ней связана, разумеется, пыталась этим заниматься. Сперва она полагала, что, приучая заботиться о природе, она положит конец расточительности, эксплуатации, иррациональности человека. Однако под видом революционных изменений речь шла всего лишь об ускорении времени модерна: природа диктовала свои законы истории еще более настоятельно, чем в прошлом. Более того, пропадала сама историчность, так как ее путали с развитием природы. Нет, определенно, политическая экология больше не может поддерживать ход башенных часов людей модерна, какими бы революционерами они себя при этом ни воображали, так как уже решила, что не будет организовывать общественную жизнь вокруг разделения фактов и ценностей, единственной пружины, которая до сих пор могла установить по-настоящему устойчивое, окончательное и прогрессивное различие между прошлым и будущим.
Должна ли политическая экология отказываться из-за этого от погружения в историю? От поступательного движения? Существует ли для нее стрела времени? Если она не является модерной, должна ли она встать на позиции постмодернистов; или, хуже того, должна ли она свернуть назад с дороги прогресса и приклеить на себя ярлык «реакционной»? Разумеется, нет, хотя в ее распоряжении нет ресурсов и разгрузок Старого режима, у нее имеются свои трансценденции: экстериорность, сконструированная при соблюдении процессуальных норм, которая осуществляет временное исключение соискателей. Поэтому она способна продемонстрировать различие между прошлым и будущим, но получает его при помощи разрыва между двумя последовательными итерациями, а не за счет старого разделения фактов и ценностей: «Еще вчера – могла бы сказать она – мы принимали в расчет лишь некоторые пропозиции; уже завтра мы примем в расчет другие, а если все будет нормально, то еще больше; вчера мы придавали слишком много значения существам, чье влияние завтра уменьшится; в прошлом мы могли построить общий мир всего из нескольких компонентов; в будущем мы сможем выдержать шок от столкновения с куда бо́льшим количеством существ, которые до сих пор считались несовместимыми; вчера мы не могли сформировать космос и нас окружали aliens [23], которых никто не создавал – старые ресурсы – и которых никто не мог интегрировать – старые разгрузки; завтра мы получим менее искаженный космос».
Мы изменили будущее в то же самое время, что и внешнюю среду, а ее мы изменили по той причине, что политические институты, прописанные в Конституции, были потрясены до основания. Тогда как люди модерна всегда переходили от неясного и смутного к ясному, от смешанного к простому, от архаичного к объективному и таким образом постоянно поднимались по лестнице прогресса, мы также будем прогрессировать, но спускаясь по другой дороге, которая при этом не приводит к упадку: мы будем идти от смешанного к еще более смешанному, от сложного к еще более сложному, от объяснения к применению. Мы больше не ждем от будущего, что оно освободит нас от всех привязанностей, а напротив, ожидаем, что оно теснее свяжет нас с полчищами aliens, которые стали полноценными членами коллектива в процессе формирования. «Завтра, – восклицали люди модерна, – у нас будет еще меньше привязанностей». Марк Твен утверждал, что неизбежны только смерть и налоги; теперь к этому надо добавить еще одну неизбежность: завтра коллектив станет еще более запутанным, чем вчера. Нам придется еще глубже погрузиться в жизнь постоянно растущего множества людей и нелюдéй, требования которых будут становиться все более взаимоисключающими по сравнению с теми, что были раньше, и которых нам нужно будет разместить в общем доме. Мы больше не ждем, что всех нас примирит огненный дождь своей убийственной объективностью. У нашей истории нет конца. Конец истории – это стрела модерна, без нее он был бы невозможен. Ведь постепенное становление космоса не имеет конца. Поэтому политической экологии не стоит бояться Апокалипсиса: она возвращается домой, к ойкосу, к другим заурядным существам, к самому обыденному существованию.
Политическая экология не довольствуется тем, что подводит итог истории модерна, она исправляет самое странное из ее отклонений, ретроспективно предлагая иное толкование ее судьбы. На самом деле, хотя люди модерна и были одержимы проблемой времени, со временем им постоянно не везло, так как для запуска этого громоздкого механизма требовалось поместить мир бесспорных фактов вне истории. Им никогда не удавалось, к примеру, написать минимально правдоподобную историю наук: принято было считать, что это история людей, открывающих законы неумолимой и вневременной природы (180). Поэтому люди модерна столкнулись с дилеммой, которую они, как обычно, проигнорировали, но которая, как водится, их настигла: они продвигались вперед, надеясь принимать в расчет все меньшее количество пропозиций, притом что на протяжении нескольких столетий они приводили в действие огромную машину по производству максимального количества существ: культур, наций, фактов, наук, людей, искусств, животных, отраслей промышленности – чудовищное нагромождение вещей, которые они не переставали мобилизовывать или уничтожать, при этом претендуя на то, чтобы упростить, облагородить, натурализовать, исключить. Они хотели разгрузить мир, одновременно загружая его, став эдаким Атласом, несущим этот мир на своих широких плечах; они пытались подвергнуть все экстернализации, тогда как на самом деле интернализировали всю планету. Империалисты, они утверждали, что ни от кого не зависят; будучи в долгу у всей вселенной, они считали, что со всеми в расчете; вовлеченные повсюду, замешанные во всем, они хотели умыть руки и снять с себя всякую ответственность.
Став ровней Богу, люди модерна приобретают один масштаб с его Творением и именно в этот момент впадают в самый радикальный изоляционизм, считая, что вышли из истории! Неудивительно, что их башенные часы заклинило тогда же, когда рухнула двухпалатная система•, не выдержав массы тех, кого они привлекли, делая вид, что не принимают их в расчет• и не предлагая им доступа к общему миру•. Нельзя одновременно сливаться с миром и отбрасывать его, откладывая его про запас или помещая на свалку. Если из истории Франкенштейна можно сделать вывод, то прямо противоположный тому, что сделал Виктор, несчастный автор этого знаменитого монстра. Пока он каялся, проливая крокодиловы слезы, заигравшись в ученика чародея, невпопад делая открытия, он на самом деле хотел за этим мелким грешком скрыть свой смертельный грех, в котором обвиняет его собственное создание: тот факт, что он сбежал из лаборатории, бросив его на произвол судьбы, под предлогом того, что, как это часто бывает со всем новым, оно было рождено монстром (181). Никто не может возомнить себя Богом, не послав затем своего единственного сына, чтобы попытаться спасти этот не задавшийся с самого начала проект, этот падший тварный мир.
Политическая экология не просто приходит на смену модернизму, она упраздняет его изобретение [désinvente]. В этом противоречивом процессе присоединений и отсоединений она ретроспективно находит сюжет куда более интересный, чем история о неумолимо надвигающемся фронте модернизации, проделавшем путь от архаичного мрака к ослепительной объективности, и куда более насыщенный, разумеется, чем контристория антимодернистов, в прочтении которых история приближается к столь же неизбежному упадку, который отрывает нас от благословенной матрицы, чтобы низвергнуть в холодный мир расчетов. Люди модерна всегда поступали в точности до наоборот по сравнению с тем, что они говорили: и именно это их и спасало! Не было ни одной вещи•, которая не была бы присоединена. Ни одного бесспорного факта, который не был бы результатом тщательного обсуждения внутри коллектива. Ни одного объекта, находящегося вне зоны риска•, за которым не просматривалась бы пышная шевелюра неожиданных последствий, которые будут преследовать коллектив, принуждая его перестраиваться. Нет ни одной инновации, которая не изменяла бы в корне космополитику•, обязывая всех и каждого по-новому устраивать общественную жизнь. Ни разу на протяжении своей короткой истории люди модерна не смогли толком разделить факты и ценности, вещи и ассамблеи. Ни разу им не удалось показать незначительность и нереальность того, от чего, как им казалось, они смогли окончательно и вне всяких процедур избавиться. Они считали себя необратимыми, хотя сами не могли придать чему бы то ни было необратимый характер. Все это осталось за ними, вокруг них, перед ними, у них внутри – в качестве кредиторов, стучащих в дверь и требующих лишь того, чтобы они вернулись, усвоив новые принципы, и без всяких экивоков снова принялись за свою работу, начав включать и исключать. Даже тогда, когда они жалуются на безразличие мира к их отчаянному положению, они продолжают жить в той же самой республике•, в которой самым банальным образом появились на свет.
Поэтому политическая экология не осуждает опыт модерна, она его не отрицает и не осуществляет его революционного обновления: она его охватывает, помещает в новую упаковку, выходит за его пределы, делает его частью процедуры, которая, наконец, придает ему смысл. Если говорить на языке нравственности: она прощает. С ее милосердной мудростью, она понимает, что, вероятно, сделать лучше было невозможно; она соглашается на определенных условиях списать все это в убыток. Несмотря на чудовищный груз вины, который они так любят волочить за собой, люди модерна еще не впали в смертельный грех Виктора Франкенштейна. Они его в любом случае совершат, если отложат на потом новую интерпретацию своего опыта, которую предлагает им политическая экология, если, обнаруживая себя в окружении полчищ aliens, они потеряют голову и будут по-прежнему на свой модернистский лад считать себя современниками мира; если они будут считать, что живут в обществе, со всех сторон охваченном природой; если они все еще считают, что способны модернизировать планету объективным образом. Они до сих пор были столь наивны, быть может даже невинны, но теперь они рискуют, что их постигнет участь, описанная в пословице: perseverare diabolicum est [24].
Кривая обучаемости
В нашем колчане есть не одна, а две стрелы времени: первая, модернистская, которая устремлена к отсоединению; вторая, не модерная, – к присоединению. Первая постепенно лишает нас доступа к ингредиентам, необходимым для построения нашего коллектива, так как природные сущности становятся все более бесспорными, а идентичности произвольного характера все менее спорными. Вторая стрела времени, напротив, постепенно увеличивает число трансценденций, к которым может обращаться коллектив, чтобы потом снова вернуться к тому, что он хотел сказать, заново артикулируя пропозиции, предлагая им другие привычки•. Поэтому политическая экология не разделяет одну и ту же историю с прогрессом модерна (182). Этой новой темпоральности, которая умножает число потенциальных союзников, мы сможем доверить наши сокровища, которые было бы глупо доверять прежней историчности. Раньше мы должны были относиться к истории с подозрением, так как важные вещи (общий мир, первичные качества) были вне всякой темпоральности. Если и была когда-то человеческая история, полная шума и ярости, то она всегда развивалась по контрасту с молчаливой не-историей, полной надежд на мир, появляясь с опозданием по причине огромной дистанции, отделявшей ее от этого низменного мира.
Как только мы согласимся различать прошлое и будущее не по принципу разъединения, а по принципу соединения, политическая экология сможет извлечь пользу из течения времени иным способом. В отличие от предшествовавших ей иных форм историчности, она может оставить вопросы, которые не смогла решить сегодня, до завтра, до возобновления процесса построения. Если она что-то не знает в момент t, то ей больше незачем делать вид, что речь идет о несуществующих, иррациональных и давно устаревших вещах, а всего лишь о временно исключенных и собирающихся подавать апелляцию, с которыми она все равно столкнется на своем пути в момент t+1, потому что никогда не сможет окончательно от них избавиться. Другими словами, она не употребляет ни один из трех ярлыков, которые люди модерна до сих пор использовали для описания своего прогресса: борьба с архаикой, фронт модернизации, утопия светлого будущего. Она считает важным посвятить себя тщательному отбору возможных миров, который всегда нужно начинать заново (183). Необратимость изменила направление: она находится не в упраздненном прошлом, а в возобновляемом будущем.
Сохраним же позаимствованный у наук термин опыт•, чтобы описать процесс, в ходе которого коллектив переходит из состояния прошлого в состояние будущего, от благоразумия к здравому смыслу. Общественная жизнь до сих пор пыталась подражать Науке и ожидала спасения от разума: почему бы не попробовать немного подражать наукам•, учась у них экспериментировать, ведь именно это до сих пор было их важнейшим изобретением. На самом деле, опыт [experience], о чем ярко свидетельствует его этимология, состоит в том, чтобы «проходить через» испытания и «выходить» из них, усвоив из этого какие-то уроки (184). Таким образом, она предлагает нечто среднее между знанием и незнанием. Она определяется не знанием, которым мы обладаем с самого начала, но качеством кривой обучаемости•, которая позволяет пройти через испытания и узнать немного больше. Опыт, как известно любому исследователю, достойному этого звания, весьма труден, ненадежен, представляет собой немалый риск и никогда не позволяет выбирать из надежных свидетелей•, в каком-то смысле доступных в каталоге. Он может ошибаться; его сложно повторить; он зависит от различных инструментов. Плохим является не провалившийся опыт, а тот, из которого мы не извлекли никакого урока, необходимого для подготовки следующего эксперимента. Хороший опыт не дает нам окончательное знание, а позволяет начертать путь испытаний, по которому нам предстоит пройти таким образом, чтобы следующая итерация не прошла даром.
Чтобы иметь достаточно оснований для употребления терминов «экспериментирование» и «кривая обучаемости», нам нужно выйти из лабораторий и использовать их вместе с теми людьми и нелюдьми́, которых они касаются. До сих пор, при модернистском режиме, мы экспериментировали, но исключительно в обществе ученых; все остальные, зачастую вопреки своей воле, участвовали в мероприятиях, судить о которых не имели возможности. Мы могли бы сказать, что теперь весь коллектив выступает как площадка для общего экспериментирования. Экспериментирования с чем? С присоединениями и отсоединениями, которые в определенный момент позволят ему собрать всех претендентов на существование и решить, могут ли они располагаться внутри коллектива или же должны, пройдя через четко отрегулированную процедуру, временно стать его врагами. Именно коллектив как единое целое должен задаться вопросом, может ли он сосуществовать с теми-то и теми-то и какой ценой; кто будет оценивать результаты испытаний, позволяющих решать, имел ли он право осуществлять ту или иную операцию сложения или вычитания. Рассуждения коллектива больше не должны прерываться или игнорироваться со ссылкой на окончательное знание, так как природа больше не дает нам правовых оснований, которые вступали бы в противоречия с практикой общественной жизни. Коллектив не претендует на то, чтобы знать заранее, но он должен экспериментировать таким образом, чтобы чему-то научиться в ходе испытаний. Весь его нормативный потенциал теперь зависит от разницы, которую он сможет установить между t0 и t+1, доверив свою судьбу незначительной трансценденции привнесенных факторов.
Нам возразят, что речь идет о весьма неустойчивой норме и что любое определение истории невозможно поставить в зависимость от столь незначительного различия, от обычной дельты обучаемости. Но что за эталон позволяет нам делать вывод об уязвимости этой нормы? Если взять окончательное знание, которое дает нам объективная информация о природе вещей, то, разумеется, по контрасту с простой коллективный опыт покажется весьма неубедительным. Именно об этом без устали вещал Сократ на афинской агоре. Мы в любом случае осознали, что подобный эталон, сколь бы он ни был полезен, не может сочетаться с задачами коллектива. Нужно построить общий мир в реальном масштабе и реальном времени, не зная причин и последствий, в самом центре агоры и вместе со всеми активными участниками народных собраний. Мы достаточно продемонстрировали, что общественная жизнь может полноценно развернуться только при условии, что мы избавим ее от всякой угрозы спасения, всякой надежды на невероятное упрощение. В сравнении с ослепительной ясностью Неба Идей понятие удачного опыта может показаться невразумительным, но в сравнении с мраком, который царит в преисподней Пещеры, кривая обучаемости видится нам лучом света, и это единственное, что у нас есть, и ровно то, что нам нужно, чтобы не продвигаться на ощупь в компании слепцов.
Становится намного проще описать динамику коллектива, если мы согласимся судить о ней с точки зрения опыта, нежели с какой-либо другой, предложенной Старым порядком, теоретически более выгодной, но недоступной на практике.
Мы подходим к вопросу об экологии, поверхностной или глубинной, научной или политической, научной или популярной, с которого и началась эта книга. Как мы неоднократно отмечали, нам больше не требуется раз и навсегда определять все связи, устанавливающие отношения между людьми и вещами. Нам совершенно не требуется заменять связи, которые считаются «политическими» или «антропоцентричными», на порядок вещей, естественную иерархию, которая распределит существа в порядке значимости, начиная от самых больших – Геи, Земли – до самых крохотных – людей, которых распирает от их ubris [25]. Вместо этого мы можем извлечь максимум пользы из фундаментального открытия экологического движения: никто не знает, на что способна окружающая среда; никто не может определить заранее, чем станет человек в отрыве от того, что дало ему жизнь (185). Ни у одной власти нет данного ей от природы права определять относительную важность и выстраивать иерархию существ, составляющих в определенный момент общий мир. Но то, чего никто не знает, все могут почувствовать на опыте, при условии, что они согласятся пройти все испытания, соблюдая необходимые процедуры, направленные именно на то, чтобы не допускать сокращений.
По той же самой причине мы можем снова говорить о морали не впадая в ступор от вопроса об основаниях. Во имя чего мы должны отдавать предпочтение волку по сравнению с овцой в Меркантуре? Во имя какого принципа нужно было запрещать овечке Долли воспроизвести себя в виде миллионов клонов? Что за моральное обязательство заставляет нас выделять воду из Дрома для рыб, а не для ирригации кукурузных полей, получивших европейские субсидии? Нам больше не нужно колебаться между неотъемлемым правом людей – подтвержденным или нет будущими поколениями – и неоспоримым правом «самих вещей» получать удовольствие от жизни. Теперь вопрос состоит в том, можем ли мы собрать в свои сети всю совокупность этих существ – овечек, крестьян, волков, форелей, субсидий и излучин реки. Если да, то мы должны экспериментировать с совместимостью всех этих пропозиций, чтобы в ходе другого испытания понять, сохранится ли это сочетание, если мы оставим за бортом одного из его участников. Что, например, произойдет с Меркантуром без волков? Что представляет собой рыба без воды? Что будет с производителем кукурузы без протекционистских мер? Если же, наоборот, нам не хватает существ, то нужно вновь собрать их, как можно быстрее переходя к следующей итерации. Основания находится не за нами, не под нами, не поверх нас, а перед нами: наше будущее зависит от того, сможем ли мы их настигнуть, вводя коллектив в состояние тревоги, чтобы как можно скорее зарегистрировать апелляцию исключенных, ведь больше ни одна мораль не даст санкцию на то, чтобы исключить их окончательно. Всякий опыт приводит к накоплению долгов, которые рано или поздно придется оплачивать. Мы никогда полностью не будем в расчете. Мы совершим страшный грех, если раз и навсегда и вне всяких процедур отменим кривую обучаемости во имя незыблемых нравственных принципов (186). Гуманизм должен в свою очередь стать экспериментальным.
Предоставляя экспериментированию возможность проложить себе путь, превращая мораль в дорогу испытаний, коллектив разрешает проблему, которая могла бы парализовать его, как она парализовала теоретическую экологию, внезапно и без лишних раздумий взявшую на себя обязательство «принимать в расчет все». Нам кажется, что, переходя от модернизма к политической экологии, мы переходим от негласного права игнорировать максимально возможное количество существ к необходимости учитывать их все. Сложность, «всеподключенность» глобальной экосистемы, католицизм, вознамерившиеся стать всеобъемлющими, именно это, похоже, преследует с момента ее появления экологическую мысль, не без оснований полагающую, что в конечном счете все связано между собой. В сравнении с этой восхитительной целью любой коллектив покажется ограниченным, невежественным, закрытым. Однако «незначительная трансценденция» экспериментирования обещает принимать в расчет все, а исключать, только убедившись, что исключенные смогут подвергнуть ее опасности в следующий момент. От нее не требуется одним махом проглотить плюриверсум, а требуется убедиться, что она нормально переходит из состояния n в состоянии n+1, которое принимает в расчет большее число существ или же не так много теряет в процессе. Порядок и красота, которые для греков ассоциировались с понятием космос, относятся не к тотальности, а к кривой обучаемости. По определению все коллективы, подобно созданиям Франкенштейна, рождаются безобразными; все они кажутся варварскими сторонним наблюдателям: только опытным путем они обретают гражданскую форму. Временную тотальность, построенную по всем правилам, сложно спутать с тотальностью, полученной в лаборатории и известной как «тотализующая природа», которая «бесконечно сложна». Гея – это не Мать-Земля, божественный предок, от которого происходит наш коллектив, а в лучшем случае наша отдаленная внучатая племянница, которую может породить только цивилизованный коллектив, соблюдая процессуальные нормы.
Сравнивая последовательные состояния одного и того же коллектива в различные моменты времени, мы сможем определить его добродетель, не обращаясь ни к окончательному знанию, ни к моральной трансценденции и не пытаясь понять все и сразу. Другими словами, вводя понятие кривой обучаемости, мы разрешаем проблему шкалы. Если в лаборатории мы всегда можем работать над упрощенной моделью, как только мы из нее выходим, нам необходимо собирать коллектив в натуральную величину, не имея возможности ждать, повторяться, упрощать, накапливать знания о причинах и последствиях наших действий (187). Упрощение коллектива невозможно: именно поэтому ничто не заменит опыт, который мы всегда должны получать в условиях неопределенности. За счет экспериментирования мы прокладываем путь между упрощенной моделью и моделью, выполненной в натуральную величину, что позволяет со временем осуществить переход от одного к другому. Однако при одном условии: мы сохраним следы пройденного пути. Необходимо, чтобы новый механизм был в состоянии регистрировать последовательные ответы на вопрос о числе коллективов, который мы теперь ставим заново, постоянно сравнивая то, что было поглощено, с тем, остается снаружи.
Третья власть и проблема государства
Для того чтобы мы могли отказаться от предоставленных модернизмом удобств и от надежды на то, что нас спасет Наука, чтобы мы могли наконец «секуляризовать» общественную жизнь, доверив ее «незначительной трансценденции» коллективного опыта, чтобы история могла по капле утолить нашу жажду просвещения, так как природа на это больше не способна, нам нужна гарантия, которая могла бы временно стать абсолютом. То, что мы называем властью наблюдения•, процедурной властью, которую ни в коем случае нельзя путать с властью принятия в расчет• и властью упорядочения•. Мы могли бы назвать ее властью управления, если под этим выражением подразумевается отказ от всякого господства. Искусство управления – это не неизбежный трибунал разума или неизбежный произвол суверенитета, а то, к чему мы должны обратиться, когда больше не можем пользоваться сокращениями. Когда мы постепенно выстраиваем общий мир, переходя от одного мучительного испытания к другому, следуя за незримой траекторией кривой обучаемости, нам необходима эта третья власть, которая обладает не атрибутами господства, а атрибутами слабости. Мы согласны иметь правителей, когда невозможно использовать упрощенную модель, однако нам нужно свести все обстоятельства к простейшей модели; когда любое господство было бы невозможно, но при этом были бы нужны те, кто господствует.
Испытание имеет смысл только при условии, что через него можно пройти, задокументировать результаты, за счет чего подготовить протокол следующей итерации, убедиться, что мы критически подготовили новый путь, который в следующий раз позволит нам понять больше. В модернизме, как мы знаем, никогда по-настоящему не было обратной связи с опытом, так как прошлое было исключено навсегда и ошибочно интерпретировалось как архаизм, преодоленная иррациональность, субъективность, от которой нужно избавиться, чтобы освободить место для неопровержимых объектов общего мира, единственного, который нам следовало знать (188). Метафизика природы• препятствовала вдумчивому изучению, которое доступно экспериментальной метафизике•. Однако неожиданных последствий становилось все больше и они всегда заставали нас врасплох, так как между ними и объектами вне зоны риска•, которые их вызывали, не было никакой объяснимой связи. Мы могли бы пробовать снова и снова, констатируя провал предыдущих попыток, не упоминая ни о провале, ни о попытках, ни о пробах: всякий раз модернизация выносила окончательный вердикт, бесспорный, бесповоротный, необратимый, даже если впоследствии нанесенный им ущерб приходилось исправлять с помощью новой объективности, также окончательной. В узких рамках модернизма мы никогда не могли извлечь пользу из опыта, продвигаясь на ощупь. Мы метались от абсолютного знания к непредвиденным катастрофам, не в состоянии найти их связь с историей и ее загадочными событиями, которые нужно уметь расшифровывать вслепую. Как ни странно, хотя люди модерна были столь одержимы историей, они теряли время даром. Имея в избытке научное знание и технологии, они никак не становились мудрее, потому что были не в состоянии истолковать эти события как тщательное исследование их собственных коллективов, состоящих из людей и нелюдéй.
Если исторический опыт, который мы пытаемся расшифровать, не просто вышел за рамки старых концепций природы с их двойной властью науки и политики, но и предложил тысячи институтов и процедур, вооруженных до зубов, которым, чтобы броситься в глаза, требовался новый взгляд, то это не совсем так в отношении власти наблюдения, которую до сих пор путают с проблемой государства. Так как оно постоянно смешивает власти, которые нужно различать: его, поглощенное политикой Старого порядка, часто путали с Наукой, оно напоминало власть божественного права до XVIII века, когда члены различных учредительных собраний стали выделять две самостоятельные функции. Что представляет собой государство, свободное от безрассудного стремления заменять собой политику, науки, экономику и мораль, которое занимается исключительно тем, что обеспечивает функционирование власти принятия в расчет• и упорядочения•, соблюдая процессуальные нормы•? Что представляет собой государство, которое перестанет считать себя коллективом, общим миром или концом истории? Что представляет собой государство, которое больше не думает, что ему подвластна «божественная Наука»? Государство, которое наконец способно управлять?
Признаемся сразу, мы не будем описывать власть наблюдения в тех же терминах, что и другие власти в четвертой главе. Все, что мы можем в настоящий момент, это противопоставить государство в изображении политических наук государству научных политик•. Это не игра слов: само выражение «политические науки» означает новый паралич общественной жизни посредством Науки, очередное впрыскивание кураре для введения в ступор политического тела. Всем дисциплинам, которые рассчитывают нейтрализовать медленное построение коллектива под предлогом исправления его недостатков, политические науки предоставляют дополнительный козырь: с помощью строгих и объективных исследований мы избавим общественную жизнь от всего того, что еще придавало ей динамику. Ей не нужно будет временно создавать коллектив, так как мы будем знать, из чего состоит социальный мир, какие аффекты и интересы приводят его в движение. У нас будет упрощенная модель. Вместе с тем куда менее известное выражение «научные политики» действует в направлении, противоположном политическим наукам, и несколько ослабляет узел, который они постоянно затягивали. До сих пор о научных политиках говорили в весьма узких кругах: всякий раз, когда требовалось прервать, продолжить или инициировать какое-то исследование или когда требовалось выяснить плодотворность или бесплодность протоколов опыта (189). Если употреблять его в широком смысле, то это выражение хорошо подчеркивает контраст, который нас интересует: нам нужны не политические науки, а научные политики, то есть методы, с помощью которых можно выяснить относительную плодотворность коллективных опытов, не допуская их присвоения учеными или политиками (190).
Может показаться странным, что мы определяем власть наблюдения как то, что не должно зависеть ни от ученых, ни от политиков (191). Разве государство не является по преимуществу политической инстанцией? Разве не лучше, если его служащие были бы буквально пропитаны наукой? Нет, не лучше, так как политический режим модерна не умел отличать политическое строительство от опасного покровительства со стороны Науки, предлагавшей ему одновременно природу и общество, которые уже были подвергнуты тотализации. Он утверждал, что политика – это смута, затеянная рабами Пещеры, определяя их мир как столкновение интересов, идентичностей и страстей. Нет никаких доказательств того, что государство-Левиафан должно в целости и сохранности переходить от одного режима к другому. Оно слишком скомпрометировало себя в виде «технократии», этой чудовищной мешанины науки и политики, парализуя работу как науки, так и политики, присваивая себе все полномочия и компетенции, не в состоянии их различать, так как суд и самоуправство одинаково забывают о соблюдении процессуальных норм. Разве не государство мечтало о «политике, которая станет наконец научной», об этом монстре, во имя которого было совершенно столько преступлений в этом столетии?
Ясно одно: коллектив не является государством, и та специфическая форма управления, которую мы должны где-то разместить, не сможет занять оснащенные кабинеты в уже готовом старом здании, носящем имя Левиафана (192). На самом деле, с точки зрения нашей Конституции политика, подобно наукам, изменится до неузнаваемости: так как ни политика, ни науки больше не являются ветвями власти, а всего лишь ноу-хау, которые теперь используются по-новому, чтобы перемешать составные части коллектива и привести его в движение. Нет никаких признанных ветвей власти, кроме власти принятия в расчет• и власти упорядочения•, в работе которых участвуют все гильдии в соответствии с их назначением. Но именно принцип разделения властей• заставляет нас сторониться как чумы наложения одной функции на другие, так как каждая из них претендует на гегемонию. Мы тоже нуждаемся в checks and balances [26]. Беглого взгляда на сводную таблицу 4.1 в четвертой главе достаточно, чтобы увидеть, что ни одно из ноу-хау, необходимых для активации коллектива, и ни одна из двух властей – принятия в расчет и упорядочения – сами по себе не заинтересованы в качестве кривой обучения и не должны фокусироваться исключительно на ней.
Предоставленная сама себе, верхняя палата, особенно если она находится в состоянии тревоги, примет в расчет только то, что будет у нее под рукой, никак не заботясь о способности другой палаты выстроить иерархию представленных кандидатов. Сама по себе нижняя палата выполнит свою работу по составлению иерархизации• и построению учреждений•, упростив себе жизнь и отвергнув максимальное число существ, сведенных к небытию. Как обеспечить строгое разделение властей между этими двумя инстанциями? Нижнюю палату всегда будет прельщать возможность помешать озадачиванию• верхней, навязывая ей насущные потребности общего мира, поэтому первая ассамблея безжалостно уничтожит учреждения• второй, дав ей понять, что установленный порядок несправедлив по отношению к несовместимым мирам вновь прибывших. Кто тогда возьмется гарантировать качество исследований, список которых мы набросали (см. таблицу 4.2) и которые необходимы обеим палатам? Кто будет постепенно заносить их результаты в архив? Политики, моралисты, ученые, экономизаторы могут исследовать эти инстанции вдоль и поперек, никто не даст нам гарантии, что они не будут довольствоваться единственным циклом, который прервет работу по «собиранию» коллектива, зафиксирует его рамки, сделает исключение бесповоротным, а разделение между внутренней и внешней средой – естественным. Поэтому нам потребуется сильная процедурная власть, в работе которой примут участие политики, ученые, экономисты и моралисты, но которая будет зависеть от возобновления работы по собиранию, а также от оценки качества обучения, что вынуждает нас добавить седьмое задание к шести уже указанным в четвертой главе.
Чтобы эта новая власть могла приступить к исполнению своих обязанностей, нам потребуется новое ноу-хау, краткое описание которого мы дали в предыдущей главе и которое мы назовем администрацией•. В правовом природном государстве нам нужно государство и нам нужна природа. Политическая философия не предусматривала администрирования неба, климата, моря, вирусов, диких животных. Она полагала, что сможет ограничиться вопросами о правах на собственность, тогда как Наука возьмет на себя все остальное. Все меняется, когда модернизм подходит к концу, так как коллектив может всерьез претендовать на то, чтобы выстроить плюриверсум. В этом нет ничего удивительного для «других» культур, которые отличает именно тщательное администрирование космоса. Обитатели Запада в этом отношении разделяют общую участь, хотя еще совсем недавно они считали, что смогут ее избежать. Эта новая компетенция появится, когда мы научимся устанавливать тончайшие связи при помощи письма и составления различных дел, что американцы называют бумажным следом – a paper trail.
Бюрократы страдают от всеобщего презрения почти в той же степени, что и политики. При этом никто не знает, как мы сможем без них обходиться, если хотим, чтобы общественная жизнь соответствовала процессуальным нормам просто потому, что они владеют искусством соответствия норме. Пока мы вместе со старой Конституцией полагали, что существует единственное общество, пребывающее в единой природе, всегда был риск, что чрезмерное пристрастие к соблюдению процедур будет казаться чем-то поверхностным, точно так же как проволочки, практикуемые в правовом государстве, с точки зрения государства полицейского. Любой мог без особых усилий найти очевидные категории благоразумия: человечность, природа, экономика, социальное. Начиная с того момента, когда мы переходим к экспериментальной метафизике•, когда коллектив определяется не природой, а экспериментированием, нам потребуется не общая сценаризация, а протокол опыта (задание № 6). Нам нужно запомнить, каким образом мы получили доказательства, зафиксировать результаты, поместить их в архив и оставить на хранение. Как известно, администрация обеспечивает преемственность общественной жизни. Эта преемственность тем более важна с учетом того, что необходимо держать в уме совокупность гипотез, принятых и отвергнутых пропозиций, при помощи которых будет постепенно выстроен общий мир.
Эту компетенцию мы снова обнаружим, например, в функции озадачивания (задание № 1): как обнаружить новые феномены на пределе чувствительности инструментов без тщательного накопления данных в течение длительного времени? Никто не может сохранять их следы, кроме администраторов. Как перейти к отсеиванию по количественному принципу (№ 3), если мы не заархивировали варианты, которые уже были использованы, и не запомнили, каким образом были официально вовлечены в тот или иной процесс участвующие стороны? Как сделать необратимыми принятые решения (№ 4), не вводя все новые процедуры – голоса, подписи, собрания, – направленные на достижения консенсуса и позволяющие временно стабилизировать коллектив? Как удачно провести консультацию (№ 2), не проверяя без конца основания, позволяющие различным сторонам принимать в ней участие? Насколько эффективна будет этика дискуссии без тщательного соблюдения бюрократических формальностей? Администраторы возьмут на себя задачу разделения различных функций (№ 5) и координации между различными гильдиями, которую они смогут осуществить только при том условии, что будут себя сдерживать и не будут вместо формальностей заниматься содержанием. Все остальные профессии являются содержательными, и только одна процессуальной или по крайней мере процедурной.
Как только ноу-хау администраторов начнет взаимодействовать с описанными в предыдущей главе, станет возможным более точное определение кривой обучаемости, от которой отныне зависит артикуляция коллектива, заставляющая разные профессии выполнять одну и ту же функцию. Ученые хорошо знакомы с этой кривой, потому что они называют ее фронтом исследовательских работ. Они тоньше, чем все остальные, чувствуют, где проходит грань между холодной и устоявшейся Наукой, с одной стороны, и бесшабашным, рискованным, динамичным, конкурентным исследованием – с другой. Их проницательность поможет нам почувствовать, как управлять коллективом. При условии, что мы совместим ее с невероятной проницательностью политиков, позволяющей им обнаруживать в сложившейся ситуации возможные изменения в соотношении сил. Они также способны признать тончайшую разницу между статикой и динамикой, видя в сложившейся ситуации возможность их изменить. Они умеют изменять основания, на котором базируется наше «мы», которое они по роду своей деятельности обязаны постоянно представлять. Но коллектив будет еще быстрее поднят по тревоге, если он сможет рассчитывать на безупречное обоняние экономистов и оценивать состояние своего здоровья по кривой обучаемости. Они постоянно вводят новые инструменты: норму прибыли, баланс, равновесие в глобальном масштабе, приемы статистического учета, спекуляции, позволяющие описывать нестабильную динамику, которой они доверили свои сокровища. Моралисты тоже не сидят сложа руки, так как прекрасно знают, что моральная квалификация всегда зависит от движения, от намерения, от направления, от усилия, а не от поступков как таковых или соблюдения формальностей. Поэтому, соединив вместе ноу-хау различных гильдий, о кривой обучаемости можно сказать, что ее достоинство заключается в наличии плодотворной исследовательской программы, динамичной политической культуры, процветающей экономики, безупречной нравственности и отзывчивости, хорошо задокументированной процедуры.
Хорошее правительство не предоставляет политике исключительную привилегию определять общий мир отдельно от тех, кто в нем проживает, оно предстает как власть наблюдения (таблица 5.1), которая одновременно использует различные ноу-хау администраторов, ученых, политиков, экономистов и моралистов, следуя по непроторенной дороге, ведущей от плохо артикулированного коллектива к его следующему состоянию, артикулированному уже лучше.
Похоже, в поисках своего пути политическая экология приходит к удивительному результату: так как мы пытались освободить науки от Науки, а коллектив – от социального, нам нужно государство, которое не будет вводить в ступор политика, Наука или экономика. Противоположностью либерального государства является государство, освобожденное от любых форм натурализации. Необходимо, чтобы новая власть была сильной, но при этом ограничивалась искусством управления и могла бы помешать всем остальным властям и неполноценным компетенциям прервать изучение кривой обучаемости или заранее диктовать ей результаты. Все научные, нравственные, административные, политические, экономические добродетели должны слиться воедино, чтобы сохранить в неприкосновенности эту власть наблюдения, которую наделяет полномочиями не общая воля, порожденная общественным договором, не тотальное обобщение, близкое абсолютному Духу, а самый скромный и обыденный договор на обучение•, ведь только он может определить, чего добиваются ассоциации людей и нелюдéй и непредсказуемым образом выходить за пределы контролируемых нами действий. Если люди нуждаются в правительстве, то не потому, что они недостаточно добродетельны, а потому, что они не могут контролировать общие действия, а их правители способны на это в еще меньшей степени. Знание об общем благе постоянно должно быть объектом беспрестанного экспериментирования. Государство обеспечивает сравнение между положением дел n и n+1.
Таблица 5.1. В дополнение к таблице 4.1, эта таблица вкратце описывает вклад различных ноу-хау из четвертой главы в задачу наблюдения, тем самым подчеркивая достоинства кривой обучаемости
Если это определение покажется недостаточным тем, кто ощущает себя наследником Людовика XIV, Руссо, Дантона, Гегеля, Бисмарка или Ленина, то они должны вспомнить о важности, которую мы придаем непрочной упаковке, разделяющей внутреннюю и внешнюю среду коллектива. Если государство действительно обладает монополией на определение врага•, то эта малопочетная обязанность должна перейти к власти наблюдения при условии, что слово «враг», в чем мы уже убедились выше, изменило свой смысл. Этот термин больше не обозначает наших человеческих соседей, которые собирают войска у наших границ. Мы также не собираемся при помощи этого выражения клеймить существа, не поддающейся ассимиляции до такой степени, что это даст нам право отказывать им в существовании, навсегда исключая их как нечто иррациональное. Нет, враг, человек или не-человек – это тот, кого мы исключили сегодня и кто завтра подвергнет коллектив риску; враг – это будущий союзник (193). Помимо войн с внешним врагом и гражданских войн прошлого, существуют междоусобные войны, в которых сталкиваются ассоциации людей и нелюдéй, число которых, а также их опасность до сегодняшнего дня были неизвестны (194). Государство не занимается исключительно подготовкой внешних войн и предотвращением войн гражданских, оно также должно проявлять постоянную бдительность относительно этой новой войны, имя которой пока еще не придумали, хотя она свирепствует с незапамятных времен, противопоставляя коллектив, находящийся в процессе исследования, всему, что ему угрожает, что может поставить его под сомнение и представлять для него смертельную опасность и с которым он тем не менее должен сотрудничать в процессе построения.
В зависимости от того, насколько сильна власть наблюдения, один и тот же коллектив будет одновременно функционировать в двух совершенно различных режимах: он будет считать себя или осажденной варварами крепостью, или же коллективом, который окружают исключенные, намеревающиеся подать апелляцию. В первом случае враги окажутся ничтожными, неартикулированными и станут, в соответствии с этимологией, варварами, говорящими на своем ломанном и непонятном языке; во втором – с ними будут вести войну как с будущими союзниками, и сама идея их исключения может причинить коллективу серьезное беспокойство. Варваром является только тот, кто считает, что смог раз и навсегда найти подходящие слова для самоопределения. Логос – это не понятная и членораздельная речь, которая противопоставляется чужому косноязычию, а затруднение речи, которое переводит дыхание, начинает заново – другими словами, подбирает слова в ходе испытания. Если мы называем варварами, воспользовавшись удачным определением Леви-Стросса, тех, кто полагает, что его окружают варвары, то мы можем назвать цивилизованными тех, чей коллектив окружен врагами•. Контаминация варварства в одном случае, контаминация цивилизации• – в другом: варвар повсюду видит варваров, а человек цивилизованный – цивилизацию. И в том и в другом случае опасность будет означать нечто иное: в то время как варвары (внешние) угрожают другим варварам (внутренним) истреблением, люди цивилизованные (внутренние) угрожают другим цивилизованным (внешним) новыми требованиями•. Поэтому о власти наблюдения можно сказать, что она «защищает цивилизацию» при условии, что мы впредь будем определять ее, в отличие от модернизма не по положению на шкале прогресса, так как ни шкалы, ни прогресса больше нет, но по тому, насколько цивилизованно коллектив обращается с теми, кого он вполне однозначно отверг. Государство защищает независимость на внешнем фронте и автономию – на внутреннем. Не будет ли в таком случае цивилизованное обращение с aliens способом сохранить нечто важное от полномочий старого государства, как только оно освобождается от своих притязаний на то, чтобы стать единственным рациональным агентом истории, который способен осуществить тотализацию?
Упражнения в дипломатии
Коллектив продвигается вслепую: он нащупывает, он регистрирует присутствие новых существ, о которых пока неизвестно, являются ли они друзьями или врагами, суждено ли им разделить общий мир или они разойдутся навсегда. Не имея возможности предвидеть, он должен управлять. С белой тростью в руках, он постепенно принимает меры к тому, чтобы обустроить вселенную, которая его окружает и представляет для него опасность. Хотя ему неизвестно, сколько препятствий он должен преодолеть, он также не знает, на какое количество спасительных предметов он сможет рассчитывать. Как Мальчик-с-пальчик, он может только сохранять следы своих перемещений; он не рассчитывает на иную помощь, кроме дневников собственных наблюдений, которые постоянно обновляются. Блуждайте, если вам вздумается, но всегда делайте так, чтобы ваш путь можно было четко отследить. Правовое государство зависит от этой сбивчивой записи опыта. Никто больше не придет нам на помощь. К счастью, те, отличие от которых вы постепенно начинаете осознавать, также блуждают во мраке. Они также наверняка не знают, относятся ли они к тому же самому миру. Они также продвигаются на ощупь. Они пока еще не обладают сущностями с фиксированными контурами или окончательными идентичностями, а всего лишь привычками и свойствами. Поверьте, им так же страшно, как и вам! Как только встает вопрос о числе коллективов, Другой изменяет свою форму. Как недавно историчность, а еще ранее – экстериорность, инаковость изменяется: она теперь тоже выглядит иначе.
До тех пор пока коллективу удается извлечь уроки из самого факта исключения, его можно называть цивилизованным: он может менять своих врагов, но у него нет права умножать их число с каждым шагом цикла. Как только он станет считать, что окружен ничтожными существами, которые грозят ему гибелью, он становится варварским. Общество, окруженное природой, которую необходимо подчинить, общество, полагающее, что может навсегда избавиться от того, что оно не может принять в расчет, общество, изначально считающее себя универсальным и отождествляющее себя с природой, является отличным примером варварского коллектива (195). В этом отношении, как мы прекрасно понимаем, люди модерна никогда не демонстрировали высокий уровень цивилизованности, потому что они всегда считали себя теми, кто вырвался из варварского прошлого; теми, кто сопротивляется возвращению архаики; теми, кто должен приобщить к прогрессу тех, кто в нем остро нуждается… Постепенно переходя от модернизма к политической экологии, мы можем сказать, что люди модерна преодолевают отклонения. которые выделяли их раньше. Или, точнее, пройдя испытание огнем модернизма, мы вступаем в эпоху, когда ни один коллектив больше не может, не соблюдая формальностей, использовать ярлык «варварства» для определения того, что он отвергает. При этом мы не будем в угоду мульткультурализму воздерживаться от всяких оценочных суждений, а воспользуемся языком и разыграем классическую сценку из истории колонизаторов, но теперь навстречу тем, кто принес одну цивилизацию, выходят представители другой. После стольких недоразумений на протяжении столетий мы заново вступаем в «первичный контакт».
Тот факт, что мы употребляем слово «коллектив» в единственном числе, как мы неоднократно отмечали, не означает, что существует только один коллектив, а указывает на его функцию, которая заключается в том, чтобы осуществлять некоторое объединение, о котором можно сказать «мы» (196). Антропологическая наука выступила в качестве заведующего протоколом, чтобы научить людей модерна входить в контакт со всеми остальными. В любом случае эти правила этикета скрывают отсутствие такта, которое политическая экология призвана исправить. При этом физическая антропология определяет «ту самую» универсальную природу человека, ссылаясь на Науку, тогда как культурная антропология констатирует множество «различных» культур. С одной стороны, непреклонный сциентизм, с другой – снисходительное уважение. С точки зрения новой Конституции хуже быть не может, потому что те, кто настаивает на единстве, не встречают никаких возражений, тогда как культуры не имеют доступа к иной реальности помимо «социальных репрезентаций». Если она хочет стать гражданской наукой, антропология больше не может себе позволить при встрече с теми, кто ее окружает, задавать им традиционный вопрос модернизма: «Благодаря природе, я все знаю заранее, мне совершенно не требуется вас выслушивать, кем бы вы ни были; но тем не менее скажите мне, что вы думаете о мире и себе самих, будет интересно сравнить это с мнением, столь же необоснованным, ваших соседей» (197). Заранее знать, какие существа будут приняты в расчет или же принимать их расчет, не считаясь с заложенным в них требованием реальности, – вот две ошибки, которые мы теперь в состоянии обнаружить, так как первая нарушает требование озадаченности•, а вторая – требование консультации•. Нет, определенно, ни мононатурализм, ни мультикультурализм не могли толком поставить вопрос о числе коллективов (198). Если антропология на этом остановится, то она станет по-настоящему варварской. Она должна изменить свою роль, став экспериментальной•.
Вводя выражение «мультинатурализм»•, мы заставляем антропологию усложнить модернистское решение политической проблемы построения общего мира. Оно напоминает нам, что ни один коллектив не может собраться, не получив в свое распоряжение комплексные средства верификации того, что люди и нелю́ди говорят на своем языке. Чтобы говорить о единстве, недостаточно предоставить всем исключенным гарантированные места, как бы это ни было удобно: необходимо, чтобы эти места обозначили сами исключенные, сформулировав эту необходимость в своих собственных терминах (199). Ни экуменизм, ни католицизм, ни политэкономия, ни Naturpolitik не смогут определить за других, где находится их место, определить положение, которое их устраивает. К счастью, несмотря на опасения тех, кто хотел бы вернуть нас в век Пещеры, мультинатурализм не увековечивает победу мультикультурализма, а констатирует его поражение, так как он служил всего лишь приложением мононатурализма. Абсолютные релятивисты, если они в принципе существуют, не могут цивилизованно принимать aliens, так как они реагируют на все нововведения, пожимая плечами: на их взгляд, больше нельзя провести четкого различия.
С политической экологией мы действительно попадаем в новый мир, который больше не состоит из одной природы и множества культур, что не делает вопрос о числе коллективов ни более простым, объединяя их с помощью природы, ни более сложным, принимая неизбежное и окончательное множество несоизмеримых культур. Мы попадаем в мир, состоящий из упрямых фактов или пропозиций•, наделенных привычками и не согласных более ни затыкать рот учреждениям, которые обязаны их принимать, ни быть принятыми, даже не заикаясь о своих требованиях. Теперь внешняя среда не настолько сильна, чтобы заставить замолчать социальный мир, но и не настолько слаба, чтобы совершенно с ней не считаться. В том новом смысле, который мы придали этому выражению, исключенные существа требуют, чтобы коллектив явился в ответ на их запрос и репрезентировал себя, то есть подверг риску свои представительские институты. Цивилизованный коллектив таким образом хочет избавиться отнюдь не от безразличия: внешняя среда проводит все необходимые различия, а коллектив становится еще более цивилизованным, приобретая чувствительность к контрастам. «Ничто человеческое мне не чуждо», – говорил римский мудрец; мы же, скорее, скажем: «Ничто из того, что мне чуждо, не является нечеловеческим» (200).
Какая профессия позволит нам провести границу, цивилизованным образом поставив вопрос о числе коллективов, которые нужно собрать? Если мы должны испытывать определенное недоверие к классической антропологии, то именно по той причине, что она слишком быстро соглашалась принять идею о том, что единство нужно рассматривать как множество, так как она не принимала множество иначе, чем на основе единства. Так должны ли мы отказаться от идеи, что вступать в определенные отношения можно только по незнанию, объявляя войну и производя захват? Мы должны наделить антропологию компетенцией куда более древней гильдии, а именно гильдии дипломатов•, которая может дополнить власть наблюдения•, описанную в предыдущем разделе, играя роль ее разведчика и толмача (201). Ведь в отличие от посредников, которые претендуют на некоторое превосходство и незаинтересованность, дипломаты всегда принадлежат одной из сторон конфликта. Но, что самое главное, дипломат, по сравнению с антропологом, обладает решающим преимуществом: потенциальный предатель для каждой из сторон, он не знает заранее, в каком виде сформулируют те, к кому он обращается, требования, которые могут привести к миру или к войне. Он не начинает переговоры, проявляя лицемерное уважение к представительским функциям, потому что заранее уверен в их фальши, и не потому, что он заранее не знает, удастся ли прийти к соглашению, если только речь не идет об общем мире, который всегда имеется в наличии, мире природы, здравого смысла, фактов, единодушия, common knowledge [27].
Дипломат никогда не использует понятие общего мира в качестве отправной точки, так как именно для того, чтобы построить общий мир, он подвергает себя опасности; он также никогда не принимает с брезгливостью «простые формулировки», поскольку каждая формулировка, сколь бы неосуществимой на практике она ни казалась, может содержать в себе ключ к достижению согласия, хотя никто не гарантирует этого заранее. Он соглашается, в соответствии с замечательной дипломатической формулой, «взять слово» и «быть представителем». Дипломат никогда не говорит о рациональном и иррациональном. Другими словами, распределение сущностей• и привычек• зависит от переговоров. Он также никогда не отказывается, и в этом проявляется его благородство, от несовместимого, то есть, в конечном счете, – от войны. В столь презираемой профессии дипломата требуется куда больше мудрости, чем в столь уважаемой профессии модернистского антрополога, так как последний уважает только потому, что презирает, а первый, если не презирает, то и не проявляет уважения (202). Он сносит все обиды. Его называют фальшивым и лицемерным, тогда как он, напротив, возмущен и приходит в отчаяние от того, что не может понять, что в каждой конкретной ситуации стоит сохранить, а от чего избавиться в процессе построения общего мира, выбора лучшего из возможных миров.
Как работает экологический дипломат? В чем заключается секрет того, кто согласен искать язык общего дома, того, о ком мы должны сказать, что он, в соответствии с этимологией ойкоса-логоса, «говорит на домашнем языке», что он артикулирует коллектив? Не будем забывать, что он никогда не начинает дискуссию с угроз, как это было принято при старой Конституции, так как понимает, что это предварительное условие обрекло на неудачу все предыдущие попытки договориться: «Мы гораздо быстрее договоримся об общем мире и природе, если вы оставите в прихожей все эти древние предрассудки, которые нас только разделяют и приводят либо к субъективности, либо к произволу социального» (203). Нет, теперь он должен понять отличие между двумя различными составляющими: существенные требования, с одной стороны, выражающая их экспериментальная метафизика – с другой. В схеме 5.1 мы поворачиваем на 90 градусов схему 3.1, воспроизводя различие между двумя парами оппозиций.
Схема 5.1. Тогда как антропология классифицирует все в виде природ и культур, дипломатия должна делать выбор между существенным и второстепенным
Две пары оппозиций не производят отбор возможных миров одним и тем же способом. Тогда как культура всегда предлагала только особенную трактовку общей природы и могла прояснить исключительно ее особенность, любой коллектив может участвовать в подготовке общих оснований и основных требований. Другими словами, при старом принципе отбора все самое главное было уже известно, при новом его только предстоит открыть (204). Что касается выражений, то в этой новой попытке речь больше идет не о репрезентациях, которым мы могли бы полностью доверять или которые могли бы полностью отвергнуть, не о взглядах на мир, не о символическом прочтении, а о болезненном разрыве, о мучительном преображении, которое позволяет нам понять, какую цену готов заплатить коллектив за то, чтобы согласиться на проникновение кого-то еще в строящийся дом. Не пройдя через это испытание дипломатией, ни один коллектив не сможет отличить существенное от второстепенного: он будет вести войну за обладание всем, так как все будет казаться ему одинаково полезным. Только постепенно, ведя переговоры, коллектив согласится взять себя в руки, разделяя важное и бесполезное в соответствии с новыми принципами. Он возьмется за этот изнурительный труд только при условии, что другой также включится в этот процесс отбора. Как далеко ушли мы от того уверенного и самоочевидного различия между природой вещей и человеческими представлениями… В том, что казалось весьма благоразумным, не было ни капли здравого смысла.
Мы привели пример подобной дипломатии в третьей главе, когда попытались сформулировать основные требования, которые находились в плену представлений о различии фактов и ценностей. Затем мы вернулись за стол переговоров с чем-то вроде deal [28]: если мы предоставим вам твердые гарантии для защиты ваших существенных требований, то не согласитесь ли вы изменить метафизику природы•, которая сейчас кажется вам наиболее надежной защитой, хотя она восходит к мифу о Пещере и не дает нам права на существование? Будете ли вы готовы оставить ее, если это будет вашей платой за то, чтобы иметь возможность ввести нелюдéй и демос в коллектив в состоянии экспансии? У нас нет доказательств того, что дипломат добьется успеха (как и того, что это удалось нам – право судить об этом остается за читателем). Эта неопределенность делает дипломатию куда более рискованной профессией, чем профессия антрополога, так как последний всегда знает заранее, где искать несущественную существенность (в природе), а где – существенную несущественность (в репрезентациях), тогда как дипломат, едва его язык станет двусмысленным, будет подвергнут обструкции представителями обоих лагерей.
Однако у дипломата есть в рукаве один козырь, которым не располагает антрополог-модернист: он принимает коллективы, которые находятся в том же состоянии неопределенности относительно четкого разделения требований и выражений, что и тот, чьи интересы он представляет. Ни тот, кто его посылает, ни тот, кто согласен его принять, не знают наверняка ни почему они сражаются, ни даже сражаются ли они вообще. Если метафизика не является экспериментальной, то и вести переговоры не о чем, так как сущности• уже имеются в наличии, а идентичности становятся тем более жесткими, чем меньше возможностей тем или способом их обосновать. Не претендуя больше говорить от имени природы и не принимая вежливое безразличие мультикультурализма, дипломат, заступающий на место антрополога, получает куда больше шансов на успех, чем его предшественники. Можно заразиться цивилизацией точно так же, как и варварством. Впервые другие коллективы – сколько именно, никто пока не знает – встречают представителя цивилизации, который выясняет их привычки и свойства (205). Мы всегда склонны недооценивать, сколь ужасающей для попавшегося нам на пути коллектива должна быть необходимость насильственного раздвоения, раскола на две части, одна из которых будет общей и рациональной, а вторая – иррациональной и частной. Как пользоваться языком логоса, если, как говорят индейцы о белых, у людей модерна раздвоенный язык? Совершенно неважно, каким уважением пользуется эта иррациональность, которую мы наделяем почетным званием культуры; неважно, сколько посвященных ей музеев мы создаем; неважно и то, что общая структура за счет целой серии преобразований позволяет переходить от одной иррациональности к другой, так что в конце концов она благодаря антропологической науке станет чем-то вроде эрзац-разума. Она по-прежнему будет иррациональной, так как мы лишаем встреченный нами коллектив всякой связи с подлинной сущностью феноменов (206). Все существенное принадлежит пришельцу, который с его помощью преподает урок; единственным богатством местных остается их отличие.
Известно ли нам, что действительно произойдет, если мы откажемся от этого модернистского подхода и вступим в контакт по правилам экологической дипломатии? Можно ли представить, насколько действенным окажется бальзам, который прольется на открытые раны, оставшиеся от встреч под покровительством природы? Достоинство дипломата, которое делает его «дерьмом в шелковых чулках», заключается в том, что он внушает тем, кто наделяет его полномочиями, глубокие сомнения относительно их собственных требований. «В сущности, – говорит он, – вы сами не знаете, чего хотите, пока я не начну переговоры. Это бесценное сокровище, которое вы только что обнаружили и к которому так привязались, вы, возможно, согласитесь поместить в другую метафизику, если за счет этого вам удастся расширить общий дом. Готовы ли вы принять тех, кого считаете врагами, но кто научил вас ценить то, что вам дороже всего на свете?» Мы поставили телегу впереди лошади. Нет, на самом деле мы не настолько дорожим природой: определим сперва то, чем мы дорожим по-настоящему, а потом назовем это сокровище так, как нам понравится. «…Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк. 12: 34).
Иными словами, дипломат несет ответственность за то, что старик Кант называл «царством целей». Экологический кризис, как мы неоднократно отмечали, предстает как всеобщее восстание средств. Ничто и никто больше не хочет быть лишь средством чьей-то воли, которая считается конечной целью. Ничтожный червячок, крохотный грызун, скудная речушка, отдаленная звезда, какой-нибудь неприметный механизм желает, чтобы его тоже рассматривали как цель, подобно Лазарю, просящему подаяния на пороге у злого богача. На первый взгляд, подобное умножение целей представляется невозможным; против этого модернизм стоит насмерть. Затем, как только преодолевается модернистское отклонение, встает вопрос, остававшийся неразрешенным на протяжении многих веков: под покровительством чего мы должны объединяться теперь, когда природа не может выполнить за нас нашу работу, тайком и вне представительской ассамблеи?
Дипломат не является четвертой властью в прямом смысле слова. Он всего лишь отвечает за то, чтобы вопрос о количестве коллективов оставался открытым, потому что возникло стремление все упрощать. Исследователь, интервьюер, датчик – он имеет над остальными ветвями власти то преимущество, что не знает в точности, из чего состоит коллектив, который его направляет. Он более изворотлив, чем моралист, куда меньший крючкотвор, чем администратор, менее своеволен, чем политик, более податлив, чем ученый, более беспристрастен, чем исследователь рынков, но при этом дипломат не пытается приуменьшить сложности понимания терминов, в которых каждая из сторон описывает «цели войны». Одного его присутствия достаточно, чтобы существенно изменить уровень опасности, которой подвергается коллектив со стороны многих из тех, с кем предстоит строить общий мир. Внешний враг закономерно пугает тех, кто считает, что их лишат того, что составляет его сущность: варвары вызывают страх у варваров. Но враг, с которым имеет дело дипломат, опасен для коллектива по другой причине, так как он предлагает мир, который заходит намного дальше обычного компромисса: «Мы предлагаем вам мир, чтобы понять разницу между нашими существенными требованиями и их предварительными формулировками» (207). Мы, наконец, поймем, чего хотим и что это за «мы» полагает, что наделено волей. Дипломатия напоминает, что никто не может ссылаться на единство коллектива, отказываясь вести переговоры. Подражая третьей заповеди, запрещающей богохульство, высечем же на наших скрижалях законов: «Ты не будешь всуе упоминать единство коллектива!»
Заключение: война и мир наук
Удалось ли нам решить вопрос о числе коллективов? Разумеется, нет, потому что история не знает конца и у нее нет другого смысла, кроме того, который мы открываем в ходе эксперимента, и никто не может пропускать различные этапы или предсказывать результаты. Но мы сделали нечто большее, чем просто его разрешили, мы оставили его открытым, задавшись заново вопросом о числе коллективов, от которого зависят война и мир. Понять это совсем несложно: если все исключенные, которые остались снаружи, затем гражданским путем придут к Республике•, надеясь стать частью общего мира, не выдвигая при этом противоречивых требований, то мы не будем находиться в состоянии войны. Если у нас будет один-единственный мир, то конфликты останутся поверхностными, частными, локальными. Однако все изменится, если одно из множеств потребует уничтожения определенного коллектива, его насильственного присоединения или капитуляции. Это конец мирной жизни. Однако благодаря политической экологии мы постепенно начинаем понимать, что никогда не выходили из состояния войны, этого естественного состояния, из которого, по мнению Гоббса, нас вывел Левиафан, хотя мы никогда его не покидали, переходя от одной Naturpolitik к другой (208). Умиротворяющее насилие Науки определяет единственный общий мир, не предоставляя нам возможностей, посредников, историй, сетей, форумов, агор, парламентов, инструментов для того, чтобы мы могли постепенно его построить. У власти, позволявшей отличать рациональное от иррационального, до сих пор не было оппозиции.
Видит Бог, история никогда не жаждала конфликтов. Науки и техники всегда активно участвовали в этом конфликте, расширяя его масштаб, увеличивая его интенсивность и жестокость, занимаясь его материально-техническим обеспечением. Тот факт, что инженеры и ученые предлагают свои услуги, было принято считать отклонением от основной миссии Науки, всего лишь досадной помехой для процесса, который по-прежнему заключался в получении знаний или использовании в практических целях чистых и бескорыстных побуждений. Так как научные предметы приводят к консенсусу и гармонии, то в определенный момент, думали мы, Наука наконец получит такое распространение, что конфликты станут дурным воспоминанием. Рациональность первичных качеств• в конце концов займет место иррациональности качеств вторичных•. Для этого потребуется время, но рано или поздно мы будем жить на планете, по которой потекут атомы и элементарные частицы, а если этого не произойдет, то судьба человечества будет незавидной. Победа мира не за горами.
Так из-под пера журналистов вышло забавное выражение «научные войны». Вначале это был всего лишь незначительный эпизод, небольшая ранка на коже: некоторые «постмодернистские» мыслители хотели распространить понятие мультикультурализма на Науку, отказывая природе в единстве, познавательному процессу – в незаинтересованности, а научным законам – в непреложной необходимости. Ввиду этой угрозы объявляется мобилизация, на которую откликается ряд ученых и эпистемологов. Они хотят искоренить то, что принимается ими за раковую опухоль, которая может распространиться на все тело университета и дать метастазы, затронув беззащитных студентов. Затем все внезапно меняется, и мы узнаем, что выражение «научные войны» служит предостережением и становится симптомом куда более опасной болезни (209). Наук не просто недостаточно для обеспечения мира, но сама Наука делает мир невозможным, потому что она помещает в самом начале или вне всякой истории то, что должно находиться в конце. Пока шли все эти лилипутские войны с «постмодернизмом», в дополнение ко всем несчастьям началась Великая война, в которой науки стали не как раньше – важными, но все же вспомогательными силами, а определяющим фактором стратегии, тактики и материально-технического обеспечения. Рядом с монстром мультикультурализма возникает пугающий призрак мультинатурализма. Война наук стала войной миров.
Отказываясь от мононатурализма, политическая экология не обещает мира. Она только начинает понимать, в каких войнах должна принимать участие и кого считать своим врагом. Она наконец осознает угрозу, которую представляет для нее принуждение к миру, оказавшееся худшим из всех зол: с одной стороны – безусловные объекты; субъекты, прикрывающиеся недоказуемыми идентичностями, – с другой. Потеряв поддержку тех, кто упрощал дело, она открывает для себя важнейший принцип мирного существования, обращаться к которому она раньше не имела права, так как нелю́ди были милитаризованы и представали в неизменной униформе объектов: теперь же у нее есть вещи•, эти неполные ассамблеи, способные приводить к компромиссу, если их рассматривать в качестве пропозиций•, которые, соблюдая процессуальные нормы, собирает Республика•, теперь доступная и для нелюдéй. Мы утратили возможность упрощать природу, но мы также избавились от ряда осложнений, возникавших из-за того, что решение было чересчур простым. Никакой простоты, но вместе с тем ничего невозможного в принципе. Никакой трансценденции, но и никакой тюрьмы имманенции. Ничего, кроме самой обыденной политической работы. До сих пор мы всегда пытались спасти нечеловеческое, обращаясь к Науке; спасти саму Науку, обращаясь к человеческому; теперь мы можем рассмотреть другое решение: спасти Науку и нечеловеческое, обратившись к наукам и предложениям людей и нелюдéй, которые наконец соберутся в соответствии с процессуальными нормами.
Нам никогда особо не везло. Как только пал тоталитаризм, началась глобализация. «Тотальный» и «глобальный» – разве это не два синонима общего мира? Но, несмотря на все их притязания, ни научная политика тоталитаризма, ни полит-экономия глобализации не позволяют нам создать подходящие учреждения, потому что они всякий раз сокращают число участников. Нет ничего менее научного, чем тоталитаризм; нет ничего менее поддающегося универсализации, чем глобализм с его «глобальным вздором». Похоже, мы переходим от одного поспешно объединенного мира к другому, всякий раз делая неэффективными способы добиться этого объединения. Если мы еще не вышли из естественного состояния, если война «всевозможных всех» против «всевозможных всех» в самом разгаре, то у нас по крайней мере появляется надежда перейти к правовому государству, представление о котором нельзя получить из традиционной политики. Коллектив только предстоит построить.
К счастью, отказываясь от мононатурализма, коллектив избавляется и от мультикультурализма. До сих пор плюрализм был всего лишь легкой формой толерантности, потому что он расточал свои милости, апеллируя к неоспоримым общим основаниям. Отказываясь от природы, мы отказываемся от той фрагментарной, рассеянной, неисправимой формы, которую она создавала по контрасту с различными множествами. Люди модерна, избавленные от этого примечательного этноцентризма анимированной природы, могут снова вступить в контакт с Другими и оценить их вклад в создание общих миров, потому что Другие (и это больше не культуры) никогда не использовали природу, чтобы заниматься политикой. Универсальное находится не позади, не поверх, не под, а перед нами. Мы не знаем, на что похоже разнообразие, если оно больше не связано с поспешно заложенным фундаментом природы. Релятивизм исчезает вместе с абсолютизмом. Остается реляционизм и общий мир, который нам предстоит построить. Чтобы начать эти опасные переговоры, у логоса нет иного выбора, кроме как обратиться к ненадежным парламентариям.
Заключение
Что делать? Заниматься политической экологией!
Для того чтобы политическая экология заняла свое законное место, достаточно привить наукам демократию.
Для решения этой задачи в настоящей книге я был вынужден употреблять устаревшие термины: речь, дискуссия, Конституция, Парламент, палата, логос и демос. Я прекрасно понимаю, что таким образом выражаю определенную точку зрения, возможно, не просто европейскую, а французскую, или даже социал-демократическую, или, хуже того, логоцентрическую… Но где вы видели дипломата, на которого не наложил бы свой отпечаток лагерь, который он представляет? Кто не рядится в ливрею интересов сильных мира сего, службу которым он выбрал и которых должен будет предать? Если мы обращаемся к парламентариям, то только потому, что нет никакого взгляда с Сириуса, который определил бы, кто прав, а кто виноват. Ограничен ли я своей точкой зрения, нахожусь ли в плену своих социальных репрезентаций? Это зависит от того, что будет дальше. Дипломаты действительно не могут воспользоваться преимуществами, которые дает Небо Идей, однако они не заточены в темную Пещеру. Они берут слово там, где находятся в данный момент, и располагают только тем языком, который достался им по наследству. Используя эти формулы, они обращаются к тем, кто не в состоянии выразить это лучше, и, в свою очередь, ограничены узкими рамками, в которые они заключены с рождения. Для дипломата ничего не значат первые произнесенные слова, важно только то, что он будет говорить дальше: это первая петелька общего мира, которая позволит соткать полотно из этой несвязной речи. Все подлежит обсуждению, включая сами термины, в которых ведется это обсуждение и которыми пользуются дипломатия, наука и демократия, так как это всего лишь белые флаги, вывешенные на фасад и призванные остановить боевые действия.
Если то, что я делал, иногда казалось шокирующим с точки зрения благоразумия•, то только потому, что я хотел заново открыть здравый смысл•, смысл общего. Тот, кто говорит о природе как об уже установленном единстве, которое позволяет избавиться от социальных репрезентаций, от всего, что ведет нас к разъединению, наделен царской властью, самой авторитетной из существующих, могуществом, которое превосходит любые пурпурные плащи и золотые скипетры гражданских или военных властей. Я ничего не прошу у них, кроме небольшого одолжения: так как вы наделены властью решать, что нас объединяет, а что – разъединяет, что является рациональным, а что – иррациональным, приведите доказательства вашей легитимности, свидетельства того, что вас выбрали, мотивы ваших решений, учреждения, которые позволяют вам выполнять ваши функции, cursus honorum [29], который вы должны были пройти. Как только вы примете определение общественной жизни как последовательного построения общего мира•, вы больше не будете обладать этой властью, которой вас наделяли «непреложные законы природы». Для законов необходим Парламент. «Никакой реальности без репрезентации». Никто не заставляет вас полностью отказаться от власти, но вы должны пользоваться ею именно как властью, со всей осмотрительностью, проволочками, процедурами и особенно – осознавать необходимость считаться с оппозицией. Если абсолютная власть действительно развращает абсолютно, то власть, которая под покровительством природы определяет общий мир, развращает сильнее любой другой. Не пришло ли время лишить вас этой абсолютной власти, возведя в ранг представителей, в которых всякий должен уметь сомневаться?
Научные войны ставят нас сегодня в то же положение, что и войны религиозные, которые заставили наших предшественников в XVII веке изобрести двуликую власть политики и Науки, сделав веру вопросом совести. Если бы каждый читатель Библии в непосредственном контакте с Богом мог ниспровергнуть существующий порядок ради своей собственной интерпретации, то общественной жизни пришел бы конец. Общий мир перестал бы существовать. Именно поэтому наши предки были вынуждены секуляризовать политику и произвести релятивизацию религии, сделав ее частным делом каждого. Должны ли мы сегодня прибегнуть к подобной нейтрализации, чтобы каждый мог подняться против государственной власти со своей собственной интерпретацией природы, апеллируя к непосредственному контакту с фактами? Можно ли секуляризовать науки подобно тому, как мы секуляризовали религию, и сделать точные знания мнением, к которому стоит прислушаться, но которое при этом остается частным? Должны ли мы мечтать о государстве, которое будет гарантировать только свободу исповедания различных научных религий, не поддерживая ни одну из них? Если мы формулируем этот вопрос подобным образом, то его решение покажется довольно странным, ведь нам удалось секуляризовать мораль и религию исключительно потому, что у нас была гарантия уже реализованного единства, которое Наука приносила нам на блюдечке. Будучи, подобно Науке, агностиком в вопросах религии светская Республика будет лишена всякого содержания. А ведь тогда общий мир будет основан на наиболее любопытном и произвольном из всех знаменателей: на королевском Я.
Я же хотел выяснить, существует ли иное решение: вместо того чтобы снижать требования к содержательности фактов, относя их к частной сфере, почему бы, напротив, не расширить список этих требований? Решение, найденное в XVII веке – одновременное изобретение неоспоримых matters of fact и бесконечной дискуссии, – не давало в конечном счете достаточных гарантий создания общественного порядка, космоса. Мы теряли две наиболее важные функции: способность рассуждать об общем мире и приходить к согласию, закрывая дискуссию, т. е. одновременно власть принятия в расчет• и власть упорядочения•. Хотя ни один понтифик не мог больше заявить: «Scientia locuta est, causa judica est» [30], потеря авторитета стократно компенсируется возможностью совместного исследования того, что является подлинным фактом и кто является легитимным членом коллектива. Если мы должны меньше рассчитывать на Науку•, мы можем ожидать гораздо большего от наук•; нам нужно меньше неоспоримых фактов и больше исследований; меньше первичных качеств• и больше коллективного экспериментирования• как с существенным, так и со второстепенным. И в этом случае я всего лишь прошу о небольшом одолжении: распространить действие демократических принципов на нелюдéй. Но разве не это в конечном счете настойчиво пытались запретить ученые? Иметь абсолютную гарантию того, что факты не состоят из человеческих аффектов? Они считали, что быстро добились своей цели за счет сокращения с помощью matters of fact, с самого начала находившихся вне любых общественных дискуссий. Разве нельзя получить, пускай более сложным и опасным путем, более надежные гарантии, если люди будут не единственными, кто работает над созданием Республики•, их общей вещью.
Я не утверждаю, что, как только мы переведем политику на язык экологии, она станет проще. Наоборот, она станет еще сложнее, требовательнее, формальнее или даже придирчивее, и да, она станет дотошнее. Не было случая, чтобы установление правового государства облегчало жизнь тех, кто привык к простоте государства полицейского. Представление о «правовом природном государстве», какой-либо due process, необходимый для открытия общего мира, никак не упростит жизнь тех, кто хотел обречь на иррациональное небытие все пропозиции, чей внешний вид им не нравился. Им нужно будет аргументировать и привести все в порядок, не пропуская ни один из этапов, описанных нами в предыдущих главах. Однако, как мы могли убедиться, избавляясь от природы, общественная жизнь избавляется от основной причины своего ступора. Освобожденная от трансценденций, сколь благотворных, столь и бесполезных, политика вздохнет полной грудью. Она больше не живет под этим дамокловым мечом: угрозой спасения извне. Придется договариваться.
Является ли разработанная мной гипотеза нормативной или дескриптивной? Я сделал вид, что новая Конституция описывала уже свершившиеся факты и достаточно всего нескольких удачных формулировок, чтобы они бросились в глаза наиболее подготовленным читателям. Это была единственная возможность не вступать в противоречие со здравым смыслом. Разница между дескриптивным и нормативным заключается в том, что и то и другое зависит от разделения на факты и ценности: я не мог воспользоваться им, не впадая в противоречие. В «обычном описании» содержится строжайшая форма нормативности: то, что есть, определяет общий мир, поэтому все, что должно быть, или же все остальное сведено к зыбкому существованию вторичных качеств. Нет ничего антропоцентричнее инанимизма• природы. Для того чтобы противопоставить нечто норме, заключенной в matters of fact, нужно быть еще более нормативными. Что касается остального, то нет ничего менее утопичного, чем аргумент, направленный исключительно против этой утопии, этой модернистской эсхатологии, которая вечно ждет спасения от объективности, пришедшей извне. Политическая экология предлагает вернуться к топосу и ойкосу. Мы возвращаемся домой, чтобы разделить общее жилище, нисколько не претендуя на то, что сильно отличаемся от других. В любом случае работники интеллектуального труда пришли намного позднее первых поселенцев, немного раньше, чем сова Минервы, и могут всего лишь помочь другим интеллектуалам – своим читателям – признать то, что благодаря демосу уже давно стало положением дел.
Нам возразят, что речь наверняка идет об утопии, так как соотношение сил обязательно будет угрожать правовому государству и навяжет вместо описанной нами деликатной процедуры немногословную силу установленного порядка. Я действительно не пользовался возможностями критического дискурса. Я разоблачил всего лишь одну власть: власть природы•. Для этого у меня был железный повод: общество• выполняет в критическом дискурсе ту же функцию, что природа в дискурсе тех, кто занимается натурализацией. Societas sive natura [31]. Утверждать, что под прикрытием легитимных отношений существуют невидимые для акторов силы, которые могут обнаружить только специалисты в области социальных наук, означает использовать в случае с Пещерой тот же механизм, что и в случае с метафизикой природы•: существуют первичные качества – общество и соотношение сил, – которые в основном занимаются обустройством вселенной, и качества вторичные, вызывающие сильные чувства, но от этого не менее ложные и создающие завесу для этих невидимых сил, обнаруживая которые мы немедленно падаем духом. Если мы должны отказаться от естественных наук, так как они прибегают к этой дихотомии, то надо еще решительнее отказаться от наук социальных, когда они пытаются использовать ее для анализа коллектива, понимаемого как общество•. Если мы должны вместе с естественными науками последовательно выстраивать общий мир, то оставим общество, чтобы объяснить поведение акторов. По той же самой причине, что и к природе, к обществу можно прийти в самом конце коллективного эксперимента, а не отталкиваться от него в самом начале, как от чего-то уже сформированного. Критический дискурс участвует в расширении сферы действия соотношения сил, но не описывает их и тем более не разоблачает. Он хорош только для того, чтобы попытаться взять власть, хотя ему никогда не удается это сделать, потому что он ошибается даже в том, что касается силы.
Социальные науки: экономика, социология, антропология, история, география – могут играть куда более полезную роль, чем просто определять – вместо акторов, и чаще всего вопреки им – силы, которые ими тайно манипулируют. Акторы не понимают, что они делают, но социологи понимают это еще меньше. То, что манипулирует акторами, неизвестно никому, включая исследователей в области социальных наук. Именно по этой причине существует Республика, общий мир, который только предстоит построить: нам неизвестны коллективные последствия наших действий. Мы запутались в рискованных отношениях, все обстоятельства которых должны быть предметом постоянной ре-презентации. Меньше всего нам нужно, чтобы кто-то строил за нас наш будущий общий мир. Но чтобы исследовать то, что нас связывает, мы можем рассчитывать на гуманитарные науки, предлагающие акторам многочисленные и подверженные регулярному пересмотру варианты, которые позволят нам понять коллективный опыт, в который мы все вовлечены. Все эти «-логии», «-графии», «-номии» становятся совершенно необходимыми, если они постоянно предлагают коллективу новые варианты того, что может быть, сохраняя при этом следы сингулярностей. При помощи социальных наук коллектив наконец может себя переосмыслить. Если вполне заурядные умы могут стать строгими и педантичными учеными благодаря оборудованию, находящемуся в их лабораториях, то можно только догадываться, кем могут стать обычные граждане, если для осмысления коллектива они будет оснащены инструментарием социальных наук. Политическая экология будет золотым веком социальных наук, освобожденных от модернизма.
Могу ли я сохранить выражение «политическая экология», чтобы обозначить выход из этого состояния войны? Я понимаю, что связь с «зелеными» партиями остается под вопросом, так как я постоянно критиковал использование понятия природы, доказывая, что оно парализует все усилия «экологов». Как сохранить термин «политическая экология» для обозначения как Naturpolitik экологов, которые якобы вернули проблемы природы в политическую плоскость, так и общественной жизни, которая должна найти противоядие против природы? Нет ли здесь злоупотребления терминологией? Если я позволил себе отнестись без должного уважения к политической философии экологии, то только потому, что до сегодняшнего дня она практически не использовала возможности, которые ей предоставляли философия наук и сравнительная антропология, хотя и та и другая, в чем мы убедились в первой главе, заставляют нас отказаться от сохранения природы. При этом я отдавал дань уважения разнообразной практике тех, кто демонстрировал, что за каждым человеком стоят стремительно умножающиеся ассоциации нелюдéй, беспорядочные последствия которых делают невозможным старое разделение на природу и общество. Какой еще термин, кроме экологии, позволит нам приобщить к политике нелюдéй? Возможно, мне простят то, что я сбросил с пьедестала экологическую мудрость, если мне удастся устранить некоторые из ее наиболее очевидных противоречий? Вести речь о природе, не пересматривая отношения между демократией и наукой, не имело никакого смысла. При этом мы должны быть уверены, что люди больше не будут заниматься политикой отдельно от нелюдéй, а разве не этого всегда добивались «зеленые» движения, используя неуклюжее понятие «сохранение природы»?
Остается один деликатный вопрос: должна ли политическая экология унаследовать разделения, свойственные традиционной политике? Как неоднократно было замечено, партии, которые к ней апеллируют, затрудняются отнести себя к левым или правым. Но левая или правая позиция зависит от Ассамблеи, в которой собираются парламентарии, от расположения кресел, от формы амфитеатра, места президента, помоста, на котором расположено кресло спикера. Политическая экология не ищет себе место внутри старой Конституции, она намерена собрать коллектив в другой ассамблее, на другой площадке, на другом форуме. Поэтому левого и правого будет недостаточно для описания новых разделений. Ни одно определенное заранее сочетание отныне не позволит нам противопоставлять силы Прогресса и Реакции, как если бы существовал единый фронт модернизации, в котором совместно выступали Просвещение, секуляризация, смягчение нравов, рынок, универсальность. Различия между этими партиями давно уже стали важнее того, что их объединяет.
Что делать с правыми и левыми, если прогресс, как мы убедились, состоит в переходе от запутанного к более запутанному, от смешения фактов и ценностей к еще более запутанному смешению? Если свобода состоит не в том, чтобы окончательно избавиться от максимального числа существ, а в том, чтобы связать себя с всевозрастающим числом противоречивых пропозиций? Если братство состоит не в том, чтобы сформировать единый фронт цивилизации, который обречет всех остальных на варварство, а обязательство вместе со всеми строить общий мир? Если равенство требует принять нелюдéй, не зная заранее, кто из них окажется только средством, а кто принадлежит царству целей? Если республика• является одновременно самой древней и новейшей разновидностью Парламента вещей?
Для отбора возможных миров разделение на левое/правое кажется совершенно не подходящим. При этом невозможно договориться и преодолеть это разделение, апеллируя к силе, вызывающей всеобщее единодушие, так как у нас больше нет природы, которая могла бы всех объединить без сопротивления с нашей стороны. Меня не очень беспокоит эта проблема. Как только ассамблея соберется в привычной ей обстановке, политическая экология очень быстро научится находить новые расхождения, новых врагов и новый фронт борьбы. Тогда придет время наклеивать им ярлыки. Большая их часть уже у нас перед глазами. Удивительные с точки зрения Старого порядка, они станут банальными в условиях нового. Мы в любом случае не торопимся унаследовать все эти разделения вчерашнего дня.
Существуют ли другие решения помимо политической экологии? Чего вы в конце концов хотите? Можете ли вы на самом деле сказать, нисколько не смущаясь и свято в это веруя, что будущее нашей планеты состоит в том, что все культурные различия будут упразднены, надеясь при этом, что они постепенно будут заменены единственной природой, известной универсальной Науке? Если вам хватает для этого смелости, то тогда будьте откровенны: хватит ли вам наглости для того, чтобы, наоборот, отказаться от идеи о том, что культуры, даже будучи несущественными, превращаются в несовместимые миры, которые загадочным образом присоединяются к единственной природе, одновременно наиболее существенной и лишенной смысла? А если это не входит в вашу задачу, если мононатурализм в сочетании с мультикультурализмом кажется вам обманом, если вы больше не дерзаете быть модерными, если у старой формы будущего нет будущего, то не стоит ли вернуть в оборот древний словарь демократии? Почему бы не попробовать покончить с естественным состоянием и научными войнами? Мир по-прежнему молод, науки появились совсем недавно, история едва началась, что же до экологии, то она почти не начиналась вовсе: тогда почему мы должны останавливать исследование учреждений общественной жизни?
Евгений Блинов Природа мертва, а коллектив еще нет: экспериментальная метафизика Латура между политикой и науками
Спасительное промедление: Латур как Felix cunctator или Doctor lentus
Название «Политики природы» может (и определенно должно) озадачить неподготовленного читателя. Как, впрочем, и подготовленного, ведь в латурианской экспериментальной метафизике нет заранее известных ответов: недаром ее девизом является «Никто не знает, на что способна окружающая среда…» (c. 101). Тем более что этому избитому выражению придается принципиально новый и неожиданный смысл, ведь «окружающая среда» определяется не как единая и неизменная природа, а как то, что призвано «озадачивать» коллектив. Стоит признать, выражение «политики природы» звучит по-русски достаточно двусмысленно: речь идет не только и не столько об акторах, осуществляющих определенную политику [politiciens], а именно о политике [politique] во множественном числе, что достаточно редко встречается в привычном нам словоупотреблении (в отличие от стратегий, тактик или идеологий). Но внимательное чтение Латура требует привычки к неизбежно возникающей двусмысленности (которая то усиливается, то ослабевает в русском переводе), новым толкованиям хорошо знакомых понятий (которые подаются как очередной том критических замечаний к Платону), разнообразным сочетаниям несочетаемого.
Делёз и Гваттари, которым автор «Политик природы» многим обязан, назвали свой философский проект невозможных сочетаний или противоестественных альянсов «шизоанализом», так как одним из клинических проявлений шизофрении является совмещение органического и механического («Грудь – это машина, которая производит молоко» (1)). Авангардный опус Делёза и Гваттари провоцировал читателя, изобретая новую сексуальность (долой вашу любовь!); новый язык (долой ваше искусство!); новые формы коллективного действия (долой ваш строй!); новую квазиницшеанскую аксиологию (долой вашу религию!). Проект Латура, направленный на дальнейшее прояснение границ человеческого и нечеловеческого, а также на изучение различных видов их взаимодействия, не менее радикален по содержанию, хотя и менее скандален по форме (оставим это разделение, пришедшее из традиционной метафизики, прояснив в дальнейшем его смысл). Латур настаивает, что выводы из его работы не только могут, но и должны со временем показаться нам банальными: осознав, что они (мы) никогда не были людьми модерна, наследники западной традиции приступят к самой обыденной работе по «постепенному построению общего мира». Подобная апелляция к нормальности (которую ни в коем случае нельзя путать с нелегитимной модернисткой нормативностью) – часть вполне осознанной самостилизации автора, как обращение к помешательству и неразумию, а также эксперименты по созданию нового философского языка у Делёза и Гваттари или Деррида. Однако «Политики природы» – это не анти- и не пост- «Анти-Эдип» или «Грамматология», а скорее, как любит выражаться сам автор, работа, «повернутая на 90 градусов» (2) по отношению к радикальным философским манифестам шестидесятых-семидесятых годов. Но эта банализация является умышленным «снижением» высокого метафизического стиля и во многом основана именно на опыте детерриториализаций и деконструкций, в контексте которых сформировалась мысль Латура.
Как и авторы «Капитализма и шизофрении», Латур обращается к производственной терминологии, указывая, что его в равной степени «интересует научное производство, как и производство политическое», добавляя при этом: «Мы в одинаковой мере восхищаемся политиками и учеными» (с. 13). Тогда как многофункциональная делёзо-гваттарианская «машина войны», направленная одновременно против существующих политических и научных иерархий, стремилась к выработке нового стиля, Латур по возможности избегает неологизмов, охотно признавая, что в созданных западной традицией политических и метафизических концептах есть много разумного, и, на первый взгляд, не призывает к немедленному «свержению существующего строя». И в этом смысле обманчиво примирительный тон «Политик природы» принципиально отличается от анархистского посыла «Капитализма и шизофрении». Построение общего мира, по Латуру, требует неспешной работы. Он особенно настаивает на методологическом и политическом значении этой неспешности, торжественно обещая не разрубать гордиев узел отношений природы и культуры, нечеловеческого и человеческого, объектов и субъектов, Науки и Общества, а вместо этого распутать его «тысячью разных способов, до тех пор, пока не протащим в угольное ушко, чтобы расплести, а затем сплести заново» (с. 10). Если брать пример из политической истории, подобную стратегию называют «кунктаторской» в честь римского военачальника Квинта Фабия Максима, получившего агномен Кунктатор («медлитель») за свою политику во время Второй Пунической войны, состоявшую в уклонении от решающих схваток с армией Ганнибала, которая и привела к конечной победе. Обращаясь к схоластической традиции, можно вспомнить, что знаменитые доктора в Средние века получали почетные титулы наподобие Doctor angelicus (Фома Аквинский), Doctor subtilis (Дунс Скотт) или Doctor invincibilis (Оккам). По аналогии Латуру можно было бы присвоить титул Doctor lentus, хотя он по праву мог бы носить все три перечисленных: разве ангелы не подходят под определение нечеловеческих (хотя и антропоморфных) акторов, и много ли найдется современных авторов, столь тщательно разъясняющих собственные тезисы и скрупулезно разбирающих доводы своих оппонентов? Бруно Латур – Felix cunctator, призывающий к осмотрительной политике, и Doctor lentus, не ищущий легких объяснений.
Республика как предчувствие
Если придерживаться избранной автором «Политик природы» стратегии одновременного анализа политики и науки (не Науки с большой буквы – настаивает Латур, – а именно различных научных практик), то возведенная им в принцип медлительность имеет вполне конкретные политические и методологические последствия. И определенно осложняет работу комментатора и переводчика, так как квалифицированный перевод предполагает знакомство с контекстом, а доступный комментарий – представление его читателю. Это тем более неблагодарная задача, когда речь заходит о работах автора, дисциплинарная принадлежность которого (философ? социолог науки? политолог? антрополог? медиатеоретик?) является предметом ожесточенных споров и поводом для критики (по большей части весьма поверхностной). Ведь Homo academicus — не устает напоминать нам Латур, сравнивая «дорогих коллег» с «хищными тварями», – политическое животное, склонное к агрессивной защите своей территории. В «Политиках природы» ситуация усугубляется тем, что, как утверждает Латур, он выступает не столько качестве автора, сколько в качестве «редакционного секретаря» огромной «коллаборатории», в работе которой, по его заверениям, принимали участие специалисты самого различного профиля, от экологов и историков медицины до экономистов и антропологов. Тем самым Латур как бы между делом дедраматизирует порядком поднадоевшую постструктуралистскую «смерть автора», помещая собственный проект в широкую сеть «коллаборантов» (3).
Последуем же его собственному совету и не будем доверять этой «скромной личине» редакционного секретаря, отметив, что анализ научных практик в «Политиках природы» строго подчинен сверхзадаче – выработке принципов новой Конституции, в которой, как надеется автор, будут учтены интересы и мнения не только различных дисциплин или социальных групп, но и голоса (пока всего лишь «глухой ропот») нового, нечеловеческого типа акторов. Тем более что в определенный момент на сцене появляется фигура дипломата как склонного к предательству посредника враждующих сторон («дерьма в шелковых чулках», по выражению Наполеона), и этот образ явно близок автору «Политик природы».
Вместе с тем Латур упрощает задачу комментатора и читателя, уверяя, что знакомство с его предыдущими работами не является обязательным условием для понимания основных идей «Политик природы» (мы бы сказали осторожнее: оно является факультативным). Что следует понимать как призыв к вдумчивому изучению ее основных аргументов, тем более что все они, как не без доли иронии замечает Латур, обращены исключительно к «здравому смыслу» («sens commun», который необходимо отличать от «благоразумия» – «bon sens»). И этот здравый смысл должен подсказать нам не «рубить сплеча» (а глаголу «trancher» Латур придает особый концептуальный и политический смысл), за исключением особо оговоренных законом (sic!) случаев. Медлительность, как и было сказано.
Комментатор «Политик природы» оказывается в ситуации, схожей с демократическим коллективом: необходимо понять, почему их автор решил, что у нас есть время медлить с принятием политических решений и каким образом мы при этом можем «принять в расчет» бесчисленное множество голосов человеческих и – на чем он особо настаивает – нечеловеческих существ? Или, говоря более привычным языком, как учесть мнение противоборствующих политических групп, опираясь на столь же противоречивые утверждения экспертов? В чем, собственно, и состоит вынесенная в подзаголовок задача «привить наукам демократию».
Отчасти это ощущение едва ли неограниченного времени в запасе связано с дискуссиями периода работы над книгой. Первое издание «Политик природы» было выпущено издательством La Découverte в 1999 году, а это было время экономического, эпистемологического и, самое главное, политического оптимизма: девяностые были эпохой долгожданной европейской интеграции и победного шествия экуменического глобализма. Азиатский кризис 1998 года на европейской экономике отразился относительно слабо, политическая и военная угроза с Ближнего, Среднего или Дальнего Востока еще не рассматривалась всерьез, а международный терроризм не стал глобальным трендом. Бывшие радикалы и критические мыслители, такие как Негри и Хардт или Болтански и Кьяпелло, писали трактаты если не во славу «глобальной империи», то, во всяком случае, за ее здравие, обосновывая ее своевременность или неизбежность (4). Вчерашние алармисты вроде Ульриха Бека торжественно отрекались от своего постчернобыльского пессимизма и составляли «Космополитические манифесты» (5). Конец истории, торжественно объявленный в начале девяностых сотрудником Госдепа Фукуямой, казалось, подтверждался на практике (6). Стоит напомнить, что разрушение Берлинской стены было одним из главных «событий» (в делёзианском смысле) в политической конструкции «Мы никогда не были людьми модерна» (7) (Nous n’avons jamais été modernes).
Хотя Латур был одним из немногих, кто старался сохранить холодную голову во время этих карнавальных поминок по истории, нельзя сказать, что его работы девяностых годов полностью свободны от охватившей Европу объединительной эйфории. В «Политиках природы» можно найти немало примеров из актуальных в то время дебатов о различных аспектах евроинтеграции. Но уже тогда Латур делал это в весьма своеобразной форме, выступая с оригинальной и вместе с тем чисто французской критикой мультикультурализма. Гордясь своей принадлежностью к французской универсалистской традиции, прообраз коллектива нового типа (которых «может быть сколько угодно, но только не два») он видел не в коммунитаристских «соединенных штатах» и тем более не в возникших в воспаленном воображении людей модерна «дуалистических монархиях» единой природы и множества культур, а именно в универсальной республике. Республиканский пафос «Политик природы» направлен на включение в «единый и неделимый» коллектив весьма неожиданных «граждан». Это будут не люди, исключенные при Старом порядке из процесса принятия политических решений (женщины, молодежь, эмигранты, «жертвы тоталитаризма» или представители всевозможных меньшинств), а нечеловеческие существа или нелю́ди. Как сказали бы якобинские ораторы, «разделенное внутри себя царство» модерна не могло править иначе, как создавая дуализм между природой и культурой (культурами), фактами и ценностями, субъектами и объектами, людьми и вещами. Субъекты и объекты были обречены на вечное противостояние, вновь созданная республика позволит им сообща построить «общий мир».
При этом Латур не предлагает что-то вроде «теории бесконфликтности», как это делали глашатаи конца истории: новый коллектив будет постоянно сталкиваться с новыми акторами и актантами (8), чьи привычки будут несовместимы с его нормальным функционированием (9). Отсюда знакомая отечественному читателю по перестроечным памфлетам риторика конверсии, или перевода на мирные рельсы целых отраслей индустрии, которая в девяностые годы пришла на смену милитаризированному алармизму эпохи конца холодной войны. Но военная индустрия понимается здесь в переносном смысле, как создание людьми модерна политических и концептуальных учреждений, ответственных за «патрулирование границ» между Обществом и природой, фактами и ценностями. В отречении от того, что Латур называет военной традицией, можно усмотреть определенную долю самокритики, так как он в полной мере воздал ей должное в своих более ранних работах. Достаточно вспомнить, что одна из них имела подзаголовок «Война и мир микробов» и вполне убедительно демонстрировала, каким образом гигиенический дискурс рубежа XIX–XX веков был вписан в милитаристский диспозитив накануне Мировой войны (10).
В качестве решающего довода этой республиканской диатрибы – обвинение Старого порядка в сегрегации «субъектов» и «объектов», которые понимаются не просто как сущности или существа, наделенные различным онтологическим статусом, а как акторы или актанты, все это время «заседавшие» в различных ассамблеях, решавших судьбу общего мира:
Иначе говоря, субъекты и объекты не принадлежат плюриверсуму, метафизику которого нам нужно заново создать: «субъект» и «объект» являются наименованиями, данными двум различным представительским ассамблеям, чтобы они никогда не могли собираться вместе в одном помещении и дать клятву в зале для игры в мяч (с. 92).
Или теми, кто вызывался время от времени для участия в Генеральных штатах, чтобы разрешить очередной политический или экономический кризис (к которым во второй половине XX века добавились кризисы экологические). Ход неожиданный и достаточно парадоксальный для автора, прославившегося критикой модернистских разрывов и драматизаций. «Клятва в зале для игры в мяч», которую принесли представители трех различных сословий Французского королевства, прежде заседавшие в разных палатах, символизирует конец Старого порядка и представляет собой архетипический топос политического модерна. Великая Французская революция означала не только создание единой и неделимой республики, но и «моральное и физическое возрождение» французской нации, которое основывалось как раз на открытии при помощи Науки незыблемых законов природы (11). Которыми эта «нация универсального» в дальнейшем великодушно поделится с остальным человечеством. Однако для Латура республика – не утопический идеал и тем более не метафорический образ, учитывая его крайне скептическое (и на этот раз не без влияния Делёза) отношение к метафорам. Метафора – пример не отрефлексированной репрезентации в метафизическом смысле и нелегитимного представительства в смысле политическом. Понятие республики используется отнюдь не в ироническом смысле, как, например, «общая история» в «Анти-Эдипе», когда Делёз и Гваттари по образцу «философских фантазий» XVIII века выделяют три эпохи в истории человечества (Дикость, Варварство, Цивилизация), чтобы выяснить происхождение власти, языка и производства. И не в виде притчи о «трансформации» концептуального персонажа в собственного антагониста, как это произошло с Заратустрой, которого Ницше призвал исправить собственную ошибку и упразднить когда-то введенное им разделение между «добром» и «злом». Это крайне важно для понимания замысла «Политик природы»: для Латура республика в ее французском понимании является реальной и действующей моделью нового коллектива. Он вполне серьезен в своем намерении «заставить говорить» немых нечеловеческих акторов и создать не просто «парламент вещей» (12), а новую Генеральную ассамблею, в которой люди и нелю́ди будут заседать совместно.
«Великий Пан умер!» Смерть природы и рождение коллектива
Олицетворением Старого порядка в «Политиках природах» становится платоновская аллегория Пещеры. Однако на место дуализма Пещеры и Неба идей модернистская традиция, как понимает ее Латур, помещает целую серию дуализмов, от локковского разделения первичных и вторичных качеств до леви-строссовской дихотомии природы и культуры. При этом не важно, за каким из двух полюсов закрепляется онтологический или аксиологический приоритет: критика Латура направлена на сам принцип разделения. Само по себе обращение к трансценденции при обсуждении устройства коллектива является симптомом упадка демократии, превращая легитимную дискуссию свободных граждан на агоре в конфликт ничем не обоснованных мнений «узников пещеры» (13). Проблема в том, что единая или та самая природа (с определенным артиклем – la Nature) (14) не только не отделена от Общества непреодолимой стеной, а, как настаивает Латур, была изобретена именно для того, чтобы давать ему уроки:
Никогда, начиная с первых греческих дискуссий о совершенстве общественной жизни, о политике не говорили в отрыве от природы; или, точнее говоря, к природе никогда не обращались, не желая тем самым преподать политический урок. Не было написано ни единой строчки, по крайней мере, в западной традиции, где за такими словами, как природа, природный порядок, закон природы, естественное право, жесткая причинность, незыблемые законы, не следовало бы, через несколько строчек или параграфов, некоторое утверждение о том, как реформировать общественную жизнь (с. 38).
Под «природой» понимается не глобальная экосистема, а именно принцип трансценденции, к которому апеллируют реформаторы общественной жизни. И эта «природа» оказывается несовместима с единой и неделимой республикой, граждане которой – люди и нелю́ди – совместно трудятся над построением общего мира. Так проясняется один из самых шокирующих, на первый взгляд, тезисов латурианской политической экологии, а именно утверждение о «смерти природы»:
Когда неистовые экологи с дрожью в голосе восклицают: «Природа скоро умрет», то сами не знают, насколько они правы. Слава Богу, природа умрет. Да, великий Пан умер! После смерти Бога и человека природе тоже пора на покой. Давно пора, ведь мы уже практически не в состоянии заниматься политикой (с. 36).
Природа «умрет» в том же смысле, в каком после произнесения клятвы в зале для игры в мяч «умер» Бог, наместником которого был король, и, в менее драматических обстоятельствах, «умер» человек, чей образ, как предсказывал Фуко, смыла набежавшая морская волна. Душа – темница для тела, природа – препятствие для политики. Король должен умереть для того, чтобы родилась нация, а природа – чтобы родился коллектив.
Однако природа мертва, а коллектив еще нет. Ведь в республиканском словаре невозможность политики означает прежде всего узурпацию власти. В латурианской перспективе узурпируют ее как раз не политики, а Ученые, претендуя на то, что только они могут управлять «челноком», который в воображаемой модели «двухпалатного коллектива» циркулирует между палатой людей (мнений, интересов, желаний, вторичных качеств, ценностей) и палатой «вещей» (тяжестей и скоростей, первичных качеств, фактов). Именно покушение на монопольное право ученых давать советы политикам превратило Латура в одну из главных мишеней «научных войн», или, в терминологии автора, «лилипутских войн с постмодернизмом». Республиканский пафос «Политик природы» направлен прежде всего на десакрализацию власти ученых как наместников божественной, или «той самой», природы. Из этого совершенно не следует, что ученые полностью лишены власти, напротив, они становятся частью демократического процесса, в рамках которого устанавливаются ее прерогативы и принципы взаимодействия с другими учреждениями нового коллектива. Она становится властью в прямом смысле слова, так как ее прерогативы четко прописаны в новой Конституции, но при совершении своих действий она обязана соблюдать процессуальные нормы (dans les formes, due procedure).
Что же в таком случае происходит с природой? Она «умирает» подобно тому, как в интерпретации Кожева умирал король в «Феноменологии духа» Гегеля: его «сакральное тело» было отравлено «критикой Просвещения» (15). Как показывает Латур, чтобы «та самая» природа перестала нас завораживать, необходимо показать, что существует множество различных «природ», составляющих плюриверсум. Достаточно заменить единственное число на множественное в том или ином словосочетании с прилагательным «природный» (естественный) (16), чтобы оно утратило свою нормативную силу:
Сила воздействия этого выражения объясняется тем, что мы всегда употребляем его в единственном числе: та самая природа [la nature]. Когда мы апеллируем к понятию природы, объединение, которое она узаконивает, значит бесконечно больше, чем онтологическое качество «природности», происхождение которого она гарантирует (с. 39).
Конкретный «политический урок», который стремятся преподать, обращаясь к единой природе, зависит от того, какой именно концепт единой природы используется. В актуальных дискуссиях об экополитике, полагает Латур, их можно выделить как минимум три: «серую и холодную» природу позитивистов, «зеленую и отзывчивую» природу глубинной экологии и «кровавую и красную» природу культуралистской «экополитики». В контексте латурианской политической экологии, упраздняющей само понятие единой природы, ни политическое позиционирование этих движений (правые, левые, центристы), эксплуатирующих его в том или ином виде, ни его отношение (нейтральное, приоритетное, подчиненное) к обществу (культуре) не является принципиально важным. Из новой Конституции исключается сам принцип сегрегации людей и нелюдéй, общества и природы.
В этом отношении куда более поучительным является урок, который могли бы дать незападные культуры (или, точнее, природы-культуры). Их отличие от западных людей модерна состояло не в том, «что дикари лучше обращались с природой, а в том, что они не обращались к ней вовсе» (с. 55). «Та самая» природа является изобретением Запада, главным условием его «самоэкзотизации». Что дает основание для переоценки незападных народов как находящихся на другой стадии развития или имеющих другую (традиционную) «точку зрения» на природу:
Мы больше не можем определять их как другие культуры, у которых есть определенная точка зрения на одну-единственную природу, к которой только «мы» имеем доступ; теперь, разумеется, становится невозможным отделять одни культуры от других на основании принципа универсальный природы. Не существует ничего, кроме природ-культур, или коллективов, которые, как мы увидим в пятой главе, пытаются понять, что между ними может быть общего (с. 56).
Концепт «мультикультурализма» теряет всякий смысл с упразднением понятия «единой природы»: «Мультикультурализм получает свое право на множество только потому, что он основан на мононатурализме» (с. 44). В качестве альтернативы мультикультурализму Латур выдвигает понятие мультинатурализма, позаимствованное из исследований амазонского перспективизма бразильского антрополога Эдуарду Вивейруша де Кастру (17). Снисходительность, с которой мультикультурализм относится к другим культурам, основана на предварительной дисквалификации любой незападной метафизики как набора «мнений» о хорошо известной нам единой природе, набора, к которому можно относиться толерантно именно потому, что мы не обязаны принимать его всерьез (18). Однако тем самым опровергается и радикальная инверсия колониального западного рационализма или свойственное новой мифологии (к которой питают слабость некоторые направления экологической мысли) благоговение перед «добрыми дикарями». Латур отпускает немало саркастических реплик в адрес несчастных белых с их нечистой постколониальной совестью, умиляющихся «дикарями в костюмах из перьев» и мечтающих погостить на их «свадьбе с природой». Дикари, добрые или злые, не имеют доступа к сакральному знанию о Матери-Природе по той простой причине, что это понятие является проекцией западных представлений на «дикую» мысль.
«Природе пора на покой» – таков основной критический тезис экспериментальной метафизики Латура. Это мета-физика в самом прямом смысле слова, то есть философская мысль, которая становится возможной после «смерти природы», которую Латур, подобно Гегелю у Кожева, всего лишь констатирует. Что совершенно не означает, будто экологические движения должны прекратить свою борьбу за сохранение биологического разнообразия. Латур всецело одобряет их практики, хотя и категорически отвергает своего рода наивный дуализм, который до сих пор служил имплицитной предпосылкой их теоретического осмысления. «Ту самую» природу – серую, зеленую или кроваво-красную – уже не спасти, новый отважный мир политической экологии будет состоять из множества природ-культур. Природа-культура, мог бы сказать Латур вслед за русским классиком, «не храм, а мастерская», а человек и его нечеловеческие сограждане в ней всего лишь работники.
Кто говорит? Коллектив как место для дискуссий
Упразднение «той самой» природы и симметричного ему понятия общества делает возможным создание новой, гибридной природокультурной общности, которой Латур дает название коллектива. В хорошо продуманном демократическом коллективе предусмотрены механизмы, препятствующие узурпации власти, тогда как в двухпалатной системе при Старом порядке одна из двух сторон неизменно навязывала свою волю другой и скатывалась либо к технократической диктатуре «фактов», либо к морализаторской диктатуре «ценностей». Но если механизм демократического представительства при всех его возможных недостатках и ограничениях нам более-менее известен, то каким образом мы можем узнать «мнение» нечеловеческих «сограждан»? Перед новым коллективом встает классический вопрос, поставленный еще Руссо: «Есть ли у Политического организма орган для выражения его воли?» (19)
Латур сразу оговаривается, что речь не идет о сказке, в которой «животные, вирусы, звезды, волшебные палочки заговорят человеческими голосами». Вместо них говорят «белые халаты», то есть ученые. Но и здесь проблема не так проста, как может показаться. Ведь одной из главных компетенций демократического коллектива является «умение сомневаться в своих официальных представителях». Подобный скепсис Латура – вполне последовательное развитие французской критической мысли шестидесятых годов, которое в учебниках по истории философии называют не иначе как «эпохой подозрения» (20). Три главных «властителя подозрения» – Маркс, Ницше и Фрейд, – пришедшие на смену «трем Аш» (trois H) – кумирам послевоенного поколения Гегелю, Гуссерлю и Хайдеггеру (Hegel, Husserl, Heidegger), – позволили по-новому поставить вопрос «Кто говорит?» (Qui parle?). Если при старых правилах научной дискуссии он немедленно дисквалифицировался как разновидность argumentum ad hominem, то новое открытие скрытых сил (классовых интересов, власти, желания), определяющих как саму постановку вопроса, так и дальнейшую дискурсивную стратегию, делает вполне легитимным доскональный анализ вопрошающего и говорящего. В классической формуле «это говорят не объективные факты, а…» (ваша субъективность, желание власти, классовые предрассудки) противопоставление человеческого и нечеловеческого имело смысл, однако с признанием «объективности» отношений власти, классовых интересов и желаний утвердилась идея о том, что «субъект высказывания» сознательно или нет проговаривает сложившиеся в конкретном обществе отношения власти, денег и желания. Ученый в этом смысле не является исключением, работая на правящий класс, капитал или систему нормализация сексуальности. Претендуя на то, чтобы говорить «от имени фактов», он всегда говорит от имени уполномочивших его учреждений (тюрьмы, школы, клиники), которые занимаются классификацией этих фактов и помещают их в определенную иерархию.
В ситуации кризиса представительства некоторые авторы на волне «молекулярной революции» «Мая 68-го» выступили с радикальной критикой любой «репрезентации» (восходящей к Руссо). Делёз полагал, что «эффект 68-го года» породил новый тип интеллектуала, который больше не говорит от имени «ценностей» или созданных на их основе учреждений (21). Любые «меньшинства» и маргиналы, лишенные права голоса, должны по мере возможности говорить сами за себя: учитель больше не имеет права говорить от имени учеников, врач – от имени пациентов, и уж тем более тюремщик – от имени заключенных. С этим, в принципе, согласен и Латур, но с одной важной оговоркой: ни одна группа граждан (людей или нелюдéй) не может говорить «сама за себя». В этом смысле Латур примыкает скорее к либеральным критикам Руссо от Сийеса до Констана, упрекавших «гражданина Женевы» в том, что он не понимал радикальной новизны «представительства» людей модерна по сравнению с древними республиками (22). Мы всегда имеем дело с представителями: легитимны они или нет, мы должны научиться ставить под сомнения их слова. Нелегитимный характер представительства, со справедливой критикой которого выступали сторонники революционного имманентизма, порождает новую утопию, которая к тому же не работает применительно к нечеловеческим согражданам. Разумеется, ученые, в отличие от политиков, всегда претендовали на то, что «факты говорят сами за себя», а они всего лишь расшифровывают таинственные письмена «великой книги мира» или «той самой» природы. Представительство (не путать с натуралистической репрезентацией (23)), считает Латур, в том или ином виде неустранимо, но мы должны тщательно исследовать его характер. При этом представительство политическое представляет собой не меньшую проблему, чем представительство нечеловеческих граждан, которое осуществляют ученые:
Человек, говорящий от лица других, вот великая загадка наравне с загадкой человека, который говорит таким образом, что больше не произносит ни слова, но при этом с его помощью говорят сами за себя факты. Того, кто говорит «государство – это я», «Франция решила, что…», понять ничуть не проще, чем того, кто в своей статье высчитывает массу Земли или число Авогадро (с. 90).
В новом коллективе ученые больше не имеют права запирать нелюдéй в стенах лабораторий, так как им предстоит высказаться по жизненно важным вопросам. Задача «белых халатов» состоит в том, чтобы создать «артикуляционные аппараты» для нелюдéй, при помощи которых их человеческие сограждане могут, наконец, услышать их нетвердые голоса. Этот процесс должен проходить при полном соблюдении демократических процедур, то есть в условиях постоянного сомнения в корректности той или иной «репрезентации». Нечеловеческие «граждане» будут «говорить» не вместо, а вместе с представляющими их учеными, составляя с ними более или менее устойчивые ассоциации:
…эти множества всегда представляют собой ассоциации людей и нелюдéй: вирус никогда не появляется без вирусологов, пульсар без радиоастрономов, наркоман без наркотиков, лев без масаи, рабочий без профсоюза, собственник без собственности, фермер без окружающего его пейзажа, экосистема без эколога, колдун без своих фетишей, депутат без отданных ему голосов, – каждой из этих пропозиций сопутствуют инструменты, которые могут передать ее слова, а также затруднения речи и ее неуверенность в точности репрезентации (с. 185).
Здесь Латур также выступает на стороне критиков радикального республиканского имманентизма, боровшихся с ассоциациями граждан и видевших в них угрозу целостности Нации (24). Идея об ассоциации людей и нелюдéй, с одной стороны, позволяет утверждать, что полноценный «актант» в большинстве случаев имеет гибридный характер, с другой – провести еще одну, на этот раз фланговую атаку на мультикультурализм (25). Представители – как уполномоченные, так и самопровозглашенные – угнетенных меньшинств, конструируя их «идентичность», нередко прибегают к натурализации. Развивая тезис Латура о дискуссионном характере любой ассоциации, можно предположить, что в хорошо продуманном коллективе представители «меньшинств» должны, во-первых, получить от них определенный мандат, а во-вторых, отказаться от апелляции к неумолимой природе (расе, полу или сексуальной ориентации) как основе альтернативной нормативности. Любая предложенная ими программа коллективных действий (особенно если она имеет правовые последствия) подлежит обсуждению и является лишь одним из возможных способов осмысления расы, пола или «сексуальной идентичности». Понять тех, кто желает представлять половину представителей вида Homo sapiens, ничуть не проще, чем тех, кто расшифровал геном человека.
В этом призыве к обсуждению – один из главных посылов «Политик природы». Одно из ключевых слов всей книги – прилагательное «неоспоримый, бесспорный, непререкаемый» [indiscutable] – не так просто перевести на русский. По той простой причине, что оно не является научным термином в техническом смысле и к тому же образовывает в русском языке ряд устойчивых сочетаний, которые практически невозможно унифицировать (ср.: loi indiscutable, ordre indiscutable, fait indiscutable, parole indiscutable, parole indiscutable, force indiscutable, pouvoir indiscutable, nature indiscutable, réalité indiscutable, prémisse indiscutable, volonté indiscutable, essence indiscutable). Поэтому мы, в зависимости от контекста, переводили его при помощи различных прилагательных (например: «неоспоримый факт», «непререкаемая власть», «непреложная воля») либо создавали искусственные конструкции, как, к примеру, в случае с «речью, не подлежащей возражению» [parole indiscutable].
В обсуждении вопросов «постепенного построения общего мира» отныне принимают участие акторы или актанты нового типа – нелю́ди (26). При Старом порядке, поддерживающем сегрегацию между субъектами (с их ценностями) и объектами (с их бесспорной фактичностью), они не могли вступать в ассоциации и стать согражданами (27). У нелюдéй больше нет твердого ядра или «сущности» в терминах старой метафизики «той самой» природы (28). Точнее, нечто вроде «сущности» они получат после того, как мы изучим их «привычки», то есть поймем при помощи «белых халатов» действие того или иного вируса или «волшебного материала». Подобное взаимодействие сопряжено с определенными рисками, именно поэтому латурианская метафизика является экспериментальной: понятие опыта, напоминает Латур, этимологически связано с опасностью (29). Именно несовместимые привычки, а не их «сущность», могут служить основанием для временного исключения тех или иных нелюдéй из коллектива.
Мы никогда не были людьми модерна. Стал ли наш век латурианским?
Что же в таком случае меняется для ученых, кроме необходимости приобретения новых компетенций, связанных с участием в демократическом процессе по «представительству» нелюдéй? Являются ли «Политики природы» новым трактатом о методе или антиметоде, как удачно заметил один из комментаторов «Капитализма и шизофрении»? (30) И да и нет. С одной стороны, настаивает Латур, его выводы не противоречат здравому научному смыслу и не требуют переписать историю конкретных дисциплин. С другой – отказавшись от дуалистической модели «той самой природы», противопоставлявшей Науку и Общество, объекты и субъекты, факты и ценности, мы сможем найти им совершенно иное применение. Основной парадокс модерна состоял в том, что ученые действовали правильно с точки зрения «логики научных открытий», но были не в состоянии правильно осмыслить свои практики:
Люди модерна всегда поступали в точности до наоборот по сравнению с тем, что они говорили: и именно это их и спасало! Не было ни одной вещи, которая не была бы присоединена. Ни одного бесспорного факта, который не был бы результатом тщательного обсуждения внутри коллектива. Ни одного объекта, находящегося вне зоны риска, за которым не просматривалась бы пышная шевелюра неожиданных последствий, которые будут преследовать коллектив, принуждая его перестраиваться (с. 213).
Именно в этом смысле «мы никогда не были людьми модерна» (nous n’avons jamais été modernes), то есть постоянно действовали вопреки провозглашенным принципам. Разделение на субъекты и объекты не помогало, а мешало осмыслению продуктивных научных практик. Хотя традиция модерна претендовала на то, что нашла в них точку отсчета или триггер, которой позволял ей прояснить отличия между ними, ведь «прошлое путалось в том, что будущее должно прояснить» (с. 208). Модерн Латура не конкретная эпоха, а «темпоральный механизм».
Теперь понятно, почему «модерн» нельзя переводить на русский как «Новое время» (31). Во-первых, имеется прямое и недвусмысленное указание Латура на то, что модерн «обозначает не некоторый период, а разновидность течения времени» (с. 270), что делает нерелевантной дискуссию о различиях в трактовке этого термина во французской и немецкой или англосаксонской историографиях. Во-вторых, наиболее важным для Латура контекстом является именно попытка преодоления модерна через анти- (апеллирующий к «традиции») или постмодерн (ничего не предлагающий взамен). Именно в этом контексте «модерн» никогда не переводится на русский как «Новое время». В-третьих, во французском действительно имеется своя традиция обозначать этим термином определенный тип акторов: «Anciens» и «Modernes» или «Древних» и «Новых», к которой риторически апеллирует Латур. Но и в этом случае речь опять же не о противопоставлении Нового времени и Средневековья, или, в смысле Вебера, «модерна» и «архаики», а о споре относительно принципов новой эстетики (как в случае спора во Французской академии) или нового общества (как в знаменитой речи Бенжамена Констана), т. е. под «древними» подразумеваются вполне современные классицисты или апологеты античных республик (Руссо и Мабли). И, наконец, last but not least, Латур не претендует на лавры создателей альтернативной хронологии, как может подумать русский читатель, встретив утверждение о том, что «Нового времени не было». Работа 1991 года также не содержит отсылки к статье Делёза о «мае 68-го» или эссе Бодрийяра о войне в Персидском заливе, которых действительно «не было» (n’a pas eu lieu) (32). Традиция модерна вполне реальна и жизненна, но ей стоит сделать еще одно усилие, чтобы понять саму себя.
Так стал ли наш век латурианским? Ответ на него можно дать, наблюдая динамику изменения модернистских границ между природой и обществом, фактами и ценностями, объектами и субъектами, наукой и политикой. Отважный новый мир экспериментальной метафизики не обещает простых решений и скорых ответов. Неизвестно, где пройдут новые границы политического, когда из дискуссий об общем мире исчезнут упоминания о «той самой» природе. Перефразируя Вивейруша де Кастру, там, где все или почти все является политическим, политика становится чем-то совсем иным.
Этадзима-си, Хиросима-кен, февраль 2018
Глоссарий
Администрация [Administration]: одно из пяти проанализированных в этой книге ноу-хау, чей вклад в функционирование новой Конституции• неоценим; она позволяет задокументировать коллективное экспериментирование•, обеспечивая соблюдение процессуальных норм.
Актант, актор [Actant, acteur]: семиотический термин, обозначающий как людей, так и нелюдéй; актором является тот, кто изменяет другого в ходе некоторого опыта; об акторах можно сказать только то, что они действуют; их компетенции можно вывести из образа их действий; действие, в свою очередь, регистрируется в ходе опыта в отчете об эксперименте, вне зависимости от того, является он элементарным или нет.
Артикуляция [Articulation]: то, что связывает две пропозиции•; тогда как высказывания• являются истинными или ложными, о пропозициях можно сказать, что они хорошо или плохо артикулированы; коннотации этого слова (в анатомии, праве, риторике, лингвистике, ортофонии) располагаются в широком спектре значений, который мы пытаемся охватить, и больше не требуют разделения на мир и на то, что мы говорим о нем, а описывают различные способы, при помощи которых дискурс заряжается от мира (см. также Логос•).
Ассоциация [Association]: расширяет и изменяет смысл слов «социальное» и «общество»•, пребывающих под властью разделения на мир объектов и субъектов; вместо разделения на объекты и субъекты мы будем говорить об ассоциациях людей и нелюдéй; таким образом термин относится как к естественным, так и к социальным наукам прошлого.
Благоразумие [Bon sens] как противоположность Здравого смысла [Sens commun]: пара противоположных терминов, позволяющих нам заменить критический дискурс и процесс разоблачения; благоразумие представляет прошлое коллектива, тогда как здравый смысл (смысл общности или поиска общего) представляет его будущее. Если мы можем себе позволить дразнить благоразумие при помощи самых смелых доводов, то должны убедиться в том, что они в конце концов не противоречат здравому смыслу.
Верхняя палата, нижняя палата [Chambre haute, chambre basse]: см. Двухпалатная система•.
Вещь [Chose]: мы используем это слово в его этимологическом смысле, который отсылает нас к делу, рассматриваемому ассамблеей, в которой состоялась дискуссия, обязывающая вынести коллективное суждение, по контрасту с объектом•. Этимология этого существительного содержит отсылку к коллективу• (res, thing, ding), который мы пытаемся созвать (см. также Республика•).
Враг [Ennemi]: этим словом мы в первую очередь обозначаем внешнюю среду коллектива, которая играет не пассивную роль источника данных подобно природе•, а активную роль в качестве того, что вынесено наружу (см. Экстернализировать•), и может подвергнуть внутреннюю среду коллектива смертельной опасности, но на следующем этапе вернуться и претендовать на место партнера или союзника. Враг – это совсем не тот, кто совершенно чужд, аморален, иррационален или не существует вовсе.
Высказывание [Énoncé]: в отличие от пропозиций•, высказывание – это элемент человеческого языка, который затем при помощи референции пытается верифицировать свое соответствие миру объектов. Это именно то, что производит коллектив, когда процесс построения общего мира оказывается прерван.
Государство [État]: всего лишь одна из инстанций коллектива в процессе исследования; то, что позволяет осуществлять власть наблюдения•; то, что имеет монополию на назначение врага•; то, что включает в себя искусство управления; то, что гарантирует качество коллективного опыта•.
Двухпалатная система [Bicaméralisme]: выражение из области политических наук, описывающее представительскую систему, состоящую из двух палат (Ассамблея и Сенат, Палата Общин и Палата Лордов); здесь используется в смысле распределения власти между природой• (которая понимается как представительная власть) и политикой•. На смену этой «неправильной» двухпалатной системе приходит «правильная», различающая две представительные власти: власть принятия в расчет• – верхнюю палату – и власть упорядочения• – нижнюю палату.
Демос [Demos]: греческий термин, который обозначает собравшийся народ, притом что он избавлен как от двойного давления, которое оказывает на ход дискуссии спасение со стороны Науки•, так и от ошеломляющего насильственного сокращения.
Дипломатия [Diplomatie]: ноу-хау, которое позволяет выйти из состояния войны, следуя коллективному• опыту общего мира• и изменяя его существенные требования; дипломат вслед за антропологом встречается с другими культурами.
Договор на обучение [Pacte d’apprentissage]: выражение, которое используется в качестве замены общественного договора, призванного связать людей между собой некоторым всеобъемлющим способом с целью формирования общества; договор на обучение не предполагает ничего, кроме взаимной неосведомленности управляющих и управляемых друг о друге в ситуации коллективного экспериментирования•.
Затруднения речи [Embarras de parole]: обозначает не речь, а проблемы, которые возникают, когда мы говорим или, точнее, артикулируем• общий мир, пытаясь избежать логоцентрических терминов (логос•, консультация•, официальный представитель•) и просто выразить смысл, который не требовал бы каких-то особых размышлений, чтобы проявиться во всей ясности.
Здравый смысл [Sens commun]: см. Благоразумие• [Bon sens].
Иерархия [Hiérarchie]: одна из двух важнейших функций власти упорядочения•; речь идет о ранжировании пропозиций, по определению разнородных и несовместимых в рамках однородного порядка и в соответствии с одним и тем же отношением упорядочения; с виду неразрешимая задача, к которой нужно вернуться при следующей итерации.
Инанимизм [Inanimisme]: неологизм, построенный по образцу «анимизма» для напоминания об антропоморфизме метафизики, которая предполагает объекты, «безразличные» к судьбе людей, что на самом деле позволяет реформировать человека, различая первичные (существенные)• и вторичные (поверхностные)• качества.
Интернализация [Internalisation]: см. Экстернализация [Externalisation].
Коллектив [Collectif]: отличается в первую очередь от общества•, так как этот термин отсылает к неправильному распределению власти; затем собирает старые ветви власти природы и общества в одном помещении, чтобы снова четко их разделить (на власть принятия в расчет•, упорядочения• и наблюдения•). Хотя он и употребляется в единственном числе, данный термин отсылает не к уже установленному единству, а к процедуре собирания ассоциаций людей и нелюдéй.
Коллективный опыт [Expérience collective]: начиная с того момента, когда мы больше не можем вести речь о единой природе и множестве культур, коллектив должен исследовать вопрос о числе существ, подлежащих принятию в расчет, а затем интегрировать методом проб и ошибок, протокол которого определяется властью наблюдения•. Мы используем термин «экспериментирование» в том смысле, в котором он употребляется в науках, где он инструментализован, встречается редко, воспроизводится сложно, всегда оспаривается, а его результат нуждается в расшифровке.
Конституция [Constitution]: термин, позаимствованный из права и политических наук, получает здесь более широкое метафизическое толкование, так как он отсылает к разделению существ на людей и нелюдéй, объекты и субъекты, а также к разновидностям власти, дару речи, полномочиям и воле, которыми они наделены. В отличие от термина «культура», Конституция отсылает как к личностям, так и к вещам; в отличие от «структуры», она свидетельствует о добровольном, прозрачном и продуманном характере этого распределения. Чтобы драматизировать это противопоставление, мы противопоставим «старую» Конституцию модерна• «новой» Конституции политической экологии, так же как Старый порядок• – Республике (см. также Экспериментальная метафизика•).
Консультация [Consultation]: одна из двух основных функций власти принятия в расчет•: отвечает на вопрос, какие испытания необходимо пройти для того, чтобы можно было судить о существовании, важности, воле пропозиции•; применяется как к людям, так и к нелю́дям; не употребляется в обычном смысле ответа на уже сформулированный вопрос, а означает участие в новой формулировке проблемы за счет поиска надежных свидетелей•.
Космос, космополитика [Cosmos, cosmopolitique]: здесь мы понимаем его в том же смысле, что и греки: как соглашение, гармонию и одновременно в более традиционном смысле – как мир. Таким образом, это – синоним общего мира•, того, что Изабель Стенгерс называет космополитикой (не в смысле транснациональности, а как метафизику политики космоса). Его антоним можно было бы обозначить словом какосмос, хотя Платон в Горгии предпочитал термин акосмос.
Кривая обучаемости [Trajectoire d’apprentissage]: выражение, заимствованное из психологии, употребляемое здесь для обозначения ситуации, в которой коллективу становится не доступно ранее принятое решение относительно его экстериорности (одна природа / много культур) и он вынужден заново обращаться к опыту, не имея гарантии качества подобного обучения. Наблюдение за ней является седьмой задачей Конституции•.
Логос [Logos]: многозначный греческий термин, которому мы здесь придаем смысл артикуляции•; он означает все затруднения речи•, затрагивающие самую суть общественных интересов; синоним перевода, он не определяется ни ясностью, ни каким-то особым вниманием к языку, а трудностью, возникающей при попытке следовать за движением коллектива на пути постепенного построения общего мира•.
Люди и нелю́ди [Humains et non-humains]: чтобы правильно обозначить разницу между гражданскими отношениями внутри коллектива и милитаризированными отношениями, принятыми между объектами• и субъектами•, мы используем это выражение как синоним пропозиций• или ассоциаций•. Оно имеет исключительно негативный смысл, напоминая о том, что мы никогда не ведем речь ни о субъектах, ни об объектах старой двухпалатной системы•.
Модерн [Moderne]: обозначает не некоторый период, а разновидность течения времени; способ интерпретации некоторой совокупности ситуаций в попытке вывести из нее различие между фактами и ценностями, миропорядками и репрезентациями, рациональным и иррациональным, Наукой• и обществом•, первичными• и вторичными• качествами, а также утвердить радикальное различие между прошлым и будущим, позволяющее окончательно экстернализировать• то, что мы не принимаем в расчет. Постмодерн — это то, что приостанавливает подобное течение времени, ничего не предлагая взамен. Нон-модерное или экологическое — это то, что заменяет течение времени модерна, снова принимая в расчет все, что ранее было подвергнуто экстернализации.
Мононатурализм, мультикультурализм, мультинатурализм [Mononaturalisme, multiculturalisme, multinaturalisme]: чтобы подчеркнуть политический характер необоснованного объединения коллектива с помощью «той самой» природы, мы добавляем префикс «моно», позволяющий сразу же обнаружить сходство этого решения с мультикультурализмом (англосаксонское выражение, пришедшее в политическую науку): на основе поспешно объединенной природы, отделяясь от несовместимых культур, поспешно записанных во фрагментарные. Чтобы обозначить невозможность традиционного решения, мы в несколько провокационной манере добавляем к натурализму префикс мульти.
Моралист [Moraliste]: одна из пяти гильдий, приглашенных для участия в деятельности коллектива, определенной новой Конституцией•. Для него характерен не призыв к ценностям или уважение к процедурам, а внимание, с которым он относится к недостаткам построения• коллектива, ко всему тому, что было подвергнуто экстернализации•, отказываясь видеть в пропозициях исключительно средство и предлагая представлять их в качестве целей.
Наблюдение (власть наблюдения) [Suivi (pouvoir de suivi)]: одна из трех властей коллектива (наравне с властью принятия в расчет• и властью упорядочения•): направлена на поиск испытаний, позволяющих коллективному опыту исследовать вопрос общих миров; является процедурной, а не субстанциональной; при условии, что она не предполагает господства, является синонимом искусства управления.
Надежный свидетель [Témoin fiable]: обозначает ситуации, за счет которых можно подтвердить точность репрезентаций, учитывая, что разделение того, кто говорит, и того, кто не говорит, больше не является определяющим и что больше нет никого, кроме официальных представителей•, затруднения речи• которых мы ставим под сомнение.
Наука [Science] в противоположность наукам [sciences]: мы противопоставляем Науку, понимаемую в смысле политизации наук, осуществляемой (политической) эпистемологией с целью сделать бессильной общественную жизнь, угрожая ей спасением со стороны уже объединенной природы•, и различные науки, во множественном числе с маленькой буквы, определяемые как одно из пяти важнейших ноу-хау коллектива в поисках пропозиций•, вместе с которыми он должен построить общий мир и призван поддерживать множество внешних реальностей.
Научная политика [Politique scientifique]: по контрасту с политическими науками обозначает поиск в ходе коллективного экспериментирования• плодотворных исследовательских программ, улучшающих артикуляцию•; находясь отныне в ведении нескольких чиновников от науки, она становится частью базового снаряжения граждан.
Нечеловеческое [Non-humain]: см. Люди.
Нормы (при соблюдении процессуальных норм) [Formes (dans les formes)]: выражение, позаимствованное в области права и администрирования, призвано подчеркнуть неподобающий и скрытный характер обычных соглашений, заключенных при Старом порядке. В отличие от разделения природы и общества, фактов и ценностей, репрезентативные власти коллектива• заставляют продвигаться медленно, соблюдая процессуальные нормы (due process), предоставляя общему миру эквивалент правового состояния. В одной и той же формуле мы сочетаем разделение между де-факто и де-юре.
Натурполитик [Naturpolitik]: по образцу Realpolitik мы обозначаем этим термином отклонение политической экологии, которая, в противоположность экологическому активизму, претендует на обновление общественной жизни, оставляя в неприкосновенности идею природы•, изобретенную для того, чтобы отравлять ей жизнь.
Общее благо [Bien commun]: вопрос об общем благе (common good, good life) обычно сводится к нравственности, не затрагивая проблемы общего мира•, который определяет положение дел; так что Благо и Истина остаются разделены; мы используем одновременно оба выражения, чтобы вести речь о пригодном для жизни общем мире или космосе•.
Общество, социальное [Société, social]: мы называем обществом или социальным миром ту часть старой Конституции•, которая должна объединить субъекты, оторванные от объектов, и все время находится под угрозой объединения при помощи природы; это уже сформированное всеобщее, которое объясняет поведение людей и позволяет обходиться без политической задачи построения; таким образом, она вызывает паралич, выполняя ту же роль, что и природа• и по тем же самым причинам. Поэтому эпитет «социальный» (в аду социального, либо социальной репрезентации•, либо социального конструктивизма) всегда имеет уничижительный смысл, так как описывает обреченную попытку пленников Пещеры• артикулировать реальность, не располагая для этого средствами.
Общий мир [Monde commun] (также пригодный для жизни общий мир [bon monde commun], космос•, лучший из миров [meilleur des mondes]): данное выражение обозначает предварительный результат постепенного объединения внешних реальностей (для которых мы используем термин «плюриверсум»•); мир, в единственном числе, это не данность, а то, к чему необходимо прийти, соблюдая процессуальные нормы.
Объект [Objet]: в противоположность субъекту: мы противопоставляем здесь пару субъект/объект ассоциациям людей и нелюдéй. Объект и объективность, точно так же как субъект и субъективность, являются полемическими терминами, изобретенными, чтобы всячески избегать политики, как только природа• вступает в свои права; поэтому мы не можем использовать их в качестве граждан коллектива•, который признает только их гражданскую разновидность: как ассоциации• людей и нелюдéй.
Объекты вне зоны риска (или модерные) [Objets sans risque (ou modernes)], по контрасту с рискованными соединениями (или всклокоченными) [attachements risqués (ou échevelés)]: выражение, изобретенное для напоминания о том, что экологические кризисы затрагивают не одну-единственную разновидность существ (например природу, экосистемы), а способ производства существ как таковых: непредвиденные последствия, равно как и способ производства и сами производители по-прежнему связаны посредством рискованных соединений, хотя они как будто не связаны с объектами• в узком смысле.
Озадаченность [Perplexité]: одна из семи задач, выполняя которые коллектив становится внимательным и обретает чувствительность к присутствию за его пределами множества пропозиций, которые могут проявить желание стать частью одного и того же общего мира•.
Окружающая среда [Environnement]: проблемы с ней начинаются, как только исчезает независимая от человеческого поведения окружающая среда; это экстернализированная• совокупность того, что мы больше не можем ни выбросить наружу в качестве разгрузки, ни сохранить в качестве резерва.
Официальный представитель [Porte-parole]: выражение, которое вначале используется для демонстрации глубокого сродства между представителями людей (в политическом смысле) и представителями нелюдéй (в эпистемологическом смысле). В дальнейшем служит для обозначения всех затруднений речи•, объясняющих динамику коллектива. Именно официальный представитель является тем, кто не позволяет с уверенностью ответить на вопрос «кто говорит?».
Первичные качества [Qualités premières] в противоположность вторичным качествам (qualités secondes): устоявшееся философское выражение, обозначающее ткань, из которой соткан мир (частицы, атомы, гены, нейроны и т. д.), в противоположность репрезентациям• (цветам, звукам, чувствам и т. д.); первичные качества невидимы, но реальны и никогда не переживаются субъективно; вторичные качества переживаются субъективно, но не являются существенными. Хотя это далеко не очевидное разделение, оно является операцией (политической) эпистемологии• по преимуществу, запрещенной согласно новой Конституции•, с ней борется экспериментальная метафизика•.
Пещера [Caverne]: выражение, позаимствованное из платоновского мифа, изложенного в Республике, которое используется нами как сокращенное обозначение двухпалатной системы• старой Конституции, с ее разделением Неба Идей с одной стороны и ада социального – с другой (см. также Старый порядок•).
Плюриверсум [Plurivers]: так как слово «все-ленная» [uni-vers] обладает тем же недостатком, что и слово «природа»• (унификация, осуществленная без соблюдения процессуальных норм•, вне due process), при помощи этого выражения мы обозначим пропозиции•, являющиеся кандидатами на совместное существование до процесса унификации в общем мире•.
Политика [Politique]: понимается здесь в трех смыслах, которые мы определим, прибегнув к перифразам: а) в своем обычном значении подразумевает борьбу и достижение компромиссов в области человеческих аффектов, в отрыве от того, чем занимаются нелю́ди; в этом случае мы используем выражение «Пещера»•; б) в собственном смысле означает постепенное построение общего мира• и все компетенции, которыми наделен коллектив; в) в узком значении мы называем политикой лишь одно из пяти ноу-хау, необходимых по Конституции, чтобы обеспечить верность представительским функциям через постоянную реактивацию отношения единичное/целое.
Положения дел [Matters of fact]: бесспорные компоненты восприятия или экспериментирования; мы сохраняем английский термин, чтобы обратить внимание на это причудливое политическое разделение, навязанное старой Конституцией, между спорным (теория, мнение, интерпретация, ценность) и бесспорным (чувственные данные, различные data).
Привычка [Habitude]: свойство пропозиций• до того, как коллектив не учредит их окончательно в качестве сущностей•; это единственный способ сделать возможным выполнение задач выработки общего мира, не прибегая сразу же к неоспоримой природе и бесспорным идентичностям и интересам.
Природа [Nature]: рассматривается здесь не как множество реальностей (см. Плюриверсум•), а как неправомерный процесс унификации общественной жизни и распределения способности говорить и представлять, который делает невозможным созыв коллектива и превращение его в Республику•. Мы оспариваем три разновидности природы: «холодную и твердую природу» первичных качеств, «теплую и зеленую природу» Naturpolitik• и, наконец, «красную и кровавую» природу политэкономии•. Натурализация означает не распространение власти Науки на другие области, а паралич политики. Поэтому мы можем осуществлять натурализацию, отталкиваясь от общества•, нравственности• и т. д. Но как только коллектив собран, у нас больше нет оснований отказываться от терминологии, продиктованной здравым смыслом, и использовать выражение натуральный как нечто само собой разумеющееся, считая его неотъемлемой частью коллектива.
Политическая экология [Écologie politique]: употребляя этот термин, мы не делаем разницы между научной и политической экологией; он построен по модели полит-«экономии»• (но противоположен ей по смыслу). Таким образом мы обозначаем, по контрасту с «неправильной» философией экологии, понимание экологических кризисов, которое совершенно не использует природу, чтобы понять стоящие перед нами задачи. Она служит общим термином для обозначения того, что придет на смену модернизму при наличии альтернативы: модернизировать или подвергнуть экологизации.
Постепенное построение общего мира [Composition progressive du monde commun]: выражение, которое заменит классическое определение политики как игры интересов и сил: общий мир не основан изначально (в отличие от природы• или общества•), а должен быть понемногу собран при помощи дипломатической работы•, которая выясняет, что есть общего у различных пропозиций•. Построение противопоставляется параличу, сокращению, произволу (см. также Нормы•).
Принятие в расчет (власть принятия в расчет) [Prise en compte (pouvoir de prise en compte)]: одна из трех властей в коллективе (относящаяся к верхней палате), которая обязана задавать себе вопрос: с каким количеством новых пропозиций• мы должны учредить коллектив?
Пропозиция [Proposition]: в своем привычном смысле в философии языка означает высказывание• [énoncé], которое может быть истинным или ложным; здесь мы употребляем его в метафизическом смысле для обозначения не прибывающего в мире существа или лингвистического понятия, а как ассоциацию людей и нелюдéй до того, как она становится полноценным членом коллектива•, учрежденной сущностью•. В отличие от высказываний, пропозиции утверждают коллективную динамику в процессе поиска наилучшей артикуляции, подходящего космоса•. Чтобы избежать повторений, мы иногда говорим «существа» [entités] или «вещи» [choses]•.
Разделение властей [Separation des pouvoirs]: устойчивое выражение из области права и политической философии, обычно используемое для обозначения различия между законодательной и исполнительной (иногда судебной) ветвями власти; мы же в дальнейшем используем его: а) в негативном смысле, чтобы обозначить различие между природой• и обществом• (которое позволяет рассматривать его как составную часть старой Конституции, а не как некую данность); б) в позитивном смысле, чтобы обозначить различие между властью принятия в расчет• и властью упорядочения•, за которыми ревностно следит власть наблюдения•. Его соблюдение является одной из семи задач Конституции•.
Репрезентация [Représentation]: понимается в двух совершенно различных смыслах, которые всегда можно понять из контекста: а) в негативном смысле социальной репрезентации обозначает одну из двух властей (политической) эпистемологии, которая запрещает всякую общественную жизнь, так как субъекты или культуры обладают доступом исключительно ко вторичным качествам• и никогда – к сущности•; б) в позитивном смысле обозначает коллективную динамику, которая ре-презентирует, то есть представляет по-новому вопросы общего мира и постоянно подтверждает точность этого возобновления.
Республика [République]: означает не исключительно человеческую ассамблею и не универсальность человечества, порвавшего с традиционными архаическими привязанностями, а, напротив, возвращение к эпистемологии общественной вещи• [chose publique] или коллектив•, полный решимости осуществить экспериментальный поиск того, что его объединяет; это коллектив, собранный при соблюдении процессуальных норм• и верный порядку Конституции•.
Рискованное соединение [Attachement risqué]: см. Объект вне зоны риска [Objet sans risque].
Старый порядок [Ancien Régime]: мы пользуемся этим нарочито упрощенным выражением (как и еще более спорным выражением «Пещера»•), чтобы подчеркнуть контраст между двухпалатной системой• природы и общества с новой Конституцией•, которая делает возможным правовое государство. Подобно тому как Французская революция поставила под сомнение легитимность аристократической власти божественного права, политическая экология ставит под сомнение аристократическую власть божественной «Науки».
Субъект [Sujet]: см. Объект [Objet].
Сущность [Essence]: метафизический термин, который получает здесь политический смысл; он означает не начало процесса построения• или артикуляции• (для этого мы вводим термин «привычка»•), а ее предварительный итог; существует достаточно сущностей, которые получены в результате учреждения• как прозрачной процедуры, придающей им устойчивость и неоспоримость, присоединяя атрибуты к субстанции. Чтобы обсуждать конкретные вещи, мы используем выражение «сущность с фиксированными контурами».
Сценаризация [Scénarisation]: одна из семи функций, которые должна выполнять новая Конституция•; требует вернуться к определению границы между внутренним и внешним; но вместо того, чтобы отталкиваться от уже сформированного единства (природы• или общества•), различные ноу-хау (в области наук, политики, администрирования и т. д.) предлагают сценарии унификации, которые являются предварительными и быстро станут морально устаревшими вместе с возобновлением коллектива.
Требование [Exigence]: термин, который употребляется вместо старого различия между необходимостью и свободой; каждая функция коллектива• формулирует определенное требование: внешней реальности – для озадаченности•; весомости – для консультации•; публичности – для иерархии•; закрытия – для учреждения•. Выражение существенные требования, позаимствованное из лексикона стандартизации, позволяет провести различие между привычками• и временными сущностями• пропозиций•.
Упорядочение (власть упорядочения) [Ordonnancement (pouvoir d'ordonnancement)]: одна из трех представительных властей коллектива (так называемая верхняя палата): отвечает на вопрос: можем ли мы сформировать общий мир?
Учреждение [Institution]: одно из двух требований власти упорядочения•, которое позволяет соответствовать требованию закрытия и подготовить возобновление коллектива во время следующей итерации; в литературе по гуманитарным наукам этот термин часто употребляется в отрицательном смысле в противоположность спонтанному, реальному, индивидуальному, творческому и т. д.; здесь он имеет позитивный смысл как одна из форм разума; мы также используем выражение концептуальное учреждение как синоним формы жизни.
Цивилизация [Civilisation]: обозначает коллектив•, который больше не находится в окружении природы и других культур, но при этом способен цивилизованным образом подключиться к процессу экспериментирования по постепенному построению общего мира•.
Экспериментальная антропология [Anthropologie expérimentale]: способность антропологии усваивать другие культуры раньше зависела от мононатурализма•; мы называем экспериментальной антропологию, которая идет на контакт с другими, отбрасывая как мононатурализм, так и мультикультурализм (см. также Дипломатия•).
Экологический активизм [Écologie militante]: в несколько искусственной манере мы противопоставляем здесь практики экологических активистов официальной философии экологических мыслителей, которую мы называем Naturpolitik•, продолжающих использовать природу как способ организации общества, не осознавая, что это скороспелое единство парализует работу по построению•.
Экономика, экономизатор [Économie, économisateur]: мы противопоставляем политэкономию как экономию на политике (паралич правового государства) и экономику как форматирование связей и выработку общего языка, делающего возможной моделизацию и просчитывание оптимумов. Экономика, освобожденная от политики (как эпистемология•), становится ноу-хау (наравне с политикой или лабораторной наукой), а не инфраструктурой того или иного общества.
Экспериментальная метафизика [Métaphysique expérimentale]: традиция определяет метафизику как то, что идет вслед за физикой и над ней, предполагая таким образом первичное разделение между первичными• и вторичными качествами•, слишком быстро решавшее проблему общего мира•, которая является предметом данной книги. Чтобы избежать этого поспешного решения, мы называем экспериментальной метафизикой исследование того, что составляет общий мир, и оставляем это нарочито парадоксальное выражение метафизика природы для обозначения традиции, которая отводила природе политическую роль.
Экстериоризация, экстернализация [Extériorisation, externalisation]: экономисты используют понятие внешних экономических фактов, чтобы обозначить то, что не может быть принято в расчет, но при этом играет важную роль (положительную или отрицательную) при вычислениях; здесь мы придаем ему более общий и политический смысл, чтобы заменить привычное представление о природе, находящейся вне социального мира; тогда как она является не данностью, а результатом прозрачной процедуры помещения вовне (тем, что мы решили не принимать в расчет, или тем, что подвергает коллектив опасности) (см. также Враг•).
Эпистемология, (политическая) эпистемология, политическая эпистемология [Épistémologie, épistémologie (politique), épistémologie politique]: эпистемологией в собственном смысле слова мы называем изучение наук и свойственных им процедур (подобно социологии, истории или антропологии наук, но при помощи других инструментов); в противоположность ей (политической) эпистемологией (или, еще резче – эпистемологической полицией) мы будем называть искажение различных теорий знания в политических целях, но без соблюдения процедур согласования как научного, так и политического характера (речь идет о том, чтобы обезопасить политику от всякой политики, этим объясняются скобки); наконец, мы будем называть политической эпистемологией (без скобок) анализ прозрачного распределения властей между науками и политикой в рамках Конституции•.
Краткое содержание (для занятого читателя…)
Выделенные знаком • термины отсылают к глоссарию.
Введение: Это книга по политической философии природы или политической эпистемологии. Она задается вопросом: что делать с политической экологией? Чтобы ответить на него, необходимо говорить не только о природе и политике, но и о науке. В этом ее слабое место: экологизм не может быть просто проникновением природы в политику, так как является определенной научной концепцией, которая зависит не только от представлений о природе, но и, по контрасту, от представлений о политике. Поэтому мы должны заново переосмыслить одновременно все три концепта: полиса, логоса и фюсиса.
Глава 1: Почему политическая экология не может сохранить природу? Потому что природа – это не отдельная сфера реальности, а результат политического деления, или Конституции•, которая отличает объективное и бесспорное от субъективного и спорного. Чтобы заниматься политической экологией, необходимо для начала выйти из Пещеры, различая Науку• и практическую работу наук•. Что также позволит различать официальную философию экологизма, с одной стороны, и его разнообразную практику – с другой. До тех пор пока мы отождествляем экологию и проблематику природы, она постоянно путает на практике науки, мораль, право и политику. Поэтому экологические кризисы имеют отношение не к кризису природы, а к кризису объективности. Если природа• – это особый способ тотализации жителей, разделяющих общий мир, который занимает место политики, то нетрудно понять, почему экологизм означает конец природы в политике и почему мы не можем позаимствовать традиционное понятие природы, изобретенное для того, чтобы свести политику к [кромвелевскому] охвостью. Разумеется, идея о том, что западное чувство природы – это исторически обусловленная социальная репрезентация•, стала общим местом. Но мы не можем на этом остановиться, так как в этом случае нам придется сохранить концепцию политики, восходящую к Пещере, которая еще больше отдаляет нас от реальности самих вещей, целиком отдавая их в руки Науки.
Чтобы обеспечить политической экологии подобающее ей место, нужно избегать подводных камней репрезентаций природы и согласиться на риск в виде метафизики. К счастью, при выполнении этой задачи мы можем положиться на сомнительную помощь сравнительной антропологии. На самом деле, ни одна культура, кроме западной, не использовала природу для организации своей политической жизни. Традиционные общества не живут в гармонии с природой, они не догадываются о ее существовании. Благодаря социологии наук, благодаря практике экологизма, антропологии, мы можем наконец понять, что природа является всего лишь одной из палат коллектива•, учрежденной для того, чтобы вызвать паралич демократии. Ключевой вопрос политической экологии теперь поставлен: можно ли найти наследника двухпалатного коллектива, состоящего из природы и общества•?
Глава 2: Как только природа остается в стороне, встает вопрос, каким образом объединить коллектив, который приходит на смену старой природе и старому обществу. Мы не можем просто объединить объекты• и субъекты•, поскольку разделение между природой и обществом было создано не для того, чтобы его можно было избежать. Чтобы преодолеть все эти сложности с созывом коллектива, нужно считать, что он составлен из людей и нелюдéй, способных заседать как граждане при условии разделения полномочий. Первое разделение состоит в том, чтобы заново распределить дар речи между людьми и нелюдьми́, научившись сомневаться в любых официальных представителях, как в тех, кто представляет людей, так и в тех, кто представляет нелюдéй. Второе разделение состоит в том, чтобы распределить способность действовать в качестве социального актора, рассматривая исключительно ассоциации людей и нелюдéй. Именно с ними, а не с природой должна иметь дело политическая экология. Из этого не следует, что граждане коллектива принадлежат языку или чему-то социальному, поскольку, в силу третьего разделения, акторы определяются через их реальность и непокорность. Все вместе три разделения позволяют определить коллектив как состоящий из пропозиций•. Чтобы созвать коллектив, мы больше не будем интересоваться ни природой, ни обществом, а только тем, хорошо или плохо артикулированы составляющие его пропозиции. Наконец, созванный коллектив позволяет вернуться к гражданскому миру, заново определяя политику как постепенное построение общего мира•.
Глава 3: Не приходим ли мы вместе с коллективом к тому же недоразумению, что и в случае с отвергнутым нами понятием природы, а именно к поспешному объединению? Чтобы застраховать себя от подобного риска, мы постараемся найти новое разделение властей, которое позволит провести новое разделение внутри коллектива. Разумеется, возвращение к старому разделению на факты и ценности, которое только приносит неудобства, невозможно, даже если оно представляется крайне важным для общественного порядка. Говорить о «фактах» означает связывать то, что озадачивает, и то, что существует абсолютно. Говорить о «ценностях» означает смешивать мораль, бессильную перед лицом установленных фактов, с иерархией приоритетов, у которой больше нет права отсеять даже самый незначительный факт. Это приводит к параличу как наук, так и политики.
Мы вносим порядок в эти сочетания, выделяя две другие власти: власть принятия в расчет и власть упорядочения. Первая власть позволит сохранить требование озадаченности•, оставшееся от фактов, и требование консультации•, оставшееся от ценностей. Первая позаимствует у ценностей требование иерархии•, а у фактов – требование учреждения•. Поэтому вместо неприемлемого различия фактов и ценностей мы получим две представительные власти коллектива, одновременно различные и взаимодополняющие. Хотя различие факт/ценность выглядело обнадеживающим, оно не позволяло сохранять существенные гарантии, которые требует предоставить новая Конституция, изобретаяющая правовое государство для пропозиций. Коллектив больше не мыслит себя как некоторое общество, погруженное в природу, так как он создает новую экстериорность, которая определяется как совокупность того, что было исключено властью упорядочения и заставляет власть принятия в расчет вновь взяться за работу. Поэтому динамика постепенного построения общего мира в такой же степени зависит от человеческой политики, что и от политики природы согласно старой Конституции.
Глава 4: Теперь мы можем дать определение компетенциям коллектива при условии, что нам удастся избежать спора двух «экополитик», который вынуждал нас смешивать политическую экологию с политэкономией. Если экономика представляется чем-то вроде коллектива в миниатюре, то она присваивает себе функции политической экологии и парализует одновременно науку, мораль и политику, навязывая им натурализацию третьей степени. Но как только она отказывается от своих политических притязаний, она становится одной из гильдий, необходимых для функционирования новой Конституции, и каждый член коллектива посредством своих ноу-хау вносит свой вклад в оснащение палат.
Вклад наук будет куда более весомым, чем вклад Науки•, так как они будут участвовать в осуществлении всех функций одновременно: озадаченности•, консультации•, иерархии•, учреждения•, к которым нужно добавить контроль за разделением властей• и сценаризацию целого•. Существенное отличие вклада политиков• от Науки• заключается в том, что они тоже поучаствуют в осуществлении всех шести функций, делая возможной синергию, которую Наука как раз не допускала, так как занималась природой и политикой интересов. Выполнение этих функций станет еще более эффективным с учетом вклада экономистов и моралистов, которые примут участие в общей стройке, которая создаст то, что придет на смену неприемлемому политическому телу из прошлого.
Благодаря этой новой организации проясняется динамика коллектива. Она основана на работе двух палат, причем верхняя палата представляет власть принятия в расчет•, а нижняя – власть упорядочения•. Прием в верхней палате не имеет ничего общего со старым разделением на природу и общество: он основан на двух исследованиях, одно из которых призвано соответствовать требованию озадаченности, а другое – требованию консультации. Если эта первая ассамблея хорошо справляется со своей работой, то она сильно осложняет прием в нижней палате, поскольку каждая пропозиция становится несовместимой с уже построенным общим миром. Именно в этот момент должно начаться исследование иерархий•, совместимых между собой, а также поиск определения врага•, исключение которого будет утверждено нижней палатой, использующей прозрачную процедуру принятия решений. Эта последовательность этапов позволяет определить общий дом•, правовое государство, в рамках которого осуществляется прием пропозиций, в результате чего науки наконец становятся совместимы с демократией.
Глава 5: Коллектив, динамика которого определена подобным образом, больше не сталкивается со следующей альтернативой: одна природа и множество культур. Он должен заново поставить вопрос о числе коллективов, исследуя общие миры. Но он может начать это исследование только в том случае, если откажется от понятия прогресса. На самом деле существует не одна, а две стрелы времени: первая – модернистская•, направленная на всевозрастающее разъединение объективности и субъективности, а вторая – немодерная, направленная на создание все более запутанных соединений. Только последняя позволяет определить коллектив при помощи его кривой обучаемости. При условии, что в дополнение к двум уже имеющимся властям будет добавлена власть наблюдения•, связанная с вопросом о государстве. Государство политической экологии только предстоит изобрести, потому что оно основано не на трансценденции, а на качестве наблюдения за коллективным опытом. Именно от этого качества – искусства управления, не предполагающего господства, зависит цивилизация•, которая может положить конец состоянию войны. Но чтобы мир стал возможен, нужно использовать преимущества упражнений в дипломатии. Дипломатия возобновляет контакт с Другими, не используя больше разделения на мононатурализм• и мультикультурализм•. От успеха дипломатии зависят война и мир наук.
Заключение:
а) Поскольку политика всегда осуществлялась под покровительством природы, мы так и не вышли из естественного состояния и Левиафана только предстоит создать.
б) Политическая экология сперва полагала, что произвела существенное обновление, приобщив природу к политике, хотя это только усугубило паралич политики, вызванный устаревшей концепцией природы.
в) Чтобы снова сделать политическую экологию осмысленной, необходимо отказаться от Науки ради наук, понимаемых как социализация нелюдéй, и отказаться от политики Пещеры ради политики, способствующей построению пригодного для жизни общего мира•.
г) Учреждения, позволяющие создать подобную политическую экологию, уже существуют и намечены пунктиром в окружающей нас реальности, даже если нам придется заново определять положения левых и правых политических сил.
д) На пресловутый вопрос «Что делать?» есть только один ответ: «Заниматься политической экологией!», при условии, что мы придадим этому выражению новый смысл, снабдив его экспериментальной метафизикой•, достойной его притязаний.
Примечания
Примечание к введению
1 Совершенно удивительная вещь, с учетом того, что большая часть процессов, запущенных благодаря экологическому движению, чтобы попасть в поле нашего зрения, нуждаются в науке, причем исключения по-прежнему встречаются крайне редко. Взять, к примеру, «парниковый эффект» или постепенное исчезновение китообразных: в обоих случаях все начинается с научных дисциплин, хотя в других социальных движениях это совершенно не так. У Сержа Московичи в «Эссе о человеческой истории природы» (Moscovici Serge. Essai sur l’histoire humaine de la nature. 1977 [1968]) мы найдем исключение, тем более ценное, что его книге более тридцати лет. Однако именно в ключевой работе Мишеля Серра «Природный договор» (Serres Michel. Le Contrat naturel. 1990) теснее всего связаны вопросы о статусе наук и экологии, которые рассматриваются одновременно в контексте сравнительной антропологии, права и наук. Настоящая работа развивает некоторые положения Серра о контрактуалистской функции наук. Мы найдем в работе Ульриха Бека, Энтони Гидденса и Скотта Лэша «Рефлексивная модернизация» (Beck Ulrich, Giddens Anthony, and Lash Scott. Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics in the Modern Social Order. 1994), у Бека и Лэша в книге «Переизобретение политики. Переосмысляя модерн и глобальный порядок» (Beck Ulrich, Lash Scott. The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the Global Social Order. 1997) массу аллюзий на социологию наук, а также в важной для меня книге Пьера Ласкума «Эко-власть. Окружающая среда и политика» (Lascoumes Pierre. Eco-pouvoir: Environnements et politiques. 1994). В остальном, за исключением работ о роли общества (Irwin Alan, and Wynne Brian. Misunderstanding Science? The Public Re-construction of Science and Technology. 1996; Lash Scott, Szerszynski Bronislaw, and Wynne Brian. Risk, Environment, and Modernity: Towards a New Ecology. 1996), точки пересечения между экологией и социологией наук встречаются, как это ни странно, лишь спорадически. Вместе с тем необходимо обратить внимание на следующие работы: Yearley Steven. The Green Case: A Sociology of Environmental Issues, Arguments, and Politics. 1991; Eder Klaus. The Social Construction of Nature. 1996; Robertson George. Future Natural: Nature/Science/Culture. 1996.
2 В приложении к первой главе можно найти картографию возможных точек зрения, которые указывают на неустойчивость понятия природы.
3 В «Геополитике» философии природы Франция обладает некоторым сравнительным преимуществом, потому что в ней не прижилось понятие нечеловеческой природы, которую необходимо защищать. От Дидро до «Природы» Франсуа Дагоне (Dagognet François. Nature. 1990) через Бергсона, Леруа Гурана и Андрэ-Жоржа Ходрикура (Haudricourt André-George. La technologie science humaine: Recherches d’histoire et d’ethnologie des techniques. 1987) мы обнаружим во Франции богатую «конструктивистскую» традицию, воспевающую искусственность природы, которой она обязана изобретательности инженера. Например, у Московичи мы найдем удивительную версию конструктивизма французского разлива: «Мир, который отказывается от интеллекта, становится подобием потухшей звезды, отрицает смысл собственного существования, если в его создании не воплощается труд священника или крестьянина, ремесленника или часовых дел мастера, к этому сравнению я добавил бы разного рода ученых. Вдохновение, которое пронизывает эти видения, относится к взволнованному, жестокому и спонтанному признанию природным субъектом самого себя» (Moscovici. Op. cit. P. 170).
Именно эта традиция, как мне кажется, объясняет тот факт, что философия экологии, в ее поверхностном или глубинном вариантах, была столь поспешно раскритикована (см., например: Roger Alain, Guéry François. Maîtres et protecteurs de la nature. 1991; Bourg Dominique. Les sentiments de la nature. 1993). К сожалению, эта критика американской версии природы через открытие работы людей позволила французам остановиться на достигнутом. Раскритиковав глубинную экологию, и в особенности ее чрезмерное уважение мистической природы с ее wilderness, они решили, что больше здесь рассуждать не о чем и что восхваления ее рукотворного характера и изобретательства а-ля Сен-Симон достаточно для того, чтобы переосмыслить эпоху. Достаточно полный обзор философии природы, демонстрирующий хорошее знание иностранной литературы, можно найти у Катрин и Рафаэля Ларэр (Larrère Catherine. Les philosophies de l’environement. 1997; Larrère Catherine, Larrère Raphaël. Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environement. 1997).
4 Зная из опыта, что не стоит чересчур обязывать читателей, я написал эту книгу таким образом, что она не предполагает никаких предварительных знаний о моих предыдущих работах. Те, кто имеют о них некоторое представление, заметят, что я по-новому осмыслил исследование Конституции модерна, помещенное в последней главе моей книги «Мы никогда не были модерными. Эссе по симметричной антропологии» (Latour Bruno. Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique. [1991]. Рус. пер.: Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Пер. Д. Я. Калугина, под ред. О. В. Харохордина. Спб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006). Тот факт, что мне потребовалось десять лет на описание ее внутреннего устройства, говорит не только о том, что я тугодум. Я полагал, что о науках до сих пор размышляли неподобающим образом, но нам было что сказать о политике. Я совершенно не представлял, что она отличается от того, что пишут политологи, точно так же как наука – от того, что пишут эпистемологи. Я сильно заблуждался. Я объяснился по этому поводу в другой работе, которая служит введением к настоящей книге и в которой я попытался описать философию, стоящую за социологией наук, которой мы, вместе с многочисленными коллегами, занимаемся долгие годы и которую так сложно адаптировать к новой среде, в особенности во Франции. (Latour Bruno. Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies. [1999b]). Настоящая книга также продолжает исследования о «фетишах» (faitiches), в которой я попробовал отказаться от понятия веры и иррационального с тем, чтобы ввести в эту экспериментальную антропологию•, отчет о которой в некотором смысле здесь представлен (Latour Bruno. Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches. [1996a]). Наконец, требуется совершенно иная теория социального, чем та, что предлагают науки об обществе• (как мы убедимся, она идет в пандан политике природы, раскритикованной в дальнейшем), иллюстрацию которой в собственном смысле слова мы представим в недавно вышедшей книге, написанной совместно с Эмилией Эрман, – «Париж, невидимый город» (Latour Bruno, Hermant Émilie. Paris, ville invisible [1998]).
Примечания к первой главе
5 На французском языке можно найти следующие вводные работы: Callon Michel. La science des réseaux. Genèse et circulation des faits scientifiques. 1989; Vinck Dominique. La sociologie des sciences. 1995; Latour Bruno. La science en action – Introduction à la sociologie des sciences. 1995a. По причинам, которые прояснятся только к концу этой книги, французы испытывают особые сложности с социологией наук, которую они отождествляют с социологизмом, угрожающим универсальной Республике. Для них «вне Науки нет Франции». Понятно, что для наших задач сложно адаптировать дисциплину, претендующую на эмпирическое исследование практик различных «наук». К счастью, социальную историю начинают постепенно усваивать даже во Франции благодаря трудам Доминика Пестра (см. например: Licoppe Christian. La formation de la pratique scientifique: Le discours de l’expérience en France et en Angleterre (1630–1820). [1996]). Я в особенном долгу перед ставшим классическим исследованием Стивена Шейпина и Саймона Шеффера «Левиафан и воздушный насос. Гоббс и Бойл между наукой и политикой» (Shapin Steven, and Schaffer Simon. Léviathan et la pompe à air, Hobbes et Boyle entre science et politique. [1993]), а также перед работами Шеффера и его группы в Кембридже.
6 В отличие от Карла Поппера, который в «Открытом обществе и его врагах» (Popper Karl. La société ouverte et ses ennemis. 1979; Рус. пер.: Поппер К. Открытое общетсво и его враги / Ред. В. Н. Садовский. М: Культурная инициатива, 1992) критикует «тоталитаризм» Платона ради спасения Сократа, я в данном случае обращаюсь не к кому-то из них, а к навязчивому повторению давно ставшего банальным мифа, который все еще претендует на то, чтобы спасти Республику с помощью Науки. См. мою статью с подробным анализом «Горгия» (Latour Bruno. «Socrates’ and Callicles’ Settlement or the Invention of the Impossible Body Politic». [1997]), которая во многом опирается на выдающуюся работу Барбары Кассан (Cassin Barbara. L’effet sophistique. [1995]).
7 Целый набор подобных нелепостей можно найти в знаменитом «деле Сокала». Отчет об этой буре в стакане воды можно найти в: Jurdant Baudoin. Impostures intellectuelles: Les malentendus de l’affaire. 1998. Jeanneret Yves. L' Affaire Sokal ou la querelle des impostures. 1998.
8 Я уже давал торжественное обещание никогда не огорчать наших эпистемологов. Но так называемое дело Сокала заставило меня испытать против этой разновидности рационального фундаментализма, напоминающего религиозный интегризм, настоящий приступ священной ярости, предаваться которой я себе иногда позволяю. Поэтому отныне я разделяю политическую эпистемологию•, которая занимается организацией одновременно общественной жизни и наук, и эпистемологию strictu sensu (в строгом смысле (лат.). – Примеч. пер.), которая применяет философский подход к проблемам познания, не затрагивая непосредственно политические вопросы. Примером первого подхода для меня будет служить Стивен Шейпин, а второго – Дюгем. Я крайне уважительно отношусь к своим коллегам-эпистемологам, которые пытаются разгадать секреты научных практик отличными от меня способами. Я также уважаю тех политических эпистемологов, которые согласны рассматривать как одну и ту же философскую проблему теорию политических наук. Напротив, я не испытываю ни малейшего уважения к тем, кто считает, что «проблема познания» должна быть отделена от вопроса о политическом с тем, чтобы оградить ее от безумия социального мира. Именно для того, чтобы их отличать, я поставил скобки в выражении «(политическая) эпистемология». Или же мы говорим об организации общественной жизни, которую не стоит путать с вопросом о природе научной деятельности; или же мы говорим о научном производстве и нет никакого смысла смешивать его с идеей обуздания политики. Политическая эпистемология против политической эпистемологии – да; эпистемология против эпистемологии – еще лучше; эпистемология против политики – ни в коем случае.
9 Понятие Конституции•, ключевое для этого аргумента, подробно изложено в моей работе 1991 года (Latour. Op. cit. 1991): речь идет о том, чтобы заменить противопоставление знания и власти, общества и природы некоторой предварительной операцией, распределяющей права людей и нелюдéй. Именно эта операция делает возможной симметричную антропологию, а модерн – совместимым с другими формами организации общественной жизни.
10 Я никогда не понимал, каким образом читатели работ по science studies смогли проглядеть свойственное им с самого начала сомнение в самом понятии социального, в социальных причинах, в социальной истории. Смотри на эту тему давно опубликованные статьи: Callon Michel, and Latour Bruno. «Unscrewing the Big Leviathans: How Do Actors Macrostructure Reality?». 1981; Callon Michel. «Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc». Я участвовал в двух весьма показательных дискуссиях на эту тему со сторонниками «социального конструктивизма» Гарри Коллинзом и Стивеном Йирли (Collins Harry, and Yearley Steven. «Epistemological Chicken». [1992]), вместе с моим ответом (Callon Michel, and Latour Bruno. «Don’t Throw the Baby Out with the Bath School! A Reply to Collins and Yearley». [1992]), а также с Дэвидом Блуром (Bloor David. «Anti-Latour». [1999]), мой ответ см.: Latour Bruno «For Bloor and Beyond: A Response to David Bloor’s ‘Anti-Latour’». [1999a]. Science studies часто обвиняют в политизации науки, тогда как все ровным счетом наоборот: они деполитизировали науки, покончив с киднеппингом эпистемологии, который практиковала эпистемологическая полиция.
11 Слово «политизировать» понимается в двух разных значениях. Первый подразумевает, что властные игры происходят исключительно в аду Пещеры, тогда как мир Науки рассматривается как аполитичный. Пресловутая «нейтральность» Науки восходит к этому изначальному распределению полномочий между политикой, с одной стороны, и наукой – с другой. «Политизация», если мы на секунду примем подобное распределение обязанностей, будет всегда возвращаться к объяснению чистой и непорочной Науки при помощи «борьбы за власть», в рамках которой продолжают свой безнадежный спор прикованные рабы. Для борьбы с этой профанацией посредством научной нейтральности достаточно будет напомнить об изначальной непорочности, о принципиальном отличии между проблемами людей и равнодушной реальностью вещей. Но «политизация» отсылает нас к изобретению этого принципиального отличия, к распределению ролей между этим аполитичным заповедником, с одной стороны, и превращением политической жизни в шагреневую кожу страстей и интересов – с другой. Чтобы деполитизировать науки (в первом значении слова), нам придется заново политизировать Науку.
12 Вызывает удивление, что Майкл Циммерман (Zimmerman Michael. Contesting Earth’s Future: Radical Ecology and Postmodernity. [1994]) после выдающейся книги о понятии техники у Хайдеггера сближается с философией экологии, никак не затронув традиционный политический статус природы.
13 Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать одного из наиболее влиятельных мыслителей, апеллирующих к экологии, а именно Ганса Йонаса. Мы видим, что он в итоге принимает на себя некоторые обязательства, которые никогда не осмелились бы взять, несмотря на все свои усилия, натуралисты прошлого, поскольку природа присовокупляет к действию причин свою моральную взыскательность: «Наше последнее доказательство того, что природа культивирует ценности, поскольку она культивирует цели и о ней можно говорить что угодно, кроме того, что она свободна от ценностей, еще не дает ответа на вопрос о том, остается ли согласие с ее “решением о ценностях” на наше усмотрение или является нашим долгом: если, прибегая к парадоксальному выражению, ценности, безусловно предписанные ей, и для нее самой также остаются в силе (или даже сам по себе факт, что у нее есть ценности), то в этом случае это согласие является нашим долгом» (Jonas Hans. Le principe responsabilité. [1990]. P. 155. Рус. пер.: Йонас Г. Принцип ответственности / Пер. И. И. Маханькова. М.: Айрис-Пресс, 2004). Таким образом, теперь у нас есть две причины подчиняться природе вместо одной: «В нашем контрпредложении “власть” означает позволить осуществиться причинным действиям, которые затем сталкиваются с “должно”, относящимся к нашей ответственности» (с. 247).
14 Что не стоит путать с критикой «дикой природы», wilderness, к которой мы перейдем в следующем разделе.
15 Повторю еще раз: я прекрасно знаю, что существует множество нюансов идей, которые я совершенно неправомерно объединяю при помощи выражения «философия экологии»•. Но для меня неотложной необходимостью является не правомерность и не эрудиция, а создание пространства, совершенно свободного от засилья природы. Эта точка зрения, не претендующая на объективность, и даже откровенно предвзятая, быстро приводит к сглаживанию нюансов. Однако, в чем несложно убедиться, с самых первых строк этих замечательных авторов, которых я столь поспешно смешал друг с другом, природа становится источником научных и моральных обязательств. Йонас – далеко не единственный пример. Еще более поразительным является пример Уильяма Кронона, автора одной из лучших книг по истории окружающей среды «Метрополия природы. Чикаго и Великий Запад» (Cronon William. Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West. [1991]), который заканчивает введение в другую книгу, в которой собраны работы наиболее изощренных американских постмодернистов (Cronon William (ed.). Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature. (1996)), следующей фразой, оставляя древнюю природу в неприкосновенности: «Тем не менее скалы остаются, точно так же, как и деревья, птицы, ветер и небо. Прежде всего они остаются самими собой, несмотря на различные смыслы, которые мы в них находим. Мы можем изменить их и навязать им наши замыслы. Мы можем заставить их подчиниться нашей воле. Но в конечном счете они остаются загадочными артефактами мира, которые не мы сотворили, и смысл, который они имеют для самих себя, никогда по-настоящему нам не откроется. Эти молчаливые скалы, эта природа, о которой мы столько спорим, имеют отношение к тому, что между нами общего. Именно поэтому мы так о них беспокоимся. Как ни парадоксально, это необщая почва, не разделять которую мы не можем (It is paradoxically, the uncommon ground we cannot help but share) (перевод и курсив мой. – Б. Л.), p. 55–56. После этого на шестистах страницах развивается критическая деконструкция, но только для того, чтобы закрепить за природой ту роль, которую она всегда играла в модернизме, – роль общего мира, безразличного к нашим спорам.
16 В настоящий момент, нам не требуется четкое определение модернизма. Достаточно знать, что отношение между Наукой и обществом дает нам, как мне кажется, самый надежный критерий для различения «модернистов», «премодернистов», «антимодернистов» и «постмодернистов». На эту тему см.: Latour. Op. cit. 1991. Если подобное употребление прилагательных удивляет, то стоит немедленно перечитать пятую главу этой книги «Две стрелы времени».
17 Я прекрасно понимаю, что есть масса доводов, позволяющих объяснить, почему в пылу новых дискуссий теоретики экологии не бросили все свои силы на обсуждение политического характера природы. Как Сартр до них, они не хотели «приводить в уныние [товарищей из] Бийанкура», высказывая сомнения в науке, которая, по их мнению, совершенно необходима чтобы вызвать отклик общественности. Такого рода «стратегический натурализм» позволяет им использовать против своих врагов пресловутые законы природы, носящие необратимый характер. Это была справедливая война, и, пожалуй, их не стоит критиковать за столь удачное использование понятия природы, но она по-прежнему остается никудышной политической философией. В долгосрочной перспективе новое вино нельзя залить в ветхие мехи. См. например, карикатурное использование сциентизма в книге Пола и Анны Эрлих «Предательство Науки и Разума. Как анти-энвайронменталистская риторика угрожает нашему будущему» (Ehrlich, Paul R., Anne H. Ehrlich. Betrayal of Science and Reason: How Anti-Environmental Rhetoric Threatens Our Future. [1997]), которые всего-навсего хотят, чтобы «хорошая» и непререкаемая наука победила «плохую» науку реакционных идеологов. Философия экологии, которая не сможет вместить в себя разногласия между учеными, не будет отвечать своему интеллектуальному предназначению.
18 Существует немало работ о невозможности сохранения эпитетом «природный» постоянства. К моим любимым относятся две: работа Элстона Чейза «Играя в бога в Йелоустоне. Разрушение первого Национального парка Америки». (Chase Alston. Playing God in Yellowstone: The Destruction of America’s First National Park. [1987]) и поразительная книга Кронона о Чикаго (Cronon. Op. cit. 1991). О зоопарках см.: Baratay Eric et Hardouin-Fugier Elisabeth. Histoire des jardins zoologiques en Occident. XVI–XIX siècles. (1998). Что касается парков, то тут пример моего друга Дэвида Вестерна особенно показателен (Western David. In the Dust of Kilimanjaro. [1997]), в качестве введения можно прочесть статью Шари Куссена (Coussins Charis. «Des éléphants dans le magasin de la science». [1997]). О ситуации во Франции см. Кадоре (Cadoret Anne, sous la dir. Protection de la nature. Histoire et idéologie. [1986]) и особенно захватывающую диссертацию Дени Тромма (Tromm Danny. La production politique du paysage: Eléments pour une interprétation des pratiques ordinaires de patrimonialisation de la nature en Allemagne et en France. [1996]). Связь между патримониализацией природы и культуры становится очевидной при чтении книги Доминика Пуло (Poulot Dominique. Musée, nation, patrimoine, 1789–1815. [1997]). См. также впечатляющую работу по истории природы, проделанную Лоррэном Дастоном (Daston Lorraine. The Nature of Nature in Early Modern Europe. [1998]; Daston Lorraine et Park Katharine. Wonders and the Order of Nature. [1999]).
19 Я воспроизвожу здесь статью Latour Bruno. «Moderniser ou écologiser: à la recherche de la septième Сité». (1995b). В этих исследованиях я многим обязан двум работам, которые заменяют ложную дискуссию о природе ключевыми понятиями близости и соединения: Lafaye Claudette et Thévenot Laurent. «Une justification écologique? Conflits dans l’aménagement de la nature». (1993); Thévenot Laurent. «Stratégies, Intérêts et justifications. A propos d'une comparaison France – Etats-Unis de conflits d'aménagement». (1996).
20 В этом заключается проблема так называемого Седьмого града, с отсылкой к работе, инициированной Люком Болтански в Лораном Тевено (Boltanski Luc et Thévenot Laurent. De la justification: les économies de la grandeur. [1991]. Рус. пер.: Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов / Пер. О. В. Ковеневой, под ред. Н. Е. Колосова. М.: НЛО, 2013). Если существует седьмой град помимо шести, упомянутых авторами, то возникает вопрос о границах общей человечности: Barbier Rémi. Une cite d'écologie. 1992; Godard Olivier. «Environnement, modes de coordination. et systèmes de légitimité: analyse de la catégorie de patrimoine naturel». 1990.
21 Именно так я понимаю выражение «общество риска», популяризованное Беком (Beck Ulrich. Risk Society: Towards a New Modernity. [1992]. Рус. пер.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. В. Д. Седельника, Н. Н. Федоровой. М.: Прогресс Традиция, 2000): «искусственное производство определенностей» или лысых объектов всегда заканчивается тем, что он называет «искусственным производством неопределенностей». Бек не хочет этим сказать, что сегодня мы сильнее подвергаемся риску, чем вчера, а что последствия привязаны к объектам способом, который модерн исключает. Рискованное соединение – это лысый объект, к которому добавляются связанные с ним риски, его производители и целая вереница связанных с ним дел и судебных процессов (Beck Ulrich. Ecological Politics in an Age of Risk. [1995]). Одним словом, объект интересный, entangled, весьма близкий к описаниям антропологов: Strathern Marylin. After Nature: English Kinship in the Late Twentieth Century. 1992; Thomas Nicholas. Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. 1991.
22 См. тщательный отчет, позволяющий куда точнее, чем это делаю здесь я, проводить различие между случаем асбеста и прионов, ответственных за коровье бешенство (см. ниже): «На самом деле, это досье асбеста появилось очень рано в виде предупреждения (в первом десятилетии XX века), чтобы вызвать скандал и протесты в семидесятые горы, на пике производства различных видов асбеста, который затем переходит в стадию принятия административных мер, что создает впечатление созданной государством и продержавшейся 14 лет завесы молчания, приведшей в итоге к судебному процессу и обвинению» («отравленный воздух»). (Chateauraynaud Francis, Hélou Christophe, Lemieux Cyril, et al. Alertes et prophéties: Les risques collectifs entre vigilance, controverse et critique. 1999). См. также специальный номер журнала Politix, № 44, посвященный «политике риска» (1998).
23 Чтобы совместить это с терминологией, введенной в Latour. Op. cit. 1991, их также можно назвать квазиобъектами. Выражение «рискованные соединения» просто расширяет понятие принципа предосторожности: присовокупить ко всем объектам их ожидаемые и неожиданные последствия по принципу «предосторожность была настолько необходима, что безвредность (а не риск) не была доказана» (Laudon Anne et Noiville Christine. Le principe de précaution, le droit de l' environnement et l'Organisation mondiale de commerce. [1998]).
24 Мне кажется, что, по крайней мере для французов, случай с зараженной кровью послужил переходной ступенью между объектами модерна и рискованными объектами экологии. Считалось, что трагедию с зараженной кровью все еще можно рассматривать в рамках старой концепции управляемого действия. В случае с делом коровьего бешенства это уже не так, еще в меньшей степени – в случае «тотальной войны» генетически модифицированных организмов. См. весьма примечательную и важную для меня книгу Мари-Анжель Эрмит «Кровь и право. Эссе о переливании крови» (Hermitte Marie-Angèle. Le sang et le droit: Essai sur la transfusion sanguine. [1996]) для понимания той роли, которую играет ожидание абсолютной определенности, создаваемое наукой, и объясняющей медлительность административной реакции.
25 Я дам определение этому термину только во второй главе, в настоящий момент он сохраняет свой неопределенный смысл в виде как человеческого, так и нечеловеческого актора.
26 Поэтому для меня так важна диссертация Флориана Шарволяна (Charvolin Florian. L’invention de l’environnement en France (1960–1971): Les pratiques documentaires d’agrégation à l’origine du Ministère de la protec- tion de la nature et de l’environnement. [1993]), который показал, тщательно исследовав архивы, насколько колоссальную работу по агрегированию требовалось проделать, чтобы могло внезапно появиться, сколь бы плохо оно ни было организовано, первое Министерство окружающей среды, вызвавшее столько споров. О других проблемах этого министерства см.: Lascoumes. Op. cit.; Lascoumes Pierre et Le Bourhis Jean-Pierre. L'environnement ou l'administration des possibles. 1997.
27 Именно по этой причине теоретики экологии испытывают такую страсть к наукам, трактующим феномены, далекие от равновесия, хотя они не в состоянии предложить нечто большее, чем метафоры куда более глубинного нарушения равновесия, чем предлагала политическая экология. Конечно, природа «далека от состояния равновесия», но в совершенно ином смысле, чем утверждают теории хаоса и прочие заимствования из физики. Идея природы и идея равновесия являются противоречивыми: Botkin Daniel B. Discordant Harmonies: A New Ecology for the Twenty-First Century. 1990; Deléage J.-P. Histoire de l’écologie, une science de l’homme et de la nature. 1991.
28 Связь между глубинной экологией и демократией остается неясной, что хорошо понял Люк Ферри (Ferry Luc. Le Nouvel Ordre écologique (l'arbre, l'animal et l'homme). [1992]). Пример Йонаса в этом смысле особенно показателен: «Речь вполне может идти о преимуществах самого тиранического правительства, которое в нашем случае просто должно проявлять благосклонность, быть хорошо информированным и побуждать к правильному пониманию вещей… Если мы думаем, что только элита с этической и интеллектуальной точки зрения может взять на себя ответственность за будущее» (Jonas. Op. cit. P. 290). Будет наверняка непросто вырваться из пут научной власти, особенно если ученый магистрат можно совместить со справедливой моралью.
29 Арне Несс в работе «Экология, сообщество и образ жизни: эскиз экософии» (Naess Arne. Ecology, Community, and Lifestyle: Outline of an Ecophilosophy. 1988), даже если он несколько более глубок, чем одноименная экология, все так же стремится к «самореализации», которая уводит обсуждение в сторону, по сути возвращаясь к устойчивому антропоцентризму. Он поднимает вопрос, который я не затрагивал, а именно занимается психологией гражданина, связанного посредством того, что он называет «реляционными полями» и благодаря «экософии» с совокупностью биосферы. В четвертой главе мы увидим, что этике можно отводить принципиально иную роль, чем предлагает Несс, и что за политическая работа необходима, чтобы можно было вести речь о «реляционном поле», ecosphere belongings (принадлежности к экосфере (англ.). – Примеч. пер.) и вообще о каком-либо объединении. Несс, с его приятной слуху тарабарщиной, весьма репрезентативен как представитель философии экологии, который хорошо понимает метафизическую ограниченность разделения между природой и человечеством, но вместо того чтобы исследовать его политическое происхождение, пытается «преодолеть ограниченность западной философии». Если с ней необходимо бороться, то меняя именно политику, а не психологию. См. биографию Несса в книге Давида Ротенберга: Rothenberg David, and Naess Arne. Is It Painful to Think? Conversations with Arne Naess. 1993.
30 Читая книгу Ферри (Ferry. Op. cit. 1992), французы, которые ждут разрешения философов, чтобы начать мыслить политически, сделали вывод, что нет никакого смысла интересоваться философией экологии и что старого доброго кантовского определения человеческого для этого вполне достаточно. «Что может ответить разумный эколог глубинному? – пишет, например, Ферри. – Не так уж мало, на самом деле. Начиная с того, что ненависть к рукотворным объектам, связанная с нашей культурой утраты корней, это ненависть к человеческому как таковому. Потому что человек, по сути своей, существо антиприродное… Именно в этом его специфическое отличие от других существ, в том числе от тех, которые представляются ему наиболее близкими, – от животных. Именно таким образом он избегает природных циклов, получает доступ к культуре, то есть к области морали, которая предполагает сущность-для-закона, а не только для природы» (p. 39). Но одно дело – не доверять глубинной экологии, и совсем другое – определять человеческое как оторванность от непосредственности как таковой. Ферри совершенно не подозревает, что он разделяет одну концепцию природы с теми, кого он оспаривает.
31 См. впечатляющий компендиум Жака Брюншвига и Джеффри Ллойда (Brunschwig Jacques et Lloyd Geoffrey. Le Savoir Grec. Dictionnaire critique. [1996]), особенно статьи Ллойда и Кассана.
32 Достаточно прочесть книги Франсуа Жюльена Склонность вещей и Трактат об эффективности (Jullien François. La Propension des choses. [1992]; Jullien François. Traité de l’efficacité. [1997]. Рус. пер.: Жюльен Ф. Трактат об эффективности / Пер. Б. С. Крушняка, под ред. Н. Н. Трубниковой. М.: Университетская книга, 1999), чтобы увидеть альтернативные варианты, которые давно предлагались политической эпистемологии. Нет ничего неизбежного в обращении политики к науке, в чем можно убедиться, прочитав статью Ллойда (Lloyd G. E. R. «Cognition et culture: science grecque et science chinoise». [1996]). Схожее отличие в политической эпистемологии можно обнаружить в увлекательной и пока не завершенной диссертации Софи Удар (Нантер) о японской лаборатории по изучению поведения.
33 Как мы убедимся в дальнейшем, не произойдет никаких принципиальных изменений, если мы прибегнем к единству общества «как такового» и отношений власти. Мы по-прежнему останемся в тупике. Поэтому социологическая критика глубинной экологии никогда не заходит слишком далеко, так как она находит в обществе и его властных отношениях все необходимое для оспаривания радикальных представлений о природе своих оппонентов. Радикальный пример можно найти в книге Мюррея Букчина «Философия социальной экологии. Эссе о диалектическом материализме» (Bookchin Murray. The Philosophy of Social Ecology: Essays on Dialectical Naturalism. [1996]): желая реабилитировать политику, не меняя ее определения, он под видом social ecology (социальной экологии (англ.). – Примеч. пер.) продлил жизнь не природе, а классовой борьбе!
34 Насколько мне известно, впервые это выражение было использовано Эдуарду Вивейрушем де Кастру в статье «Космологические местоимения и америндийский перспективизм» (Viveiros de Castro Eduardo. «Les pronoms cosmologiques et le perspectivisme amérindien». [1998]. P. 446) для обозначения амазонского представления о теле. Отметим, что один французский журнал в этой области употребляет все три термина во множественном числе: Природы, Науки, Общества…
35 Если бы этого было достаточно для критики понятия природы, то политическая экология получила бы философию, достойную ее притязаний. К сожалению, это не так. Статья с пронзительным заголовком «Природа мертва, да здравствует природа!» имела целью показать, что на смену механицистскому представлению о природе должно прийти другое, «более органическое»: «Новая концепция природы является более органической и включает в себя, по выражению Альдо Леопольда, человека как “полноправного члена биотического сообщества”» (Écologie politique. № 7. P. 73–90). От Джона Бэйрда Калликота можно было бы ожидать сомнений в политической пользе от употребления понятия природы. Но нет, он мимоходом, и даже не упомянув об этом, вынес за скобки объединительную работу. Таким образом, от дуализма прошлого мы перешли к всеобъемлющему объединению, не замечая, что природа играет одну и ту же роль в обоих случаях.
36 Мы неспроста используем понятие секуляризации. Если натурализация играла столь важную роль в борьбе против религии, то именно потому, что она всегда использовала природный объект, объект причинной связи, лысый объект, бритый объект, объект вне зоны риска как таран, необходимый для того, чтобы выбить дверь, скрывающую власть и обскурантизм. Природа по-прежнему пропитана религией, над которой она одержала верх.
37 В дальнейшем, особенно в пятой главе, мы увидим, что этот коллектив не может говорить о себе в единственном числе без работы над новым политическим соглашением, в отличие от природы, единство которой кажется вполне гарантированным без видимых усилий.
38 Усилия по сближению этих двух позиций, сколь крайних, столь и неестественных, делает столь интересной и драматичной книгу Кейт Сопер «Что такое природа? Культура, природа и нечеловеческое» (Soper Kate. What Is Nature? Culture, Politics, and the Non-Human. [1995]), одну из лучших, что были до сих пор написаны, чтобы создать напряжение между социальной конструкцией природы, феминистками и политическими темами экологии, которые нуждаются в изрядной доле реализма, дабы поддерживать его в критическом виде.
39 Диалектическая интерпретация ничего принципиально не меняет, так как она поддерживает оба полюса и довольствуется приданием им динамики противоречия. См. схему в конце главы.
40 В книге, в которой видна прекрасная осведомленность авторов об английских экологических движениях (Macnaghten Phil et Urry John. Contested Natures. [1998]), им, однако, не удается разорвать связь этих движений с природой иначе, как продемонстрировав, что она «социально сконструирована» в форме пейзажа или дикой природы (wilderness). Критика осуществляется за счет отказа признать, что у кого-то из акторов, вовлеченных в окружающую среду, имеется связь с реальностью (которая тем самым, хотя авторы в этом и не признаются, закрепляется за учеными, способными вести серьезный разговор о природе).
41 Я использую в настоящий момент эту метафору секуляризации, но в заключении мы увидим, что она, разумеется, не является адекватной, поскольку мы не можем свести науки к вопросу совести, что, как считалось, возможно в случае религии.
42 Это основная тема книги Московичи (Moscovici. Op. cit. 1997), которую можно рассматривать как предостережение.
43 Я привел многочисленные примеры подобной реалистической версии наук в моей книге 1999 года (Latour. Op. cit.). Разновидность реализма в рамках science studies, которую можно найти у Джеймса (см. прекрасное и совершенно новое прочтение Уильяма Джеймса у Давида Лапужада: Lapoujade David. William James. Empirisme et pragmatisme. [1997]), позволяет рассматривать реальность и множественности как синонимы и свести единство к совершенно другой работе, политической в собственном смысле слова, что становится еще более очевидным у Дьюи: Dewey John. The Public and Its Problems. [1927] [1954].
44 Не стоит поспешно заявлять, что социальному будет не хватать трансценденции, как голубю, помещенному в вакуумный насос, – кислорода. В дальнейшем мы откроем особую разновидность трансценденции, свойственную демосу, но не раньше пятой главы. В ожидании этого открытия достаточно будет напомнить, что имманентность коллектива – всего лишь одно из воплощений мифа о Пещере.
45 Если бы социология была способна вывести свое понятие социального из тардовской «Монадологии и социологии» (Tarde Gabriel. Monadologie et sociologie. 1999 [1895]. Рус. пер.: Тард Г. Монадология и социология / Пер. А. В. Шестакова. Пермь: Гиле Пресс, 2016) в той же степени, что из Дюркгейма, то представление о социальном как об ассоциации никогда не предавалось бы забвению и она могла бы не моргнув глазом пересечь искусственную границу между природой и обществом. В любом случае это придало бы мне больше смелости, чем в тот период, когда я в «Войне и мире микробов» (Latour Bruno. Pasteur: Guerre et paix des microbes, suivi de Irréductions. [1984]) определял социологию как науку об ассоциациях.
46 В заключении указываются функции социальных наук, не связанные с критическими разоблачениями.
47 В номере журнала «Терра Нова» (Terra Nova. Vol. 1, № 1) рассказ об одной из фальшивок, с помощью которых был полностью придуман антропологический документ об индейском вожде Сиэтла и уважении к Матери-Земле («Will the real Chief Seattle please Speak Up?». 1998. P. 68–82). Этот must (обязательный [к приобретению] (англ.). – Примеч. пер.) глубинной экологии был всего лишь выдумкой хищного янки!
48 В недавнем учреждении в Коллеж де Франс кафедры по антропологии природы я вижу поворотный момент, так как эта дисциплина до сих пор занималась вопросами культуры.
49 Descola Philippe et Palsson Gíslí. Nature and Society: Anthropological Perspectives. 1996: «Консервационистские движения совершенно не задаются вопросом об основаниях западной космологии, а, напротив, склонны сохранять типичный для идеологии модерна дуализм» (с. 97). Если есть что-то более удивительное, чем практически полное отсутствие в работах по философии экологии ссылок на социологию или на социальную историю наук, то это еще более вопиющее отсутствие в них сравнительной антропологии.
50 В этом для меня заключается важность работы Филиппа Дескола «Домашняя природа. Символизм и праксис в экологии Ашуар» (Descola Philippe. La nature domestique. Symbolisme et praxis dans I'ecologie des Achuar. [1986]), и в особенности его уже упомянутой книги (Descola. Op. cit. 1996). Именно натурализмом должна в первую очередь заниматься «монистская» антропология: «Вывод кажется вполне очевидным: уберите идею природы, и вся философская система Запада тут же развалится. Но этот интеллектуальный катаклизм совершенно не обязательно оставит нас лицом к лицу с великой пустотой Бытия, которую не уставал разоблачать Хайдеггер: она лишь изменит нашу космологию, сделав ее менее экзотической с точки зрения многочисленных культур, пытающихся усвоить ценности, которые они считают ценностями модерна» (p. 98). Как мы увидим в пятой главе, совершенно не очевидно, что антропология, будь она сравнительной или монистской, окажется на высоте новых политических задач, требующих весьма неоднозначного собирания указанных культур.
51 Мы увидим в последнем разделе пятой главы, как заново разыграть нехитрые сценки «первых контактов».
52 О подобном изобретении «другого» при помощи двойной политики Науки см.: Latour. Op. cit. 1991. Разделение на «них» и «нас» следует из абсолютного различия, помещенного между фактами и ценностями, потому что «они» их не различают, смешивая свойственный их обществу социальный порядок с порядком природы, тогда как «мы» в состоянии это сделать. Первое разделение является обычным переносом второго. Поэтому несхожесть меняется вместе с концепцией «Науки».
53 Я политизирую уайтхедовскую критику разделения первичных и вторичных качеств, а также той странной роли, которая отводится человеческому духу: «Теория психических дополнений будет рассматривать зелень (побега растения) как психическое дополнение, произведенное воспринимающим духом, и оставит природе только молекулы и радиоактивную энергию, которые воздействуют на этот дух и порождают эту перцепцию» (Whitehead Alfred-North. Le Concept de la nature. 1998 [1920]. p. 54). У Несса (Naess. Op. cit. 1988.) можно найти аналогичную критику разделения на первичные и вторичные качества, отсылающую к Уайтхеду и Джеймсу.
54 Смотри огромную аналитическую работу о связи вопросов феминизма и science studies, проделанную Эвелин Фокс-Келлер (Fox-Keller Evelyn. Reflections on Gender. 1986), а также недавнюю работу Лонды Шибингер (Schiebinger Londa. Nature's Body: Gender in the Making of Modern Science. 1995).
55 Работы Донны Харауэй интересны, главным образом, потому, что ей удалось собрать воедино два варианта феминизма и политической экологии, но не в упрощенном виде, как у Кэролин Мерчант (Merchant Carolyn. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. [1980]; Merchant Carolyn. Radical Ecology: The Search for a Livable World. [1992]), а сосредоточившись в обоих случаях на вопросе науки и ее неопределенности. См.: Haraway Donna J. Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science. 1989; Haraway Donna J. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. 1991. Яркую иллюстрацию дискуссии, в которую вовлечены одновременно феминизм, science studies и социобиология, можно найти в книге Ширли Страм и Линды Федиган (Strum Shirley et Fedigan Linda. Primate Encounters. [2000]).
56 Я заново использую здесь прекрасное выражение Уайтхеда о бифуркации природы: «Против чего я всегда возражаю, так это против бифуркации природы и превращения ее в две системы реальности, которые хотя и являются реальными, реальны в двух различных смыслах. Одной их этих реальностей будут сущности вроде электронов, изучаемые теоретической физикой. Это будет доступная знанию реальность; хотя, согласно этой теории, она никогда не будет познана. Поскольку познана может быть только иная разновидность реальности, которая возникает при содействии духа. Поэтому у нас будет две природы, одна из которых будет всего лишь догадкой, а вторая – всего лишь сном (Whitehead. Op. cit. 1998 [1920]. p. 54.) Тем не менее Уайтхед тщательно сохраняет понятие природы, от которого я предпочитаю отказаться по причинам, связанным с политической философией, никогда его не интересовавшей.
57 Именно к этому патетическому выбору хочет подвести нас Ферри и те, кто вступает с ним в полемику. Противоположная точка зрения изложена в важном для меня исследовании Шари Кюссана о субъективностях в больницах (Cussins Charis. «Les cycles de la conception: les techniques de normalisation dans un centre de traitement de la stérilité». [1995]); а также в работе Эмили Гомар об исследовании этой темы при помощи наркотиков (Gomart Emilie. Surprised by Methadone. [1999]).
Примечания ко второй главе
58 В конце моего исследования о людях Модерна я назвал эту республику «Парламентом вещей». С тех пор благодаря Министерству окружающей среды у меня появилаcь возможность изучать «региональные водные парламенты» – региональные водные комиссии, которые, в соответствии с законом о водных ресурсах, должны представлять отдельные участки рек. См.: Latour. Op. cit. 1995, а также пока незавершенную диссертацию Жан-Пьера Ле Бури (Le Bourhis).
59 Как неоднократно отмечал Мишель Серр в «Статуях» (Michel Serres. Statues. [1987]), который сделал этот факт одним из главных доводов своей книги. См. также впечатляющее исследование Яна Томаса «Res, вещь и наследие» (Заметки об отношении «субъект – объект» в римском праве) (Thomas Yan. «Res, chose et patrimoine». [1980]) о юридическом происхождении res: «Как только она (la res) начинает выступать в этой функции, она перестает быть обычной сферой применения односторонней власти субъекта… Если res и является объектом, то до всякого спора или разногласия она является общим объектом, который противопоставляет и объединяет двух протагонистов в одном отношении» (p. 417). И далее: «Ее объективность обеспечена общим соглашением, которое берет начало в этом споре и в судебном разбирательстве» (p. 418).
60 Именно в знаменитом противопоставлении Бойла и Гоббса (Shapin. Op. cit. 1993) эта проблема двойной репрезентации обрела для меня законченную форму, однако сегодня она является общим местом значительной части исследований по политической эпистемологии.
61 Мишель Серр заранее прокомментировал Киотский конгресс, замечательно сказав о Галилее: «Наука получила все права, вот уже три века обращаясь к Земле, которая отвечала ей своим движением. Так пророк стал царем. Мы, в свою очередь, обращаемся к отсутствующей инстанции, когда, подобно Галилею, восклицаем перед трибуналом, состоящим из его последователей, ставших царями пророков: Земля вертится! Вертится древняя, неподвижная Земля, давшая нам жизненные основы и создавшая все условия, эта Земля потрясена до основания!» (Serres. Op. cit. 1990. P. 136).
62 Оглянувшись назад, новая история наук осознает, что это всегда было именно так, в том числе в случае Галилея (Biagioli Mario. Galileo Courtier: The Practice of Science in the Culture of Absolutism. [1993]), Бойля (Shapin et Schaffer. Op. cit. 1993), Ньютона (Schaffer Simon. «Forgers and Authors in the Baroque Economy». [1997]), Кельвина (Smith Crosbie et Wise Norton. Energy and Empire: A Biographical Study of Lord Kelvin. [1989]), которые на самом деле никогда не заседали по отдельности именно потому, что вводили разделения, генеалогию которых столь дотошно пытаются выстроить историки. Мы никогда не были модерными, даже в науке, особенно в Науке.
63 Это единственный случай, когда эпистемологическая полиция согласна с политической эпистемологией, но совсем по другой причине: в этом заключается суть того, что мы назвали Научными Войнами.
64 Серр пошел дальше всех в ревизии этого противопоставления за счет оригинального использования права: «Таким образом, наука, начиная с момента своего создания, играет роль естественного права. Это общепринятое выражение скрывает фундаментальное противоречие между произволом и необходимостью. Наука скрывает то же самое и в том же месте. Физика – это естественное право, она играет эту роль с самого начала» (Serres. Op. cit. 1990. P. 44). Но из презрения к политике, и особенно к социальным наукам, она оставляла в целости единство природы, которому придала новый смысл.
65 Этот аргумент можно найти уже у Йонаса (Jonas. Op. cit. 1990) и в знаменитой «войне всех против всего» у Серра (Serres. Op. cit. 1990. P. 33). См. также: Latour. Op. cit. 1991.
66 Именно этим вопросом уже задавался Стоун (Stone Christopher D. «Should Trees Have Standing?’ Revisited: How Far Will Law and Morals Reach? A Pluralist Perspective»).
67 В этом для меня состоит принципиальное новшество «Природного договора», выводы которого мы постараемся здесь развить: «На каком языке должны разговаривать вещи, чтобы мы могли уживаться друг с другом на основании договора? В конце концов, старый общественный договор был неписаным и невысказанным: никто и никогда не читал его оригинал или хотя бы копию. Разумеется, мы не понимаем язык мира или владеем всего лишь некоторыми анимистскими, религиозными и математическими наречиями. Когда была изобретена физика, философы утверждали, что природа пряталась в числовом коде или алгебраических формулах: слово «кодекс» пришло из права. На самом деле, Земля разговаривает с нами в понятиях сил, отношений и взаимодействий, и этого достаточно, чтобы составить договор» (Serres. Op. cit. P. 69).
68 Разделение на первичные и вторичные качества, разумеется, требовало, чтобы ученые споры оставались вне поля зрения. Что нужно сделать сегодня, чтобы стабилизировать этот процесс, если между учеными нет согласия относительно общих оснований, относительно обустройства мира.
69 Книга Ласкума (Lascoumes. Op. cit. 1994) интересна именно тем, что в ней затронуты проблемы, стоящие перед администрацией в условиях разногласий среди экспертов. См. прекрасный пример: Jasanoff Sheila. «Science, Politics, and the Renegotiation of Expertise at EPA». 1992.
70 Забывая об изучении бесчисленных форумов, предназначенных для исследовательских дискуссий, традиция, восходящая к Пещере, разделяла доказательство и риторику, эти две разновидности речи, которые Барбара Кассан называет apodeixis и epideixis (Cassin. Op. cit. 1995). Именно исследованиям о лабораториях, с одной стороны, и исследованиям научной риторики, с другой, мы обязаны недавним сокращением дистанции между этими двумя способами построения мира. См. несколько прекрасных примеров: Dear Peter. The Literary Structure of Scientific Arguments. 1991; Licoppe. Op. cit. 1996; Rosental Claude. L’émergence d’un théorème logique. Une approche sociologique des pratiques contemporaines de demonstration. 1996. Работа Француазы Бастид, к сожалению прерванная слишком рано, всегда казалась мне достаточно плодотворной.
71 То, что Мишель Каллон и Ари Рип (Callon Michel et Rip Arie. «Forums hybrides et négociations des normes socio-techniques dans le domaine de l’environnement». 1991) как раз и называют «гибридными формами». См. также: Lascoumes Pierre, Callon Michel et Barthe Yannick. Information, consultation, expérimentation: Les activités et les formes d’organisation au sein des forums hybrides. 1997.
72 В четвертой главе я покажу, какую пользу мы можем извлечь из огромной работы по исследованию трансцендентальных условий коммуникации, проделанной Юргеном Хабермасом: Habermas Jürgen. Moral Consciousness and Communicative Action. 1990; Habermas Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. 1996. Рус. пер.: Хабермас Ю. Нравственное сознание и коммуникатовное действие / Ред. Д. В. Скляднев. М.: Наука, 2000. По крайней мере, на данном этапе мы считаем проект Хабермаса контрпродуктивным, так как, подобно кантовской морали, его пришлось бы подвергнуть существенной деформации, чтобы приспособить к нелю́дям, от которых он как раз старается дистанцироваться. Еще глубже разделив коммуникацию между людьми и инструментальный разум, что как раз и является целью его философии, мы еще больше отдалимся от двух ассамблей и наделим большей властью ассамблею разума, которая заставляет замолкнуть ассамблею людей! Довольно странная затея, с учетом того, что она пытается заставить замолчать тех, кто должен высказываться свободнее.
73 Книга Эрмитт о зараженной крови (Hermitte. Op. cit. 1996) наглядно демонстрирует, каким именно образом нужно изменить представления об экспертизе и ответственности, если мы больше не можем придерживаться гипотезы о том, что знание может положить конец любым спорам. Тот же самый вывод можно сделать из образцового дела о «коровьем бешенстве» и, конечно же, из того генерал-басса, которым аккомпанирует экспертной теории давний спор о климатических изменениях: Roqueplo Philippe. Climats sous surveillance. Limites et conditions de l'expertise scientifique. 1993.
74 В четвертой главе мы вернемся к тому новому смыслу, который нужно вкладывать в понятие решения, которое мы связываем с ключевым понятием учреждения•.
75 Как ни странно, пересмотр типовых условий, предпринятый Беком, оставляет в неприкосновенности традиционные представления о даре речи и совершенно не предполагает, что им уже давно наделены не только люди (Beck. Op. cit. 1997. P. 122).
76 Потребуется продемонстрировать роль этих перекрестных ссылок, которые устанавливают связи между словами и вещами. Массу интересных примеров можно найти у Питера Галисона (Galison Peter. Image and Logic: A Material Culture of Microphysics. 1997), а также в подробнейших исследованиях Карин Кнорр-Цетина (Knorr-Cetina Karin. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. 1999). Простой и подробный пример можно найти в: Latour Bruno. Petites leçons de sociologie des sciences. 1996b, особенно в последнем разделе, посвященном ключевому понятию артикуляции•.
77 Основная проблема Хабермаса (Habermas. Op. cit. 1996) в том, что характеристика, которую он дает людям, прекрасно подошла бы для определения нелюдéй! «Как только мы понимаем социальные отношения интенционального характера как опосредованные при помощи коммуникации, в том смысле, который мы в нее вкладываем, мы больше не сможем иметь дело со всезнающими существами, лишенными тел, которые пребывают вне эмпирического мира и будут способны, если можно так выразиться, действовать вне контекста. Мы, скорее, имеем дело с конечными, воплощенными акторами, которые социализированы в конкретных жизненных формах, находятся в определенном историческом моменте и социальном пространстве и включены в сети коммуникационных действий» (p. 324). Именно это и происходит с вещами, освобожденными от антропоморфизма объекта! Хабермас считал, что необходимо освободить людей, забывая о том, что делает их людьми: о нелю́дях, ведь именно они больше всего теряют в его моральной философии.
78 Литература, посвященная научным инструментам и различным формам визуализации аргументов, которую они делают возможной, существует в избытке. Возрастающее количество подобных работ полностью изменило древний монолог между миром и представлением над бездной референции. Эта бездна сегодня уже заполнена до краев, и никто не станет приводить в качестве примера научного высказывания фразу «кошка сидит на коврике», научная ценность которого зависит от присутствия упомянутой кошки на упомянутом коврике. Некоторые «опорные пункты» можно найти в: Hacking Ian. Concevoir et expérimenter, thèmes introductifs à la philosophie des sciences expérimentales. 1989; Lynch Mike et Woolgar Steve. Representation in Scientific Practice. 1990; Galison. Op. cit. 1997; Jones Carrie, and Galison Peter. Picturing Science, Producing Art. 1998.
Как и в случае многих проблем из предыдущей главы, специалисты в моей области стоят перед следующим выбором: или повторять одни и те же введения, чтобы изменить представления читателей о научной практике, или не ставить эту литературу под сомнение и заниматься по-настоящему интересными проблемами, которые возникают в самых различных областях, как только мы изменяем научную теорию, до сих пор не дававшую им развить свой потенциал.
79 Я заметил, что всякая дискуссия об отказе от различия между субъектом и объектом чаще всего внезапно обрывается, так как большинство читателей, напичканных немецкой философией, полагают, что эта задача уже была решена Гегелем и его последователями за счет диалектического маневра. Однако диалектика не находит никакого решения проблемы, а, напротив, делает ее неразрешимой, превращая диалектику в движущую силу истории и самого космоса. Нет более завершенной разновидности антропоморфизма, чем та, которая заставляет Вселенную разделить ответственность за категориальные ошибки некоторых философов науки. Этот прием становится хорошо понятен на примере параграфа из «Энциклопедии», в котором Гегель критикует Канта за то, что он ограничил противоречие сферой разума, вместо того чтобы поместить его в сами вещи: «Не сущность мира носит-де в себе язву противоречия, а только мыслящий разум, сущность духа… Но если сравнить сущность мира с сущностью духа, то нельзя не удивляться тому, как, нимало не задумываясь, философы выдвигали и вслед за ними другие повторяли смиренные утверждения, что не сущность мира, а сущность мышления – разум – противоречива в себе» (Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Пер. Б. Г. Столпнера, под ред. Е. П. Ситковского. М.: Мысль, 1974. Т. 1. C. 165). Возможно, Кант ошибался, относя противоречие к разуму, которое происходит, как мы убедились, от невозможности модерна рассуждать о политическом порядке, но, во всяком случае, ему хватило мудрости не приписывать собственное безумие миру. К сожалению, Гегель не обладал подобной скромностью и теперь благодаря ему мы имеем вселенную, которая приходит в движение и проявляется в совершенно неправдоподобных формах объективности, субъективности и истории духа. Так кто более наивен? Соблюдем же приличия и не будем втягивать ассоциации людей и нелюдéй в подобные войны. Значительная часть философии экологии, к сожалению, все еще находится под влиянием, хотя и в сильно вульгаризованном виде, этой претензии «преодолеть противоречие между человеком и природой» (см. приложение к первой главе).
80 Именно Гарри Коллинз и Мартин Куш (Collins Harry and Kusch Martin. The Shape of Actions: What Humans and Machines Can Do. [1998]) пошли дальше всех представителей science studies в анализе этой дихотомии, наиболее аргументированную версию которой они предлагают.
81 Это минимальное определение действия было давно предложено в семиотике Греймаса. Оно оказалось весьма полезным для анализа появления новых акторов, чьи результаты [perfomances] (то, что они делают во время испытаний) всегда предшествуют их компетенциям (то, чем они на самом деле являются). См. многочисленные примеры в: Latour. Op. cit. 1995. Интересный анализ онтологии этих новых акторов из лаборатории см. в: Rheinberger Hans-Jörg. Toward a History of Epistemic Things: Synthetizing Proteins in the Test Tube. 1997.
82 К вопросу антропологии этого стучания кулаком по столу см. забавную статью: Ashmore Malcolm, Edwards Derek et Potter Jonathan. «The Bottom Line: The Rhetoric of Reality Demonstrations». 1994.
83 Понятие презентации восходит к Изабель Стенгерс (Stengers Isabelle. Cosmopolitiques – Tome 1: La Guerre des sciences [1996]) и будет играть важнейшую роль в пятой главе, подсказав нам выход как из мононатурализма, так и из мультикультурализма благодаря дипломатии•.
84 Чтобы охарактеризовать свой проект, Изабель Стенгерс предложила использовать выражение «экология практик» (Stengers. Op. cit. 1996), однако вполне можно говорить о риске, как Бек (Beck. Op. cit. 1995) или о сообществе (public), как Дьюи (Dewey. Op. cit. 1927), который определяет ее следующим образом: «Те, кто непосредственно и глубоко затронут, в горе и радости, формируют вполне определенную группу, чтобы стать узнаваемыми и получить имя» (p. 35).
85 Огромное достоинство работы Жульена (Jullien. Op. cit. 1992) о китайских философах заключается в том, что она показала нам, до какой степени обитатели Запада драматизировали вопрос о внешнем мире и сделали совершенно непонятной эффективность (Jullien. Op. cit. 1997).
86 Понять это мне помогла диссертация Эмили Гомар, как и целая серия недавних работ о том, что происходит с субъективностью после того, как объективность была преобразована при помощи science studies, см., в частности: Despret Vinciane. Naissance d’une théorie éthologique. 1996; Berg Marc, and Mol Anne-Marie. Differences in Medicine: Unraveling Practices, Techniques, and Bodies. 1998; Akrich Madeleine et Berg Marc (в процессе подготовки).
87 Интересно наблюдать, как эпистемологическая полиция, готовая в любой момент начать гонения на конструктивистов и релятивистов, меняет свое мнение, когда исследователи нуждаются в деньгах для оборудования лабораторий. Им вдруг становится необходим весь социальный мир для исследования мира несоциального, весь этот мир непостоянных и вещественных отношений для поиска абсолютного.
88 Вклад философии Изабель Стенгерс, помимо всего прочего, заключается в том, что она показала, как социальные науки приобретают, наконец, научный характер, если они соглашаются «относиться к людям как к вещам», и это делается, как ни парадоксально, с той настойчивостью, с которой исследователь в области так называемых точных наук не устает удивляться сопротивлению предмета своего исследования. Stengers. Op. cit. 1996. Безразличие нелюдéй защищает их от объективации, тогда как люди, желая сделать как лучше (особенно когда какой-нибудь «белый халат» просит их изобразить объект), не знают толком, как защитить себя от вовлечения в объективацию, доказывая своей идеальной имитацией, что объективность играет антропоморфную и полемическую роль. Эта идея хорошо разработана у Деспре (Despret. Op. cit. 1996), и особенно в другой ее книге, где оно становится принципом отбора экспериментальных установок психологов: Despret Vinciane. Ces émotions qui nous fabriquent: Ethnopsychologie de l’authenticité. 1999.
89 О собственно метафизическом смысле см.: Whitehead Alfred North. Procès et réalité. Essai de cosmologie. 1995.
90 Именно в этом заключается смысл усилия, предпринятого мной ранее (Latour. Op. cit. 1999b) и давшего этой книге ее философию науки. Я признателен Женевьеве Тей за этот прекрасный пример.
91 К несчастью, эмпиризм был изобретен в разгар политической схватки за контроль над matters of fact: вместо максимального контакта между словами и феноменами, заложенными в языке, мы должны были довольствоваться минимумом, простыми «чувственными данными», чтобы как можно сильнее ограничить область дискуссии (Shapin Steven et Schaffer Simon. Op. cit. 1985).
92 См. прекрасный комментарий Франсуа Зурабишвили (Zourabichvili François. Deleuze: Une philosophie de l’événement. 1994), если, конечно, Делёз не усвоил это через Габриэля Тарда: «На протяжении многих тысячелетий мы классифицируем различные способы бытия, его различные степени, и никому до сих пор не приходила в голову идея классифицировать различные виды и степени обладания. Между тем обладание – это универсальный факт, и нет ничего лучше термина “приобретение” [acquisition] для того, чтобы выразить формирование и рост некоторого существа. Термины соответствие и адаптация, введенные в моду Дарвином и Спенсером, куда неопределеннее и двусмысленнее и постигают этот универсальный факт исключительно с внешней стороны» (Op. cit. 1999. P. 89). Этот аргумент никак не связан с анти-эссенциалистским рефлексом: сущностей и свойств будет в достатке, но только после того, как работа учреждений найдет свое отражение в правилах.
93 В работах Александра Койре можно найти каноническую версию так называемого разрыва между порядками природного и социального мира именно в тот момент, когда вся совокупность общественной жизни переходит под контроль первичных качеств. В интерпретации одного и того же периода эпистемологии Койре (Koyré Alexandre. Du monde clos à l'univers infini. 1962. Рус. пер.: Койре А. От замкнутого мира к бесконечной Вселенной / В. И. Стрелков, К. Голубович, О. Зайцева. М.: Логос, 2001) можно противопоставить политическую эпистемологию Стивена Шейпина (Shapin Steven. La Révolution scientifique. 1989).
Примечания к третьей главе
94 С этой точки зрения «научные войны» исполнены своеобразного величия. Я тотчас же присоединюсь к «сокалистам», если услышу, как кто-то хладнокровно утверждает, что наука – это «система убеждений» среди всех прочих, «социальная конструкция», не имеющая определенной ценности, игра политических интересов, в которой побеждает самый сильный (все эти утверждения мне приписывают, не читая моих книг!). «That means war!» («Это означает войну» (англ.). – Примеч. пер.), как напоминает Стенгерс (Stengers Isabelle. «La guerre des sciences: et la paix?». [1998]), поэтому мы имеем полное право дать отпор этому наступлению пещерного обскурантизма на Просвещение. В любом случае, моя борьба заключается не в этом: сопротивляться тому, чтобы нас лишали всякого доступа к свету, сперва похоронив во мраке Пещеры, а затем ослепляли прожектором, который наверняка обожжет нашу сетчатку.
95 Не стоит забывать, что Наука и науки не придерживаются одной и той же диеты: тогда как Наука ослабевает, если в ее рационе присутствует хоть немного конструктивизма, то науки питаются продуктами, произведенными в лабораториях. Сегодня существует огромная литература об искусственном характере фактов. О собственно политической истории matters of fact см. уже процитированные работы Стивена Шейпина, Кристиана Ликоппа и Карин Кнорр-Цетина. Тема производства или изготовления фактов требует, что я вполне осознаю, принципиально изменить само понятие производства. Именно это я неоднократно пытался показать, см., например, Latour. Op. cit. 1996.
96 Основные аргументы этой давней полемики, направленной против эмпиризма, в классическом виде можно найти у Дюгема, а также у Башляра, Поппера и Куна.
97 Только в конце четвертой главы мы поймем, почему эти два термина являются синонимами, хотя в рамках традиционной полемики между внешней и внутренней историей наук они рассматриваются по отдельности (Pestre Dominique. «Pour une histoire sociale et culturelle des sciences: Nouvelles définitions, nouveaux objets, nouvelles pratiques». 1995). Это различие, история которого была изучена Стивеном Шейпином, на самом деле является всего лишь реликтом старой Конституции (Shapin Steven. «Discipline and Bounding: The History and Sociology of Science as Seen through the Externalism Debate». 1992).
98 Хабермас в своей книге (Habermas. Op. cit. 1996) хочет сделать понятие нормы посредником между фактами и ценностями. Как и во многих других случаях, у этого решения есть недостаток, который заключается в том, что он сохраняет все пороки традиционных концепций, находя остроумные способы их исправить. Чтобы открыть подходящую для политической экологии «процедурную рациональность» (см. пятую главу), мы не можем принять понятие нормы и должны копать глубже, чтобы упразднить столь дорогое Хабермасу отличие между инструментальным разумом, занятым средствами, и коммуникативным действием, ответственным за цели.
99 См., например, полезные наработки в области генетического дискурса у Фокс-Келлер: Fox-Keller Evelyne. Le rôle des métaphores dans les progrès de la biologie. 1999.
100 Именно по этой причине различие между Наукой• и науками•, введенное нами в первой главе, не имеет ничего общего с надеждой избавить науки от всякой связи с идеологией. Наука «чистая и автономная» еще дальше от реальных научных практик, чем Наука, оскверненная идеологией.
101 Во Франции именно Башляр энергичнее всего боролся за очищение науки при помощи вечно повторяющихся «эпистемологических разрывов», ведя войну любыми средствами против «эпистемологических препятствий», которые постоянно производит здравый смысл словно от нечего делать. Стоит также обратить внимание на огромную работу, проделанную Кангилемом для того, чтобы очистить науку от идеологических пристрастий (Canguilhem Georges. Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. 1977). Об этом сегодня предпочитают не вспоминать, но, начиная с Альтюссера, предпринимались попытки очистить от идеологии Науку Маркса… В русле этой традиции рациональность выражается в непрерывной аскезе, которая вырывает ее из окружающей среды. В это трудно поверить, но кто-то рассчитывал вновь построить республику, прибегая к подобной эпистемологии войны.
102 Об этом произведении искусства см. впечатляющее исследование Артура Уолдрона: Waldron Arthur. The Great Wall of China: From History to Myth. 1990.
103 Напомним, что для нас пропозиция• – не лингвистический термин, а способ обозначения артикуляции, при помощи которой слова помещают в себя мир. Река, черная дыра, профсоюз рыбаков-спиннингистов, точно так же как экосистема или редкая птица, являются пропозициями. Чтобы напомнить о реализме пропозиций, я часто заменяю его на куда более двусмысленный термин «существо» [entité].
104 В настоящий момент мы используем термин «учреждение»• в самом обыденном смысле. Уточнения будут внесены позднее. Я напоминаю, рискуя быть надоедливым, что для практики наук (и тем самым для социологии наук) термин «учреждение» употребляется не в негативном, а в позитивном смысле; чем больше науки институционализированы, тем больше в них реальности и истины. В дальнейшем мы убедимся, что термины «учреждение» и «сущность» являются синонимами. О соотношении субстанции и учреждения см. пятую главу Latour. Op. cit. 1999b.
105 Референдум, организованный швейцарцами в июне 1998 года, в этом смысле крайне поучителен. Поскольку генетически модифицированные организмы должны появиться на полях, земледельцы становятся активными участниками дискуссии и претендуют на то, чтобы внести путаницу в обсуждение, которое ведут «белые халаты» с их обоснованными аргументами. Однако это умножение голосов в ходе кампании (которую в итоге выиграли промышленники и подавляющее большинство ученых) не ограничивалось людьми в «классическом» смысле слова. Они достаточно быстро принялись заново наделять даром речи нелюдéй (гены, экспериментальные поля, чашки Петри), причем на смену их идиллическому единодушию быстро пришла какофония экспертов, подвергнутых процедуре публичной экспертизы. У какофонии и какосмоса один и тот же префикс.
106 «Надежный свидетель»• – еще одно выражение Стенгерс, которое должно напомнить читателю, что речь не обязательно идет о людях, а также и не о том, чтобы четко выразить свое мнение. Как мы увидим в следующей главе, поиск надежных свидетелей – весьма рискованное предприятие и не особо удачное выражение «консультация»• ему не вполне соответствует. Добавляя к нему понятие весомости, мы рассчитываем исправить этот недостаток при условии, что мы не забыли о выводах второй главы о затруднениях речи. Демократия, возможно, является логоцентрической, но в логосе говорит буквально все: урчание в животе, тишина, недержание речи, равно как и заикание Демосфена, великого ритора.
107 О роли тех, кто «поднимает тревогу», см.: Chateauraynaud et al. Op. cit. 1999, а также важную книгу Шейлы Ясанофф: Jasanoff Sheila. Science at the Bar: Law, Science and Technology in America. 1995.
108 Как мы увидим в следующем разделе, и особенно в пятой главе, на этот вопрос не существует вытекающего из опыта ответа, который может заменить мораль только после введения понятия коллективного опыта•.
109 Ульрих Бек существенно продвинулся в своем исследовании политики рисков и в изобретении новой разновидности двухпалатной системы. Он напрямую связывает опыт лаборатории и коллектива: «Сегодня существует две разновидности наук, чьи пути расходятся в условиях цивилизации, подвергающейся опасности: старая лабораторная наука, которая по-прежнему процветает, открывая мир математики и техники, не имея при этом опыта, и новая публичная форма дискурсивных практик, которая за счет опыта и в виде научного спора делает более очевидным отношение цели и средств, правил и методов» (Beck. Op. cit. 1997. P. 123). Выход он видит в изобретении двух палат: «Нам потребуется два помещения или форума, что-то вроде Верховного и Технологического судов, которые обеспечат разделение власти между техническим развитием и его осуществлением» (p. 123). И это решение, как, впрочем, и мое, не должно считаться антинаучным: «Вопреки распространенному предрассудку, сомнение снова делает возможной науку, знания, критический подход и мораль, но все это уменьшается в размерах, становится менее определенным, более личным и эмоционально окрашенным, способным на еще большее понимание, а также более любознательным, восприимчивым к противоречиям и несоответствиям, потому что зависит от толерантности, которую мы обретаем вместе с окончательной уверенностью, а уж она-то точно нас подведет» (p. 126).
110 Таким образом мы отдаем должное требованиям Эрмита, направленным на создание «теории решения в неопределенной ситуации» (Hermitte. Op. cit. 1996. P. 307).
111 Уже существует целая антропология формализма, которая принципиально меняет возможности теории объяснять саму себя. См.: Rotman Brian. Ad Infinitum: The Ghost in Turing's Machine: Taking God Out of Mathematics and Putting the Body Back In. 1993; Rosental Claude. Op. cit. 1996; Galison. Op. cit. 1997; MacKenzie Don. Knowing Machines: Essays on Technical Change. 1996.
112 Дело о зараженной крови, а также дискуссии о генномодифицированных организмах позволяют нам описать промежуточные этапы между локальной неопределенностью и глобальной определенностью. Об этом понятии относительного существования см. пятую главу Latour. Op. cit. 1999. В этом смысле большую пользу нам принесет социология влияния и подражания, основанная Тардом (Tarde. Op. cit. 1999).
113 Критику экспертизы и ее ограничений можно найти в: Roqueplo. Op. cit. 1993; Jasanoff. Op. cit. 1995; Lash. Op. cit. 1996. Все эти работы показывают, насколько устарела традиционная модель отношений между обществом и экспертами.
114 Разумеется, идеи трансцендентности и имманентности восходят к мифу о Пещере и к ослабленной модели социального. Нужно, несмотря ни на что, принимать их всерьез, пока мы не вернули коллективу свойственную ему форму имманентности, которую Платон в «Горгии» (смеха ради) называет autophuos. Об этом см. седьмую и восьмую главу Latour. Op. cit. 1999.
115 Ни один мой доклад по социологии наук во Франции не обходился без того, чтобы мне не поставили в упрек дело Лысенко, за которым в промежутке в три минуты следует вопрос о «еврейской науке» нацистов (порядок может меняться, но временной промежуток неизменен). Те, у кого есть сомнения в нравственном облике изложенной здесь двухпалатной системы, могут испытать ее, подвергнув двум обязательным пыткам, практикуемым эпистемологической полицией. Дело Лысенко не говорит о вторжении политической идеологии в науку под названием «генетика», а совсем наоборот – о вторжении Науки в политику, в данном случае – научных законов истории и экономики. В красном тоталитаризме обходные маневры в виде Науки и насилия, Right и Might укрепляют свои позиции и приводят одновременно к скверной политике – не производятся консультации ни с производителями картофеля, ни с генетиками – и к скверной науке – так как не удается ни проследить влияние генов, ни зафиксировать влияние климата и способов обработки. Тот факт, что социологу наук вроде меня приходится отвечать на обвинения в том, что моя работа близка к релятивизму неонацистов (см., например, «выступления» Жан-Жака Саломона и Жана-Франсуа Ревеля о «деле Сокала»: Salomon Jean-Jacques. Le monde. 31–12–1997; Revel Jean-Francois. Le point. 21–3–1998) ярче всего свидетельствует об уровне дискуссии во Франции. Но сколько секунд потребуется, чтобы понять, что научные амбиции нацистов не отвечают ни требованиям озадаченности, ни консультации, ни публичности, ни закрытия? Насильственно сократить все процедурные задержки, диктуемые науками и политикой, чтобы прийти к непреложным законам истории и расы, во имя которой можно с чистой совестью совершать массовые убийства, не является целью, стоящей перед социологией наук. Я надеюсь прожить достаточно долго, чтобы иметь возможность говорить о науке, не испытывая стыда за своих оппонентов, опускающихся до подобных обвинений. Они действительно дают нам удобные средства для того, чтобы изменить наш инструментарий, который так или иначе придется обновлять, так как он до сих пор был наспех упакован вместе с левыми партиями, Наукой, Францией, прогрессом, рационализмом, антиклерикализмом и модернизаций под именем универсальной республики. Наступающий век, возможно, будет благоприятствовать этому больше, чем наконец завершившийся, а республика• политической экологии будет менее боязливой, чем французская.
116 На протяжении двадцати пяти лет я воздерживаюсь от участия в обсуждении этой малозначительной проблемы: в силу чего мы так легко принимали историю ученых и почему так сложно было приписать вещам, открываемым этими учеными, хотя бы немного подлинной историчности? Слишком быстро разделив историю наук и онтологию, мы запрещали себе участвовать в обсуждении этой довольно любопытной аномалии.
117 Что не стоит путать, несмотря на кибернетическую метафору, с многочисленными попытками социологов обойти политику при помощи биологизированной или натурализованной теории социального, как, например, у Лумана. Словарь, который мы пытаемся составить, остается в полном смысле слова политическим.
118 Это позволяет нам прояснить различие, которое встретилось нам в первой главе, между модернистскими и немодерными или же рискованными объектами•. Асбест, который мы взяли в качестве примера, характеризуется крайней медлительностью, с которой исключенные вернулись к обсуждению этого «совершенного» изоляционного материала: Франции потребовалось около тридцати лет, чтобы заболевания легких стали неотъемлемой частью определения этого инертного материала, этого чудо-продукта и чтобы присутствие этих больных, после их возвращения в коллектив, наконец-то озадаченный этим вопросом, привело к разрушению многих тысяч квадратных метров офисных зданий и школ. Рискованному соединению, носящему цивилизованный характер, потребовалось бы куда меньше времени, чтобы перейти от внешней среды к внутренней (см. примечание 40 к четвертой главе): те, кого только что исключила власть упорядочения, быстро предупредили бы власть принятия в расчет. По крайней мере, при помощи именно этого свойства мы позднее определим цивилизацию•, что также позволит нам извлечь пользу из принципа предосторожности.
119 Мы подробнее вернемся к этому важнейшему свойству, когда затронем в пятой главе понятие коллективного опыта•, и к особому виду нормативности, который позволит определять его направление. Мы воспользуемся им для определения третьей власти, которую мы называем властью наблюдения•, что позволит нам представить, используя нехитрые производственные термины, что-то вроде «контроля качества» за «трассируемостью» процедур.
Примечания к четвертой главе
120 В несколько карикатурной форме это проявляется в дискуссии о субъективных и объективных рисках, еще одном вопросе, в котором мы можем найти топорное разделение на первичные• и вторичные качества•, причем первые отсылают исключительно к реальности, а вторые – к психике, манипуляциям или культуре: Remy Elisabeth. «Comment dépasser l’alternative risque réel/risqué perçu: L’exemple de la controverse sur les champs électromagnétiques». 1997. Как только разделение произведено, встает вопрос, должны ли мы принять элиминативную модель (навязанную или внушенную педагогами) или же модель уважительного лицемерия (заперев ее в гетто культуры или скрытой манипуляции). Об альтернативном решении см.: Lascoumes et al. Op. cit. 1997.
121 См.: Acot Pascal. Histoire de l’écologie. 1988; и особенно Drouin Jean-Marc. Réinventer la nature: L’écologie et son histoire. 1991.
122 К истории понятия экосистемы см. скрупулезное исследование Фрэнка Гоулли: Golley Frank Benjamin. A History of the Ecosystem Concept in Ecology: More than the Sum of the Parts. 1993. Термин «экуменический» имеет один корень с экологией. Распространенное сегодня выражение «все это формирует целое» не стоит употреблять без особого повода. Экологи знают, что даже в локальном масштабе описать частичную тотализацию невероятно сложно. Политики тоже. Прекрасный пример того, как трудно понять, что же формирует целое на опушке природных парков при сочетании людей и нелюдéй: Western David R., Wright Michael, and Strum Shirley. Natural Connections: Perspectives in Community-based Conservation. 1994.
123 Именно поэтому, начиная с Введения, мы воздерживались от разделения научной и политической экологии, сохранив лишь последний термин, так как только он способен подчеркнуть сложность построения пригодного для жизни общего мира. Говорить о «сложности» еще не означает принять в расчет все политические и процедурные трудности: можно парализовать общественную жизнь как с помощью упрощенчества, так и с помощью «переусложнения». Пресловутые «науки о сложности» позволяют нам приблизиться к разрешению проблемы сложности не больше, чем «науки о простом».
124 Дарвин, разумеется, не в ответе за все то, что дарвинисты совершили, прикрываясь его именем. Несмотря на заимствования у Мальтуса, он совершенно не виноват в натурализме, поскольку эволюционные явления, о которых он говорит, не имеют ни единства, ни оптимума и не причастны к тотализации. Для Дарвина эволюция ничего не объединяет, как показывает прекрасная книга Стивена-Джея Гулда: Gould Stephen-Jay. La vie est belle. 1991. Дарвин вполне мог бы говорить о мультинатурализме, так как для него, по крайней мере, каждое живое существо обладало своей собственной природой. Как только мы пользуемся теорией эволюции, чтобы говорить о «единой природе» в единственном числе, мы отказываемся от плюриверсума и сохраняем ее только в качестве упрощения. Отсюда следует необходимость различать обращение к внешней реальности и процедуру унификации общего мира, которая целиком относится к области политики, даже когда мы говорим о генах, протеинах, китах, тараканах и внутренней среде.
125 Подтверждение чему можно найти в замечательном пассаже из книги Поланьи «Великая Трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени» (Polanyi Karl. La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps. 1983. [1945]): «Это был новый отправной пункт для политической науки. Подойдя к человеческому обществу с животной стороны, Таунсенд обошел, казалось бы, неизбежный вопрос об истоках и основах правления и таким образом ввел в анализ человеческого мира понятие о новом типе закона – концепцию законов Природы. Гоббсово пристрастие к геометрии, одержимость Юма и Гартли, Кенэ и Гельвеция поиском «ньютонианских» законов в обществе сводились по существу к простой метафоре: они горели желанием открыть универсальный закон, столь же универсальный для общества, сколь универсальной является сила тяготения для Природы, однако мыслили его как закон по характеру своему человеческий… Если же, согласно Гоббсу, «человек человеку волк», так это по той причине, что вне общества люди ведут себя как волки, а вовсе не из-за наличия каких-то биологических факторов, общих для волков и людей. В конечном счете это объяснялось тем, что тогда еще никто не мог вообразить такое человеческое сообщество, которое не предполагало бы закон и государственную власть. Однако на острове Хуана Фернандеса не было ни закона, ни правительства, и тем не менее равновесие между козами и собаками поддерживалось… Чтобы поддерживать это равновесие, никакого правительства не требовалось; оно восстанавливалось муками голода, с одной стороны, и недостатком пищи – с другой. Гоббс доказывал необходимость деспотической власти, исходя из того, что человек подобен зверю; Таунсенд же утверждал, что человек на самом деле есть зверь и именно по этой причине правительственное вмешательство требуется ему лишь в минимальной степени. С этой неведомой прежде точки зрения свободное общество можно было рассматривать как состоящее из двух видов – собственников и работников. Число последних ограничивалось количеством пищи, и пока защита собственности надежно обеспечивалась, можно было не сомневаться, что бич голода принудит их к труду. Судьи здесь были попросту лишними, ибо голод учит порядку и дисциплине лучше всякого судьи. Апеллировать к последнему, как язвительно заметил Таунсенд, значило бы «обращаться к более слабой власти, имея возможность воззвать к более сильной» (Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени / Пер. А. А. Васильева, С. Е. Федорова, А. П. Шурбелева, под ред. С. Е. Федорова. СПб: Алетейя, 2002. С. 130).
126 Мы сделаем неактуальным вопрос: нужно ли доверить экономику рынку или государству? Это вопрос столь же искусственный, как и спор о том, являются ли ученые реалистами или конструктивистами; или же о том, должна ли политика быть антропо- или физио-центричной. Относительно власти наблюдения• см. пятую главу. Кстати, у Дьюи можно найти аргумент, сходный с тем, что приведен у Поланьи: Dewey. Op. cit. 1927, 1954. P. 91.
127 Знаменитые строки Теннисона, ставшие расхожим описанием дарвинизма:
Man…
Who trusted God was love indeed
And love Creation’s final law —
Tho’ Nature, red in tooth and claw
With ravine, shriek’d against his creed
Tennyson, «In Memoriam A.H.H.» (1850), Canto 56
[Человек…
Который верил, что Бог есть любовь
И любовь – окончательный закон Создания
Но Природа, с кровавыми от крови клыками и когтями
Возопила о другом, разрушая эту веру
Тениссон, «In Memoriam A.H.H.», Песнь 56]
128 Анализ экономики как обходного маневра, необходимого для того, чтобы избежать политики, можно найти у Карла Шмитта в Понятии политического (Schmitt Carl. La notion de politique suivi de Théorie du partisan. 1972 [1963]): «Именно когда она остается аполитичной, эксплуатация людей на экономической основе, избегающей даже видимости политической ответственности, представляется нам чудовищным обманом» (p. 124). Для Шмитта экономика в XIX веке приходит на смену религии, в XVIII – предшествует технологии, в XX веке находит способы лишить политику всякого значения.
129 Хотя марксизм также критиковал натурализацию экономики, его целью было не реабилитировать политику, а еще больше подчинить ее законам первичной натурализации под видом Науки. Этим объясняется суровая критика в адрес Маркса со стороны Поланьи, социалиста в политике, но не в науке: «С полной явностью обнаружился теперь истинный смысл мучительной проблемы бедности: экономическое общество подчинено законам, которые не являются законами человеческими. Трещина между Адамом Смитом и Таунсендом превратилась в настоящую пропасть, раскол этот стал точкой отсчета для самосознания XIX века. Отныне натурализм неотступно преследовал науку о человеке, а возвращение общества в человеческий мир стало целью, к которой упорно стремилась в своей эволюции социальная мысль эпохи. Экономическое учение марксизма – в данном конкретном аспекте – явилось в целом неудачной попыткой этой цели достигнуть; крах ее объясняется тем, что Маркс был слишком близок к Рикардо и слишком твердо держался традиций либеральной экономической науки» (Поланьи. «Великая трансформация». Цит. соч. С. 142).
130 Я продолжаю здесь критику Мишеля Каллона, выступившего, разумеется, вслед за Зиммелем (Simmel Georg. Philosophie de l’argent. 1900 [1987]) и Поланьи, которая позволяет одновременно сохранить достоинство экономики как дисциплины (особенно в том, что касается форматирования связей), не утверждая при этом, на манер Локка, что экономика является первоосновой мира. См., в частности: Callon Michel. «Techno-economic Networks and Irreversibility». Sociological Review Monograph. 1992; Callon Michel. The Laws of the Market. 1998.
131 Помимо важнейшей работы Лорана Тевено, которая позволяет считать экономизацию особым родом деятельности, я использовал исследования о бухгалтерском учете Питера Миллера и Майкла Пауэра (Miller Peter. «The Factory as Laboratory». [1994]; Power Michael. Accounting and Science: National Inquiry and Commercial Reason. 1995), работу по маркетингу Франка Кошуа (Cochoy Franck. Une histoire du marketing: Discipliner l’économie de marché. [1999]), а также монографию Венсана Лепинэ о постепенном формировании экономических доктрин (Lepinay Vincent. Sociologie de la controverse des deux Cambridge. Circulation et manipulation d'un formalisme en économie mathématique. [1999]). Поланьи был максимально далек от того, чтобы понимать экономику как науку в качестве агента экономики как материальной реальности, и благодаря своему гениальному озарению он поместил социологию экономической науки в основание политэкономии, а ведь именно этого не могли понять обычные критики экономизма в силу своего сциентизма или гуманизма: «К величайшему изумлению людей мыслящих, неслыханное богатство оказалось неотделимым от неслыханной бедности. Ученые мужи твердили в один голос об открытии новой науки, которая с абсолютной достоверностью устанавливала законы, управляющие человеческим миром. Именем этих законов из сердец было изгнано всякое сострадание, а стоическая решимость отвергнуть общечеловеческую солидарность ради “наибольшего счастья наибольшего числа людей” была возведена в ранг секулярной религии» (Поланьи. Великая трансформация. Цит. соч. С. 117).
132 О материализации способов вычисления см.: Callon Michel et Latour Bruno. «“Tu ne calculeras pas” comment symmetriser le don et le capital». 1997; мы возвращаемся к тому, чтобы подвергнуть экономику как дисциплину операции по воплощению, которая была проделана с другими науками при помощи социологии наук и усилий по «локализации познавательных способностей», см.: Suchman Lucy. Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication. 1987; а также важнейшую книгу Эдвина Хатчинса: Hutchins Edwin. Cognition in the Wild. 1995. Мы можем резюмировать этот процесс при помощи слогана: cogito ergo sumus. «Когда я мыслю достаточно ясно, то это мыслит лаборатория». Если в экономике существует рациональный расчет, то нужно найти лабораторию, которая позволит его произвести.
133 Многочисленные попытки растворить политическую экологию в политэкономии, выбрав другой quantum, например энергию вместо денег, никак не исправит недостатков старой Конституции, а скорее наложит одни недостатки трех натурализаций на другие, поскольку произведенная таким образом метаэкономика будет обоснована каузально, морально и натуралистически! Чего не сделаешь, чтобы сэкономить на тяжелой работе по возобновлению политической жизни. Как мы убедимся в дальнейшем, экономика окружающей среды, напротив, является инструментализацией, необходимой для непрерывной экстернализации.
134 Я ограничился только теми профессиями, на которые оказал наиболее существенное влияние модернизм. Именно поэтому, несмотря на всю его важность, я не упомянул о праве. На самом деле, праву всегда хватало такта, чтобы принимать свою относительность и конструктивистский характер, не делая из этого трагедии. Оно способно признать, что у кого-то есть иное право; оно согласно на то, что реальность и фикции могут сочетаться позитивным образом. Оно, если можно так выразиться, меньше, чем Науки или мораль, «втянуто» в проблематику природы. То же самое касается искусства, которое, не смотря на его важность для формирования задач коллектива, мы также не рассматривали, причем по тем же причинам: даже в западной традиции никто никогда не утверждал, что отношение между искусством и природой не подлежит обсуждению! Поэтому я оставил только те профессии, которые сложнее всего подвергнуть антропологизации и которые имеют больше всего проблем с «фетишами» [faitiches] (Latour. Op. cit. 1996a). Именно по этой причине я ничего не говорил о полиции или рыбной ловле на удочку…
135 В пятой главе мы добавим шестую функцию, осуществлению которой должны способствовать все гильдии и которая будет сопровождать кривую обучаемости коллектива, т. е. станет искусством управления.
136 Науки всегда участвовали в выполнении всех задач коллектива, что явно демонстрирует их новая история, но на этот раз они делают это без всякого лицемерия и соблюдая процессуальные нормы, см. замечательный пример лорда Кельвина: Smith et Wise. Op. cit. 1989.
137 Зачастую это довольно хаотичная история, начало которой мы найдем в работе Шейпина: Shapin Steven. A Social History of Truth: Gentility, Civility, and Science in Seventeenth Century England. 1994; более доступное изложение можно найти в журнале Recherches. № 300, juillet 1997, а также в замечательных Cahiers de Science et Vie, которые раз в два месяца открывают самой широкой публике привилегированный доступ к истории наук.
138 Другим примером является то, как последователям Пастера удалось в тупиковой ситуации классовой борьбы между богатыми и бедными инициировать борьбу между заразными богатыми и бедными против вакцинированных богатых и бедных… Против микробов будут использованы беспрецедентные методы дезинфекции, немыслимые без некоторых изменений в этой борьбе: Latour Bruno. Op. cit. 1984. Еще один канонический пример можно найти в преобразовании военного искусства в ядерную физику, осуществленном французскими атомщиками: Weart Spencer R. La grande aventure des atomistes français: les savants au pouvoir. 1980. Этим договоренностям и заменам нет числа, и они определяют науки, связанные с техникой, во всем, что касается выполнения задачи № 3.
139 Социология наук, техник и инновации (особенно ее разновидность, практикуемая в Горной школе Парижа) (Law John. «On Power and its Tactics: A View from The Sociology of Science». [1986]; Buker Wiebe et Law John. Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change. 1992) развивала эту идею самыми различными способами: Callon Michel et Latour Bruno. Les scientifiques et leur alliés. 1985; Akrich Madelaine. Des machines et des homes. 1990; Latour Bruno. Aramis ou l’amour des techniques. 1992; Latour Bruno et Lemonnier Pierre. De la préhistoire aux missiles balistiques – L’intelligence sociale des techniques. 1994.
140 Мы видим принципиальные изменения по сравнению с первыми работами по социологии науки, которые объясняли снятие неопределенностей стабилизирующим эффектом идеологий, инерцией социального плана или же учреждениями (в обычном смысле слова): Barnes Barry, et Shapin Steven. Natural Order: Historical Studies in Scientific Culture. 1979. Здесь же, напротив, сами науки принимают участие в стабилизации коллектива. С другой стороны, мы видим, что сциентизм плох, только когда он смешивает специфическое ноу-хау (вклад в выполнение задачи № 4) с общим комплексом научных работ. Теперь нам ничего не стоит признать, что науки, к счастью, принимают участие в производстве неоспоримого. Успокоим «сокалистов»: закон всемирного тяготения оказывается хорошо обоснован, даже если он, в соответствии с задачами № 1, 2 и 3, не обладает достаточной властью, чтобы затыкать людям рты.
141 Обоснование, подобно благоразумию, разделяется практически всеми: каждый считает, что он может объяснить поведение другого. Известен знаменитый случай, когда лорд Кельвин, физик, намеревался существенно сократить продолжительность существования солнечной системы, тогда как биологи, вдохновленные Дарвином, утверждали обратное, чтобы обосновать процесс эволюции. Биологи вежливо возражали и продолжали мыслить в категориях сотен миллионов лет, несмотря на запрет физиков, которые в ту эпоху пользовались куда большим престижем. Феномен эволюции «настаивал» на собственном существовании, несмотря на отсутствие физической теории, способной его ограничить или объяснить. И у биологов были все основания отстаивать свою загадку, потому что вскоре физики обнаружат радиацию и смогут наконец определить, что продолжительность жизни солнца сопоставима с биологической эволюцией. Прекрасный пример того, как проблема сопротивляется преждевременным решениям… Распространите пример подобного сопротивления на другие случаи, и вы получите определение демократии как автономии в постановке проблем. Именно тогда, когда «широкая публика» настаивает на том, чтобы ставить свои вопросы, защищаясь от обвинений в иррационализме со стороны некоторых научных лобби, она более всего соответствует критериям научности.
142 В (политической) эпистемологии этот предрассудок встречается буквально повсюду. Для определения рациональной силы фальсификационизма Лакатос дает точное определение выборов! Но эта параллель не приходит ему в голову, так как для него «политика» означает вторжение краснокожих, прерывающих due process единственно возможной Науки (Lakatos Imre. Histoire et méthodologie des sciences: Programmes de recherche et reconstruction rationnelle. [1994]. Рус. пер.: Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Избранные произведения по философии и методолгии науки / Пер. А. Л. Никифорова. М.: Академический проект, 2008). Противоположную точку зрения можно найти у Мишеля Каллона (Callon Michel. «Representing Nature, Representing Culture». [1995]).
143 Напомним о прекрасном примере швейцарского референдума по поводу генетически измененных организмов. Ни один ученый, достойный этого звания, не упустил возможности дать свой совет относительно возникновения экспериментальных полей, антибиотиков, цветения кукурузы или рапса. Однако затем потребовалось грубое вмешательство политиков, чтобы к консультациям присоединились люди, которые смогут непосредственно «воспользоваться» благами генетики. О них-то как раз и забыли… Привлекая ученых, мы отдаем должное требованиям Хабермаса («Являются действительными только те нормы, которые приняты всеми лицами, участвовавшими в их рациональном обсуждении». Habermas. Op. cit. 1996. P. 107), который не мог сделать их применимыми на практике, так как выгнал из своего града людей, подобно тому, как Платон выгнал художников.
144 Мы можем пристально наблюдать за подобным сотрудничеством на примере появления Региональных водных комиссий (CLE), которые должны предоставить план распределения водных ресурсов для каждого бассейна водоема: Latour. Op. cit. 1995b. Иногда согласие достигается за счет того, что обнаруживаются новые запасы воды благодаря гидрогеологии, иногда – за счет того, что изменятся сторона, интересы которой защищает один из официальных представителей: земледелец, пришедший в комиссию, чтобы защитить свое право на ирригацию, превращается в защитника реки. «Мы», которое он представляет, изменило смысл. Подобное урегулирование невозможно, если мы имеем природу с четко зафиксированными границами и общество с четко установленными интересами. Другими словами, с одной стороны, сциентизм в естественных науках, и сциентизм в науках социальных – с другой.
145 Теория принятия решений – это наследие мифа о Пещере, потому что она забывает указать, что мы принимаем решения как относительно фактов, так и относительно причин (вклад наук в выполнение задачи № 4). С другой стороны, начиная с того момента, когда слово «решение» относится к нахождению установленных фактов, эта теория утрачивает свою категоричность и произвольность, становясь «нахождением» выхода, который имманентен ситуации. Макиавелли становится ученым; Суверен – лаборантом; слово «решение» изменяет свой смысл и больше не колеблется между суверенным суждением о фактах и произволом Суверена.
146 В пятой главе мы вернемся к важнейшему определению врага•, которого мы не должны унижать, потому что он может стать нашим союзником. Мы сделаем его синонимом экстернализации•.
147 Платон периода «Горгия», когда он еще признавал политические качества, которые он затем отвергнет одно за другим, использовал замечательное выражение «autophuos», чтобы описать, одновременно высмеяв его, эту особую имманентность условий благополучия общественной жизни (Latour. Op. cit. 1999). См. об этом словаре софистики Cassin. Op. cit. 1995; Дьюи (Dewey. Op. cit. 1927) точнее всего перевел это ноу-хау, свойственное политике, при помощи хорошо продуманного понятия «сообщество», искусственного образования, которое для него являлось моделью этих неожиданных изменений.
148 Нам еще раз предоставляется возможность почувствовать разницу между обществом• и коллективом•; понятие общества, столь ценимое социологами социального, заранее исключает все проблемы построения, моделизации, рефлексии, оживления, которые я вынужден вводить раз за разом. Когда мы имеем дело с наличной трансценденцией природы, как и с трансценденцией общества, представленной как целое, нам не видны ни ноу-хау ученых, ни ноу-хау политиков. Именно поэтому большинство моих коллег-социологов просто-напросто не «видят» то, о чем я могу писать книгу за книгой.
149 «After a century of blind “improvement” man is restoring his habitation». – Polanyi. Op. cit. 1944. P. 249. Рус. пер.: Поланьи. Великая трансформация. Цит. соч. С. 269.
150 Это изменение можно обнаружить уже в начале века в сколь удивительной, столь и малоизвестной книге Тарда о «страстных интересах» (Tarde Gabriel. Psychologie économique. [1902]).
151 Продолжая рассуждение Зиммеля о деньгах, можно предположить, что всеобщее распространение цифровых носителей даст новые модели для «социальной метафизики», которые будут отличаться от языка и денег. См., например, интересную попытку «киберграфии»: Rogers Richard, and Marres Noortje. «Landscaping Climate Change: Mapping Science and Technology Debates on the World Wide Web». 1999. Если следовать их выводам, то экономика не обязательно является окончательной формой публичности расчетов.
152 Этот аргумент понятен только в том случае, если мы понимаем расчеты буквально, а не метафорически: либо мы можем осуществлять расчеты, либо нам нужны бухгалтерские приборы в широком смысле; или же эти приборы нам недоступны, и отношения, о которых идет речь, не поддаются расчетам: Callon Michel et Latour Bruno. Op. cit. 1997. Что исключает какое бы то ни было метафорическое использование расчетов или экономического капитала, особенно для объяснения жизни общества.
153 Экономисты мечутся от крайней скромности к невероятным претензиям и обратно: если кто-то хвалит их за то, что они оказывают серьезное влияние на экономику как вещественность, то те скромно утверждают, что они здесь ни при чем, и отрицают перформативную функцию в форматировании связей; вместе с тем они уверенно утверждают, что если бы даже экономика как дисциплина никогда не существовала, то вещественность, которую она описывает, то есть экономические отношения, все равно существовала бы сама по себе. Чтобы немного приобщить их к культуре, необходимо заставить их признать свою власть (материальность экономики происходит из практик экономических дисциплин), равно как и ее ограничения (она не простирается дальше зоны действия своих приборов).
154 См. работы по экономической антропологии, особенно: Thomas. Op. cit. 1991; Callon. Op. cit. 1995.
155 Капитализм можно определить не как специфическую инфраструктуру, а как систему, в которой действуют только внутренние факторы, без произведенных ею факторов внешних. Это в прямом смысле артефакт, созданный при помощи вычисления, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому разоблачение капитализма ничего нам не даст, напротив, мы только усилим его. Надо снова свести его к внешним факторам, которые его всегда сопровождают, запретив экономике заменять собой политику.
156 Утилитаризм в его современной, усовершенствованной Дарвином версии, использует для разрешения проблемы нравственности различные версии Науки, природы или экономического расчета, которые, как мы убедились выше, больше не отражают реальные достоинства исследователей или экономизаторов. Парализовав науки и политику, утилитаризм заходит в тупик в вопросе нравственности. Хуже вряд ли уже будет.
157 Тот же самый аргумент мы находим у основателя глубинной экологии: «Максима Иммануила Канта “Ты не должен относится к другому человеку только как средству” в Экософии Т [кодовое имя, которое он дает своей философии] расширена до “Ты не должен относиться ни к одному живому существу только как к средству”» (Naess. Op. cit. 1988. P. 174). Ограничившись «живыми существами», Несс совершает ту же ошибку, что и Кант, даже если количество существ, которых он принимает в расчет, будет несколько больше. Тард, как водится, предвидел этот аргумент, еще в 1902 году определив для политэкономии следующую цель: «Идеальная цель, к которой должно стремиться человечество, еще не имея об этом ясной идеи, это, с одной стороны, составить вместе с избранными представителями флоры и фауны нашей планеты гармоничный союз живых существ, основанный на системе целей, которые свободно выбирает себе человек; с другой стороны – собрать все силы, все неорганические субстанции, чтобы подчинить их себе как обычные средства, отныне служащие совпадающим и созвучным друг другу жизненным целям. Именно точку зрения этой отдаленной цели нужно принять, чтобы стало понятно, до какой степени фундаментальные принципы политэкономии нуждаются в пересмотре» (Tarde. Op. cit. 1902. P. 278).
158 Бесполезно жаловаться, подобно критикам глубинной экологии, что она распространяет сферу действия морали на «неодушевленные существа». Все происходит как раз наоборот. Мы, наконец, лишили неодушевленных существ того невероятного нравственного превосходства, которым они обладали в старой системе и которое позволяло им определять «то, что есть», предоставляя им таким образом неоспоримое право доступа в общий мир. Как обычно, именно юристы, быстрее других освободившиеся от ограничений модернизма, вносят куда больший вклад в обновление экспериментальной метафизики, чем моралисты, запутавшиеся в разделении объектов и субъектов.
159 Для этого вполне достаточно здравого смысла. Жан-Ив Но в своей статье, опубликованной в газете Le Monde 29 июля 1998 года, хвалит французскую систему переливания крови, которая смогла быстро забить тревогу по поводу заразного агента, названного «ТТВ» (TTV): «Скорость, с которой французские санитарные власти отреагировали на этот раз после публикации в журнале Lancet, разительно отличались от проволочек, допущенных в 1985 году [когда кровь была заражена вирусом СПИДа]». И он добавляет замечательное определение степени чувствительности: «Научные неопределенности больше не дают примеров вялой реакции компетентных властей. Новый вирус свидетельствует о том, какой путь был проделан за тринадцать лет санитарными властями» (p. 6).
160 В этом состоит нравственная и гражданская ограниченность впечатляющего исследования Болтански и Тевено (Boltanski et Thevenot. Op. cit. 1991). Гипотеза о некоей общей человечности заходит в тупик, не отвечая важнейшему из нравственных требований: оставить открытым вопрос о том, что составляет человечность, а что нет.
161 Если нам больше не нужны эти несносные ангажированные интеллектуалы, говорящие от имени Науки, которая дает им право парализовать политику, то моралисты смогут играть роль, для которой им не потребуется ни Наука, ни пророческий тон, ни иллюзия разоблачения. (Walzer Michael. Critique et sens commun. [1990]).
162 Этика дискуссии (распространяющаяся как на людей, так и на нелюдéй), обязанность консультироваться с теми, о ком мы говорим, зависит не от морали, а от администрации, следящей за соблюдением процедуры, как мы увидим в пятой главе.
163 Мы видим неустранимые недостатки критики, которую Ферри адресует экологии (Ferry. Op. cit. 1992): если бы ему удалось воскресить античное различие моральных субъектов и инертных объектов, то он пришел бы к бессмертию!
164 В пятой главе мы найдем новую гильдию, составленную из администраторов•, польза от которой станет очевидна только после того, как мы определим власть наблюдения•, отвечающую за кривую обучаемости коллектива.
165 Я всего лишь воспроизвел это положение в схеме 3.1. Я намеренно использую выражение «верхняя палата» в противоположном смысле, так как оно обычно обозначает Сенат, тогда как нижняя – Ассамблею, чтобы напомнить о том, что подобные обозначения имеют временный характер и не отличаются последовательностью. Играя с юридическими и научными терминами, я мог бы назвать первую «палатой для ходатайств», а вторую – «палатой процессов».
166 Мы также не поддерживаем плюрализм, который принимает различные мнения при условии, что имеется некий неоспоримый общий мир, неудачно составленный из природных элементов и прав человека. Верхняя палата сможет продвинуться куда дальше в исследовании множества, чем «уважение плюрализма мнений», потому что она возьмет на себя риск не рассматривать их исключительно как мнения (Stengers Isabelle. Cosmopolitiques – Tome 7: Pour en finir avec la tolérance. [1997]), и наоборот: нижняя палата будет нуждаться в единстве гораздо больше, чем режимы, претендующие на плюралистичность.
167 Гуманитарные науки, с этой точки зрения, должны всему учиться у точных наук, но не потому, что они рассматривают своих претендентов на существование как объекты, которыми мы можем распоряжаться по своему усмотрению. Совсем наоборот: именно потому, что они день за днем в своих лабораториях проваливают эксперименты и сталкиваются с непокорностью этих самых объектов. См. важный аргумент Стенгерс (см. примеч. 31 ко второй главе), а также Деспре: Despret. Op. cit. 1999.
168 Стоит ли напоминать, что релятивизм – это позитивный термин, противоположный абсолютизму и отсылающий, по замечательному выражению Делёза, не к относительности, а к «истинности отношения» [vérité de la relation]?
169 Работа Пьера Лежандра (Legendre Pierre. Leçons I. La 901e conclusion Étude sur le théâtre de la Raison. 1998) сделала много для того, чтобы вернуть учреждению чувство собственного достоинства и выправку (одно из его любимых выражений), однако он попытался изолировать полномочия других гильдий, в особенности исследователей и социологов. В изоляции описываемое им учреждение рубит сплеча, позволяет себе произвол, при этом остается пустым и предается забвению, как Бытие у Хайдеггера. Это совсем не та роль, которую я отвожу здесь учреждению, так как она заключается в том, что мы вводим тончайшую трансценденцию, делающую возможным закрытие, которое прочие профессии обнаруживают в имманенции: в конце концов, решение принимается и оно является безусловным, но оно не рубит сплеча и в итоге сводится к «эмпирической констатации».
170 Основная проблема социологии наук заключается именно в том, что она слишком сблизила два этих термина, чтобы найти заключенное в них критическое противоречие до того, как в корне изменить отношения в критической или некритической форме. Об этой felix culpa (счастливой вине (лат.). – Примеч. пер.) социологии см.: Latour. Op. cit. 1996a.
171 И в этом случае смысл общего идет дальше здравого смысла, признавая тысячи промежуточных этапов в степени уверенности между существованием и несуществованием. Стоит только задуматься о тысяче нюансов реализма, присутствующих в простейшем утверждении: курение сигарет приводит к смерти или, из этой же серии, скорость на дороге является причиной аварий со смертельным исходом. В каком мире мы должны жить, чтобы эти высказывания содержали окончательную истину? Понятие различия в степени приобретает особую важность с учетом того, что сегодня мы имеем дело с неожиданным развитием событий, а именно с искусственным продолжением научных споров, которые мы считали давно оконченными. Это касается опасности сигарет, глобального потепления, Туринской плащаницы, рисков, связанных с ядерными отходами, и т. д. Сам факт наличия научных дисциплин сегодня совершенно не означает, что дискуссия закрыта.
172 Именно Шмитту мы обязаны тем, что снова стала очевидной крайняя политическая важность врага, к которому мы не испытываем ненависти, но я, разумеется, распространяю действие этого понятия на нелюдéй или, точнее, на составные пропозиции, состоящие из людей и нелюдéй. См. его знаменитое определение: «Пусть политический враг не будет морально зол, путь не будет он эстетически безобразен, он не должен оказаться хозяйственным конкурентом, а может быть, даже обнаружится, что с ним выгодно вести дела. Он есть именно иной, чужой, а для существа его довольно и того, что он в особенно интенсивном смысле есть нечто иное и чуждое, так что в экстремальном случае возможны конфликты с ним, которые не могут быть разрешены ни предпринятым заранее установлением всеобщих норм, ни приговором “непричастного” и потому “беспристрастного” третьего. Возможность правильного познания и понимания, а тем самым и полномочное участие в обсуждении и произнесении суждения даются здесь именно только лишь экзистенциальным участием и причастностью» (Шмитт К. Понятие политического // Понятие политического / Пер. А. Ф. Филиппова. Спб: Наука, 2016. С. 302).
Примечания к пятой главе
173 Даже когда Покок в своем монументальном классическом исследовании (Pocok J.G.A. Le moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique. 1997) реабилитирует Макиавелли и традицию, которую он представляет, то из благих побуждений сводит ее к Аристотелю, соглашаясь максимально отдалить политические полномочия от эпистемологии. Не похоже, что он осознает, что эта форма политической эпистемологии• не является сама собой разумеющейся.
174 О метафорах политического тела в «Горгии» см. седьмую и восьмую главу: Latour. Op. cit. 1999b.
175 Подобные выступления против власти не обнаруживают, несмотря на все усилия, присутствие власти в любом соотношении сил: она, скорее, принимает в них участие (см. Заключение). Критический дискурс замешан на (политической) эпистемологии: это приемный сын одновременно Сократа и Калликла. О понятии власти см.: Law John. Power, Action, and Belief: A New Sociology of Knowledge? 1986. В этом заключается основное отличие между критической социологией, которая использует понятие власти в качестве своего основного оружия, и социологией критики, которая интересуется одержимостью социологов властным дискурсом. Помимо фундаментальной работы Болтански и Тевено (Boltanski et Thevenot. Op. cit. 1991), см. антропологию критического поведения: Latour. Op. cit. 1996a.
176 Это не имеет никакого отношения к легитимации установленных фактов – соотношению сил, – столь ценимых критической социологией, которая полагает, что существенно продвинется, если возобновит дискуссию о первичных и вторичных качествах: насилие становится объяснительной силой, невидимой для акторов, пока illusio накрывает своим плащом произвольных значений наготу соотношений сил. Натурализация• снова расширяется, но на этот раз со стороны двора, т. е. общества•, а не со стороны сада, т. е. природы.
177 В этом разделе я кратко излагаю содержание Latour. Op. cit. 1991 и 1999b. Обо всех этих механизмах парадоксального хода истории см. непревзойденную книгу Шарля Пеги Клио, Диалог истории с языческой душой (Peguy Charles. Clio. Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne. [1961]).
178 Я напоминаю, что выражение «политический противник» больше не означает недочеловека, «проклятую гадину» или какое-то другое ругательство, а произносится с уважением: то, что подвергает коллектив опасности, может стать союзником и совершенно не касается морали, которая может снова «выудить» исключенных.
179 Можно задаться вопросом о связи между преступлениями и катастрофами этого наконец завершившегося века с этой суицидальной и апокалиптической концепцией. По правде говоря, люди модерна всегда хотели своей собственной гибели, уничтожения их собственного oikos. Они желают отнюдь не гибели природы, а своей собственной (см. на эту тему шестую главу книги Йонаса об утопии: Jonas. Op. cit. 1990).
180 В этом смысл употребления прошедшего составного времени во фразе «Мы никогда не были модерными» [nous n’avons jamais été modernes]. Речь также идет не об иллюзии, а об активной интерпретации истории Запада, которая имела мощный перформативный эффект, но которая постепенно теряет свою эффективность и таким образом подталкивает нас к новой интерпретации истории, то есть к чему-то весьма банальному. Именно в тот момент, когда Декарт, сидя в одиночестве перед своим камином, произносит ego cogito (я мыслю (лат.). – Примеч. пер.), научное сообщество, как мы теперь понимаем, начинает работать сообща. Что является модерным? Изолированное cogito? Совместная работа над поиском доказательств? Или же странная связь с изобретением cogito в тот момент, когда научное сообщество изобретает само себя? Ретроспективное открытие новой историей наук бесчисленных связей между науками и общественной жизнью, а также между этими связями и отказом их признавать дает самое эффектное доказательство того, что мы никогда не были модерными.
181 О новой интерпретации мифа и его примерах см.: Latour Bruno. Op. cit. 1992.
182 В данном случае я говорю об историчности второй степени, которая включает, как в нашем случае, производство знания, а не об историчности первой степени, в основе которой лежит всего лишь более оживленная картина феноменов, отныне зафиксированных (см. четвертую и пятую главы Latour. Op. cit. 1999).
183 Обвинения в историцизме казались достойными порицания только при Старом порядке по контрасту с надежно установленными фактами, которые противопоставлены миру Пещеры. Мы собираемся не полагаться на случайность, а изменить смысл этого выражения при помощи соответствующих учреждений. «Случайность» становится результатом политического разделения на то, что может быть, и то, чего быть не может, на то, что должно быть, и то, чего быть не должно.
184 Я не считаю нужным воспроизводить различие между опытом благоразумия и опытом ученых (об этом см.: Licoppe. Op. cit. 1996), так как здравый смысл•, который все чаще используется в научных войнах, нуждается в экспериментировании не меньше, чем опыт. См. замечательную цитату у Бека в примечании 16 к третьей главе: Beck. Note 16, chapitre 3.
185 Лавлок, автор гипотезы Геи, старается не представлять ее как уже сформировавшуюся тотальность. В его книгах описывается постепенное выстраивание связей между научными дисциплинами, каждая из которых ответственна за определенный участок исследований Земли, и делается неожиданное открытие того, что они могут взаимодействовать (Lovelock James. The Ages of Gaia: A Biography of Our Living Earth. [1988]; Lovelock James. Gaia: A New Look at Life on Earth. [1979]). Немного утрируя эту идею, можно сказать, что она слегка напоминает междисциплинарный Парламент.
186 Различия между процессуальной, фундаментальной и консеквенциалистской моралью становятся куда менее важными, если мы рассматриваем коллектив в его экспериментальной динамке. Если рассматривать этот вопрос более подробно, то разные школы моральной философии куда меньше противоречат друг другу, если учесть тот факт, что каждая выбирает какой-то один сегмент кривой обучаемости и пытается называть его добродетелью.
187 Отсутствие упрощенной модели коллектива – главный источник непонимания между Сократом и демосом в «Горгии».
188 Мы можем рассматривать постепенное исчезновение модернизма как его самоинтерпретацию, которая выражается во все возрастающем количестве конференций, институтов, процедур, призванных обеспечить обратную связь с опытом. Именно в моде на процедурализм, с одной стороны, и в распространении принципа осмотрительности, с другой (Godard Olivier. Le principe de précaution dans les affaires humaines. [1997]), можно увидеть верные признаки того, что у нас уже есть новая Конституция, общие черты которой я лишь набросал пунктирной линией.
189 См., например: Callon Michel. «Is Science a Public Good?” Fifth Mullins Lecture, Virginia Polytechnic Institute, 23 march 1993». 1994; Callon Michel, Laredo Philippe et Mustar Philippe. La gestion stratégique de la recherche et de la technologie. 1995.
190 К этому списку нужно добавить работы ученых вроде Лакатоса об относительной продуктивности исследовательских программ (Lakatos. Op. cit. 1994) и авторов вроде Хабермаса о качестве процедур консультации (Habermas Jürgen. De l'ethique de la discussion. [1992]). Если подобное сближение может показаться странным, то только из-за ограничений старой Конституции: Лакатос прилагает все возможные усилия, чтобы суждения о науке были защищены от вмешательства политики; Хабермас не останавливается, пока суждения людей не оказываются надежно защищены от вмешательства нелюдéй. Однако каждая из сторон нуждается именно в том, что другая хранит за семью замками… Научная политика французской Ассоциации больных миопатией, изученная Каллоном и его коллегами, кажется мне наиболее сильным примером этого нового соединения морали и вещей в оригинальной научной политике.
191 Я не буду здесь касаться мнимого конфликта между государством и рынком, который предполагает обращение к давно устаревшей концепции экономики как инфраструктуры (см. четвертую главу). Традиционному либеральному государству, которое претендует на то, чтобы избавить рынки от мелочных придирок со стороны государственной власти, я противопоставляю здесь государство, свободное от каких бы то ни было обязанностей, кроме управления, так как оно вылечилось от мании господства и больше не надеется на трансценденцию.
192 Этот пункт крайне важен для замечательного аргумента Джона Дьюи против любых тоталитаристских или тотализирующих определений государства, который он также называет экспериментальным: «Государство всегда нужно открывать заново» (Dewey. Op. cit. 1927. P. 34). По какой причине? Так как ничто не может быть тотализовано с самого начала, особенно государство: «Однако сообщество, формирующее все, предполагает организацию всех своих элементов посредством принципа интеграции. Но ведь это именно то, что мы ищем. Почему должно существовать регулируемое единство, природа которого включает в себя тотальность?» (p. 38). Да, государство занимается сообществом, но способы его тотализации нам как раз неизвестны. Если бы они были нам известны, мы могли бы контролировать любые действия; в таком случае, согласно Дьюи, нам не нужны были бы управляющие. Как только на сцене появляется правительство, это значит, что все вышло из-под контроля. Таким образом, минимальное государство не имеет ничего общего с государством либеральным, которое является всего лишь дополнением экономической «сферы».
193 Если преимущество Карла Шмитта заключается в том, что он отвергает «нейтрализацию» политического при помощи экономики или техники, а также в том, что он различает врага и преступника, он совершает ошибку, забывая о нелю́дях, и путает ту самую политику с одной из ее функций (а именно – с учреждением• экстериорности), в осуществлении которой применяется одно из ноу-хау политики. Чтобы его можно было использовать, я должен был, решившись на рискованный генетический эксперимент, совместить «врага» Шмитта и «ощущение опасности» Ханса Йонаса: в этом случае мы без труда понимаем, что внешняя среда – это не природа, а несхожесть, которая может причинить нам вред и убить нас, и что «решение» для коллектива – дело десятое.
194 В текущей дискуссии о генетически модифицированных организмах я вижу первый пример подобных междоусобных войн (одновременно технических, экономических, юридических, организационных, геополитических, то есть до известной степени мировых), так как обращение к наукам никак не поможет вернуть дискуссию в мирное русло, сместив фокус внимания на общий мир. С этой точки зрения даже случай с коровьим бешенством является менее «инновационным», поскольку «мы могли бы» предвидеть опасность благодаря существующим наукам и техникам. В случае с ГМО сам факт участия в столкновении наук и техники совершено точно создает дополнительный источник неопределенности.
195 В ситуации выбора между «глобализацией» и «культурной исключительностью» у французов возникают дополнительные сложности с выходом из модернизма, потому что они построили, назвав ее республикой, машину, которая работает только при том условии, что мы не задаем двух основных вопросов политической экологии: что такое наука? Что значит принадлежать? Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы считать себя универсальным, и я горд, что являюсь наследником этой традиции. Ошибка заключается не в изобретении прямых дорог, которые шаг за шагом, от одной точки к другой позволяют нам приблизиться к производству универсального, начиная с этого странного гибрида – нации универсального… Но практически преступлением будет считать, что эта универсальность уже дана нам в прошлом, по какому-то праву рождения, естественно, этнически, тогда как оно лежит в будущем и нуждается в том, чтобы его обсуждали снова и снова, понятие за понятием: свобода, равенство, братство. При этом невозможно объяснить, что мы доверяем формулам универсальной Науки, которые должны решить невозможную задачу интеграции шестидесяти миллионов французов, не рассматривая других вариантов. «Великая нация» снова создаст достойные условия для жизни, когда поймет, что ее требования справедливы, но она должна найти способ их достичь, обращаясь к будущему, а не к прошлому. Нельзя заранее быть универсальным, им можно только стать.
196 В свой статье, столь важной для этой книги, Эдуардо Вивейруш де Кастру (Viveiros de Castro Eduardo. «Le pronoms cosmologiques et le perspectivisme amérindien». Op. cit. [1998]) показывает, до какой степени заблуждалась этнография, распространяя слухи о том, что другие народы для самообозначения всегда использовали этноцентрическое выражение «люди» или «настоящие люди». Речь идет, по крайней мере в случае с народами Амазонии, об ошибке перевода, за счет которой первое лицо множественного числа – мы – принимается за название племени. Такая же проблема существует в случае с употреблением первого лица множественного числа для обозначения коллектива. Нет никакого народа «мы», во всяком случае пока.
197 Мне довелось почувствовать слабость подобной формулировки в Университете Чикаго, когда на меня одновременно обрушился гнев «сокалистов», настаивавших, что я должен провести абсолютное, а не относительное различие между «различными» туземными космологиями, и насмешки Маршала Салинса и его студентов, которые, в свою очередь, настаивали на том, что я с уважением отношусь к различным туземным космологиям, не требуя от них соответствия принципу единства реальности, который диктуется принципом симметрии и который должен был бы состоять в объяснении «той самой» космологии физиков в выражениях самих туземцев. Все были единодушны в стремлении избежать дискуссии по моим правилам: первые – чтобы сохранить единство природы; вторые – чтобы сохранить множество космологий. Для первых я был антропологом-релятивистом, для вторых я давал науке слишком много полномочий, требуя, чтобы мы снова говорили о реальности. Натуралисты были возмущены тем, что я говорю о множестве, культуралисты – тем, что я все еще использую эту устаревшую идею единства. Общим было лишь возмущение, хотя оно было направлено именно на то, что успокаивало противоположный лагерь, на его трансференциальный объект. Представители обоих лагерей стучали кулаком по столу, но в разное время, что создавало эффект барабанного боя! Я никогда не видел столь четкого разделения функций между натуралистами и культуралистами. Если теперь благодаря научным войнам нам известен эффект, который производит на специалиста по космологии культуралистское объяснение в космологических терминах «среди прочих», то, насколько мне известно, мы не знаем, какой эффект оно произведет на «культуру», лишенную доступа к реальности, если ей станут выказывать уважение как одной «среди прочих».
198 В моем исследовании модерна я попытался сделать антропологию «симметричной», чтобы она могла включать в себя не просто природы и культуры, а то, что я тогда называл «природо-культурами», которые можно сравнивать по другим критериям, отличным от универсальной природы. Выражение было весьма неуклюжим, а сама попытка – весьма наивной, так как, если даже мы делаем артефакты симметричными, они остаются артефактами. Антропологи за редким исключением сохранили биполярную организацию своей дисциплины: см. тем не менее Viveiros de Castro Eduardo. The World as Affect and Perspective: Nature and Culture in Amerindian Perspectives. Это тем более прискорбно потому, что, как неоднократно замечал Маршалл Салинс (Sahlins Marchall. «Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the context of Modern World History». [1993]) само понятие культуры изменилось с тех пор, как она была усвоена другими в виде одной из специфических форм политики; этот процесс Аппадураи называет «глобализацией различий»: Appadurai Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. 1996.
199 Напомним, что с нелюдьми́ всегда обращались лучше, чем с людьми, что я продемонстрировал вслед за Стенгерс во второй главе. На самом деле, их упрямство не представляет проблемы. Никто даже не мог себе представить, что о них можно вести речь, не заставив их заговорить при помощи сложных механизмов, причем переводчик зачастую рисковал своей жизнью. Но в том, что касается людей, подобные механизмы и специальные устройства по-прежнему встречаются редко. Этим объясняется сделанный в данном разделе акцент на встрече между различными «культурами». Именно их нужно приобщать к цивилизации. Встречи с нелюдьми́ после обезвреживания (политической) эпистемологии представляют куда меньшую проблему. В отношении вещей мы всегда проявляем вежливость!
200 В старой модернистской тематике «нейтральности» Науки проявлялось отсутствие уважения к нелю́дям, не способным, как считалось, делать различия и сведенным к нелепому наличному бытию инанимизма•. См.: Bloor. Op. cit. 1998.
201 Я заимствую выражение и аргументацию у Стенгерс: Stengers. Op. cit. 1997. См. удачный пример: Pury Sybille. Traité du malentendu. Théorie et pratique de la méditation interculturelle. 1998.
202 Именно по этой причине Изабель Стенгерс призывала «покончить с толерантностью» – в этой толерантности всегда было что-то невыносимое (Stengers. Op. cit. 1997), особенно если она достигается за счет отказа от требования реальности. Таков пагубный эффект модернистской идеи убеждения: люди модерна убеждены, что другие также имеют убеждения (Latour. Op. cit. 1996a). Нет ничего хуже толерантности мультикультурализма. Открытость разума кого-то вроде Гегеля, который сам выполняет всю дипломатическую работу по производству синтеза, также едва ли может считаться добродетелью, потому что он занимается ею один в своем кабинете. Несложно договориться с теми, с кем уважительно говоришь издалека, помещая их непонятно где и рассматривая как давно пройденный этап истории абсолютного Духа!
203 Об истории соглашения относительно matters of fact можно прочесть в книге Шейпина и Шеффера (Shapin et Schaffer. Op. cit. 1993; Shapin. Op. cit. 1994). Если XVII век придумал, как положить конец гражданским войнам, заключив мир относительно фактов, получаемых в лаборатории, установленных джентльменами, то век XXI может снова поставить этот вопрос, к своему ужасу обнаружив, что лабораторные факты могут быть реальными и весьма спорными. Что же касается джентльменов… (см. Заключение).
204 См. удивительную работу по дипломатии Маршалла Салинса (Sahlins Marshall. How “Natives” Think: About Captain Cook, for Example. [1995]), который спорит с одним из своих оппонентов, утверждавшим, что гавайцы ответственны за смерть капитана Кука с точки зрения универсального «благоразумия», которое он путает с мнением британцев о Боге. Также стоит обратить внимание на невероятную работу, проделанную Вивейрушем де Кастру, который стал официальным представителем философии индейцев Амазонии, чтобы понять всю сложность любых юридических начинаний: если индейцы согласятся определять общий мир, то необходимо изменить метафизику. Именно он позволил мне позаимствовать выражение «мультинатурализм», потому что их коллектив предполагает наличие человеческой культуры, единой для всех людей и нелюдéй, а также разных природ, которые отличаются от одного тела к другому.
205 Я не понял этого явления, столкнувшись с ним в Африке более тридцати лет назад, и только после консультаций с Тоби Натаном я смог понять разницу между приемом пациента в контексте антропологии и дипломатии риска (Nathan Tobie. L’influence qui guerit. [1994]). Разумеется те, кто восклицают, подобно известному парижскому психоаналитику: «Без универсального бессознательного, больше нет Французской республики!», обвиняют Натана в культурализме – точно так же, как «сокалисты» обвиняют меня в социальном конструктивизме. За этим непониманием просматривается реакция модернизма, не способного представить, что придет на смену дихотомии природа/культуры. Если вы хотите, чтобы встреча прошла в другой обстановке, чтобы те, к кому вы обращаетесь, соответствовали общим и универсальным требованиям, чтобы нелю́ди отличались бы не только по факту, то окажетесь предателем. Да, дипломат – это предатель, но он может добиться успеха там, где те, кто остался верен, потерпели неудачу, потому что он единственный, кто сомневается в том, что его сограждане смогли понять свои истинные цели в этой войне.
206 Недостаток структурализма, как и изолированных обобщений Гегеля, заключался в том, что он основывал общий мир и описывал законы его внутреннего устройства (симметрия, инверсия, схожесть, оппозиция, конденсация и т. д.), не принимая в расчет тех, кого объединяли различные культуры и чье мнение считалось столь же малозначимым, что и вторичные качества в метафизике природы•. Признав одновременно важность различия между субъективным и объективным и невозможность его применения, Леви-Стросс не видит другого выхода, кроме как изобрести новое неизвестное, структурное бессознательное, что «позволяет нам соответствовать видам деятельности, которые одновременно наши и чужие и являются условием любой умственной деятельности всех времен и народов» (Mauss Marcel. Sociologie et anthropologie / Introduction de Claude Lévi-Strauss. [1950]. Р. 21). Все меняется если, как это произошло со мной в музее Ванкувера, мы натыкаемся на витрину, внутри которой большая серая коробка, скрывающая церемониальные маски индейского племени, вместо того чтобы демонстрировать их западным посетителям (La recherché. № 316, janvier 1999. P. 82). На коробке была написано: «Культурно чувствительный материал»! Подобное предупреждение должно предварять все вопросы космополитики, мешая структуралистам делать их тяжеловесные обобщения. Неизвестного теперь недостаточно, чтобы установить контакт с другими, избегая их.
207 На дипломата клевещут, представляя его продавцом ковров. Если мы для примера возьмем спор между американскими креационистами и эволюционистами, то не устраним их разногласий относительно мира, созданного шесть тысяч лет назад, и Земли, сформировавшейся шесть миллиардов лет назад, если предложим им сойтись на двух миллиардах лет. Это никого не устроит. Дипломатия идет намного дальше: она требует, чтобы мы выложили на стол все, что знаем о Боге и о Земле. Именно в этом заключается преимущество экспериментальной метафизики над метафизикой природы•, что сталкивается лоб в лоб с традициями, с которыми она борется.
208 Именно по этой причине Левиафан, «этот смертный Бог, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой», кажется монстром. Он представляет политику не больше, чем природа представляет науки. В этом заключалась моя ошибка, когда в своей книге о людях модерна я попытался установить симметрию между артефактом Науки и артефактом Политики. Именно поэтому я отказался от принципа симметрии, заменив его на одинаковое уважение к наукам и политикам.
209 Это стало темой небольшого «Научно-политического трактата», который я написал на исходе холодной войны, подчеркивая параллелизм между религиозными и научными войнами (Latour Bruno. Op. cit. 1984). Тогда единственным решением мне казалось различие между силой и властью, за счет которого можно было уйти от устаревшего противопоставления рациональных отношений и соотношения сил. Я полагал, что общее применение принципа симметрии позволит нам от него избавиться. Тогда я еще не понимал конституирующей функции модернизма, которая делала подобный маневр невозможным.
Примечания к послесловию
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. Д. Кралечкина, под ред. В. Кузнецова. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 13.
2 Мы согласны с оценкой бразильского антрополога Эдуарду Вивейруша де Кастру, заметившего, что делёзианство является одним из элементов «теоретического базиса» Латура, хотя «многие важные темы работ Латура достаточно чужды духу делёзианской философии». Вивейруш де Кастру Э. Каннибальские метафизики / Пер. с фр. Д. Кралечкина, под ред. Е. Блинова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 65.
3 Не стоит забывать, что сети Латура имеют ризоматический характер. Сам Латур не возражал против термина «актантно-ризоматическая онтология». Latour B. «On recalling ANT». In: Law J., Hassard J., editors. (eds) Actor Network Theory and After. Oxford: Blackwel. 1999. P. 19.
4 Негри А., Хардт М. Империя / Пер. с англ. Г. Каменской, М. Фетисова. М.: Праксис, 2004. (Negri A., Hard, M. Empire. N.Y.: Harvard University Press, 2000). Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / Пер. с фр. под ред. С. Фокина. Спб.: 2011 (Boltanski L., Chiapello E. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris, Gallimard, 1999).
5 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федорова. М.: Прогресс-Традиция, 2000 (Risic Gesellschaft. Beck); Cf. Бек У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника, под ред. А. Филиппова. М.: Прогресс Традиция, 2001 (Beck U. Was ist Globalisierung? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997).
6 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М. Левина. М.: АСТ, 2007 (Fukuyama F. The End of History and the Last Man. N.Y.: Free Press, 1992).
7 Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Пер. с фр. Д. Калугина, под ред. О. Хархордина. Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006 (Latour B. Nous n’avons jamais été modernes. Paris: Découverte, 1991). Наш комментарий к переводу на русский «модерна» в смысле Латура см. ниже.
8 Термин, позаимствованный из семиотики Греймаса и призванный подчеркнуть неантропоморфный характер акторов.
9 Чем объясняется достаточно неожиданная отсылка к Карлу Шмитту: основная компетенция политиков состоит в определении врагов.
10 Латур Б. Пастер. Война и мир микробов. С приложением «Несводимого» / Пер. с фр. А. Дьякова. Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.
11 О смысле, который революционные ораторы вкладывали в термин «возрождение» (régénération), см. обзорную статью Моны Озуф: Ozouf M. «Régénération» // Ozouf M., Furet F. Dictionnaire critique de la Révolution Français: Idées. Paris: Flammarion, 2007. Pp. 373–390. См. также: Jaume L. Le religieux et le politique dans la Révolution française. L'idée de la régénération. Paris : P.U.F., 2015.
12 Именно под этим заголовком в издательстве «Зуркамп» вышел немецкий перевод «Политик природы»: Latour B. Das Parlament der Dinge: Für eine politische Ökologie. Suhrkamp: Frankfurt am Mein, 2001.
13 Возражение о том, что греки советовались с Пифией, можно отвести на том основании, что, в латурианских терминах, она была всего лишь одним из многих нечеловеческих акторов, мнение которых стоило учитывать.
14 Ср. с атакой Делёза на так называемых новых философов: «Я нахожу их мысль довольно убогой. Я могу найти этому два объяснения. Прежде всего, они использует дутые концепты, раздувшиеся, как нарыв: ТОТ САМЫЙ Закон, ТА САМАЯ Власть, ТОТ САМЫЙ Господин, ТОТ САМЫЙ Мир, ТО САМОЕ Восстание» (Делёз Ж. Мая 68-го не было / Пер. с фр. Е. Блинова. Ад Маргинем Пресс, 2016, С. 53).
15 Ср.: «Гегель ничего не говорит о крушении королевского строя. Этот строй уже умер. И убила его пропаганда Aufklärung. Осталось только похоронить покойника. Великая революция всегда не кровава в своем начале. Прежний строй гибнет от заразы, от Ansteckung… а не от руки убийцы. Пропаганда Aufklärung и была этой заразой. Теперь, когда труп погребен, мир стал Миром абсолютной Свободы» (Кожев А. Введение в чтение Гегеля / Пер. с фр. А. Погоняйло. Спб.: Наука, 2003. С. 180).
16 «Природный» и «естественный» передаются по-французски одним и тем же словом «naturel». В тех случаях, когда имеется сложившаяся традиция перевода, как, например, в случае «естественного права» [droit naturel], мы переводим на русский как «естественный», в остальных стараемся подчеркивать его отношение к «природе», ср.: «природный договор».
17 См. ответную реакцию Вивейруша де Кастру в его «Каннибальских метафизиках», опубликованных через десять лет после «Политик природы» (Кастру де Э. Цит. соч. С. 31–42). Индейский мультинатурализм, как показывает де Кастру, основан на радикальном метафизическом «монокультурализме» или представлении о том, что все нечеловеческие существа живут социальной жизнью, которая ничем принципиально не отличается от человеческой.
18 Ср. у Вивейруша де Кастру: «Принимать всерьез – значит, прежде всего, не подвергать нейтрализации. Это, к примеру, подразумевает заключение в скобки вопроса о том, действительно ли и каким именно образом подобная мысль иллюстрирует когнитивные универсалии человека как вида, действительно ли она объясняется определенными социально детерминированными способами передачи знания, выражает ли она специфическое культурное мировоззрение, подтверждает ли она на функциональном уровне распределение политической власти, – как и многие другие формы нейтрализации мысли других» (Там же. С. 144).
19 Руссо Ж.-Ж. Трактаты / Пер. с фр. А. Хаютина и В. Алексеева-Попова. М.: Наука, 1969. С. 178.
20 Декомб В. Современная французская философия / Пер. с фр. М. Федоровой. М.: Весь мир, 2000. С. 10.
21 С его точки зрения, эта линия, проходящая от Вольтера и Золя до Сартра, обрывалась с появлением Фуко (Делёз Ж. Мая 68-го не было. Цит. соч. С. 82).
22 О критике революционного «имманентизма» Руссо см.: Блинов Е. Речь как первое установление общества: Жан-Жак Руссо и революционная политика языка // Логос. № 6 (96), 2013. Manin B. «Rousseau» // Ozouf M., Furet F. Dictionnaire critique de la Révolution Français: Idées. Paris: Flammarion, 2007; Barny R. L’éclatement révolutionnaire de rousseauisme. Paris: Les Belles Lettres, 1988.
23 По-французски они передаются одним и тем же словом «représentation», но сложившаяся традиция перевода на русский двумя разными терминами позволяет хорошо передать различие, которое проводит Латур между легитимным «представительством» в демократических коллективах и нелегитимной «репрезентацией» Старого метафизического порядка.
24 О борьбе якобинцев с «корпорациями» см.: Rosanvallon P. Le Modèle politique français: La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours. Paris (Seuil), 2004.
25 Если под фронтальной мы подразумеваем критику понятия единой природы.
26 Встречающийся перевод «нечеловеки», как нам кажется, является неуместным в данном контексте архаизмом. См.: Латур Б. Нового времени не было. Цит. соч. Ударение необходимо для того, чтобы избежать ненужных ассоциаций с «нéлюдями», т. е. людьми, лишенными базовых моральных принципов.
27 Здесь можно увидеть переиначенный делёзианский мотив «устройств» [agencements]. Ср.: описание различных устройств: Делёз Ж. Мая 68-го не было. Цит. соч. С. 34–37.
28 Ср.: «у них нет ни четких очертаний, ни определенной сущности, ни резко обозначенного разрыва между твердым ядром и окружающей средой» (с. 34).
29 Experience (фр.) — «опыт», происходит от ex-perire (лат.) – «подвергаться опасности».
30 Zourabichvili F. Vocabulaire de Deleuze. Paris: Ellipses, 2004 P. 72.
31 Редактор русского перевода работы 1991 года указывает лишь, что «это решение далось с трудом», но, наш взгляд, не приводит конкретных аргументов в пользу своего выбора. См.: Латур Б. Нового времени не было. Цит. соч. С. 5, 70–71.
32 Бодрияйр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было / Пер. с фр. А. Качалова. М.: Рипол Классик, 2016.
Библиография
Acot, Pascal (1988), Histoire de l’écologie, Paris, PUF, «Politique éclatée».
Akrich, Madeleine (sous la direction de) (1990), Des machines et des hommes, numéro spécial de Techniques et Culture, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.
– et Mark Berg (en préparation), Theorizing Bodies.
Appadurai, Arjun (1996), Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Ashmore, Malcolm, Derek Edwards et Jonathan Potter (1994), «The Bottom Line: the Rhetoric of Reality Demonstrations», Configurations, vol. 1, p. 1–14.
Baratay, Éric et Élisabeth Hardouin-Fugier (1998), Zoos. Histoire des jardins zoologiques en Occident (XVIe-XIXe), Paris, La Découverte.
Barbier, Rémi (1992), Une cité de l’écologie, EHESS, mémoire de DEA.
Barnes, Barry et Steven Shapin (sous la direction de) (1979), Natural Order. Historical Studies in Scientific Culture, London, Sage.
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. В. Седельника, Н. Федоровой. М: Прогресс Традиция, 2000.
– (1995), Ecological Politics in an Age of Risk, Cambridge, Polity Press.
– (1997), The Reinvention of Politics. Rethinking Modernity in the Global Social Order, London, Polity Press.
Beck, Ulrich, Anthony Giddens et Scott Lash (1994), Reflexive Modernization, Stanford, Stanford University Press.
Berg, Marc et Anne-Marie Mol (1998), Differences in Medicine. Unraveling Practices, Techniques and Bodies, Durham, Duke University Press.
Biagioli, Mario (1993), Galileo Courtier. The Practice of Science in the Culture of Absolutism, Chicago, Chicago University Press.
Bijker, Wiebe et John Law (sous la direction de) (1992), Shaping Technology-Building Society. Studies in Sociotechnical Change, Cambridge, Mass, MIT Press.
Блур Д. Анти-Латур // пер. Г. Егорова. Логос, 2017, 27–1, C. 85–134.
Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов / пер. О. Ковеневой. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
Bookchin, Murray (1996), The Philosophy of Social Ecology. Essays on Dialectical Naturalism, New York, Black Rose Books.
Botkin, Daniel B. (1990), Discordant Harmonies. A New Ecology for the 20th Century, Oxford, Oxford University Press.
Bourg, Dominique (1993), Les Sentiments de la nature, Paris, La Découverte.
Brunschwig, Jacques et Geoffrey Lloyd (1996), Le Savoir grec. Dictionnaire critique, Paris, Flammarion.
Cadoret, A. (sous la direction de) (1985), Protection de la nature. Histoire et idéologie, Paris, L’Harmattan.
Callon, Michel (1986), «Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs en baie de Saint-Brieuc», L’Année sociologique, p. 169–208.
– (sous la direction de) (1989), La Science et ses réseaux. Genèse et circulation des faits scientifiques, Paris, La Découverte.
– (1992), «Techno-economic Networks and Irreversibility», Sociological Review Monograph, John Law (sous la direction de), London, Routledge Sociological Review Monograph, p. 132–164.
– (1994), «Is Science a Public Good. Fifth Mullins Lecture, Virginia Polytechnic Institute, 23 March 1993», Science, Technology and Human Value, vol. 4, p. 395–424.
– (1995), «Representing Nature, Representing Culture». Center for Social Theory and Technology, University of Keele, 24 mars 1995.
– (sous la direction de) (1998), The Laws of the Market, Oxford, Blackwell.
Callon, Michel, Philippe Laredo et Philippe Mustar (sous la direction de) (1995), La Gestion stratégique de la recherche et de la technologie, Paris, Économica.
Callon, Michel et Bruno Latour (1981), «Unscrewing the Big Leviathans How Do Actors Macrostructure Reality», Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro and Macro Sociologies, Karin KNORR et Aron CICOUREL (sous la direction de), London, Routledge, p. 277–303.
– (1985), Les Scientifiques et leurs alliés, Paris, Éditions Pandore.
– (1992), «Don’t throw the Baby out with the Bath School ! A reply to Collins and Yearley», Science as Practice and Culture, Andy Pickering (sous la direction de), Chicago, Chicago University Press, p. 343–368.
– (1997), «“Tu ne calculeras pas” ou comment symétriser le don et le capital», Nouvelle revue du Mauss, vol. 9, p. 45–70.
Каллон М. Некоторые элементы социологии перевода: одомашнивание морских гребешков и рыбаков залива Сен-Бриё // пер. А. Корбута. Соицология Власти, 2015, 27–1, 196–231.
Canghuilhem, Georges (1977), Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin.
Кассен Б. Эффект софистики / пер. А. Россиуса. М.; СПб.: «Московский философский фонд», «Университетская книга», «Культурная инициатива», 2000.
Charvolin, Florian (1993), L’Invention de l’environnement en France (1960–1971). Les pratiques documentaires d’agrégation à l’origine du ministère de la Protection de la Nature et de l’Environnement, Paris, École nationale supérieure des mines de Paris.
Chase Alston (1987), Playing God in Yellowstone. The Destruction of America’s First National Park, New York, Harcourt Brace.
Chateauraynaud, Francis, Christophe Hélou, Cyril Lemieux et al. (1999), Alertes et prophéties. Les risques collectifs entre vigilance, controverse et critique. Rapport de fin de contrat. (Deux volumes), Paris, Programmes Risques collectifs et Situations de crise du CNRS.
Cochoy, Franck (1999), Une histoire du marketing. Discipliner l’économie de marché, Paris, La Découverte.
Collins, Harry et Martin Kusch (1998), The Shape of Actions. What Human and Machines can Do, Cambridge, Mass, MIT Press.
– et Steven Yearley (1992), «Epistemological Chicken», Science as Practice and Culture, Andy Pickering (sous la direction de), Chicago, Chicago University Press, p. 301–326.
Cronon, William (1991), Nature’s Metropolis. Chicago and the Great West, New York, Norton.
– (sous la direction de) (1996), Uncommon Ground. Rethinking the Human Place in Nature, New York, Norton.
Cussins, Charis (1995), «Les Cycles de la conception: les techniques de normalisation dans un centre de traitement de la stérilité», Technique et Culture, vol. 25–26, p. 307–338.
– (1997), «Des éléphants dans le magasin de la science», La Recherche, vol. 303, p. 53–56.
Dagognet, François (1990), Nature, Paris, Vrin.
Daston, Lorraine (1998), «The Nature of Nature in Early Modern Europe», Configurations, vol. 2, p. 149–172.
– et Katharine Park (1999), Wonders and the Order of Nature, Cambridge, Mass, Zone Books.
Dear, Peter (1991), The Literary Structure of Scientific Arguments, Philadelphia, University of Pensylvania Press.
Deléage, Jean-Paul (1991), Histoire de l’écologie, une science de l’homme et de la nature, Paris, La Découverte.
Descola, Philippe (1986), La Nature domestique. Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.
– (1996), «Constructing Natures: Symbolic Ecology and Social Practice», Nature and Society. Anthropological Perspectives, Philippe Descola et Gisli Palsson (sous la direction de), London, Routledge, p. 82–102.
– et Gisli Palsson (sous la direction de) (1996), Nature and Society. Anthropological Perspectives, London, Routledge.
Despret, Vinciane (1996), Naissance d’une théorie éthologique, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond.
– (1999), Ces émotions qui nous fabriquent. Ethnopsychologie de l’authenticité, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond.
Дьюи Д. Общество и его проблемы / пер. И. Мюрберга, А. Толстова, Е. Косиловой. М.: Идея-Пресс, 2002.
Drouin, Jean-Marc (1991), Réinventer la nature. L’écologie et son histoire (préface de Michel Serres), Paris, Desclée de Brouwer.
Eder, Klaus (1996), The Social Construction of Nature, London, Sage.
Ehrlich, Paul R. et Anne H. Ehrlich (1997), Betrayal of Science and Reason. How Anti-Environmental Rhetoric Threatens Our Future, Washington, DC, Island Press.
Ferry, Luc (1992), Le Nouvel Ordre écologique (l’arbre, l’animal et l’homme), Paris, Grasset.
Fox-Keller, Evelyn (1985), Reflections on Gender and Science, New Haven, Yale University Press.
– (1999), Le Rôle des métaphores dans les progrès de la biologie, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond.
Galison, Peter (1997), Image and Logic. A Material Culture of Microphysics, Chicago, The University of Chicago Press.
Godard, Olivier (1990), «Environnement, modes de coordination et systèmes de légitimité: analyse de la catégorie de patrimoine naturel», Revue économique, vol. 2, p. 215–242.
– (sous la direction de) (1997), Le Principe de precaution dans les affaires humaines, Paris, Éditions de l’INRA et de la MSH.
Golley, Frank Benjamin (1993), A History of the Ecosystem Concept in Ecology: More than the Sum of the Parts, New Haven, Yale University Press.
GomarT, Émilie (1999), Surprised by Methadone. Thèse de doctorat, Paris, École des Mines.
Gould, Stephen-Jay (1991), La Vie est belle, Paris, Le Seuil.
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / пер. С. Шачина, Д.Скляднева. М.: Наука, 2001.
– (1992), De l’éthique de la discussion, Paris, Cerf.
– (1996), Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Cambridge, Polity Press.
Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук / пер. С. Кузнецова. М.: Логос, 1998.
Haraway, Donna (1989), Primate Visions. Gender, Race and Nature in the World of Modern Science, Londres, Routledge and Kegan Paul.
Харауэй Д. Манифест киборгов. Наука, технология и социалистический феминизм 1980-х / пер. А. Гараджи. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
Haudricourt, André-George (1987), La Technologie science humaine. Recherches d’histoire et d’ethnologie des techniques, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.
Hermitte, Marie-Angèle (1996), Le Sang et le droit. Essai sur la transfusion sanguine, Paris, Le Seuil.
Hutchins, Edwin (1995), Cognition in the Wild, Cambridge, Mass, MIT Press.
Irwin, Alan et Brian Wynne (sous la direction de) (1996), Misunderstanding Science? The Public Reconstruction of Science and Technology, Cambridge, Cambridge University Press.
Jasanoff, Sheila (1992), «Science, Politics, and the Renegotiation of Expertise at EPA», Osiris, vol. 7, p. 195–217.
– (1995), Science at the Bar. Law, Science and Technology in America, Cambridge, Mass, Harvard University Press.
Jeanneret, Yves (1998), L’Affaire Sokal ou la querelle des impostures, Paris, PUF.
Йонас Г. Принцип ответственности / пер. И. Маханькова. М.: Айрис-Пресс, 2004.
Jones, Carrie et Peter Galison (sous la direction de) (1998), Picturing Science, Producing Art, London, Routledge.
Jullien, François (1992), La Propension des choses, Paris, Le Seuil, coll. «Travaux».
Жульен Ф. Трактат об эффективности / пер. Б. Крушняка. М.-Спб.: Университетская книга, 1999.
Jurdant, Baudoin (sous la direction de) (1998), Impostures intellectuelles. Les malentendus de l’affaire Sokal, Paris, La Découverte.
Knorr-Cetina, Karin (1999), Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge, Cambridge, Mass, Harvard University Press.
Койре А. От замкнутого мира к бесконечной Вселенной / пер. В. Стрелкова, К. Голубовича, О. Зайцевой. М.: Логос, 2001.
Lafaye, Claudette et Laurent Thévenot (1993), «Une justification écologique? Conflits dans l’aménagement de la nature», Revue française de Sociologie, vol. 4, p. 495–524.
Lakatos, Imre (1994), Histoire et méthodologie des sciences. Programmes de recherche et reconstruction rationnelle, Paris, PUF.
Lapoujade, David (1997), Williams James. Empirisme et pragmatisme, Paris, PUF.
Larrère, Catherine (1997), Les Philosophies de l’environnement, Paris, PUF.
– et Raphaël Larrère (1997), Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Paris, Aubier.
Lascoumes, Pierre (1994), Éco-pouvoir. Environnements et politiques, Paris, La Découverte.
– et Jean-Pierre Le Bourhis (1997), L’Environnement ou l’administration des possibles, Paris, L’Harmattan.
– Michel Callon et Yannick Barthe (sous la direction de) (1997), Information, consultation, expérimentation: les activités et les formes d’organisation au sein des forums hybrides, Paris, CNRS, Actes du séminaire Programmes Risques collectifs et Situations de crise.
Lash, Scott, Bronislaw Szerszynski et Brian Wynne (sous la direction de) (1996), Risk, Environment and Modernity: Towards a New Ecology, London, Sage.
Латур Б. Пастер. Война и мир микробов. С приложением «Несводимого» / пер. А. Дьякова. Спб.: Из-во Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2015.
Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / пер. Д. Калугина. Спб.: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2006.
– (1992), Aramis, ou l’amour des techniques, Paris, La Découverte.
– (1993), «Arrachement ou attachement?» (Compte rendu du livre de Luc Ferry), Écologie politique, p. 15–26.
Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри сообщества / пер. К. Федорова. СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013.
– (1995b), «Moderniser ou écologiser. À la recherche de la septième Cité», Écologie politique, vol. 13, p. 5–27.
– (1996a), Petite réflexion sur le culte moderne des dieux Faitiches, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond.
– (1996b), Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, Le Seuil, coll. «Points Poche».
– (1997), «Socrates’ and Callicles’ Settlement or the Invention of the Impossible Body Politic», Configurations, vol. 2, p. 189–240.
Латур Б. Дэвиду Блуру… и не только: ответ на «Анти-Латур» Дэвида Блура / пер. А. Писарева. Логос, 2017, 27–1, С. 135–162.
– (1999b), Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge, Mass, Harvard University Press.
– et Émilie Hermant (1998), Paris, ville invisible, Paris, La Découverte, Les Empêcheurs de penser en rond.
– et Pierre Lemonnier (sous la direction de) (1994), De la préhistoire aux missiles balistiques – L’intelligence sociale des techniques, Paris, La Découverte.
Latour, Bruno, Cécile Schwartz et Florian Charvolin (1991), «Crises des environnements: défis aux sciences humaines», Futur antérieur, vol. 6, p. 28–56.
Laudon, Anne et Christine Noiville (1998), Le Principe de précaution, le droit de l’environnement et l’Organisation mondiale du commerce, Paris, Rapport remis au ministère de l’Environnement, novembre 1998.
Law, John (1986), «On Power And Its Tactics: A View From The Sociology Of Science», The Sociological Review, p. 1–38.
– et Gordon Fyfe (sous la direction de) (1988), Picturing Power. Visual Depictions and Social Relations, London, Routledge.
Legendre, Pierre (1998), Leçons I. La 901e conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, Paris, Fayard.
Lépinay, Vincent (1999), Sociologie de la controverse des deux Cambridge. Circulation et manipulation d’un formalisme en économie mathématique, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, mémoire de DEA.
Licoppe, Christian (1996), La Formation de la pratique scientifique. Le discours de l’expérience en France et en Angleterre (1630–1820), Paris, La Découverte.
Llyod, G.E.R. (1996), «Cognition et culture: Science grecque et science chinoise», Annales HSS, vol. 6, p. 1185–1200.
Lovelock, James (1988), The Ages of Gaia. A Biography of our Living Earth, New York, Bentam Books.
– (1979), Gaia A New Look at Life on Earth, Oxford, Oxford University Press.
Lynch, Mike et Steve Woolgar (sous la direction de) (1990), Representation in Scientific Practice, Cambridge, Mass, MIT Press.
MacKenzie, Don (1996), Knowing Machines: Essays on Technical Change, Cambridge Mass, MIT Press.
Macnaghten, Phil et John Urry (1998), Contested Natures, London, Sage.
Mauss, Marcel (1950), Sociologie et anthropologie. Introduction de Claude Lévi-Strauss, Paris, PUF.
Merchant, Carolyn (1980), The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution, London, Wildwood House.
– (1992), Radical Ecology. The Search for a Livable World, London, Routledge.
Miller, Peter (1994), «The Factory as Laboratory», Science in Context, vol. 3, p. 469–496.
Moscovici, Serge (1977 [1968]), Essai sur l’histoire humaine de la nature, Paris, Flammarion.
Naess, Arne (1988), Ecology, Community and Lifestyle: outline of an ecophilosophy, Cambridge, Cambridge University Press.
Nathan, Tobie (1994), L’Influence qui guérit, Paris, Odile Jacob.
Péguy, Charles (1961), «Clio Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne», Oeuvres en prose (sous la direction de), Paris, Gallimard, «La Pléiade».
Pestre, Dominique (1995), «Pour une histoire sociale et culturelle des sciences. Nouvelles définitions, nouveaux objets, nouvelles pratiques», Annales (Histoire, Sciences sociales), vol. mai-juin, p. 487–522.
Pickering, Andrew et Adam Stephanides (1992), «Constructing Quaternions: On the Analysis of Conceptual Practice», Science as Practice and Culture, Andrew Pickering (sous la direction de), Chicago, Chicago University Press, p. 139–165.
Pocock, J.G.A. (1997), Le Moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique, Paris, PUF.
Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени / пер. А. Васильева, С. Федорова, А. Шурбелевой. СПб: Алетейя, 2002.
Поппер К. Открытое общество и его враги / В. Садовский (ред.). М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992.
Poulot, Dominique (1997), Musée, nation, patrimoine. 1789–1815, Paris, Gallimard.
Power, Michael (sous la direction de) (1995), Accounting and Science: National Inquiry and Commercial Reason, Cambridge, Cambridge University Press.
Pury, Sybille de (1998), Traité du malentendu. Théorie et pratique de la médiation interculturelle, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond.
Rémy, Élizabeth (1997), «Comment dépasser l’alternative risque reel/ risque perçu. L’exemple de la controverse sur les champs électromagnétiques», Annales des mines, p. 27–34.
Rheinberger, Hans-Jorg (1997), Toward a History of Epistemic Things. Synthetizing Proteins in the Test Tube, Stanford, Stanford University Press.
Robertson, George et al. (sous la direction de) (1996), Futurenatural. Nature/Science/Culture, London, Routledge.
Roger, Alain et François Guéry (sous la direction de) (1991), Maîtres et protecteurs de la nature, Le Creusot, Champ Vallon (diffusion La Découverte).
Rogers, Richard et Noortje Marres (1999), «Landscapping Climate Change: Mapping Science & Technology Debates on the World Wide Web», Public Understanding of Science (à paraître).
Roqueplo, Philippe (1993), Climats sous surveillance. Limites et conditions de l’expertise scientifique, Paris, Économica.
Rosental, Claude (1996), L’Émergence d’un théorème logique. Une approche sociologique des pratiques contemporaines de démonstration, Paris, École nationale supérieure des mines, Thèse de sociologie.
Rothenberg, David et Arne Naess (1993), Is it Painful to Think? Conversations with Arne Naess, Minnesota University Press.
Rotman, Bryan (1993), Ad Infinitum. The Ghost in Turing Machine. Taking God out of Mathematics and Putting the Body Back In, Stanford, Stanford University Press.
Sahlins, Marshall (1993), «Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World History», The Journal of Modern History, vol. 1, p. 1–25.
– (1995), How «Natives» Think. About Captain Cook, for example, Chicago, Chicago University Press.
Schaffer, Simon (1997), «Forgers and Authors in the Baroque Economy», Paper presented at the Meeting «What is an Author?» Harvard University, March 1997.
Schiebinger, Londa (1995), Nature’s Body: Gender in the Making of Modern Science, New York, Beacon Press.
Шмиттт К. Понятие политического / пер. А. Филиппова. СПб.: Наука, 2016.
Serres, Michel (1987), Statues, Paris, François Bourin.
– (1990), Le Contrat naturel, Paris, François Bourin.
Shapin, Steven (1992), «Discipline and Bounding: The History and Sociology of Science as Seen Through the Externalism Debate», History of Science, vol. 30, p. 334–369.
– (1994), A Social History of Truth: Gentility, Civility and Science in XVIIth Century England, Chicago, Chicago University Press.
– (1998), La Révolution scientifique, Paris, Flammarion.
– et Simon Schaffer (1985), Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle and the Experimental Life, Princeton, Princeton University Press.
– (1993), Le Léviathan et la pompe à air – Hobbes et Boyle entre science et politique, Paris, La Découverte.
Simmel, Gorg ([1900] 1987), Philosophie de l’argent, Paris, PUF.
Smith, Crosbie et Norton Wise (1989), Energy and Empire. A Biographical Study of Lord Kelvin, Cambridge, Cambridge University Press.
Soper, Kate (1995), What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human, Cambridge, Cambridge University Press.
Stengers, Isabelle (1996), Cosmopolitiques, tome 1: La Guerre des sciences, Paris, La Découverte-Les Empêcheurs de penser en rond.
– (1997), Cosmopolitiques, tome 7: Pour en finir avec la tolérance, Paris, La Découverte-Les Empêcheurs de penser en rond.
– (1998), «La guerre des sciences: et la paix?», Impostures scientifiques. Les malentendus de l’affaire Sokal, Baudouin Jurdant (sous la direction de), Paris, La Découverte, p. 268–292.
Stone, Christopher D. (1985), «Should Trees Have Standing? Revisited: How Far Will Law and Morals», Southern California Law Review.
– (1987), Earth and Other Ethics. The Case for Moral Pluralism, New York, Harper and Row.
Strathern, Marylin (1992), After Nature. English Kinship in the Late 20th Century, Cambridge, Cambridge University Press.
Strum, Shirley et Linda Fedigan (sous la direction de) (2000), Primate Encounters, Chicago, University of Chicago Press.
Suchman, Lucy (1987), Plans and Situated Actions. The Problem of Human Machine, Cambridge, Cambridge University Press.
Tarde, Gabriel (1902), Psychologie économique, Paris, Félix Alcan.
Тард Г. Монадология и социология / пер. А. Шестакова. Пермь: Гиле Пресс, 2016
Thévenot, Laurent (1993), «Essai sur les objets usuels. Propriétés, fonctions, usages», Raison pratique – Les objets dans l’action, vol. 4, p. 85–114.
– (1996), «Stratégies, intérêts et justifications à propos d’une comparaison France-États-Unis de conflits d’aménagement», Techniques, territoires et sociétés, p. 127–150.
Thomas, Nicholas (1991), Entangled Objects. Exchange, Material Culture and Colonialism in the Pacific, Cambridge, Mass, Harvard University Press.
Thomas, Yan (1980), «Res, chose et patrimoine» (Note sur le rapport sujet-objet en droit romain), Archives de philosophie du droit, p. 413–426.
Tromm, Danny (1996), La Production politique du paysage. Éléments pour une interprétation des pratiques ordinaires de patrimonialisation de la nature en Allemagne et en France, Paris, Institut d’études politiques de Paris. Thèse de doctorat.
Vinck, Dominique (1995), La Sociologie des sciences, Paris, Armand Colin.
Viveiros Decastro, Eduardo (à paraître), The Worlds as Affect and Perspective: Nature and Culture in Amerindian Cosmologies.
– (1998), «Les pronoms cosmologiques et le perspectivisme amérindien», Gilles Deleuze. Une vie philosophique, in Éric Alliez (sous la direction de), Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, p. 429–462.
Waldron, Arthur (1990), The Great Wall of China. From History to Myth, Cambridge, Cambridge University Press.
Walzer, Michael (1990), Critique et sens commun, Paris, La Découverte.
Weart, Spencer R. (1980), La Grande Aventure des atomistes français: les savants au pouvoir, Paris, Fayard (traduit de l’anglais).
Western, David (1997), In the Dust of Kilimandjaro, New York, Shearwater/Island Press.
– R. Michael Wright et Shirley Strum (sous la direction de) (1994), Natural Connections. Perspectives in Communitybased Conservation, Washington DC, Island Press.
Whitehead, Alfred-North (1998 [1920]), Le Concept de nature, Paris, Vrin.
– (1995), Procès et réalité. Essai de cosmologie, Paris, Gallimard.
Yearley, Steven (1991), The Green Case: a Sociology of Environmental issue. Argument and Politics, London, Harper and Collins.
Zimmerman, Michael E. (1994), Contesting Earth’s Future: Radical Ecology and Postmodernity, Berkeley, California University Press.
Zourabichvili, François (1994), Deleuze, une philosophie de l’événement, Paris, PUF.
Примечания
1
Действуй локально, думай глобально (англ.). – Здесь и далее под приводятся примечания переводчика.
(обратно)2
Право и власть (англ.).
(обратно)3
Природная политика, реальная политика (нем.).
(обратно)4
Волшебный материал (англ.).
(обратно)5
Глубинная экология (англ.).
(обратно)6
Поверхностная антропология (англ.).
(обратно)7
Он/она (англ.).
(обратно)8
Человек творящий (лат.).
(обратно)9
Философии природы (нем.).
(обратно)10
Сила и мощь, знание и сила (англ.).
(обратно)11
Великая клоака (лат.).
(обратно)12
В конце (лат.).
(обратно)13
Положений дел (англ.).
(обратно)14
Держатели акций (англ.).
(обратно)15
Здесь: строгой (англ.).
(обратно)16
С красными [от крови] зубами и когтями (англ.).
(обратно)17
Человека экономического (лат.).
(обратно)18
От Платона до НАТО (англ.).
(обратно)19
По случаю (лат.).
(обратно)20
Чистой прибыли (англ.).
(обратно)21
Посчитаем (лат.).
(обратно)22
«Модернизировать или экологизировать? Вот в чем вопрос» (англ.).
(обратно)23
Чужие (англ.).
(обратно)24
Упорствовать [в своих заблуждениях] – от дьявола (лат.).
(обратно)25
Гордыни (греч.).
(обратно)26
Издержках и противовесах (англ.).
(обратно)27
Обыденного знания (англ.).
(обратно)28
Сделка (англ.).
(обратно)29
Путь чести (лат.).
(обратно)30
Наука сказала свое слово: дело закрыто (лат.).
(обратно)31
Либо общество, либо природа (лат.).
(обратно)


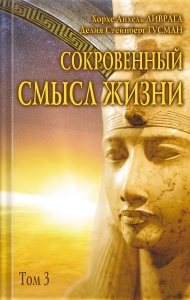



Комментарии к книге «Политики природы», Бруно Латур
Всего 0 комментариев