Дмитрий Травин Просуществует ли путинская система до 2042 года?
Предисловие
Нетрудно заметить, что, сочиняя заголовок этой книги, я воспользовался двумя известными первоисточниками: романом Владимира Войновича «Москва 2042» и статьей Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».
Войнович, написавший свой роман еще в 1980-х, удивительным образом прочувствовал будущее пришествие путинской России и изобразил ее в 2042 г. Сходство, конечно, не стопроцентное, однако пересечений с реальностью, пожалуй, больше, чем в любой из существующих антиутопий. Своеобразный синтез православия с коммунизмом. Авторитаризм, восходящий к обоим этим источникам. И даже так называемый Гениалиссимус — офицер КГБ, стоящий во главе новой системы, или, точнее, являющийся ее символом, национальным лидером. Перечитывая Войновича сегодня, невольно задумываешься также о том, не угадал ли автор еще и с датой? В 2042 г. Владимиру Путину стукнет всего лишь девяносто, и он вполне может оставаться если не реальным правителем России, то, во всяком случае, ее живым символом.
Амальрик, написавший статью в 1960-х, задавался вопросом: насколько жизнеспособно было государство, в котором мы жили? И хотя в деталях своего анализа он оказался не слишком точен, с датой почти угадал. На следующий год после того, который Амальрик указал в заголовке, к власти в стране пришел Михаил Горбачев, и СССР фактически вступил в завершающую стадию своего существования. Понятно, что, подбирая название пророческой статьи, автор ориентировался на известный роман Джорджа Оруэлла «1984», но, как бы то ни было, точность попадания завораживает. Может, и мы, позаимствовав дату у Войновича, невольно попадем в точку? Если не в десятку, то хотя бы в восьмерку?
Впрочем, никаких гаданий в этой книге не будет. И не будет попыток определить точную дату, когда конкретно путинский политический режим прекратит свое существование. Перед нами стоят три другие задачи. Во-первых, понять, в чем причины политической устойчивости выстроенной Путиным системы.
Во-вторых — в чем причины ее экономической неэффективности. В-третьих — к какому финалу она в целом может прийти.
Сделать настоящий прогноз невозможно. И в этом кроется еще одна причина появления такого названия книги. Заголовок, пересекающийся с сатирой Войновича, автоматически становится несколько ироничным. Это снимает с меня ответственность за точность размышлений о будущем. Главное — не угадать. Главное — выяснить: могут ли вообще достаточно долго существовать подобные политические системы? Могут ли они пережить своего создателя?
В сегодняшнем российском обществе удивительным образом сочетаются безудержный оптимизм одной его части с безудержным пессимизмом другой. Оптимисты — это те, кто полагает, что Россия при Путине встала с колен. Пессимисты — те, кто обращает внимание на реальное положение дел. Прямо как в старом анекдоте: пессимист — это хорошо информированный оптимист.
За всю свою жизнь не встречал я среди пессимистов такого безудержного пессимизма, как сегодня. Если в советское время причиной деградации страны являлся навязанный нам тоталитарный режим, то в нулевые годы мы видели, как общество само построило режим, не способный к развитию. И при этом не только не огорчается полученному результату, но еще и громко аплодирует.
Видя всё это, современные пессимисты приходят к выводу, что российский менталитет вообще препятствует нормальному развитию государства. Иными словами, страны с нормальной культурой нормально и развиваются, а ненормальность — удел лишь таких бедолаг, как мы. Десятки книг уже написаны пессимистами о том, почему русская культура вечно будет порождать то Ивана Грозного, то Сталина, то Путина, то еще какого-нибудь вождя, способного отбросить нас назад даже после достижения временного успеха.
Я не разделяю подобных воззрений. И в этой книге пытаюсь соединить информацию о реальных процессах, происходящих в России, с некоторой долей оптимизма. Не стану обнадеживать читателя относительно возможности быстро преодолеть тот очередной застой, в который попала наша страна. Увязли мы, к сожалению, крепко. Но постараюсь показать, что стагнация всё же не вечна. И, самое главное, она не определяется фатальностью русской культуры.
В то же время я полагаю, что нынешние наши проблемы совсем не случайны. И связаны они отнюдь не только с личностью политического лидера, выстроившего режим. Роль Путина в современной России, конечно же, огромна. Без него страна выглядела бы по-другому. Но и без него она, скорее всего, не была бы похожа на Эстонию, Литву, Чехию или Польшу, которым после 1989 г. удалось сравнительно удачно выбраться из социалистического плена.
Существуют вполне объективные причины того, что Россия — не Эстония. Но причины эти не связаны с деструктивными особенностями народного менталитета. Они порождены вполне конкретными историческими обстоятельствами. И если уходят в прошлое обстоятельства, то непременно вместе с ними уходят и проблемы.
А вот о том, что это за обстоятельства, как они могут уйти в прошлое и почему в России рано или поздно будут позитивные перемены, в кратком предисловии не расскажешь. Об этом — вся предлагаемая читателю книга.
Владимир Войнович — писатель:
«До революции Советским Союзом правили глубокие старцы. <...> Благодаря хорошим условиям жизни и успехам медицины каждое следующее поколение вождей было старее предыдущего. Дело дошло до того, что из двенадцати последних членов Политбюро семь заканчивали свою деятельность, находясь в полном маразме, двое передвигались исключительно в инвалидных креслах, один был полностью парализован, другой глух, как тетерев, а самый главный управлял ими всеми, находясь последние шесть лет в коматозном состоянии.
Тогда-то Гениалиссимус и произвел революцию, которая произошла в результате так называемого "заговора рассерженных генералов КГБ". <...>
Придя к власти, они решили немедленно покончить с бесхозяйственностью, бюрократизмом, взяточничеством, воровством, кумовством, местничеством, землячеством, язычеством, пустословием, славословием, суесловием, парадностью, пьянством, пустозвонством, ротозейством, головотяпством, стали усиливать производственную дисциплину и бороться за перевыполнение планов».
(Войнович В. Москва 2042. Роман-анекдот, глава «Августовская революция»)
Глава 1. В ожидании Путина
Размышления о причинах и последствиях нашего печального застоя надо начать, наверное, с вопроса о демократии, поскольку она вообще-то может прекратить это состояние. Что, мол, нам стоит переменить власть? И вскоре застой прекратится. Примут иные законы, сформируют иное правительство... И дела пойдут на лад.
На практике, однако, не всё так просто. Режим наш, скорее, можно назвать не демократией, а электоральным авторитаризмом. Несмотря на сложное название, здесь всё ясно. Это такая демократия, когда на выборы ходишь постоянно, но побеждают всегда одни и те же. Поскольку на самом деле народ не выбирает, а голосует. Что при ближайшем рассмотрении — не одно и то же.
При виде такой картины одни говорят, что народ в демократии разочаровался, а другие — что народ просто дурят. Как тот, так и другой ответ, не вполне верен. Чтобы разочароваться, надо, наверное, сначала очароваться. А чтобы позволить себя задурить на голом месте, надо быть дураком.
Тому, что народ не дурак, хоть в своем выборе и ошибается, будет, по большому счету, посвящена вся книга. А вот с тем, очаровывались ли мы демократией, попробуем разобраться сразу же.
Что общего у демократии и мылодрамы?
Я лично хорошо помню тот день, когда очаровался демократией. Было это в первую же предвыборную кампанию 1989 г., когда впервые формировали союзный депутатский корпус на альтернативной основе. Я попытался тогда проникнуть на собрание жителей Василеостровского района Ленинграда (поскольку сам там жил). На этом собрании среди многочисленных кандидатов в кандидаты должны были отобрать тех, кто становился кандидатом в депутаты. Странные были правила. По нынешним временами диковатые. Но завлекательные.
Завлекся я, естественно, очень быстро, но в зал не попал, поскольку его заранее забили свезенными на автобусах рабочими василеостровских заводов, которые должны были проголосовать за кандидата, специально подобранного ленинградскими партийными властями. У входа бурлила и волновалась огромная масса политически активных граждан (вроде меня), желающих попасть внутрь потому, что им хотелось участвовать в решении судеб страны. Милиция, как и положено, граждан не пускала, считая, что пролетариев в пролетарском государстве для определения судеб страны вполне достаточно.
Бурлящие и волнующиеся совсем уж отчаялись, но тут восторжествовала демократия в лице корреспондента газеты «Ленинградская правда», специально присланного освещать события. Он потребовал от милиционеров пропустить общественность, и — сейчас в такое трудно поверить — стражи порядка подчинились. Ведь «Ленинградская правда» являлась органом обкома КПСС, а значит, даже рядовой корреспондент, согласно советской Конституции, представлял собой руководящую и направляющую силу общества.
Направил он наше общество в зал, и мы стали определять судьбы страны. Но самое интересное даже не это. Граждан оказалось гораздо меньше, чем пролетариев. Однако исход отбора кандидатов в кандидаты вовсе не был предопределен. Специально свезенные рабочие быстро превращались в граждан. Они слушали выступления, задавали вопросы, мыслили и принимали решения. Сегодня на такого рода мероприятии свезенная автобусами публика проголосовала бы именно так, как требует начальство. А тогда результат вышел — пятьдесят на пятьдесят. Отсев прошли не только «правильные» рабочие, но и неправильные «интеллигенты».
Была ли это действительно демократия? Для ответа на данный вопрос надо понять: что же по-настоящему заводило тогда людей?
Четкое понимание того, как твой голос влияет на политический процесс? Вряд ли. Возможно, у части прорывавшихся сквозь милицейские кордоны граждан такое понимание было, но у подавляющего большинства собравшихся — нет. Если бы активное меньшинство их не завело, разъехались бы пролетарии по своим квартирам, честно исполнив свой долг зиц-заседателей. Но в ходе образовавшихся дискуссий им стало интересно. Скучное «заседалово» превратилось в увлекательное ток-шоу с неопределенной концовкой. А ведь в советское время мы еще не знали практически никаких современных ток-шоу (да и всяких прочих шоу, кроме игровой телепрограммы «Что? Где? Когда?»).
Тогда я по наивности думал, что мы решаем судьбы страны, но сегодня понимаю, что большинство лишь играло в увлекательную игру. В которую можно играть долго. Пока не надоест, конечно.
Любопытно отметить, что подготовка к выборам на Первый съезд народных депутатов СССР шла фактически параллельно с показом по TV первой многосерийной зарубежной мылодрамы под названием «Рабыня Изаура». И пользовалось это «мыло» такой же популярностью, как демократия.
По сей день сериалы и разного рода шоу доминируют у нас в зрелищном ряду. Только латиноамериканское «мыло» сменилось отечественным, а «демократия» уступила место «Танцам со звездами», «Фабрикам звезд», «Дому-2» и целому ряду хорошо режиссируемых политических ток-шоу, на которых можно выпустить пар, поболев за симпатичного тебе горлопана. Особенно если это Жириновский или другой подобный персонаж. Зрелищности во всём этом гораздо больше, чем в унылом процессе хождения на избирательный участок, когда результат народного волеизъявления всё равно известен заранее.
Да и сами заседания нашего нынешнего парламента по зрелищности не сравнить с Первым съездом, на котором случались реальные баталии. Тогда люди даже по улице ходили с приемниками, чтобы слушать прямую трансляцию со съезда, а сегодня самим депутатам скучно присутствовать на заседаниях, и они уходят отдыхать, передав карточки для электронного голосования своим «дежурным по залу» коллегам. «Демократия» стала рутиной, а в телевизионные шоу и в сериалы регулярно закачиваются огромные деньги, чтобы удерживать публику. Ведь без нее не будет рекламы, а без рекламы не будет денег.
В общем, «демократия» конца 1980-х была на поверку всего лишь качественным развлекательным шоу, которое нравилось обществу, непривычному к таким развлечениям. За исключением небольшого процента граждан, все остальные были зрителями. И разочаровывались они потом не в демократии как политическом институте, а в «демократии» как устаревшем зрелище, где роли исполняют ныне убогие провинциальные актеры без драйва, мастерства и увлекательного сценария.
Реальная демократия у нас не в прошлом, а в будущем. Бессмысленно сейчас говорить о разочаровании в том, чего еще толком не было. Проблемы, связанные с путинской политической системой, никак не определяются разочарованием в такой плохо понятной вещи, как «демократия». Хотя, конечно, разочарованием они действительно определяются. Только разочаровывался народ совсем другим.
Трагедия российского ВПК
Реформы 1990-х гг. породили в России множество недовольных. И эти недовольные ждали спасителя, который навел бы порядок в стране и избавил бы российское общество от всяческих бедствий — от потери работы, задержек зарплат, обесценивания доходов и сбережений.
Не стоит идеализировать реформы. При их проведении народу выживать было очень трудно. Большое число людей, проигравших от рыночных преобразований, — это не миф, а реальность. Но не стоит впадать и в другую крайность — делать вид, будто при ином варианте проведения реформ пострадавших у нас не было бы. Страдали люди, увы, не столько от самих преобразований, сколько от характера экономической системы, которую пришлось реформировать. Главная ее особенность состояла в гипертрофированном военно-промышленном комплексе (ВПК). В СССР, долгое время пытавшемся поддерживать паритет с США в гонке вооружений, ВПК был чрезвычайно сильно развит. Оборонные расходы Советского Союза, как правило, превышали в послевоенный период 20% валового продукта. Доля военной продукции в общем выпуске промышленной продукции превышала, по некоторым оценкам, 40%.
Лишь крайне малую часть техники, создаваемой ВПК, можно было продавать на мировом рынке за реальные деньги, используемые потом для импорта потребительских товаров. А в основном содержать предприятия и институты «оборонки» приходилось за счет госбюджета. Он формировался из средств тех предприятий, которые делали для народа что-то полезное. В СССР для нужд ВПК спокойно брали деньги с хороших заводов, но в рыночной экономике эти предприятия уже нельзя было обирать до нитки, поскольку тогда они не имели бы стимулов работать на потребителя, решать проблему товарного дефицита.
Получается, что масштабы ВПК и появление колбасы, масла, сыра в свободной продаже на всем пространстве огромной России оказывались связанными проблемами. Если не сокращать госрасходов на оборонный заказ, то невозможно будет получить от экономики должную отдачу для потребителя. А если сокращать, то непонятно, как быть с миллионами людей, задействованных в работе на ВПК.
Более того, работники ВПК в процессе реформ, к сожалению, должны были испытать не только трудности, связанные с физическим выживанием без привычного государственного финансирования, но и серьезные моральные страдания. Многие из тружеников «оборонки» были высококлассными специалистами в своей области. Многие гордились тем, что работают в самой важной (как нам объясняли в советское время) отрасли экономики. Многие ощущали превосходство еще и от того, что годами получали зарплаты более высокие, чем работники, делавшие колбасу, масло и сыр. Теперь же всё вдруг сместилось. «Пищевка» оказалась востребована рынком, тогда как «оборонка» перестала получать поддержку. В «пищевке» люди стали неплохо зарабатывать, тогда как «оборонщикам» пришлось увольняться или подрабатывать где-то на стороне.
Более того, проблема усугублялась еще и тем, что далеко не все могли уволиться или подработать, даже если готовы были сменить профиль своей деятельности. Многие предприятия ВПК в целях секретности советская власть размещала в малых городах Сибири и на Крайнем Севере. Жизнь там в рыночных условиях становилась особенно дорогой, поскольку своих продуктов не имелось. А самое главное — не было иной работы, потому что эти городки в целом формировались вокруг одного-двух военных производств. Уволиться с предприятия там можно было, но найти иной вариант выживания — крайне тяжело. И столь же тяжело перебраться на жительство в крупные города, поскольку в гибнущих военно-промышленных городках не продашь квартиру и, значит, не соберешь денег на переезд, на покупку недвижимости по новому месту работы.
Особенно тяжело было вынести бремя перемен тем, кто достиг уже солидного возраста к началу 1990-х. Если в молодости нетрудно сменить характер своей деятельности и получить иное образование, то в 40—50 лет и, тем более, непосредственно накануне выхода на пенсию таких возможностей практически нет. Работники ВПК не были виноваты в том, что попали в столь сложное положение. Но не попасть в него они, увы, не могли.
Необходимость частичного сворачивания ВПК не зависела от характера и темпа проведения реформ. Быстрее или медленнее они шли, делали ли их Гайдар, Черномырдин или Примаков — в любом случае «на выходе» доля ВПК в экономике должна была оказаться существенно меньшей, чем «на входе» (в 1991 г.). При Гайдаре закупки вооружений пришлось сократить сразу в восемь раз, поскольку последнее советское правительство оставило страну без всяких резервов с разваливающейся экономикой и с деньгами, не обеспеченными товарами. Но даже если бы это сокращение можно было растянуть на несколько лет, а не делать единовременно, всё равно в ВПК к концу 1990-х гг. оказалось бы множество недовольных людей, потерявших работу, доходы и статус.
Кто-то из них в итоге обустроился, а кто-то так и остался к концу 1990-х в бедственном положении. Кто-то принял в целом необходимость рыночных преобразований, а кто-то тосковал по советской власти. Но в любом случае у этих людей остался тяжелый осадок от процесса перемен. С демократизацией и рынком они начали связывать все свои потери.
Андрей Нечаев — министр экономики России с февраля 1992 по март 1993 г.:
«А по закупкам ситуация была такая. Замом по вооружению у Шапошникова был генерал-полковник Миронов, ныне покойный.
Я еще был на птичьих правах: мы же все были назначены в Россию, а я пришел и сел в союзный Госплан и там, собственно, рулил, не имея на это никаких реальных и юридических прав. Я провел совещание по закупкам вооружений, на котором мироновские генералы заявили: "Нам нужно 45 млрд рублей. Это минимальная программа закупки вооружений на 1992 год". А мне мои агенты донесли, что на самый худой конец они согласятся и на 25 млрд. Но и это для тогдашнего бюджета было непосильно. Я говорю: "А у меня есть пять. Вот мы посчитали, что у нас есть. У нас есть 5 млрд рублей, и это все". Дискуссии не получилось. Потому что, когда один говорит 45, а другой 40,тогда есть некий административный торг. Но когда один говорит 45, а другой 5, то совещание очень быстро заканчивается. Там было человек 20 генералов, и они все вышли. Мы остались вдвоем: я и Миронов. Я его провожаю из кабинета, а он меня покровительственно хлопает по плечу и говорит: "Я думаю, мы с вами еще встретимся, молодой человек. Я уверен, вы перемените свое мнение". <...> Я, естественно, к Гайдару: "Такая ситуация, ты просто имей в виду — они наверняка пойдут к Ельцину". Он переговорил с президентом. Через два дня звонит Миронов и говорит: "Андрей Алексеевич, дайте 9 млрд, мы все решим". "Извините, только 5". В итоге дали 7,5 все-таки».
(Авен П., Кох А. Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук. М.: Альпина Паблишер, 2013. С. 151-152)
Андрей Нечаев:
«Кардинально была сокращена закупка танков — буквально до нескольких штук. И это было вполне оправданно. Во-первых, мы выводили танки из Германии. Во-вторых, на нескольких заводах, например, "Омсктрансмаше", и без того существовали просто "залежи" этих танков. В сущности, это была трагедия для Омского завода. И когда я через некоторое время приехал в Омск, то увидел, что директор завода просто отказывается поверить в столь резкий поворот событий. Он не мог осознать, что продукция его предприятия в прежних объемах просто не требуется стране. Упорно не хотел перестраиваться, не соглашался идти ни на какую конверсию. Он все ждал, что мы снова начнем закупать танки. Ведь сколько лет закупали — и теперь вдруг не будут? Помню, разговор с ним складывался очень тяжело. В какой-то момент он сказал: "Давайте сделаем перерыв, я отвезу Вас на полигон. Сами увидите, какие мы делаем танки". Танки действительно производили внушительное впечатление. Но тут он опрометчиво провез меня чуть дальше на место, где хранились уже выпущенные и вывезенные из ГДР танки. Это было величественное и одновременно трагическое зрелище. Гигантская просека в тайге, и, сколько хватает взгляда, видишь уходящие вдаль аккуратные ряды слегка припорошенных снегом танков. Их было тысячи. После этого я просто взорвался. Даже повысил голос, что со мной случается крайне редко. "У Вас здесь танков на несколько десятков лет, а Вы требуете денег, чтобы делать еще. И это когда стране не хватает бюджетных средств на самое необходимое. Да Вас под суд нужно отдать за вредительство", — жестко выговаривал я бедолаге директору».
(Нечаев А. Россия на переломе. Откровенные записки первого министра экономики. - М.: Русь-Олимп, Астрель, 2010. С. 151-152)
Евгений Ясин — министр экономики России с ноября 1994 по март 1997 г.:
«В 1996 г. накануне президентских выборов я в составе делегации Б.Н. Ельцина посетил Омский танковый завод. Огромные цеха стояли пустые, в них слонялись отдельные люди. Руководство спрашивало: что им делать? Я как министр экономики не мог дать им ответа. За городом мне показали огромный космический комплекс, где не производились запуски ракет и вообще едва теплилась жизнь. В Челябинске на совещании руководителей оборонных предприятий меня спрашивали, что делать с испытательными полигонами, которые очень дорого содержать и которые наверняка понадобятся в будущем. Я попросил сидящих в зале "красных директоров" продолжать то, что они до сих пор делали, и поблагодарил за сохранность ценных сооружений. Но денег не дал — их не было.
Зато на машиностроительном заводе в Кургане работа кипела, там производили самые современные боевые машины пехоты для арабских заказчиков. Наша армия таких БМП не имела никогда. Станкостроительное объединение им. Я.М. Свердлова в Санкт-Петербурге было одним из самых продвинутых предприятий в России в производстве самых современных станков, имея приличную долю на западных рынках с высокотехнологичной продукцией. Эти достижения пропали, предприятие не могло использовать экспортные кредиты и проиграло в конкуренции. Кроме того, многие смежники прекратили производство высококачественных материалов и комплектующих. Это несколько примеров из личного опыта, позволяющих более живо представить себе, какие драмы разыгрывались тогда в нашей экономике, что собой в реальности представляла пассивная фаза структурной перестройки».
(Ясин Е. Структура российской экономики и структурная политика. Вызовы глобализации и модернизация. - М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. С. 42-43)
Егор Гайдар — исполняющий обязанности председателя правительства России с июня по декабрь 1992 г.:
«Заметьте, гуманитарную помощь нам поставляли страны, которые еще недавно рассматривались в качестве потенциальных противников СССР. Ну, какие вам нужны военные расходы в такой ситуации? Для чего и как вы собираетесь воевать со странами, у которых просите гуманитарную помощь, в том числе для того, чтобы прокормить собственную армию?»
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 1. С. 229)
Советская военная ловушка
Гипертрофированный советский ВПК обслуживал гипертрофированную армию. Ее нормальное содержание даже Советскому Союзу было непосильно, поскольку мы пытались противостоять Соединенным Штатам как нашему наиболее вероятному противнику. США по своей экономической мощи сильно превосходили СССР. Более того, часть военной нагрузки брали на себя американские союзники по НАТО, среди которых были такие высокоразвитые страны, как Великобритания, Франция, Германия, Италия. Наши союзники по Варшавскому договору в экономическом плане сильно отставали и значительной доли нагрузки нести не могли. Получалось, что СССР взваливал на себя сверхтрудное бремя. Уже сам этот факт предопределял то, что мы жили в советское время намного беднее капиталистического мира. И без серьезного сокращения армии нашу бедность мы преодолеть никак не могли.
Более того, в связи с распадом СССР военная нагрузка на российскую экономику стала еще больше. Другие страны постсоветского пространства не стремились сохранить себя в качестве великих держав и потому не слишком хотели финансировать армию. Россия же объявила себя правопреемником Советского Союза и сохранила в известной мере свои имперские амбиции. Соответственно, она должна была финансировать старые вооруженные силы, обладая экономикой, значительно меньшей по размеру, чем экономика СССР.
Желания пришли в противоречие с возможностями, и сокращение армии стало неизбежно. При этом недовольство сокращаемых столь же неизбежно должно было вылиться именно на российские власти, которые не могли сказать, как прибалты или кавказцы, что военное бремя, мол, было навязано им Москвой.
Борис Ельцин ставил задачу уменьшить наши войска с 3 млн до 1,9 млн человек. Однако сама по себе общая численность военнослужащих, подлежащих сокращению, с экономической точки зрения большой проблемой не является. Сократи призыв — и армия автоматически сильно уменьшится. А молодежь только выиграет от этого, поскольку ее перестанут отвлекать от учебы и работы.
Но вот сокращение офицерского корпуса представляло собой задачу, даже более сложную, чем конверсия и сокращение числа работников ВПК. Офицеру не скажешь, что мы, мол, прекращаем тебя финансировать из бюджета и крутись, парень, теперь, как можешь, ищи новую работу, выживай собственными силами. Страшно даже представить, как будет выживать собственными силами человек, обладающий оружием и навыками военных действий, но не финансируемый из бюджета. Особенно, если живет он не в крупном городе, а в маленьком военном городке, где в принципе никакой работы найти невозможно, кроме той, которую предоставляет государство.
Таким образом, сокращение офицерского корпуса в идеале должно сопровождаться переселением семей военнослужащих в обычные города, предоставлением им квартиры, выходного пособия и оказанием помощи в переобучении, поскольку военная специальность редко может быть востребована в гражданском секторе экономики. Решение подобной задачи в пореформенные годы было совершенно невозможно, так как СССР сформировал столь большую по численности армию, что даже те офицеры, которые должны были получать жилье в порядке очереди, сделать этого не могли. Когда же к ним добавились еще и сокращаемые военнослужащие, ситуация стала совсем безнадежной. Страна попала в ловушку: уволить людей нельзя, поскольку на это нет денег, и оставлять в армии нельзя, поскольку на это тоже нет денег.
Возможно, сокращение армии удалось бы на какое-то время растянуть, однако вторая ловушка, оставленная Советским Союзом в наследство России, состояла в необходимости срочно выводить на родину войска, размещавшиеся на территории Центральной и Восточной Европы. ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия не хотели больше иметь у себя советские военные базы. Горбачевский СССР получил от стран Запада большие кредиты, и одним из условий экономической поддержки было разоружение.
По идее, эти кредиты надо было использовать на трудоустройство и обеспечение жильем военнослужащих. Однако деньги были проедены страной еще до распада СССР из-за того, что экономические реформы эпохи перестройки были очень плохо спланированы. В итоге Россия столкнулась с тем, что выводить войска надо, но денег на нормальное обеспечение офицеров уже нет.
Долгое время уволенным и действующим военнослужащим пришлось мыкаться без нормальных условий жизни. А ведь это были люди, в наименьшей степени подготовленные по роду своей деятельности и образу жизни к принятию реформ и демократии. Их воспитывали в уверенности, что военная служба важна и почетна, что они — лучшие люди страны, готовые жертвовать жизнью за Родину. А значит, Родина должна жертвовать всем ради армии и военной подготовки офицеров.
И вдруг облом. Они нищие. Они никому не нужны. Они бремя для российской экономики. Нетрудно представить, как советские офицеры должны были воспринимать эпоху «лихих 90-х», оставившую их без работы и в то же время не предложившую фактически никакой приемлемой альтернативы.
Эдуард Воробьев — генерал-полковник, с июля 1992 по 1995 г. первый заместитель главкома Сухопутных войск:
«С упразднением Варшавского договора начался массовый вывод советских войск с территории Германии, Польши, Венгрии, Чехословакии. <...> Вся эта военная махина влилась в военные округа, расположенные на территориях союзных республик, не по оперативно-стратегической необходимости, а по возможности округов по ее размещению. Они не имели планов применения прибывших войск. Многочисленные проблемы по их размещению и обустройству решали не столько эти войска, сколько дислоцированные ранее.
Самым сложным оказалось размещать войска в новых пунктах дислокации. Не хватало ни времени, ни выделяемых средств.
А в округа шли и шли эшелоны с техникой, вооружением, запасами материально-технических средств, военнослужащими. Большинство семей прибывавших офицеров и прапорщиков не имело постоянного жилья на территории Советского Союза. Командование военных округов размещало их в общежитиях, переоборудовало под жилье солдатские казармы, строило сборно-щитовые бараки.
Это вызывало недовольство офицеров и прапорщиков, служивших на родине: они ведь были без жилья, а "переселенцы" мало того, что получали за рубежом двойной оклад (один — в валюте страны пребывания, другой — в советских рублях, которые начислялись на расчетную книжку), "тактеперь им еще и квартиру подавай". Размещение выводимых из-за границы войск и недопущение взрыва недовольства среди военнослужащих, прежде всего офицеров, стало главной задачей не только военных округов, но и Вооруженных сил в целом. Все другие задачи отодвигались на второй план. <...>
При этом группировки войск на территориях бывших союзных республик не были боеспособны хотя бы потому, что у них отсутствовали национальные органы военного управления. Единая организационно-штатная структура разрушилась, все перепуталось: воинские формирования, военнослужащие, жилье, реализация желания о месте прохождения дальнейшей службы. <...>
Возглавляя оперативную группу Объединенных миротворческих сил в Приднестровском регионе, я обнаружил, что новый ракетный дивизион "Точка" оказался на территории Молдавии без штата (все офицеры и прапорщики убыли в основном в Россию), никто не знал, что с ним делать. Впоследствии его обменяли на стрелковое оружие, автомобили, горюче-смазочные материалы и перевели в Россию».
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 3. С. 546-551)
Куда ни кинь — всюду клин
Если бы число людей, пострадавших от реформ 1990-х, ограничилось только работниками ВПК и военнослужащими, это было бы еще полбеды. Настоящая же беда состояла в том, что большое число пострадавших находилось еще и в тех отраслях, которые вроде бы должны были работать не на быстро беднеющее государство, а непосредственно на потребителя.
При любой власти, любой социально-экономической системе потребитель должен покупать продукты питания, приобретать крышу над головой, отдыхать и развлекаться, лечиться и т.д. Более того, для производства масла, сыра и колбасы, строительства жилых домов, отелей и кинотеатров нужно оборудование, спрос на которое тоже должен теоретически существовать в любой ситуации. Казалось бы, в десятках отраслей российской экономики, ориентированных на мирные цели, не должно было возникнуть особых проблем. Однако они появились.
Квартиры в советской системе не продавались, а предоставлялись бесплатно в порядке очереди. Платил за них госбюджет, так же как за вооружение. Соответственно, от раздачи квартир при переходе к рынку приходилось отказываться, как и от финансирования части ВПК. Неудивительно, что строители перестали получать нормальную зарплату до тех пор, пока не сформировался рынок недвижимости. А произошло это далеко не сразу, поскольку в трудные времена лишь единицы могли скопить на квартиру.
Кроме жилых домов государство в советское время финансировало множество промышленных строек. Но планы строительства составлялись вне реальной зависимости от потребностей населения. Создавались различные военные объекты, прокладывались магистрали с сомнительной окупаемостью, строились заводы для производства оборудования, спроса на которое на самом деле не имелось. Естественно, такого рода бессмысленное строительство государство должно было пресечь, чтобы не растрачивать денег впустую. Но отказ в финансировании строек усугублял и без того сложное положение строителей.
Продукция сельского хозяйства в советской системе продавалась за деньги, однако колхозы и совхозы получали от государства большую финансовую поддержку, чтобы цены на продукты в магазинах были поменьше. При сокращении такой поддержки колхозники неизбежно несли финансовые потери. Более того, потери села были связаны еще и с тем, что раньше туда в принудительном порядке на уборку урожая отправляли студентов, инженеров, научных работников, а в рыночных условиях роль такого «рабовладельческого подхода» сильно уменьшилась. Деревня должна была справляться сама или сокращать посевы.
Положение дел в деревне неизбежно сказывалось на положении дел в сельскохозяйственном машиностроении. Раньше колхозы закупали комбайны, не считаясь с затратами. И ломали их, ни о чем не заботясь, поскольку государство списывало долги. Но в новых условиях финансировать сельхозтехнику, которая быстро переправлялась с колхозных баз в металлолом, было слишком расточительно. Поэтому положение дел на заводах, механизировавших село, оказалось не намного лучше, чем на предприятиях ВПК.
Похожим образом обстояло дело в станкостроении, хотя и по совсем иной причине. Советская власть почему-то очень гордилась числом произведенных станков. Видимо, она полагала, что это автоматически приводит к росту механизации предприятий и росту производительности труда. Причем было известно, что для такого большого числа станков у нас даже не хватает станочников. Значительная часть оборудования простаивала в цехах, а то и просто на складах и во дворах. Заводам-потребителям станков было, в общем-то, наплевать на то, используются они или нет, поскольку за них платило государство. При переходе к рынку государство платить перестало. Соответственно, число людей, недовольных реформами, пополнили еще и станкостроители.
Наконец (что вроде бы совсем парадоксально), большой объем ненужной продукции создавали наши советские предприятия в сфере товаров народного потребления. И это при огромном товарном дефиците. Причина — плановая экономика, при которой не потребитель определяет, что конкретно надо выпускать, а чиновник по согласованию с директором. Если людям вообще нечего надеть, они, конечно, всё сметут с прилавков, но если в целом народ одет и обут (как обстояло дело в 1980-х гг.), то покупать станут лишь более качественные и модные вещи. А обувь «лапотных фасонов» (такой термин использовал сам Л.И. Брежнев в одном из выступлений) останется на складе. При переходе к рынку обувщики за такие фасоны перестали получать помощь от государства, а потому даже среди тех работников, которым рынок открывал хорошие возможности, появились люди, пострадавшие от преобразований.
Советская экономика за десятилетия своего существования настолько была искажена бюрократическими требованиями, что проще, наверное, сказать, какая отрасль не испытывала трудностей в годы реформ, чем перечислить всех, кто работал не на конкретного потребителя, а лишь для плана, «для галочки». При этом потреблять все мы хотели не «для галочки», а по-настоящему.
Валентин Кудров — доктор экономических наук:
«Ненужных товаров, вообще не пользующихся спросом, выпускалось до 25% всего производства. Вот что пишет по этому поводу бывший министр экономики РФ Я. Уринсон: [Советские] "предприятия не умели работать на платежеспособный спрос. Долгие десятилетия они производили товары только по плану, причем часть этих товаров по плану же и реализовывалась, а другая или шла на склад или просто уничтожалась. Я долгое время работал в ГВЦ Госплана СССР и до сих пор помню, как в конце каждого года создавались комиссии, которые делали сводку товаров, подлежавших уничтожению.
Цифры достигали фантастических размеров, например, по обуви, по мужским пальто с меховыми воротниками и т.д. Нереализованные запасы свозились в одно место, создавались специальные комиссии из представителей Госплана, ЦСУ, министерств, местных партийных органов и сжигалось, разбивалось, уничтожалось огромное количество разных продуктов"».
(Кудров В. Экономика России в мировом контексте. - СПб.: Алетейя, 2007. С. 420)
Андрей Нечаев:
«Почему наши комбайны работали только две недели — и всё, ремонт? При этом комбайн вытаптывает почву так, что потом на ней ничего не растет. Потому что еще на стадии проектирования применялись технологические решения, которые были неэффективны. Если тебе не дают конструкционных пластмасс, если тебе не дают алюминий, если не дают титановых сплавов, поскольку всё это уходит в оборонку, то тогда на комбайн ставилось чугунное литье, железные поковки, плохие резина, краска и т.д. Катастрофа была в том, что все качественные ресурсы мобилизовывались в оборонный сектор, а гражданское машиностроение кормилось остатками. <...> Егор (Гайдар. — Д. Т.) сразу передо мной поставил задачу максимально сократить затраты на оборонный сектор».
(Авен П., Кох А. Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук. - М.: Альпина Паблишер, 2013. С. 149)
«Лихие 90-е»
Казалось бы, уже перечислены все возможные отрасли экономики, в которых рынок привел к сокращению производства. Но, как ни странно, проблемы при реформировании возникли даже там, где производились товары, недавно еще пользовавшиеся спросом населения и находившиеся среди дефицитных.
Нет сомнения в том, что продукты питания, бытовая техника, обувь и одежда людям очень нужны. Однако в пореформенной России наши предприятия стали страдать из-за конкуренции со стороны импортных товаров — как тех, которые завозились из развитых европейских стран, так и тех, которые приобретались в развивающихся азиатских.
Развитые страны оказались значительно сильнее нас по качеству продукции и по способности быстро внедрять новые технологии, быстро перестраиваться на выпуск модных товаров. В принципе, и до начала реформ информированные люди подозревали, что конкурентоспособность советской экономики низка, но в полной мере катастрофическое положение дел выявилось лишь при рынке. Раньше люди стояли в очереди на покупку советских автомобилей, а при рынке стали быстро переходить на импорт немецких и американских (даже подержанных). Раньше мы мечтали покупать творог или сметану хотя бы без ограничений, а при рынке стали желать, чтобы они были еще и такими вкусными, как импортные, прибалтийские. Раньше народ был счастлив от любого отечественного телевизора (иногда самовозгорающегося), а при рынке стал предпочитать японские и корейские — безопасные в использовании, а также обладающие хорошим изображением, дистанционным управлением и способностью принимать много программ.
Развивающиеся страны, возможно, и не превосходили Россию по качеству своей продукции, но обеспечивали поставку дешевых товаров за счет того, что там были очень низкие заработки трудящихся. Китай, Турция, Вьетнам, Индонезия стали вытеснять наши предприятия в сфере одежды и обуви, детских игрушек, хозяйственных мелочей. У некоторых наших производителей вроде бы и фасоны уже были не «лапотные», а сравнительно приличные, но на фоне импорта, основанного на дешевизне китайского труда в сочетании с американскими высокими технологиями, российские предприятия всё равно сильно проигрывали. Россия зависла между двумя мирами: по сравнению с одним наши люди слишком плохо работали, а по сравнению с другим — слишком много получали.
Конечно, у реформаторов был способ справиться с данной проблемой, в отличие от проблемы ВПК, которая в полной мере определялась наследием, оставшимся от советской экономики. С импортом можно было бороться, вводя высокие таможенные пошлины. Иными словами, можно было заставить малообеспеченных россиян покупать плохие отечественные товары, поскольку при протекционизме импорт становился для них слишком уж дорогим. Лишь богатые смогли бы его приобретать по ценам, включавшим высокие пошлины.
Надо ли было нам вставать на протекционистский путь? Это был сложный выбор. В любом случае власть настраивала против себя часть населения. При свободном рынке — тех производителей, которые на фоне дешевого импорта оказались бы неконкурентоспособны. При протекционизме — тех потребителей, которые были бы вынуждены сильно переплачивать за самое необходимое.
Власть встала на промежуточный путь. Импортные пошлины ввели, но они оказались не столь высоки, чтобы отсечь импорт. Дело в том, что жесткий протекционизм, скорее всего, в условиях отечественного монополизма привел бы к крайне тяжелым последствиям для потребителей. Легко представить, сколько бы брал за плохонькую «Ладу» Волжский автомобильный завод, фактически не имеющий отечественных конкурентов, если бы пошлины полностью отсекали иномарки. А сколько бы стоили при таком подходе продукты питания?
Однако, пойдя по пути низких пошлин, власть приобрела себе противников не только в ВПК, станкостроении и сельхозмашиностроении, но также в легкой промышленности и «пищевке». Люди теряли работу не по своей вине, а потому, что с советских времен их предприятия не были подготовлены к истинно жесткой конкуренции. Но безработным и тем, кому месяцами задерживали зарплату, было не легче от осознания объективной обусловленности их проблем. Очередные трудности интерпретировались как трудности «лихих 90-х».
Оставшиеся без работы труженики ВПК могли при желании понять, что их продукция стране не по карману. Оставшимся без работы строителям и машиностроителям осознать это было уже сложнее. Многим из них казалось, что надо всегда строить новые заводы и производить новые станки. Но тем, кто выпускал ткани, одежду, продукты питания или телевизоры, понять причины невостребованности их продукции было, наверное, труднее всего. Пусть она несколько хуже по качеству. Пусть сметана кислее эстонской, обувь дороже китайской, а краски на экране тусклее японских. Но это же наше, родное. Как не поддержать отечественного производителя, если он старается? Пусть государство поддержит год, два или пять, а там, глядишь, как-нибудь и качество вырастет.
Люди, которые рассуждали подобным образом, становились жесткими противниками «лихих 90-х». Они терпели, сжав зубы, искали себе новую работу взамен потерянной, но с нетерпением ждали перемен.
Яков Уринсон — министр экономики России с марта 1997 по сентябрь 1998 г.:
«[Советские люди] жили в понятной, крайне медленно и мало менявшейся ситуации, с хорошо предсказуемыми последствиями тех или иных поступков, действий. Обзаведясь семьей, человек знал, что он не потеряет работу и с трудом, но прокормит домочадцев на свою зарплату; что он так или иначе устроит ребенка в ясли и детсад, а потом тот будет учиться в школе; что раз в год он поедет отдохнуть к родственникам в деревню, или снимет дачку за городом, или,если повезет, получит профсоюзную путевку в дом отдыха (санаторий); что, отработав несколько лет на своем предприятии, он сможет встать в очередь на получение государственной квартиры.
И вот в 1992 году в одночасье все изменилось. Государство перестало гарантировать работу и зарплату, бесплатное жилье. Стали появляться платные ясли и детсады, школы и институты. В магазинах заполнялись пустые полки, но цены на товары необоснованно росли и достигали значений, делавших их для многих потребителей недоступными. В обиход вошли непривычные слова — акции, ваучеры, кредиты, обменный курс... Раньше все жили примерно одинаково бедно, ходили в одни и те же полупустые магазины. "Кремлевские кормушки" с широким ассортиментом колбасы и много другого, 200-я секция ГУМа с заграничными дубленками и другими промтоварами, их аналоги в столицах союзных республик и областных центрах были доступны только номенклатурным партийно-государственным работникам, которые составляли менее 1% населения. А теперь любой человек мог зайти в общедоступный магазин и там купить все — от автомобиля до колбасы. Кто-то покупал дорогое, кто-то подешевле. Дефицитом стали сами деньги. Вот только обидно, что "мне-то дорогое не по карману, а сосед берет все подряд. Хотя еще вчера он жил так же, как и я"».
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 1. С. 70-71)
Наш средненький класс
Неизбежность появления большого числа противников реформ была очевидна для реформаторов с самого начала. Однако они ожидали, что появление нормальной экономики с изобилием товаров на прилавках сформирует большое число сторонников преобразований. Люди ведь могут не только проигрывать от перемен, но и выигрывать одновременно.
Скажем, квалифицированный работник ВПК, потеряв свой традиционный источник заработка, может создать собственную фирму, где он и его бывшие коллеги будут, используя свои уникальные знания, производить высокотехнологичные товары. Тот, кто не может заработать на выпуске продуктов питания, способен перейти к их импорту — как минимум работая челноком, ввозящим товары через границу, а в лучшем случае создав компанию для широкомасштабных закупок. Наконец, рынок предоставляет немало возможностей для заработка умелым людям, способным строить частные дома, ремонтировать квартиры, перевозить пассажиров и грузы.
И впрямь миллионы российских граждан сменили сферу деятельности в пореформенный период, причем порой весьма удачно. Успешным людям ни к чему было скорбеть об утраченном с развалом социализма рабочем месте. Теоретически они должны были сформировать средний класс, служащий оплотом дальнейших преобразований. Возможно, класс, не очень многочисленный, но зато весьма влиятельный, поскольку в него попали бы самые лучшие, наиболее толковые, в максимальной степени приспособленные к жизни и достаточно обеспеченные люди, готовые интеллектуально и финансово поддержать рыночно-демократическое развитие страны.
Теоретически так могло получиться. Но на практике развитие событий пошло иным путем. Людей, однозначно выигравших от реформ уже в 1990-е гг., оказалось даже меньше, чем можно было поначалу ожидать. По оценкам ВЦИОМа, материальное положение после реформ ухудшилось у большинства представителей старшего возраста, да и среди тех, кому было от 25 до 40 лет, проигравших оказалось больше, чем выигравших. Причем основная масса граждан старше 40 лет не находила возможностей сменить работу и увеличить доходы.
Дело в том, что Ельцин, понимая, как много противников реформ формируется вокруг него, и опасаясь сильного протестного движения, с самого начала преобразований решил идти на всевозможные компромиссы. Он готов был раздавать деньги тем, кто этого наиболее активно требовал, предоставлять налоговые и таможенные льготы самым нахальным представителям бизнеса и ублажать парламентскую оппозицию принятием ее разнообразных деструктивных требований. Иными словами, Ельцин готов был постоянно платить за компромиссы, откупаться от осаждающих его противников.
Подобный подход иногда бывает полезен в качестве политической стратегии, но президент России, увы, не имел для ее проведения денег. Поэтому их приходилось постоянно печатать. И это порождало быстрый рост цен. А высокая инфляция создает чрезвычайно неблагоприятный фон для развития экономики. Деньги идут, скорее, в спекуляции, чем в инвестиции. Предприятия простаивают. Работы у людей нет. И тот средний класс, который мог бы формироваться в России параллельно с разорением целого ряда социальных групп, проигравших от реформ, фактически не формировался. Старые возможности люди теряли, но новых не приобретали из-за длительного спада экономики. В оправдание Ельцина можно сказать, что он уже получил страну из рук советской власти с сильно подорванной экономикой. Советские премьеры Николай Рыжков и Валентин Павлов активно раздавали деньги, что обусловило высокую инфляцию сразу после либерализации цен. Но, как бы то ни было, моральная ответственность за всё это легла не столько даже на горбачевскую перестройку, сколько на «лихие 90-е».
Вслед за инфляцией экономическое положение в стране сильно ухудшала политическая нестабильность. Компромиссы помогли Ельцину сохранить пост президента на протяжении 1990-х, однако почти всё это время ни у кого не было уверенности в надежности его позиций. Опасались то неконтролируемого социального взрыва, то победы коммунистов на выборах, то внезапной кончины президента, измученного болезнями. В ситуации постоянной политической нестабильности бизнес имеет еще меньше желания развивать экономику, чем даже в ситуации финансовой нестабильности. А у нас было и то, и другое.
Реальный выход из спада, вызванного сложной трансформацией экономики, произошел у нас через семь лет после начала реформ, тогда как в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении и балтийских государствах на это потребовалось лишь два-три года. Соответственно, у наших западных соседей формирование среднего класса шло гораздо успешнее, чем в России. Там быстро появлялись люди, выигрывавшие от реформ, готовые активно поддерживать рынок и демократию, тогда как у нас быстрый прирост этой категории граждан пришелся уже на нулевые годы. А в самый трудный период преобразований российский средний класс оказался довольно средненьким — малочисленным, запуганным, маргинализированным и политически безынициативным, «сидящим на чемоданах» в ожидании момента, когда надо будет слинять под давлением отвоевывающих свои позиции коммунистов.
Миллионы людей в России слишком поздно узнали, что благодаря рыночным реформам можно нормально жить. Или, точнее, они стали нормально жить так поздно, что вообще уже не ассоциировали улучшение своей жизни с реформами, а предпочитали иные, более простые и удобные объяснения.
Егор Гайдар:
«В конце мая 1992 года меня пригласил президент РФ Б.Н. Ельцин. Он сказал примерно следующее (повторяю по памяти): "Егор Тимурович, мы резко сократили военные расходы, государственные инвестиции, дотации сельскому хозяйству, расходы на науку, образование, здравоохранение, культуру. Скажите мне, где теперь база нашей политической поддержки?" Сказал, что ответа не знаю».
(Гайдар Е. Смуты и институты // Гайдар Е. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. - СПб.: Норма, 2009. С. 188-189)
Геннадий Бурбулис — первый заместитель председателя правительства России с 6 ноября 1991 по 14 апреля 1992 г.:
«Меня как-то насторожила его (Ельцина. — Д. Т.) фраза о том, что если люди тянутся к стабильности, то он обязан с этим считаться. Я стал доказывать, что существует разница между желанием людей иметь устойчивую, полноценную жизнь и их нежеланием добиваться этой устойчивости старыми методами, методами государственной опеки, подачек начальников.
Но Борис Николаевич не воспринимал мои доводы».
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 1. С. 29)
Георгий Сатаров — помощник президента России Б.Н. Ельцина с февраля 1994 по сентябрь 1997 г.:
«Людям, близко не знавшим Бориса Николаевича, трудно поверить, что ему была свойственна фантастическая компромиссность. Буйствовать он начинал только тогда, когда, запутавшись в собственных компромиссах, заходил в полный тупик».
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 1. С. 167)
Алексей Можин — исполнительный директор от России в МВФ:
«Часто приходится слышать, что тогда проводилась "шоковая терапия". Я бы сказал, что была лишь попытка ее провести, которая провалилась. Потому что "шоковая терапия", как она двумя годами ранее проводилась в Польше, предполагала, что цены отпускаются и тут же резко ужесточается бюджетная и денежная политика, чтобы не позволить разогнаться инфляции. В этих условиях большое количество предприятий оказывается банкротами: кто выжил — тот выжил. Вот это действительно единовременное шоковое воздействие и на экономику, и на людей. В России такого не получилось ни в каком варианте — ни в жестком, ни в мягком.
Ужесточение бюджетной политики прежде всего означает жизнь по средствам, когда расходы соответствуют доходам бюджета от налоговых и иных поступлений. А жесткая денежная политика — это когда Центробанк не предоставляет бесконечно кредиты убыточным предприятиям. У нас настоящего шока не было. Цены освободили, а предприятия-банкроты власть продолжала поддерживать, выдавая им кредиты и бюджетные субсидии. Именно по этой причине инфляция в России в 1992 году достигла 2500%. И снижалась очень медленно».
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 1. C. 656)
Леонид Лопатников — экономист, журналист:
«Таможенные льготы раздавала Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при правительстве РФ. Чаще всего льготный режим предоставлялся мало подходящим под определение гуманитарной помощи товарам — алкоголю и сигаретам. Догадайтесь, кто был в то время одним из основных поставщиков этих товаров? Оказывается, Православная Церковь! <...> по ввозу сигарет в 1995 г. святые отцы заняли второе место в стране, а по алкоголю — не менее "почетное"третье место».
(Лопатников Л. Перевал: к 15-летию рыночных реформ в России. - М.-СПб.: Норма, 2006. С. 189)
«Вор у вора дубинку украл»
Точно так же на компромиссах строилась и политика приватизации. Все ведущие реформаторы-приватизаторы соглашались в том, что имущество надо продавать за деньги, поскольку лишь так можно привести в страну стратегического инвестора, способного вложить в предприятия капитал. Но поди-ка распродай Россию, когда тебе тут же скажут, что ты у народа собственность отнимаешь. В итоге стратегические инвесторы получили сравнительно мало (да они к нам, прямо скажем, не рвались из-за финансовой и политической нестабильности), а основная часть акций ушла трудовым коллективам предприятий. Кое-что, как известно, перепало широким народным массам за ваучеры.
Впрочем, ни коллективы, ни широкие массы свое «счастье» удержать в руках не смогли. Многие расстались с акциями. Какая-то часть акционеров ценные бумаги сохранила, но сами предприятия оказались столь убогими, что дохода люди не получили. И лишь те, кто случайно или по тонкому расчету оказался собственником бумаг «Газпрома» и тому подобных компаний, смогли неплохо заработать на «распродаже» России.
Главной проблемой для обладателей ваучеров стали чековые инвестиционные фонды (ЧИФы). То, что в них вложили, пропало практически без следа. Как из-за мошенничества, так и из-за того, что сами ЧИФы получать доход могли лишь с плохо развивавшихся российских предприятий «лихих 90-х».
Главной проблемой для трудовых коллективов стало то, что из-за задержек зарплаты и высокой инфляции, обесценивавшей доходы, многие рабочие продавали свои акции за бесценок. Лишь бы добыть денег на хлеб (а порой на водку). Директора предприятий вступали в сговор с инвесторами, пускали их представителей (скупщиков) за проходную заводов, и таким образом акции попадали к вполне определенным лицам, а директора имели свой откат.
В принципе, у народа не было особых причин быть недовольным такой приватизацией. До начала распродажи имущества он ничего не имел (всё было государственным, а реально контролировалось директорами). После распродажи народ тоже почти ничего не имел. Что получил — сам упустил. Произошло это из-за трудных условий жизни и неполноты знаний простых людей о мире капитала. Народ в потере не виноват. Но и приватизаторы не виноваты. Виноваты общий развал экономики, разбогатевшие на народных несчастьях директора и мошенники, за которыми государство недосмотрело.
Тем не менее у приватизации в России сегодня очень плохая репутация. Значительно худшая, чем она того заслуживает. На самом деле экономический подъем нулевых не был бы возможен, если бы предприятия так или иначе не попали в руки бизнеса. Если бы ими руководили старые директора и чиновники, а не бизнесмены, то вместо производства продукции и в нулевые годы шел бы процесс разворовывания. Примерно как в нынешних крупных госкомпаниях, где менеджеры получают многомиллионные оклады.
Плохая репутация приватизации — следствие не столько самого этого процесса, сколько общего разочарования в реформах. Тот, кто потерял в девяностых старую работу, не приобрел новую и пострадал от обесценивания денег, надеялся, может, на доход от собственности. Но и тут ему ничего не обломилось.
А в это время олигархи открыто демонстрировали свое внезапно обретенное богатство. И хотя некоторые из представителей бизнеса поставили на ноги доставшиеся им предприятия и реально к началу нулевых стали выпускать хорошую продукцию, общего впечатления от «лихих 90-х» это переломить не могло. Многие люди стали думать, что приватизированная собственность досталась лишь мошенникам, а значит, она нелегитимна. Проще говоря, новые собственники не имеют на нее ни юридического, ни морального права.
Собственность могла бы стать легитимной, если бы значительная часть российских граждан получала с нее приличный доход. Но этого не случилось бы при любом развитии событий, поскольку советские предприятия, не приспособленные к рынку, вообще такой доход не принесли бы без дополнительных капиталовложений со стороны стратегических инвесторов.
Собственность могла бы стать легитимной, если бы значительная часть российских граждан начала приобретать имущество иным путем — благодаря нормальному развитию экономики и хорошим заработкам. В этом случае оснований ненавидеть «олигархов» было бы меньше. Более того, часть предпринимателей пользовалась бы уважением общества благодаря способности организовать созидательный бизнес и благотворительности. Подобный вариант развития был возможен, но, увы, в девяностых так и не реализовался.
В итоге народ не любит собственников. Революций и экспроприаций он, правда, не устраивает, а просто безмолвствует. Как у Пушкина в «Борисе Годунове». Пусть там бояре хоть глотки себе перегрызут — нам наплевать.
И когда вдруг происходит передел собственности, то народ относится к нему по принципу «Вор у вора дубинку украл». Если же «дубинку» украл не вор, а, скажем, уважаемый широкими массами человек или те, кого он поддерживает, то такой передел, полагает большинство людей, можно и поддержать. Особенно, если кража совершается под видом возвращения неправедно приватизированного имущества государству.
Петр Филиппов — народный депутат России в 1990-1993 гг., разработчик законов «О приватизации государственных и муниципальных предприятий» и «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР»:
«С экономической точки зрения не так важно, кто станет хозяином предприятия. Если права собственности юридически закреплены, а издержки на операции купли-продажи невелики, то рано или поздно активы предприятий перейдут к эффективным собственникам. Но чтобы это произошло, приватизация должна быть легальной, проводиться по закону <...> Отмечу, что Егор Гайдар и Анатолий Чубайс изначально были против бесплатной приватизации. И вполне справедливо, ведь по экономическим меркам это был худший из возможных вариантов. Но не зря говорят, что политика — это искусство возможного. Стране пришлось пройти через экономически невыгодный, но единственно практически реальный на тот момент этап массовой бесплатной приватизации».
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 1. С. 108)
Петр Филиппов:
«Контрольный пакет акций в ходе приватизации доставался трудовому коллективу, но директор находил способы принудить работников продать акции именно ему. На двери бухгалтерии висело объявление о том, что после окончания смены представители администрации будут выкупать акции, а для того, чтобы работники были покладистыми, задерживали выплату зарплаты. Посидев месяц без денег, рабочие сдавались на милость директору».
(Филиппов П. Я был в расстрельном списке. - М.: Алгоритм, 2016. С. 134)
Анатолий Чубайс — с ноября 1991 по ноябрь 1994 г. председатель Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом (ГНИ):
«Что такое была советская номенклатура? Это та часть общества, которая обладала квалификацией, контактами, информацией. Короче говоря, это были люди, предрасположенные и подготовленные к захвату собственности. В итоге на первом этапе, сразу после завершения чековой приватизации, собственником, как правило, становились директора. За "директорскую" приватизацию, за "колхозную" приватизацию как настолько не клеймили! "Пятьдесят один процент у трудового коллектива!.. Колхозы по Чубайсу!.. Ничего подобного нет ни на Западе, ни на Востоке!.." <...> Но, справедливо указывая на все изъяны этой конструкции, наши критики видели ситуацию исключительно в статике. Не понимая при этом, что в неприглядную и такую "неправильную" конструкцию "директорской" приватизации уже заложен ген будущих преобразований, что уже запущен и тикает механизм, который заставит "директорский капитализм" перерождаться изнутри и постепенно превратит его из "директорского" в абсолютно цивилизованный с искомым эффективным собственником в основании».
(Чубайс А., ред. Приватизация по-российски. - М.: Вагриус, 1999. С. 288)
Альфред Кох — председатель ГНИ с сентября 1996 по август 1997 г.:
«Сегодня совершенно ясно, что, поддавшись популистским настроениям и предпочтя во многих случаях закрытую подписку на акции по второму варианту льгот (когда контрольный пакет формально отдавался трудовому коллективу, а фактически директорам. — Д. Т.), мы на длительное время фактически "зарубили" инвестиционное будущее многих предприятий. Это ничего не дало и самим членам трудовых коллективов — кроме задержек с выплатой зарплаты и зачастую просто смешных дивидендов по итогам года. <...> Но в целом же итоги ваучерной приватизации были безусловно позитивными, и никто не сможет убедить меня в обратном. Приватизация способствовала формированию частного сектора, становлению фондового рынка, дала возможность привлечения инвестиций через ценные бумаги, предопределила конкуренцию».
(Кох А., Свинаренко И. Ящик водки. В 4 т. - М.: Эксмо, 2004. Т. 3. С. 123-124)
На безрыбье и Ельцин рыба
На начальном этапе реформ среди аналитиков доминировало два весьма радикальных суждения о том, как поведет себя народ в трудной ситуации. Оптимисты считали, что люди поймут важность рыночной экономики и, помня о сером советском прошлом с нехваткой товаров, талонами и длинными очередями, поддержат реформаторов. Пессимисты же полагали, что невыносимая трудность жизни в переходный период вызовет социальный взрыв, который похоронит рынок и демократию. На практике, однако, не случилось ни того, ни другого.
Дело в том, что оба эти подхода предполагали иррациональное поведение общества. То есть его склонность к отвлеченным размышлениям, а не реакцию на реальные обстоятельства. Но народ повел себя рационально, делая выводы не из абстрактных схем, а из того, что непосредственно видел.
Поддержать реформаторов? С какой это стати? Ведь жизнь при реформах не стала лучше. На смену вчерашним трудностям пришли новые. Вместо талонов и очередей появились инфляция и задержки зарплаты. Немногочисленные группы интеллектуалов-рыночников, конечно, могли сделать вывод о том, что реформы рано или поздно дадут позитивный результат, но широкие массы народа к таким сложным мыслительным конструкциям привычны не были. Коль плохо — значит, плохо. Значит, реформы не удались. Вывод этот делался людьми на основе очевидных фактов, а не предположений и умозаключений.
Выйти на баррикады, спровоцировать социальный взрыв и вернуть коммунистов к власти? Ну, уж нет. Ведь вчерашние трудности не лучше сегодняшних. Скорее, надо крутиться, искать подработки и, костеря неудачливых рыночников, осваивать этот рынок с пользой для самого себя, поскольку в противном случае опять появятся и очереди, и талоны, и товарный дефицит. Немногочисленные группы интеллектуалов коммунистических убеждений, конечно, могли верить в то, что на этот раз будет построен социализм с человеческим лицом, но широкие массы не склонны были к такого рода странным фантазиям. Разве может быть у крокодила человеческое лицо? Спасибо, насмотрелись.
Если бы российское общество девяностых было уныло апатичным и склонным противодействовать любым переменам, ничто не мешало бы ему поддержать коммунистов на парламентских выборах. Или лично Геннадия Зюганова на выборах президентских. Однако на референдуме, объявленном Ельциным в апреле 1993 г., народ в целом поддержал реформы, а на президентских выборах 1996 г. поддержал (хоть и со скрипом) самого Бориса Ельцина. Поддержка эта тем не менее была весьма условной. На безрыбье и рак рыба. А в отсутствие приличных политиков и Ельцин президент.
Людям свойственно с почтением относиться к начальству, если только их опыт и образование не принуждают к иному. Народные массы часто подчиняются лидеру, каким бы он ни был. Именно поэтому в странах, недавно вставших на путь демократии, значительная часть избирателей всегда поддерживает на выборах действующую власть. Мыслить стратегически, сравнивать программы и результаты, дано не многим — проще довериться инстинкту. А за Ельцина высказывались еще и потому, что советская жизнь была совсем не приемлема. При рынке можно хотя бы как-то барахтаться и надеяться, тогда как старый режим сулил лишь бесконечный застой, отрицавший всякую перспективу.
В общем, народ принял гайдаровский рынок за неимением другого. Однако при этом хотел значительно большего. Народ готов был в любой момент отдать свое сердце такому лидеру, который даст не только рынок, но и деньги, и высокооплачиваемую работу, и видение перспектив, и уверенность в завтрашнем дне. Не такую уверенность, как при коммунистах, когда ясно было, что завтрашний день ничем не будет отличаться от тусклого нынешнего, а настоящую уверенность — с ожиданием развития страны, при котором доходы постоянно растут и жизнь всё время становится хоть немного благоустроеннее.
Народ хотел третьего пути. Но не так, конечно, как желают его интеллектуалы.
Мыслителям надо сначала представить себе третий путь, обосновать его возможность теоретически, написать тысячу книг, построить сотню сложных математических моделей и провести в дискуссиях с оппонентами пару десятков лет — то есть то время, за которое сформируется поколение учеников, непосредственно реализующих идеи учителей. Мыслители конструируют третий путь интеллектуально и часто полагают, будто народ делает то же самое, только с трудом и опозданием. Но если простого человека хорошенько просветить, считают мыслители, если разъяснить ему детали и показать, как всё обстоит на самом деле, народ поймет и поддержит.
Ему же надо получить этот третий путь сразу и целиком. Здесь и сейчас. Он не готов к длинным рассуждениям, а потому годами безмолвствует, пока мыслители этот путь ищут. Но когда вдруг, проснувшись поутру и протрезвев, народ обнаруживает, что сложная жизнь каким-то образом наладилась, доходы подросли, цены стабилизировались, прилавки заполнились, он говорит: «Вот это мне нравится. Так и надо было с самого начала всё делать». И, естественно, в причины того, почему вдруг началось процветание, народ вникать не будет. А возблагодарит лидера, который ему это дал. Или же сделал вид, что дал.
Благодарить такого лидера общество будет до тех пор, пока «третий путь» не накроется медным тазом. После чего, проснувшись и вновь протрезвев, народ скажет сакраментальную фразу из старого советского кинофильма: «А царь-то ненастоящий!» И будет затем безмолвствовать. И затаится до появления нового, на этот раз настоящего царя, который предложит четвертый путь.
Егор Гайдар — доктор экономических наук, директор Института экономической политики с 1990 по 2009 г.:
«Российское общество оказалось более зрелым, чем многие полагали. Повышение цен, последовавшее за их либерализацией, мало кому понравилось. Однако люди, понимавшие, что угроза голода реальна, отнеслись к этому без восторга, но с пониманием. Массовых проявлений протеста, тем более насильственных, на протяжении первых месяцев после либерализации цен не было».
(Гайдар Е. Смуты и институты // Гайдар Е. Власть и собственность: Смуты и институты.is>Государство и эволюция. СПб.: Норма, 2009. С. 137)
Егор Гайдар:
«Сейчас в стране апатии нет (написано в середине 1990-х. — Д. Т.). Я говорю не о политической апатии. А о вещи куда более важной, об апатии социальной. Наоборот, люди проявляют повышенную социально-экономическую и трудовую активность. Одно из главных завоеваний этих лет — с сонной одурью на работе, характерной для брежневского и предыдущих периодов, покончено. Правда, гораздо большая активность направляется в сферу торговли, обслуживания, традиционно заброшенную в социалистическом обществе. Как бы то ни было, повышение трудовой активности населения сегодня — одна из причин, ослабляющих социально-экономический и политический кризис».
(Гайдар Е. Государство и эволюция // Гайдар Е. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. - СПб.: Норма, 2009. С. 311-312)
Глава 2. Под крылом у Путина
Чтобы понять, почему нынче мы движемся от кризиса к кризису и никак не можем толком наладить положение дел в экономике, нужно выяснить, каковы были реальные причины успеха, достигнутого в ранние годы пребывания Владимира Путина у власти. На первый взгляд кажется, что если в стране появился новый лидер, то, значит, именно с ним связаны успехи. Однако на самом деле всё было намного сложнее. Экономический подъем объяснялся не столько личностью президента и его делами, сколько комплексом объективных обстоятельств, сложившихся в первой половине нулевых.
Экономический рост начался еще до того, как Путин успел принять какие-либо меры для развития экономики. Связано это было с эффектом девальвации рубля. Как ни парадоксально, но на пользу нам сработало именно то, что в августе 1998 г. воспринималось населением страны как страшное бедствие, как обнищание, как удар по интересам миллионов российских граждан.
Но экономика — это вообще область сплошных парадоксов. Там очень часто негативные явления вдруг оборачиваются позитивными, и наоборот. А потери, которые мы, скажем, несем как потребители, становятся нашими же приобретениями как производителей.
Что русскому здорово, то немцу карачун
До августа 1998 г. российский потребительский рынок был заполнен импортными товарами. Объяснялось это тем, что наши власти на протяжении трех с половиной лет стремились удерживать рубль в так называемом валютном коридоре. Рублю не давали сильно падать. Максимум — мягко опускали на незначительную величину. При этом работала наша экономика в целом довольно плохо. Несмотря на трудности, с которыми сталкивались в середине 1990-х гг. миллионы людей, в целом мы жили всё же лучше, чем должны были жить в соответствии с общим уровнем развития хозяйственной системы.
И вот рубль рухнул. В августе власти вынуждены были отказаться от поддержания валютного коридора, поскольку у них не имелось больше средств, чтобы сохранять свою старую политику. Бизнес и рядовые граждане стали в панике скупать доллары, понимая, что в перспективе иностранная валюта еще больше подорожает. В целом весь комплекс обстоятельств (слабость властей, паника, бегство капитала из России) привел к тому, что за полгода рубль ослабел почти в пять раз. Иными словами, на нашу зарплату мы могли теперь купить в пять раз меньше долларов и, соответственно, тех зарубежных товаров, которые наши импортеры за доллары приобретали на мировом рынке.
Импортер, понятно, не может работать себе в убыток. Если, скажем, он купил за рубежом товар по цене десять долларов, то должен выручить эту же десятку от продажи на российском рынке. То есть импортер должен получить такую выручку в рублях, чтобы, поменяв затем ее на валюту, снова иметь десять долларов. И даже больше, поскольку без прибыли никакой бизнес функционировать не станет.
Если до августа 1998 г. доллар можно было, грубо говоря, поменять на шесть рублей, то наш импортер должен был продавать свой товар в России не дешевле шестидесяти рублей. А если к началу 1999 г. за доллар давали уже тридцатку, то продавать десятидолларовую вещь приходилось как минимум за три сотни. Соответственно, покупатели, которые не могли или не хотели платить триста рублей вместо шестидесяти, покупателями быть перестали.
Неудивительно, что вслед за рублем рухнул импорт. Ввозить в Россию большой объем импортной продукции уже не было смысла. Потребители не могли в целом столько всего купить. Понятно, что импорт совсем не исчез, поскольку всегда бывают богатые и бедные, а значит, для тех, кто побогаче, покупки зарубежных товаров всё равно оставались по карману. Кроме того, есть ведь такие вещи, которые даже сравнительно бедный человек постарается купить на последние сбережения. Например, лекарства, у которых нет более дешевых отечественных заменителей. Однако в целом для экономики эти «частности» не так много значили. Импортные товары россияне стали покупать гораздо реже.
Но от того, что импорта стало меньше, наша потребность в товарах не исчезла. Если вдруг появлялся на рынке кто-то, кто мог предложить тот же товар не по триста рублей, а по шестьдесят (как раньше), он был обречен на успех. И даже если не по шестьдесят, а, скажем, по сто, успех тоже был гарантирован. Понятно, что кто-то вообще больше шестидесяти рублей платить был не в состоянии, но для основной массы столь незначительная разница со старой ценой была приемлема, в отличие от дорогущего и совершенно неприемлемого импорта.
И вот выяснилось, что российский бизнес может организовать производство товаров-заменителей по цене, которая выше старой, но значительно ниже новой цены импорта. Издержки ведь выросли только у импортеров. А для отечественного производителя всё осталось как прежде. Он не стал из-за падения рубля платить большую зарплату своим рабочим. Не стал платить больше налогов государству. Сырье не подорожало (если, конечно, оно было отечественным), да и транспортные расходы остались на прежнем уровне.
В общем, ситуация возникла, как в поговорке «Что русскому здорово, то немцу карачун». Или, точнее, выигрывал не русский у немца, а производитель, который организовывал свой бизнес на российской территории и нес издержки в рублях. Проигрывал же тот, кто производил за рубежом и нес издержки в долларах, немецких марках или, скажем, эстонских кронах.
До августовской девальвации российский производитель часто не хотел вообще связываться с организацией производства, поскольку импортный товар был не дороже (или немного дороже) его собственного, а качество импорта и престиж зарубежного товара у покупателя, как правило, были выше. Если у бизнесмена имелись свободные капиталы, он, скорее, предпочитал на эти деньги сам что-нибудь импортировать, чем организовывать производство в России. Но теперь приоритеты сменились. Отечественный капитал пошел в производство. Да и иностранный тоже начал создавать на территории России свои филиалы.
П. Филиппов, Т. Бойко. В. Берман:
«В конце 1998 года Министерство экономики прогнозировало дальнейший спад производства: по основным потребительским товарам — от 10 до 30%, по машинам и оборудованию — от 5 до 20%. Но уже в декабре многие секторы промышленности, безуспешно пытавшиеся конкурировать с импортом в первой половине 1998 года, показали двузначные темпы роста. А с начала 1999 года рост стал практически повсеместным. Он был вызван замещением импорта подешевевшей отечественной продукцией и ростом мировых цен на нефть. Свою роль сыграли и доллары, которыми располагало население.
Рост платежеспособного спроса вызывал рост производства, это влекло повышение доходов, а значит, в казну поступало больше налогов. Правительство смогло погасить свои долги перед пенсионерами и бюджетниками. Они несли свои деньги на рынок, еще более увеличивая спрос, за этим опять-таки росло производство. Процесс ускорялся. Компании, способные расти и развиваться, росли и развивались. Россия преодолела последствия кризиса практически за полгода. Итоги 1999 года поражают. Рост промышленности составил 8,1% за год. Последний раз отечественная промышленность испытала подъем в 1997 году — на 1,9%, и это считалось большим достижением»
(Если бы президентом был ты / авторы-составители П. Филиппов, Т. Бойко, В. Берман. - СПб.: Норма, 2014. С. 426, 429. — -90.ru)
Если в Петербурге до августа продовольственные магазины были заполнены эстонскими молочными товарами, благо везти их недалеко, то с 1999 г. торговля перешла практически целиком на отечественную продукцию. Цены оказались несколько выше, чем до девальвации, но в сравнении с тем, сколько стоила бы эстонская сметана при новом валютном курсе, российский товар выглядел очень дешевым. И покупатель его активно приобретал. А бизнес постоянно расширял производство и нанимал новых работников.
Леонид Лопатников:
«Экономический рост, который начался после кризиса 17 августа, экономисты называют восстановительным. <...>
Восстановительный рост обладает одной особенностью. На первых этапах — после кризиса, революции, войны и других катаклизмов — он отличается исключительно высоким темпом, но спустя некоторое время затухает. Это легко понять: резервы мощностей и подготовленной рабочей силы исчерпываются, новые возможности роста, связанные с инвестициями, возникают не сразу. Особенно важно восстановление нарушенных хозяйственных связей. Среди частных закономерностей — тенденция к увеличению реальной заработной платы квалифицированной силы по мере роста спроса на нее в промышленности. Например, в России после высокого роста безработицы в 1990-е гг. из-за дефицита квалифицированных кадров реальная заработная плата только за 2000-2002 гг. выросла в 1,7 раза. <...> После быстрого подъема в 1999-2001 гг. темпы роста (валового продукта. — Д. Т.) стали несколько снижаться. Ничего чрезвычайного или трагического в этом замедлении не было. Когда возможности восстановительного роста оказываются исчерпанными, возникает вопрос об обеспечении "нормального" экономического развития. Е. Гайдар определил новую ситуацию четко: "Проще говоря, теперь уже требуется рост, который ориентируется не на вовлечение старых, а на создание новых производственных мощностей, обновление основных фондов, привлечение новой квалифицированной рабочей силы"».
(Лопатников Л. От плана к рынку. Очерки новейшей экономической истории России. - СПб.: Норма, 2010. С. 198-199)
«Лихие 90-е» как источник стабильности
И здесь возникает важный вопрос. Если девальвация так позитивно влияет на развитие отечественного производства, то почему же раньше при слабом рубле российская экономика не встала на ноги? Ведь наша валюта падала по отношению к доллару практически непрерывно на протяжении всей первой половины 1990-х гг. Если на первых рыночных торгах в апреле 1991 г. (раньше вообще никакого валютного рынка в СССР не существовало) за доллар давали 32 рубля, то к началу гайдаровской реформы в январе 1992 г. «зеленый» подорожал до 150 рублей. К концу 1992 г. курс был уже 1 к 400, а в печально памятный день «черного вторника» октября 1994 г. «американец» поднялся почти до четырехтысячной отметки (вырос в 10 раз меньше чем за два года). Причем к моменту введения валютного коридора летом 1995 г. рубль еще больше ослаб.
Понятно, что за эти годы издержки российских производителей в рублевом выражении тоже сильно возросли, но, конечно, происходило это с большим отставанием. Зарплату рабочим задерживали месяцами. Тарифы на энергию оставались заниженными. А от уплаты налогов бизнес порой умело уходил.
В общем, слабый рубль должен был вроде бы способствовать развитию отечественной экономики. А он не способствовал. Экономика падала вплоть до 1997 г. Характерно, что падение ВВП приостановилось не в годы падения нашей валюты, а тогда, когда рубль оказался в валютном коридоре. И лишь на руинах этого коридора сработал впервые эффект девальвации.
Объясняется всё это тем, что одних лишь макроэкономических стимулов для развития недостаточно. Важны еще и так называемые институциональные изменения. Проще говоря, правила игры, действующие в экономике.
Во-первых, чтобы отечественный бизнес устремился зарабатывать деньги благодаря девальвации, надо, чтобы этот бизнес существовал. До гайдаровской реформы бизнеса в России не было. Или, точнее, зародыш его имелся, благодаря первым кооперативам и коммерческим банкам, возникшим в годы горбачевской перестройки. Но они были тогда еще слабоваты и масштабное развитие отечественного производства потянуть никак не могли.
Во-вторых, чтобы бизнес получил развитие, он должен был находиться не в «резервации», а захватить все сферы экономики. Такое расширение стало возможно только при либерализации цен и торговли, которые произошли при Гайдаре. При Горбачеве бизнес функционировал только в некоторых сферах, где прибыльность была очевидна: импорт компьютеров, одежды, узкого круга продуктов питания. А после либерализации новый российский бизнес имел потенциальную возможность вторгаться в любые иные сферы, поскольку они все стали рыночными. Он мог инвестировать деньги, обеспечивая нормальное экономическое развитие самых разных отраслей.
В-третьих, чтобы окрепшие на протяжении 1990-х российские капиталы устремились в производство, должна была пройти приватизация. Она у нас осуществлялась не лучшим образом, и есть за что критиковать конкретный механизм передачи госсобственности в частные руки. Однако частная собственность при всех недостатках появилась. И это перевесило пороки процесса приватизации. Бизнес, желающий работать и зарабатывать, к концу 1990-х пришел на предприятия и смог поставить дело по-рыночному, а не по-советски.
В первой половине 1990-х старые советские заводы и фабрики могли бы, наверное, составить конкуренцию импорту. Но у директоров, как правило, не было ни умения, ни желания работать в условиях конкуренции. И главное — у них не было капиталов, чтобы обновить технологии и сделать свой новый товар похожим на импортный, а не на советский. Капиталы появлялись у бизнеса, выросшего из кооперативов и банков. Но пока бизнес не пришел на заводы, он мало чего мог добиться. Строить молочный или мясоперерабатывающий завод с нуля гораздо дороже, чем налаживать дело на старых советских предприятиях.
В-четвертых, для нормальной работы экономики важно было обеспечить финансовую стабильность. Проще говоря, сделать так, чтобы цены не росли бешеными темпами. При Гайдаре стабильности достигнуть не удалось, но к концу 1990-х совокупными усилиями нескольких правительств инфляцию снизили до приемлемого уровня. Каждое из них было не слишком удачливо, но все вместе они сделали так, что Центробанк смог, наконец, прекратить безудержную денежную эмиссию, порождавшую рост цен.
При высокой инфляции бизнесу выгоднее зарабатывать на спекуляциях: купил доллар задешево — продал задорого. А в производство инвестировать сложно. При инфляции кредит очень дорог, а потому трудно найти деньги, которые можно было бы вложить в производство на условиях, выгодных и банку, и инвестору, и будущему потребителю продукции. Когда же инфляция снижается, инвестиции активно идут в экономику. Особенно большим был их приток у нас в 2000 г.
В общем, обнаруживается еще один парадокс. Для нормализации работы экономики в путинскую эпоху значение прихода Путина к власти оказалось не столь уж большим. Гораздо важнее всё то, что происходило перед этим. «Лихие 90-е» были, конечно, лихими, но именно они в конечном счете обеспечили стабильность. Уже к 1999 г. российский бизнес стал значительно более умелым, богатым и энергичным, чем в начале 1990-х. Бизнес рвался в производство, поскольку оно становилось теперь для него по-настоящему привлекательным. И производство действительно заработало. Причем, надо сказать, неплохо — вплоть до кризиса 2008—2009 гг.
Владимир May — ректор Академии народного хозяйства и госслужбы:
«Разумеется, и девальвация, и высокие цены на нефть имеют значение в стимулировании экономического роста. Однако следует видеть и ряд других факторов, играющих фундаментальную роль в обеспечении высоких темпов экономического роста. Прежде всего следует отметить такие факторы, как макроэкономическая и политическая стабилизация, что создавало общую основу для восстановления роста; приватизация, в результате которой постепенно сформировался класс собственников, долгосрочные интересы которого могут быть реализованы только посредством экономического подъема».
(Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. Экономический рост 2000-2007. - М.: Издательство «Дело», АНХ, 2008. С. 41-42)
Чем Кудрин Путину дорог
Впрочем, не следует делать вид, будто при Путине вообще не совершались реформы, необходимые для развития экономики. Такой взгляд на вещи был бы не объективным, а сильно идеологизированным.
В правительстве и в кремлевской администрации за время путинского президентства перебывало много экономистов реформаторской направленности: Алексей Кудрин, Сергей Игнатьев, Андрей Илларионов, Герман Греф, Михаил Дмитриев, Алексей Улюкаев... Хотя сегодня почти все они ушли в отставку, нельзя объяснить их готовность работать на президента одним лишь путинским умением нравиться собеседнику. Реформаторы действительно какое-то время видели возможность реального продвижения вперед, поскольку это продвижение действительно было. Один из немногих, но важных примеров преобразований — налоговая реформа. Кудрин осуществил ее в первый же год пребывания Путина у власти. 20 мая 2000 г. Указом президента были утверждены направления налоговой реформы, предусматривавшие снижение общего фискального бремени, упрощение системы, улучшение налогового администрирования и повышение уровня собираемости налогов. Эта реформа, несомненно, стимулировала развитие экономики.
Снижение налогов способствует развитию экономики. Если бизнес экономит деньги на расчетах с государством, он может установить цену пониже, чем у зарубежных конкурентов и выиграть схватку за покупателя. Важно и то, что при низких налогах бизнес может получить большую прибыль. Как ни странно, от этого выигрывает не только сам предприниматель, но и общество в целом, поскольку высокая прибыльность привлекает капиталы. Соперничающих за эту прибыль конкурентов с годами становится всё больше, а значит, в результате соперничество притормозит рост цен или даже их снизит.
Кудрин добился снижения целого ряда налогов. Многие вообще были отменены. Если в 1990-х гг. в России существовало 53 вида налогов и сборов, то после 2004 г. осталось лишь 14. На первый взгляд представляется, будто подобный либерализм подрывает бюджет и увеличивает доходы бизнеса, снижая возможность государства осуществлять социальные выплаты. Однако на самом деле обилие налогов не приводит к росту доходов государства. По некоторым из них собирают столь мало денег, что на содержание налоговых инспекторов и на осуществление всяких проверок уходит больше средств. А кроме того, налоговая неразбериха заставляет бизнес плодить много бумаг и держать лишних клерков вместо того, чтобы нанять людей, способных что-то производить.
Итак, как же изменилась налоговая система конкретно после реформы Кудрина?
Во-первых, была отменена прогрессивная шкала подоходного налога (НДФЛ — налог на доходы физических лиц). Все стали платить лишь по 13%. Кажется, будто бы это делалось лишь в интересах богатых плательщиков, однако в реальных условиях начала нулевых годов многие богатые люди скрывали свои доходы. Разнообразные мошеннические компании наживались на «обналичке», необходимой для выплат зарплат черным налом. Госбюджет денег не получал. Но в налоговых службах тысячи инспекторов занимались долгой бумажной волокитой, чтобы взыскать по прогрессивной шкале лишнюю сотню рублей с профессора, крутящегося на трех работах, чтобы прокормить семью. Упрощение системы взимания налога ликвидировало эту бессмысленную суету.
Во-вторых, существенно снизили ставку налога на прибыль (с 35 до 24%) и не столь существенно — НДС (с 20 до 18%). Такое снижение в первую очередь способствовало стимулированию развития бизнеса. Некоторые экономисты потом предлагали снизить НДС радикально, но Путин с Кудриным на такую реформу не пошли, поскольку налог этот стабильный, собирается хорошо и снижение ставки привело бы, скорее всего, к снижению доходов бюджета. При этом в Кудринском варианте налоговой реформы бюджетные поступления не снизились, а возросли. В том числе за счет расширения экономики, связанного с налоговой реформой.
В-третьих, постарались переложить большую нагрузку с обычного бизнеса на нефтяной, который в наших условиях является наиболее доходным. Ввели специальный налог на добычу полезных ископаемых, повысили экспортные пошлины и акцизы. Через несколько лет, когда резко начали расти цены на нефть, стало ясно, что такой подход был правильным. Бизнес, который зарабатывал больше всего благодаря хорошей рыночной конъюнктуре, должен был отдавать хоть часть заработанного на общие нужды.
А бизнес, который от цен на нефть ничего не выигрывал, получал в такой ситуации возможность платить государству несколько меньше за счет снижения остальных налогов. Конечно, в полной мере переложить должное бремя нагрузки на нефть и газ Путин с Кудриным не смогли, но двигались в правильном направлении.
Конечно, Путин осуществлял, скорее, политическое прикрытие реформы, непосредственным исполнителем которой был Кудрин. Но прикрытие это было очень важным. Правительству часто приходилось вступать в споры с парламентариями, желавшими всё взять и поделить по известному шариковскому принципу. Немногие понимали, в частности, что государство может снизить налоги и при этом выгадать в фискальном плане от развития бизнеса. Но Путин это всегда понимал, а потому способствовал проведению реформы.
Кроме того, он хорошо понимал, что Кудрин осуществил для него одну из немногих важных и в то же время успешных реформ. Именно этим объясняется то, что Путин о Кудрине всё время вспоминает, и именно ему он предложил подготовить проект новой реформы, необходимой в нынешней кризисной ситуации. Некоторые люди из путинской команды уходят практически без следа. Президент их без проблем отпускает, поскольку и пользы-то особой от них не было. Такие люди, как, скажем, Борис Грызлов, легко заменимы. Но заменить Кудрина оказалось сложно. И Путин знает подобные вещи лучше многих.
Евгения Письменная — журналист:
«Плоскую шкалу подоходного налога в размере 13% придумали в Центре стратегических разработок. "13% — хорошая примета", — смеялись там.
— Как тебе 13%? — Греф смотрел на Кудрина в упор.
— Обескураживающе, — поджал губы Кудрин. — А вдруг не станут платить? И провалимся по доходам.
— Вот и Путин меня спрашивает: если провалимся по доходам, что будет?
— Что будет? — повторил вопрос Кудрин.
— Я подам в отставку, — ответил Греф.
— Ну-у-у-у, отставка — это слишком легко.
— Вот и Путин сказал: "Ты плохо подумал. Отставка ничего не значит, надо искать замену". Найдем замену?
— Поискать есть где. Уберем льготы для силовиков, поднимем нагрузку на нефтяников, — предложил Кудрин.
Он бы, конечно, снижал налоговое бремя помедленнее, все-таки казна — его ответственность. "Но вдруг потом шанса не будет", — подумал он и Грефа поддержал, пусть и с колебаниями.
— Ого, предложения у тебя. Нас же сожрут, — засмеялся Греф. Нефтяники тогда были сильнейшим лобби в Госдуме, способном блокировать любые законодательные инициативы. Тогда никого не удивляло, что сотрудники нефтяных компаний числятся помощниками депутатов, а сами депутаты не скрывают своей аффилированности с крупными олигархами.
— Сожрут. Прикроем друг друга, — твердо ответил Кудрин. Греф и Кудрин ударили по рукам. Они понимали, что такие кардинальные перемены — риск и что их прикрытие может оказаться слишком слабым. Но решили попробовать. <...> Путин прикрыл Грефа и Кудрина, согласился с ними. Вскоре после своей инаугурации, в июне 2000 года, он направил в Госдуму послание: с 2001 года ставка подоходного налога должна быть 13%, отчисления во внебюджетные фонды снижены, налоги с оборота отменены. Греф — по натуре самоед — очень нервничал: а вдруг они ошиблись? "Что все-таки будет?" — ждал он с нетерпением первых результатов по уплате налогов. В апреле 2001 года, наконец, выяснилось, что 13% — хорошая примета. Налоговые платежи стали расти, деньги медленно выползали из тени. Ликованию Грефа не было предела».
(Письменная Е. Система Кудрина. История ключевого экономиста путинской России. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 111-113)
П. Кадочников, В. Назаров, С. Синельников-Мурылев, И. Соколов, И. Трунин — научные сотрудники Института экономики переходного периода:
«Можно сделать следующие выводы: налоговая реформа привела к существенному снижению налоговой нагрузки на экономику: ежегодно в период 2001-2006 гг. налоговая нагрузка сокращалась примерно на 1% ВВП; снижение налоговой нагрузки по основным налогам компенсировалось существенным приростом нефтегазовых доходов и отчасти увеличением налоговой базы вследствие ускоренного экономического роста и легализации доходов; очевидный рост налоговых поступлений в ответ на снижение налоговой ставки был зафиксирован лишь по НДФЛ».
(Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. Экономический рост 2000-2007. - М.: Издательство «Дело», АНХ, 2008. С. 273-274)
Как Америка нас обогатила
При всей важности рыночных правил игры, девальвации рубля и снижения налогов российская экономика в нулевые годы не показывала бы такой быстрый рост, если бы не поднялись нефтяные цены на мировом рынке. Эффект девальвации обычно сходит на нет за несколько лет, так как у производителей растут издержки (в частности, потому, что рабочие требуют большей зарплаты). Рынок и низкие налоги, правда, обеспечивают рост по-прежнему, но если отечественная экономика не имеет особых преимуществ перед другими, то наше развитие не может быть лучше, чем у соседних стран. А Россия в середине нулевых росла в целом быстрее, чем мировая экономика, и, в частности, быстрее, чем европейская экономика. Произошло это именно за счет нефти и газа.
Вот уж кого в полной мере можно назвать чудотворцем. Не Путина, а нефть. Слабенькая, чуть-чуть только начавшая подниматься после долгого кризиса экономика вдруг резко пошла вверх благодаря широкому спросу на наши основные экспортные продукты. Начался рост еще в 1999 г., но он не был таким уж значимым, поскольку цены лишь восстанавливались после сильного падения, случившегося в середине 1990-х. За пару лет они стали вновь нормальными, и дальше рост начал притормаживать. Никто не ожидал больше радикальных перемен. Однако в 2003 г. американцы вторглись в Ирак, добились быстрой победы над Саддамом, но навести порядок на Ближнем Востоке так и не смогли. Наоборот, весь регион всполошился и утратил былую стабильность. Мировой рынок перепугался не на шутку, поскольку возможность перманентной войны в основном нефтедобывающем регионе мира грозила развалом производства и прекращением поставок. Цены на нефть вновь резко пошли вверх. В общем, Соединенные Штаты своей близорукой внешней политикой создали ситуацию, от которой выиграли Россия и другие нефтедобывающие страны.
Важность этого фактора развития сегодня для всех очевидна. И всё же значение энергоносителей для России принято несколько преуменьшать. Иногда говорят, что нефть нефтью, но она ведь составляет лишь часть (пусть даже очень большую) нашей экономики. А нефтегазовые доходы составляют лишь часть бюджета. Но в нулевые годы мы имели широкомасштабный рост во всех отраслях. Росли строительство, автомобилестроение, производство продуктов питания, увеличивался туристический поток. Так, может, помимо нефтяных цен были какие-то важные факторы, обеспечивавшие развитие? Может быть, это происходило благодаря деятельности Путина, тогда как без него наше экономическое чудо сказалось бы лишь наполовину?
«Чудо» наше моментально исчезло в 2008 г., как только нефть рухнула, подешевев примерно в три раза. Экономический рост мигом обернулся спадом. Эта катастрофа, случившаяся с российской экономикой, заставляет всерьез задуматься именно о роли нефти и снижает охоту искать какие-то иные мифические факторы развития помимо нее.
Почему же нефть для нас столь важна? Дело в том, что каждый нефтедоллар, полученный от экспорта, выполняет в экономике важную стимулирующую функцию, а не просто наполняет карманы. Выручка достается не только нефтегазовым олигархам (хотя они, конечно, выплачивают себе любимым огромные зарплаты с немалыми премиями, да к тому же получают доход от акций), но тонким слоем «размазывается» по всей стране. Во-первых, хорошо зарабатывают все люди, трудящиеся в нефтегазовом секторе экономики. Во-вторых, деньги достаются тем отраслям, которые обслуживают «нефтянку» (железнодорожный и трубопроводный транспорт, банки, нефтепереработка, производство оборудования, автозаправки). В-третьих, немалую долю нефтяной выручки изымает государство с помощью налогов и пошлин, а затем перераспределяет на военные цели, на правоохранительные органы, на зарплату бюджетникам, на пенсии старикам, на поддержку малоимущих.
В общем, выходит так, что «по кусочку» от нефти достается миллионам людей. И эти миллионы, увеличив свои доходы, бросаются в магазины, желая купить нужные вещи: от колбасы и сыра до автомобиля и квартиры. Поскольку спрос на товары растет, то наши производители имеют возможность расширить производство. Они открывают новые предприятия, покупают новое оборудование и нанимают новых работников. В погоне за хорошими работниками они значительно повышают зарплаты. Таким образом, деньги, полученные миллионами людей непосредственно от «нефтянки» или от государства, создают рабочие места для других миллионов. Те, в свою очередь, получив зарплату, тоже устремляются в магазины. И так расширение спроса доходит до каждого уголка страны и до каждой отрасли экономики — даже самой узкой.
Естественно, этот процесс не бесконечен. Расширение спроса постепенно затухает. Богатые приобретают внутри страны всё, что им нужно, а свои более экзотические потребности начинают удовлетворять за счет импорта, поскольку многих товаров и услуг наша экономика предоставить не может. Вслед за богатыми так начинает вести себя и средний класс. В общем, чем дольше мы «жируем» на нефти, тем большая часть населения начинает тратить деньги на то, что производится не у нас. Однако в целом механизм роста, стимулируемого нефтью и газом, способен обеспечить несколько лет бурного экономического развития. Особенно, если в эти годы цены на энергоносители непрерывно растут.
Именно так мы и жили при Путине. Не благодаря Путину, а именно при нем.
При Путине всё путем
С 1999 по 2008 г. российские граждане жили в среднем всё лучше и лучше. Понятно, что статистка, это демонстрирующая, вещь несколько условная. Немало было людей, уровень жизни которых повысился незначительно. А самое главное — мы всё равно остаемся сравнительно бедной страной, если рассматривать Россию на европейском фоне. И те, кто ездит хоть изредка за рубеж или внимательно изучает положение дел по прессе, книгам и кинофильмам, не могут этого не замечать. Но подавляющее большинство, конечно, не ездит и не изучает. Причем в составе этого большинства есть немало тех, кто по-настоящему стал лучше жить именно при Путине. Для них путинская эпоха оказалась временем настоящего процветания. Миллионы людей именно в это время купили себе машину, что ясно видно было даже не по статистике, а по резко возросшей насыщенности уличного движения, появлению серьезных пробок и исчезновению свободного места для парковок. Многие приобрели новые квартиры, что видно по тому, как росли новые жилые кварталы в городах. Другие впервые по-настоящему занялись шопингом, о чем свидетельствует быстро увеличивающееся число магазинов, которые, понятно, не работают себе в убыток, то есть имеют достаточное число покупателей.
В общем, у миллионов людей в нулевые годы были серьезные основания хорошо относиться к эпохе Путина и, следовательно, высоко ценить самого Путина, поскольку искать иных объяснений процветания, кроме прихода правильного руководителя, общество не стремилось. Если в 1990-е гг. народ безмолвствовал, потому что ему не нравились ни старая советская система, ни новая демократическая, то теперь народ стал всё чаще высказываться. При Путине и прилавки оказались наполнены, и доходы стали возрастать. Это устроило подавляющее большинство людей, а потому избиратель с «чувством глубокого удовлетворения» шел на избирательные участки, чтобы проголосовать либо за Путина, либо за его партию, либо за его преемника.
Российские граждане вели себя очень рационально и последовательно. Это не значит, что правильно. И ныне ошибочность путинского курса становится всё очевиднее. Но в рациональности простенького решения поддержать президента, при котором «всё путем», усомниться трудно.
Иногда говорят, что у русских, мол, рабская ментальность и они поддерживают лишь рабство и тех тиранов, которые его выстраивают. Однако для объяснения путинских успехов на выборах совсем не нужно прибегать к столь радикальным объяснениям. Поддержка вождя объясняется как раз вполне рациональными причинами, а вовсе не иррациональной мазохистской склонностью к рабству.
Комментаторы, столь грустно смотрящие на наш народ, исходят обычно из двух ошибочных установок. Или полагают, будто общество должно быть столь умным, чтобы не просто голосовать за лучшую жизнь, а еще и предвидеть, чем эта жизнь обернется через десятилетия. Или считают, будто общество должно столь хорошо разбираться в экономике, чтобы понимать, насколько при других правителях жизнь могла бы быть лучше, чем при нынешних. Но мечта о таких идеальных обществах — не более чем мечта.
Должны ли были российские избиратели понимать, что успех нулевых лет связан не с Путиным, а с нефтью? Хорошо бы сказать, наверное, что должны. Но уповать на такую высокую сознательность — всё равно что уповать на мораль строителей коммунизма. При идеальных людях можно многого достичь, но люди, увы, не идеальны. Они не способны быть истинными строителями коммунизма. И вряд ли стремятся понимать истоки процветания, если, конечно, не вдалбливать им всё время в голову, что дело в нефти, а не в Путине.
Допустим, однако, что народ всё же понял значение нефти. Следует ли из этого, что при голосовании большинство должно было бы выбрать альтернативу Путину? Какие у избирателей были основания полагать, что кто-то другой из лидеров лучше воспользовался бы нефтедолларами в интересах общества? Для таких выводов надо отвлечься от телеэкрана, читать интернет, искать нужную информацию, тратить на это свое свободное время. Кто-то, конечно, готов так себя вести. Но большинство не готово.
Причем не в силу мифической рабской ментальности, а просто потому, что так проще. Не в силу того, что в голову народа заложены какие-то тлетворные идеи, а из-за того, что в голову эту вообще не заложено никаких абстрактных идей. Абстракции — свойства интеллектуалов, которые почему-то порой полагают, будто посредством просвещения весь народ можно довести до такого же интеллектуального состояния, как у них.
Рабство или свобода? Демократия или авторитарный режим? Система сдержек или абсолютная власть вождя? Это всё сложно и, самое главное, неинтересно большинству обывателей. По крайней мере, в те годы, когда и так всё путем. Пока демократия представляла собой развлекательное шоу на рубеже 1980—1990-х гг., она была интересна и привлекала внимание миллионов. Когда же появились лучшие шоу, демократию сдали в архив, положили на полку телестудии и забыли о ней. Грустно? Возможно. Но такова реальность.
Многие народы мира на протяжении своей истории показывали, что они спокойно живут при монархических и авторитарных режимах, если те обеспечивают нормальную жизнь. А при Путине благодаря нефти жизнь была даже более чем нормальной до 2008 г. Так почему человек, сильно уставший на работе и не склонный к абстрактному мышлению в часы отдыха, должен был Путина не любить? Почему должен был искать ему альтернативу?
Егор Гайдар и Анатолий Чубайс:
«На протяжении последних 8 лет (с 2000 г. — Д. Т.) доходы населения (в реальном исчислении) растут темпами, превышающими 10% в год. На фоне такой динамики уровня жизни населения тем, кто управляет нашим государством, нужно сильно постараться, чтобы не быть популярными. Рост доходов населения, а отнюдь не только манипуляции с выборным процессом и контроль над средствами массовой информации, — основа устойчивости сложившейся в последние годы в России политической конструкции».
(Гайдар Е., Чубайс А. Экономические записки. - М.: РОССПЭН, 2008. С. 45-46)
Яков Гилинский — доктор юридических наук:
«Я понимал, что в России, стране тысячелетнего рабства, никогда ничего хорошего принципиально быть не может. Но в глубине души я надеялся, что откат от политики Горбачева — раннего Ельцина произойдет позже. После меня. И минует меня чаша сия. Тщетно: надвигался 1999 г. с гэбэшным преемником... <...> Но это было время, когда весь мир, очарованный М. Горбачевым, "перестройкой" и поверивший в возможность превращения рабской страны в свободную (какое страшное, роковое заблуждение!), брал на себя все расходы по очеловечиванию русских... <...> Бедные наивные иностранцы, они забыли, что каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает. Вот и мы всю свою историю имеем Грозных, Вешателей и Сталина. А Горбачев — счастливая "случайность", которую последующие "вожди" стараются поскорее забыть, предварительно оплевав... <...>
Нынешняя власть не расстанется с захваченным; рабское большинство будет терпеть status quo до бесконечности. Если же и найдется сила, способная его изменить, то это скорее националистические, профашистские организации, нежели либерально-демократическое меньшинство. И — никакой надежды... Может быть, поэтому я так люблю Кафку, Бэккета, экспрессионистов...»
(Гилинский Я. Я в мире, мир во мне. Неоконченные мемуары. - СПб.: ДЕАН, 2010. С. 11, 20, 22,165)
Операция «Преемник Ельцина»
В том, что подавляющее большинство избирателей даже не пыталось искать альтернативы Путину при быстром росте экономики и реальных доходов населения, никакой особой загадки нет. Загадка в другом.
Путин пришел к власти в тот момент, когда еще не мог считаться чудотворцем в экономике. К марту 2000 г., когда избиратели впервые проголосовали за него, никто еще толком не успел почувствовать, что жизнь стала меняться в лучшую сторону по сравнению с «лихими 90-ми». Достижение успеха на тех первых президентских выборах представляло собой по-настоящему сложную задачу, тогда как дальше всё уже было делом техники.
Впрочем, для опытных политиков, хорошо представляющих себе психологию масс, сложных задач не существует. Наоборот, чем сложнее — тем интереснее и с большим азартом берешься за решение. Задача за несколько месяцев провести никому не известного человека по имени Владимир Путин в президенты огромной страны, находящейся в трудном положении, была именно такой.
Подготовка к операции «Преемник Ельцина» началась в мае 1999 г., когда в отставку был отправлен премьер-министр Евгений Примаков, который, если судить по опросам населения, имел в тот момент самые высокие шансы стать президентом России. Примакова срочно убрали с большого поста, чтобы он перестал набирать очки в борьбе за избирателя. Ведь премьер имел высокую трибуну и телеэкран для постоянного общения с народом.
Борис Ельцин, первый президент России с 10 июля 1991 г. по 31 декабря 1999 г.:
«Своей уверенной неторопливостью Евгений Максимович сумел приглушить царившее в обществе в сентябре-октябре настроение и убедить всех в возможности стабилизации обстановки. Честно говоря, именно на это я и рассчитывал. Словом, Примаков добился такой прочности положения, какой не было ни у одного из российских премьеров. Объективно для этого были все основания: поддержка самых разных политических сил, от Администрации Президента до Государственной Думы, высокий рейтинг доверия <...> я ждал от правительства Примакова не решительных действий, а их отсутствия. <...> Для меня главным оставалось то, что Примаков и его правительство будут держать политическую паузу (тем самым помогут экономике выбраться из кризиса) и что руки у коммунистов связаны участием их людей в правительстве.
<...> Людям импонировали лозунги нового правительства: жить по средствам, производить и покупать отечественные товары. Правительство же помогало экономике тем, что, по сути, оставило ее в покое. <...> Евгений Максимович вольно или невольно помогал мне в достижении главной политической цели — спокойно довести страну до 2000 года, до выборов. Затем, как я тогда думал, мы вместе найдем молодого сильного политика и передадим ему политическую эстафету.
Дадим ему стартовую площадку, поможем раскрыть свой потенциал. И тем самым поможем выиграть выборы».
(Ельцин Б. Президентский марафон. Размышления, воспоминания, впечатления. - М.: ACT, 2000. С. 426)
Казалось бы, вместо Примакова надо было сразу назначить Путина, коли уж его выбрали в преемники. Но о Путине Ельцин почему-то заявил лишь через три месяца. А в тот момент поставил во главе правительства Сергея Степашина.
Данная комбинация была настолько странной (зачем нужен премьер всего лишь на три месяца?), что до сих пор не нашла нормального объяснения. Некоторые комментаторы полагают, будто Ельцин еще продолжал выбирать себе преемника и в тот момент предпочитал Степашина. А Путина выбрал лишь тогда, когда убедился, что Степашин, мол, слабоват.
Однако на самом деле никакой особой слабости тот за столь короткий срок проявить не успел и был уволен в августе без видимых причин. Более того, он, скорее всего, и назначен-то был в мае чуть ли не случайно. Ведь известно, что Ельцин сообщил в Думу об ином кандидате в премьеры — Николае Аксененко, а потом оказалось, что оговорился. Даже если и впрямь лишь оговорился, значит, Аксененко был на слуху, то есть до последнего момента шли консультации, кого выбрать — того или этого. А если Степашин в мае еще не был безальтернативным премьером, значит, его точно не рассматривали как преемника.
Из этого следует, что преемником уже был Путин. Но какое-то время его не имело смысла назначать премьером, поскольку он еще не мог проявить себя как следует. На премьерстве дали покопошиться Степашину, чтобы он пока собирал на себя критику врагов, а Путина готовились выпустить в решающий момент.
Момент этот наступил в августе. Почему? В плане раскрутки обычной предвыборной кампании нет особой разницы, выдвигать ли преемника в мае или в августе. Разрыв небольшой. Причем, поскольку Путина в стране никто толком не знал, ему надо было, казалось бы, дать чуть больше времени на раскрутку.
Логичным маневр с «Путиным в засаде» выглядит только в том случае, если в августе непосредственно перед его назначением должно было случиться что-то особое. Но летом обычно событий в политике или экономике бывает значительно меньше, чем в другое время года. Единственное, что случилось, это обострение отношений с Чечней. В самом начале месяца вдруг какие-то боевики пошли с боями в Дагестан, а 7 августа там оказался уже лично Шамиль Басаев — самый известный в то время чеченский террорист.
Через два дня после этого Путин сменил Степашина и тут же активно взялся за организацию боевых действий на Кавказе, где выглядел очень выигрышно, поскольку выдавить небольшую басаевскую банду из Дагестана было нетрудно. Экономическая тематика, которая могла оказаться для Путина не слишком выигрышной (вывод страны из кризиса в тот момент считался явной заслугой Примакова), объективно ушла на задний план. Началась маленькая победоносная война, которая, в отличие от первой чеченской войны (середины 1990-х гг.), выглядела для россиян сугубо оборонительной. Чеченцы же первые начали. И у пострадавшего от терактов народа сработал инстинкт сплочения «своих» для обороны от «чужих».
А когда случились трагические сентябрьские взрывы жилых домов в Москве, общество поразил нешуточный страх. Люди стали думать не о перспективах развития, а просто о выживании. Мало кто теперь сомневался в том, что террористов надо уничтожать повсюду. И Путин в борьбе с ними предстал явным спасителем Родины. Очень уж удачно совпали по времени выдвижение Путина на пост премьера и глупая басаевская выходка.
Басаеву всыпали по первое число, а рейтинг преемника резко пошел вверх. Добровольная отставка Ельцина приблизила момент выборов, состоявшихся на «военной волне» практически без серьезного интереса избирателей к экономике. А за несколько лет пребывания Путина в кресле президента вдруг выяснилось, что и с экономикой у нас теперь всё хорошо. Путин стал спасителем во всех смыслах.
Олег Мороз — журналист:
«По его (Шамиля Басаева. — Д. Т.) версии дело обстояло таким образом. Ключевой фигурой во всей этой заварухе был некто Багауддин, дагестанец, известный исламский лидер, живший в то время в Чечне, в Урус-Мартане, на положении беженца.
Весной и летом 1999-го к нему зачастили посланцы из родной республики, настойчиво призывавшие его вернуться в Дагестан. Аргументация была такова: зачем тебе тут маяться в качестве беженца? — на родине тебе ничто не угрожает,ты сможешь продолжать жить, следуя предписаниям шариата, единственное условие — признавать власть Москвы. В доказательство, что за шариат людей в Дагестане не преследуют, приводили селения Карамахи и Чабанмахи: тамошним жителям в этом смысле предоставлена полная свобода.
В конце концов, Багауддин поддался на уговоры, перешел со своим отрядом примерно в двести человек в родной ему Цумандинский район Дагестана и... попал в западню. Те первые бои, происходившие в этом районе 2-3 августа, как раз и шли между отрядом Багауддина и поджидавшей его милицией и военными.
Багауддин попал в окружение и запросил у Басаева помощь. Тот собрал на совещание полевых командиров. Решили, что их долг — помочь...
После того, как Багауддина вызволили из окружения, все боевики покинули Дагестан. Однако через короткое время вернулись. Теперь откликаясь еще на один зов о помощи: он исходил от жителей того самого "вольного" села Карамахи, которых войска и милиция силой оружия принялись отучать от "ваххабизма"...
В принципе, наверное, достаточно было и одного басаевского вторжения, чтобы говорить о наглом нападении чеченских боевиков на соседний субъект Российской Федерации. Но второе вторжение еще больше усилило эту версию».
(Мороз О. Почему он выбрал Путина? - М.: Русь-Олимп, 2009. С. 313)
Геннадий Трошев — командующий объединенной группировкой российских войск на Северном Кавказе в 2000 г.:
«Именно он (Анатолий Квашнин, начальник генштаба. — Д. Т.) убедил Путина и Ельцина в необходимости проведения контртеррористической операции на территории Чечни <...>. Ладно, согласился Кремль. Но разрешил проведение операции только в северных районах Чечни: на юг, за Терек — ни ногой. Однако первые результаты ввода войск приятно удивили, кажется, даже самого Квашнина. Нас встречали как освободителей. Чеченцы на броню цветы кидали, солдат молоком поили. "Ну, раз такое дело, — решили наверху, — тогда полный вперед!" И мы двинули полки за Терек».
(Трошев Г. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. - М.: Вагриус, 2004. С. 255)
Глава 3. Who is mr. Putin?
Экономика с приходом к власти Владимира Путина начала быстро подниматься, но это лишь в незначительной степени зависело непосредственно от его усилий. В основном подъем был объективно предопределен реформами девяностых, девальвацией рубля и благоприятной нефтяной конъюнктурой нулевых годов. Путин собрал урожай на том поле, которое не он засеял.
Но вслед за экономикой стали расти доходы населения, а за ними и рейтинг главы государства. Через два-три года позиции Путина оказались намного прочнее, чем виделось в момент его прихода на президентский пост. И вот здесь-то по-настоящему начал действовать субъективный фактор. Или, как говорили в свое время марксисты, роль личности в истории. У Путина появилась возможность распорядиться полученным от девяностых наследием так, как он сочтет нужным. А при осуществлении подобного выбора большую роль всегда играют личностные факторы: характер, образование, воспитание, жизненный опыт, круг общения. Об этом и надо теперь поговорить.
Мочить террористов в сортире
От природы Путину, насколько можно судить, достались два важных свойства — агрессивность и здравый смысл. На первый взгляд кажется, что они абсолютно противоположны. Агрессивность принято считать свойством отрицательным, а здравый смысл — положительным. Но на самом деле они хорошо дополняют друг друга. Примерно как скоростные качества автомобиля в сочетании с устройствами обеспечения безопасности. При наличии здравого смысла агрессивность гонит человека вперед, но не мешает притормаживать на сложных поворотах, крутых спусках и в мегаполисах, где много других лихачей.
Множество примеров показывают, что Путин на протяжении всей жизни хорошо чувствовал себя в конфликтных ситуациях. Это не каждому свойственно. Другой человек (даже не трусливый) старается избежать конфликта, поскольку неопределенность, с ним связанная, мешает стабильному течению жизни. Хочешь хорошо выглядеть, но внезапная драка награждает тебя вдруг фингалом под глазом. Хочешь продвигаться по службе, но конфликт с коллегами может оборвать многолетние усилия. Хочешь построить семью, завести детей, но разборки с женой оборачиваются разводом. Понимая всё это, большинство людей чувствуют себя в конфликте неуютно и на обострение идут лишь в крайнем случае.
Путин не таков. Конфликт его явно возбуждает и помогает ощутить вкус жизни. Он рос парнем, которому, бесспорно, было не чуждо благородство. Практически все, кто знал его в детстве, вспоминают, как заступался Володя за слабых, как смело готов был ринуться в бой с противником, превосходившим его — невысокого щуплого мальчика — по силе и весу. Но есть одна очевидная и очень важная вещь, которая упорно ускользает от внимания комментаторов. Не столько конфликт искал Путина, сколько Путин искал конфликта.
Иногда искал в переносном смысле, как ищет примерный мальчик старушку, чтобы перевести ее через улицу (и переводит, даже если старушке этого не надо). А иногда искал в самом что ни на есть прямом. У вас тут драка намечается? Можно, я тоже поучаствую? А начав участвовать, он всегда бил первым.
Сохранилось столько описаний бытовых схваток юного Путина, что кажется порой, будто это не свидетельства очевидцев, живших в реальном Ленинграде 1960—1970-х гг., а пересказ сцен из голливудского триллера про бандитов Чикаго или Бронкса. Конечно, спору нет — Питер той эпохи был далек от идиллии. Но вряд ли кто из питерских мальчишек 1960—1970-х (к числу которых отношусь и я) станет уверять, что повод для серьезной драки встречался на каждом шагу.
Собственно говоря, сам Путин достаточно четко определял в одной из бесед с журналистами, кем он был в годы своего детства:
«— Я же хулиган был, а не пионер.
— Кокетничаете.
— Обижаете. Я на самом деле был шпаной».
Мировоззрение юного Володи было абсолютно маргинальным. Многих ли мальчишек 1960—1970-х гг. ограничивали в приеме в пионеры? Пожалуй, не больше чем одного-двух на класс.
А многих ли вызывали соседи по дому на товарищеский суд? Это вообще была редкость.
Его действительно «судили» и действительно не принимали в пионеры до 12 лет, при том что пареньком он рос умненьким и учился, несмотря на весь свой детский выпендреж, сравнительно сносно: перебивался с четверки на троечку. Держали Володю подальше от рядов «юных ленинцев» исключительно из-за хулиганства.
Тем не менее здравый смысл помог Путину вовремя остановиться. Сколько таких агрессивных по природе ребят кончали тюрьмой, поскольку не знали меры в удовольствиях, получаемых от конфликта. Но Владимир их четко дозировал, избегал откровенного криминала и в итоге выстроил нормальную карьеру.
В известной мере заменой криминалу при врожденной агрессивности служит спорт. Особенно бокс и борьба. Неудивительно, что Путин отдал им дань. Агрессия выплескивается, но всё в рамках дозволенного. И зрители аплодируют.
Перевод конфликтов из реальной жизни на татами позволил долго продержаться, не выходя за рамки закона. А взобравшись на высший пост государства и выйдя из-под действия норм, предписанных обычным гражданам, Путин вновь дал волю инстинктам. «Вы уж меня извините, — сказал он как-то раз относительно террористов, — если в туалете их поймаем, то и в сортире замочим».
Конфликт с олигархами, конфликт с Чечней, конфликт с Грузией, конфликт с Украиной... И как вершина всего его государственного образа жизни — конфликт с Америкой и НАТО. При этом все конфликты четко дозированы. Они никогда не подрывают президентские позиции Путина, а, наоборот, лишь укрепляют их. Более того, насколько можно судить по внешнему виду и выступлениям Владимира Владимировича, конфликты не раздражают его, а, скорее, способствуют выработке адреналина. Он чувствует себя в конфликтной среде, как рыба в воде. Жизнь наполняется смыслом. Идет большая игра, в которой хочется победить. И если победа приходит, за ней сразу следует приз — высокий рейтинг, народное признание и сохранение власти на очередной срок.
Сколько раз на моей памяти различные эксперты предрекали Путину крах из-за его авантюризма. И сам я порой был склонен к такого рода оценкам. Возможно, когда-то и впрямь президент выйдет за разумные рамки. Однако 16 лет пребывания у власти однозначно свидетельствуют о том, что в целом здравый смысл с агрессивностью сочетаются. И там, где поспешно судящие комментаторы видят не расчет, а одну лишь агрессивность, логика действий обычно проявляется через некоторое время, когда комбинация становится видна в целом.
Сергей Ролдугин — музыкант, друг детства Путина:
«Посмотрели мы Крестный ход и отправились домой. Стоим на остановке, подошли какие-то люди к нам. Не бандиты, нет — может, какие-то студенты, но подвыпившие: "Закурить не найдется?" Я промолчал, а Вовка отвечает: "Не найдется". — "А ты чего так отвечаешь?" Он: "А ничего". Что произошло дальше, я просто не успел понять. По-моему, один из них его толкнул или ударил. И я увидел только, как перед глазами промелькнули чьи-то носки. И парень куда-то улетел. А Володька мне спокойно говорит: "Пойдем отсюда!" И мы ушли».
(От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. - М.: Вагриус, 2000. С. 46)
Специалист по общению с людьми
Итак, что у Путина есть от природы, более-менее ясно. А чему же он научился?
Главной школой для него, естественно, был Комитет госбезопасности, а не юридический факультет Ленинградского университета. Чему в КГБ учили? Конечно же, не тому, что демонстрируют обычно в боевиках. Вряд ли Путин когда-либо спасался от погони, участвовал в перестрелках или десантировался в тылу противника. Его «шпионской» задачей была будничная работа — вербовка агентов. А для этого надо уметь нравиться людям. Нужно располагать их к себе, понимать мотивацию, осознавать среду, в которой они находятся. В известном смысле вести себя, как Штирлиц в беседах с пастором Шлагом или профессором Плейшнером. Надо быть столь обаятельным и в то же время убедительным, чтобы потенциальный агент проникся к тебе настоящим доверием, а затем выразил готовность к сотрудничеству.
Путин не достиг больших высот как разведчик, но то, чему разведчиков обучали, выучил, похоже, в совершенстве. Он обладает потрясающей способностью вкрадываться в доверие людей. Причем как нижестоящих, так и вышестоящих. Если воспользоваться вновь аналогией со Штирлицем, то Путин умел общаться не только со Шлагом и Плейшнером, но с Шелленбергом, Мюллером, Борманом, каждый из которых имел свой характер и свое видение мира.
Успешная карьера Путина с момента его увольнения из КГБ и прихода в питерскую мэрию определялась во многом умением понравиться начальнику, сказать именно то, что он ждет, и сделать именно то, что положено делать подчиненному. В ситуации, когда иному нужно годами высиживать продвижение по службе, Путин добивался очередного карьерного взлета за самое короткое время. Он стал преемником Ельцина, не достигнув даже пятидесяти лет, хотя стартовал в политике чрезвычайно поздно — чуть ли не в сорок.
Сначала Путин чудом обаял Анатолия Собчака, причем не скрыв от него свою принадлежность к КГБ. Перебравшись в Москву на не слишком высокую должность, он быстро обаял всю так называемую ельцинскую «Семью» (Валентина Юмашева, Александра Волошина, Татьяну Дьяченко и Бориса Березовского), благодаря чему продвинулся на пост главы ФСБ и секретаря Совета безопасности. А самое главное — он обаял самого Ельцина, поскольку без президентского решения не мог бы, конечно, стать преемником.
О том, как «купились» эти высокопоставленные люди, мы толком не знаем, поскольку они об этом не рассказывали. Делали вид, будто их выбор был тщательно продуман и мотивирован множеством обстоятельств. Но существуют рассказы целого ряда людей, общавшихся с Путиным в рабочей обстановке, предлагавших ему различные реформы и контрреформы, глобальные идеи и административные перестановки. Все они поначалу пребывали в уверенности, что Путин их очень внимательно слушает, проникается сказанным и становится единомышленником. Все они поначалу полагали, что смогут добиться больших успехов с таким умным, образованным и доброжелательно настроенным президентом. И многие из них потом разочаровывались, когда Путин вдруг начинал делать совсем не то, о чем они с ним договаривались.
Иногда Путин проводит «групповые сеансы», стремясь обаять сразу большую группу людей, и тогда происходит утечка информации. Скажем, на Валдайском форуме он может лично налить вина приглашенному зарубежному политологу, и тот, вспоминая потом, как полудержавный властелин его обслуживал, постарается найти в путинском политическом курсе позитивные черты.
Но главное — это не работа с политологами, а работа с массами. До конца неясно, чем конкретно Путин берет широкую аудиторию. Вроде бы у него нет никаких черт, характерных для харизматиков. Нет народности Ельцина, брутальности Лебедя, сексуальности Немцова, красноречивости Собчака. У него нет военных подвигов и великих побед. Рост небольшой, лицо невыразительное, волосы редкие. Однако 16 лет Путина слушают с огромным вниманием, хотя за это время он успел достичь пенсионного возраста и потерять то обаяние молодости, которое имелось у него в 1999 г. на фоне стареющих «политических звезд» той эпохи — Ельцина, Зюганова, Примакова, Черномырдина и Жириновского.
Скорее всего, дело не в личном таланте общения, а именно в долгом тщательном обучении. В том, что он собирает множество психологически важных деталей, из которых потом конструируется выступление. Грубоватый народный юмор отвращает интеллектуалов, зато привлекает массы. А для интеллектуалов есть хорошее владение цифрами (естественно, тщательно подготовленное). Слушатели, жаждущие патернализма, видят перед собой уверенного лидера. А те, кто не слишком любит пафосность, обнаруживают, что Путин при всей своей уверенности говорит простым языком. Примерно так же, как говорил бы с нами не с высокой трибуны, а в беседе за чашкой чая.
Знаю, некоторые читатели сейчас плюются, считая, что автор выдумал все эти умения Путина, тогда как лично их он никогда ничем не привлекал. Верно. Именно так всё и есть. Существует стойкая группа ярких самостоятельных людей, для которых Путин со всеми его примитивными фокусами совершенно непривлекателен. Однако одно из умений профессионального мастера общения состоит в том, чтобы вычленить эту группу и, поняв незначительность влияния таких людей на политику, перестать обращать на них внимание. Бандерлоги. Чего с них возьмешь?
Сергей Ролдугин:
«Я его спросил: "Я виолончелист, я играю на виолончели.
Я никогда не смогу быть хирургом. Но я — хороший виолончелист. А у тебя что за профессия? Я знаю, ты — разведчик.
Не знаю, что это значит. Ты кто? Что ты можешь?"
И он мне сказал: "Я — специалист по общению с людьми"».
(От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. - М.: Вагриус, 2000. С. 41)
Владимир Усольцев — бывший советский разведчик, сослуживец Путина по работе в Дрездене:
«Я абсолютно убежден в том, что именно его уникальное обаяние в глазах пожилых людей оказало решающее влияние на его карьерный взлет с того момента, как он попал в поле зрения Ельцина».
(Усольцев В. Сослуживец. Неизвестные страницы жизни Президента. - М.: Эксмо. С. 222)
Олег Мороз:
«"Я когда-то тоже хотел совсем иначе прожить свою жизнь, — по-отечески напутствовал Ельцин Путина. — Не знал, что так получится. Но пришлось... Пришлось выбирать... Теперь вам надо выбирать".
Ответ Путина был дежурно-льстивым:
"Вы очень нужны России, Борис Николаевич. Вы мне очень помогаете. Вот вспомните саммит в Стамбуле. Если бы поехал я — одна ситуация, поехали вы — другая. Очень важно, что мы работаем вместе"».
(Мороз О. Почему он выбрал Путина? - М.: Русь-Олимп, 2009. С. 397)
Dura lex
От учебы на юриста Путин, конечно, тоже кое-что взял. Он очень любит законы. Правда, не дух их, а букву. И это объясняет многие его действия.
Когда завершался второй срок путинского президентства, немало было споров среди аналитиков, каким образом «хозяин» продлит свои полномочия. Наивные комментаторы, правда, говорили, что он вообще уйдет от власти, но серьезные — выбирали между тремя вариантами: 1) пересмотр конституции в пользу бессрочного президентского правления, 2) пересмотр конституции в пользу парламентской республики с премьером во главе, 3) временный преемник с возвратом власти через четыре года. Путин не стал пересматривать конституцию и остановился на несколько рискованном для себя третьем варианте.
Теоретически преемник мог на президентском посту заматереть и власть обратно не отдать. Поэтому Путин сделал всё возможное для того, чтобы преемник был максимально слабой фигурой. Это, конечно, требовало больших усилий и довольно тонкой игры, в которой Дмитрий Медведев был бы маргинализирован и не мог бы опереться на кремлевских силовиков. Для Путина гораздо проще было бы напрячь разок парламентариев с тем, чтобы они разрешили ему избираться на президентский пост без всяких ограничений по числу сроков. Президент, однако, не стал искать легких путей с тем, чтобы никто не мог его впоследствии упрекнуть в пересмотре конституции под себя.
Последнее время в мире стало модно судить ушедших от власти диктаторов. Но если Путин когда-нибудь от власти уйдет, то по формальным критериям его нельзя будет назвать диктатором. И, соответственно, никакой суд его не осудит. От суда Линча, конечно, как в случае с румынским лидером Николае Чаушеску, не спасет даже соблюдение буквы закона, но если вдруг речь зайдет о справедливом суде европейского типа, то Путин окажется «демократом чистой воды», как выразился о нем однажды бывший германский канцлер Герхард Шредер. Dura lex, sed lex. Может, и по-дурацки всё это выглядит, однако с формальной стороны не придерешься. Закон любому суду придется соблюдать.
Вполне скрупулезно с правовой точки зрения обставлены все силовые акции Путина: введение войск в зарубежные страны, контртеррористическая операция на Кавказе, подавление протестных действий. Президент не принимает единоличных антиконституционных решений. Парламентарии всё оформляют, как надо. И если когда-нибудь оценки происходящих в России событий переменятся на прямо противоположные, нельзя будет сказать, что совершено преступление. Максимум — политическая ошибка. За них сроки не отсиживают. За них просто каются. Виноват, мол, хотел как лучше, а вышло как всегда.
При правильно оформленных с правовой точки зрения военных действиях уголовную ответственность могут нести лишь лица, виновные в убийствах гражданского населения, изнасилованиях и пытках военнопленных. А это всегда означает правовую ответственность лишь на низовом уровне. Ясно, что верховный главнокомандующий никогда лично не отдает приказ о нанесении ракетного удара по мирному аулу. Если же какой-то полковник, озверев от кровавой бани, в которую его погрузила война, начнет вдруг насиловать женщин, то сам он за это и ответит. А вовсе не политики, которые войну начали и скрупулезно юридически обосновали.
Иногда возникает вопрос: зачем вообще Путину выборы, если он всегда на них побеждает? Зачем парламент, состоящий из марионеток и штампующий документы, подготовленные в правительстве или кремлевской администрации? Не проще ли сэкономить деньги и отказаться от липовой процедуры, когда суть политических процессов, происходящих в России, и так всем ясна? Нет, не проще. Парламент у нас, как известно со слов Бориса Грызлова, не место для дискуссий о законотворчестве, но это то место, существование которого очень важно для легитимации любых президентских действий. Настоящий юрист это понимает.
Примерно так же обстоит дело и в экономике. Компания «Роснефть» — любимое детище Путина, возглавляемая его близким другом Игорем Сечиным, — не случайно покупала «Юганскнефтегаз» (лучшую часть ЮКОСа) не напрямую, а через посредство шарашки под названием «Байкалфинансгрупп». Формально никто не мог после этого обвинить «Роснефть» в том, что она, мол, поживилась на деле Ходорковского. Поживилась шарашка, а солидные люди честно приобрели потом «Юганскнефтегаз» на рынке. Краденого не брали. И за прошедшее после этой истории время на Западе никто никогда не стеснялся с «Роснефтью» сотрудничать, хотя сам Ходорковский называл Сечина заказчиком расправы над ЮКОСом. Ходорковского на Западе все жалели. И квалифицированная часть жалевших прекрасно понимала, что на самом деле происходит в России. Но юридически ни у кого не было оснований бойкотировать Сечина или отказываться от выгодного бизнеса с «Роснефтью».
И самое главное: никогда никто не найдет тайных капиталов Путина, о которых модно стало говорить в последнее время. Юридически он абсолютно чист. Миллиарды принадлежат десятку-другому его друзей, среди которых, как показало дело с офшорами, не только бизнесмены, но и музыкант Ролдугин, который сам их никак заработать не мог. Диверсификация вложений гарантирует их сохранность. Даже если часть друзей предпочтет слинять на Запад и полностью порвать связи с системой, их породившей, другие всё равно здесь останутся. А уж в верности Ролдугина, который Путину, как брат, вообще нет никаких сомнений.
Кто нас обидит, трех дней не проживет
Если образование цивилизовало Путина и помогало ему восходить на вершины власти, то дворовое детство на питерском Басковом переулке прорывалось порой сквозь внешнюю оболочку и поражало всех, кто надеялся увидеть в российском лидере настоящего европейца. Дворовые ценности с европейскими ценностями никак не хотели сочетаться.
Если попытаться выразить суть европейских ценностей одной фразой, то сводятся они к тому, что сотрудничество выгодно для всех. Дворовые же ценности сводятся к мысли, что жизнь есть игра с нулевой суммой: всё, приобретенное твоим противником, утеряно для тебя. Примерно так, кстати, строилась жизнь на заре человечества. Цивилизация показала, что в конечном счете выгодно не отнимать, а производить. Экономика устроена несколько сложнее грабежа, она требует больше знаний и больше усилий, но зато ни один бандит никогда не был столь богат, как успешные предприниматели. Двор, правда, этого не знает.
«Жить во дворе и в нем воспитываться, — заметил как-то раз сам Путин, это всё равно что жить в джунглях. Очень похоже. Очень». И впрямь он и по сей день часто живет по законам джунглей.
Откуда взялось путинское представление о том, будто Америка нам угрожает и НАТО, приближаясь к российским границам, вынашивает коварные планы? Из детства дворового, где Путину много раз доводилось видеть, что враг никаким аргументам не внемлет и лишь точный удар в зуб или «бросок через пупок» способен остановить агрессию.
До конца неясно, верит ли сам Путин в то, что жизнь именно так устроена, или подобную картину мира он лишь предлагает своему электорату, большая часть которого тоже прошла через дворовое детство. В любом случае получается неплохо. Личный жизненный опыт показывает президенту, что такого рода схемы работают. Соответствуют инстинктам людей. Цепляют людей за душу. Пробуждают воспоминания о том, как им самим приходилось выживать в агрессивной детско-юношеской среде. А затем эти воспоминания переносятся на среду международную.
Если со всех сторон нас окружают враги, а мир в целом — игра с нулевой суммой, то, значит, нам надо объединяться вокруг национального лидера, забыть все внутренние конфликты и цепко держаться за «истинные ценности»: нефть, газ, металлы. Нельзя проявлять слабость, поскольку слабых бьют, как сказал Путин сразу после теракта в Беслане.
Рациональные рассуждения часто показывают, что подобная картина мира не соответствует действительности, но иррациональные представления для людей путинского склада понятнее. А таких ведь у нас большинство.
Впрочем, вне зависимости от того, верит ли лично Путин в то, что современный мир — это как большой питерский двор, где слабакам спуску не дают, одно происходящее из детства представление ему точно свойственно. Слабый — не только тот, кто спортом пренебрегает. Слаб тот, кто остается одиночкой. Побеждают всегда команды. Тесные, сплоченные и основанные на идее абсолютной преданности друг другу. «Один за всех — все за одного», — как говорили мушкетеры. Или: «Кто нас обидит, трех дней не проживет», — как говорит Путин.
По всей видимости, это дворовое представление укреплялось у Путина в годы занятия спортом, хотя он специализировался на единоборствах. В спорте такие представления сознательно культивируются тренерами. Культивируются они и в спецслужбах. А уж когда представление о преимуществах командной борьбы с противниками точно у Путина укрепилось, так это в период работы в питерской мэрии и, соответственно, за время общения с питерским бизнесом.
Ошибочно мнение, будто в «лихие 90-е» побеждали лишь отморозки, которые беззастенчиво крали, обманывали, обвешивали, спаивали и т.д. Всё это было в нашей жизни, но публика, предпочитавшая именно так вести дела, как правило, кончала плохо. Либо в тюрьме, либо на кладбище. Побеждали те, кто, понимая необходимость борьбы (иногда очень жесткой), выстраивали в собственной узкой среде совершенно иные отношения.
Успешные люди внутри собственной команды вели себя патерналистски. Никого не кидали, культивировали взаимопомощь. Восходя по служебной лестнице, тащили за собой свою команду, поскольку были уверены в ее преданности, которая важнее деловых качеств. Может, Путин и не сразу понял, что именно так следует вести дела, но, как человек, обладающий здравым смыслом и внимательно наблюдавший за жизнью Питера 1990-х, он рано или поздно должен был понять, что впитанные с детства командные принципы очень пригодятся в по-настоящему взрослой жизни.
По мере появления новых задач и разрастания объема контролируемых ресурсов любые команды пополняются новыми людьми, которые, пройдя своеобразный испытательный срок, могут стать полноправными членами. Команда Путина изначально формировалась на базе сослуживцев по питерской мэрии, но быстро пополнялась чекистами, с которыми лидеру раньше приходилось иметь дело. В Кремле у Путина задачи стали столь масштабными, что подключились друзья детства, партнеры по спорту.
Одновременно привлекались новые специалисты — по внешней политике, по экономике, по политтехнологиям. Однако те, кто пришел к Путину, когда он был уже на вершине власти, похоже, полноправными членами команды становились редко. К ним президент уже не испытывал того доверия, которым обладали люди, прошедшие с ним сквозь огонь, воду и медные трубы.
Вообще, чем дальше человек находится от ближнего круга Путина, тем меньше уважения он ему внушает. Сильные рядом, слабые поодаль. А двор приучил Путина не уважать слабых. Слабые хороши лишь как масса, которой можно манипулировать ради укрепления собственных командных позиций. Подобное отношение к людям Путин тщательно скрывает, но при большом числе выступлений оно так или иначе начинает проглядывать сквозь маску.
Андрей Пионтковский — публицист:
«Питерский двор, в котором мальчик из бедной семьи, живущей в коммунальной квартире, проводил все свое время, — вот его настоящая школа жизни. Обычный двор 50-60-х с жестокими драками, властью уголовной шпаны и культом силы.
Чтобы выжить в этой среде, слабенький Вовочка должен был стать изворотливым и жестоким, уметь подстроиться под сильного и никогда не испытывать нравственных сомнений и страданий».
(Пионтковский А. За родину! За Абрамовича! Огонь! - М.: РДП «Яблоко», 2005. С. 23)
Хватит сопли жевать
Сейчас нам кажется, что Путин всегда был очень успешным человеком. Еще бы: занять президентский пост в столь молодом возрасте и оставаться на вершине уже много лет! Но на самом деле его жизнь состояла из черных и белых полос. Сложное дворовое детство сменилось чередой успехов: достижения в спорте (чемпион Ленинграда по борьбе), элитное (по ленинградским меркам) юридическое образование и, наконец, служба в КГБ — структуре, куда не каждого возьмут. Но дальше вновь началась черная полоса.
Путин не скрывал, что при выборе профессии ориентировался в значительной степени на киношную романтику. Он очень любил знаменитый советский фильм про разведчиков «Щит и меч». Посмотрев его, юный Володя пришел на Литейный проспект к зданию КГБ, чтобы поинтересоваться, как стать их сотрудником. Мальчику посоветовали для начала получить хорошее высшее образование. Желательно юридическое. Что он и сделал.
Увы, «романтическая лодка» любви к профессии разбилась о быт. Из 16 проведенных в КГБ лет он лишь пять проработал за границей: с 1985 по 1990 г. И это бы еще ничего, дорогу к цели Путин мог выдержать. Но можно ли было выдержать службу в ГДР, где он, по сути, стал не романтическим сражающимся героем, а обыкновенным мелким чиновником, заполняющим бумажки на потенциальных агентов? «Идиотизм деревенской жизни» в Дрездене Путин заливал пивом, однако вряд ли это помогало преодолеть тоску. Думается, тогда уже стало ясно, что карьеры он не сделает. Доработает до определенной планки и будет отправлен на пенсию.
Но еще задолго до пенсии Путин столкнулся с более серьезными обстоятельствами, подрывавшими карьеру. Стране победившей госбезопасности пришел вдруг конец. И для не слишком удачливого разведчика это означало конец всему. То ли сам Путин понял, что карьерных перспектив больше нет, то ли ему это прямо объяснило начальство, но в итоге оказалось, что, достигнув 37 лет, наш герой был вынужден начинать карьеру заново.
Вряд ли в КГБ ему предлагали пойти на повышение, как принято считать. Скорее, хотели сбагрить с рук куда-нибудь на сторону. Но даже если информация о возможностях карьерного роста в 1990 г. — это правда, сам Путин наверняка понимал, что миф, созданный им в юности, развеялся как дым.
Пришлось стать помощником ректора ЛГУ по международным связям. Любопытно, что многие до сих пор путают, полагая, будто Путин работал проректором. В голове не укладывается, какой низкий ранг был тогда у человека, ставшего через год заместителем мэра, а через 10 лет — президентом страны.
Трудно усомниться в том, что Путин тяжело переживал крах карьеры. Наверняка всё это должно было усугубить психологические проблемы, сформировавшиеся еще в питерском дворе. Что творилось в его душе, мы не знаем, но Людмила Путина как-то призналась своей немецкой подруге (не подозревая, что та это признание когда-нибудь обнародует): «К сожалению, он — вампир». Жена после общения с мужем часто ощущала, что из нее высосали все соки и испытываемое в связи с этим напряжение превышает ее скромные силы. Неудивительно, что супруги расстались, когда Путин стал полностью манипулировать общественным мнением и смог оставить жену без потерь для своего политического имиджа.
Кстати, еще в 1994 г. Людмила разбилась в аварии. У нее зафиксировали перелом позвоночника и основания черепа. По сути, она была при смерти. Супруг заехал ненадолго в больницу, получил от главврача заверения, что опасного ничего нет, и отправился дальше по делам.
Белая полоса началась, когда Путин стал заместителем (а затем — первым заместителем) мэра Санкт-Петербурга. Взлет был невероятным. За пару лет из мелкого университетского клерка до второго лица города. Казалось, что есть шанс успешно продолжить карьеру, но тут Собчак проиграл выборы, и Путин остался без работы. В Москву его пристроили «по блату» совокупными усилиями трех петербуржцев — Кудрина, Чубайса и Большакова.
А дальше случилось чудо. Путин, которого судьба мотала до той поры как песчинку, сумел вдруг взять себя в руки и сделать невероятную карьеру. Конечно, на новом взлете сказалось умение привлекать людей, привитое ему много лет назад в школе КГБ и проверенное при воздействии на Собчака. Но важно было и другое. Путин взял себя в руки и все силы посвятил продвижению по службе. «Хватит сопли жевать», — сказал он, по-видимому, самому себе и перестал размениваться на мелочи. Жизнь закалила его и сформировала представление о том, что за каждой черной полосой последует белая. Надо лишь быть сильным, не раскисать и уметь ждать благоприятного момента.
Нет смысла в глобальной стратегии, рассчитанной на десятилетия. Как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но краткосрочную тактику надо иметь обязательно.
Возьми максимум от текущего момента, продержись, сжав зубы, а дальше всё само пойдет. Вырастут цены на нефть — и разрешится экономический кризис. Подставится Янукович — и можно будет присоединять к России Крым. Сменится американский президент — и, глядишь, смягчится режим санкций, наложенных на Россию.
Поэтому не имеют смысла часто задаваемые сегодня вопросы, о чем думает Путин, видя системный кризис, поразивший Россию. Он думает о том, что кривая выведет. Куда-нибудь и как-нибудь.
Марина Ентальцева — секретарь Путина в мэрии Санкт-Петербурга:
«В приемную позвонила какая-то женщина: "Я по просьбе Людмилы Александровны, она попала в аварию, просила позвонить". <...>
Я предложила Владимиру Владимировичу: "Давайте я девочек отвезу к своей маме". Он говорит: "Нет, это неудобно, но если бы Вы согласились переночевать с ними у нас на даче, я был бы Вам благодарен". Я сказала: "Хорошо". <...>
Когда мы уже собрались ехать, Владимир Владимирович сказал, что, если сможет, подъедет позже, но вряд ли, потому что встречи у него будут до поздней ночи.
Водитель привез нас и уехал. Но он забыл сказать нам, как включить отопление в доме. Холод был страшный. Но девочки вели себя очень достойно. Когда мы приехали, они мне стали помогать: "Тетя Марина, одеяла надо достать оттуда, а простыни — вот оттуда". <...> Я положила девчонок в одну постель, чтобы им было теплее. И вдруг в три часа ночи стук в дверь.
Я испугалась, потому что кроме нас троих никого не было. Оказалось, приехал Владимир Владимирович, освободившись наконец от Тернера (американский миллиардер, приезжавший к Собчаку вести переговоры о проведении Игр доброй воли. — Д. Т.). Он сразу все включил, и дом быстро согрелся».
(От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. - М.: Вагриус, 2000. С. 98-102)
«Двушечка»
И наконец, есть еще один важный фактор, влияющий на поведение Путина, — принадлежность к определенному поколению. Его условно можно обозначить как генерацию семидесятников людей, сформировавшихся в 1970-х гг., в период глубокого советского застоя, когда уже было ясно, что мы не построим ни коммунизма, ни социализма с человеческим лицом, но, с другой стороны, еще не было никаких намеков на возможность перестройки и возвращения к капитализму.
Люди этого поколения при всех огромных личностных различиях были в целом больше, чем их отцы и деды, склонны к прагматизму. Они меньше фантазировали, меньше строили иллюзий о возможности неожиданных социальных поворотов. Семидесятники исходили из представления о том, что всю жизнь придется прожить примерно в такой же застойной бюрократической системе, как брежневская. Умрет один лидер, придет другой — чуть помоложе. Затем третий. И так до бесконечности. Поэтому не стоит мечтать о демократии и правах человека, о том, что кто-то прислушается к мнению диссидентов. Личное мнение надо засунуть в карман и адаптироваться к реальной ситуации, в которой живешь.
Свой прагматизм толковый семидесятник оборачивал обычно либо в форму профессионализма, либо в форму эскапизма. Иными словами, он либо максимально приспосабливался к внешней среде, стремясь получить хорошую специальность и сделать карьеру. Либо, напротив, уходил из убогого брежневского мира в свой собственный мир, где чувствовал себя уютно. Для кого-то это могли быть книги, музыка или коллекционирование. Для кого-то — семья, дети, обустройство квартиры, достижение приемлемого уюта хотя бы на малой территории, отгороженной от бестолкового неуютного социализма. Мещанство и карьеризм вновь стали позитивными явлениями после десятилетий революционной борьбы с ними. Сами эти слова семидесятники не использовали, но фактически именно на них ориентировались.
Путин оказался одновременно и карьеристом, и мещанином в том позитивном смысле, которое привнесло его поколение. Профессионально усвоенное умение нравиться людям сделало Путина президентом, а склонность заботиться именно о себе, о своей семье и своей команде помогла удержать власть надолго. Чем он точно не «грешил», так это намерением спасти мир, осчастливить народ, осуществить реформы, которые переменят Россию в лучшую сторону. Когда надо, он был коммунистом. Когда обстоятельства переменились, легко расстался с этой идеологией. А чуть позже, когда стало ясно, что российский лидер должен демонстрировать на людях православие, Путин вдруг оказался верующим человеком. Или, во всяком случае, воцерковленным, поскольку, верит ли он действительно в Бога, мало кого волнует. Главное — ведет себя, как положено. Прагматично. С четкой ориентацией на цель — пасти свое стадо как можно дольше.
Иногда Путин был больше карьеристом, иногда — мещанином. В зависимости оттого, как жизнь складывалась. В Германии больше ориентировался на семью. Очень любил своих маленьких девчушек, подозревая, что ничего более значимого в его жизни уже не появится. В мэрии, напротив, сделал ставку на карьеру, видя, что судьба ему вдруг улыбнулась и перспективы открылись такие, о которых несколько лет назад мечтать было невозможно. При этом, правда, Путин и об уюте не забывал. Вступил в кооператив «Озеро», дачку построил, деньжат прикопил.
Прагматизм семидесятников иногда оборачивался цинизмом, что неизбежно было в брежневскую эпоху, когда целое поколение росло на анекдотах про вождей, не имея при этом никакой возможности заменить старых маразматиков на самих себя — более умелых, начитанных, подготовленных. Старики впихивали в мозги семидесятников залежалые идеи, в которые сами уже не верили, и молодым людям ничего не оставалось иного, кроме как обсмеять все идеи помимо тех, которые работают непосредственно на выгоду и карьерный рост. Хорошо всё, что практично. А такие вещи, как ум, честь, совесть, смысл жизни, гуманность, демократия и благо народа — не более чем пропагандистские штампы, с помощью которых элиты управляют людьми — как у нас, так и за рубежом.
Говорят, что Путин очень любит знаменитую фразу Гоголя из «Мертвых душ», вложенную автором в уста Собакевича: «Все христопродавцы. Один только там и есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если правду сказать, свинья».
Путин знает цену народу, который ждет чудес. Он знает цену элите, которая готова пресмыкаться и славословить ради лишнего доллара, падающего к ней в карман с властных высот. Он знает цену зарубежным политикам, которые могут развязать войну в Ираке и при этом критиковать военные действия, осуществляющиеся у нас в Чечне. И он оценивает всё происходящее с изрядной долей цинизма. Вот его любопытное признание тележурналисту Владимиру Соловьеву. Как-то раз, когда тот говорил Путину о недостатках системы управления страной, президент прямо ответил: «Владимир, ну что вы от меня хотите?! Такой говенный замес достался».
И впрямь, как можно при таком «замесе» давать народу свободу? Он ведь сразу нацистов призовет. Как можно не нагибать олигархов? Они ведь растащат всё, что плохо лежит. Как можно не встраивать всех в вертикаль власти? Сразу разнесут Россию по кусочкам так, что из Кремля даже нечем управлять будет. Из дерьма трудно построить что-нибудь стоящее, но если его подмораживать, то, по крайней мере, вонять не начнет. Хотя при этом, естественно, дерьмом и останется.
В общем, не стоит удивляться тому, что Путин умело и весьма профессионально использовал политические технологии для формирования и укрепления режима. В его действиях не было излишеств, обусловленных стремлением реализовать какую-то великую идею. Воевал он столько, сколько нужно. Сажал, сколько нужно. Разгонял, сколько нужно. По принципу минимальной достаточности. Тех, кто не мешал ему, никогда не трогал. Но тех, кто мешал, никогда не жалел. Влепил «двушечку» девчонкам из Pussy Riot и не поморщился.
Если человек должен быть наказан, он будет наказан. По принципу «Был бы человек, а статья найдется». Так случилось, например, с Юрием Шутовым, которого сочли виновным в убийстве Михаила Маневича. Так было с полковником Владимиром Квачковым, которого сочли виновным в покушении на Анатолия Чубайса. Что-то удалось доказать, что-то нет, но выкрутиться обвиняемые не смогли. Поскольку покушение в столь близкой к Путину среде должно быть вообще исключено.
А если человек не должен быть наказан, то и не будет. Даже если десять статей найдется. Анатолий Сердюков, как выяснилось, не воровал, а был лишь введен в заблуждение своими подчиненными. И остался на свободе. Поскольку коррупции в столь близкой к Путину среде не может быть в принципе. Не может быть потому, что этого не может быть никогда.
Владимир Усольцев:
«Володя дал полную волю своим индивидуалистическим установкам: жить для семьи, для своих дочурок, извлекая из сложившейся ситуации оптимум. Когда все население России, особенно из так называемого "красного пояса", поймет, что, думая прежде всего о себе, каждый принесет и себе, и обществу намного больше пользы, чем приносит, убиваясь "на благо общества"? <...>
Это был трудяга-конформист, смирившийся с системой <...> Большой мир с большой политикой, к которым мы имели некоторое косвенное отношение, особо его не занимал. Намного важнее была для него его семья <...>
Не думай о человечестве, а думай о себе... Нам не дано ничего изменить, и жить нужно для себя (слова Путина в изложении Усольцева. — Д. Т.).
Почему немцы и чехи умеют жить весело, почему у нас такое веселье не получается? Если праздник,то обязательно вдрызг напиться и набить кому-нибудь морду. Что мы за народ такой?! (слова Путина в изложении Усольцева. — Д. Т.)».
(Усольцев В. Сослуживец. Неизвестные страницы жизни Президента. - М.: Эксмо, 2004. С. 116,135, 201, 240)
Андрей Колесников — журналист «Коммерсанта»:
«Разговор продолжался. Я говорил о том, что меня интересовало. Ну, про свободу слова, про что же еще. Я сказал, что ее нет на телеканалах и что нормального человека это не может устраивать.
— А что именно Вас не устраивает? — спросил он (Путин. — Д. Т.).
— Меня не устраивает, что через некоторое время после того, как арестовали Ходорковского,у меня пропало ощущение, что я живу в свободной стране. У меня пока не появилось ощущение страха...
Я хотел добавить: "Но, видимо, вот-вот появится", но он перебил меня:
— То есть ощущение абсолютной свободы пропало, а ощущение страха не появилось?
— Да, пропало ощущение, которое было при Вашем предшественнике, — сказал я.
— Но ощущение страха не появилось? — еще раз уточнил он, казалось, размышляя над тем, что я говорю.
— Пока нет, — ответил я.
— А Вы не думали, что я, может быть, такого эффекта и стремился достичь: чтобы одно состояние пропало, а другое не появилось?
— Не думал, — ответил я.
Он пожал плечами и снова сделался безразличным».
(Андрей Колесников. Форс-мажор. Актеры и роли большой политики. - М.: Коммерсант, Эксмо, 2009. С. 239)
Глава 4. Пирамида Путина.
Итак, мы поговорили о том, что представлял собой Пугин к моменту прихода во власть, в каком состоянии подошло общество к началу путинской эпохи и что дала обществу экономика. Теперь проследим непосредственно за ходом событий.
Три источника, три составные части путинизма
Ленин когда-то говорил о трех источниках, трех составных частях марксизма. Любопытно, что та политическая система, которая сложилась сегодня в России, тоже стала следствием трех сошедшихся воедино обстоятельств, хотя они представляют собой не теоретические источники, а социальные процессы.
Во-первых, в пореформенные годы образовалось множество людей, проигравших от перехода к рынку, но не желавших при этом возврата к советской системе. Они ждали и безмолвствовали до тех пор, пока не появился лидер, который стал у них ассоциироваться с нормальным развитием экономики (подробнее см. главу 1).
Во-вторых, на рубеже девяностых и нулевых годов экономика начала быстро развиваться, появилась работа, возросли реальные доходы населения. Общество получило именно ту модель существования, которой долго ждало: наполненные товарами прилавки при повышающемся уровне жизни (подробнее см. главу 2).
В-третьих, Владимир Путин стал руководителем государства именно в такой ситуации: девяностые народ отверг, нулевые стал принимать на ура. Президент, как прагматик, стремящийся извлекать выгоду из любой ситуации и не склонный поддаваться влиянию абстрактных идей (подробнее см. главу 3), использовал сложившиеся в народе настроения для максимизации личной власти.
Каждый из этих факторов сам по себе не создал бы столь авторитарного режима. Скажем, путинский друг Сильвио Берлускони, стремившийся к личной власти и вложивший большие деньги в манипулирование массмедиа, не смог подмять Италию под себя. Более того, даже при наличии любых двух из перечисленных выше условий путинская политическая система не сложилась бы.
Если бы в 1990-х не появилось столь большого числа проигравших, вряд ли общество смогло потом быстро консолидироваться вокруг одного лидера. В таком обществе возникла бы значительно более сложная система интересов, для согласования которых нужно было бы взаимодействие различных политических сил. Вместо страдающих и ожидающих «мессию» миллионов там появились бы рыночники-либералы, рыночники-протекционисты, националисты, сепаратисты, клерикалы, социалисты-реформаторы, ортодоксальные коммунисты и многие другие группы. Оптимальным способом для спокойного сосуществования всех этих объединений является создание демократических институтов, с помощью которых можно отстаивать не только ключевые требования масс, но даже интересы меньшинств. Поэтому в тех развитых странах, которые неплохо зарабатывают на нефти (США, Канада, Великобритания, Норвегия), не возникает авторитарных политических систем, даже если вдруг появляются авторитарные по своим личностным свойствам лидеры (типа Джорджа Буша-младшего).
Если бы в нулевые годы не установилось высоких цен на нефть, обеспечивших несколько лет бурного развития, то общество не было бы так шокировано контрастом между тяготами прошлого и благополучием настоящего. Расколотое на конфликтующие группы интересов, но не имеющее при этом большой бочки, из которой можно черпать нефтедоллары, удовлетворяющие до поры до времени всех, это общество погрузилось бы в серию сложных внутренних конфликтов. Политическая победа одних коалиций на некоторое время приводила бы массы к эйфории, оборачивающейся вскоре разочарованием из-за непрекращающихся экономических трудностей. На смену старой власти приходила бы другая коалиция, столь же недолговечная. Возможно, временами случались бы военные перевороты, но после нескольких лет военной диктатуры страна, быстро разочаровавшаяся в генералах, возвращалась бы к неустойчивой демократии. Подобный путь развития принято именовать латиноамериканским, но по нему идут сейчас Украина, Грузия, Молдова, унаследовавшие от СССР примерно те же проблемы, что и Россия, однако не унаследовавшие нефти и газа.
Наконец, если бы на месте Путина оказался человек с другой культурой, то, возможно, он не стал бы с такой легкостью отказываться от тех слабых демократических институтов, которые худо-бедно установились при Горбачеве и Ельцине. Не стал бы даже при высоких ценах на нефть и всенародной любви, связанной с ростом доходов населения. Конечно, вероятность данного варианта развития не слишком велика, поскольку, как известно, всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Любому лидеру трудно удержаться в рамках демократических институтов, если власть сама валится ему в руки. Но всё же прагматизм, характерный в целом для поколения семидесятников и ярко выраженный лично у Путина, оказался прекрасной питательной средой для авторитаризма. Для сравнения отметим, что, скажем, шестидесятник Горбачев, имевший возможность не начинать никаких реформ в СССР и. соответственно, не рисковать своей властью, пошел тем не менее на перестройку, поскольку в его поколении были очень популярны идеи демократического социализма.
В общем, тот, кому не нравится система, сложившаяся сегодня в России, имеет основания винить в этом три обстоятельства. Экономику, которая досталась нам в наследство от Советского Союза и которую никак было не реформировать без мощных социальных потрясений. Специфические черты прагматичного и порой циничного поколения, сформировавшегося на закате СССР без склонности к великим идеям (в том числе к демократии). И так называемое «ресурсное проклятие» — обилие нефти, газа, металлов, обеспечившее Кремлю в период благоприятной ценовой конъюнктуры возможность дать народу стабильный рост доходов в обмен на абсолютную власть.
Егор Гайдар:
«В российских условиях время расцвета постимперского синдрома, замешанного на нем радикального национализма, вопреки ожиданиям автора этих строк, пришлось не на период, непосредственно последовавший за крушением СССР, а на более позднее время. Я и мои коллеги, начинавшие реформы в России, понимали, что переход к рынку, адаптация России к новому положению в мире, существованию новых независимых государств будет проходить непросто. Но мы полагали, что преодоление трансформационной рецессии, начало экономического роста, повышение реальных доходов населения позволят заменить несбыточные мечты о восстановлении империи прозаичными заботами о собственном благосостоянии. Мы ошибались.
Как показал опыт, во время глубокого экономического кризиса, когда неясно, хватит ли денег, чтобы прокормить семью до следующей зарплаты, выплатят ли ее вообще, не окажешься ли завтра без работы, большинству людей не до имперского величия. Напротив, в то время, когда благосостояние начинает расти, появляется уверенность, что в этом году зарплата будет выше, чем в предыдущем, безработица, если не живешь в депрессивном регионе, тебя не коснется, жизнь изменилась, но вновь обрела черты стабильности, можно, придя домой, сесть и посмотреть вместе с семьей советский фильм, в котором наши разведчики лучше их шпионов, мы всегда побеждаем, а жизнь, изображенная на экране, безоблачна, порассуждать о том, как враги развалили великую державу, как мы всем еще покажем, кто главный».
(Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. - М.: РОССПЭН, 2006. С. 16)
Коктейль Путина
Если мы исходим из вышесказанного, то следует отмести два крайних и сильно упрощенных подхода к объяснению причин формирования путинской системы.
С одной стороны, говорят порой, что Путин, как офицер КГБ, а значит, человек, в силу специфики своей профессии глубоко враждебный демократии, с самого начала тайно вынашивал мысль об установлении авторитаризма. Некоторые сторонники подобного подхода даже полагают, что Путин был специально внедрен к Собчаку, а затем к Ельцину для захвата власти госбезопасностью.
С другой стороны, отмечают, что раз Путин на первых порах проводил разумные экономические преобразования и воздерживался от использования наиболее одиозных политических мер в борьбе со своими противниками, то, следовательно, в какой-то момент у него случился перелом в сознании. Соответственно, сторонники такого подхода начинают искать причины этого перелома.
На самом деле, думается, путинская система не строилась по заранее разработанному плану, а медленно вызревала, трансформируясь по мере появления новых обстоятельств, влияющих на российское общество. Путин делал шаг, осматривался вокруг, изучал реакцию населения, проводил ревизию находящихся в его распоряжении ресурсов укрепления власти, а затем делал следующий шаг, причем, возможно, совсем не в том направлении, которое раньше представлялось ему оптимальным. Похоже, он исходил из стремления не максимизировать власть, а оптимизировать ее. Если бы наиболее комфортным способом правления оказался демократический, Путин остался бы демократом, но поскольку проще и выгоднее было демократию сворачивать, он выстроил именно ту модель, которую мы сегодня имеем.
Путин начал с установления контроля над телевидением уже в 2000 г., то есть сразу после прихода на президентский пост. С позиций нынешнего дня захват TV представляется первым шагом к установлению авторитарного режима, однако, скорее, это был всё же последний шаг в тех информационных войнах, которые шли на протяжении второй половины 1990-х гг. НТВ, принадлежавшее Владимиру Гусинскому, представляло собой пропагандистскую базу для Юрия Лужкова, стремившегося к оптимизации собственной власти. Путин хотел лишить противника этой базы и вынудил Гусинского продать телеканал.
С ОРТ и Борисом Березовским вышла похожая коллизия, хотя предыстория была совершенно иной. Березовский работал на Путина в информационной войне, однако в силу своей политической наивности думал, будто это Путин работает на него. Соответственно, проведя в Кремль своего ставленника, олигарх надеялся давить на него через телевидение. В итоге так вышло, что Березовский стал, по сути, новым Гусинским после того, как тот был выведен из игры. И Путин с ним поступил так же, как с Гусинским, тем более что Борис Абрамович не владел контрольным пакетом ОРТ, а лишь управлял каналом от лица государства.
Как показали кампании парламентская 1999 г. и президентская 2000 г., телевидение при правильной постановке дела является весьма эффективным средством для достижения политических результатов. Грех этим не воспользоваться. И поскольку демократия не была для Путина «священной коровой», он трансформировал телевидение в целях оптимизации власти. Чтобы и на следующих выборах побеждать без проблем.
Однако ни о какой системной трансформации Путин тогда не думал. Рыночная экономика должна была оставаться рыночной, поскольку она работает эффективнее плановой. А хорошая экономика нужна любому президенту для того, чтобы на будущих выборах иметь дело с довольным населением. Укрепление рынка посредством налоговой реформы Кудрина было таким же прагматичным шагом, как укрепление контроля над СМИ посредством изгнания Гусинского с Березовским. А в арсенале у Путина был ведь еще комплекс рыночных реформ, предусмотренных программой Грефа, к которой президент относился всерьез.
В плане теории это вроде бы совершенно разные шаги: рынок ассоциируется с демократией, тогда как контроль над СМИ — с авторитаризмом. Но подчеркнем еще раз: прагматик Путин меньше всего исходил в своих действиях из следования какой-либо идеологии. Он оптимизировал власть, чтобы побеждать и в дальнейшем, а потому смешал коктейль из самых разных мер, казалось бы, несовместимых друг с другом. Кудрин и Греф были в плюсе, Березовский с Гусинским — в минусе. Но не в силу приверженности Путина какой-либо идеологической модели, а потому, что рынок в то время еще работал на укрепление его власти, тогда как свобода СМИ могла сработать на подрыв.
Президент не был идейным коммунистом и не желал наносить удар по рыночной экономике, которая помогала ему, поскольку обеспечивала быстрый рост ВВП. Ограничить сферу действия рынка Путин мог бы не раньше, чем получил бы какой-то иной инструмент для повышения реальных доходов населения.
Впрочем, в 2000 г. он, по всей видимости, даже не задумывался о такого рода вещах, поскольку они представлялись совершенно неразумными и нереалистичными с точки зрения мирового опыта развития. Социализм на спаде, капитализм на подъеме: значит, надо брать то, что лучше. Если пойдешь против рынка, то окажешься, глядишь, среди лузеров, как Зюганов какой-нибудь. А лузером Путин стать никак не хотел.
Михаил Зыгарь — журналист:
«Березовского списала со счетов Семья. И случилось это не в 2000 году, а еще осенью 1999-го. Рассказывают, что в Семье возник консенсус по этому поводу: "Борю пора сливать".
Это означало, что своей политической суетой и, что важнее, постоянными интервью и комментариями по любым вопросам Березовский утомил Таню, Валю, Волошина и Абрамовича. Они решили, что вреда от него намного больше, чем пользы. И как только угроза потери власти и ареста для них самих стала не такой серьезной, они начали постепенно задвигать бывшего друга. <...> Для того чтобы отобрать ОРТ у Березовского, не потребовалось много усилий. Как позже заявлял Волошин в Лондонском суде во время процесса Березовского против Абрамовича, он просто позвонил гендиректору телеканала Константину Эрнсту и попросил его больше не обращать внимания на Березовского. Примерно так: "Костя, ты забываешь об указаниях Березовского. Его больше слушать не надо — а иначе мы будем принимать решения"».
(Зыгарь М. Вся кремлевская рать. Краткая история современной России. - М.: Интеллектуальная литература, 2016. С. 34-35, 39)
Централизация элит
После того как ключевые каналы телевидения оказались у Путина под контролем, встала задача централизации расколотых элит. Она в основном была решена в 2001 г. Пропутинские силы сконцентрировались в партии «Единая Россия», установившей свой контроль над Государственной Думой.
Суть проблемы централизации состояла в том, что перед парламентскими выборами 1999 г. объединением элит занялись два разных человека. С одной стороны, Борис Березовский формировал межрегиональное движение «Единство» (МеДвЕдь), которое формально ассоциировалось с Сергеем Шойгу, а фактически стало вскоре партией Путина. С другой стороны, Юрий Лужков формировал движение «Отечество», которое втянуло в себя еще и «Всю Россию», основанную группой региональных лидеров. Пропагандистской опорой Березовского стало телевидение. А Лужков со товарищи полагали, по всей видимости, что их опорой станет влияние, которое имеют в провинции местные губернаторы.
Телевидение Березовского оказалось сильнее. Даже в той ситуации, когда НТВ еще работало на Лужкова. А когда у Гусинского забрали телеканал, Березовского отстранили от управления и все пропагандистские рычаги оказались в руках Путина, региональным лидерам стало ясно, что их собственная политическая игра не сложилась. Все козыри теперь у противника.
В этой ситуации сказалась главная слабость российских элит. Вообще-то элиты должны быть влиятельны. По определению. Иначе они просто номенклатура — кремлевские назначенцы, которые не столько поддерживают власть снизу, сколько живут за счет того, что им дали в кормление какой-то регион.
Но российские элиты, происходящие из старой советской партийно-хозяйственной номенклатуры, оказались маловлиятельными. Они не стали авторитетом для местного населения, не могли принести своей партии достаточное число голосов, выступить перед земляками и убедить их в том, что у региона существуют свои интересы, которые надо отстаивать вне зависимости от того, кто в данный момент сидит в Кремле. «Царь» для народа по-прежнему был ближе по духу и авторитетнее, чем «воеводы». И даже использование ресурсов местной финансовопромышленной элиты дело не спасало. В том числе потому, что она была бедна в сравнении с элитой московской.
В России подавляющая доля финансовых ресурсов сосредоточена в центре. Во-первых, потому, что так повелось еще с советских времен. А во-вторых, потому, что в 1990-е гг. крупнейшие состояния формировались при содействии коррумпированных чиновников и, следовательно, финансовая элита должна была находиться именно там, где правительство.
Всё это сказывается не только на экономических, но и на политических процессах. Российские олигархи способны подпитывать деньгами центральную пропагандистскую машину лучше, чем региональные бароны — подпитывать свои местные «агитпропы». А если на местах нет ни денег, ни авторитетов, то нет, соответственно, и голосов. Или, точнее, избирателя ведет за собой человек из телевизора, несмотря на то что он вроде бы гораздо дальше находится, чем местный губернатор.
Что же касается местных интеллектуальных элит, то их значение фактически близко к нулю. Скажем, местные журналисты не могли заинтересовать читателя так, как центральное телевидение. Оно ведь предлагает комплекс развлечений, начиная с ток-шоу и заканчивая трансляциями спортивных игр. Пропаганда же идет в дополнение к этому. На местном уровне ничего подобного сделать невозможно. Развлечений нет ни в газетах, ни даже на региональном TV (слишком дорого всё это стоит), а значит, нет и влияния.
Таким образом, слабость региональных элит фактически лишила их возможности содержать свою собственную партию, соперничающую с партией Путина. Но в то же время оказалось, что она им и не нужна. Кремль готов был пойти на объединение, в рамках которого открывались хорошие карьерные возможности для лужковских ставленников. Кстати, можно отметить, что нынешний главный кремлевский политтехнолог Вячеслав Володин — выходец не из питерской мэрии, не из КГБ, не из путинского дачного кооператива «Озеро» и даже не из «Единства», а из движения «Отечество — Вся Россия».
Более того, быстрый экономический рост позволил ослабить борьбу за ресурсы между разными группами интересов. Денег хватало всем, и феноменальное богатство миллиардерши Елены Батуриной — жены «проигравшего» Юрия Лужкова — является лучшим тому подтверждением. Борьба групп интересов на время притихла, а вместе с ней стала бессмысленной и политическая борьба.
По мере того как приток нефтедолларов сказывался на щедрой раздаче денег народу, к Кремлю стали постепенно подтягиваться и некоторые номенклатурные коммунисты. Близость к кормушке оказалась для них гораздо важнее идейных разногласий. Зюгановская КПРФ стала маргинальной партией, сохранившей свое место в Думе, но не пытающейся больше на что-либо повлиять.
Любопытно отметить, что на Украине такой централизации элиты не произошло, поскольку, с одной стороны, Киев исторически не был административным центром огромной державы и, следовательно, не отличался так уж резко от региональных центров, а с другой — там не было нефтедолларов и, значит, соперничество групп интересов за ограниченные ресурсы оставалось очень острым. В итоге Харьков, Донецк, Днепропетровск, Львов, Крым породили собственные элиты, вступившие друг с другом в острое политическое противостояние.
Владимир Гельман — профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Доминирующий актор должен был предложить своим подчиненным такое сочетание "кнута" и "пряника", которое не оставляло бы им иного выбора стратегии поведения, кроме безусловного подчинения — по доброй воле или вынужденно. Такой механизм координации среди элит далее обозначается как навязанный консенсус — пожалуй, наиболее точная и краткая его характеристика содержится в высказывании из фильма "Крестный отец": "предложение, от которого невозможно отказаться".
Важно учесть, ключевую особенность, отличавшую российский "навязанный консенсус" 2000-х годов от того подхода, который использовали для достижения своих целей персонажи "Крестного отца". Если клан Корлеоне и его противники опирались главным образом на насилие и/или угрозы его применения, то российский политический режим в целом не был репрессивным. Напротив, главным средством, поддерживавшим "навязанный консенсус", был отнюдь не "кнут", а "пряник". Лояльность по отношению к режиму и лично к Путину открывала различным сегментам российских элит доступ к тем или иным "кормушкам" <...>
Тем не менее при всем различии средств для достижения своих целей: максимизации собственной власти, богатства и обусловленного ими престижного потребления в самых разных формах — подход Путина к строительству своей "выигрышной коалиции" имел много общего с методами Вито Корлеоне сотоварищи. В основе этого подхода лежала опора на персональные связи патрона с его многочисленными разнородными клиентами, которые так или иначе были лично обязаны своему "крестному отцу", обеспечивавшему их личное благополучие, и безусловно ему лояльны».
(Гельман В. Из огня да в полымя: российская политика после СССР. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. С. 109-110)
Авторитарный режим
Вторая чеченская война, быстрый экономический рост, повышение уровня жизни населения, установление контроля над телевидением и централизация элит позволили Путину за несколько лет сформировать совсем иную политическую систему, чем та, в которую он входил летом 1999 г. с помощью ельцинской «Семьи». Никто не смог бы заранее сказать, что такое возможно, но явный успех, достигнутый на ряде важнейших направлений, предопределил трансформацию.
Нормальная демократия строится на том, что различные элиты как бы возносят лидера вверх на собственных спинах. Политические партии выбирают самого подходящего человека из своей среды, а затем ведут агитацию в его пользу. Связанные с партией деловые круги финансируют эту пропагандистскую кампанию, поскольку та нуждается в большом числе наемных работников, в переездах по стране, в изготовлении наглядной агитации, в приобретении времени на телевидении и рекламных площадей в газетах. Влиятельные люди — предприниматели, спортсмены, работники культуры, общественные и религиозные деятели — высказываются в пользу кандидата, оказывая тем самым влияние на электорат в своих «нишах». Наконец, популярные журналисты скрепляют воедино усилия отдельных лиц, формируя целостную предвыборную кампанию.
Всё это означает, что победивший лидер является ставленником элит. Не в том смысле, конечно, что он проводит курс определенных финансовых группировок, как учил в свое время марксизм-ленинизм. А в том, что, если он разочарует поддерживающие его элиты, трудно будет в дальнейшем переизбраться. Потеря отдельных небольших групп для лидера не смертельна. Такое всегда происходит. Но если он строит свою политику лишь в интересах узкой группы приближенных, пренебрегая элитами в целом, то постепенно становится политическим маргиналом, теряет доступ к деньгам и уважение интеллектуалов.
В общем, власть — это своеобразная пирамида, на вершине которой находится лидер. Путин же построил свою политическую систему в виде перевернутой пирамиды. Внизу он сам, а все многочисленные представители элит сидят у него на шее, стоят на плечах, на голове или висят, цепляясь за руки властелина или хотя бы за разные части его одежды. Они лезут в карманы, тянут, что плохо лежит, но больше всего на свете боятся соскочить. Путин же может, как патрон, тянуть на себе всю эту камарилью, а может в любой момент стряхнуть вниз любого представителя своей многочисленной клиентелы.
Конечно, эта картинка слегка упрощает ситуацию. Совсем независимым от элит лидер не может быть, поскольку огромная масса чиновников должна осуществлять от его имени управление страной и без этой бюрократии Путин не справится. Но в такой массе каждый чиновник, политик, бизнесмен или тележурналист оказывается лишь маленьким винтиком — даже если занимает крупный пост или обладает несколькими миллиардами долларов. Каждый винтик легко заменим на другой. А вот лидер ни на какого другого не заменим. Поэтому винтикам даже в голову не приходит иметь свое мнение, отличное от мнения лидера. Формально они считаются представителями элит (они богаты и известны, занимают высокие посты), но на самом деле таковыми не являются. Это новый вариант советской номенклатуры брежневской эпохи, обслуживавшей унаследованный от Сталина режим, но не способной его поддержать в кризисной ситуации.
Почему же Путин смог построить такую пирамиду? Почему он стал незаменим в этой политической системе? Почему превратил элиты в номенклатуру?
Это произошло потому, что Путин установил прямую связь с широкими народными массами, минуя элиты. Вторая чеченская война сделала его признанным лидером. Приток нефтедолларов и рост реальных доходов населения удовлетворил, наконец, миллионы избирателей после долгих лет существования постылой советской системы товарного дефицита и десятилетия реформ, ударивших по интересам многих групп. А телевидение позволяет Путину и узкому кругу его высокооплачиваемых пропагандистов обращаться напрямую к этим миллионам, постоянно напоминая, кому они обязаны своим счастьем.
Альтернативной пропагандистской машины в России не существует. Никто не может оспорить перед многомиллионной массой те идеи, которые вкладываются людям в голову. Однако каждый конкретный винтик в этой большой пропагандистской машине легко заменим. Когда Сергей Доренко, являвшийся осенью 1999 г. главным путинским пропагандистом, ошибся и сделал ставку на Березовского, он мигом был выброшен на свалку, и вместо него появился целый ряд других, абсолютно послушных, — Дмитрий Киселев, Михаил Леонтьев, Владимир Соловьев, Петр Толстой, Александр Гордон, Аркадий Мамонтов и т.д.
Политическая система, выстроенная Путиным, — это классический авторитаризм. Власть лидера покоится на его личном авторитете, а не на сложной системе демократических сдержек и противовесов, находящихся в руках элиты. Лидер может быть даже не авторитетен в глазах представителей номенклатуры, но он авторитетен в глазах многомиллионных масс населения, и это делает элиту сервильной. Она встраивается в систему на тех условиях, которые ей предлагает лидер, и обслуживает эту систему в обмен на возможность получать значительную долю нефтедолларов, приходящих в Россию. Или, точнее, на возможность иметь постоянную ренту с этих нефтедолларов, которая принимает вид коррупционных доходов или доходов от связанного с государством бизнеса. У экономистов, политологов и социологов такое поведение номенклатуры называется рентоориентированным поведением. Российской элите оно с лихвой заменило участие в реальном управлении государством.
Дело Ходорковского
Когда пирамида власти перевернулась и вместо того, чтобы опираться на широкие плечи элиты, начала опираться на личную харизму Путина, стало возможно провести еще одну важную трансформацию в политической системе. Теперь из элиты можно было по необходимости вырывать любые куски. Можно было убирать любых людей. Даже тех, которые ничем путинской политической системе не угрожали. При проведении соответствующей пропагандистской кампании народ начинал активно поддерживать действия Кремля, а несчастные представители элиты могли лишь смиренно просить царя смилостивиться над боярами. Даже если в своем кругу они возмущались и приходили к выводу, что зря поставили Путина на царствование, публично «бояре» ничего поделать уже не могли. В путинской системе они не являлись опорой власти. «Бояре» могли быть отправлены на свалку в любой момент и в любом количестве.
Михаил Ходорковский, в отличие от Березовского, Гусинского, Доренко или, тем более, Шамиля Басаева, ничем Путину опасен не был. Устранение Ходорковского не вызывалось никакой политической целесообразностью. Дело ЮКОСа развернулось в 2003 г., когда уже никакие олигархические капиталы не могли подорвать установившийся путинский режим, даже если бы Ходорковский этого захотел. Но он подобного совершенно не хотел.
Олигарх не строил заговоров, не создавал политической партии. Он всего лишь подкармливал уже существующие парламентские партии в лоббистских целях. Но этим занимались многие бизнесмены (а иначе на какие шиши такие партии существовали бы?). Да еще как-то раз Ходорковский во время заседания Российского совета промышленников и предпринимателей (РСПП) обратил внимание президента на коррупцию в его личном окружении. Путина, конечно, это сильно разозлило. Никто не имел права совать нос в дела той команды, которую он привел в Кремль и которая находится под его личным патронатом. Однако само по себе острое выступление Ходорковского на РСПП не могло иметь для него трагических последствий. Ведь этот конфликт был никак не более серьезным, чем конфликт с Лужковым, реально оспаривавшим у Путина власть осенью 1999 г. Однако Лужкова спокойно интегрировали в «Единую Россию», а Ходорковского держали за решеткой десять лет.
Широко распространенное представление, будто дело Ходорковского имеет политическую подоплеку, является следствием того, что, как ни парадоксально, такая трактовка выгодна обеим сторонам конфликта. Путин здесь предстает борцом с всевластием олигархии, что нравится народу. А Ходорковский — узником совести, что повышает его престиж за рубежом и делает в глазах западной общественности главным российским демократом.
Однако от дела Ходорковского демократия в России совершенно не пострадала, поскольку, как говорят герои одного популярного телесериала, «то, что мертво, умереть не может». Авторитарный режим к началу 2003 г. был уже выстроен и функционировал весьма успешно. При этом одну важную задачу Путин к тому времени еще не решил, и именно она породила дело ЮКОСа.
В откровенных военных диктатурах правители могут использовать госбюджет, как им угодно. Казна диктаторов не отделена от государственной казны. В выстроенной Путиным системе электорального авторитаризма, когда внешне все демократические институты сохраняются, бюджет нельзя использовать для политических кампаний или для вывода денег в офшоры на чьи-то личные счета. А Путин, как мы помним, очень любит внешне соблюдать законность. В такой ситуации власть нуждается в появлении своеобразного теневого бюджета. Или, точнее, не единого бюджета, подчиненного некоему теневому министру финансов, а, скорее, множеству «черных касс», из которых по необходимости могут черпать деньги высокопоставленные персоны, совершая важные операции в интересах устойчивости режима. Сформировать такие «черные кассы» и спрятать их где-нибудь в офшорах можно только из олигархических денег. Причем двумя способами. Во-первых, отнимая имущество богачей и передавая его под контроль доверенных лиц. Во-вторых, вынуждая богачей время от времени платить этим доверенным лицам для того, чтобы не потерять всё.
Второй вариант предпочтительней, потому что тогда обе стороны заинтересованы помалкивать и не выносить сор из избы. О том, как и где формируются «черные кассы», постороннему человеку узнать трудно. Олигархи считают такие разумные трансферты неизбежной платой за право иметь миллиарды и не пытаются бороться против незаконных поборов. И Путину такое их поведение удобно. Он в детстве как-то раз обнаружил, что если крысу не загонять в угол, то она не будет агрессивной. И с тех пор в целом старается следовать этому разумному правилу.
Однако для того, чтобы олигархи платили, надо хотя бы раз продемонстрировать им серьезность намерений. Нужна показательная порка. Вот Ходорковский и стал объектом такой порки. С одной стороны, он был в 2003 г. самым богатым человеком страны, и это означало, что скрутить в бараний рог при необходимости можно любого. С другой стороны, он ведь всё же публично обидел Путина, намекнув на коррупцию в его окружении, и жестокая расправа, наверное, доставила президенту личное удовлетворение.
С тех пор каждый богатый человек знает, что при необходимости следует заплатить влиятельным людям, а не сопротивляться. В случае сопротивления ты теряешь всё, как Ходорковский, у которого конфисковали ЮКОС и лучшую его часть фактически передали государственной компании «Роснефть». А кроме имущества ты в случае сопротивления Кремлю теряешь свободу, здоровье и лучшие годы жизни.
Михаил Ходорковский в интервью Ксении Соколовой:
«Соколова: В чем состояла суть Вашего конфликта с Путиным? Возможно, Ваша "вольтерьянская" манера способствовать тому, чтобы каждая группа людей, партия имела свой голос, была воспринята Путиным в силу особенностей его менталитета совершенно противоположным образом, а именно как попытка создать оппозицию с целью в будущем совершить государственный переворот или иным образом отстранить его от власти? А Ваша поддержка депутатов считывалась им как желание ограничить его влияние?
Ходорковский: Это возможно... Но я делаю вывод из фактов, а не из придумок или рассказов, среди которых встречаются самые экзотические... Налицо одна прямая взаимосвязь — наш с Путиным публичный конфликт 19 февраля 2003 года, и через две недели уголовное дело против компании. <...> Кстати, первоначально эту тему слушал заместитель главы администрации президента Дмитрий Анатольевич Медведев. А на самом совещании, когда я спрашивал, стоит ли это делать на телевизор, я спрашивал у господина Волошина.
Соколова: И что сказал Волошин?
Ходорковский: Сказал, действуйте.
Соколова: Вы считаете, что Вас сознательно подставили?
Ходорковский: Моя точка зрения состоит в том, что для всех упомянутых здесь персон, так же как и для меня, было шоком, что Владимир Владимирович имеет по данному вопросу сложившуюся точку зрения.
Соколова: Можно ли предположить, что его подготовили тем или иным образом?
Ходорковский: Без всякого сомнения, его подготовили. Но я не знаю, подготовили ли его именно к моему выступлению, либо в более широком контексте он решил, что коррупция — это хороший метод управления чиновниками через "боюсь", через кнут и пряник. Тем не менее потом стало очевидно, что решение было принято до этого совещания, и у меня не было шансов Путина переубедить. Этого не знал ни я, ни, я убежден, Волошин, и тем более этого не знал Медведев.
Соколова: А кто знал?
Ходорковский: Несомненно, Сечин знал. Я ценю, как он сыграл. Молодец!»
(snob.ru/selected/entry/69735?v=1462363046)
Михаил Касьянов — премьер-министр правительства России с 17 мая 2000 по 24 февраля 2004 г.:
«Мне приходилось слышать от весьма серьезных людей, будто бы поначалу на роль главного врага народа был предложен алюминиевый магнат Олег Дерипаска. Аргументы были примерно такие: Дерипаска очень агрессивно себя ведет на рынке, нажил себе множество врагов; непопулярен настолько, что даже свои — к примеру, бюро РСПП — заступаться за него будут вяло и неубедительно. К тому же, говорили политтехнологи, планировавшие показательный "наезд" на Дерипаску, история борьбы разных кланов и группировок за контроль над российской алюминиевой промышленностью написана кровью. СМИ, наши и зарубежные, так подробно рассказывали об этом, что широкая общественность поверит в любые обвинения.
Но, как утверждают, Путин был непреклонен: Дерипаску не трогать. Он женат на дочери Валентина Юмашева, бывшего руководителя администрации и нынешнего зятя Ельцина, а я дал слово, что у членов семьи президента не будет проблем.
А тут как нельзя вовремя подоспел инцидент, случившийся в конце февраля на встрече президента Путина в Кремле с крупнейшими российскими предпринимателями. Тогда обсуждалась тема борьбы с коррупцией, и Ходорковский имел неосторожность сказать Путину, что коррупцию не надо искать где-то далеко, она у вас, Владимир Владимирович, под боком. И далее привел пример, как государственная компания "Роснефть" только что купила по чуть ли не вдвое завышенной цене небольшую компанию "Северная нефть"».
(Касьянов М. Без Путина. Политические диалоги с Евгением Киселевым. - М.: Новая газета, 2009. С. 183-184)
Просвещенный вертикализм
Дело Ходорковского со всеми вытекающими из него последствиями ничего коренным образом не меняло в существе авторитарной политической системы, которая установилась раньше, но сильно повлияло на суть системы экономической. Одно дело — рыночная экономика с низким налоговым бременем и гарантиями частной собственности. Другое дело — рынок с условной собственностью, которую в любой момент можно отнять, и дополнительное «налоговое бремя» в пользу разнообразных «черных касс». В первом случае экономика имеет шанс стать эффективной и конкурентоспособной. Во втором — вероятность ее роста существенно снижается.
Всё это означало крах ключевых идей, заложенных ельцинской «Семьей» в проект «Путин». Начиналась история с попытки противодействовать приходу на президентский пост Евгения Примакова, угрожавшего сильно ограничить рынок государственным регулированием и расправиться с некоторыми олигархами. А завершилась тем, что Путин вместо Примакова обложил бизнес дополнительной данью и посадил в тюрьму самого богатого и (как многие считали) самого эффективного предпринимателя страны. Общая логика развития авторитаризма оказалась сильнее частных политических игр. Столько усилий было приложено к тому, чтобы заменить одного возможного ельцинского преемника на другого. Но «на выходе» картина оказалась схожей.
Такое развитие событий предопределило отставку создателя системы Александра Волошина. Трудно сказать, вынуждал ли Путин его к отставке, чтобы расчистить кремлевскую администрацию для своих ставленников, но Волошин объективно оказался не у дел и вынужден был уйти.
Во-первых, именно он убеждал Ходорковского открыть глаза Путину на коррупцию в его окружении и, значит, нес моральную ответственность за судьбу олигарха. Являясь, по сути, третьей фигурой страны (после президента и премьера), Волошин вдруг обнаружил, что с ним не считаются и что гарантии безопасности, которые он дает людям масштаба Ходорковского, ничего не стоят.
Во-вторых, та яркая операция «Преемник», которую провернул Волошин и которой он мог по праву гордиться, завершилась провалом. Тактически всё было осуществлено блестяще, но стратегически получился полный конфуз. Волошин таскал каштаны из огня для Путина и тех людей, которых тот за собой тянул.
Александр Волошин ушел добровольно. Борис Березовский сбежал. Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко поженились и ушли в частную жизнь. Роман Абрамович выгодно продал «Сибнефть» государству, пустил часть денег на развитие Чукотки в качестве обязательной олигархической дани и затем тоже ушел в частную жизнь, приобретя ведущий английский футбольный клуб. «Семья» растворилась. Оставался еще ее ставленник Михаил Касьянов на посту премьера, но Путин снял его без всяких формальных оснований весной 2004 г.
С тех пор глава правительства перестал быть политической фигурой, сопоставимой по значению с президентом. Ни Фрадков, ни Зубков, ни Медведев не обладали личной харизмой, способной соперничать с харизмой Путина. Перевернутая пирамида власти, держащаяся на путинских плечах, могла оставаться устойчивой лишь в том случае, когда никто из политиков не способен был оспорить лидерство Путина.
«Семья» фактически повторила судьбу небольшой группы «верховников», пытавшихся в XVIII веке пригласить на российский престол Анну Иоанновну, обставив ее приход определенными условиями. Царица сперва согласилась, но, когда, «вступив в должность», поняла, что за «верховниками» нет реальной силы, предпочла опереться на широкие массы дворянства, порвала «кондиции» и вернула петровскую абсолютную монархию, которая впоследствии, при Екатерине II, переросла в просвещенный абсолютизм.
Путинскую систему власти можно по аналогии назвать просвещенным вертикализмом, поскольку созданная президентом вертикаль власти наделяла его правами, сопоставимыми с правами абсолютного монарха, но при этом сторонилась откровенного самодурства. Она основывалась на прагматизме, деидеологизации, внешнем соблюдении законности (то есть на характеристиках, свойственных лично Путину) и отличалась следующими основными чертами:
1. Сохранение рыночной экономики (поскольку она работает лучше административной), но в сочетании с так называемым «капитализмом для своих», где рынок максимально развернут в интересах правящей группы.
2. Сохранение олигархического капитализма, поскольку крупный бизнес можно облагать дополнительной данью и формировать таким образом «черные кассы», используемые для поддержания политической системы.
3. Поддержание авторитарного режима, но с сохранением всех форм внешней законности, чтобы в случае неблагоприятного развития ситуации создателей этой политической системы нельзя было ни в чем обвинить.
4. Максимально возможное втягивание в систему разнообразных групп интересов (благо обилие нефтедолларов позволяет их удовлетворять), чтобы минимизировать число противников.
5. Постоянная поддержка роста реальных доходов населения, чтобы люди чувствовали повышение уровня жизни, и одновременно усиление пропагандистского давления, чтобы массы понимали, кому они обязаны.
6. Во внешней политике — умеренная конфронтация с Западом: так, чтобы исключить опасность большой войны, но вместе с тем формировать в российском обществе представление, будто страна встала с колен.
7. Отказ от намерения восстановить СССР в сочетании со стремлением противодействовать расширению НАТО, исходя из представления о политике как игре с нулевой суммой: приобретения НАТО — наши потери.
Подчеркнем, что все эти ключевые черты путинской системы являлись оптимальными на тот момент. В дальнейшем некоторые из них серьезно трансформировались в связи с изменением ситуации в стране и появлением новых задач, о чем речь пойдет в трех заключительных главах книги.
Михаил Ходорковский:
«Людям в России хочется, чтобы был этот патернализм. И Путин полностью соответствует ожиданиям. А я считаю, что настоящий лидер страны в нынешней ситуации обязан не идти за этим запросом, а наоборот, развивать в обществе стремление к самоуправлению, умение самоуправляться. И если на этом пути будут проблемы, потери, то платить за это, естественно, придется лидеру, в том числе и своим политическим капиталом. Но это та цель, на которую надо тратить политический капитал. А Путин политический капитал для себя только накапливает, оставляя страну и общество, в общем, в зародышевом состоянии. Это зародышевое состояние общества не дает возможности развивать современную экономику. Потому что современная экономика — экономика знаний, — не постиндустриальная, это слово мне не нравится, а именно экономика знаний. Она базируется на творческом труде свободного человека. А если из свободного человека делают обслуживаемого, то эта новая экономика и не развивается».
(snob.ru/selected/entry/69735?v=1462363046)
Глава 5. Система Путина
В пирамиде Путина нет никакой системы сдержек и противовесов, кроме самого Путина. Ни парламент, ни суд, ни пресса не могут стать по-настоящему серьезным препятствием на пути тех влиятельных групп, которые стремятся любыми способами максимизировать свои доходы. Или, точнее, в обычной ситуации рыночная конкуренция эти доходы ограничивает. Но в том случае, когда влиятельным группам интересов удается встать над конкурентной борьбой, они могут грести деньги лопатой. Формально и для них существует закон, но есть и многочисленные способы этот закон обходить.
Почему чиновник берет взятки
Если президент лично станет заинтересован в том, чтобы притормозить стремление определенной группы к максимизации своего богатства, то он сможет, конечно, это сделать. Если в этом окажется заинтересован кто-то из людей, имеющих непосредственный доступ к Путину, то, возможно, и в данном случае положительный результат будет достигнут: президента проинформируют, и он примет соответствующее решение. В исключительных случаях кто-то с низов может добиться справедливости, если достучится до Путина или его ближайшего окружения в ходе телемоста или благодаря личным связям. Однако, как правило, глава государства физически не может дотянуться до каждой проблемы в огромной стране. А в ряде случаев он и не хочет до этой проблемы дотягиваться, поскольку богатства максимизируют именно те группы, которым он лично покровительствует. И вот у нас получаются весьма своеобразные институты (правила игры). Каждый, кто может воспользоваться своей силой или своим служебным положением для того, чтобы присвоить чужое, сделает это с большой степенью вероятности. Остановить его могут разве что личное бескорыстие или лень. Но никак не правила игры, сложившиеся в обществе.
Определенные стереотипы мышления обычно мешают нам понимать, насколько большие возможности для злоупотреблений возникают в системе, основанной на пирамиде Путина. Нам кажется, будто государство существует для того, чтобы заботиться о людях, о справедливости, о развитии общества, а злоупотребления чиновников представляют собой лишь отдельные исключения. И, значит, в подавляющем большинстве случаев рядом с жуликами должны найтись другие чиновники — честные, правильные, принципиальные, готовые схватить за руку мошенника или коррупционера. Именно из такого мировоззрения возникают постоянные сетования: куда же власть смотрит? должна же у нас быть справедливость? почему государство бездействует?
Увы, само такое мировоззрение в корне ошибочно. Понять это можно, если вспомнить, как лет тридцать назад советские люди полагали, что кто-то должен в экономике обязательно отвечать за обеспечение народа товарами. Некоторые даже считали, будто хороший предприниматель должен думать не о прибыли, а об интересах потребителя. Сегодня, однако, практически все осознают, что на прилавках имеются товары именно потому, что бизнес думает о прибыли и получает ее, вступая в конкурентную борьбу за тот рубль, который мы как потребители готовы платить при покупке товара. Многие недолюбливают такой капитализм и надеются на приход социализма, но даже они обычно понимают, как работает рыночная экономика. Трудно найти сегодня наивного человека, полагающего, будто частный бизнес может заботиться о наших интересах вне зависимости от того, получит ли он доход с продажи товара.
Но применительно к государству мы часто считаем, что правильный чиновник по определению должен думать о людях, а не о максимизации своих личных доходов. Странная получается ситуация. Если, скажем, некий Иван Иванов после учебы в университете пойдет делать бизнес, мы признаем, что он этим займется ради личной выгоды. Но если тот же самый человек попадет вдруг на госслужбу, мы будем сохранять иллюзии насчет свойственного ему альтруизма и сочтем каким-то извращенцем, обнаружив, что он берет взятки. Брать взятки на госслужбе, конечно, запрещено по закону, в отличие от получения прибыли в бизнесе. Однако если нет механизма борьбы со взяточничеством, то много ли найдется ангелов, не пытающихся пользоваться своим положением?
Демократическая система сдержек и противовесов является для госслужбы своеобразным аналогом конкуренции в бизнесе. Предприниматели, соперничая между собой, вынужденно ограничивают свою прибыль и приносят пользу обществу. И чиновники могут приносить пользу обществу, только если существует политическое соперничество и оппозиция ради своей выгоды заинтересована искать коррупционеров среди представителей власти. Если же вместо системы сдержек и противовесов действует властная вертикаль, поглотившая конформистскую часть оппозиции и устранившая нонконформистскую ее часть, то откуда, собственно говоря, взяться людям, работающим в интересах общества? Разве что Путин лично будет наводить порядок. Но о возможностях одного человека в огромном государстве мы уже говорили.
Из всего вышесказанного не следует делать вывода, будто все чиновники абсолютно корыстны и вообще не существует людей, думающих об интересах общества помимо своих собственных. В любой стране с рыночной экономикой благотворительность является нормальной чертой работы бизнеса. Человек обеспечивает себя и свою семью, создает нормальные заработки и условия труда для своих работников, а затем выделяет деньги из прибыли на поддержку культуры или науки. Довольно часто всё складывается именно так. Но никогда наоборот. Никогда бизнесмен добровольно не отдаст всю прибыль чужим людям, ограничив себя и свою семью жалкими крохами. Так же и с чиновниками. Они вполне могут решать важные государственные задачи, поскольку не безразличны к судьбам страны, но при этом, увы, не откажутся от возможностей, предоставляемых им коррупцией. И будут набивать карманы до тех пор, пока внешняя по отношению к ним сила эту коррупцию не устранит.
Георгий Сатаров:
«Последние десять лет Фонд ИНДЕМ проводит исследования уровня коррупции в России. Зафиксирован ошеломляющий рост чиновничьего воровства и произвола. Стало понятно, чем он вызван. Когда бюрократия предоставлена самой себе и никем извне не контролируется, она работает на себя, а не на общество. Эта "работа на себя" и есть коррупция во всех ее проявлениях».
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 1. С. 171)
Владимир Гельман:
«Предельно огрубляя, можно утверждать, что поскольку государством как раз и управляют для того, чтобы извлекать ренту, то коррупция в ее различных формах и проявлениях служит важнейшим механизмом достижения этих целей, то есть, по сути дела, нормой "недостойного правления". <...> Эта картина выглядит как "захват государства" со стороны соискателей ренты изнутри государственного аппарата и со стороны связанных с ним влиятельных представителей бизнеса. Стремясь к приватизации выгод и к обобществлению издержек в ходе государственного управления, рентоориентированные акторы, которые составляют (в различных конфигурациях) основу правящих групп постсоветских государств, преднамеренно и целенаправленно создают и поддерживают социально неэффективные "правила игры"».
(Гельман В. Политические основания «недостойного правления» в постсоветской Евразии: наброски к исследовательской повестке дня. Препринт М-49/16. - СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. С. 8, 10)
Силовики мира сего
Важнейшим следствием функционирования такой системы стала условность прав собственности. Российский бизнес никогда до конца не уверен в том, что его имущество не будет отнято сильными мира сего, которые, как правило, являются просто-напросто силовиками.
Еще в «лихих 90-х» сложилась система, при которой бандиты могут «наехать» на бизнес и либо отнять его у собственника полностью, либо поставить под свою защиту с тем, чтобы бизнес не отнял кто-то другой. В последнем случае приходится платить деньги за такую защиту, что в совокупности с налогами, которые взимает государство, составляет большое бремя для предпринимателя и ограничивает его конкурентоспособность. Вообще-то государство, взимающее налоги, должно было бы с помощью милиции, госбезопасности и прокуратуры оградить бизнес от наездов, но оно в 1990-х было на это не способно из-за своей очевидной слабости. В итоге платить приходилось вдвойне — как за реальную защиту, так и за формальную, причем умные предприниматели пытались от уплаты денег государству увернуться, использую разные юридические лазейки. А это делало лишавшееся налогов государство еще слабее.
В эпоху Путина силовые государственные органы окрепли, получили дополнительное финансирование благодаря росту экономики и улучшению собираемости налогов. Но государство в целом осталось таким же слабым, поскольку никто из чиновников и политиков не был заинтересован заботиться об интересах бизнеса. Доминировала забота о собственных интересах. Силовики оказались государством в государстве, и никакая оппозиция не могла поколебать их позиции, поскольку Кремль с несистемной оппозицией боролся, а силовиков, наоборот, рассматривал в качестве опоры политической системы, необходимой на случай возникновения революции вроде грузинской или украинской.
В итоге силовики стали активно вытеснять бандитов из сферы «охраны бизнеса» и сами начали зарабатывать деньги на «крышевании». Для этого у них имелись все необходимые преимущества. Если бандиты вооружались незаконным способом и постоянно находились под угрозой наказания со стороны закона, то силовики получали оружие от государства для выполнения своей официальной деятельности и практически могли не опасаться наказания, поскольку сами относились к числу тех, кто наказывает. Так фактически была узаконена система дополнительного налогообложения бизнеса. Если фирму вообще не отнимали в пользу предпринимателей, тесно связанных с «крышей», то «крышуемый» вынужден был платить за свою охрану без всякой надежды минимизировать размер обложения. Если от контроля со стороны бандитов теоретически еще можно было уйти, наняв собственную охрану (когда позволяли доходы) или прибегнув к помощи государства (когда там обнаруживались «честные менты»), то от контроля со стороны силовиков уйти практически невозможно. По крайней мере, тому бизнесу, который существует сам по себе и не связан с высокопоставленными чиновниками — губернаторами, министрами или теми же силовиками, но более высокого ранга.
Такого рода криминальные проблемы, хорошо известные, кстати, по разного рода телесериалам, имели совершенно конкретные и чрезвычайно разрушительные последствия для российской экономики, в сериалах обычно не отражаемые. Поскольку никакой бизнесмен не станет работать себе в убыток, он должен принимать определенные меры против возможной потери собственности.
Во-первых, если предприниматель знает, что к нему в определенный момент может прийти некий полковник и предложить продать фирму за бесценок, он станет заниматься лишь тем бизнесом, который обеспечивает довольно высокую рентабельность. Иными словами, предприниматель планирует свою деятельность на очень короткий срок: инвестировал деньги — получил на них неплохой доход — окупил вложения за небольшой промежуток времени. А дальше бизнесмен спокоен. Если придут отнимать фирму, то потери не понесешь: она уже окупилась. Всё это означает, что в тех случаях, когда высокой рентабельности добиться невозможно, предприниматель вообще не станет связываться с инвестициями, поскольку растягивать окупаемость на слишком длительный срок рискованно: отнимут раньше, чем покроешь издержки. Неудивительно, что при таком отношении бизнеса к развитию деловая активность в России вялая, а во многих отраслях царит монополизм, позволяющий иметь запредельные доходы.
Во-вторых, если предприниматель имеет достаточно скромный бизнес, который не может заинтересовать богатых силовиков, то продуктивнее этот бизнес так и оставлять недоразвитым. В нормальной рыночной экономике деловой человек стремится инвестировать деньги в развитие своего дела, но в наших условиях лучше порой затаиться, сделаться незаметным. Деньги не инвестировать, а тратить наличные нужды. Если не выходишь за определенную границу, то сохраняешь больше шансов уцелеть. Иными словами, лучше долго иметь маленький и не слишком доходный бизнес, чем рисковать быстро его потерять.
В-третьих, тот, кто уже заработал хорошие деньги, часто предпочитает вывести их за рубеж и продолжать там заниматься предпринимательством. Вообще-то в таких развивающихся странах, как Россия, бизнес вести в среднем выгоднее, чем в развитых государствах, где сильна конкуренция и, соответственно, невысока рентабельность. Но наш бизнесмен часто предпочитает уйти на низкие доходы за рубеж, а не рисковать потерей всего своего дела из-за возможного наезда со стороны силовиков. Иными словами, бегство капитала из страны и уход бизнеса в офшоры часто никак не связаны с криминальными видами деятельности — наркоторговлей, торговлей оружием и т.д. Наоборот, бизнес спасается за рубежом от нашего криминалитета, связанного с государством.
Вадим Волков — профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Сугубо криминальные формы силового партнерства ненадежны и лишены долгосрочной перспективы. После периода расцвета криминальных "крыш" в 1991-1996 гг., под воздействием капитализации охранной дани, конкуренции, а также в результате некоторой активизации правоохранительных органов число таких "крыш" начало уменьшаться. Согласно оценкам экспертов, в 1998 г. в Петербурге только 10% всех "крыш" были целиком криминальными. Один респондент, в определенный момент входивший в ОПГ (организованную преступную группировку. — Д. Т.) в Новосибирске, отметил, что чисто криминальные "крыши" были постепенно вытеснены из сферы легального бизнеса неофициальной милицейской охраной.
Согласно проведенному в 2000 г. социологическому исследованию экономической деятельности работников милиции, доходы, получаемые ими от занятий легальной и нелегальной коммерческой деятельностью, превышают доходы из государственного бюджета за служебную деятельность. Свыше 40% респондентов (работников милиции) считают, что противозаконные виды коммерческой деятельности более распространены, чем законные, причем выполняются они преимущественно в рабочее время. То, что работники милиции неформально участвуют в разрешении споров хозяйствующих субъектов, считают 65% опрошенных, а 11% считают, что это происходит часто. При этом наиболее распространенные формы коммерческой активности работников милиции — получение неформальных охранных платежей и коммерческое открытие и закрытие уголовных дел. <...>
Множество локальных монополий силы или "островков власти" подлежат теперь объединению в одну большую монополию, называемую государством. Но это уже стало задачей не бандитов, а силовых предпринимателей, называющих себя государственниками, отличие и преимущество которых состоит в легитимности, которую они приобретают по мере решения этой задачи.
В период укрепления государства, начавшийся после 1999 г., силовое предпринимательство не исчезло, а поменяло сферы и действующих лиц. Место бандитов заняли государственные служащие, но их способ поведения мало чем отличался от силовых предпринимателей 1990-х гг. Это происходит потому, что они действуют в рамках аналогичной институциональной среды, которая производит также их поведенческие стимулы. Обладатели силовых ресурсов по-прежнему являются автономными от государственного контроля или безличных процедур, а поэтому реализуют собственный экономический интерес».
(Волков В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 296, 336-337)
Андрей Солдатов, Ирина Бороган — журналисты:
«В 2003 и 2004 годах более 40 гектаров государственной земли на Рублевке (в элитном районе Подмосковья, где одна сотка может стоить сотни тысяч долларов. — Д. Т.) было передано в частную собственность<...>. Земли передали бывшим и действующим высокопоставленным сотрудникам ФСБ».
(Солдатов А., Бороган И. Новое дворянство. Очерки истории ФСБ. - М.: Юнайтед Пресс, 2011. С. 90)
Национализация убытков, приватизация доходов
Чтобы хорошо зарабатывать, силовикам совсем не обязательно крышевать частный бизнес или присваивать чужое имущество. Существует другой способ, который в целом для нынешнего политического режима даже привлекательнее, поскольку позволяет государству в целом сохранять контроль над самими силовиками. Способ этот — национализация собственности. В системе государственной собственности, с одной стороны, представители власти имеют возможность быстро обогащаться, а с другой — они всё же не уходят в «свободное плавание», а остаются под надзором вышестоящих властителей. Более того, огосударствление хорошо воспринимается широкими массами населения, поскольку им кажется, будто идет борьба с олигархами и власть, сосредотачивая в своих руках собственность, берет на себя заботу о народе.
Неудивительно, что доля госсобственности у нас стала возрастать в путинскую эпоху. Крупнейшее расширение осуществила государственная компания «Роснефть», которая не только купила «Северную нефть», поглотила имущество ЮКОСа, но затем еще и приобрела совместное российско-британское предприятие ТНК-ВР (Тюменская нефтяная компания — British Petroleum). «Газпром» тоже расширил свое участие в экономике, приобретя у Романа Абрамовича «Сибнефть». Но всё это лишь верхушка айсберга. На среднем и низшем уровнях экономики государство постоянно в той или иной форме выкупает имущество у частного сектора. Иногда это делается по обоюдному согласию (как у «Газпрома» с Абрамовичем), а иногда — на не слишком выгодных для частника условиях.
На первый взгляд кажется, что подобный подход не приносит особых выгод представителям власти, работающим в госкомпаниях. Однако на самом деле это не так. Есть два способа получать большую личную выгоду от госимущества.
Первый способ — чрезвычайно высокие зарплаты менеджмента. Поскольку у нас в стране сегодня не существует демократической системы сдержек и противовесов, то нет и механизма контроля над доходами управляющих собственностью чиновников. Нет оппозиции или свободной прессы, способной привлечь к возможным злоупотреблениям внимание всей страны. В лучшем случае об огромных зарплатах руководства госкомпаний узнают читатели интернет-изданий, но их мнение никак не может повлиять на желание чиновников свободно распоряжаться государственным имуществом в своих интересах.
Второй способ — создание частных компаний, «обслуживающих» государственный бизнес и получающих большую часть выгоды от такого сотрудничества. Фактически это тот же самый частный бизнес, но значительно более простой и выгодный для тех, кто им занимается. Национализация собственности позволяет скидывать на государство любые убытки, но оставлять при этом крупные доходы себе любимым. Именно по такой схеме строилась номенклатурная приватизация в последние годы СССР. Массовая приватизация, осуществленная Анатолием Чубайсом в 1990-е гг., пресекла такую форму обогащения директоров, однако в путинской системе власти она возвратилась.
Выглядит механизм бизнеса, основанного на госсобственности, примерно следующим образом. При крупной компании (например, энергетической) создаются посреднические фирмы, которые приобретают нефть или газ по заниженным ценам, а затем на мировом рынке продают по ценам рыночным. Прибыль, естественно, кладется себе в карман. Но какая-то ее часть достается менеджменту энергетической компании, который санкционировал такую странную сделку. Другая часть перечисляется в офшоры, где этими ресурсами смогут пользоваться для создания своеобразной «черной кассы», используемой ради общих нужд поддержания политического режима. Ведь в обеспечении политической стабильности такой коррупционной системы заинтересованы и государственные деятели, и государственные менеджеры, и частные предприниматели, зарабатывающие на перепродаже государственных ресурсов.
В то же время, если в силу плохой конъюнктуры рынка или неумелого управления государственная компания станет нести убытки, властям будет гораздо проще помогать ей дотациями из бюджета или льготными кредитами. Ведь формально такого рода поддержка выглядит поддержкой госсобственности. Частнику дать дотацию государство не имеет право, а само себя поддержать может. Но то, что при этом поддерживаются на самом деле не общественные, а именно частные интересы, скрыто от широких масс населения.
Понятно, как данный хозяйственный механизм в целом влияет на развитие экономики. У государственных менеджеров нет никаких стимулов к развитию контролируемых ими компаний. Они используются ими только как дойные коровы. Что будет с госсобственностью через 20 или 30 лет, их не волнует. К детям имущество всё равно не перейдет. При этом по-настоящему значительное внимание уделяется тем частным структурам, которые от госкомпаний кормятся. Эти фирмы, а также офшорные счета и приобретенное за рубежом имущество действительно будут унаследованы детьми и останутся в семье.
Олег Шварцман, бизнесмен, в интервью журналисту Максиму Кваше:
«— У нас есть политическая организация, которая называется "Союз социальной справедливости России", я в ней всегда отвечал за экономику и финансы и финансировал организацию.
Эта структура была создана в 2004 году, после того как президент Путин сказал, что большой бизнес должен иметь социальную ответственность перед государством. Тогда наши коллеги из ФСБ решили, что должна возникнуть организация, которая будет Ходорковских всяких наклонять, нагибать, мучить, выводить на социальную активность...
— Такой "коллективный вымогатель"?
— Да. В попечителях там все силовые министерства: и Минобороны, и МЧС, и МВД, разумеется. Но исполнители и директора менялись, потому что были конфликты, междоусобицы. Например, кто-то прижал крупного бизнесмена, он звонит — все говорят: "Стоп-стоп-стоп, подожди". Стало понятно, что не работает инструмент, потому что у каждого олигарха есть свои отношения с теми же самыми силовыми структурами. Поэтому концепция немного изменилась, никто не захотел ссориться, нам предложили найти ей новое применение. <...>
— И откуда в результате стали привлекаться средства?
— Мы разработали концепцию, которая подразумевает создание партнерства с теми объектами, которые ранее предполагалось нагибать и наклонять. Мы стали приезжать к ним с разными предложениями, их результатом стала совместная деятельность. Например, Русская нефтяная группа — это результат альянсов с "Роснефтью", ТНК и ЛУКОЙЛом: сначала в трейдинге, потом мы стали покупать малые и средние нефтедобывающие предприятия. Иными словами, эти компании отдали Русской нефтяной группе часть сбыта. <...>
— В каком направлении планируете развиваться?
— Мы сейчас развиваем структуру, которая в скором времени трансформируется в госкорпорацию. <...> Это рыночная форма поглощения стратегических активов в дотационных регионах. Речь идет о бюджетообразующих или градообразующих активах, которые находятся в неправильных налоговых режимах. <...>
— То есть речь идет о том, что вы получили нечто вроде мандата на рейдерство с использованием силового фактора?
— Это не рейдерство. Мы не забираем предприятия, мы минимизируем рыночную стоимость разными инструментами. Как правило, это добровольно-принудительные инструменты. Есть рыночная стоимость, есть механика блокировки ее роста, конечно же, всякими административными вещами. Но, как правило, люди же понимают, откуда мы приходим... Хотя, как правило, это конфликты тлеющие, уже находящиеся в центре внимания существующих ФПГ. Тогда приходится договариваться нашим старшим товарищам и приходить к какому-то консенсусу. Как правило, это нижняя планка рыночной стоимости. Но это не отбор ЮКОСа — вполне нормальные деньги люди получают.
— Люди довольны... или возражают?
— Нет, зачем. Мы все без охраны живем. По сути дела, у нас же это госзадача — все понимают, что нам поручили это делать.
Если не мы, то придут другие, которые точно так же будут выполнять функцию консолидации активов в руках государства, потому что это государственная политика сейчас. <...>
— А кто вам задачу ставил?
— Партия! (Смеется.) Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Игорь Иванович Сечин.
()
Из «слабовиков» в силовики
Бандитский бизнес 1990-х гг. сформировал привлекательный образец для бизнеса, осуществляемого сегодня силовиками. А то, что делают силовики, сформировало, в свою очередь, образец для многих государственных чиновников, не принадлежащих к числу сотрудников госбезопасности, полицейских или прокуроров, но имеющих тем не менее неплохие возможности кормиться с бизнеса, попадающего от них в зависимость.
Дело в том, что наехать на бизнес можно абсолютно цинично и беззастенчиво, угрожая оружием и расправой, а можно наехать, используя российское законодательство и российские правила игры. По закону чиновникам предоставляется много возможностей для контроля над бизнесом и для вынесения решений, ущемляющих бизнесменов. А в соответствии со сложившимися правилами игры отстоять свои права в борьбе с чиновниками довольно трудно. Бог высоко, Путин далеко. И оба к тому же довольно спокойно смотрят на все творящиеся в России злоупотребления. На местах же нет никаких демократических механизмов, обеспечивающих объективность судебного разбирательства. Представителям власти надавить на суд не столь уж сложно, и он при необходимости вынесет решение в пользу чиновника, который наезжает на бизнес в стремлении получать с него доход.
Самый яркий пример превращения «слабовиков» в силовиков — деятельность Роспотребнадзора, осуществляющего, в частности, санитарный и эпидемиологический контроль. Геннадий Онищенко, долгие годы возглавлявший эту организацию, постоянно принимал меры, ограничивающие ввоз на территорию России продуктов из тех стран, которые вдруг переставали нравиться Кремлю в связи с их политической позицией. Проблемы возникали то с Грузией, то с Молдовой, то с Белоруссией, то с государствами Евросоюза. Придраться всегда было к чему. Вино, фрукты, молоко и другое продовольствие оказывалось некачественным по решению наших санитарных врачей.
Можно, конечно, допустить, что доктор Онищенко был кристально честным человеком, что он вводил запреты лишь на те товары, которые действительно были негодными, и лишь по чистой случайности действия Роспотребнадзора совпадали с политическими кампаниями против соответствующих стран. Но даже если мы сочтем Онищенко ангелом, сама процедура обнаружения санитарных врагов России показывает, насколько просто одним лишь решением чиновника запретить бизнес на миллионы долларов. И, соответственно, создать преимущества для конкурентов, ввозящих вино, фрукты или молоко из других стран. А уж эти конкуренты наверняка сумеют щедро отблагодарить «бдительного чиновника», сумевшего обнаружить санитарные нарушения не у них, а у тех бизнесменов, которые борются с ними за один и тот же рынок.
В масштабах страны некоторое воздействие на санитарные войны оказывает политика, но на местах доминирует бизнес — силовое предпринимательство. Санитарный врач может прийти в то или иное кафе и найти там множество нарушений. Не потому даже, что эти нарушения так уж опасны для здоровья посетителей, а потому, что установленные в России нормы являются довольно жесткими и позволяют всегда какие-то упущения обнаруживать. В соседнем кафе врач ничего похожего не найдет. Но не потому, что там дела обстоят лучше, а потому, что там ему заплатят за невнимательность к нарушениям. И тот предприниматель, который не желает платить взятку, должен будет рано или поздно согласиться на «сотрудничество» с доктором, поскольку иначе он вообще свой бизнес потеряет. Кто пойдет кушать в кафе, которое долгое время стоит закрытым из-за претензий санитарных врачей?
Подобным же образом превращаются в силовиков пожарники. Только они закрывают кафе, рестораны и промышленные предприятия не из-за нарушения санитарных норм, а из-за нарушения правил противопожарной безопасности. Особенно легко это сделать в старых зданиях исторического центра крупных городов, которые строились в те годы, когда современных норм противопожарной безопасности еще не знали. Полный ремонт с соблюдением всех нынешних правил может обойтись бизнесу в столь крупную сумму, что проще вообще закрыть дело. А еще проще — платить взятку пожарно-проверяющим за то, чтобы они снизили размер своих требований.
Такого рода силовое предпринимательство очень удобно для взяточников тем, что им даже взятку как таковую брать не надо. Они, например, могут просто порекомендовать страдальцам сделать минимальный ремонт с соблюдением правил противопожарной безопасности в определенной конкретной фирме. А если совладельцем этой фирмы «по чистой случайности» окажется, скажем, жена пожарника, то государство за это наказать проверяющего не может.
Ну, и совсем легко осуществлять наезд на бизнес тем государственным структурам, которые борются с распространением наркотиков. Если искусственно спровоцировать опасную санитарно-эпидемиологическую или пожарную ситуацию довольно сложно, то подбросить наркотики в офис крупной фирмы — плевое дело. Там всегда множество посетителей, каждый из которых незаметно может оставить пакетик в туалете или в ином укромном месте. И тут же нагрянут бравые ребята, которые уже будут знать, где что искать. Поэтому и у наркоконтроля работа очень выгодная. Настолько выгодная, что Путин даже принял недавно решение его ликвидировать. По-видимому, эта структура начала угрожать даже тому вялому развитию бизнеса, которое еще в России сохраняется.
Виктор Черкесов — генерал-полковник ФСБ:
«Главное, чтобы не было крена, при котором линия на очищение от коррупции обернется суетой межклановых конфликтов. Потому что борьба с коррупцией не кампанейщина и не предвыборный пиар. От ее исхода во многом зависит судьба российского государства. Но не в меньшей степени это будущее определяет сегодня состояние дел внутри нашей корпоративной среды. Нельзя допустить скандала и драки. Нельзя превращать нормы в произвол. Нельзя позволить, чтобы воины становились торговцами»
()
Кто оплачивает коррупцию
Вся отмеченная выше «экзотическая» коррупционная деятельность соединяется со стандартной коррупцией, представляющей собой в России норму жизни. Если в наездах силовики специально отыскивают интересующий их успешный бизнес, а затем уже отнимают его или облагают данью, то в подавляющем большинстве случаев предприниматель должен сам приходить к чиновнику и «подставляться» под коррупцию. Такого рода стандартная процедура оборачивается двумя видами злоупотреблений: взятками и откатами.
Взятку приходится давать потому, что для открытия бизнеса требуется получать различные разрешения со стороны чиновников, которые могут сильно затянуть процедуру или вообще отказать под надуманным предлогом. Неудивительно, что государство стремится контролировать деятельность бизнеса по множеству различных позиций. Формально это делается под предлогом защиты потребителя: вдруг предприниматель не обладает соответствующими знаниями, вдруг он захочет уклониться от налогов. Но на деле большое число «защитников» народа от бизнеса просто оборачивается большим числом взяточников. Каждая разрешительная процедура — повод для торга между предпринимателем и чиновником: сколько дашь за то, чтобы разрешить?
Эксперты Всемирного банка:
«По простоте регистрации бизнеса Россия занимает 34-е место в мире; по простоте регистрации прав собственности — 12-е место; по уровню кредитования — 61-е место; по уровню защиты инвесторов — 100-е место; по уровню налогообложения — 49-е место; по легкости ведения международной торговли — 155-е место; по простоте подключения к системе электроснабжения — 143-е место; по простоте получения разрешений на строительство — 156-е место».
(Доклад Всемирного банка «Ведение бизнеса в 2015 году». — gtmarket.ru/news/2014/10/29/6969)
Откат — более сложный механизм. Здесь чиновник не просто встает на пути бизнеса, но фактически становится сообщником бизнесмена в деле расхищения государственных средств. Причиной появления откатов является то, что государство не просто разрешает или не разрешает ведение частного бизнеса, а само активно участвует в экономике своими деньгами.
Существует целая система госзаказов, когда бизнес работает не на конкретного потребителя, платящего за товар или услугу свои собственные деньги, а на государство, когда платят за работу из бюджета, а принимает эту работу чиновник. Самый большой и дорогостоящий госзаказ — военный. Но кроме него государство оплачивает из бюджета строительство и ремонт дорог, мостов, железнодорожных путей, трубопроводов. Оно закупает для нужд системы государственного управления автомобили, мебель, оргтехнику, тратит деньги на больницы и школы, заказывает бизнесу создание стадионов к различным соревнованиям типа олимпиады или чемпионата мира по футболу. Во всех этих случаях бюджет расстается с деньгами в пользу частного бизнеса, обслуживающего государство, а тот оказывается очень сильно заинтересован в том, чтобы заказ был дан именно ему, а не конкуренту. И чтобы расценки на услуги были как можно выше.
Откат предполагает, что чиновник, вступивший в сговор с бизнесменом, обеспечивает ему получение выгодного госзаказа, а тот «откатывает» в личный карман чиновника некоторую часть полученной от данной операции прибыли. Если в случае с обычной взяткой бизнесмен является страдающей стороной и заинтересован пресечь злоупотребления со стороны чиновника (в том случае, конечно, когда имеются правоохранительные органы, желающие это пресекать), то в ситуации с откатом не страдает никто, кроме налогоплательщика, из чьих денег финансируется госзаказ. Но налогоплательщик никак не может в наших условиях отстоять правильное использование своих денег (да ему и в голову такое обычно не приходит), тогда как чиновник и бизнесмен совместно получают выгоду. Если же в дело вдруг вмешивается вышестоящая инстанция или контролирующие органы, то просто откат становится больше ради удовлетворения материальных интересов не только конкретного чиновника, но и этих структур.
Негативное влияние взяток и откатов на бизнес несколько иное, чем у наездов. Если угроза потери собственности стимулирует вывод капитала за рубеж или полное прекращение деятельности, то необходимость платить взятку и откат просто вынуждает предпринимателя закладывать эти расходы в себестоимость своей продукции. Всё, что производится в России при таких правилах игры, становится дороже из-за того, что свои деньги должны получить не только рабочие и предприниматели, но еще и государственная бюрократия. В конечном счете все эти игры оплачивает потребитель.
Поскольку в нашей стране масштаб взяток и откатов сильно повышает цены продукции, то средством борьбы с дороговизной могла бы стать либерализация внешней торговли. Можно ввозить товары из тех стран, где издержки ниже (в том числе, возможно, потому, что там меньше уровень коррупции), и тогда для потребителя импорт будет выгоднее отечественного производства. Однако подобная либерализация могла бы настолько сильно подорвать коррупционный бизнес, что государство ее просто не допускает. Именно с этим связано желание бюрократии устанавливать высокие таможенные пошлины на границах страны, а то и вовсе запрещать импорт. Формально это делается под предлогом защиты отечественного производителя. Но на практике защищается не только и даже не столько производитель, сколько тот чиновник, который берет взятку. Из-за коррупции внутренние цены становятся выше, а импорт выгоднее, но стоит лишь государству установить таможенную пошлину, соответствующую по размеру взятке, как отечественный бизнес вновь оказывается «конкурентоспособен».
Рост цен на величину взяток не только бьет по интересам потребителя, но в конечном счете оборачивается против самого бизнеса. Мы ведь можем купить в совокупности лишь столько товаров, сколько способны оплатить. Если каждый конкретный товар становится хоть чуть-чуть дороже, то в целом мы на те же самые деньги купим меньший объем продукции. И это (при прочих равных) означает, что бизнес сможет меньше произвести. В сильно коррумпированных странах тормозится экономический рост, реже открываются новые предприятия и хуже обстоит дело с созданием рабочих мест.
Борис Немцов, Владимир Милов — российские политики:
«Сегодня воровство чиновников исчисляется миллиардами, но оно скрыто от глаз людей: владельцы крупных активов прячут за своими спинами десятки тайных бенефициаров, могущественных "друзей президента Путина". Информация об истинных собственниках тщательно охраняется спецслужбами, тема коррупции в высших эшелонах власти — табу для подконтрольных Кремлю СМИ. Между тем взятки и слияние чиновников с бизнесом стали нормой на всех уровнях власти — федеральном, региональном, местном. Под разглагольствования о борьбе с "реваншем олигархов" в России происходило стремительное обогащение новой, более могущественной путинской олигархии — за наш с вами счет. Вывод важных активов из государственной собственности под контроль частных лиц, выкуп собственности у олигархов по баснословным ценам за государственный счет, установление монополии друзей Путина на экспорт российской нефти, создание "черной кассы Кремля" — таковы штрихи к портрету сложившейся при Путине криминальной системы управления страной».
(Немцов Б., Милов В. Независимый экспертный доклад «Путин. Итоги». - М.: Новая газета, 2008. С. 9-10)
Анин Р., Шмагун О., Великовский Д. — журналисты:
«В 2010 году принадлежащая Ролдугину (близкий друг Путина. — Д. Т.) компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций "Роснефти" у другой офшорной структуры. В базе MF (регистратора офшоров. — Д. Т.) есть два договора. Один — на покупку акций, а второй — на прекращение этого соглашения. В чем смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов.
Нам удалось найти много подобных сделок и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха. <...>
В некоторых случаях соглашения все-таки исполнялись, но музыканту все равно раз за разом несказанно везло. Его компании покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали те же пакеты ровно тем, у кого их купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400-500 тысяч долларов. Контрагенты Ролдугина в этих операциях все время проигрывали. Ими были компании, связанные сначала с инвестиционным фондом "Тройка Диалог", а затем Сбербанком (после покупки последним "Тройки"). Менеджеры Сергея Ролдугина как будто наперед знали, как поведет себя рынок и как будет меняться стоимость акций. <...> В июле 2007 года компания Сергея Ролдугина Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за вознаграждение в 1 доллар простил этот долг другу президента. Levens Trading может быть связана с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым. <...> Структуры, видимо близкие Мордашову, платили и другим компаниям, связанным с Ролдугиным. Например, в 2009-2010 годах Sunbarn Ltd. заключила несколько типовых договоров на консультационные услуги на общую сумму 30 млн долларов. <...>
Процветанию офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным, помогли и структуры, близкие Сулейману Керимову. В результате только двух сложных сделок офшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это ни много ни мало — 2 доллара».
(Анин Р., Шмагун О., Великовский Д. Офшоры. Вскрытие // Новая газета. 04.04.2016. С. 11-12)
А судьи кто?
Стремление силовиков и чиновников к максимизации своих личных выгод может существовать в любом государстве. Есть немало примеров злоупотреблений разного рода, случавшихся в самых развитых странах мира. Но чтобы им противодействовать, существует система сдержек и противовесов. В первую очередь — независимая судебная власть. Серьезной проблемой путинской системы институтов является то, что суд так и не стал независимым.
Конечно, распространенное порой представление, будто российский суд весь в целом неправедный, сильно преувеличено. Если бы правоохранительная система вообще не обеспечивала никакой охраны права, страна не смогла бы существовать. С массой рутинных дел, в которых есть интересы обычных граждан, суд справляется неплохо. Как-то раз у меня украли велосипед, и должен признать, что суд вполне цивилизованно разрешил эту проблему, удовлетворив пострадавшую сторону и наказав виновную. Проблемы начинаются там, где суд оказывается под давлением со стороны власти, преступности или крупных денег. И такая зависимость суда во многом предопределяет непривлекательность России для бизнеса. Иными словами, получается, что жить в нашей стране можно, но развивать ее экономически довольно трудно.
Каким образом суд неправедный превращается в относительно праведный, показывает пример Англии XVIII века, когда эта страна провела промышленную революцию, внедрила массу технических изобретений и постепенно вышла в мировые лидеры по экономическому развитию. В XVI—XVII столетиях английские монархи стремились всячески давить на суды, поскольку корона совершала множество дел неправедных. Формирующийся абсолютизм предоставлял монархам хорошую возможность для злоупотреблений. Однако давление на парламент обернулось революцией, и старая система была сломлена. А еще через несколько десятилетий — после так называемой Славной революции 1688 г. — корона утратила возможность оказывать давление на суды.
Общая демократизация жизни в стране сказалась постепенно и на решении правовых вопросов. В подобных условиях трудно стало давить сверху вниз. Ограничение монархической власти парламентом обусловило самостоятельность правоохранительной системы на местах. И право там действительно начали всерьез охранять от посягательств властной вертикали.
В английских судах принимали решение не назначенные государством должностные лица, а обычные люди, заинтересованные в обеспечении нормальной жизни родного городка. Власть в новых условиях не могла оказать на них серьезного давления. Деньги, по всей видимости, такое давление оказывали, но до определенного предела. Суду, состоящему из местных жителей, трудно было бы принимать решения в интересах крупной столичной олигархии — даже в том случае, если бы олигархи подкупали судей.
Была ли эта система абсолютно справедливой? Вряд ли. Скорее, она функционировала в интересах богатых людей. Чтобы суд в полной мере начал защищать интересы простого народа, понадобился еще долгий путь демократизации. Но важно то, что суд в XVIII веке стал защищать интересы собственников от возможных посягательств со стороны власти, силовиков и олигархии. При наличии такой защиты собственники стали инвестировать деньги в развитие предпринимательства, в строительство заводов и фабрик, в освоение новейших технических изобретений. И экономика стала функционировать лучше, чем в государствах просвещенного абсолютизма на континенте, где монархи продолжали считать, что именно они творят закон, и где они могли этот закон корректировать при необходимости в свою пользу.
Путинский просвещенный вертикализм делает сегодня примерно то же самое, что просвещенный абсолютизм XVIII века в Западной Европе. Он сам себя считает законом и может скорректировать любые нормы права благодаря подчиненному парламенту. Более того, в соответствии с нормами права он может карать одних и закрывать глаза на коррупцию других людей. Суд находится в чрезвычайно сильной зависимости от власти, и при необходимости Кремль или губернаторы могут через него наказывать невиновных, выгораживая тех, кто реально совершал те или иные преступления. Только при таком покровительстве власти чиновничья коррупция и деятельность силовиков по захвату чужой собственности могут достигать широкого распространения. А страна входит в стагнацию из-за неразвитости предпринимательства.
Горбуз А., Краснов М., Мишина Е., Сатаров Г. — юристы, социологи:
«Российское правосудие поделено на две неравные составляющие фракции (в химическом, а не политическом смысле). Большая, по валовому показателю числа рассматриваемых дел, фракция характеризуется рутинными делами, лишенными внешнего интереса и влияния, а потому решаемыми в соответствии с законом и справедливостью (правом). Меньшая фракция касается дел, в которых задействован внешний интерес. Именно в таких делах проявляются основные дефекты правосудия.
Если мы говорим об уголовных делах, то здесь главная проблема, как показывают данные статистики и наши глубинные интервью, — обвинительный уклон. Но он объясняется в большей степени влиянием сопряженных институтов и старым правосознанием, когда судьи рассматривают себя не как арбитры, а как часть единой "правоохранительной системы" — карающей машины. Если говорить о гражданском или административном процессах, то здесь доля дел, в которых наличествует внешний властный или корыстный интерес, очень невелика (в массе рутинных дел). Еще меньше доля судей, которые послушно и привычно разрешают подобные дела в угоду внешнему интересу.
Как показывают глубинные интервью, нынешние возможности председателей судов позволяют влиять на распределение дел. Внешнее влияние, особенно — политическое или административное, осуществляется именно через председателей судов, а те перераспределяют это влияние на судей, про которых известно, что они "решат правильно" <...>
Наше исследование позволило достаточно убедительно выявить одну из зон внешнего интереса (влияния): участие власти в судебных процессах в качестве одной из сторон снижает состязательность и процессуальное равенство сторон».
(Горбуз А., Краснов М., Мишина Е., Сатаров Г. Трансформация российской судебной власти. Опыт комплексного анализа. - СПб.: Норма, 2010. С. 309,347)
Георгий Сатаров:
«Нет народов, которые обречены на коррупцию религией, культурой, историей или расой. Принято считать, что западная культура исторически менее коррупционна, чем восточная. Но сто лет назад в Англии легко можно было купить результаты выборов в нижнюю палату английского парламента. Коррумпированность американских полицейских пятидесятилетней давности до сих пор отзывается эхом в художественной литературе и кинематографе. Различие стран по уровню коррупции весьма велико, какую бы их группу мы ни взяли в Азии, в Латинской Америке или в Европе. Еще более разнообразны в этом отношении регионы нашей страны, даже если отбросить национальные республики.
Так что ошибаются те, кто убеждает нас в нашей обреченности. Победить коррупцию нельзя, но сделать так, чтобы она перестала быть стержнем жизни, — можно. Никогда в истории уровень коррупции не снижался сам собой, всегда — в результате серьезных усилий в сфере политики или существенных общественных сдвигов, следствием которых были подобные усилия.
К сожалению, было и другое: коррупция разлагала и сжигала целые государства».
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 1. С. 177-178)
Двойное бремя российской экономики
Хотя российская экономика не приспособлена для динамичного развития при низких ценах на нефть, бремя социальных расходов, которое ей приходится нести, остается довольно тяжелым. Патерналистски настроенное общество хочет, чтобы государство заботилось о нем в любых условиях, и это желание вполне понятно. Такого рода патернализм имеет место и в самых развитых западных странах, где люди отнюдь не против того, чтобы получать «халяву». Однако мы не имеем сегодня тех возможностей для патернализма, которые существуют на богатом Западе. Поскольку наше общество дало властям карт-бланш на сохранение правил игры в экономике, при которых чиновничество активно собирает свою ренту с бизнеса, у государства в кризисной ситуации остается всё меньше ресурсов, чтобы быть заботливым патроном.
Самый яркий пример сохранения нежизнеспособных правил игры (институтов) в социальной сфере — это положение дел с пенсионной реформой. Необходимость перемен здесь определяется объективно происходящим изменением демографической ситуации. Пожилые люди теперь живут в среднем дольше, чем в советское время, когда пенсионная система создавалась. А рождаемость ныне стала заметно ниже. Если раньше несколько работающих людей «кормили» (отчисляя взносы в Пенсионный фонд) лишь одного пенсионера, то вскоре на этого пенсионера будет приходиться лишь один кормилец. Соответственно, реальный размер пенсии резко снизится. По сути, этот процесс уже начался в связи с нынешним кризисом (когда пенсии обесценились на фоне инфляции), но дальше положение дел, скорее всего, еще больше ухудшится.
Для выхода из такой ситуации теоретически существует три способа. Первый — повышение пенсионного возраста. Второй — резкое сокращение неэффективных госрасходов (в первую очередь военных) и перераспределение бюджетных денег в пользу пенсионеров. Третий — реформа, обеспечивающая переход к пенсионной системе накопительного типа, при которой работающие люди в течение своей трудовой жизни сами копят с помощью государства деньги, а из них в старости им будет выплачиваться пенсия.
По первому пути Кремль пока боится идти, поскольку такого рода непопулярные меры могут подорвать президентский рейтинг.
По второму пути идти невозможно в той экономической системе, которую мы построили, так как именно неэффективные госрасходы обеспечивают коррупцию. С пенсионных выплат чиновник не наживется. Их крайне трудно украсть у скромной бабушки: ведь, не получив положенного, старушка сразу начнет жаловаться. А на откаты с военных расходов или со строительства дорог и мостов никто не жалуется, поскольку они удовлетворяют все заинтересованные в них стороны. Поэтому против возможного перераспределения ресурсов от армии к пенсионерам выступит вся российская бюрократическая вертикаль власти.
По третьему пути мы идти попытались. Накопительная реформа была провозглашена, но так фактически и не осуществилась. Она ведь предполагала, что государство должно на протяжении довольно долгого срока и нынешних пенсионеров содержать, и одновременно предоставлять льготы для накопления пенсий работающими гражданами. Иными словами, выгоды от реформы начнут сказываться лишь в перспективе, тогда как сейчас надо сокращать неэффективные госрасходы ради формирования накопительной пенсионной системы. Неудивительно, что все благие начинания ничем не завершились.
Таким образом, если Путин, пройдя в 2018 г. на очередной свой президентский срок, не решится повысить пенсионный возраст, Россия окажется перед очень неприятным выбором. Если всё оставить как есть, пенсии будут и дальше обесцениваться на фоне инфляции, превращая пожилых людей в откровенных бедняков. Если же государство захочет хоть как-то поддерживать жизненный уровень пенсионеров, придется увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, что сделает нашу неэффективную экономику совсем уж плохо функционирующей. В общем, выходит, что даже простая недореформированность социальной системы негативно влияет на работу системы хозяйственной.
Причем пенсионные проблемы — это лишь самый яркий пример. Похожим образом складывается дело в системе социальной защиты населения. России необходим механизм адресной социальной поддержки с тем, чтобы государственные деньги направлялись лишь самым нуждающимся — в первую очередь мало зарабатывающим семьям с большим числом детей. Однако система устроена так, что право на поддержку имеют разные люди — в том числе и весьма небедные.
Если выйти за пределы социальной сферы, то можно заметить, что развитие страны тормозит состояние дел в вооруженных силах. Хотя срок службы солдат у нас сократили, отказаться полностью от призывной армии не решились. По всей видимости, потому, что через такую армию прокачиваются большие деньги, идущие на обеспечение солдат жильем, продовольствием, вооружением, обмундированием. И эти «бесхозные средства» подвергаются разворовыванию с помощью описанной выше системы откатов, когда и чиновник, выделяющий ресурсы, и генерал, получающий их для обеспечения подчиненных, в равной мере желают поживиться. А рядовой боец не имеет даже тех возможностей жаловаться на свое материальное положение, которые есть у пенсионеров.
В общем, с одной стороны, на экономику давит бремя коррупции. С другой — социальное бремя. И под таким двойным бременем хозяйственная система становится всё менее эффективной. Наши власти это прекрасно понимают и сами давно о таких проблемах говорят. Но воз и ныне там.
Владимир Путин — президент Российской Федерации:
«Мы проигрываем в конкуренции юрисдикций — работающий в России бизнес часто предпочитает регистрировать собственность и сделки за границей. И дело не в налоговом режиме — он у нас в целом конкурентоспособный — и не в отсутствии законодательства, отвечающего современным требованиям (его надо, конечно, совершенствовать, оно еще недостаточно гибко и не предоставляет всего набора инструментов для бизнеса). Главная проблема — недостаток прозрачности и подконтрольности обществу в работе представителей государства, от таможенных и налоговых служб до судебной и правоохранительной системы. Если называть вещи своими именами, речь идет о системной коррупции. Издержки для бизнеса могут колебаться — ты можешь заплатить больше или меньше в зависимости от степени "расположения" к тебе определенных людей внутри государственного механизма. Рациональное поведение для предпринимателя в этом случае — не соблюдать закон, а найти покровителей, договориться. Но такой "договорившийся" бизнес в свою очередь будет пытаться подавлять конкурентов, расчищать себе место на рынке, используя возможности аффилированных чиновников налоговой, правоохранительной, судебной системы, вместо того чтобы повышать экономическую эффективность своих предприятий».
(Владимир Путин: «Нам нужна новая экономика» // Ведомости. 30.01.2012. — )
Владимир Путин:
«Известны социологические данные: подростки, в «лихие 90-е» мечтавшие делать карьеру олигарха, теперь массово выбирают карьеру госчиновника. Для многих она представляется источником быстрой и легкой наживы. С такой доминирующей мотивацией любые «чистки» бесполезны: если госслужба рассматривается не как служение, а как кормление, то на место одних разоблаченных воров придут другие. Для победы над системной коррупцией нужно разделить не только власть и собственность, но исполнительную власть и контроль за ней. Политическую ответственность за борьбу с коррупцией должны совместно нести и власть, и оппозиция. <...>
Борьба с коррупцией должна стать подлинно общенациональным делом, а не предметом политических спекуляций, полем для популизма, политической эксплуатации, кампанейщины и вброса примитивных решений — например, призывов к массовым репрессиям. Те, кто громче всех кричит о засилье коррупции и требует репрессий, одного не понимают: в условиях коррупции репрессии тоже могут стать предметом коррупции. И еще каким. Мало никому не покажется.
Мы предлагаем реальные, системные решения. Они позволят нам с гораздо большим эффектом провести необходимую санацию государственных институтов. Внедрить новые принципы в кадровой политике — в системе отбора чиновников, их ротации, их вознаграждения. В итоге мы должны добиться, чтобы репутационные, финансовые, материальные и другие риски делали бы коррупцию невыгодной».
(Владимир Путин: «Демократия и качество государства» // Коммерсант. 06.02.2012. — )
Как прошляпили Россию
Система институтов (правил игры), которая была создана Путиным, постепенно подвела Россию к тяжелому экономическому кризису. С каждым шагом мы медленно приближались к пропасти, но полагали при этом, будто встаем с колен.
Шаг первый — 2003 г.
Дело Ходорковского. Экономисты тогда говорили, что изъятие собственности ЮКОСа негативно повлияет на инвестиционный климат. Если имущество можно легко отнять у самого богатого человека страны, то, значит, любой бизнесмен под угрозой. Мы рискуем спровоцировать бегство капитала.
Что отвечало общество? Вор должен сидеть в тюрьме.
Каков итог? Как только цены на нефть прекратили расти и Россия перестала быть привлекательным местом для спекуляций, начался отток капитала.
Шаг второй — 2004 г.
Путин меняет правительство. Все разговоры о том, чтобы поставить во главе кабинета министров квалифицированного экономиста, способного провести нужные реформы, пока еще есть запас прочности, завершаются появлением Михаила Фрадкова. Через несколько лет этот «выдающийся государственный деятель» исчез из большой политики также таинственно, как появился.
Зачем нужен был подобный «мудрый» ход? По всей видимости, чтобы рядом с президентом находился максимально неяркий человек — тот, кто неспособен конкурировать с национальным лидером за народную любовь.
Каков итог? Годы благоприятной нефтяной конъюнктуры, когда можно было делать реформы, требующие денег, оказались потеряны.
Шаг третий — 2005 г.
Монетизация льгот. Народ впервые показал Владимиру Путину, что может быть недоволен реформами и способен выйти на протест.
Что делает власть? Заливает протестный пожар деньгами, благо цены на нефть высоки. А в дальнейшем отказывается от всяких попыток реформирования и предпочитает ради поддержания рейтингов тратить как можно больше.
Каков итог? Сегодня экономисты запросто могут в качестве рекомендаций правительству доставать из архива свои статьи 15-летней давности. Поскольку всё это время Путиным было потрачено лишь на поддержание рейтингов, наработки экспертов начала нулевых по-прежнему актуальны.
Шаг четвертый — 2007 г.
Мюнхенская речь Путина. Россия впервые жестко и целенаправленно идет на конфликт с Западом в борьбе против однополярного мира. Экономисты говорят, что не стоит плевать в колодец, из которого мы пока еще можем черпать инвестиции, современные технологии и производственный опыт.
Что делает власть? Конфронтация постепенно наращивается. Кого интересует такая «мелочь», как экономическое сотрудничество, когда речь идет о величии державы и о том, что американцы обязаны считаться с мнением Кремля по важнейшим геополитическим вопросам? Со временем накачанное телевизионной пропагандой общество начинает воспринимать западный мир в качестве врага.
Каков итог? На Западе за семь лет конфронтации сформировалось мнение, что Россия может для восстановления своего влияния принимать любые жесткие меры. Поэтому история с Крымом сразу была воспринята не как недоразумение между партнерами, а как акт откровенной агрессии, требующей ответа санкциями.
Шаг пятый — 2008 г.
Резкое падение цен на нефть, демонстрирующее, что благоприятная конъюнктура мирового рынка — это не навсегда. Вслед за ценами рухнул российский ВВП. Страна продержалась без серьезного социального взрыва лишь потому, что существовал Стабилизационный фонд, из которого стали черпать деньги на срочное затыкание образовавшихся в бюджете дыр. Если до кризиса многие полагали, будто высокие темпы роста экономики — свидетельство наших успехов, то теперь стало ясно, что мы сидим на нефтяной игле и без дальнейших инъекций экономика моментально становится депрессивной.
Что делает власть для ухода от нефтяной зависимости? Вообще ничего. Дожидается улучшения конъюнктуры мирового рынка и рапортует об успехах.
Каков итог? Сегодня, когда нефть снова рухнула, мы оказались в точно таком же положении, как восемь лет назад. Пока держимся на Резервном фонде и молим Бога, чтобы кризис не затянулся до тех пор, когда эта кубышка опустеет.
Шаг шестой — 2009 г.
На волне разворачивающегося кризиса мы впервые обнаруживаем проблему малых городов с промышленной монокультурой. Остановка производства на трех связанных единой технологической цепочкой заводах в Пикалево (Ленинградская область) вызывает массовые протесты жителей, поскольку в таких небольших местечках кормиться, кроме как с градообразующего предприятия, больше нечем.
Что делает власть? Нормализует жизнь в городе с помощью административного давления на олигарха Дерипаску, владеющего заводами, и с помощью выделения государственного финансирования. Никаких системных мер для предотвращения кризиса в других городах с промышленной монокультурой принято не было.
Каков итог? В перспективе можно ждать закрытия предприятий в разных частях страны, поскольку городков, похожих на Пикалево, в России десятки.
Шаг седьмой — 2011 г.
Подал в отставку министр финансов Алексей Кудрин, предупреждая, что бюджету страны не осилить военные расходы, инициированные президентом Медведевым, и что рано или поздно такая политика обернется повышением налогов. Это уже не критика со стороны, а свидетельство специалиста, который лучше других знает, как формируется бюджет.
Что делает власть? Принимает отставку и сохраняет старую политику.
Каков итог? Последние два года идет вынужденное затягивание поясов. От повышения налогов нас удержало только то, что при падении рубля власть стала рассчитываться с народом обесценившейся валютой. Фактически нас обложили так называемым инфляционным налогом.
Шаг восьмой — 2012 г.
Разворачиваются массовые протесты. Впервые за долгое время часть общества демонстрирует понимание того, что страна движется в тупик. Лидеры протестов искренне надеются на то, что Кремль прислушается к голосу сотен тысяч людей.
Что делает власть? Обзывает протестующих бандерлогами и увеличивает расходы на правоохранительную деятельность, чтобы при необходимости иметь надежные силы, способные подавить всякое недовольство.
Каков итог? Протесты сходят на нет, проблемы остаются.
Глава 6. Всемирная история ресурсного проклятия
Одной из причин формирования путинской авторитарной системы стало ресурсное проклятие — нефтегазовые доходы, позволившие Кремлю проводить популистскую политику Обладание ресурсами развращает власть, привыкающую править без реформ. Сегодня нам кажется, будто подобное проклятие — это особенность России и особенность современной экономики, основанной на нефти. Однако на самом деле мир давно уже от ресурсного проклятия страдает. Только ресурсы, совращающие правителей, в различные эпохи бывают разными. Общее во всех ресурсных историях лишь одно — постепенная деградация и убогость.
Рабское проклятие
Первый пример деструктивного воздействия ресурсного проклятия в европейской истории связан с работорговлей. Несмотря на то что, согласно марксизму, рабовладение принято относить к способу производства, характерному лишь для древней истории, на самом деле торговля рабами представляла собой высокоприбыльный бизнес в Средние века и в начале Нового времени.
Одним из важнейших источников добычи пленников для перепродажи за рубежом являлись южнорусские степи. Практиковать набеги на города Киевской Руси и связанную с набегами работорговлю стали еще половцы, что оказалось одной из важнейших причин запустения региона и оттока славянского населения в северо-восточную Русь. Половецкие пленники отгонялись в Крым, где перепродавались генуэзским торговцам, транспортировавшим их на своих кораблях в Средиземное море и перепродававшим широкому кругу потребителей. Работорговля стала, по сути дела, ключевой причиной формирования генуэзских опорных пунктов на Черном море (например, в Судаке, а также в Новом Афоне).
Татаро-монгольское нашествие не остановило работорговлю. Наоборот сделало ее еще более привлекательным и доходным занятием, поскольку ослабленная Русь не могла по-настоящему сопротивляться. Потенциальные рабы проживали повсюду, их надо было лишь взять и отконвоировать в Крым. Столь доступного ресурса впоследствии в экономике никогда уже не имелось.
Особенно преуспело в работорговле Крымское ханство благодаря своему удачному географическому положению. С одной стороны, находились ресурсы, которые требовалось захватить, а с другой — море, по которому за рабами приплывали генуэзские моряки. Иной экономики, кроме набеговой, Крымское ханство вообще не знало. Если татары не совершали очередного набега на христианские земли, у них начинались проблемы с продовольствием.
Периодом расцвета работорговли, идущей через Крым, являлось, наверное, XV столетие. Русь оставалась по-прежнему слабой, а спрос на пленников возрастал благодаря появлению Османского государства, активно использовавшего рабов в различных сферах жизнедеятельности. Говорят, на перекопе сидел когда-то старый еврей-меняла и, видя нескончаемые вереницы пленных, проводимых в Крым из Польши, Литвы и Московии, спрашивал, остались ли еще в тех странах люди или уже нет никого.
Возможно, крымчакам казалось, что эпоха процветания, основанная на столь привлекательном бизнесе, продлится вечно, однако Московия укрепилась, сбросила татаро-монгольское иго и стала выстраивать засеки, а также небольшие городки-крепости на южных рубежах, через которые раньше бандиты проходили как нож сквозь масло. Примерно в это же время укрепила свои рубежи и Литва, чьи земли тогда простирались от моря до моря (Балтийского и Черного, соответственно).
Последний крупный набег крымчаков на Русь имел место во времена правления Ивана Грозного, поскольку «великий государь» в борьбе с национал-предателями и европейцами так запустил пограничное дело, что некому было сторожить южные рубежи. Иван Васильевич своими экстравагантными действиями на некоторое время продлил нестабильность в нашей стране, но после окончания смутного времени работорговцам на Руси уже ничего не светило.
Для Крымского ханства это стало настоящей экономической катастрофой. Временами набеги удавалось осуществлять (например, в союзе с Богданом Хмельницким против Польши), однако общая гнилость набеговой системы привела к стагнации и к окончательному падению ханства под ударами русских войск во времена Екатерины II и Потемкина-Таврического.
Характерно, что сама по себе работорговля, как и любой бизнес, основанный на использовании ресурсов, не становится обязательно причиной деградации. Генуэзцы, к примеру, никогда не клали все «яйца» в одну корзину. Они диверсифицировали свой бизнес, торговали самыми разными товарами, а по мере исчерпания традиционных источников дохода сконцентрировались на кредитовании испанской короны (XVI век). Однако для Крымского ханства, не умевшего делать ничего иного, исчерпание ресурса обернулось исчерпанием жизненной силы государства.
Серебряное проклятие
В XVI веке страной, наступившей на те же самые грабли, что раньше Крым, стала Испания. Только источником доходов оказалась уже не работорговля, а добыча полезных ископаемых, обеспечившая поступление благородных металлов (преимущественно серебра) из различных латиноамериканских колоний.
Важнейшим ресурсом, снабжавшим испанскую казну деньгами, стал серебряный рудник в Потоси (Боливия). Вокруг этого месторождения вырос целый город, насчитывавший в период своего расцвета (1650 г.) 160 тыс. человек — больше, чем в Лиссабоне или Венеции того времени. Каждый седьмой индеец региона (включавшего значительную часть современных Перу и Боливии) принудительно отправлялся колонизаторами на эту шахту.
За 160 лет, между 1503 и 1660 гг., в Севилью было доставлено из Латинской Америки в общей сложности 16 тыс. тонн серебра. Запасы этого металла в Европе, отмечал Егор Гайдар в книге «Гибель империи», возросли втрое.
Механизм функционирования серебряного проклятия был несколько иным, чем проклятия рабского. Если в Крыму вообще не существовало никакой иной экономики, кроме набеговой, то Испания к концу XV века (к моменту открытия Америки Христофором Колумбом) обладала лучшим овцеводством в Европе (на территории Кастилии), неплохо развитым виноградарством (в Андалусии), оружейным ремеслом (толедские клинки) и даже крупным торговым городом (Барселона, входившая в состав Арагона). Однако приток денег из Америки подорвал дальнейшее развитие хозяйственной системы. Во внезапно разбогатевшей стране сильно выросли цены, что обусловило развитие импорта. Сравнительно дешевые товары пошли в Испанию со всех сторон, тем более что зачастую они были еще и более качественными. На этом фоне в испанскую экономику перестали вкладывать деньги. Местным производителям трудно стало соперничать с импортерами, зато неплохо зарабатывали благодаря притоку заокеанского серебра испанская пехота и католическая церковь. Бизнес хирел, зато непрерывно росло число солдат, монахов и неприкаянных благородных идальго вроде Дон Кихота.
Тем временем латиноамериканские богатства всё менее соответствовали аппетитам монархии. К 1600 г. приток драгоценных металлов из Америки стал сокращаться. Доходов по мере исчерпания месторождений становилось меньше, а расходы короля, пытавшегося контролировать чуть ли не всю Европу, неконтролируемым образом возрастали. Испания с помощью немецких, а затем генуэзских банкиров влезла в огромные долги, что привело к неоднократному дефолту и, как сказали бы сегодняшние эксперты, «снижению кредитного рейтинга» до мусорного уровня.
Если в XVI веке Испания обладала лучшей европейской армией, то к середине XVII столетия страна, фактически лишившаяся своей экономики, уже не могла выдержать даже военной конкуренции с усилившимися соседями. Она проиграла соперничество с Францией в ходе Тридцатилетней войны, а еще через полвека стала игрушкой в руках европейских держав, вступивших между собой в схватку за так называемое испанское наследство, оставшееся после пресечения испанской ветви королевской династии Еабсбургов.
Если бы не соперничество различных сил, Испанию, глядишь, включили бы в состав победившей державы, как это произошло с Крымским ханством. Однако в Европе «крымские фокусы» не проходили даже в XVIII веке. Испания сохранила самостоятельность, но получила французскую династию Бурбонов и 250 лет влачила жалкое существование на задворках Европы. Былой европейский лидер по уровню экономического развития теперь составлял пару другой окраинной европейской державе — Российской империи. Причем потеря латиноамериканских колоний в начале XIX века полностью лишила Испанию ресурсной ренты.
Лишь в 1950—1960-х гг. серьезные экономические реформы позволили Испании устремиться в погоню за такими преуспевающими соседями, как Великобритания, Франция и Германия. Испанцам пришлось учиться зарабатывать не на торговле ресурсами, а на производстве товаров и туризме.
При этом следует заметить, что само по себе обладание благородными металлами не является проклятием, как и участие в работорговле. Скажем, США успешно пережили и калифорнийскую, и аляскинскую золотые лихорадки, поскольку обладали диверсифицированной экономикой и системой рыночных институтов (то есть правил игры, основанных на гарантии неприкосновенности частной собственности и на развитии конкуренции). Однако для Испании, думавшей не о благосостоянии подданных, а о расширении границ и пресечении ересей (инакомыслия), «серебряное проклятие» оказалось фатальным.
Впрочем, что там Крым или Испания. Ресурсного проклятия в определенный момент времени не избежали даже такие развитые страны, как Франция и США.
Земельное проклятие
Испанию в качестве европейского лидера сменила в XVII веке Франция. Ее путь к процветанию был, несомненно, более сложным, однако и он в конечном счете основывался на получении дохода от ресурса, которым страна была богата.
Франция тогда являлась наиболее населенной страной в Западной и Центральной Европе. В своем соперничестве с Англией (Столетняя война), а затем с Испанией (Итальянские войны и Тридцатилетняя война) она теоретически могла задавить противника «живой массой». Но до поры до времени этой живой массы для победы над врагом недоставало, поскольку эффективность ведения войны зависела от доступности финансовых ресурсов. Постепенно французские государственные деятели пришли к простой мысли о том, что если вся многонаселенная страна будет платить в казну налоги, то общий объем ресурсов окажется достаточен для военного соперничества с соседями.
Испания была богата заморскими колониями, Италия торгово-промышленными городами, а Франция — крестьянами, каждого из которых заставили платить поземельный налог. Данный налог, получивший название талья, фактически стал ресурсным платежом. Богатство нации не столько зависело от развития предпринимательства, сколько от исправного взимания платежей с обрабатываемой крестьянами земли. Кардинал Ришелье, прославившийся своеобразным «налоговым терроризмом», стремился не давать спуску плательщикам. Сборщики налога выбирались местной общиной. Если они предоставляли государству сумму, которая была меньше ожидаемой, то недостачу приходилось выплачивать из собственного кармана. А если казна не получала искомого, то сборщики отправлялись в тюрьму.
Вследствие подобных действий ко временам правления Людовика XIV Франция стала обладать достаточными финансами для содержания наиболее крупной европейской армии. Родная земля кормила Францию лучше, чем серебряная гора, находящаяся в Боливии, кормила Испанию.
Взимание налогов и расширение размеров бюрократии оказалось значительно более удачным способом укрепления государства, чем крымские набеги и испанская эксплуатация колоний. «Французская модель», во всяком случае, не сильно препятствовала становлению ремесла и торговли в городах. Более того, власть при Людовике XIV даже стимулировала формирование государственных мануфактур и монопольных торговых компаний.
Но главная проблема, порождаемая ресурсным проклятием, во Франции проявилась столь же ярко, как и в Испании. Высокие доходы казны стимулировали развитие системы государственного долга. Страна начала жить не по средствам и весь XVIII век провела в тщетных попытках расплатиться со своими кредиторами, не подрывая при этом могущества армии. Одной из важнейших причин Великой французской революции стала неспособность Людовика XVI мобилизовать ресурсы для погашения долга. Кредиторы боялись остаться с носом. Дворяне опасались, что их обложат, как крестьян, для затыкания бюджетных дыр. А крестьяне с трудом терпели тяжелый фискальный гнет.
Брать с земли всё больше и больше денег в казну было невозможно, поскольку крестьянский труд фактически оставался столь же примитивным, как раньше. Чтобы расплачиваться с накопившимся долгом и содержать одновременно крупнейшую европейскую армию, требовалось повышать производительность труда и формировать городскую экономику, более эффективную, чем сельское хозяйство. Опора на земельные ресурсы в построении государственного бюджета стала своеобразной ловушкой для Франции. Кажущаяся легкость сбора налогов с миллионов крестьян породила соблазн жить и осуществлять внешнюю политику на широкую ногу. А ввязавшись в военные конфликты с соседями, требовавшие всё больше и больше денег, Франция уже никак не могла остановиться.
Впрочем, эту страну постигла явно лучшая судьба, чем Крымское ханство и Испанскую монархию. Франция отделалась не исчезновением с карты мира и даже не длительным хозяйственным застоем, а лишь столетней революционной эпохой, тянувшейся с 1789 по 1870 г. Революции оставили за собой кровавый след, но утрясли в большей или меньшей степени разнообразные социальные конфликты. И это позволило Франции вступить в XX век демократической и быстро модернизирующейся державой.
Хлопковое проклятие
Значительно худшей была судьба так и не состоявшейся конфедерации южных штатов США. Фактически они повторили в новых условиях судьбу Крымского ханства, хотя и не занимались набегами.
Экономика американского юга строилась на развитии хлопковых плантаций и тесно связанной с ними работорговле. Хлопок выращивали чернокожие невольники, регулярно ввозимые на кораблях из Африки. Сравнительно дешевый рабский труд позволял землевладельцам извлекать земельную ренту и поддерживать традиционный аристократический образ жизни даже в эпоху промышленной революции. Более того, аристократия юга попыталась построить свое благосостояние именно на симбиозе с нарождающейся английской промышленностью, однако в конечном счете потерпела крах.
Экономика американского юга полностью зависела от спроса, предъявляемого высокоразвитой Англией. Это в известной степени походило на то, как ныне экономика отсталой сырьевой России зависит от экономического роста в Германии, Италии и других европейских странах, приобретающих наши нефть и газ. Есть спрос — есть нефтедоллары. Нет спроса — нет нефтедолларов.
Промышленная революция началась в Англии второй половины XVIII века именно с создания хлопчатобумажной индустрии. Технические изобретения английских умельцев позволили шить сравнительно дешевую одежду на широкие массы населения. Соответственно, промышленность нуждалась в огромном объеме сырья, который не могли предоставить традиционные европейские поставщики, ориентированные на Азию. В Средние века и в эпоху Ренессанса хлопковое сырье ввозили в основном из Леванта, но теперь требовались иные масштабы и иные торговые пути. Имеющуюся рыночную нишу быстро заполнили американские колонии, сформировавшиеся в регионах, оптимально подходивших по своим климатическим условиям для разведения хлопка.
Опора на ресурсы позволила южанам, в отличие от северян, законсервировать свой образ жизни, ничего не меняя в хозяйственной системе и лишь обновляя регулярно штат чернокожих работников. Если бы экономика была жестко отделена от политики и идеологии, южане могли бы, возможно, вести свой традиционный образ жизни и по сей день. В отличие от крымчаков, они никого не грабили и торговали хлопком, который всегда необходим для производства одежды.
Более того, южане придерживались в основной своей массе фритредерских взглядов на торговлю, осуждая протекционизм, столь милый северянам, защищавшим высокими таможенными пошлинами свою промышленность от иностранной конкуренции.
Южане, в отличие от северян, не стремились к государственному регулированию. Они были своеобразными либералами, в чьих взглядах причудливо сочетались стремление к свободе экономики с отрицанием личной свободы работника.
Пока Юг варился в собственном соку, Север быстро прогрессировал, развивал промышленность и усваивал новые европейские идеи. Во второй половине XIX века рабовладение среди европейцев считалось делом уже совершенно неприличным, и это, наконец, усвоили в Америке. Разразилась война между Севером и Югом, в которой промышленники имели значительно больше ресурсов для вооружения армии, хотя землевладельческая аристократия традиционно лучше умела воевать. Южанам казалось поначалу, что у них есть шанс сформировать конфедерацию, отделиться от Соединенных Штатов и тихо жить своим обособленным мирком, торгуя хлопком и потягивая ресурсную ренту. Однако ресурсы сыграли с ними злую шутку. Для длительного противостояния их не хватило. Юг проиграл войну и надолго превратился в отсталую аграрную провинцию быстро развивающейся промышленной страны.
Кстати, похожая судьба постигла страны Латинской Америки, основывавшие свою экономику на принудительном рабском труде и поставлявшие на мировой рынок сахар, табак, кофе. Как Бразилия, так и Куба вынуждены были отказаться от рабовладения. При этом Бразилия только в конце XX века смогла осуществить экономические реформы, способствующие нормальному развитию промышленности. А Куба, вот уже более полувека экспериментирующая с казарменным социализмом, по сей день фактически так и не вышла из своего сахарного проклятия.
Мясное проклятие
Среди экономистов сейчас стало модно приводить пример Аргентины как страны, прошедшей в XX веке долгий путь «демодернизации». Отмечают, что в конце XIX столетия она находилась в числе мировых лидеров по размеру ВВП на душу населения, однако затем неуклонно отступала с лидирующих позиций, пока не дошла до нынешнего убогого состояния государства-середнячка, то страдающего от гиперинфляции, дефолта и прочих экономических бедствий, то несколько подтягивающегося в погоне за мировыми лидерами.
Подобное представление об Аргентине совершенно неверно. Никакой «демодернизации» в XX веке там не могло быть по той простой причине, что в XIX столетии в этой стране не происходило модернизации. Выдуманное экономистами представление о «демодернизации» задает неразрешимую загадку: поглупели, что ли, аргентинцы со временем, раз растеряли былые достижения? Но если они не имели достижений, то, значит, и не могли ничего растерять.
Период недолгого аргентинского процветания конца XIX века связан всего лишь с удачным использованием природных ресурсов, а вовсе не с формированием институтов (правил игры), с помощью которых развиваются успешные экономики. Причем удачно использовавшимся ресурсом было вовсе не серебро (как можно подумать, исходя из названия страны), а плодородные почвы аргентинской пампы, в которой паслись огромные массы коров фактически без всяких трудозатрат со стороны местного населения. Один гаучо присматривал сразу за большим стадом, и себестоимость говядины в Аргентине была в итоге ничтожной по сравнению с себестоимостью мяса в Европе.
До поры до времени аргентинскому экономическому чуду препятствовало лишь то, что, как известно, за морем телушка — полушка, да рубль перевоз. Точнее, перевоз скоропортящихся продуктов питания в Европу был даже не дорог, а вообще практически невозможен при тихоходных парусных судах и отсутствии рефрижераторов. Жители Буэнос-Айреса объедались мясом, на котором нельзя было толком заработать (отсюда, заметим попутно, произошла традиционная аргентинская кухня с ее огромными стейками), но как только случилась своеобразная транспортная революция в океанических перевозках, то чудо не замедлило сказаться, причем без особых усилий со стороны самих аргентинцев.
Скоростные суда, работающие на угле, стали вывозить в Европу большие объемы аргентинской говядины. Экспортеры быстро разбогатели. Поскольку число жителей Аргентины было сравнительно небольшим, ВВП на душу населения оказался весьма впечатляющим для той эпохи. Глядя на старую статистику, можно подумать, будто граждане этой латиноамериканской страны приложили в конце XIX века колоссальные усилия для осуществления экономического подъема. Однако на самом деле европейские технические открытия просто соединились с местными природными ресурсами. Это удачное сочетание не требовало от Аргентины никаких реформ, никаких прогрессивных институтов. Стране подфартило, однако эта удача, как и все прочие ресурсные удачи, не могла сохраняться бесконечно.
Как всякое общество, столкнувшееся с ресурсным проклятием, Аргентина превратилась в мир значительного неравенства. Местная сельскохозяйственная элита вслед за крымскими ханами, испанскими грандами, французской аристократией и американскими рабовладельцами существенно оторвалась по уровню жизни и доходов от так называемых дескамикадос (безрубашечников) — наименее обеспеченных слоев населения. В итоге голытьба всё же взяла свое. Их лидером стали полковник Хуан Доминго Перон и его очаровательная супруга Эвита, провозгласившие идеи хустисиализма — аргентинской разновидности социализма, призывавшего к достижению социальной справедливости.
В борьбе между развитием и справедливостью прошла фактически вся вторая половина XX века. Экономика то поднималась, то падала в зависимость от того, какие условия функционирования ей предлагала очередная власть. С одной стороны, к старому сельскому хозяйству новая эпоха добавила и промышленность. С другой — души коров, съеденных в XIX веке, долгое время не давали покоя аргентинцам, которым трудно было осознать, что они живут не в главной стране Латинской Америки, поднявшейся, наконец, с колен, а в отсталом государстве, где для успешного развития надо еще очень много сделать.
Г-ное проклятие
Рассмотрев вариант развития, связанный с изобилием подаренных природой продуктов питания, следует, наверное, рассмотреть и прямо противоположный вариант образования природных ресурсов. Богатство крохотного островка Науру, затерянного на просторах Океании, веками складывалось благодаря обильным экскрементам, выделявшимся многочисленными птицами, гнездившимися на этом коралловом атолле. Как выяснилось в начале XX века, фактически весь островок покрыт слоем гуано — разложившегося за долгие столетия птичьего помета. Гуано представляет собой высококачественное природное удобрение, содержащее фосфаты, — настолько ценное, что его имеет смысл экспортировать на большие расстояния даже с отдаленного острова.
Добыча фосфатов «колонизаторами» началась в 1906 г. Она принесла островку Науру невероятное процветание. В силу малых размеров и малой заселенности данной территории, количества гуано на душу населения оказалось очень велико. Причем «колонизаторы» платили народу за его гуано. Хорошая обеспеченность гуано вдохновила аборигенов к борьбе за независимость и обусловила их смелое решение провозгласить собственное государство в 1968 г. Тут же была национализирована фосфатная компания. При этом правительство не стало претендовать на самостоятельное ведение бизнеса, поскольку жители государства Науру ничего не умели делать, кроме как ловить рыбу и собирать кокосы (да и эти умения атрофировались по мере обретения г-ного богатства).
Как отмечает профессор-востоковед Андрей Ланьков, Науру, по всей видимости, имело к концу 1970-х гг. самый высокий доход на душу населения в мире, превосходя примерно в два раза ОАЭ и в четыре раза США. Остров поистине стал государством всеобщего благоденствия. Не только образование и медицина там были бесплатными, но каждый житель острова получил право время от времени халявно летать на «большую землю». Налоги при этом отменили полностью.
Впрочем, остров Науру так и не смог превратиться в идеально организованный остров Утопия из притчи мыслителя XVI века Томаса Мора. Помешали этому два обстоятельства. Во-первых, как ни трудились птички, удобряя землю Науру на протяжении тысяч лет, выявилось, что даже гуано, увы, не бесконечно: со значительной части острова его сняли полностью — вплоть до обнажения кораллов. А во-вторых, постепенное исчерпание гуано сопровождалось процессом быстрого нарастания коррупции и некомпетентности в управлении нажитыми от продажи фосфора деньгами.
Поначалу «лишние» деньги стали собирать в специальный «гуанофонд». В середине 1980-х гг. он, по оценке Андрея Ланькова, составлял порядка 2 млрд долларов. На доходы со столь большого капитала население крохотного островка могло бы, наверное, жить припеваючи чрезвычайно долго. Однако вложения «гуанофонда» оказались, «мягко говоря», непродуманными.
Инвестиции регулярно приносили убытки. Известно, что для сохранения капитала средства стабфондов целесообразно вкладывать в пусть низкодоходные, но зато наиболее надежные ценные бумаги. Однако предприниматели государства Науру занялись на свои гуанодоллары своеобразным бизнесом. Они покупали самолеты, на которых некого было перевозить. Вкладывались в постановку мюзиклов. В общем, поступали примерно так, как советуют сегодня России некоторые «специалисты», полагающие, будто средства стабфондов надо вкладывать в отечественную экономику.
К началу XXI века деньги «гуанофонда» Науру испарились вместе с фосфатами, на которых они ранее были заработаны. Внезапно обедневшее государство стало перебиваться случайными заработками. В частности, оно решило заняться признанием непризнанных государств за соответствующую плату с их стороны. В 2008 г. граждане Науру на ура восприняли отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии и всего через год признали эти два молодых государства, уступив в скорости данного признания лишь России, Венесуэле и Никарагуа. Вряд ли подобная дипломатия обеспечит Науру былое процветание. Но если подождать несколько тысяч лет, возможно, птички вновь покроют островок толстым слоем гуано и аборигены сумеют не наступить второй раз на те же самые грабли.
Нефтяное проклятие
Как ни странно, нефть долгое время не была для человечества тем ресурсом, на использовании которого можно хорошо наживаться. В отличие от рабов, мяса или даже гуано, непонятно было, как ее использовать. Нефть в каком-то смысле походила на хлопок: ресурс, известный с давнего времени, никак не мог заменить собой шерсть, и лишь в годы промышленной революции на фоне целого ряда изобретений он стал использоваться в гигантских масштабах для производства дешевых тканей. Так же и нефть. На фоне второй промышленной революции, когда появились автомобили, этот ресурс обрел новую жизнь.
Впрочем, до начала 1970-х гг. цены на нефть оставались сравнительно низкими. На ней трудно было нажиться. И лишь когда страны ОПЕК сформировали монополию и сильно вздули цены, нефтяные государства смогли получать высокую ренту со своего ресурса. Венесуэла представляет собой яркий пример того, какую злую шутку может сыграть с богатой нефтедобывающей страной надежда всегда жить на эту самую ренту.
Халява обрушилась на Венесуэлу, как и на другие страны подобного рода, в начале 1970-х. Сначала развитие было быстрым, но с середины 1980-х, когда цены на нефть упали, оно практически прекратилось. На два десятилетия Венесуэла погрузилась в спячку.
Почему? Об этом говорит сравнение с другой латиноамериканской страной — с Чили. Стартовали они примерно с одного уровня (Чили в начале 1970-х гг. была даже чуть беднее). Но затем чилийцы стали привлекать капиталы, создавая благоприятный для иностранных инвесторов деловой климат. А венесуэльцы предпочитали почивать на лаврах, ожидая, что нефть снова наполнит их кошельки нефтедолларами. Чилийский успех стал следствием серьезных рыночных реформ, проведенных при правлении генерала Аугусто Пиночета, совершившего ряд преступлений против своих политических противников, но зато столь удачно подобравшего команду реформаторов, что остальные чилийцы стали жить лучше за годы существования авторитарного режима. В Венесуэле же разумных реформаторов в те годы не нашлось.
Конечно, там понимали, что для процветания надо работать, но полагали, что смогут не столько стимулировать развитие, сколько собирать ресурсную ренту с тех отраслей экономики, где она образуется. Для стимулирования развития надо было бы помогать развитию частного сектора. Для собирания ренты, напротив, надо было увеличивать долю государства в экономике, поскольку «стричь шерстку» у госпредприятия, как считали венесуэльцы, проще, чем у частника. В итоге они национализировали месторождения, используемые иностранными нефтяными компаниями (прежде всего «Шелл» и «Эксон»). А затем в рамках проекта «Великая Венесуэла» местные «реформаторы» стали плодить госкомпании в алюминиевой, металлургической и нефтехимической отраслях, а также в нефтепереработке и строительстве гидроэлектростанций.
Поскольку казалось, что счастье будет вечным, венесуэльцы раскатали губу и даже стали наращивать госрасходы, не считаясь ни с какими реалиями. Дефицит бюджета превысил разумные пределы, но, видимо, мало кто сомневался в Венесуэле, что в будущем можно будет платить по долгам за счет доходов от нефти. Однако эффективность нефтянки снизилась после прихода туда государства. А затем еще и цены упали. При этом коррупция, правда, стала возрастать, благо государственное управление экономикой — это ведь на самом деле управление, осуществляющееся чиновничеством.
Потенциально богатая страна стала беднеть. Возникла социальная нестабильность. Усилилось революционное движение. На этой волне к власти пришел политик-популист Уго Чавес. В первые несколько лет правления у него было сложное положение, поскольку экономика находилась в стагнации. Чавеса даже свергали с президентского поста, правда, не слишком удачно. Но в нулевые годы, когда цены на нефть резко пошли вверх, Чавес смог использовать рост благосостояния для укрепления своей власти. Опять появилась надежда, что халява пришла навсегда, и Венесуэла попыталась даже стать оплотом борьбы с США во всей Латинской Америке.
Соединенные Штаты от этой борьбы сильно не пострадали, но Венесуэла вновь стала слабее, когда цены на нефть рухнули. Чавес, правда, этого уже не застал, поскольку скончался в 2013 г., пребывая, по всей видимости, в уверенности, что он — выдающийся государственный лидер, сопоставимый по своему значению с Симоном Боливаром. А его преемнику Николасу Мадуро пришлось на фоне очень высокой инфляции, вызванной падением национальной валюты, решать проблемы обеспечения жителей своей страны элементарными потребительскими товарами. Методы оказались чисто социалистическими. Президент Мадуро разрешил арестовать ряд владельцев магазинов, которые, по его мнению, излишне задирали цены, а товары были принудительно распроданы по дешевке, что, естественно, вызвало покупательский ажиотаж.
Однако с помощью подобных методов «стабилизации» Мадуро в деле борьбы с кризисом не преуспел, а потому на парламентских выборах в декабре 2015 г. оппозиция смогла разгромить этого неудачливого наследника Чавеса.
Татьяна Ворожейкина — политолог, латиноамериканист:
«В Венесуэле была принята целая система социальных программ, которые распространяются на бедные и беднейшие слои населения. Эти программы включают в себя магазины и супермаркеты, где продаются субсидируемые государством продукты; медпункты и клиники в бедных кварталах городов и сельской местности; образовательные программы — от ликвидации неграмотности и создания начальных и средних школ до специальных ускоренных университетских курсов; а также строительство дешевого жилья, развитие сельскохозяйственных зон и районов проживания индейского населения. Таким способом создавался государственный механизм интеграции социально исключенных на нерыночных, антикапиталистических принципах, что составляло суть провозглашенного Чавесом "Социализма XXI века". <...>
Ужасающая коррупция во всех звеньях госаппарата — Венесуэла превратилась в самую коррумпированную страну Латинской Америки и одну из самых коррумпированных в мире — вызвала к жизни издевательский, но крайне емкий термин — «боливарианская буржуазия», — которым непочтительные венесуэльцы окрестили верхушку режима и связанных с властью предпринимателей, процветающих на личных связях в госаппарате, государственных заказах, покупке за бесценок предприятий и собственности притесняемых противников режима. Провальная экономическая политика, национализация предприятий и торговых сетей, контроль над ценами и множественный валютный курс, позволявший правительственным чиновникам и близким к ним бизнесменам обогащаться на импорте продовольствия, — привели к дефициту основных продуктов питания и товаров повседневного спроса, огромным очередям в супермаркетах, а после очередного падения нефтяных цен в 2014-2015 гг. — к регулярным перебоям в подаче электроэнергии и полному экономическому коллапсу, к самому глубокому за последние 70 лет экономическому спаду».
(Ворожейкина Т. Уроки Венесуэлы // Новая газета. 14.12.2015)
Наше проклятие
На всем этом историческом фоне нынешняя ситуация в России отнюдь не выглядит уникальной. Можно сказать, что Россия — нормальная страна, но с важной оговоркой — страна нормального ресурсного проклятия, которое не мы породили и не мы, скорее всего, будем последними от него пострадавшими. Ресурсное проклятие в России — это серьезное бедствие, тормозящее развитие, но стремление паразитировать на ресурсах в благоприятных для этого условиях не является нашей национальной культурной особенностью. Этим переболели многие. И от этого, как показывает мировой опыт, можно излечиться.
Основы российской нефтегазовой индустрии закладывались в 1970-х гг. главой советского правительства Алексеем Косыгиным. Формально СССР тогда был достаточно развитой промышленной державой, соперничавшей даже с США в области передовых вооружений. Но положение с обеспеченностью товарами народного потребления было тяжелым.
Милитаризация экономики принимала непосильные для страны масштабы, поскольку приходилось поддерживать военный паритет со значительно более богатой Америкой. И потому доля военных расходов в советском ВВП, как отмечалось выше, выходила за всякие разумные для мирного времени пределы. Потребительских товаров не хватало. В начале 1960-х гг. СССР стал даже импортировать хлеб, хотя зерно долгое время являлось ключевой статьей российского, а затем и советского экспорта. Таким образом, освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири представляло собой единственный реальный способ получать валютную выручку от продажи товаров за рубеж и импортировать на эти деньги хоть что-то полезное для широких слоев населения. Имевшиеся к 1970-м гг. нефтяные разработки Азербайджана и Поволжья могли удовлетворить лишь внутренние потребности страны, тогда как освоение Западной Сибири формировало мощную экспортную ресурсную базу.
После экономических реформ, проведенных в России 1990-х гг., промышленность, работавшая раньше на ВПК, рухнула, потянув за собой и некоторые смежные отрасли экономики. Бессмысленность дорогостоящей милитаристской базы стала очевидна для многих, и государство прекратило изымать деньги у производителей масла ради финансирования закупок всё новых и новых пушек. В этой ситуации иллюзия высокоразвитости нашей страны быстро развеялась, и мы оказались чрезвычайно похожи на другие страны, отмеченные ресурсным проклятием.
Заработать стране в целом на жизнь можно было, только продавая ресурсы за границу. Прочая же хозяйственная деятельность в большей или меньшей степени являлась перераспределением ресурсной ренты. Чиновники присваивали ее с помощью взяток. Бандиты брали силовым путем. Пенсионеры и бюджетники вымаливали подачки у правительства. Дотационные регионы настаивали на справедливом перераспределении нефтедолларов ради сохранения единства России. Наконец, ВПК продолжал, как в советское время, требовать своей доли под предлогом того, что нам угрожают зарубежные государства. При этом все ходатайства разного рода лоббистов бюджета объединяло то, что покушались они на один и тот же ресурс, имеющийся в ограниченном количестве.
Проблема ресурсного проклятия состоит в том, что с его помощью можно какое-то время жить богато, но нельзя всё время повышать уровень богатств. Россия в этом смысле повторила судьбу всех прочих стран, строивших свое благосостояние на ресурсной ренте. Уже итоги 2013 г. продемонстрировали, что даже при очень высокой цене на нефть (превышавшей 100 долларов за баррель) экономика практически перестала расти. А когда в течение 2014 г. цены на нефть рухнули, мы стали переходить в состояние рецессии, что в свою очередь привело к сокращению многих статей бюджета и снижению реальных доходов населения.
Как в случаях с другими ресурсными проклятиями, выявилось, что нефть и газ не обязательно приводят любую страну к стагнации и отсталости. Крупными нефтедобывающими государствами являются США, Великобритания, Канада, Норвегия. Все они демонстрируют признаки нормального экономического развития. В частности, Соединенные Штаты как раз в те годы, когда Россия полностью перешла на проживание за счет ресурсной ренты, совершали прорывы в новых отраслях экономики, связанных с компьютерными технологиями, телекоммуникациями, генной инженерией. Более того, в США осваивают добычу сланцевой нефти и сланцевого газа, что является важнейшей причиной того падения цен энергоносителей, которое произошло в 2014 г.
Отличие успешных нефтяных стран от России состоит в том, что они давно уже сформировали у себя эффективные рыночные институты, защищающие собственность и стимулирующие конкуренцию. Что же касается нас, то мы делали ставку только на ресурсы и сегодня пожинаем плоды этой неразумной стратегии.
Егор Гайдар:
«В 1985-1986 гг. цены на ресурсы, от которых зависел бюджет Советского Союза, его внешнеторговый баланс, стабильность потребительского рынка, возможность покупать десятки миллионов тонн зерна в год, способность обслуживать внешний долг, финансировать армию и ВПК, упали в несколько раз.
Это не было причиной краха социалистической системы. Он был предопределен базовыми характеристиками советской экономико-политической системы: сформированные в конце 1920 - начале 1930-х годов институты были слишком ригидными, не позволяли стране адаптироваться к вызовам мирового развития конца XX в. Наследие социалистической индустриализации, аномальная оборонная нагрузка, тяжелый кризис сельского хозяйства, неконкурентоспособность обрабатывающих отраслей делали крушение режима неизбежным. В 1970 - начале 1980-х годов эти проблемы можно было регулировать за счет высоких цен. Но это недостаточно надежный фундамент для того, чтобы сохранить последнюю империю. <...>
Анализ ситуации, в которой к середине 1980-х годов оказался Советский Союз, позволяет сделать вывод: на фоне новых реалий (прежде всего резкого снижения мировых цен на нефть) были бы бесперспективны попытки продолжить политику предшествовавших десятилетий, суть которой состояла в том, чтобы законсервировать сложившуюся экономическую и политическую систему и ничего в ней не менять. Такая линия не позволила бы без серьезных экономико-политических потрясений справиться с вызовом, связанным с падением нефтяных цен»
(Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. - М.: РОССПЭН, 2006. С. 196, 204)
Майкл Росс — американский экономист:
«Предположим, что во главе государства стоит правитель, основная цель которого заключается в сохранении собственной власти. Для ее достижения и в целях завоевания политической поддержки правитель опирается на налогово-бюджетные возможности — накапливаемые в бюджете денежные средства используются на поддержку населения и предоставление бюджетных благ, а также на поддержание низкого уровня налогообложения. Если ему не удается заручиться необходимой поддержкой, во главе государства становится претендент на место правителя. В демократической стране это происходит по итогам выборов, а в условиях диктатуры — в результате народного восстания. <...>
Добыча нефти ведет к росту неналоговых денежных поступлений, что позволяет государству обеспечить гражданам получение выгод в большем объеме, чем в тех случаях, когда доходы формировались исключительно за счет сбора налогов. <...> Правительства нефтедобывающих стран без всякого сомнения могут предоставить гражданам выгоды, объем которых превышает собираемые с них налоги, что позволяет сохранять народную поддержку и не допускать демократических восстаний. В то время как автократии, не имеющие углеводородов, постепенно становятся демократическими, автократии, располагающие запасами нефти, остаются автократичными. <...>
[Даже в США] в штатах, получающих нефтяные доходы, вероятность переизбрания уже находившихся у власти губернаторов была существенно выше. При этом они побеждали соперников с большим разрывом в голосах избирателей.
Вероятно, самым показательным случаем является пример штата Луизиана. В начала 1920-х гг. его губернатору Хью Лонгу благодаря нефтепопулизму удалось добиться беспрецедентно высокого уровня политического влияния. После повышения налога на нефтяные компании X. Лонг использовал полученные деньги для финансирования строительства новых дорог и больниц, бесплатных учебников для школьников и патронажа поддерживавших губернатора законодателей и местных политиков. Столь щедрые "дары" позволили X. Лонгу приобрести огромную популярность и огромную власть. Губернатор лично осуществлял цензуру неугодных ему газет, ограничивал финансирование находившихся в оппозиции местных властей. Принимал на работу и увольнял служащих различных учреждений штата (вплоть до уровня заместителей шерифа и школьных учителей). Благодаря нефтяным доходам Луизианы по своим властным полномочиям X. Лонг (и наследовавшие ему родственники-политики) гораздо больше напоминал южноамериканского диктатора, чем главу исполнительной власти любого другого штата».
(М. Росс. Нефтяное проклятие. Как богатые запасы углеводородного сырья задают направление развития государств. - М.: Издательство Института Гайдара, 2015. С. 129-132, 163-164)
Глава 7. Путин на авторитарном фоне.
Итак, нам более-менее понятно, почему широкие слои населения согласились на путинскую перевернутую пирамиду власти. На фоне нефтяного процветания она их вполне устраивала. Поддержка народом Путина представляла собой рациональное решение миллионов людей, которые при нем стали жить лучше, но при этом не задумывались об отдаленных перспективах развития страны.
Возникает вопрос: почему так легко встроилась в эту перевернутую пирамиду российская элита? Почему бизнес послушно согласился платить дань начальству? Почему политики выстроились в очередь на вступление в «Единую Россию», а те, кому не хватало места в основной партии власти, объединились в партию «запасную» — в «Справедливую Россию»? Почему интеллектуалы «властители дум» — сравнительно легко согласились на идеологическое обслуживание Кремля вместо того, чтобы поспорить с ним за право властвовать над думами конформистски настроенных миллионов?
В демократических странах элита всегда делится на противоборствующие группировки, образующие соперничающие партии и отстаивающие соперничающие идеи. Такое поведение, казалось бы, должно быть для элиты естественным, поскольку всегда существуют различные группы интересов и согласовывать их проще всего с помощью демократических процедур.
На то она и элита, чтобы иметь собственную гордость, собственные амбиции, собственное видение перспектив страны. Почему же в России она гордится только «близостью к телу»? Почему амбиции «лучших людей» измеряются лишь миллионами долларов, а не стремлением стать «отцами-основателями» российской демократической государственности? Почему у них нет иного видения перспектив кроме генеральной линии партии и колебаться они себе позволяют (как в старом советском анекдоте) лишь вместе с генеральной линией?
Есть ли здесь какая-то специфика России, и если есть, то в чем? Чтобы ответить на этот сложный вопрос, нам надо начать издалека.
Сотвори себе кумира
Как у нас в стране обращаются к незнакомцу? Гражданин? Товарищ? Барин? А может быть, сударь или милостивый государь, как было принято до эпохи исторического материализма? Увы, нет. Обращения традиционные были «историческим материализмом» выдавлены, тогда как обращения советские не утвердились столь прочно, чтобы пережить Советский Союз. В итоге обращаемся мы друг к другу по гендерному (чтобы не сказать по половому) признаку: «Эй, мужчина!», «Послушайте, женщина!», «Девушка, будьте добры!»
Возможно, потрепанному жизнью немолодому человеку приятно обнаружить, что он еще мужчина, а дородной продавщице сильно постбальзаковского возраста хочется слышать, что она девушка. Однако это всё не снимает важной проблемы. Распавшаяся культурная традиция обладает порой печальным свойством не восстанавливаться. И если бы дело касалось лишь использования отдельных слов русского языка, то сию печаль можно было бы еще как-то пережить. Однако данная проблема затрагивает некоторые принципиальные для страны моменты. В частности, формирование демократии и партийное строительство.
Виктор Черномырдин однажды справедливо заметил: «Какую бы организацию мы ни создавали — получается КПСС». Виктор Степанович наверняка даже не подозревал, насколько важную мысль он мимоходом высказал. Ведь столь низкокачественный продукт, как КПСС, получается отнюдь не из-за плохой оргработы. Есть совершенно объективные причины того, что в сегодняшней России демократия приживается хуже, чем в других европейских странах. А следовательно, нам стоит серьезно поразмышлять о том, почему Россия — не Америка, не Чехия, не Венгрия и не Польша. Оставим на некоторое время вопрос о том, как люди обращаются друг к другу в быту (мы к нему в конце главы обязательно вернемся), и совершим небольшой исторический экскурс, без которого с проблемами современности вряд ли можно будет разобраться.
Начнем, пожалуй, с того печального факта, что народ отнюдь не всегда творит народовластие (то есть демократию). Прежде чем сотворить демократию, народ обычно творит авторитаризм. Да да, именно народ, а отнюдь не диктатор.
В российской традиции последних десятилетий авторитаризм трактуется примерно так же, как и диктатура. Считается, что власть, абсолютно оторванная от народа, узурпирует права, которые должны принадлежать обществу. Соответственно, общество не отвечает за власть и стремится разрушить диктатуру ради торжества демократии. Демократия же рассматривается как абсолютная противоположность авторитаризму: мол, там, где есть первая, нет места для второго.
Появление подобного подхода относится к брежневским временам, когда власть была настолько карикатурна и настолько не соответствовала чаяниям интеллигенции, что у последней возникло представление, будто первая висит «на соплях», не имея опоры в массах. Мы противопоставляли демократию (при которой умненький-благоразумненький народ выбирает из своей среды правителей, обладающих всеми возможными достоинствами) диктатуре, связанной исключительно с насилием партийных бонз или кровавых генералов над вскормленными в неволе несчастными массами.
Авторитаризм полностью записывался по разделу диктатуры вкупе с коммунизмом, тоталитаризмом, фашизмом и прочими «измами», взятыми вперемешку. Получалось, что демократия — это когда народ выбирает. А когда он не выбирает — это автоматически какой-то «изм». Не очень даже понятно было какой. Но априори считалось, что ничего хорошего в нем быть не может.
Дискуссия о том, будет ли Россия идти к рынку по авторитарному или демократическому пути, началась еще в конце 1980-х гг. Однако в качестве авторитарной модели движения к цивилизованной экономике рассматривалась преимущественно чилийская — пиночетовская, то есть такая, при которой власть была захвачена генералом в результате военного переворота. Когда же выяснилось, что августовский путч 1991 г. у нас провалился и народ в едином порыве избрал себе президентом Ельцина, мы подумали, что возможный авторитарный вариант страна проскочила и движение вперед у нас теперь будет исключительно демократическим.
С тех пор мы неоднократно имели возможность убедиться в том, что самые темные, самые жестокие свойства любого правящего режима покоятся как раз на симпатиях миллионов, приветствующих, скорее, автократа, нежели демократов. Авторитаризм — это более сложное явление, чем диктатура. Последнюю можно навязать народу силой штыков. Но, как правило, подобная сила не слишком долго держится, если власть не имеет иной опоры — авторитета, который, кстати, может быть приобретен разными путями.
Порой, как в истории с чилийским генералом Пиночетом, авторитет диктатора покоится на традиционном авторитете представляемого им института (в данном случае — армии). Порой, как в истории с французским императором Наполеоном, — на личных заслугах героя. Порой, как в истории с хорватским лидером Франьо Туджманом, — на том, что лидер символизирует собой борьбу целого народа за свою независимость и свободу. А порой, как в случае с Путиным, — на росте нефтедолларового благосостояния широких слоев. Механизм ресурсного проклятия — лишь один из многих возможных механизмов, служащих построению авторитарного режима. Но в любом случае именно авторитет, а не конкретный механизм прихода к власти, позволяет политику долгое время оставаться во главе страны и осуществлять в ней преобразования.
Если есть авторитет, есть и авторитарная власть. Установилась ли она посредством переворота или выборов? Зажимает ли она прессу или та сама ложится под нее? Наполняются ли тюрьмы бунтовщиками или смутьяны внезапно перевоспитываются? Всё это частные моменты, зависящие от конкретной политической обстановки, силы авторитета лидера и длительности его пребывания у власти. Общим же моментом является то, что сам народ хочет сотворить себе кумира вместо того, чтобы выбирать власть, нудно взвешивая плюсы и минусы кандидатов.
Великое творчество масс
Демократия, в отличие от авторитаризма, не боится этой нудной работы. Демократия четко отличает личные заслуги человека в сражениях, культуре и спорте от его способности вести государственный корабль. Ты можешь быть героем и получить от народа десяток-другой орденов, но президентом изберут не тебя, а того, кто представит внятную программу своих действий. Однако стоит лишь перенестись в авторитарное общество, как всякие программы можно выбросить на помойку, поскольку главное там — вовремя потрясти перед носом избирателя блестящими побрякушками.
В западной науке понимание того, как всё обстоит на самом деле, начало появляться уже с 1930-х гг., то есть с эпохи, когда авторитарные режимы стали один за другим утверждаться по всей Европе, причем часто приходя на плечах демократии. Вопрос о том, почему народ так жаждет авторитета, подвергся исследованиям целого ряда ученых. Концепции были принципиально различны, но многие из них объединяло осознание того, что корни трагедии надо искать не столько в политике, сколько в менталитете.
Философ Хосе Ортега-и-Гассет, еще в 1930 г. зафиксировавший вторжение толпы в политику, полагал, что народ излишне раскрепостился, сбросил с себя давление мудрых либеральных авторитетов и в своем безответственном, гедонистическом угаре оказался опасен для цивилизации. Однако вскоре психологи встали на несколько иную точку зрения, доказывая, что восставшие против мудрых либеральных правителей массы лишь чисто внешне выглядят счастливыми. На самом же деле они глубоко несчастливы в своей кажущейся эйфории, а потому ищут авторитет, которому готовы отдаться с потрохами.
Например, фрейдист с марксистской закваской Вильгельм Райх уже в 1933 г. пришел к выводу, что авторитарное сознание масс есть следствие подавленной сексуальности, столь характерной для мелкобуржуазной среды с ее консерватизмом, отрицающим свободу самовыражения личности. Данный подход обратил внимание на принципиально важную вещь — на связь авторитаризма с несформировавшейся индивидуальностью. Но вряд ли он объяснил, почему подавленная сексуальность не приводила к таким последствиям ранее.
Эрих Фромм, тоже воспитанный во фрейдистской традиции, но предпочитавший более широкий философский анализ, в 1941 г. утверждал, что авторитаризм связан с глубоким чувством человеческого одиночества. Оно возникает в связи с распадом традиционных связей (родовых, общинных, подданнических и т.д.), а потому попробовавший свободы человек ради обретения психологической устойчивости готов бежать от своего «я» к авторитету, вовлекающему его в новую общность, где можно ощущать патернализм вождя и плечо соседа.
Экономист Фридрих фон Хайек в 1944 г. подошел к проблеме несколько с иной стороны. Он проследил, каким образом идеи коллективизма стали постепенно доминировать в интеллектуальной атмосфере Европы, вытеснив столь существенные для XIX века ценности индивидуализма. Он показал, как либерализм с его опорой на зрелость человеческой личности оказался неконкурентоспособен в условиях, когда неготовые к критическому анализу реальности массы требовали для себя немедленного счастья.
К 1950 г. Теодор Адорно с группой коллег завершил первый в мировой практике социологический анализ проблемы. Проведя глубинное интервьюирование нескольких групп американцев, он доказал, что значительная склонность к авторитаризму имеется даже у граждан страны, отличающейся наиболее устоявшимися демократическими традициями. При этом Адорно определял авторитаризм через целую совокупность переменных, каждая из которых отражала некую психологическую или социальную черту.
Опираясь на все эти исследования, мы можем сказать, что в России сегодня существует не гражданское общество, управляемое посредством демократических институтов, а именно авторитарное. Россия вовсе не движется от демократии к авторитаризму, как может показаться на первый взгляд. Она пребывает в этом состоянии уже достаточно долго. И лишь эйфория первых пореформенных лет не давала нам трезво взглянуть на суть сложившейся в стране политической системы. Теперь же наступает время взвешенных оценок.
Трезво взглянув на наше недавнее прошлое, мы обнаружим, что каждый раз голосовали за человека, которому по каким-то причинам верили, а не за того, кто убедил нас в истинности предлагаемого им пути. Путин лишь подхватил знамя авторитаризма, выпавшее из ослабевших рук его предшественника, и снова замахал им у нас перед носом.
Через авторитаризм прошли в разное время самые разные народы. В том числе и те, которые имеют сегодня развитую демократию и эффективно работающий рынок. Смущаться этого этапа взросления нашего общества не стоит: пройдем через него — доберемся до демократии. Однако нам не может быть безразлично то, каким конкретно образом проходит страна через систему авторитарной власти.
Если в стране типа современной России, где еще не сформировалось гражданское общество, отсутствует авторитаризм, то пустоту заполняет отнюдь не демократия, а борьба слабеньких, «недоношенных» властей, каждая из которых претендует на то, чтобы вырасти во власть авторитарную. Фактически подобная ситуация оказывается ситуацией двоевластия или даже троевластия, что тождественно безвластию. Когда силы участников схватки примерно равны, их «разборка» может перерасти в гражданскую войну. Или, по крайней мере, в массовый террор. История знает множество подобных примеров.
В конечном счете победитель приобретает всё. И его навязанная обществу в кровавой схватке власть чуть раньше или чуть позже становится авторитарной. Таким образом, проблема современной России со времен горбачевских реформ состояла отнюдь не в том, чтобы избежать авторитаризма. Сделать этого мы всё равно не смогли бы. Проблема была в том, чтобы построить авторитарную власть с наименьшими потерями. Ведь механизм установления авторитаризма Ельцина существенно отличался от механизма установления авторитаризма Ленина. Да и переход от Ельцина к Путину никак не напоминал переход от Ленина к Сталину.
Хосе Ортега-и-Гассет — философ, культуролог:
«Человек массы видит в государстве анонимную силу и, так как он чувствует себя тоже анонимом, считает государство как бы "своим". Представим себе, что в общественной жизни страны возникают затруднения, конфликт, проблема; человек массы будет склонен потребовать, чтобы государство немедленно вмешалось и разрешило проблему непосредственно, пустив в ход свои огромные, непреодолимые средства. Вот величайшая опасность, угрожающая сейчас цивилизации: подчинение всей жизни государству, вмешательство его во все области, поглощение всей общественной спонтанной инициативы государственной властью, а значит, уничтожение исторической самодеятельности общества, которая в конечном счете поддерживает, питает и движет судьбы человечества».
(Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. - М.: ACT, 2003. С. 110)
Эрих Фромм — философ, психолог:
«Одиночество, страх и потерянность остаются; люди не могут терпеть их вечно. Они не могут без конца терпеть бремя "свободы от"; если они не в состоянии перейти от свободы негативной к свободе позитивной, они стараются избавиться от свободы вообще. Главные пути, по которым происходит бегство от свободы, — это подчинение вождю, как в фашистских странах, и вынужденная конформизация, преобладающая в нашей демократии. <...> Отказ человека от свободы <...> никогда не возвращает человека в органическое единство с миром, в котором он пребывал раньше, пока не стал "индивидом", — ведь его отделенное уже необратимо, — это попросту бегство из невыносимой ситуации, в которой он не может жить дальше. Такое бегство имеет вынужденный характер — как и любое бегство от любой угрозы, вызывающей панику, — и в то же время оно связано с более или менее полным отказом от индивидуальности и целостности человеческого "я". Это решение не ведет к счастью и позитивной свободе; в принципе оно аналогично тем решениям, которые мы встречаем во всех невротических явлениях. Оно смягчает невыносимую тревогу, избавляет от паники и делает жизнь терпимой, но не решает коренной проблемы и за него приходится зачастую расплачиваться тем, что вся жизнь превращается в одну лишь автоматическую, вынужденную деятельность».
(Фромм Э. Бегство от свободы. - М.: Прогресс, 1989. С. 118, 123-124)
Фридрих фон Хайек — экономист, философ:
«Социалисты все чаще начали использовать лозунг "новой свободы". Наступление социализма стали трактовать как движение из царства необходимости в царство свободы. Оно должно было принести "экономическую свободу", без которой уже завоеванная политическая свобода "ничего не стоит". Только социализм способен довести до конца многовековую борьбу за свободу, в которой обретение политической свободы является лишь первым шагом.
Следует обратить особое внимание на едва заметный сдвиг в значении слова "свобода", который понадобился, чтобы рассуждения звучали убедительно. Для великих апостолов политической свободы слово это означало свободу человека от насилия и произвола других людей, избавление от пут, не оставляющих индивиду никакого выбора, принуждающих его повиноваться власть имущим. Новая же обещанная свобода — это свобода от необходимости, избавление от пут обстоятельств, которые, безусловно, ограничивают возможность выбора для каждого из нас, хотя для одних — в большей степени, для других — в меньшей. Чтобы человек стал по-настоящему свободным, надо победить "деспотизм физической необходимости", ослабить "основы экономической системы".
Свобода в этом смысле — это, конечно, просто другое название для власти и богатства. <...> Требование новой свободы сводилось, таким образом, к старому требованию равного распределения богатства. Но новое название позволило ввести в лексикон социалистов еще одно слово из либерального словаря, а уж из этого они постарались извлечь все возможные выгоды. И хотя представители двух партий употребляли это слово в разных значениях, редко кто обращал на это внимание и еще реже возникал вопрос, совместимы ли в принципе два рода свободы. Обещание свободы стало, несомненно, одним из сильнейших орудий социалистической пропаганды, посеявшей в людях уверенность, что социализм принесет освобождение».
(Хайек Ф. Дорога к рабству. - М.: ACT, 2012. С. 65)
Теодор Адорно — философ, социолог:
«Аргумент о том, что фашистская пропаганда обманывает людей, обещая им изменить их судьбу к лучшему, влечет за собой вопрос: "А почему, собственно, так легко позволяют себя обманывать?" По-видимому, потому, что это соответствует структуре их характера; потому, что несбывшиеся желания и ожидания, страхи и беспокойства делают людей восприимчивыми по отношению к одним и резистентными по отношению к другим убеждениям. И чем больше уже имеющийся в народных массах антидемократический потенциал, тем легче задача фашистской пропаганды <...>
Раболепное подчинение внешним силам, возможно, обусловлено неудачей в формировании внутреннего авторитета, совести. Согласно другой гипотезе, авторитарное раболепное подчинение обычно является выходом, позволяющим управлять амбивалентными чувствами по отношению к лицам, обладающим властью; подсознательные враждебные и бунтарские импульсы, сдерживаемые чувством страха, приводят индивида к чрезмерному почтению, послушанию и чрезмерной благодарности и т.п. <...>
Авторитарно настроенную личность заставляет направлять свою агрессию против чужих групп внутренняя необходимость. Она делает это не столько из-за незнания причин своего разочарования, сколько вследствие своей психической неспособности выступить против авторитета своей группы».
(Адорно Т. Исследование авторитарной личности. - М.: Серебряные нити, 2001. С. 25, 56-57)
Полуторапартийная модель
Если мы признаем, что авторитарная власть имеет в своей основе народные чаяния, а не просто злую волю правителей, то принципиально иным образом придется взглянуть на вопрос о переходе к демократии. Бессмысленно ругать, скажем, президента за то, что он не доверяет парламенту и тянет «одеяло власти» на себя. Парламент в авторитарном обществе всё равно не может быть инструментом демократии. Он станет либо послушным слугой авторитаризма, либо механизмом расшатывания власти с последующим формированием на ее руинах нового авторитаризма, представленного уже иной командой.
Это, впрочем, не означает, что между гражданским обществом и авторитарным существует «китайская стена». На самом деле они проникают друг в друга. В авторитарном обществе всегда есть элита, мыслящая ценностями общества гражданского. А в странах победившей демократии сохраняется немало людей, постоянно стремящихся сотворить себе кумира. Движение от авторитаризма к демократии — это медленный процесс, в ходе которого уменьшается число представителей старого менталитета и увеличивается число представителей менталитета нового. Поскольку авторитаризм в разных обществах имеет различную базу, он сам оказывается вынужден приспосабливаться к меняющимся условиям, постепенно «обволакивая себя» всё более ярко выраженными демократическими формами. Можно выделить несколько различных типов авторитаризма, известных истории.
Во-первых, это авторитаризм короны. Целый ряд реформ в прошлом был осуществлен под прикрытием королевской (царской, императорской) власти. Среди них аграрные реформы Иосифа II в Габсбургской монархии и Александра II — в российской, комплекс аграрных, финансовых и таможенных преобразований в Пруссии при Фридрихе-Вильгельме III, а также революция Мэйдзи в Японии.
Во-вторых, это авторитаризм вождей, захвативших власть неконституционным путем (порой посредством переворота), а затем использовавших ее для коренного реформирования своих стран. Так поступали, например, Наполеон I и Наполеон III во Франции, Пиночет в Чили, Ататюрк в Турции. Характерно, что это был именно авторитаризм, поскольку реформаторы не просто сидели на штыках, а пользовались поддержкой значительной части общества.
В-третьих, это авторитаризм политиков, пришедших к власти абсолютно законным путем, но использовавших свою харизму для того, чтобы провести болезненные реформы, не осуществимые при слабом режиме. Среди многочисленных примеров — правление Бориса Ельцина в России, Леха Валенсы в Польше, Альберто Фухимори в Перу, Карлоса Менема в Аргентине, Ли Куан Ю в Сингапуре.
В-четвертых, это авторитаризм партии, которой удается в условиях конституционного правления десятки лет сохранять монополию на власть. Она передается от одного лидера к другому, но благодаря особым механизмам работы с избирателями не уходит из рук данной политической структуры. Именно этот тип авторитаризма, внешне представляющегося демократией, нас интересует особо.
Данный тип авторитаризма является в основном детищем второй половины XX века. Используем три наиболее ярких примера, взятых из различных частей планеты (можно даже сказать, из различных цивилизаций).
Жесткий авторитарный режим в Японии, приведший к эскалации милитаризма, завершившегося трагедиями Хиросимы и Нагасаки, не мог быть полностью демонтирован после Второй мировой войны. Хотя генерал Макартур, возглавлявший американскую администрацию, стремился внедрить у японцев демократию, ему удалось построить лишь парламентарный каркас. В рамках этого каркаса на протяжении послевоенного периода (с небольшими перерывами) у власти находилась Либерально-демократическая партия, которая, как правило, имела в парламенте абсолютное большинство, а иногда использовала союз с младшими партнерами.
Режим Муссолини в Италии тоже не мог быть просто отправлен на свалку истории вслед за своим основателем. Итальянцы были не слишком ориентированы на либеральные ценности. Коммунисты и социалисты набирали на выборах порой более 40% голосов, но реально власть на протяжении десятилетий не уходила из рук христианских демократов, которые, правда, в отличие от японских либерал-демократов, не имели абсолютного парламентского большинства, а потому постоянно вступали в альянсы. Система доминирования христианских демократов рухнула лишь в 1990-х гг., когда выяснилось, насколько сильно эта партия коррумпирована.
Менее удачливым, хотя чрезвычайно похожим по форме, был режим в Мексике, установившийся еще на рубеже 1920—1930-х гг. после тридцати пяти лет жестокой диктатуры генерала Порфирио Диаса и долгих кровопролитных революционных сражений. Президенты с тех пор представляли только одну — Институционно-революционную — партию. Внешне она демонстрировала чуть ли не марксистскую ориентацию, тогда как на практике обеспечила стране стабильное капиталистическое существование. Правда, в отличие от Японии и Италии, экономического чуда не получилось. Тем не менее Мексика смогла привлечь в экономику крупный капитал из США, создать рыночное хозяйство и, в конце концов, демократизироваться.
Для обеспечения авторитарного правления одной партии в Японии, Италии и Мексике использовались различные методы, но все они так или иначе были связаны с воздействием на традиционное сознание значительной части общества.
В Италии огромную поддержку христианским демократам оказывали католические священники, пользовавшиеся на юге непререкаемым авторитетом. В Японии с феодальных времен сохранилась жесткая система личных связей, которая позволяла шести-семи договорившимся между собой группировкам собирать миллионы голосов. Что же касается Мексики, то трудно переоценить роль поддерживающейся там десятилетиями квазиреволюционной мифологии.
Все эти режимы отличались разгулом мафии и чудовищной коррупцией, которая неизбежно возникает при всякой монополизации власти. И тем не менее трудно отрицать тот факт, что они добились успехов, а также служили на протяжении десятилетий своеобразной школой демократии для народов, долгое время вообще не знавших, как можно править посредством проведения выборов, а не посредством использования кнута и пряника.
«Полуторапартийные» модели (как принято их иронично называть, поскольку все остальные партии, кроме правящей, тянут в совокупности лишь на половинку серьезной политической силы) во многих отношениях проявили себя лучше, чем откровенные диктатуры. В определенном смысле можно, наверное, говорить о том, что полуторапартийная форма авторитаризма является высшей его стадией, непосредственно предшествующей переходу к демократии.
Егор Гайдар:
«Альтернативный (авторитаризму. — Д. Т.) способ решения проблемы политической стабильности — формирование "закрытых", или, что то же самое, "управляемых", демократий. Это политические системы, в которых оппозиция заседает в парламенте, а не сидит в тюрьме; регулярно проводятся выборы; нет массовых репрессий, существует свободная пресса, если это не относится к средствам массовой информации, имеющим выход на общенациональную аудиторию, и правительство можно критиковать не только на кухне, но и на улице, в газетах, в парламенте. Нет пожизненного диктатора, политическая элита договорилась о механизмах регулярной передачи власти. Примеры таких режимов известны: это Мексика на протяжении десятилетий после революции, Италия после Второй мировой войны и до конца 1980-х годов, Япония того же периода. Есть все видимые элементы демократии, за одним исключением — исход выборов предопределен, от избирателей ничего не зависит. Гражданин может думать, что угодно, но на выборах победит Либерально-демократическая партия Японии, она же сформирует правительство. В Мексике преемником президента станет тот, кого он сам выбрал и, как правило, назначил министром внутренних дел. В течение многих лет мексиканская и японская системы правления рассматривались в качестве примера для подражания во многих государствах Латинской Америки и Азии. Именно неспособность обеспечить устойчивое функционирование такой системы нередко становилось базой формирования откровенно авторитарных режимов. Развитие событий в России на протяжении последних лет позволяет предположить, что значительная часть политической элиты именно такую организацию политического процесса считает образцовой или, по меньшей мере, пригодной для России на ближайшие десятилетия».
(Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. - М.: Дело, 2005. С. 640-642)
Владимир Гельман:
«Если бы кремлевские политические стратеги — от Владислава Суркова до Вячеслава Володина — могли бы выбрать в качестве образца для России страну, политический режим которой идеально подходил бы для сохранения одними и теми же правящими группами власти на протяжении длительного времени, то они, скорее всего, предпочли бы Мексику. Именно здесь доминирующая Институционно-революционная партия (PRI) удерживала свое господство свыше семи десятилетий, с 1929 по 2000 гг. При этом одни президенты меняли других, а сама Мексика много лет вполне устойчиво и успешно развивалась в экономическом плане. И все же ветер перемен достиг и этой страны. Она прошла свой долгий путь к демократизации. <...>
Какие уроки наша страна может извлечь из мексиканского опыта? Во-первых, он говорит о том, что режимы с доминирующей партией куда более устойчивы, чем персоналистские диктатуры: президенты могут меняться, а элиты способны сохранять власть. Проблема, однако, состоит в том, что такой механизм управления редко создается "по заказу": опыт Мексики во многом остается исключением, подтверждающим правило. Во-вторых, мексиканская история показывает, что ключевую роль в смене режима играет ответственная и дееспособная политическая оппозиция, которая обеспечивает передачу власти и меняет правила игры. Но для этого оппозиция должна быть готова к сотрудничеству поверх идеологических барьеров. Она должна опираться на широкую поддержку самых разных социальных групп и искать лидеров, способных завоевать доверие общества. В-третьих, мексиканский опыт говорит о том, что поэтапная демократизация страны оказывается наиболее эффективным решением, которое позволяет не только минимизировать политическое насилие, но и дает шанс правящим группам режима. Однажды лишившись власти, они затем вновь могут найти свое место в политике в условиях демократии».
(Гельман В., Добронравии Н., Колоницкий Б., Травин Д. Политический кризис в России: модели выхода. - СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. С. 22, 29)
Каждой твари по паре
Мысли, изложенные выше, пришли мне в голову не сегодня, а еще в самом начале 2000-х гг. Я неоднократно излагал их в прессе, включил в одну из своих книг. При написании тех, уже довольно давних текстов, мне представлялось, что в России постепенно формируется полуторапартийный режим, который со временем станет напоминать политические системы, существовавшие в свое время в Мексике, Италии и Японии. Я по-прежнему убежден в том, что авторитаризм в целом и полуторапартийность в частности есть порождение народных масс, но вот вопрос о развитии полуторапартийности в сегодняшней России, похоже, приходится коренном образом пересмотреть.
Если бы мои старые представления действительно подтвердились, то можно было бы сказать, что Россия в целом движется по тому же пути, по которому приходили к демократии другие страны. А наше отставание связано с тем, что мы позже начали да к тому же столкнулись с особенно сложными препятствиями, включая многолетнее господство тоталитарной коммунистической идеологии.
Однако Россия сегодня не приближается даже к полуторапартийной модели. Партия власти напоминает, скорее, КПСС, чем Христианско-демократическую партию Италии, Институционно-революционную партию Мексики или Либерально-демократическую партию Японии. Сразу оговорюсь, напоминает не идеологически (тоталитаризма в сегодняшней России нет), а организационно.
Во всех полуторапартийных режимах власть восходила снизу вверх, образуя своеобразную пирамиду. Политический лидер опирался на партию власти и управлял страной с ее помощью. Пусть даже политических конкурентов там маргинализировали, но маргинализировать собственных партийцев было нельзя. Без них система теряла управляемость.
У нас же система существует благодаря личной харизме Путина. Партия власти ничего собой не представляет без вождя, или, как его стали у нас называть, национального лидера. Ни одна проблема страны, хоть сколько-нибудь угрожающая стабильности режима, не решается с помощью функционеров «Единой России». Она либо решается самим Путиным, либо его светлым образом, либо не решается вообще.
Настоящий режим с доминированием одной партии функционирует совсем по-другому. Партия власти становится инструментом разрешения или смягчения противоречий, объективно существующих в обществе. Пусть это разрешение или смягчение не столь эффективно, как при многопартийности, но всё же имеет место. Партия власти вбирает в себя представителей различных социальных сил, переваривает их и создает механизмы, предохраняющие страну от острых кровопролитных конфликтов.
В любом обществе существуют работники и предприниматели, либералы и клерикалы, регионалы и федералы, студенты и силовики, аграрии и промышленники, производители и потребители, националисты и глобалисты, экологисты и матерые товаропроизводители, загрязняющие природную среду всякой дрянью в интересах роста валового продукта. Внутри отдельных групп всегда есть подгруппы. Среди регионалов имеются представители различных регионов. Среди клерикалов встречаются представители различных конфессий. Среди силовиков существуют представители армии, полиции, спецслужб. Во всей этой пестрой компании возникают противоречия. И чем более развито общество, тем больше в нем существует групп интересов, а значит, более сложной является картина постоянно переплетающихся противоречий.
В многопартийных системах партии и общественные организации представляют все эти интересы и согласуют их тем или иным образом в парламентах. Если же вместо многопартийной системы сложилась полуторапартийная, парламент перестает быть местом для дискуссий, но задача согласования интересов отнюдь не снимается с повестки дня. Она просто переносится внутрь партии власти. Или, точнее, одна из партий становится партией власти именно потому, что вбирает в себя те элиты, которые выражают общественные интересы.
С одной стороны, партия дает представителям элит порулить страной и получить некоторую долю ресурсов для использования в собственных интересах. С другой стороны, партия требует от инкорпорированных элит обеспечения лояльности тех общественных групп, которые они представляют. Проще говоря, хочешь поручить — поработай на систему. Не будешь работать — система развалится, и рулить на твое место придут другие. Эти другие в итоге и станут элитой, тогда как люди, не способные никого представлять, элитой быть перестанут.
«Единая Россия» является чем угодно, только не представителем многочисленных групп интересов нашего общества. Она относительно честно пыталась им стать, но не сумела. Формально в условной «партии власти» есть «каждой твари по паре»: профсоюзники и предприниматели, православные и мусульмане, ветераны и молодежь. Все губернаторы туда записались. Однако там нет влиятельных вождей, способных при необходимости разрешить конфликт и, соответственно, твердо отстаивающих интересы доверяющих им граждан.
Что же пошло не так?
В общем, выходит, что даже полуторапартийнуто демократию по-настоящему строить не с кем. Неудивительно, что правительство у нас с «Единой Россией» совершенно не считается. Ключевые министры согласуют свой курс с Путиным, а парламентариев лишь ставят перед фактом и для видимости принимают во внимание их мнение по мелочам. Так бы не было, если бы национальный лидер зависел от партии власти. Но когда партия является лишь приложением к национальному лидеру, именно так и получается.
Может, проблема в том, что настоящие демократические политики не нашли общий язык с Кремлем и вышли из игры? Увы, если бы они в свое время предпочли политическую проституцию политической смерти, то, по большому счету, ничего бы не изменилось. Касьянова или Явлинского можно было бы интегрировать в систему, однако беда в том, что они, как, впрочем, и Нарышкин с Мироновым, никого не представляют. А значит, уволить любого из них (как Лужкова, создававшего «Отечество», и Грызлова, долго возглавлявшего единороссов) или же оставить в элите — это вопрос личных взаимоотношений страдальца с Путиным, но отнюдь не вопрос национальной политики.
Вот здесь мы вплотную подходим, наконец, к вопросу о том, почему же в России элита не стремится формировать демократию хотя бы в урезанной, переходной, полуторапартийной форме. Вопрос о демократии — это на самом деле вопрос о том, почему у нас никто никого не представляет. Почему элита — сама по себе, а народ — сам по себе? Почему для успешной политической карьеры требуется не отражать интересы низов, а вылизывать соответствующие места у верхов?
Следует понять: что могло на протяжении последнего столетия качественным образом развести исторический путь России с историческими путями других европейских стран? Что в нашей истории было сделано совершенно не так, как у соседей? Что прервало нормальный ход развития?
Революция? Но революции так или иначе сыграли большую роль и в жизни других крупных европейских стран.
Административная экономика? Возможно. Но ведь как раз задачу возврата к рыночному хозяйству мы худо-бедно решили. Во всяком случае, с ним у нас меньше проблем, чем с абсолютно не формирующейся демократией.
Что остается? Ответ напрашивается сам. Массовые репрессии. Причем, что особенно важно, массовые репрессии среди элит.
Предвижу, что многие назовут меня русофобом, даже не дочитав до конца эту главу. Мол, из всех стран лишь в России автор нашел некую ущербность. Нет, ущербности много было в разных государствах Европы: геноцид в Германии и Турции, инквизиция в Испании, жестокость религиозных войн во Франции и т.д. Но, перефразируя Толстого, можно сказать: каждая несчастливая страна несчастлива по-своему. Иначе говоря, последствия геноцида, инквизиции и религиозных войн были не такими, как последствия массовых репрессий. В СССР «карающий меч революции» несколько раз обрушивался именно на элиту общества. Он отрубал голову всем партиям и общественным организациям. Как зародившимся до революции, так и сформировавшимся в недрах большевистской системы. Разрушалось всё, вплоть до структур, которых на самом деле даже не существовало, поскольку их нафантазировали следователи НКВД.
Профсоюзы перестали быть профсоюзами. Церковью стало управлять митрополитбюро. Армия потеряла даже остатки корпоративного духа. Народы, проявлявшие вольнолюбие, были переселены. А с ликвидацией частного бизнеса автоматически оказался снят с повестки дня вопрос о предпринимательских организациях и обществах потребителей.
При всех ужасах тоталитаризма и авторитаризма в других странах Европы, таких целенаправленных разрушений социальных структур не имелось нигде. И такие разрушения никак не могли пройти бесследно. Слабость демократических институтов в России связана отнюдь не с тем, что русские, мол, не предрасположены к демократии, а с особенностью исторического пути страны, с тем, что на определенном этапе развития именно по зарождающимся демократическим институтам был нанесен особо жестокий, целенаправленный удар, от которого невозможно быстро оправиться.
Многопартийная или даже полуторапартийная системы должны согласовывать различные интересы общества. Но их невозможно согласовать, если нет структур и элит, которые их выражают. Как ни строй партию — получится КПСС, то есть организация, состоящая, с одной стороны, из номенклатуры, не выражающей ничьих интересов, а с другой — из простых партийцев, на жизни которых наличие партбилета в кармане почти никак не сказывается. Стабильность общества существует отнюдь не благодаря номенклатуре. Наоборот, номенклатура смогла обособиться, поскольку стабильность поддерживается иными методами — идеологическими, силовыми или нефтедолларовыми.
Номенклатура быстро рухнула в 1991 г. по той простой причине, что для существования общества была совершенно не нужна. Но затем она столь же быстро возродилась, поскольку другой политической элиты в стране с разрушенной системой представительства интересов возникнуть не может.
То есть, конечно, некий человек — Иванов, Петров или Сидоров — может попытаться стать настоящим профсоюзным, религиозным или молодежным лидером. И может даже добиться некоторого успеха. Но в какой-то момент он окажется перед выбором. Либо власти его маргинализируют, используя все имеющиеся в их распоряжении административные, басманные и пиаровские рычаги, либо он войдет в состав номенклатуры, будет играть по правилам, предписанным Кремлем, и перестанет отражать чьи-либо интересы.
В этом смысле политическая система действует сегодня примерно так же, как в последние десятилетия советской власти, хотя, бесспорно, менее жестоко. Головы не рубят (убийство Немцова вряд ли представляло собой форму давления власти на оппозицию, поскольку возглавляемая им партия ПАРНАС была задавлена ранее), но структурам, уже разрушенным в годы репрессий, просто никак не дают восстановиться.
Немилостивые государи
Вспомним, с чего начиналась эта глава. «Милостивым государям» никак не удается вернуть свои дореволюционные позиции. А ведь с ними власть не борется, не навязывает своих «мужчин» и «женщин». Насколько же тяжелее вернуть утраченные позиции той системе представительства общественных интересов (на которой только и может строиться демократия), если власть аккуратно отсекает от масс (кнутом или пряником) всех работающих в этой сфере представителей элиты.
В принципе, система, в которой есть сложный клубок общественных интересов, но нет механизма их согласования, долго существовать не может. Она рассыпается и уступает место либо череде революций, либо череде военных переворотов, после которых система согласования интересов худо-бедно формируется.
Однако в наших сегодняшних условиях действуют два фактора, смягчающих остроту проблем. Во-первых, это приток нефтедолларов, позволяющий подкармливать тех, кто начинает выражать недовольство. Во-вторых, это телевизионная машина по промыванию мозгов, дающая возможность власти напрямую работать с обывателем, минуя посредников, которыми исторически во всех демократических странах были представители элит. Проще говоря, как только возникает некая проблема, власть вместо переговоров сразу лезет в кошелек (вспомним, например, знаменитую монетизацию льгот, осуществленную в 2005 г.), а затем проводит сеанс групповой психотерапии.
Если при такой ситуации всю «Единую Россию» посадить в космический корабль и отправить на Луну, в стране ничего ровным счетом не изменится. Тогда как в классических полуторапартийных системах общество без «партии власти» быстро начнет путаться в сложном клубке противоречивых интересов.
Почему Россия — не Польша
Пожалуй, единственной за последнее время попыткой определенной части элиты стать выразителем интересов общества, оказалось массовое протестное движение зимы 2011—2012 гг., вызванное фальсификациями на декабрьских парламентских выборах. За несколько месяцев движение сошло на нет, поскольку москвичи и петербуржцы, вначале активно выходившие на митинги, постепенно стали в них разочаровываться. Власть игнорировала требования протестующих. Она не учиняла разгонов, не применяла к участникам митингов массовых репрессий, но при этом не шла и на переговоры с лидерами.
Лидеры же протестов полагали, насколько можно сейчас судить, что власть должна вести с ними переговоры о перестройке политической системы по образцу знаменитого «Круглого стола» в Польше 1989 г., когда коммунистический режим был мягко трансформирован в демократию. Однако сравнение России 2011 г. с Польшей 1989 г. хорошо показывает, насколько различными были условия в этих двух странах. Польским властям действительно было о чем вести переговоры и было с кем их вести. Российские же власти просто возвышались над толпой протестующих, мнением которой вполне можно было пренебречь.
В самом начале 1980-х гг. по всей Польше развернулось массовое протестное движение. Организовано оно было значительно лучше, чем в России 2011—2012 гг. Поляки сформировали мощный профсоюз «Солидарность», пользовавшийся поддержкой церкви и интеллигенции. Фактически он превратился из организации, отстаивающей права рабочих, в серьезную общественно-политическую структуру. Вокруг «Солидарности» группировались люди как с правыми, так и с левыми взглядами, однако в своем противостоянии коммунистическому руководству страны они были значительно более сплоченными, чем нынешние российские оппозиционные активисты.
Фактически действия «Солидарности» представляли собой непрекращающийся марш миллионов. И тем не менее подавить оппозицию оказалось нетрудно. 13 декабря 1981 г. премьер-министр и министр обороны Польши генерал Войцех Ярузельский ввел военное положение, «Солидарность» запретил, а ее активистов отправил в места, не столь отдаленные, как Магадан, однако крайне неудобные для политического руководства оппозицией.
Если кто думает, будто сильная власть не может подавить многомиллионное оппозиционное движение, то он глубоко заблуждается. Польский пример показывает: может запросто. Другое дело, что это не решает сути проблем. Наоборот, усугубляет, поскольку власть, кардинальным образом разошедшаяся с обществом, оказывается неспособна к конструктивным действиям. Особенно в экономике — важнейшей сфере, от которой в долгосрочной перспективе зависит, станут ли поддерживать власть ее самые преданные сторонники.
Беда военного режима состояла в том, что польская экономика лежала в руинах. Во-первых, потому, что социалистическая хозяйственная система была неэффективной и порождала дефициты самых разных товаров. Во-вторых, потому, что забастовочное движение парализовало даже ту экономику, которая раньше худо-бедно работала.
Ярузельский, бесспорно, не был тупым охранителем. Он пытался осуществлять экономические преобразования по столыпинскому принципу «Сначала успокоение, потом реформы». Но генерал постепенно столкнулся с двумя проблемами.
Во-первых, общество не хотело принимать от непопулярной власти непопулярные меры. А без них экономику было не поднять. Многие это осознавали, но не стремились затягивать пояса ради укрепления режима Ярузельского. Другие же не понимали необходимости болезненных реформ, полагая, будто все трудности связаны с тем, что Польшей правит антинародная власть.
Во-вторых, коммунистические экономисты готовы были пойти лишь на половинчатые преобразования, уже продемонстрировавшие свою ограниченность в Венгрии и Югославии. Надо было осуществлять полную рыночную трансформацию, но к столь радикальным решениям власть оказалась не готова. То ли по причине некомпетентности, то ли из-за боязни грозного советского окрика, то ли в связи с собственной идеологической зашоренностью.
И вот получалось, что в ответ, скажем, на повышение цен вновь разворачивалось забастовочное движение, требовавшее компенсаций. А как только власть бралась за денежную накачку, так враз теряли смысл половинчатые реформаторские действия, поскольку прилавки пустели и стимулы переставали работать.
Постепенно и власти, и оппозиции, и широким слоям общества становилось ясно, что это убогое экономическое существование не может измениться без преобразований политических. А когда Горбачев дал волю «младшим братьям» Советского Союза, Ярузельский потерял моральные основания для сохранения своего режима. Наверное, он мог бы сидеть на штыках еще некоторое время, но делать это было крайне неудобно.
Похожа ли ситуация в современной России на Польшу 1980-х?
С одной стороны, наша экономика пока позволяет наполнять прилавки. Не стоит ожидать, что Путин будет испытывать неудобства со своими «штыками». Общественная поддержка Путина при всех известных фальсификациях значительно выше, чем та поддержка, которая была у Ярузельского.
С другой стороны, перед нами стоит угроза долгой экономической стагнации, в ходе которой Путин может столкнуться с протестом не только столичных интеллектуалов, но и широких слоев населения. При всей внешней прочности путинский режим внутренне чрезвычайно шаток. Он не может укрепить экономику. В этом смысле при всех различиях хозяйственных систем старой Польши и новой России социально-политические последствия могут оказаться схожими. Но будут ли схожими модели поведения власти и оппозиции?
Великий электрик
Почему варшавские власти нашли в оппозиции подходящего партнера для переговоров? Можно выделить несколько моментов, отличавших в этом смысле Польшу от тех стран, где власть и оппозиция годами не могут мирно договориться между собой.
Во-первых, в Польше существовало традиционно мощное рабочее движение, желающее и умеющее выступать против власти. Именно оно лежало в основе протестов 1980-х. Власть боялась не столько того, что на улицы Варшавы выйдут «травоядные» интеллигенция и студенты, сколько того, что рабочие судоверфей, шахт, металлургических, машиностроительных и текстильных предприятий прекратят работу. Более того, власти к началу 1980-х уже знали по прошлому опыту рабочего движения, что забастовки могут соединиться с погромами партийных комитетов, магазинов, общественных зданий.
Во-вторых, польская оппозиция была достаточно четко структурирована. Лидером профсоюза «Солидарность» стал гданьский электрик Лех Валенса. Это был яркий, харизматичный, хотя малообразованный и авторитарный по своим замашкам человек. Явные минусы в фигуре «великого электрика», как стали в шутку называть Валенсу, сочетались с явными плюсами, но главным было то, что власть четко понимала, кто ведет за собой многомиллионные массы. И, соответственно, в случае выхода на переговоры она знала, с кем их можно вести. Ведь нет никакого смысла о чем-то договариваться с лидерами оппозиции, которые примут на себя определенные обязательства, а потом вдруг скажут: простите, но народ нас не слушается. Валенса же мог до поры до времени убеждать широкие массы в том, в чем был убежден сам.
В-третьих, польским интеллектуалам во второй половине 1970-х гг. удалось установить дружественный контакт с рабочими. В тот момент, когда бастующим и репрессированным пролетариям понадобилась помощь (деньгами, советами, адвокатами), варшавские интеллектуалы Яцек Куронь и Адам Михник создали Комитет защиты рабочих. Этот комитет за несколько лет сделал достаточно, чтобы растопить лед недоверия и побудить верхушку «Солидарности» принять помощь интеллектуалов в деле осуществления реформ.
В-четвертых, большую роль в налаживании контактов между властью и оппозицией сыграла католическая церковь. С одной стороны, она обладала большим авторитетом в народе, значительно усилившимся с 1979 г. благодаря тому, что польский кардинал Кароль Войтыла стал римским папой Иоанном Павлом II. С другой стороны, церковь не ложилась под власть с целью получить как можно больше материальных благ, а серьезно интересовалась судьбой своей страны, стремясь содействовать формированию хотя бы относительного единства в расколотом на противостоящие группировки обществе.
В-пятых, само польское общество при всей его разобщенности постоянно помнило о важности национального единства. С одной стороны, это определялось многовековой трагической судьбой народа, который соседние великие державы делили между собой, как хотели. С другой — многолетняя зависимость от восточной тоталитарной державы культивировала миф о прекрасной Европе, в которую надо вернуться, отвергнув всё советское — административную экономику, коммунистическую диктатуру, всесилие промосковских спецслужб. Поляки не отвергали демократию как чуждую их культуре выдумку, а, напротив, полагали, что разрыв с европейской демократической традицией (помимо всего прочего) обусловил убогость той жизни, которой приходилось довольствоваться в 1980-х.
Среди польских оппозиционеров были как левые популисты из рабочих, так и экономисты — сторонники шокотерапии. Католические консерваторы перемежались там с приверженцами европейской толерантности. Политики, как огня боявшиеся советского «старшего брата», стояли в одном ряду с теми, кто главной угрозой для Польши традиционно считал Германию. Но в некий момент все сочли, что о разногласиях надо забыть до тех пор, пока не рухнет режим. И тогда режим действительно рухнул.
В сегодняшней России мы не имеем почти ничего из вышеприведенного списка польских условий формирования сильной оппозиции. Протест пока в основном ограничивался мирными демонстрациями благополучных столичных жителей. Рабочие и интеллигенция чужды друг другу. Лидеры оппозиции практически никогда не спускаются в пролетарскую среду. Церковь откровенно сервильна. И, наконец, российская идентичность, скорее, имперская, чем европейская. Для многих наших граждан воодушевляющими ценностями являются сохранение единой и неделимой России, жесткое противостояние американцам, укрепление вооруженных сил, а невхождение в объединенную Европу.
Соответственно, Кремль имеет возможность раскалывать оппозицию и играть на противоречиях ее отдельных частей. Вместо переговоров власть маргинализирует активную часть оппозиции, презрительно именуя ее лидеров бандерлогами. Они ведь не выражают реальных интересов широких групп населения и не способны, соответственно, этими группами управлять. Путин популярнее в народе, чем все лидеры оппозиции, вместе взятые, а потому в сложной ситуации он, избегая переговоров, пытается изыскать средства, которые позволили бы ему укрепить собственные властные позиции в известной нам перевернутой пирамиде.
Такого как Путин, чтобы не пил
При отсутствии системы выражения интересов механизм правления остается чисто персоналистским. Любит народ национального лидера — система стабильна, разочаровывается — наступают смутные времена. Формально наша политическая жизнь напоминает демократию, поскольку мы ходим на выборы и голосуем, но реально внешняя форма скрывает совершенно иное содержание. Страна, как говорилось выше, представляет собой перевернутую пирамиду: вместо опоры на широкие слои общества, имеющие свое представительство во власти, нынешняя Россия опирается на харизму одного человека.
Любовь народа к Путину стала быстро расти буквально с самого первого дня его прихода к власти. Все те годы, что он правит Россией (как премьер, как президент, снова как премьер и снова как президент), национальный лидер демонстрирует чудеса популярности. Успех этот объяснялся и притоком нефтедолларов, и мощным пиаром, и личной харизмой, и силовым устранением оппозиции, и наивностью обывателя, и массой других, более частных причин, каждая из которых в той или иной степени имеет место. Однако наряду с объяснением личного успеха Путина существует еще проблема интерпретации самого явления столь горячей любви широких масс к своему вождю.
Наш национальный лидер — далеко не первый в мировой истории вождь, сумевший снискать любовь миллионов на долгие годы. Однако в Европе феномен вождизма с годами уже фактически сошел на нет. Быстрое развитие экономики оказывается самым непосредственным образом связано с трансформацией политической культуры. При высоком ВВП на душу населения обыватель перестает быть однолюбом и начинает всё чаще выбирать себе кумира в соответствии с сиюминутными предпочтениями. Заповедь, согласно которой его не следует «сотворять», нарушается в современном демократическом обществе, наверное, столь же часто, как в авторитарных системах. Однако процесс сотворения построен совершенно по-иному.
В авторитарных системах кумир — это символ единства нации, мудрый правитель, спаситель отечества, которого миллионы граждан (а вернее сказать — подданных) наделяют идеальными качествами. Прямо как в популярной лет десять назад песенке двух девчушек, которые хотели иметь парня такого, как Путин: «Такого как Путин — полного сил, // Такого как Путин, чтобы не пил, // Такого как Путин, чтоб не обижал, // Такого как Путин, чтоб не убежал».
Естественно, такое «чудо», как символ, правитель и спаситель в одном лице, не подлежит регулярной замене в соответствии с политическим, экономическим или природным циклом. За вождя голосуют не руками, не головой и не желудком, а сердцем, и удерживают светлый образ героя в этом нашем самом аполитичном органе до тех пор, пока он (орган) не разорвется от огорчения. А разрывается сердце от огорчения не в связи с падением ВВП на энное число процентных пунктов, а по причине разочарования в той картине мира, которую символизировал правитель и спаситель. Проще говоря, если в душу народную закрадывается представление, будто «царь ненастоящий», кумир мигом свергается с пьедестала.
Ельцин хоть и избран был сердцем, но в силу известных особенностей своей широкой, неспокойной натуры не выдержал испытания, а потому был признан ненастоящим. Путин же ведет себя вполне по-царски. Отсюда и результат.
А как обстоит дело с кумирами в современном обществе потребления? Да в принципе, так же, как с костюмами или автомобилями. Их потребляют. Перестают рассматривать в качестве непреходящих символических ценностей, объединяющих и цементирующих общество. Подбирают в соответствии с индивидуальным вкусом и велением моды, используют годик-другой-третий, а затем выбрасывают или превращают в секонд-хенд.
В стабильном обществе, с социальными гарантиями и без серьезных потрясений, где блеск в глазах обретается посредством шопинга, а не с помощью построения баррикад, потребление кумиров становится процессом будничным, стандартным, полусонным. В этом сезоне кумир должен быть розовым в полоску. А в следующем — голубым в крапинку. Муж потребляет своего кумира при просмотре футбольного матча с пивом, а жена — за бокалом мартини во время демонстрации мод. Тинейджер в поисках кумира сбегает из дома на концерт, фанатирует и думает по молодости лет, будто обрел счастье на века. Старушка же сидит тихонько у камина с детективом и прекрасно понимает, что, как бы ни боготворила она сегодня автора, завтра десятки дешевеньких томиков пойдут на растопку, а их место в библиотеке займут книжки с сюжетом, закрученным принципиально по-иному. Ведь только новый кумир сумеет покорить ее сердце и разогнать скуку однообразного, унылого существования.
Кумир политический, бесспорно, имеет свое законное место в обществе потребления. Но, как любой другой товар, он знает свое место и не претендует на тотальность. Политик эффективно «продает себя» избирателю, однако не надеется стать ни символом нации, ни властителем дум, ни спасителем гибнущего человечества. В период предвыборной кампании он доминирует на рынке нематериальных ценностей, но после ее окончания быстро уступает место приехавшему на гастроли тенору. А дальше стартует Кубок мира, и внимание переключается на футболистов. К Рождеству эстафету принимает Санта-Клаус. К концу зимы уходит в мир иной великий артист, и общество на недельку реанимирует идола далекого прошлого. Но вскоре начинаются опять какие-нибудь выборы, и политический кумир занимает на месяц-другой свое законное место. Хотя, естественно, лишь в том случае, если вовремя меняет «розовое в полоску» на «голубое в крапинку».
В обществе потребления есть объективная основа для сотворения кумиров, но нет объективной основы для монополизации пьедестала. Это не значит, что тот или иной кумир будет обязательно поощрять конкуренцию за свой потом, кровью и пиаром завоеванный пьедестал. Попытки монополизации время от времени имеют место даже в обществе потребления. Однако сбывать потребителю залежалого кумира столь же сложно, как сбывать советскому человеку продукцию 25-й швейной фабрики имени кепки Ильича.
Нет-нет, человек общества потребления не выйдет на праведный бой за свое право выбора, не станет перекрывать баррикадами Латинский квартал. Он просто начнет приобретать кумира на черном рынке из-под полы. И в рыночной экономике именно этот кумир вскоре станет наиболее востребованным.
А теперь вернемся от этих общих размышлений непосредственно к России. Эпоха «путинского процветания» резко сдвинула нас из мира отчаяния и поиска спасителя в мир довольства и потребления. Более того, власть продолжает сама толкать нас в сторону активного потребления, поскольку довольство жизнью — одно из условий довольства национальным лидером. Таким образом, ради своего самосохранения власть активно толкает нас к системе дифференциации кумиров и к максимизации сиюминутного удовольствия.
В итоге создается чрезвычайно опасная для России ситуация. С одной стороны, объективно исчезают механизмы монополизации кумира, благодаря которым наша пирамида пока держится в перевернутом виде. Однако с другой стороны, не создаются системы представительства, способные поставить пирамиду в нормальное положение. Как сможет существовать страна, утратив одну систему, но так и не обретя иную?
Именно из-за подобного разрыва, а вовсе не из-за происков заокеанских сил, возникают обычно революции и майданы. Непосредственно их создает движение разочарованного народа снизу. Но общие условия нестабильности формируются теми властями, которые желают бесконечно существовать в системе перевернутой пирамиды по принципу: после нас — хоть потоп. «Сейчас, мол, я — кумир, — думает правитель, — а когда меня не станет, то пусть хоть вообще страны не будет». Вместо этого мудрый национальный лидер должен был бы создавать условия для постепенной трансформации объективно существующего пока авторитаризма в объективно необходимую всем нам демократию.
Но так поступает лишь мудрый правитель. У нас в России Кремль сегодня подобным образом не поступает. А потому риск развала государства остается полностью на его совести.
Глава 8. Особый путь для «непутевых».
До сих пор мы изучали нашу страну на широком международном фоне, демонстрируя, что и ресурсное проклятие, и авторитаризм не являются отечественной спецификой, а имеют широкое распространение в мире. Однако великий поэт Федор Тютчев нам завещал, как известно, что умом Россию не понять и уж тем более не измерить ее общим аршином. У Тютчева сегодня есть много идейных наследников, которые скажут, что все попытки проанализировать тонкости нынешнего российского пути не стоят бумаги, на которой изданы, поскольку страна наша обязательно пойдет особым путем. И доказательств тому никаких не нужно. «В Россию можно только верить».
С верой не поспоришь. Пытаться даже не буду. Многие полагают, что Запад идет одним путем, а Россия — непременно другим. И составляет особую цивилизацию. Евразийскую. Православную. Данные опросов о том, сколько людей так считает, сильно расходятся между собой, поскольку наш респондент, как правило, не задумывается, в чем состоит особость, и не может набросать для этого пути даже простенькую дорожную карту. Но истинной вере никакие размышления не нужны.
Размышления нужны для другого. Для того, чтобы понять, почему самые разные народы в какой-то момент считали, будто идут особым путем. Почему они были уверены, что все страны вокруг, как страны, а их страна — совершенно особая.
Для нас сегодня весь Запад на одно лицо. Лишь мы выглядим иначе. Тем удивительнее тот факт, что точно так же в свое время размышляли английские, французские, немецкие интеллектуалы и даже властители дум сравнительно малых европейских народов. Они тоже верили когда-то в свою уникальность и полагали, будто ни за что не станут похожими на соседей.
У всех это было, и у всех прошло. Размышления об особом пути появлялись, как правило, в тот момент, когда страна проходила через серьезные жизненные испытания. Когда само существование народа оказывалось под угрозой. Когда люди сами себе казались непутевыми. В такой ситуации поддерживающей и сплачивающей общество идеей становилась идея о том, что мы преодолеваем испытания не просто так, а ради великой цели. Ради вселенской миссии, которую поручил нам Господь или которая суждена нам природой. А раз именно мы оказались народом, избранным для выполнения великой миссии, значит, у нас особый путь. Все прочие страны живут обычной будничной жизнью, но мы живем жизнью особой, нестандартной. Жизнью не тела, а духа. Телом своим мы жертвуем, но духом своим спасаем творение Господа.
В разные времена у разных народов эта общая линия на формирование особого пути проводилась по-разному в зависимости от конкретного исторического пути и тех испытаний, которые на нем встречались. Кто-то больше страдал от оккупации, кто-то от гражданской войны, кто-то — от революции, а кто-то — от выходящих за обычные рамки экономических неурядиц. Но в каждом из описанных ниже примеров бросается в глаза определенное сходство с нашими национальными представлениями об особом пути.
Национальность Господа
Первый пример страны, полагавшей себя совершенно особой, — Португалия. В XVI XVII веках португальцы на время потеряли независимость, оказавшись в составе огромной испанской империи. И тут в их сознании стали происходить поистине удивительные трансформации.
Дело в том, что Португалия гордилась своим прошлым — формированием империи, великими географическими открытиями, завоеванием заморских территорий. Ведь все эти достижения были обеспечены чрезвычайно малыми силами, что свидетельствовало, как говорила мифология (оформленная в том числе и великим португальским поэтом Комоэнсом в его «Лузиадах»), о героизме и могуществе лузитан (португальцев). При этом по объему военных и финансовых ресурсов Португалия была несопоставима с Испанией. И не смогла ей успешно сопротивляться в трудный для себя момент.
Фактически встал вопрос о том, имеет ли Португалия право на существование или же это часть Испании наряду с Кастилией, Арагоном, Леоном, Эстремадурой, Андалусией, Галисией. И когда этот вопрос стал всерьез беспокоить общество, появилась своеобразная португальская теория особого пути.
Концепция была сформулирована в многотомном труде «Лузитанская монархия», публиковавшемся на протяжении более 130 лет. Монах Бернарду ди Бриту в первых частях повествования начал рассказ с тех времен, когда мир был еще лишь задумкой Господа. «Как выяснилось», создание Португалии входило изначально в замысел Бога. А из этого следовало, что существование независимой страны является не исторической случайностью, но составной частью Божественного плана по сотворению мира. Господь, согласно «Лузитанской монархии», лично спустился на землю, чтобы создать новое государство, и сам беседовал об этом с военным лидером Афонсу Энрикишем, который стал первым португальским королем.
В произведениях различных национальных авторов можно обнаружить, что португальские герои превосходят всех прочих в мировой истории, включая Александра Македонского, Траяна и т.д. «Нет на известной нам земле народа, которому все люди были бы обязаны больше, чем португальцам». А в одной книге 1631 г. встречается следующее «логическое» умозаключение: испанцы побеждают все другие народы. История показывает, что португальцы побеждали и испанцев. Значит, португальцы — самый храбрый народ на земле.
Подобная мифология была очень важна для эпохи испанского владычества. Возможно, именно она наряду с регулярно переиздававшейся поэмой Комоэнса во многом обеспечила восстановление португальского государства.
Примерно в ту же эпоху националистическая мифология развивалась и в Англии, хотя причины этого были несколько иными. Еще в середине XVI века из уст крупных деятелей церкви можно было услышать странные заявления о том, что у Бога есть национальность. «Господь — англичанин», — заявил, к примеру, будущий епископ лондонский Джон Эйлмер. Он призвал соотечественников благодарить Господа по семь раз на дню за то, что тот создал их англичанами, а не итальянцами, французами или немцами. «Господь со своими ангелами сражался на ее (Англии) стороне против чужеземных врагов», — напоминал епископ.
К концу XVI века появляются любопытные славословия в честь английского языка: «Итальянский язык благозвучен, но не имеет мускульной силы, как лениво-спокойная вода; французский — изящен, но слишком мил, как женщина, которая едва осмеливается открыть рот, боясь испортить свое выражение лица; испанский — величественен, но неискренен и ужасен, как дьявольские козни; голландский — мужественен, но очень груб, как некто, всё время нарывающийся на ссору. Мы же, заимствуя у каждого из них, взяли силу согласных итальянских, полнозвучность слов французских, разнообразие окончаний испанских и умиротворяющее большое количество гласных из голландского; итак, мы, как пчелы, собираем мед с лучших лугов, оставляя худшее без внимания».
Забавно, что через полтораста лет Михайло Ломоносов, соорудил похожее славословие в адрес русского языка: «Карл V, римский император говаривал, что ишпанским языком — с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях кратость греческого и латинского языков».
Англия не испытывала ужасов иностранного господства, как Португалия, однако режим Марии Кровавой, пытавшейся насаждать католичество после реформации Генриха VIII, сильно потряс общество. Об этом свидетельствует, в частности, «Книга мучеников» Джона Фокса — своеобразный мартиролог жертв кровавого режима. По оценке Лии Гринфельд — крупного исследователя национализма, это была самая влиятельная книга Англии XVI—XVII веков. «Идейный посыл книги, — отмечает она, — состоял в том, что Англия, находясь в согласии с Господом, оставалась верной истинной религии в прошлом и теперь вела мир к Реформации, ибо Англия была отмечена Богом. Быть англичанином фактически означало быть истинным христианином, английский народ был избран, выделен из остальных и отмечен Богом, сила и слава Англии была в интересах Его церкви, и победа Реформации была национальной победой. Такая идентификация Реформации с английскостью привела к тому, что папство стало считаться главным национальным врагом, а это подразумевало исключение английских католиков из членства в нации».
Не напоминает ли это известное современное выражение «русский — значит, православный». То есть если не православный — значит, не русский?
Еще более четко оформилось представление о том, что англичане избраны Господом для особой миссии, в середине XVII столетия, когда для страны настал чрезвычайно тяжелый момент. Рухнула монархия, общество оказалось расколото противоборствующими группировками. Именно в эпоху английской революции, когда народ испытывал чрезвычайные трудности, представление об отдельных особенностях нации стали постепенно трансформироваться в своеобразную теорию «особого пути». Как евреи времен Ветхого Завета имели особый договор с Богом, так и англичане времен восстания пуритан считали себя вторым Израилем, постоянно возвращаясь к этой метафоре в парламентских спичах и памфлетах, а также в церковных церемониях.
Англичанам приходилось преодолевать серьезные трудности в сравнении с другими более благополучными (как тогда казалось) народами. И необходимость принимать на себя муки компенсировалась в сознании глубоко верующих масс тем, что именно себя пуритане считали народом избранным, мессианским, призванным установить истинную церковь на земле взамен окончательно разложившейся римско-католической.
Загадочная славянская душа
Следующий пример — Польша. Начиналось польское мифотворчество с того, что в XV веке возникла идея происхождения шляхты от древних сарматов. Зафиксирована она, в частности, в знаменитых «Анналах» историка Яна Длугоша.
Сама по себе эта идея, в общем-то, не сильно отличалась от близких по духу многочисленных мифов о происхождении народов, распространенных в других странах (древние римляне, например, возводили себя к еще более древним троянцам). И пока Польша была сильна, значение мифотворчества не выходило за определенные рамки. Однако в XVII столетии ситуация стала резко меняться в худшую сторону. Целый ряд военных неудач поставил под сомнение существование некогда мощного государства. Страшные удары по полякам были нанесены в основном шведами (знаменитый «Потоп»), но и Россия активно расширялась за счет своего ослабевшего западного соседа.
На этом фоне в Польше сформировалась так называемая идеология сарматизма. Доминирующее положение католицизма привело к возникновению своего рода мессианизма. В сарматизме закрепилось представление об исключительной роли поляков в осуществлении Божественного промысла. Это отражалось, например, в убеждении, что сам Бог покровительствует Речи Посполитой. И потому среди шляхты пользовался популярностью миф о Польше как об оплоте христианства, убеждение, что именно Речь Посполитая призвана защитить христианский мир от его многочисленных врагов.
Кто встретил в XIII веке монгольские полчища, после того как они прокатились по русским землям, убивая людей, уничтожая города и сметая всё на своем пути? Польские воины. Кто стоял на пути крымских татар, совершавших постоянные грабительские вылазки с полуострова? Шляхтичи, населявшие украинские земли и сформировавшие там мощный защитный барьер от проникновения варваров. Кто вступал в кровопролитные сражения с надвигающимися с востока турками, в то время как Западная Европа спокойно развивалась и богатела? Польско-литовское государство — Речь Посполитая.
Более того, мессианские представления получили во второй половине XVII столетия (уже после «Потопа») серьезное фактическое подкрепление в связи с тем, что именно польский король Ян Собеский одержал победу над турками и остановил их продвижение на Запад, защитив, в частности, Вену. Польша действительно на некоторое время стала спасителем христианского мира, и это утвердило старое представление шляхты об особом предназначении страны.
Сербский миф об особом пути в некотором смысле противоположен мифу польскому. Поскольку Сербия долго находилась под турецкой оккупацией, сравнительно поздно обрела государственность и, увы, не смогла прославиться великими подвигами на земле, особый путь народа стал трактоваться как путь построения «Небесной Сербии» — величественной и лучезарной, которую образовали многие миллионы праведных сербов, достигнув тем самым цели, поставленной перед народом Господом.
На протяжении долгих лет страданий формировались представления, которые ярко отразил в XX веке Святой Николай Сербский (Николай Велимирович). Он писал, в частности, что ни один другой народ в мире так верно не служил Христу. Именно в этом, а не в земных деяниях состоит предназначение сербов. Какой иной народ так любит истину и так нелицемерно говорит правду? Какой иной народ построил так много храмов на Балканах? Какой иной народ не знал в своей истории борьбы между церковью и государством? У какого иного народа столь много правителей добровольно ушло от власти в монастырь?
Особые страдания, которые вынуждены были претерпеть сербы, согласно трактовке Св. Николая, являются признаком богоизбранности, «ибо кого Бог любит, того и наказует». Много мучились на своем веку и другие народы, но ни один не претерпел таких мук. Даже русские на треть не страдали, как сербы.
Особый путь для сербов — отнюдь не фигуральное выражение. Они даже могут его описать совершенно конкретно. «История сербов, — отмечал Св. Николай, — вся трагична. Путь народа ведет по опасной крутизне над бездной. Этим путем может пройти без страха лишь лунатик. Такие ужасы подстерегают на этом пути. Если бы сербы смотрели вниз, в пропасть, над которой бредут, они устрашились бы и скоро упали и пропали. Но они глядели ввысь, в небо, на судьбоподателя Бога, с верой в Него — и шагали бессознательно или едва сознавая, что делают. Поэтому они смогли преодолеть путь по отвесным скалам, каким ни один народ белой расы доселе не проходил».
А вот главный вывод, который делает Св. Николай: «Подобно тому, как Христос определил исключительно большую задачу своему любимому ученику — Святому Иоанну, так Он поставил большую задачу и сербскому народу, уготовав ему великую миссию меж ближними и дальними народами». Православным славянам и прочим православным народам предстоит спасти человечество. Опираться спасатели будут на Россию как самое мощное государство, но вооружаться им предстоит программой сербского народа.
Философия, предполагающая всемирную мессианскую роль сербов, по понятной причине скептически относилась к югославскому государству, сузившему масштабы деяний народа до малого региона. Но любопытно, что в социалистической Югославии после Второй мировой войны идея особого пути не исчезла, а трансформировалась, придав мессианству земное измерение. Югославы, ведомые сербами как самой большой нацией, полагали, что строят единственно правильный социализм, основанный на рабочем самоуправлении, а не на бюрократическом централизме, как это было в СССР. И, значит, рано или поздно все народы должны прийти именно к этой модели. Югославская экономическая модель оказалась совершенно уникальной. Она вдохновляла сторонников особого пути вплоть до момента развала Югославии.
Мы наш, мы новый мир построим
Понятно, что представления об особом пути XVII века имеют совершенно иную окраску, нежели представления XX—XXI столетий. Религиозный элемент у англичан играл несопоставимо большую роль, чем может играть сейчас, тогда как, скажем, популярных ныне рассуждений об особом пути в экономике, насколько известно, тогда не имелось. Однако в общих чертах ситуацию различных эпох роднит именно то, что на крутых поворотах истории в период распространения национализма народ поддерживает себя мифотворчеством, в котором говорит о своей особости, своих преимуществах по отношению к другим народам, кажущимся более благополучными и преуспевающими.
Во Франции подобные мессианские представления сформировались так же, как в Англии, в эпоху революции, но поскольку французская революция отстояла от английской примерно на полтора столетия, язык национализма оказался совершенно иным — светским и не содержащим никаких отсылов ко «второму Израилю» или к особому договору народа с Господом.
Стандартные предпосылки для формирования представлений, будто бы Франция — особая страна, превосходящая все иные, появились достаточно рано. «Франция — украшение всей земли, — писал еще в 1483 г. канцлер этой страны Жан Машлен. — Никакие другие страны не сравнятся с красотой нашей страны, плодородием ее почв, с ее животворным воздухом».
В XVI веке появлялись научные труды, в которых доказывалось, что французская культура, по крайней мере, равна античной и тогдашней итальянской, которая была наследницей античности. Но настоящее возвеличивание французами самих себя случилось в конце XVIII века, когда недавно еще преуспевающая страна вдруг оказалась в таком состоянии фрустрации, преодолеть которое удалось лишь с помощью мессианской идеологии.
Государство времен Великой французской революции находилось в глубоком экономическом и политическом кризисе. Хозяйство страдало от страшной инфляции, в городах не хватало элементарных продуктов, а власти увязли в бесконечных обсуждениях идей свободы, равенства и братства.
По мере усиления кризиса интеллектуальные дискуссии перерастали в кровавые стычки между самими революционерами. Завершались эти разборки массовыми репрессиями. Самое сильное (в недалеком прошлом) государство Европы ныне могло позавидовать любому соседу, живущему скучной, размеренной, однообразной жизнью. Более того, Франции угрожала иностранная интервенция, ставящая под угрозу само существование молодой нации. В этой ситуации элиту поразил тяжелый психологический кризис, выходом из которого стала невиданная доселе консолидация общества.
Постепенно у французов сформировалось представление о том, что страдание от собственных неурядиц есть на самом деле не что иное, как великое страдание во имя всего человечества. В христианской традиции, где Бог был распят на кресте и погиб ради искупления первородного человеческого греха, подобная трансформация идеи страдания была, наверное, вполне естественной. Франция ощутила себя «распятой» именно потому, что несла всему миру прогрессивные идеи свободы, равенства и братства. Как тонко заметил известный русский мыслитель Михаил Бакунин, «всякий французский работник, когда делает революцию, вполне убежден, что делает ее не только для себя, но для целого мира, и несравненно больше для мира, чем для себя».
При таком интеллектуальном повороте страдания сразу же стали осмысленными. Соперничество политических клик, неудачные денежные эксперименты, озлобление против вчерашних господ — всё это вдруг превратилось в элементы великой миссии, выпавшей надолго самого лучшего, самого передового народа Европы. Патриотический дух проник в сердце общества. Интервенция оказалась отбита. Более того французская революционная армия под звуки «Марсельезы» понесла революцию на своих штыках в соседние страны, где еще правили ненавистные тираны, отрицающие свободу, равенство и братство.
Впоследствии наполеоновская армия, несколько трансформировав ту же самую идею, несла Гражданский кодекс и буржуазные свободы туда, где еще доминировало обычное право, разбавленное феодальными установлениями. Для дворянской элиты Центральной и Восточной Европы Буонапарте являлся не кем иным, как узурпатором божественного права наследственных монархов. Но для французов, проникшихся национальной идеей избавления всего мира от тирании, узурпаторами были как раз наследственные монархи. А Наполеон стал авторитарным лидером, персонифицирующим дух нации, воплощающим в себе весь комплекс идей свободы, равенства и братства. О том, что в империи не осталось даже следов присутствия этой великой триады, народ, ощутивший собственное величие, задумываться, естественно, уже не мог и даже не хотел.
Французский особый путь выглядел как путь передовой нации, прокладывающей дорогу к свободе, равенству и братству для всего человечества. Французы не говорили, что мы, мол, другие, что мы не такие, как все. Они полагали, что являются самой развитой европейской нацией и их особость состоит в том, чтобы раньше других пройти по пути преобразований и помочь остальным народам встать рано или поздно на путь построения общества, избавленного от тирании.
Германский Sonderweg
В Германии в XIX веке эпоха становления национализма в полном смысле сформировала теорию особого пути (Sonderweg). Французский социолог Луи Дюмон отмечал, что «немцы выставляли и пытались навязать свое превосходство лишь потому, что они немцы, тогда как французы сознательно утверждали только превосходство универсальной культуры, но наивно отождествляли себя с ней в том смысле, что считали себя наставниками человеческого рода».
Германская концепция особого пути считается наиболее разработанной. Она во многом повлияла на российские взгляды в этой области, поскольку наши интеллектуалы XIX века часто обучались в германских университетах и испытывали на себе сильное влияние немецких философских воззрений.
Немецкие романтики еще в конце XVIII века готовы были провозгласить приоритет германского духа над материальными потребностями, характерными для других стран. «Не будет ли более предпочтительным такое государство, — вопрошал поэт Новалис, — где у крестьянина будет кусок черствого хлеба, а не кусок мяса, как в какой-нибудь другой стране, но он будет благодарить Бога за счастье родиться именно в этой стране?»
Знаменитый мыслитель Иоганн Готфрид Гердер в своей глобальной историософской концепции выделял немцев среди прочих народов как людей, отличавшихся «ростом и телесной силой, предприимчивостью, смелостью и выносливостью на войне, героическим духом, способностью подчиняться приказу и следовать за вождями». С точки зрения Гердера, они имели замечательные обычаи в смысле общественной организации (судебные, цеховые), что свидетельствует о «светлой голове и справедливом уме немцев. И если говорить о государстве, то их воззрения на общую собственность, на всеобщую воинскую повинность, на общую для всех свободу нации были великими, благородными принципами».
Впрочем, сам по себе романтизм такого рода не мог породить Sonderweg без воздействия внешних обстоятельств. Начало германскому движению к формированию представлений об особом пути было положено осенью 1806 г., когда Наполеон разбил прусскую армию, жестоко унизив тем самым немцев и заставив их всерьез задуматься о том, каким образом возродить государство, нацию и величественный национальный дух, которым еще столь недавно — скажем, во времена Фридриха Великого — принято было гордиться.
Через год после поражения (зимой 1807—1808 гг.) выдающийся немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте объявил в Берлине курс лекций, получивших название «Речи к немецкой нации». В них он определил немцев как совершенно особый народ, принципиальным образом отличающийся от других и в первую очередь от французов, которые несли по Европе «свободу, равенство, братство» и казались тогда многим истинными европейскими лидерами.
Фихте отметил, что только немцы говорят на живом, творческом немецком языке, тогда как, скажем, во французской культуре произошло смешение германских и романских начал, что, по сути, умертвило язык этого народа. Далее посредством замысловатых рассуждений мыслитель из особенностей языка сделал комплекс далеко идущих выводов. Он безапелляционно заявил, что только у народа с живым языком образуется такой специфический дух, который влияет на жизнь. Это определяет душевное богатство нации. А оно способствует прилежанию в делах и готовности к тяжкому труду, тогда как у народов, подобным богатством не обладающих (по-видимому, у поверхностных французов), формируется склонность идти на поводу у своей счастливой натуры. Наконец, из этого всего следует вывод, будто великий, трудолюбивый народ восприимчив к образованию, тогда как у других народов образованные сословия отделены от основного большинства и манипулируют им ради осуществления своих планов.
По Фихте, самый яркий пример высокой германской духовности и высокой степени слияния различных сословий — это германская реформация, осуществившаяся под руководством столь одухотворенной фигуры, как Мартин Лютер. В его время немецкие горожане были самыми образованными, тогда как прочие нации оставались варварами. За исключением жителей отдельных уголков Италии, которым, впрочем, от Фихте тоже сильно достается. В свободных городах Италии имели место постоянные мятежи, внутренние раздоры, даже войны, не говоря уже о сменах систем правления, тогда как в Германии царили мир, покой и единодушие. Причем вопрос о длительных религиозных войнах, начавшихся вскоре после призыва Лютера и дошедших до Тридцатилетней войны, унесшей миллионы немецких жизней, Фихте вообще не затрагивает.
В конечном счете выходит так, что немец, согласно концепции Фихте, это тот, кто верит в свободу, в возможность бесконечного исправления человека, в прогресс человеческого рода, тогда как у других народов с такой верой дело обстоит туговато. Понятно, что подобные представления хорошо воспринимались фрустрированной немецкой общественностью времен наполеоновского вторжения, пробуждали ее к активности, к поиску путей для возрождения нации. Концепция Фихте закладывала основы для формирования концепции особого пути Германии. Сама же эта концепция формировалась постепенно на протяжении долгого времени и впитывала в себя многие вопросы практического плана, возникавшие в процессе германской модернизации, сопровождавшейся, как и в других странах, трудностями перехода к капитализму — дифференциацией общества, нищетой, утратой традиционных ценностей.
Еще одним важным источником специфических представлений народа стала появившаяся вскоре после «Речей» Фихте книга «О Германии» мадам де Сталь. От нее пошло представление об особом характере германской культуры (понимаемой, естественно, в широком смысле), которое сумело стать для народа определяющим. Германия представлялась местным националистам неким духовным гигантом, возвышающимся посреди других европейских народов, погрязших в суете и тщеславии, в мелких повседневных заботах, связанных с функционированием рыночного хозяйства. Немцы же с их великой поэзией, музыкой, философией оказывались якобы совершенно чужды мелочам. Они выстраивали свое национальное бытие исключительно на великих идеях и на глобальных свершениях. Как древние греки в свое время считались образцом физического совершенства, так немцы теперь видели себя образцом совершенства духовного. Германия, по словам русского мыслителя Василия Розанова, поднялась против среднего европейского буржуа, «как сильный буйвол против выродившихся до собаки волченят», у которых нет больше «ни святых, ни героев, ни демонов и богов».
Как жалко ползают по земле все нации другие
Великий поэт Генрих Гейне писал: «Французам и русским досталась земля, // Британец владеет морем, // А мы — воздушным царством грез, — // Там наш престиж бесспорен. // Там гегемония нашей страны, // Единство немецкой стихии. // Как жалко ползают по земле // Все нации другие». Соответственно, французам этот владелец воздушного царства говорил, что все их революции ничто перед будущей немецкой революцией, которая завоюет полнейшую свободу и полнейшее равенство для всего мира.
В общем, все ползают, и лишь немцы парят. Германия стала противопоставлять себя абстрактно понимаемому Западу. Примерно так же, как считают сегодня многие в России, немцы рубежа XIX—XX веков считали Запад неким расплывчатым целым, отличающимся от Германии отсутствием духовных начал. Чтобы четко оформить это противопоставление, германские интеллектуалы стали использовать понятия «Цивилизация» и «Культура». На Западе, с их точки зрения, доминировала Цивилизация с ее борьбой за выживание, с ее эксплуатацией человека человеком, с ее бездумным использованием рынка.
В Германии же над ценностями Цивилизации превалировала Культура. Она предполагала формирование развитой, эффективной экономики без тех эксцессов, которые сопровождают развитие хозяйства в иных местах. Она предполагала духовное единство общества вместо войны всех против всех, социальную защищенность вместо вражды, наживы, корысти. «Цивилизация — это культура, утратившая душу», — резюмировал в наше время известный русский специалист по германской философии Арсений Гулыга.
Германия и впрямь пыталась сохранить если не душу, то, по крайней мере, национальную общность. Не случайно именно Отто фон Бисмарк первым в Европе добился больших сдвигов в деле создания систем социального страхования. Не случайно именно в Германии получило динамичное развитие картелирование крупного бизнеса. Не случайно именно Германия чрезвычайно активно защищала отечественного производителя от иностранной конкуренции. Все эти мероприятия, рассматриваемые порой как независимые, изолированные, на самом деле являлись элементами единой системы патерналистского государства.
У разных немцев в их национальном мировоззрении могла быть различная Культура. Кто-то видел величие Германии в творениях Гегеля, а кто-то в том, что в сравнении с французским рабочим немец защищен государством. На самом деле, защита была условной и в целом немец начала XX века оказывался даже беднее своего западного соседа. Но национальная идея живет всегда собственной жизнью, мало связанной с реальностью.
В Первую мировую войну немцы шли сражаться не только за своего кайзера. Они защищали германскую Культуру, германский образ жизни от «русских варваров» на Востоке и от «неправильной» цивилизации на Западе. Утвердив в сознании свое культурное превосходство над врагом, немцы тем самым компенсировали трудности становления рыночной экономики, нищету и убогость жизни, реально существовавшее неравноправие социальных слоев. Возможно, поэтому война была столь долгой и кровавой. Не все были пронизаны таким антивоенным настроением, как, скажем, хорошо известные нам герои Ремарка.
Например, социал-демократы, которые «по определению» должны были быть приверженцами пролетарского интернационализма, внезапно ощутили себя частью сражающейся нации. Один из них впоследствии писал: «Мы открыли глаза и вдруг приняли немецкое отечество. <...> Прежде рабочий видел в государстве своего врага. Теперь он стал чувствовать себя частью этого государства. <...> Это созидающее государство будущего, фундамент которого уже заложен, защищают теперь рабочие кровью своего сердца».
Не только простые немцы, но даже лучшие интеллектуалы Германии чувствовали себя представителями иного мира, нежели мир Запада. Социолог Макс Вебер считал, что культурная задача Германии и ее историческое предназначение состоят в том, чтобы не допустить господства американизма в мире. А граф Германн фон Кайзерлинг пояснял, что в Америке «человек вынужден развиваться не по образу и подобию Божию, а по образу и подобию промышленного предприятия», что «никто не забывает прежних “друзей” так быстро, как американец» и что «демократическое устройство в своей нынешней форме будет в наибольшей степени способствовать победе животного идеала».
Социолог Эрнст Трёльч называл воодушевление, вызванное Первой мировой войной, возвращением «веры в дух» — дух, который торжествует над «обожествлением денег», «нерешительным скепсисом», «поисками наслаждения» и «тупым раболепствованием перед закономерностями природы». Причем такого рода высказывания отражали мнение значительного числа немецких интеллектуалов. Так в самом начале войны более трех тысяч профессоров в коллективном письме выразили возмущение тем, что враги Германии (в первую очередь Англия) хотят противопоставить дух немецкой науки тому, что они называют духом прусского милитаризма.
Но ярче других об особом германском пути сказал в те годы писатель Томас Манн, которого принято вообще-то считать образцом европейского гуманизма XX века. «Никогда механически-демократическое государство Запада не получит у нас прав гражданства. <...> Демократия в западном смысле и вкусе нам чужда и является у нас чем-то переводным, она существует только в прессе и никогда не сможет стать немецкой жизнью и немецкой правдой».
«Созрели для демократии? Созрели для республики? — задается вопросами классик. — Какой вздор! Те или иные государственные, общественные формы либо подходят народу, либо не подходят». И дальше развертывается обоснование системы, которую кремлевский политтехнолог Владислав Сурков, наверное, назвал бы суверенной демократией, а Томас Манн именует народным государством.
Больше всего он боялся, что это народное государство поглотит в ходе войны обычная западная демократия, и потому писал: «День, в который фельдмаршал Гинденбург сбросит в море английский десант, навсегда отбив у этого народа охоту ступать на континент, станет важнейшим не просто немецким, а всемирным праздником». К счастью для мира, праздник этот не настал. Но после поражения Германия была оскорблена гигантскими репарациями и демилитаризацией рейнской зоны, в которую французы в 1923 г. еще и ввели свои войска. На этом фоне прогрессировали идеи национальной исключительности и реваншизма. В конечном счете дело дошло до торжества национал-социализма. Вторая мировая война являлась для немцев логическим продолжением Первой.
Идея особой германской Культуры трансформировалась в идею особой арийской расы. Конечно, эти две модификации принципа особого пути существенно отличались друг от друга и в некотором смысле даже были противоположны (нацисты, например, жгли на кострах многие из тех книг, которые составляли истинную гордость немецкой Культуры). Но думается, если бы идея национальной исключительности не сформировалась на рубеже XIX XX столетий, национал-социализм не имел бы в Германии таких прочных корней.
Путь императора
По мере того как модернизация распространялась с запада на восток, проблема особого пути стала отчетливо просматриваться в самых разных частях мира. Тем более что для неевропейских культур сформировать тезис о своей особости было по понятным причинам значительно проще. Первой в данном направлении двинулась Япония, причем сделала она это как раз тогда, когда совершила серьезный рывок в экономическом развитии — во времена революции Мэйдзи.
После 1868 г. — момента начала преобразований — общество там чрезвычайно сильно изменилось. Япония из государства, совершенно оторванного от европейской культуры (в том числе культуры хозяйственной), стала одним из экономических лидеров мира. Сменилось несколько поколений, и японцы оказались уже не самураями, отдающими жизнь за господина, а трудоголиками, отдающими всё время работе на хозяина. Подобная ломка не могла осуществиться безболезненно.
Кроме того, следует заметить, что Япония долгое время не только претерпевала трудности трансформации, но еще и испытывала мучительное чувство униженности по причине своей полной зависимости от Запада, имевшей место до 1868 г. и в первое пореформенное время. Тогда страна была совершенно беззащитна перед любым потенциальным агрессором, поскольку долгие годы изоляции обусловили ее серьезное техническое отставание. Огромных усилий стоило Японии сделаться серьезной в военном отношении державой, однако после атомной бомбардировки 1945 г. эта страна вновь оказалась в зависимости.
Словом, в силу как внутренних, так и внешних причин японцы долгое время ощущали себя в психологическом плане крайне неуютно. И вот нашлось своеобразное лекарство от фрустрации. Человек, постепенно терявший свои традиционные общинные связи, вынужден был в максимально возможной степени идентифицировать себя с императором, являвшимся живым воплощением прошлого и настоящего страны, эталоном морального совершенства. Идеология модернизирующейся Японии получила название «Путь императора» («кодо»).
В рамках этой идеологии японцы рассматривали свой путь как совершенно особый, уникальный, превращавший их благодаря священной особе императора в чрезвычайно сильную, успешную и величественную нацию. Пытаясь адаптироваться к переменам, Япония делала ставку на свою великую национальную культуру (быть может, вернее, на национальный дух), которая должна была отвергнуть все тлетворные учения Запада (от либерализма до коммунизма). Превосходство культуры определялось, как виделось обществу, превосходством самой японской расы.
В рамках представлений об особом пути японцы совершали и уникальные поступки. Своеобразным символом этого стало трагическое самоубийство знаменитого писателя Юкио Мисимы. 25 ноября 1970 г. 45-летний Мисима — блестящий интеллектуал, выпустивший не один бестселлер и многократно претендовавший на Нобелевскую премию, — явился в сопровождении четырех спутников на прием к командующему — генералу Масуде. Помимо своих романов, пьес и философских эссе Мисима был известен тем, что создал военизированную патриотическую организацию «Общество щита», где проходили физическую и нравственную подготовку порядка сотни молодых людей. Генерал с глубоким уважением принял знаменитого писателя, похвалил выправку его учеников и обратил особое внимание на длинный самурайский меч, который принес с собой Мисима.
Но не успели хозяин с гостем толком начать беседу, как случилось невероятное. Спутники Мисимы набросились на генерала, связали его, а затем забаррикадировали ведущую в кабинет командующего дверь. Все попытки находившихся в коридоре офицеров вмешаться в происходящее были парализованы угрозой убить генерала. Далее писатель выдвинул требование собрать солдат и обязать их выслушать речь, с которой он к ним обратится. В случае соблюдения условий эти странные террористы обещали освободить командующего.
То был невиданный до тех пор (да и после) пример своеобразного «духовного» терроризма. Писатель не требовал принятия политических решений, не настаивал на чьем-либо освобождении из тюрьмы. Он вообще не находился в оппозиции к режиму. Мисима лишь желал, чтобы его выслушали. Он надеялся привлечь внимание всей Японии к тем идеям, которые вынашивал годами и которые должны были, по его мнению, спасти страну от угрожающей ей катастрофы.
Выступление перед солдатами состоялось, но привлечь внимание так и не удалось. Все были возмущены захватом командующего. Гневные выкрики заглушали голос Мисимы. Никакие призывы к спокойствию не помогали. Речь пришлось быстро свернуть, и с возгласом «Да здравствует его величество император!» писатель ретировался с балкона. А затем произошло самое страшное. Сев на пол, Мисима взял обеими руками короткий самурайский меч и воткнул его себе в левый бок. Харакири не привело к немедленной смерти. Мисима истекал кровью, и друзья вынуждены были помочь ему завершить жизнь, отрубив голову, родившую множество страниц, ставших гордостью японской литературы.
Что же произошло? Судя по всему, Мисима хотел сформировать некий фантастический идеал, впитавший в себя позитивные черты, взятые как из героической национальной традиции, так и из прагматической японской действительности. Идеал, достичь которого невозможно, но и жить без которого крайне тяжело. Большинство тусклых людей в таком обществе всё же живет, даже если не разделяет его принципов. Но слишком яркий Мисима жить не стал.
Трудно понять, почему Мисима отдал жизнь за императора, выступив против той политической системы, которая этим же самым императором и возглавлялась, если мы не примем во внимание символический смысл, что вкладывался в фигуру лидера нации. Умирающий герой стремился вернуть императору его божественную сущность — ту сущность, которая делала народ сильным и выносливым, способным преодолевать бездуховность модернизации. Ту сущность, которая единственно делала народ народом.
Однако философия особого пути живет лишь до тех пор, пока востребована обществом. К 1970 г. Япония, ставшая по-настоящему развитой страной, перестала нуждаться в специфических духовных подпорках и отвергла призыв Мисимы. Точно так же расставались со своим особым путем и другие нации, использовавшие эту идеологию на определенном этапе развития. Постепенно расстается с особым путем и Россия. Но об этом — отдельный большой разговор.
Глава 9. Как мы не прошли особым путем
Утром, как обычно, Василь Иваныч надел итальянский костюм, сел в свой новенький «Мерседес» немецкой сборки и доехал до офиса, отремонтированного под евростандарт. По дороге, стоя в пробках, он быстро просматривал новости через айпад. На работе вплоть до обеда трудился за американским компьютером. Потом зашел в ресторан, где плотно откушал по системе «шведский стол», и затем до конца дня пребывал на заседании парламентской комиссии, обсуждавшей возможности размещения российских акций на лондонской бирже. В кофе-брейк он принял звонок от жены, отдыхавшей на Лазурном берегу во Франции, и к вечеру усталый, но довольный вернулся в свою квартиру, обставленную престижной испанской мебелью. Перед сном сдуру принял чашечку кофе с ирландским ликером и затем два часа ворочался, сильно перевозбудившись. «А все-таки Россия — это не Европа; пора переходить на квас», — подумал, наконец, засыпая, Василь Иваныч. Ночью ему снились соборность, духовность, самобытность и двуглавый орел над Святой Софией в Константинополе.
У нашего выдуманного, но весьма колоритного Василь Иваныча было много предшественников. Попытки построения концепции российского особого пути имеют долгую историю. Кризисные моменты в развитии страны постоянно оборачивались распространением в интеллектуальных кругах представлений, что мы — не такие, как все. Подобные представления, в свою очередь, формировали мессианские идеологии, охватывающие широкие массы. Однако идеологии эти трансформировались в соответствии с событиями, происходившими в России в конкретный момент времени.
В крови у нас есть что-то такое...
Когда представления о том, что Россия — особая страна, впервые стали пользоваться популярностью? Наверное, вскоре после краха восстания декабристов. В этот момент у многих интеллектуалов возникло ощущение, что не оправдались ожидания национального расцвета, пробужденные яркой картиной, нарисованной Карамзиным в «Истории государства Российского». Поражал контраст между величественным видом прошлого и убогими достижениями настоящего. И вот уже Петр Чаадаев в конце 1829 г. пишет печальные строки: «Внутреннего развития, естественного прогресса у нас нет. <...> В крови у нас есть что-то такое, что отвергает всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем лишь для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумного существования».
В общем, все люди как люди, а мы развиваемся особым способом. Со времен «Философических писем» Чаадаева на протяжении почти уже двух столетий пессимистические представления об особом пути выглядят примерно одинаково: Россия — не более чем пробел в порядке разумного существования. Подобные взгляды, кстати, являются не только уделом интеллектуальных кругов. Когда простой человек говорит, что немцы вкалывают, а наши лишь водку жрать горазды, он в меру своего понимания выражает примерно то же самое, что ранее в «философическом виде» сформулировал Чаадаев.
Но чаще широкие массы захватывают оптимистические, мессианские представления, согласно которым наш особый путь состоит не в том, чтобы преподать другим народам печальный урок, а в том, чтобы их спасти от какой-нибудь страшной напасти. Пессимистическая и оптимистическая трактовки проблемы особого пути являются двумя сторонами одной медали. Различие не в сути проблемы, а в том, что на один и тот же вызов люди различного психологического склада реагируют по-разному.
Удивительным образом даже у Чаадаева пессимизм во взгляде на прошлое сочетался с надеждой на то, что Россия в будущем каким-то волшебным образом ответит на «важнейшие вопросы, которые занимают человечество». Но если мечты Чаадаева были предельно абстрактны, то мыслители середины столетия стали формировать оптимистическую картину мира, где оказались аккуратно подогнаны друг к другу и прошлое, и настоящее, и будущее.
«Философические» мысли Чаадаева, отрывочные и несистематизированные, были проникнуты тоской, сомнениями, неуверенностью. Совсем иначе подошли к вопросу о месте России в европейском мире славянофилы. Они представляли собой целое интеллектуальное направление, которое, откликаясь на кризис старого мышления, сформулировало философскую базу для мышления нового.
Вряд ли можно говорить о том, что славянофилы уже сформулировали идеологию особого пути, поскольку массовый спрос на такого рода интеллектуальный продукт дали лишь 1860-е гг. Однако в философском плане панславизм пореформенной России опирался на те тезисы, которые ранее выдвинули славянофилы. Они прямо заявили, что славяне в сравнении с западными европейскими народами имеют собственные заслуги, которые можно понять, если расстаться со старыми традиционными мерками. В одних вещах мы отстали, зато в других имеем такие достижения, которые не снились даже каким-нибудь там германцам.
Скажем, в представлениях Алексея Хомякова (1854 г.) «норманны, бездомные, бессемейные и бездушные <...> разрушили старую Англию и перенесли в нее весь гнусный разврат и весь бесчеловечный быт, которому научились они во Франции и которому франки учили Европу». Зато у славян всё было по-другому. «Святыня семейная и чувства человеческие воспитывались простодушно между могилой отцов и колыбелью детей. Землепашество, трудами своими питающее мир, и торговля, предприимчивостью своей связывающая его концы, процветали. <...> Успешная борьба с финнами и сарматами не развратила славян, потому что святая война за родину не похожа своими последствиями на неправедную войну завоевателя. Северо-восток Европы ждал христианства».
Именно на эту идиллическую почву легло, согласно Хомякову, православие. «Из стен Византии, из горных монастырей, из малых семей славянских, уже принявших христианство, выступали кроткие завоеватели, вооруженные благовествованием веры. С радостной покорностью были они приняты в вольных общинах славянского мира. Из дома в дом, из области в область, на восток, на запад и дальний север шла проповедь Евангелия, торжествующая в духе любви и говорящая словом народным. Болгары и хорваты, чехи, моравцы и ляхи вступили в одно церковное братство. Беспредельная новорожденная Русь, связанная еще условным союзом единоначалия в дружине, получила в единстве веры семя жизненного единства, выраженного именем Святой Руси».
Чехи и ляхи, правда, потом от православного братства отпали. Соблазнились рационализмом римского мира. За это и пострадали, утратили независимость. Оказались поглощены страстями мира германского. Что же касается остального славянского мира, то он, по Хомякову, «не заклейменный наследственной печатью преступления и неправедного стяжания хранит для человечества если не зародыш, то возможность обновления».
Картина, нарисованная пером славянофилов, выглядит несколько странной и, скорее, художественной, чем научной. В титрах десятков сегодняшних кинофильмов о сильных, смелых, красивых, благородных славянах, отстаивающих свои земли перед лицом коварного врага, можно было бы написать: «Идея А.С. Хомякова». Такого рода кино пользуется ныне большим успехом в массах. И полтораста лет назад историософский подход славянофилов мог пользоваться потенциальным успехом среди людей, которым трудно было вписаться в реалии быстро меняющейся жизни. Однако при решении практических задач страны тексты славянофилов не требовались.
Пожалуй, единственным крупным мыслителем середины XIX века, желавшим поработать своим пером на власть, был Тютчев. В 1848 г., всколыхнувшем вдруг чуть ли не всю Европу, он написал на французском языке (!) текст «Россия и Революция», где сформулировал особую задачу нашей страны, которая одна только способна противостоять хаосу. Эта записка принесла Тютчеву европейскую известность, однако на Россию, надорвавшуюся в Крымскую войну и потерявшую способность противостоять революциям, никак не повлияла.
Любопытно, что в том же 1848 г. Михаил Бакунин предлагал спасти Европу прямо противоположным, чем Тютчев, способом, но тоже с помощью особой миссии великой России. В Москве должно было взойти «созвездие революции, которое станет путеводным созвездием всего освобожденного человечества, а огонь революции из славянского мира осветит всю Европу». Впрочем, бакунинский проект был тогда еще менее реальным, чем тютчевский.
Путь Достоевского
Для превращения милых фантазий об особом пути в работоспособную идеологию, воздействующую на массы, требовались новый духовный кризис, а также появление новых людей, способных переработать историософский материал соответствующим образом. И такие люди вскоре появились.
Вторым после поражения декабристов кризисным рубежом для формирования идеологии особого пути оказались великие реформы 1860-х гг. Пореформенная Россия стала совершенно иной. С одной стороны, в ней возникли условия для широкого распространения идей, ранее замкнутых в узких интеллектуальных кругах. С другой стороны, испытания, которым подверглась страна, вновь вызвали приступ пессимизма, поскольку большие ожидания разошлись с действительностью. Идеология особого пути была в данной ситуации своеобразным лекарством от пессимизма. Причем побочные действия этой «горькой пилюли» оказались не менее значимы, чем сам терапевтический эффект.
Представление об особом пути побуждало народ к действиям и помимо далекой стратегической цели указывало на цель практическую, сиюминутную, которой можно было достичь конкретными усилиями, гражданской доблестью, воинской смелостью и личным бескорыстием. В таком виде идеология стала сравнительно эффективной, работоспособной, мобилизующей.
Каким образом идеология мобилизовывала людей (причем чуть ли не в прямом смысле этого слова), видно на примере публицистического творчества Достоевского 1876—1877 гг. Весь свой талант и всю энергию писатель положил на то, чтобы убедить общество в благородстве и справедливости войны, которую Россия повела на Балканах ради освобождения славян. Под воздействием идей Достоевского и других пропагандистов русские люди отправлялись сражаться добровольцами, перечисляли деньги Сербии в виде пожертвований, собирали медикаменты и всё прочее, что было необходимо для войны с турками.
Достоевский, в отличие от Чаадаева, уже не испытывает тоски относительно особого пути нашей страны. Применительно к будущей роли России он говорит, по сути, то же самое, но с оптимизмом и уверенностью. Достоевский не просто фиксирует мысли в разрозненных набросках. Он формулирует целостную идеологию и активно ее пропагандирует в массах. Не удовлетворяясь, по-видимому, даже возможностями художественных произведений (хотя романы Достоевского расходились значительными по тем временам тиражами), писатель переходит к публицистике. Многие страницы «Дневника писателя» — это идея, очищенная от беллетристики и жестко «вколачиваемая» в сознание читателя.
Для начала Достоевский формирует «научную базу» под свою концепцию. Если у Чаадаева представление о миссии России фактически основано лишь на вере в нее, а у Хомякова — на вере и на мифологизации прошлого, то у Достоевского выходит так, что весь многовековой исторический путь страны подводит ее к выполнению миссии. Причем из его рассуждений следует, что ни одна другая европейская страна не имеет для миссионерства подобных условий.
Католичество подверглось искушению властью. Так называемому третьему искушению, которым дьявол соблазнял Христа в пустыне. Римский престол не может вести за собой человечество к братскому единению, поскольку хочет управлять народами с помощью традиционных мирских рычагов. В прошлом католичество непосредственно боролось за государственную власть, за земли в Италии, тогда как ныне (утратив военные силы и старые рычаги воздействия на монархов) стремится обратиться к народам напрямую (насколько можно понять, Достоевский подметил тот процесс, который позже привел к формированию христианско-демократических партий). В общем, католичество идет не тем путем. Россия же — страна православная. В православии люди сначала объединяются духовно (во Христе) и лишь на этой базе создают государственное объединение.
Согласно представлениям Достоевского, восемьдесят миллионов людей, населяющих Россию, уже создали такое «духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде». И теперь надо двинуться дальше — «воплотить и создать, в конце концов, великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести наконец всех малых сих до себя и до понятия ими материнского ее призвания — вот цель России».
При этом Россия — единственная православная страна, способная взять на себя выполнение крупной миссии, поскольку лишь она обладает мощным государством, эффективной армией и значительными ресурсами. Другие православные народы угнетены, задавлены, изолированы или же вовсе находятся в политической зависимости от турок. Им крупная миссия не по силам.
Вплоть до Петровских реформ русское православие варилось в собственном соку и не обладало возможностями для выполнения глобальных задач. Оно с подозрением смотрело на Запад и всячески дистанцировалось от западной культуры. Петр I насильно сломал существовавший веками культурный барьер и приучил русских к заимствованию важных культурных достижений Запада. Таким образом, сформировались два условия для выполнения великой миссии. С одной стороны, мы сохранили православие, не покушающееся на мирскую власть. С другой стороны, отказались от своей изоляции, взяли в Европе лучшее и теперь можем отплатить ей за это, используя свои уникальные возможности.
«Через реформу Петра произошло расширение прежней же нашей идеи <...>: мы сознали тем самым всемирное назначение наше, личность и роль нашу в человечестве, и не могли не сознать, что назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. <...> Кто хочет быть выше всех в царствии Божьем — стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале».
Это теория. А вот и практика: «Сам собой после Петра обозначился и первый шаг нашей новой политики: этот первый шаг должен был состоять в единении всего славянства, так сказать, под крылом России. И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтоб их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству, дать им, наконец, возможность успокоиться и отдохнуть после бесчисленных вековых страданий». Таким образом, панславизм и война против Турции получили в концепции Достоевского теоретическое обоснование. Писатель сформировал концепцию особого пути, к которой в пореформенное время тянулись многие мыслящие русские люди, с трудом переживавшие трудности эпохи, не сумевшей примирить дворянство с крестьянством, радикалов с консерваторами, бюрократию с разночинцами.
В характеристике войны Достоевский сделал акцент не на жестокости и убийствах, а на жертвенности русских, которые отдают жизни за своих славянских братьев, поскольку они сильные и их долг — «заступаться за слабого с тем, чтоб, уравняв его с собой в свободе и политической независимости, тем самым основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, т.е. на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире». Писатель в своей публицистике приводил различные примеры зверств, совершаемых турками (малыш, ослепленный, а затем посаженный на кол; девочка, на глазах у которой содрали кожу с ее отца; младенец, разорванный пополам), и благородства со стороны русских патриотов (добровольцы, рвущиеся сражаться в Сербию; женщины, собирающие пожертвования в помощь братьям).
Читатель, естественно, проникался мыслью о миссии русского народа, о том, что он ведет священную войну за великие цели, и о том, что братья-славяне обязательно должны рано или поздно понять «всю правду русского бескорыстия» и почувствовать, что «нельзя им развиваться духовно в мелких объединениях, сварах и завистях, а лишь всецело, всеславянски».
Это всеславянское развитие, по Достоевскому, состояло не в том, чтобы установить российское политическое доминирование на Балканах, а в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии наций, в братском единении, при котором Россия будет развиваться, «учась у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполнясь мировым общением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо, осенит собой счастливую землю».
Любопытно заметить, что через сто лет примерно так же советская идеология описывала формирование советского народа как «новой исторической общности», через которую мы движемся к светлому коммунистическому будущему. Понятно, что коммунистические идеологи не переписывали Достоевского в свои тетрадки. Просто логика формирования мессианских идей была одной и той же вне зависимости от обстоятельств. Менялась терминология, однако механизмы вовлечения масс в идеологию особого пути оставались теми же самыми.
Но вернемся к Достоевскому. Судя по «Дневнику писателя», он полагал (как позже Томас Манн), что война станет не просто реализацией нашей великой миссии, но послужит еще и духовным очищением для русских. «Нам нужна эта война и самим: не для одних лишь “братьев-славян”, измученных турками, поднимаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте».
Насколько можно понять логику Достоевского, он так ненавидел развивавшийся в пореформенной России капитализм («жидовство», по излюбленной писателем терминологии), что рассматривал войну как отдушину. «Подвиг самопожертвования кровью своею за всё то, что мы почитаем святым, — отмечал он, — конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъем духа нации ради великодушной идеи — есть толчок вперед, а не озверение».
Как ни парадоксально, сформированные в эпоху становления панславизма представления о величии миссии в сочетании с недооценкой ужасов и жертв войны, надолго утвердились в сознании общества. Они вновь проявились в момент начала Первой мировой. Например, русский философ Николай Бердяев размышлял о том, что «мировое преобладание России и Англии повысило бы ценности исторического бытия человечества» и что наша страна несет в мир «более высокого качества духовную энергию, чем Германия» (как мы уже видели, немецкие интеллектуалы мыслили тогда прямо противоположным образом). Подобные философствования с мессианским оттенком обусловили колоссальный общественный подъем 1914 г., обернувшийся через некоторое время страшным разочарованием, развалом государства и революцией.
Путь Данилевского
Концепция особого пути в изложении Достоевского имела огромное значение благодаря имени и авторитету ее автора. А прежде всего — благодаря той страсти, с которой концепция излагалась. Однако Достоевский как художник свои взгляды не систематизировал. Он преподносил их читателю сумбурно, импульсивно, преимущественно в отдельных выпусках «Дневника писателя». Как пропагандист особого пути Достоевский оказался поистине непревзойденным мастером. Однако наукообразную форму данной теории придал всё же не он, а Николай Данилевский в книге «Россия и Европа», которая вышла в свет в 1869 г.
Достоевский был, если можно так выразиться, «стихийным европейцем». Он много ездил по Германии и Италии, обожал Рафаэля и постоянно подчеркивал значение европейских культурных ценностей. В любви-ненависти Достоевского к Европе чувствуется надрыв, характерный для самых сложных героев его романов. Когда автору не хватает аргументов, он прямо упирает на свою веру, возносит ее над рациональным познанием, а порой откровенно издевается над оппонентами, выставляя их в глазах читателя отсталыми ретроградами, оторванными от народа и не понимающими того, что творится в головах миллионов людей. Восприятие проблемы у Достоевского по преимуществу иррационально, и при попытке рационального осмысления «Дневника писателя» с позиций XXI века отдельные его части вообще с трудом складываются в единое целое.
Данилевский же подошел к проблеме абсолютно рационально, «по-немецки». Любопытно, что философ Владимир Соловьев обнаружил принципиальные совпадения в основах теорий Данилевского и немецкого автора Генриха Рюккерта, разрабатывавшего несколько раньше теорию особого пути для своего народа. «Русская идея» оказалась своеобразным списком с немецкого подлинника, причем явно не случайно, поскольку наш народ пытался решать, по сути, те же проблемы, что и германцы. Единую теоретическую схему Рюккерт и Данилевский просто должны были наполнить различным фактическим содержанием.
В своей теории Данилевский жестко отделил Россию от Европы, задвинул нашу страну в особую ячейку, практически не имеющую системы коммуникации с тем культурным пространством, которое расположено западнее. Он отмечает, что Россия не была частью империи Карла Великого, не воспитывалась на средневековой схоластике и не боролась с феодальным насилием, вырабатывая гражданские свободы. Так что же в ней есть европейского?
При этом Данилевский опускает такие «частности», как то, что империя Карла далеко не охватывала всей Европы, гражданских свобод добились лишь отдельные города и регионы, а схоластика с трудом доходила до окраинных государств, где были единичные университеты. Иными словами, Данилевский игнорирует «ступенчатость» развития Европы. Ему что Франция, что Швеция, что Греция, что Ирландия — всё едино. А вот Россия — это особо. Естественно, при таких допущениях концепция выглядит научной и рационально обоснованной.
Европейцы, по Данилевскому, очень плохо относятся к России. Они отсекли нам все возможности для выполнения культурно-цивилизаторской миссии на Востоке. Ни на Балканы, ни в Турцию, ни в Персию, ни в Китай дороги нам не дают, оставляя одну лишь Среднюю Азию. Выходит, опять-таки по вполне рациональным размышлениям, что нам нет смысла даже стремиться стать пасынками Европы. Затюкают, замордуют, как Золушку. При этом, правда, Данилевский опускает в своих размышлениях тот момент, что все европейские империи боролись друг с другом за жизненное пространство и отношение, скажем, англичан к России в данном смысле такое же, как их отношение к Франции или Пруссии. Притормаживали всегда самого сильного. В эпоху наполеоновских войн Европа сплотилась против Франции. В эпоху Крымской войны — против России. А когда пришла Первая мировая — против Германии и Австро-Венгрии.
Преуменьшая, а то и вовсе игнорируя, любые внутренние европейские противоречия, но одновременно абсолютизируя противоречия западных стран с Россией, Данилевский логично подходит к мысли об отдельном культурно-историческом типе, сформировавшемся к востоку от Европы. «Славянство, — отмечает он, — есть термин одного порядка с эллинизмом, латинством, европеизмом, — такой же культурно-исторический тип, по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Булгария должны бы иметь тот же смысл, какой имеют Франция, Англия, Германия, Испания по отношению к Европе, — какой имели Афины, Спарта, Фивы по отношению к Греции».
Появляется, таким образом, теоретическое обоснование панславизма, причем с рациональной точки зрения чрезвычайно выгодное для русского национального сознания. Если Россию считать частью Европы, то мы оказываемся периферией. Если же славянство — это отдельный культурно-исторический тип, то мы становимся центром, так как остальные народы в сравнении с русским слишком слабы и политически зависимы. Некоторые из них (сербы, болгары) в 60-70-х гг. XIX века откровенно нуждались в российской помощи и готовы были, наверное, признать себя каким угодно культурно-историческим типом — лишь бы получить поддержку российской армии в борьбе с турками. Другие (чехи, словаки) в начале XX столетия стали на фоне усиления национализма в Австро-Венгрии подумывать о той или иной форме русской поддержки, если появится практическая возможность приобрести политическую независимость.
Теория Данилевского продемонстрировала России чрезвычайно соблазнительный «пряник». Но в то же время заготовила и «кнут», отметив, что если народ не реализует возможности формирования своей самобытной цивилизации, то ему остается лишь стать своеобразным этнографическим материалом для других культурно-исторических типов. Такая судьба постигла, к примеру, кельтов. А разве хочется нам, чтобы о русских спустя века вспоминали, как о кельтах, в тех государствах, которые возникнут на российских землях по причине нашей историко-культурной недееспособности?
После всей этой научно-теоретической подготовки следует практический вывод. «Итак, для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, словака, болгара (желал бы прибавить и поляка), — после Бога и Его святой Церкви, — идея славянства должна быть высшею идеею, выше науки, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него недостижимо без ее осуществления — без духовно, народно и политически самобытного, независимого славянства; а, напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности».
Из сумбурно изложенных, но искренних и пронзительных призывов Достоевского рациональному сознанию остается не вполне ясно, каковы же практические выгоды панславизма. Зато из теории Данилевского следует вполне прагматический вывод: ни свободы, ни просвещения, ни экономического развития без панславизма не будет. В общем, идеалист может читать Достоевского, материалист — Данилевского, но в любом случае ему придется двигаться по особому русскому (славянскому) пути, чтобы не затеряться на просторах всемирной истории.
Естественно, и Данилевский не чужд иррациональных элементов в своей теории, но они часто подаются в рациональной оболочке. Понятно, что любая идеология, претендующая на восприятие широкими массами, должна этим массам польстить. Данилевский льстит весьма профессионально. В качестве своеобразной психологической особенности славянства он выделяет терпимость, не свойственную европейцам, и дальше приводит множество совершенно верных исторических фактов, свидетельствующих о жестоком подавлении ересей и инакомыслия в Европе. После чего кратко констатирует, что всё это не было свойственно российскому государству. Но кровопролитное покорение Кавказа и подавление польского восстания 1863 г. Данилевский фактически игнорирует. Он выстраивает схему по канонам, принятым в науке, но при этом берет лишь те факты, которые придутся по вкусу потребителям теории как идеологии.
Еще одно свойство русского народа — незначительность личных интересов в сравнении с общенародными задачами и нравственным сознанием. В качестве доказательства данного положения Данилевский приводит отсутствие у нас политических партий. Увы, этот аргумент моментально проявлял свою несостоятельность, лишь только власть шла на некоторую либерализацию (в 1905 г. и в 1990-х гг.). Народ начинал печь партии, как блины, но в эпоху Данилевского о будущем страны, понятно, никто не мог знать.
Путь Леонтьева
Своеобразное «достоевско-данилевское» видение пути России было наиболее популярно, поскольку отвечало ожиданиям масс. Интересно, что попытки корректировки идеологии особого пути с помощью приспособления ее к реальным фактам, плохо воспринимались обществом. Причем даже в том случае, когда осуществлялись с консервативных позиций, формально близких как Достоевскому, так и Данилевскому. Характерна в связи с этим судьба концепции Константина Леонтьева, изложенная в его работе 1875 г. «Византизм и Славянство».
Леонтьев долгое время жил в различных частях Греции и на Дунае. Он изучал балканский регион профессионально, а потому не испытывал особой эйфории от лицезрения разного рода славян. Он их оценивал весьма прагматично. Леонтьев хорошо понимал, что западные и южные славяне испытали на себе значительное влияние соседних культурных народов (немцев и греков), а потому распространенные в России идиллические представления о формировании славянского братства не сочетаются с реальностью. «Не слития с ними следует желать, — отмечал он, — надо искать комбинаций, выгодных и для нас, и для них».
Здесь предложен значительно более сложный вариант панславизма. Это, скорее, realpolitik в духе популярного в 1870-х гг. Отто фон Бисмарка, нежели бесшабашная и чрезвычайно эмоциональная агитация Достоевского. Для формирования массовой идеологии Леонтьев был сложноват, а потому не пришелся ко двору тем, кто эту идеологию выстраивал.
Тем не менее в целом подход Леонтьева тоже предполагал движение нашей страны особым путем. С его точки зрения Европа, проникнутая духом либерализма, вступила в период гниения и разложения. Славяне, как часть Европы (а вовсе не особый культурно-исторический тип), неизбежно подвергаются данному деструктивному процессу. И только у России есть возможность ему противостоять. Дело в том, что наша страна имеет особую государственническую идеологию. В ней крепки не столько семейные начала (как полагал, скажем, Хомяков), сколько государственные. Они являются следствием уникального сочетания обстоятельств, которого больше нигде нет в Европе — римского кесаризма, христианской дисциплины (учения о покорности властям) и родового начала, сосредоточившего всю силу свою на царском роде. Благодаря сильному государству Россия может сопротивляться либеральному гниению. Если мы твердо будем стоять на своих исторических позициях, то сможем, глядишь, и славянам помочь, поскольку в них всё же есть близкое нам незападное начало.
В известных кругах Леонтьев с этой концепцией был очень популярен, однако восторженное отношение к славянскому братству оказалось популярнее прагматичного. По крайней мере, в широких массах.
Большевистский путь
Мессианизм охватывал большую часть мыслящего общества. Даже поэт Вячеслав Иванов в статье «О русской идее» (1909 г.) написал: «Мистики Востока и Запада согласны в том, что именно в настоящее время славянству и, в частности, России, передан некий светоч; вознесет ли его наш народ или выронит, — вопрос мировых судеб». А Дмитрий Мережковский через год грустно заметил: «мы сидим в луже, утешаясь тем, что это вовсе не лужа, а “русская идея”». В той мере, в какой идеи охватывали массы, «лужа» всё разрасталась и вовлекала в себя множество образованных людей.
В своеобразной «превращенной форме» мессианизм дал о себе знать даже после Второй мировой войны, когда СССР создал «славянское всеединство» на базе Варшавского договора. Миллионы русских людей полагали, будто «Восточный блок» — именно то, что нужно нашим «братушкам», и сильно удивлялись их движению в сторону Евросоюза после бархатных революций 1989 г.
Однако, несмотря на некоторые рецидивы панславизма, доминирующие взгляды на особый путь России были после 1917 г. иными. Возник своеобразный синтез марксизма и панславизма, в котором марксизм доминировал и использовал «промытые панславизмом мозги» в собственных целях.
В своей исходной основе предельно рационалистическое учение Карла Маркса не предоставляло никаких возможностей для мессианства. Согласно теории прибавочной стоимости, капиталист присваивает часть продукта, созданного рабочим, а потому пролетариат по мере роста своей сознательности должен прийти к логичному выводу о необходимости экспроприировать экспроприаторов. Здесь нет ничего «от сердца» — всё исключительно «от головы».
Ленин полностью перевернул марксизм и поставил его с «головы» на «сердце». Революционная Россия как «слабое звено в цепи империализма» может первой осуществить пролетарскую революцию. А потом поспособствует преобразованиям в других странах. Идея мировой революции, начинающейся в России, стала самым масштабным выражением идеи особого пути нашей страны. Марксистам, в отличие от панславистов, предстояло спасти не только замученных турками «братушек», но всех братьев по классу, замученных мировым капиталом. «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя», — писал в начале 1940-х гг. яркий большевистский поэт, излагая в образной форме великую мессианскую идею, которая могла скрасить советскому человеку муки репрессий, коллективизации и индустриализации.
Можно долго описывать, каким образом коммунистическая идея постепенно делала из убогих, забитых обывателей сильных, уверенных в себе фанатиков, но в данном случае стоит, пожалуй, ограничиться лишь цитированием гениального романа, в котором автор сумел уловить дух происходящей в умах простых людей трансформации. Речь идет о «Чевенгуре» Андрея Платонова.
На чрезвычайно мрачном фоне романа, насыщенном тенями несчастных, неприкаянных, голодных людей, появляется вдруг фигура странствующего рыцаря революции Степана Копёнкина, проникнутого идеей избавления всего человечества от страданий, связанных с эксплуатацией, и совершающего подвиги в память прекрасной девушки Розы Люксембург. Вот несколько цитат:
«Копёнкин воодушевленно переменился. Он поднял чашку с чаем и сказал всем:
— Товарищи! Давайте выпьем напоследок, чтобы набраться силы для защиты всех младенцев на земле и в память прекрасной девушки Розы Люксембург! Я клянусь, что моя рука положит на ее могилу всех ее убийц и мучителей!»
«— Роза! — вздыхал Копёнкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии: они пройдут над могилой Розы и над землей, которую она топтала своими башмаками. Для Копёнкина все направления дорог и ветров шли в Германию, а если и не шли, то всё равно окружат землю и попадут на родину Розы.
Если дорога была длинная и не встречался враг, Копёнкин волновался глубже и сердечней. Горячая тоска сосредоточенно скоплялась в нем, и не случался подвиг, чтобы утолить одинокое тело Копёнкина.
— Роза! — жалобно вскрикивал Копёнкин, пугая коня, и плакал в пустых местах крупными, бессчетными слезами, которые потом сами просыхали».
«Роза! — уговаривал свою душу Копёнкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст: так же ли он тоскует по Розе. Если не так, Копёнкин подправлял к нему коня, иссекал куст саблей: если Роза тебе не нужна, то для иного не существуй — нужнее Розы ничего нет».
Вместо славянского братства появилась Германия как страна, от которой в первую очередь зависит успех мировой революции. Вместо униженной болгарской девчушки — прекрасная девушка Роза Люксембург как символ пролетарского интернационализма. А в остальном всё то же: сражения, подвиги и конечный успех простого русского парня, без которого никак не устроится мир.
Мессианизм платоновского героя, конечно, сильно гипертрофирован. Однако трудно представить себе Гражданскую войну, сталинскую индустриализацию, а также Великую Отечественную без миллионов таких копёнкиных, готовых отдать свою жизнь за идеал, поскольку сама по себе эта жизнь в условиях непрерывного ужаса голода, лагерей, оккупаций и братоубийственных схваток, в общем-то, уже ничего не стоит. Человек, которого раздавила история, чувствовал себя несчастным. Но человек, который призван историей дать счастье всему человечеству ценой невиданных мук, ощущал, что нет ничего важнее того особого пути России, на который ее наставили то ли Бог, то ли Маркс, то ли Сталин.
Путь Пигмалиона
Нынешние российские представления об особом пути являются адаптацией больших мессианских идей прошлого к реалиям общества потребления. Пролетарий 1930—1940-х, у которого не было никакой собственности, мог и впрямь мечтать дойти до Ганга, тем более что в армии еды было больше, чем в разоренной деревне. Сегодняшний представитель зарождающегося среднего класса в армии служить не готов. Пешему походу на Ганг или конному маршу во спасение Розы Люксембург он предпочитает воскресную прогулку на собственном автомобиле за город. Однако и этот человек, испытывая неудовлетворенность состоянием нашего общества, мечтает порой об особом пути России. Или, точнее, о том, чтобы чувствовать себя гражданином великой державы, а не обычной страны, мучительно пробирающейся по пути догоняющей модернизации.
Правда, внятной концепции особого пути, способной прийти на смену панславизму и пролетарскому интернационализму, у нас так и не сформировалось. А на бытовом уровне представления об особом пути трансформируются сегодня в антиамериканизм как попытку противопоставить наш образ жизни некоему «базовому», который, как полагают многие, навязывается России из-за океана. Антиамериканизм тоже (как и представления об особом пути в целом) не является уникальной особенностью нашей страны. В той или иной степени он характерен для многих народов современного мира, причем довольно частые ошибки во внешней политике США создают антиамериканизму питательную почву. Однако в России он подпитывается еще и несбывшимися ожиданиями 1980—1990-х гг. Трудности эпохи реформ в обществе потребления уже не могут породить чего-то похожего на былые мессианские идеи освобождения человечества или хотя бы славянского мира. Но отторжение условного «американского пути» они в значительной части общества все-таки порождают.
Проблема формирования представлений об особом пути в обществе потребления — это проблема своеобразной «любви-ненависти».
С одной стороны, на практике мир, обеспечивающий товарное изобилие, оказывается для широких масс населения привлекательнее следования мессианским идеям прошлого. Этот мир доступен: его можно пощупать, приобрести за деньги, сделать частью своего образа жизни. Если в прошлом представления об особом пути порождались объективными обстоятельствами, препятствовавшими спокойному развитию, то теперь такое развитие оказывается доступно даже для многих людей, живущих в «провалившихся» государствах, то есть тех государствах, которые не могут сформировать нормальные жизненные условия для своих граждан.
С другой стороны, разрыв между успешными и «провалившимися» государствами есть реальность, которую многие ощущают на собственной шкуре. Российский гражданин хотел бы иметь те возможности, которыми обладает американец или житель Евросоюза, но он не имеет их сегодня. На сознание россиян влияют разрыв в уровне доходов, нехватка комфортабельного жилья, недостатки отечественного социального страхования, визовый барьер, отделяющий нас от стран Запада, и многое другое. Сильные и удачливые люди способны преодолеть объективно существующие преграды, но это требует такой затраты сил, которой у многих просто нет. Соответственно, для значительной части общества возможность пощупать западный мир — это реальность, а намерение сделать его частью своего образа жизни — не более чем намерение.
Вся эта история «любви-ненависти» напоминает знаменитую пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». Суть той истории состояла в следующем. Профессор Хиггинс «подобрал на улице» цветочницу Элизу с намерением сделать из нее настоящую леди. Девушку отмыли, приодели, накормили и научили правильно говорить по-английски. Создали фактически совершенно другого человека. И этот человек влюбился в своего создателя. Однако по завершении профессорского эксперимента Элиза оказалась Хиггинсу не нужна. Она не только не получила ответной любви, но даже не обрела места в том прекрасном мире, которым ее соблазнили. Трагический разрыв между собой и лощеным профессором отмытая, одетая, накормленная и хорошо говорящая по-английски девушка ощущала значительно острее, чем грязная, малообразованная цветочница, никогда не бывавшая в приличных домах. Неудивительно, что в момент отчаяния Элиза швырнула в «циничного экспериментатора» его туфлями.
Нынешний российский антиамериканизм — это попытка «швырнуть туфлями» в своего создателя, заявив тем самым не столько о собственном особом пути, сколько об особой позиции в том положении, которое мы поневоле занимаем. Америка «соблазнила» нас рынком и демократией, отмыла, одела, накормила и научила правильно выражаться. По сути, она создала у широких масс представление, будто можно быстро пройти путь от цветочницы до светской леди. Но на самом деле нам надо по-прежнему торговать цветами, и лишь тот, кто будет успешен в этом бизнесе, получит со временем доступ к светской жизни.
Конечно, в прямом смысле нельзя говорить, будто сегодняшнюю Россию создала Америка. Реформы мы делали сами со всеми их успехами и провалами. Однако не стоит преуменьшать влияние идеализированного образца.
В позднее советское время на фоне нарастающих дефицитов и деградации правящей геронтократии у многих людей формировалось не вполне адекватное представление о жизни на Западе, почерпнутое в основном из красивых американских и французских фильмов. Наверное, многим казалось, что, похоронив коммунизм и проведя минимальные преобразования, можно сделать нашу жизнь похожей на соблазнительное кино. Естественно, ничего подобного наделе не вышло.
Вместо кинематографической сказки пришлось претерпевать все трудности реформ. Более того, сравнительно быстро рухнули представления о том, что мы сильно нужны Западу и, значит, он должен нам помогать. «Кормили» и «одевали» нас только поначалу, в годы перестройки, когда Америка пыталась понять, можно ли трансформировать «империю зла» во что-то цивилизованное. Но объем зарубежных кредитов, предоставленных в наиболее трудный и ответственный момент трансформации советской экономики в рыночную, был невелик.
Наконец, немаловажное значение имело то, что Белый дом перестал говорить с Кремлем как с равным по значению партнером, представляющим сверхдержаву. Более того, Америка по возможности стремилась к тому, чтобы вывести Восточную Европу из-под влияния Москвы и предоставить бывшим странам Варшавского договора и бывшим республикам Советского Союза возможность постепенного вхождения в НАТО и Евросоюз. Всё это сильно обидело российское руководство, оно стало чаще допускать в своих выступлениях жесткую риторику, что не могло не повлиять на фрустрированное реформами и разочаровавшееся в западной сказке население. Так за сравнительно короткий срок мы прошли путь от надежды построить на родной земле жизнь в стиле а-ля Голливуд до антиамериканизма, затронувшего широкие слои населения.
Однако подобный антиамериканизм уже не породит истинного мессианизма. Он просуществует до тех пор, пока трудности трансформации не уйдут в прошлое, и со временем полностью потеряет всякую связь с представлениями об особом пути. В какой-то степени антиамериканизм сохранится, если Америка будет по-прежнему державой, предлагающей миру свои правила игры, но русский мессианизм разделит судьбу английского, французского, немецкого, японского.
Национальная идея
Что же останется у нас в качестве «национальной идеи»? Попробуем от философских конструкций перейти к наблюдению за реальной жизнью. Однажды на майских праздниках я, кажется, нашел нашу национальную идею. Хотя вроде не сильно искал ее и не сильно даже на этот счет беспокоился.
Дело было так. Накопилось много работы, и 8 мая мне целый день пришлось сидеть за компьютером. А вечером захотелось пройтись, размять ноги. Пошел к Финскому заливу — взглянуть на закат. Путь к берегу от моего дома лежит через парк. Правда, он лишь с фасада парк, а глубже — дикий березняк, разросшийся, как придется. С фасада — празднование: фонтаны, экраны, певица поет всё, что положено петь в это время и в этом месте. А дальше, в березняке, — празднование дикое, государством не регулируемое. Поистине народное.
Под каждой березкой — компания: с пивком, с шашлычком. И кучи мусора повсюду. Хлам, гниль, пищевые отбросы. Всё, что народ не допил и не дозакусывал в течение долгого празднования, начинающегося с международной солидарности трудящихся, а завершающегося Великой Победой. Был бы здесь доктор Онищенко — мигом отправил бы парк под санитарные санкции. Загажено всё. Или почти всё. Поскольку на том пятачке, где еще не загажено, мгновенно образуются пивко и шашлычок. Так и гуляют. В меру своего скромного материального положения и усилий муниципальных властей по благоустройству территории.
Те, кто побогаче, отдыхают, естественно, по-другому. Садятся в машину, берут жену, детей, собаку, пиво, мангал и шашлычок, а затем отправляются на противоположный берег залива — на Карельский перешеек. Туда, где пляж, сосны и свежий ветер. Мусора там, правда, тоже немерено. И сквозь пробки прорваться непросто. Однако — природа. Не парк вонючий, где свежий мусор по выходным ложится на землю, обильно удобряемую собачками на протяжении будних дней.
Те, кто еще богаче, садятся в дорогую машину и отправляются в кафе и рестораны. Шашлычок там, правда, выходит в копеечку, зато не нагажено. Гулять можно цивилизованно. В хороших санитарно-эпидемиологических условиях, которыми даже доктор Онищенко будет вполне удовлетворен. В кафе, правда, порой тесновато. А праздник требует простора. Поэтому те, кто еще богаче, плюют на зарубежные заразы, международный терроризм и сложную внешнеполитическую обстановку, берут жен и детей (без шашлычков), садятся в самолет и отправляются туда, где природа чистая, солнце теплое, вода мокрая, кухня оригинальная, а пиво и валюта крепки, несмотря на мягкотелость местных политиков, отказывающихся сопротивляться диктату США.
Наконец, во всей этой шашлычной иерархии мы доходим до высшей социальной страты, отличающейся тем, что ее представители улетают в чистые страны не тогда, когда положено по нашему трудовому распорядку, а тогда, когда душа этого просит. И если попросит она не ко Дню Победы, а, скажем, на Октоберфест, то нет проблем: виза в кармане, деньги на карточке, шашлычок с пивом уже ждут в том месте, куда запросилась душа.
Такая вот у нас получается социальная иерархия. Если есть чем отпраздновать — уже хорошо. Если ешь и гадишь в разных местах — еще лучше. Если нагадил и рядом есть кому за тобой прибрать — просто супер. А если вдруг имеется возможность на наш праздник свалить к тем, кого мы в свое время победили, то счастья хватит до Дня народного единства.
Не стоит думать, однако, что та социальная группа, с которой начался наш анализ, это самое дно общества. В нашей шашлычносоциологической иерархии она представляет собой средний класс. Или, возможно, средненький, — чтобы не слишком уж пафосно звучало. Ниже его находятся жители множества малых городов, где грязь в местах отдыха такая же, но не всегда есть работа и деньги, из-за чего нелегко позволить себе хоть самый скромный праздник с приличной выпивкой и закуской. А еще ниже находятся бесчисленные мигранты, мечтающие о том, чтобы осесть, наконец, в России. Хоть в самом скромном месте. Хоть без закуски. Хоть там, где не ступала нога доктора Онищенко, но зато есть какие-то средства для выживания.
Кто выжил, тот закрепился на достигнутых рубежах. Кто закрепился, может взяться за пиво и шашлычок. Кто заработал на шашлычок, берет кредит на машину, чтобы кушать мясо не на помойке, а на взморье. Кто при машине, копит деньги на приличный отдых в чистой стране.
Читатель уже решил, наверное, что двинуться вверх по этой иерархической лестнице и есть наша национальная идея.
А вот и нет. В таком виде идея уж слишком похожа на американскую, и, значит, ничего национального в ней не имеется. Суть национальной идеи я понял, сопоставив всё увиденное вокруг с клипом Шнура «В Питере — пить», появившимся на Youtube прямо перед долгими майскими праздниками и набравшим за десяток дней около семи миллионов просмотров.
В клипе пяток героев — офисный клерк, продавщица, гаишник, мигрант и интеллигентная дама — пытаются худо-бедно взобраться по иерархической лестнице на более высокую ступень. Или хотя бы закрепиться на достигнутой. Но каждый из них в определенный момент срывается, посылает всех на... (ну, в общем, туда, куда обычно Шнур всех посылает), бросает работу, стабильный доход и соответствующую ступень иерархической лестницы, а затем ударяется в дауншифтинг. Причем в групповой. Что, конечно, приятнее. С водкой, шавермой и прогулками по ночному Санкт-Петербургу.
В общем, стремление взлететь по шашлычно-иерархической лестнице вступает в неразрешимое (можно вслед за марксистами даже сказать, антагонистическое) противоречие со столь же сильным стремлением послать всё на... Поскольку лестница эта представляет собой примерно такую же помойку, как парк, с которого я начал рассказ. Только не в физическом, а в моральном смысле.
Так вот. Национальная идея состоит в том, чтобы достичь высшей ступени шашлычно-иерархической вертикали, на которой ты можешь в любой момент послать всех на..., сорваться с места, отправиться в другое место (где шашлыки сочнее, вода мокрее и т.д.), удариться в дауншифтинг (даже групповой), а потом вернуться на ту же самую ступень иерархии и сделать вид, что ничего не было. И другие сделают вид, что ничего не было. И тебе за это ничего не будет
Глава 10. Путин Таврический
В сентябре 2011 г. российская общественность была немало удивлена внезапной рокировочкой президента с премьером, позволявшей Владимиру Путину вновь вернуться на высший пост нашей страны и существенным образом перестроить политическую систему. За прошедшие с тех пор годы выяснилось, что и без того совсем не «травоядный» режим стал еще более жестким. Сегодня мы можем вполне определенно сказать, зачем Кремлю понадобился такой разворот.
Почему Путин сменил курс?
В общественном мнении пока еще явно доминируют упрощенные оценки, отводящие слишком большую роль личности Путина. Хотя в персоналистских авторитарных режимах значение «национального лидера» и впрямь огромно, но, думается, на первый план всё же следует выводить объективные обстоятельства.
Можно ли сказать, как это делают нынче многие противники Путина, что президент России стал неадекватен, что он растерян, что он не понимает, как управлять страной в кризисной ситуации? Вряд ли. Диктаторы прошлого мечтали бы о такой «неадекватности». Они теряли высокие посты в результате утраты народной любви, но Путин за последние годы лишь укрепил свои позиции и превратил «культ должности» в «культ личности».
Можно ли сказать, как это делают многие сторонники Путина, что президент России, ужесточая свой политический курс, лишь отвечает на происки врагов — внешних и внутренних? Вряд ли. Если «враги» не подрывали позиции режима в эпоху «благословенных нулевых», то почему же они активизировались теперь? Очень уж подобная трактовка новейшей истории напоминает сталинскую теорию обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Давайте вместо того, чтобы строить гипотезы вокруг личности Путина (то ли губителя, то ли спасителя Отечества?), посмотрим на объективные экономические показатели. Как ни странно, политические пертурбации последнего времени в полной мере определяются состоянием экономических проблем.
Средние темпы роста ВВП с 1999 г. (когда Путин впервые пришел на пост премьер-министра и начал, по сути дела, свою президентскую кампанию) до 2008 г. (когда по России впервые ударил экономический кризис) составляли 7% в год. Это был явный успех пореформенной хозяйственной системы. Созданная Егором Гайдаром рыночная экономика в сочетании с высокими ценами на нефть стала, наконец, приносить плоды. Рост ВВП обеспечил увеличение реальных доходов населения. Люди в основной своей массе стали жить значительно лучше. И хотя Россия за столь короткий срок не могла войти в число благополучных стран мира, контраст с эпохой испытаний, пришедшейся на 1990-е гг., был по-настоящему разительным.
А что теперь? Средние темпы роста ВВП с 2009 по 2014 г. составили всего лишь 1%. Кризисный провал сменился на три-четыре года неуверенным подъемом, а в 2015 г. мы вновь вошли в полноценный экономический кризис, когда валовой продукт снизился на 3,7% и вслед за ним уменьшились реальные доходы населения. Энергетический рынок рухнул. Автомобильный рухнул. Выездной туризм полностью развалился. Рынок недвижимости находится в состоянии стагнации: достраивают пока еще старое, но продать жилье уже трудно. Многие люди в нашей стране стали серьезно экономить даже на еде. И хотя накопленный в хозяйственной системе запас прочности пока удерживает Россию от падения в нищету, ничего хорошего про нынешнее положение дел сказать не сможет даже самый что ни на есть верный последователь вождя.
В первый путинский период (1999—2008 гг.) у избирателей имелись реальные причины поддерживать действующую власть. Конечно, успехи не были связаны непосредственно с Владимиром Путиным, а стали следствием рыночных реформ 1990-х гг. в сочетании с эффектом девальвации и дорогой нефтью, но рядовой избиратель вряд ли принимал во внимание подобные тонкости. Он благодарил за успехи лично «национального лидера» и отдавал ему свой голос.
Во второй путинский период (включающий и четырехлетнюю медведевскую интерлюдию) у избирателей постепенно исчезали реальные причины для поддержки общего курса, проводимого Кремлем. Благодарить власть стало совершенно не за что, поскольку жизнь перестала улучшаться.
В демократических политических системах при подобных поворотах люди начинают отдавать свои голоса оппозиции. Но вряд ли Путин готов был смириться с уходом в отставку по-настоящему. Чувствуется, что он настроен править Россией еще довольно долго. В такой ситуации ему нужно было придумать какие-то эффективные способы для укрепления своей личной власти. Причем требовалось выстроить новую политическую систему так, чтобы она не зависела от экономических перспектив. Чтобы она держалась даже в кризис.
И всё это действительно было сделано. Политический режим стал более жестким и более идеологизированным. Манипуляции в СМИ и на выборах стали совершенно беспардонными.
Таким образом, можно сказать, что радикальная трансформация путинского режима оказалась жестко предопределена резким ухудшением состояния дел в экономике. Но возникает вопрос: не проще ли было взяться за исправление дел в экономике, чем за «затягивание гаек»?
Экономика была обречена с 2013 г.
Критический момент для российской экономики наступил в самом конце 2013 г. Пока страна спокойно готовилась к Новому году, закупая водку с мандаринами, статистики подводили итоги и констатировали весьма печальную ситуацию.
В целом, конечно, многим было ясно и раньше, что экономика висит «на нефтяных соплях». Если цены на нефть идут вверх, мы процветаем, а если рушатся, то ВВП начинает падать. Однако до конца 2013 г. оптимисты (а их у нас было немало) полагали, будто при сохранении сравнительно высоких цен на энергоносители всё же возможно относительно нормальное развитие. Посткризисный период (2010—2012 гг.), казалось бы, это подтверждал. 3—4% роста в год мы имели, и хотя в сравнении с докризисным 7%-ным ростом это был весьма невеселый результат, народ худо-бедно жил, питался, обновлял иномарки и даже приобретал квартиры с помощью ипотеки.
Итоги 2013 г. разрушили подобные оптимистичные представления. При высоких ценах на нефть, колебавшихся в интервале от 100 до 110 долларов за баррель, рост ВВП практически прекратился. Точнее, ВВП вырос чуть больше, чем на 1%, что было просто ужасно для развивающейся страны, желающей догонять Европу. Подчеркнем, случилось это уже не в ситуации серьезного мирового кризиса, тянувшего за собой Россию в 2008—2009 гг., а в ситуации, когда за рубежом в экономике всё было сравнительно благополучно.
В этот момент руководство нашей страны осознало, что нефть перестала быть локомотивом развития и теперь без реформ мы из стагнации не выберемся.
Какие реформы тогда напрашивались? Теоретически возможны были три варианта. Условно назовем их: вариант Дмитрия Медведева, вариант Сергея Глазьева и вариант Алексея Кудрина.
Вариант Медведева стал реализовываться на практике. Экономику попробовали подстегнуть с помощью девальвации в надежде добиться импортозамещения и связанного с ним роста по образцу кризиса 1998 г. Тогда рубль рухнул примерно в пять раз, это сделало импорт практически недоступным для населения, и освободившуюся нишу на рынке заняли отечественные производители.
Увы, как мы сегодня видим, вариант Медведева в новых условиях не сработал. Экономика России по сей день находится в плохом состоянии. Поэтому внимание экономистов сосредоточено на поисках альтернативы нынешнему курсу.
Вариант Глазьева предполагает, что государство различными способами активно содействует инвестициям, коли уж частный сектор вкладывать деньги не хочет. Можно направлять бюджетные ресурсы в ВПК. Можно использовать средства ФНБ на развитие инфраструктуры. Можно осуществлять денежную эмиссию всё более быстрыми темпами. Сторонники такого подхода предполагают, что госинвестиции и кредиты Центробанка создадут «эффект локомотива», то есть потянут за собой развитие всё большего числа предприятий.
В стабильной экономике такого рода эффект иногда действительно может быть достигнут. Однако у нас данный вариант вряд ли сработает.
Если говорить о бюджетных вложениях, то для них, по большому счету, уже нет средств. В годы былого процветания можно было, наверное, осуществлять государственные инвестиции, хотя и тогда их позитивный эффект был бы спорным из-за коррупции чиновников, распоряжающихся ресурсами. А ныне, чтобы какие-то средства вложить в экономику, надо у кого-то деньги отнять.
Если же говорить о ЦБ, то он, конечно, может напечатать сколько угодно рублей. Но маловероятно, что эти деньги пойдут в инвестиции. Скорее всего, эмиссия станет источником роста цен, породит крупные спекуляции и в конечном счете усугубит проблему бегства капиталов за рубеж.
Согласно логике варианта Глазьева, придется вводить различные валютные ограничения. Может быть, даже зафиксировать курс рубля. Ликвидировать свободную конвертируемость и с помощью административных государственных мер попытаться отделить валютные операции, необходимые для импорта, от валютных операций, используемых для спекуляций и вывода капитала за рубеж. В условиях коррупции, поразившей Россию снизу доверху, вероятность успеха столь жестких мер, бьющих по интересам элиты, крайне невелика. Вряд ли власти захотят реализовывать модель Глазьева, а если вдруг возьмутся, то реализуют лишь «приятные» меры, связанные с денежной накачкой экономики, тогда как «неприятные» запретительные положат под сукно. Итоги подобной реализации будут для экономики разрушительными.
Вариант Кудрина — единственный шанс реально помочь российской экономике. Он предполагает формирование благоприятного инвестиционного климата с тем, чтобы бегство капиталов прекратилось само собой. Инвестиции могли бы поднять производительность труда, сделать наши предприятия более эффективными и в результате снять экономику с нефтяной иглы.
Данный вариант развития реалистичен в иной политической ситуации, однако нынешний Кремль на него, скорее всего, не пойдет. Нормальный инвестиционный климат предполагает антикоррупционную политику, реформу правоохранительных органов и налаживание хороших отношений с Западом. На словах, конечно, Путин всегда с таким подходом соглашался, однако на деле создание благоприятного инвестиционного климата требует демократизации всей политической системы. А это для Кремля неприемлемо. Несколько лет назад казалось, будто демократизация возможна, но сейчас видно, как власть сопротивляется даже слабым попыткам трансформации режима.
В общем, получается тупик. Вариант Медведева не работает. Вариант Глазьева опасен для экономики. Вариант Кудрина хорош в чисто экономическом плане, но опасен для выживания режима и поэтому будет неприемлем для Кремля. В данной ситуации мы обречены на кризис, а для Путина единственным способом сохранения власти является манипулирование сознанием.
Зачем нам нужен Крым
Обычно у нас принято ругать политиков, подкупающих электорат. Надо, мол, чтобы избиратель голосовал сердцем, а не желудком. Прямой подкуп и впрямь нехорош, но вообще-то нормальной ситуацией является та, при которой народ голосует за сытую жизнь и рост благосостояния. Обеспечивая этот рост, власть косвенным образом покупает голоса.
Но если экономика разваливается и избирателей уже нельзя «купить за деньги», правители изыскивают возможность получать их голоса бесплатно. Подобная история случилась в России в начале 2014 г. Поскольку, как отмечалось выше, к этому времени стало ясно, что былого процветания уже не достичь никакими реформами, Кремль должен был изыскать принципиально иной способ возродить популярность Путина.
Квалифицированные кремлевские аналитики наверняка понимали, что нарастание экономических проблем приведет постепенно к снижению президентского рейтинга. Резкого падения рубля и обвала экономики тогда, возможно, еще не ожидали, поскольку никто не знал, что произойдет с нефтью в 2014—2015 гг., но даже длительная стагнация была опасна для политического выживания Путина.
Если бы наша экономика перестала расти за пять лет до президентских выборов, то, возможно, к 2018 г. главе государства трудно было бы переизбраться. А если бы стагнация перешла вдруг в кризис (как в итоге и получилось на практике), то перспективы Путина становились бы весьма неопределенными. Конечно, выборы в авторитарных режимах можно выигрывать с помощью фальсификаций. Однако «сидеть на фальсификациях» правителям столь же неудобно, как «на штыках».
Требовалось чем-то воодушевить народ, заставить его забыть о «мелких» житейских трудностях, дать людям почувствовать, что их жертвы связаны не с бесхозяйственностью и коррупцией властей, а с выполнением какой-то великой миссии и с происками разного рода врагов.
Самой великой миссией русского народа было строительство коммунизма. Но наступать второй раз на те же грабли политики не могут. Спасать человечество за счет России в начале XXI века трудновато. Кремль должен был придумать реалистичную миссию. Не слишком большого масштаба, но так, чтобы народного энтузиазма хватило, по крайней мере, до 2018 г.
Для решения подобных проблем обычно используется маленькая победоносная война. Надо сделать так, чтобы народ был воодушевлен своими военными и политическими достижениями, но при этом не нес слишком уж больших жертв. Если человек может гордиться отечеством, не питаясь при этом по карточкам и не отказываясь от обычного бытового комфорта, пива, футбола и телесериалов, он встает с колен, распрямляет спину, а затем начинает потрясать кулаками во все возможные стороны, забывая о тех, кто сидит у него на горбу.
Опыт маленькой победоносной войны у нас имелся. Грузию удалось в 2008 г. сломить всего лишь за пять дней. Помимо Грузии на постсоветском пространстве сохранялось еще несколько точек, где можно было бы применить силу. Трудно сказать, какие планы имелись тогда в арсенале Кремля, но жизнь внезапно сама подсказала направление действий. Дружественный России украинский режим Виктора Януковича внезапно рухнул, причем, надо признать, легитимность действий майдана вызывала тогда серьезные сомнения. В ряде регионов Украины неприятие киевских революционных акций было весьма значительным, и Кремль мог этим воспользоваться с выгодой для себя.
Решили взять Крым. В плане манипулирования сознанием населения это было чрезвычайно удачное решение. Украинская армия не обладала даже той боеспособностью, которая была в 2008 г. у армии грузинской. Крым рвался в Россию, как потому, что опасался майдана, так и потому, что надеялся на финансовую поддержку, повышение зарплат и пенсий. А нашей патриотической общественностью возвращение исконных земель (да к тому же, как позже пояснил Путин, «сакрального места») воспринималось в качестве акта высшей справедливости — своего рода мессианизма. Россия не может теперь спасти человечество, но хотя бы братьев спасет от «бандеро-фашистской угрозы».
По сути дела, не понадобилось даже маленькой победоносной войны. Крым взяли с ходу, и рейтинг Путина резко пошел вверх. В чисто практическом плане от данной операции выиграл только Кремль. Инициаторы этой кампании все издержки возложили на Россию в целом, а выгоды присвоили себе.
Задачу, которую невозможно было решить с помощью развития экономики, кремлевские политгехнологи прекрасно решили с помощью внешней политики. После успеха в Крыму Путин мог спокойно входить не только в стагнацию, но даже в серьезный экономический кризис. Народ переставал думать о проблемах своего кошелька либо снимал с блистательного президента всякую ответственность за экономику, перелагая ее на чиновников и олигархов. Путь к успеху Путина на президентских выборах 2018 г. оказался расчищен.
Почему у нас Путин — моральный авторитет
Опрос, проведенный социологами из ФОМа вскоре после присоединения Крыма к России, показал, что Владимир Путин является главным моральным авторитетом страны. За него высказалось более трети опрошенных, тогда как другие «авторитеты» в моральном соперничестве существенно отстали от лидера. Впрочем, отставшие тоже принадлежат к путинскому лагерю — Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Владимир Жириновский и т.д.
На первый взгляд по этим результатам кажется, будто в России сегодня вообще нет представлений о морали. Страна одичала и не имеет иных ценностей, кроме денег и товаров, которые на них можно купить. Однако на самом деле мораль, конечно, есть. Только ее нельзя измерять мерками тех общечеловеческих ценностей, о которых в свое время безуспешно пытался твердить советскому народу Михаил Горбачев. В том-то и особенность современного российского обывателя, что общечеловеческого для него не существует.
Как-то раз исследователи поинтересовались у одного индейца, что такое «добро» и что такое «зло». «Респондент» ответил, что «зло» — это когда у него украли лошадь, а «добро» — когда он лошадь украл. Над подобным ответом можно посмеяться, однако лучше задуматься. Индеец довольно точно описал нормы существования диких народов. Эти нормы сложились в ходе тысячелетней борьбы за выживание. Если вдруг цивилизация попытается навязать дикарям иные нормы поведения без изменения самих условий существования племен, «высокоморальные индейцы» просто не выживут.
Дикарские представления о добре и зле выглядят диковато не тогда, когда мы погружаемся в мир прошлого, а тогда, когда люди с подобными нормами оказываются в современном мире. Мораль, которая слишком явно представляется рудиментом давно ушедшей эпохи, вызывает отторжение большинства и жесткие упреки в аморальности, брошенные ее носителям.
Российское общество, назвавшее Путина моральным авторитетом, продемонстрировало, что в целом живет, скорее, еще в прошлом, чем в настоящем. Если мы взяли чужой полуостров — это добро. Если у нас хотят забрать пару островов Курильской гряды — это зло. Соответственно, лидер, который забирает чужое и не отдает свое, является не просто политическим лидером или верховным главнокомандующим. Он является именно моральным авторитетом, поскольку брать чужое и не отдавать свое для народов традиционного общества — это единственно возможная мораль, способствующая выживанию и являющаяся обобщением многовекового жизненного опыта предков.
Кстати, в Украине, Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове, Сербии, Хорватии, Косово и некоторых других странах сегодня, так же как и у нас, господствует рудиментарная мораль, если судить по политическим действиям их лидеров. Даже настойчивое стремление Испании не допустить каталонский референдум о независимости показывает, что наследники Дон Кихота правдами и неправдами стремятся сохранить в своей конюшне чужую лошадь. А вот пример шотландского референдума о независимости, проведенного в 2014 г., делает честь Британии. Там мораль в основном соответствует нормам Европы XXI века.
То, что та или иная страна подзадержалась в прошлом, не столько ее вина, сколько беда. Люди, стремящиеся «стырить» чужую лошадь, искренне полагают, что только так и можно жить. «Слабых бьют», — сказал в 2004 г. наш главный моральный авторитет, отменяя губернаторские выборы под предлогом бесланской трагедии. И авторитет был понят своим народом, хотя, как показало прошедшее десятилетие, отмена выборов не решила ни одной нашей проблемы, и нынче мы вернулись к «практике слабых» по велению всё того же морального авторитета.
Новая мораль приходит на смену старой не тогда, когда народу читают нотации, а когда большая часть общества убеждается, что «тырить» лошадей непрактично. И в Европе сегодня не принято «тырить» острова с полуостровами отнюдь не из-за врожденной высокоморальности европейцев (немцы еще в середине XX века тянули у своих соседей всё, что плохо лежит), а по причине неэффективности подобного поведения. Не важно, кому принадлежит Эльзас — Франции или Германии. Не важно, кому принадлежит Вильнюс — Польше или Литве. Не важно, кому принадлежит Риека (Фиуме) — Италии или Хорватии. А важно, что в условиях Евросоюза жизнь на всех спорных и неспорных территориях становится комфортнее.
Большинство людей в Европе о таких вещах дискуссий уже не ведет. Но есть, понятно, меньшинство, с этим несогласное. Для него и существует мораль XXI века: нельзя «тырить» чужое, если большинство договорилось о том, что кому принадлежит, и установило жесткие правила игры. Меньшинство подчиняется сложившимся нормам поведения, поскольку в собственных интересах ориентируется на мнение сограждан, а не на поведение индейцев далекого прошлого.
Истоки крымнашизма
Крым присоединился к России, и наше общество тут же раскололось на две группы, упорно не желающие понимать друг друга. Для одних возвращение крымских земель — признак русской весны. Для других связанные с Крымом санкции — предчувствие пропасти, в которую падает российская экономика.
Мотивация тех, кто с радостью констатирует «Крымнаш», российским демократам неясна. Понятно, какие прибыли сможет получить бизнес, отхватывающий выгодные крымские контракты. Но что, собственно говоря, приобретает простой человек, пару лет назад про Крым даже не думавший? Зачем ему «лошадь», которая корму поглотит больше, чем принесет пользы?
На самом деле приобретает наш человек чрезвычайно много. Но это своеобразные «нематериальные активы». Про них говорить сегодня немодно. И то, что российская интеллигенция предпочитает лишь следовать за модой, сейчас обрекает ее на непонимание мотивации, характерной для 80% населения страны.
Попробуем разобраться, в чем здесь проблема. Когда-то давно русская культура формировалась в попытках понять смысл нашего существования. Героям Достоевского или Толстого проблемы смысла были ближе вопросов роста ВВП. В конечном счете отечественная интеллигенция повернулась к революции, поскольку хотела думать, что живет ради великой цели благоустройства общества, а не только для благоустройства собственной квартиры.
Увы, революция предопределила братоубийственную войну, массовые репрессии и построение такой экономики, в которой продукты распределялись по талонам. Всё чаще стали говорить о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. На этом фоне среди советских интеллектуалов модным стал приземленный прагматизм. Профессионализм в своем деле дает человечеству гораздо больше, чем мечты о всеобщем счастье.
Порой про таких профессионалов принято говорить, что они бездуховны. Но это совсем не так. Большое число интеллектуалов работает не за одни лишь деньги, а еще и ради творческой самореализации. Тот, кто реализует себя, понимает, ради чего живет. Однако одновременно он утрачивает способность понять огромное безмолвное большинство, которое не имеет творческой работы, хотя, как все люди, испытывает потребность видеть смысл своего существования.
Вот здесь-то, как ни парадоксально, и кроются корни крымской истории. Что должен чувствовать человек, стоящий годами у станка или раскладывающий бумаги в офисе? Возможно, на заре советской власти подобный человек ощущал, как каждый день его унылого и тяжкого труда хотя бы чуть-чуть приближает светлое будущее. Однако провал коммунистической идеи привел к тому, что вот уже как минимум лет пятьдесят никто ничего подобного не ощущает.
Данная проблема возникла отнюдь не в современной России. Все страны, которым пришлось осуществлять модернизацию, столкнулись с этим. И всюду люди нашли своеобразное решение. Проблема смысла была передоверена вождю. Естественно, лишь такому, которому человек искренне верил. И если вождь находил общее дело, сплачивавшее и объединявшее миллионы, люди какое-то время чувствовали удовлетворенность жизнью.
Интеллектуалу, занятому приятной работой и видящему смысл существования в творчестве, крымская эйфория кажется бессмысленной. Ведь этот человек сам определяет смыслы и не нуждается в подсказке сверху. Ему трудно понять того, кто передоверил поиск смысла существования вождю. Ему трудно понять, что «Крымнаш» в глазах народа — это коллективное достижение.
Человек, приветствующий включение Крыма в состав России, чувствует, что в этом достижении есть частичка и его труда. Может, не труда, но хотя бы моральной поддержки. Человек видит, что, объединившись с другими в желании расширения границ страны, он, наконец, добился результата. И главное — он верит в то, что этот результат важен, поскольку его так жаждал национальный лидер.
Интеллектуал его спрашивает: тебе-то, мол, что от Крыма? Какая выгода? И тот, кого спрашивают, не может толком дать никакого ответа. Но он сопротивляется, огрызается, твердит о патриотизме и о том, что вопрошающий — иностранный агент. Поскольку «Крымнаш» нужен для душевного здоровья. Он создает хотя бы иллюзию некой движухи. Но стоит человеку осознать, что Крым нужен лишь для повышения рейтинга вождя и для того, чтобы тот мог править до 2042 г., как сразу наступит апатия, которую придется заливать водкой.
Когда человек на своем рабочем месте является лишь винтиком огромной государственной машины, он будет и в политической области ощущать себя винтиком. И только тот, кто видит смысл своей повседневной деятельности, станет самостоятельно искать смысл в действиях государства.
Так что же, «Крымнаш» вечен? Совсем не обязательно.
Есть такое понятие «Пирамида Маслоу». Американский психолог Абрахам Маслоу выстроил иерархию человеческих потребностей и определил, что самореализация, ощущение смысла относятся к числу потребностей высших. О них человек размышляет лишь тогда, когда всё в порядке с пищей и безопасностью. Не случайно российские граждане так мало беспокоились из-за Крыма в 1991 г., когда происходил раздел Союза. При пустых прилавках и нарастающем бандитизме головы были заняты совсем другим.
Поскольку крымская история создает серьезные проблемы для российской экономики, наше общество по мере обнищания будет всё чаще размышлять над проблемой будничного выживания. Над тем, например, как купить те товары, которых в избытке у людей, хорошо заработавших на крымских контрактах. Эти мысли отодвинут в сторону размышления о великих целях.
Естественно, только отодвинут, а не устранят полностью. Поскольку обойтись вообще без такой моральной подпорки, как «Крымнаш», может лишь общество, в котором весьма значительная часть людей знает, зачем трудится, живет и не передоверяет вопрос о смысле национальному лидеру.
У какой из крупных западных стран не было своего «Крымнаша»? «Алжирнаш», «Ирландиянаша», «Судетынаши», «Косовонаше». Наш, наша, наши, наше... А была еще Польша от моря и до моря. Многие на Западе по сей день тяжело переживают отрезанные куски. Однако в обществе, где люди знают, чего хотят достичь, подобные группы населения всё больше становятся маргинальными.
Наше тщеславие сильнее нищеты
«Их тщеславие сильнее их нищеты». Я вряд ли решился бы охарактеризовать подобной фразой состояние умов значительной части российского общества, если бы не имел возможности взять ее в кавычки как цитату. То, что происходит в нашей стране после Крыма, лучше всего описано в романе «Гепард» сицилийского князя Джузеппе Томази ди Лампедуза.
Роман был в свое время невероятно популярен, поскольку хорошо объяснял длительную стагнацию значительной части Италии и в первую очередь Сицилии — «малой родины» автора. Сам Лукино Висконти сделал экранизацию книги, известную в российском прокате под названием «Леопард».
Вот что говорит главный герой романа о своих консервативно настроенных земляках. «Сицилийцы никогда не захотят исправиться по той простой причине, что уверены в своем совершенстве. Их тщеславие сильнее их нищеты. Любое вмешательство чужих, будь это чужие по происхождению или, если речь идет о сицилийцах, по независимому духу, воспринимается ими как посягательство на утопию о достигнутом совершенстве, способное отравить сладостное ожидание небытия. <...> Сицилия спала и не хотела, чтоб ее будили. Зачем ей было слушать их, если она богата, мудра, честна, если все ею восхищаются и завидуют ей — одним словом, если она совершенна?»
Вместо слова «Сицилия» можно подставить «Россия», и всё будет верно. Можно подставить еще целый ряд стран и регионов (Испанию, Германию, Польшу, юг США и даже Англию), про которые не подумаешь сегодня ничего такого. Но и они в недавнем прошлом крепко спали, считая себя верхом совершенства.
Лампедуза подметил не столько сицилийский феномен, сколько специфику любого традиционного общества, которое вдруг стали модернизировать. Люди, жившие раньше по заветам отцов и дедов, внезапно сталкиваются с реформами, радикальными переменами и приходят в растерянность. Рушится традиционный уклад жизни, появляются нахальные нувориши, растет дифференциация между богатыми и бедными, взлетают вверх цены, исчезают привычные рабочие места.
В долгосрочной перспективе, на протяжении десятилетий, а порой и столетий, модернизация делает общество богаче, образованнее, стабильнее. Но для тех, кто непосредственно сталкивается с изменениями, реформы представляют собой тяжелейшее испытание. Будут ли когда-нибудь у них позитивные результаты, простой человек не знает, а трудности испытывает здесь и сейчас.
В итоге у той части общества, которой плохо удается вписаться в новую жизнь, формируется защитная реакция. Да, мы живем тяжело, но зато выполняем великую миссию. Да, мы самих себя спасти не способны, зато мир спасаем. Или строим для него светлое будущее. На худой конец, просто восстанавливаем историческую справедливость. И вообще, мы лучше, честнее, духовнее или культурнее всего остального человечества.
Неудивительно, что по отношению к тем прагматично настроенным умам, которые пытаются иллюзии рассеять, общество настроено враждебно. Они чужие, как подметил Лампедуза, либо по происхождению, либо по независимому духу. Эти люди «творят страшное» — лишают общество его нынешнего психологически комфортного состояния. Кто же они, как не иностранные агенты, представители пятой колонны или попросту бандерлоги?
Сегодня невозможно уже восстановить мессианские иллюзии прошлого, однако желание подсластить пилюлю модернизации никуда не исчезло. Мир мы, конечно, не спасем, но хоть историческую справедливость восстановим.
Взяв Крым, российское общество обрело иллюзию величия. Получило оно ее сравнительно «малой кровью». В нищету пока еще впадать не приходится. Снижается ВВП, растут цены, падают реальные доходы, но бедствия терпимы. И в целом выигрыш от «тщеславия», от представления, будто мы встали с колен, восстановили справедливость и вновь на равных соперничаем с самой богатой страной мира, пока перевешивает бремя экономических трудностей.
Борьбу тщеславия с нищетой сейчас в публицистике принято именовать войной телевизора с холодильником. Пока телевизор активно подпитывает тщеславие, медленное опустение холодильников не столь заметно. Однако со временем телезритель станет замечать, что всё труднее становится удовлетворять привычку закусывать во время просмотра духоподъемных передач. Всё дольше приходится шарить по опустевшим полкам, пропуская рассказы о нашем общем величии и о сакральности отдельных мест нашей родины.
В тот момент, когда духоподъемные речи приходится выслушивать с неприятным сосущим чувством под ложечкой, нищета перестает быть сильнее тщеславия. В такой момент общество вновь обращается к модернизации. К трудному, неприятному и часто не вполне справедливому делу, без которого, однако, невозможно стать по-настоящему великой державой.
Зачем нам был нужен Донбасс?
Вслед за Крымом пришел Донбасс, и это была уже совершенно иная история.
Война в Донбассе — не маленькая и не победоносная. Там, увы, имеется множество жертв, причем не только среди боевиков, но и среди мирного населения. Хотя народ у нас к жертвам привычный (если, конечно, погибают не близкие родственники, а чужие люди) и патриотизм его от понесенных потерь не убавляется, превратить конфликт, разгорающийся на полях Донбасса, в маленькую победоносную войну весьма затруднительно. Поэтому российская позиция по Крыму и по Донбассу оказалась принципиально различна.
Когда затевалась вся эта история, Путин сомневался, похоже, в необходимости военного противодействия киевскому режиму на юго-востоке Украины. В мае 2014 г. он заявил о преждевременности референдумов, намеченных в Донецке, Луганске и Харькове. Донецк с Луганском не вняли предупреждению президента России, а Харьков внял. В итоге первые два региона вместо крымского «процветания» получили кошмарную войну, трагедии и разрушения, тогда как харьковчане живут сравнительно спокойно.
Хотя присутствие российских военных в Донбассе несколько раз было зафиксировано, Кремль воздержался от действий по крымскому сценарию. Участие нашей армии в этом конфликте он неизменно отрицает, и однозначно признаёт Донбасс украинской территорией, которая, правда (с точки зрения Кремля), нуждается в серьезном усилении самостоятельности. Соответственно, Россия не вводит туда войска в таком объеме, чтобы разом пресечь попытки Украины вернуть Донбасс себе. Вместо этого долгое время ведутся переговоры, которые к успехам пока не привели. И вину за срыв миротворческого процесса Москва постоянно «вешает» на Киев.
В общем, Путин не стал представать перед народом в роли спасителя Донбасса, однако и отступаться от данной проблемы тоже не стал. Россия имеет свою политическую позицию по событиям, происходящим на юго-востоке Украины, однако действует там без радикализма. Во всяком случае, таких радикалов, как Игорь Стрелков (готовых сражаться до победного конца), из Донбасса быстро убрали и заменили людьми, внимательно прислушивающимися к сигналам, поступающим из Москвы. Если поступит вдруг сигнал сдавать позиции, они послушно возьмут под козырек, соберут манатки и «эмигрируют» в Москву.
Может ли вдруг поступить команда прекращать сопротивление? Думается, что в донбасской истории у Кремля есть два возможных сценария действий.
Первый сценарий — «разменять» Донбасс на Крым. Если с нас снимут санкции и тем самым фактически признают принадлежность Крыма России, Путин, скорее всего, отступится от Донбасса и посоветует его лидерам пойти навстречу предложениям Киева, который формально готов осуществить децентрализацию в системе управления страной. Понятно, что юридически ни Украина, ни страны Запада не признают Крым российским еще очень долго, но для Кремля важны практические действия, а не формальности. И их он с нетерпением ждет.
Не исключено, что рано или поздно дождется, поскольку на Западе есть политики, которые хотели бы предстать перед своим электоратом людьми, разрешившими российско-украинскую проблему. Политический тупик всем надоедает. Даже с советскими властями Запад рано или поздно шел на сотрудничество, а уж с прагматиком Путиным тем более может когда-нибудь договориться.
Второй же сценарий реализуется в то время, пока Вашингтон, Брюссель и Киев отказываются идти Москве навстречу. Если они никогда навстречу не пойдут, то этот «план Б» станет ключевым. Дело в том, что Украина, не решившая проблемы Донбасса и втянувшаяся в длительную войну, не имея для нее ресурсов, представляет собой довольно грустное зрелище. Положение дел в экономике там даже хуже, чем у нас, причем реалистичных выходов из кризиса пока не видно. Финансовая стабилизация оборачивается резким падением уровня жизни, новым майданом и правительственным кризисом, а отказ от финансовой стабилизации и новый виток популизма фактически похоронят экономику, не способную в подобных условиях привлекать инвестиции. Выходит замкнутый круг.
Думается, что метания киевских властей в таком кругу полностью устраивают Москву. На фоне украинского экономического кризиса можно постоянно говорить российскому народу, что наш кризис — не более чем временные трудности. А на фоне жесткой украинской внутриполитической борьбы можно стращать россиян с телеэкрана майданами, революциями, утратой стабильности и, по большому счету, демократизацией как таковой. До тех пор, пока Украина, выбравшая прозападный курс, находится в подобном тяжелом состоянии, Россия будет затягивать пояса, поддерживать своего национального лидера и шарахаться от идущих с Запада советов как черт от ладана.
В общем, поддержка Россией Донбасса губительна для Донбасса и для Украины. Конфликт привел в конечном счете к тому, что Европа потеряла Россию, Россия потеряла Украину, Украина потеряла Донбасс, а Донбасс потерял себя. Но всё это оказалось чрезвычайно выгодно Кремлю. Он делает первый ход и выигрывает партию при любом ответе со стороны противника.
Какую идеологию предпочел Кремль
Главной операцией, предпринятой Путиным для укрепления своей власти, являлось присоединение Крыма. Кризис в Донбассе создал возможность для торга с Западом. Но таких разовых акций недостаточно для пожизненного правления Россией. Серьезный правитель стремится всегда опереться не только на ситуативный энтузиазм народа, но и на идеологию, объясняющую обывателю, почему тот должен поддерживать национального лидера постоянно.
Владислав Сурков в бытность свою главным кремлевским политическим манипулятором требовал от «Единой России» создать работоспособную идеологию. Успеха в этом деле единороссы не достигли, но надо признать, что в эпоху «путинского процветания» фундаментальное промывание мозгов вряд ли вообще было нужно, поскольку многие люди и так поддерживали власть по причине роста реальных доходов. Зато в нынешний кризисный период машина для промывания мозгов Кремлю требуется обязательно. Ведь если жизнь становится труднее, Путин должен как-то объяснять избирателю, зачем бесконечно сохранять во главе страны старого президента.
В последние годы было предпринято две попытки создать в России официальную идеологию. На эту роль пробовали евразийство и консерватизм. Однако как в том, так и в другом случае идеологи не сильно преуспели.
Евразийство для промывания мозгов хорошо тем, что рассматривает Россию как особую цивилизацию, находящуюся в центре континента, а вовсе не как периферию западной культуры. Убежденный евразиец может гордиться своей великой ролью и считать, будто Россия способна притягивать к себе как страны континентальной Европы (в том числе Францию, Германию, Италию), так и Восток (Китай, Индию, Среднюю Азию). Все вместе эти континентальные страны должны противостоять атлантизму, олицетворяемому Америкой и Британией.
Обывателю приятно думать, будто мы — лидеры мира, противостоящего США. Но проблема евразийства состоит в том, что очень уж эта умозрительная конструкция расходится с фактами. И чем дальше — тем больше. Самый изощренный идеолог не сможет объяснить самому туповатому телезрителю, почему Европа движется в американском фарватере, накладывая на нас санкции, тогда как по евразийской теории должна молиться на великую Россию.
Консерватизм делает ставку не столько на геополитику, сколько на политику внутреннюю. Он объясняет россиянину, привыкшему в нулевые годы к сравнительно благополучной жизни, что радикальные перемены опасны и что главное для нас — предотвратить сползание в хаос, не допустить майдана и революции. Люди видят, что жизнь становится труднее, но сравнивают ее (в свете консервативной идеологии) не с прошлыми успехами, а с гипотетическими катастрофами, которые произойдут, если мы устроим протест, сменим Путина на Навального или совершим еще что-нибудь столь же безумное.
Чтобы пробудить в народе консервативные чувства, телевидение изо всех сил стремится донести до зрителя информацию о том, как плохо жить на Украине, погнавшейся за журавлем в небе, но упустившей в итоге даже синицу из руки. Правда, при этом консерватизм всё же не может объяснить обывателю, почему для сохранения традиций и успехов прошлого в России выстраивается запредельно коррупционная система правления. Любой нормальный сторонник данной идеологии скажет, что консерватизм — это, конечно, хорошо, но вор должен сидеть в тюрьме, и если Путин с решением данной задачи не справляется, то можно (без всяких майданов, революций и погружения в хаос) попробовать выбрать в 2018 г. более эффективного президента.
Работоспособная идеология в нынешней ситуации должна полностью отключать у обывателя мозги и перекладывать нагрузку на эмоции. Именно поэтому предложения евразийских и консервативных интеллектуалов оказались не слишком востребованы, а на практике утвердилась простенькая идеология осажденной крепости. Мы — совершенно одни. Вокруг — сплошные враги. Европа — марионетка Америки. Украина — под внешним управлением. Все хотят урвать кусок у богатой ресурсами России. Один лишь Путин проникает мыслью в планы коварных агрессоров и распознает их стремления вторгнуться в Крым, устроить майдан, подорвать положение дружественного нам батьки.
Если представить себе, что ситуация настолько плоха, то все вопросы о коррупции властей отходят на задний план. Когда Россия выступает против такого большого количества врагов разом, народ начинает думать о необходимости сплочения вокруг национального лидера, который настолько мудр, что строит великую дружбу с Китаем, благодаря чему мы в конечном счете одолеем Америку и станем сильнее всех.
Подобная перспектива захватывает сердца, и вот уже миллионы обывателей судачат не про роскошный дом кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не про дорогую лондонскую квартиру вице-премьера Игоря Шувалова и не про офшорные миллиарды старого путинского друга музыканта Сергея Ролдугина, а про коварные планы агрессоров и наш ответный удар.
В такой эмоциональной атмосфере Путин запросто выиграет выборы 2018 г.
Полный список врагов России
Мысль о том, что наша страна окружена врагами, не смогла бы так легко быть внедрена в сознание народа, если бы люди давно уже не искали врагов вокруг себя. Простая инвентаризация ярлыков, которые за последние годы российские граждане навешивали друг на друга, способна привести в уныние:
1. Олигархи
2. Либерасты
3. Экстремисты
4. Кощуницы
5. Матерщинники в СМИ
6. Пираты-экологи
7. НКО, занимающиеся политикой
8. Гомосексуалисты
9. Педофилы и порнографы
10. Ученые-шпионы (разгласители государственных тайн)
11. Враги Путина
12. Деятели лихих девяностых
13. Бандерлоги
14. Мигранты:
a. Лица «кавказской национальности» (граждане РФ)
b. Лица, проникающие в РФ благодаря безвизовому режиму
c. Лица, рожающие больше детей, чем разрешает В. Жириновский
1. Лица, отрицающие нашу победу в Великой Отечественной войне
2. Лица, призывающие к расчленению России
3. Сепаратисты (то есть не призывающие, а действующие):
a. Стремящиеся отделить Чечню
b. Стремящиеся отдать Японии Курильские острова
c. Стремящиеся отдать Латвии Пыталовский район
d. Не стремящиеся вернуть Крым России
1. Лица, подкупленные:
a. М. Ходорковским
b. Б. Березовским
c. Г. Таргамадзе
d. Госдепартаментом США
1. Агенты ЦРУ
2. Наркозависимые граждане
3. Слишком независимые граждане
4. Поставщики:
a. Молдавских и грузинских вин
b. Боржоми
c. Рижских шпрот
d. Литовских молочных продуктов
e. Белорусских молочных продуктов
f. Американских куриных окорочков
g. Польского мяса
h. Украинского шоколада
1. Сторонники вхождения Украины в Евросоюз
2. Прихватизаторы, продавшие Россию:
a. Оптом дяде Сэму
b. В розницу прочим плохим дядям
1. Секта Навального
2. Представители тоталитарных сект
3. Чиновники и политики:
a. Имеющие счета за границей
b. Имеющие недвижимость за границей
c. Не имеющие ни стыда, ни совести
d. Входящие в партию жуликов и воров
1. Члены кооператива «Озеро»
2. «Коммуняки»
3. «Кровавая гэбня»
4. «Банда Ельцина»
5. Не наши (то есть те, кому противостоит движение «Наши»)
6. Не местные (то есть те, кому противостоит движение «Местные»)
7. Политологи, которых надо скормить зверям в зоопарке
8. Социологи, которых прикармливает власть
9. Журналюги и журналюшки, виноватые вообще во всем
10. А. Чубайс, который тоже виноват абсолютно во всем.
Наверняка я ряд важных позиций упустил, но внимательные читатели смогут этот список дополнить самостоятельно.
Вообще-то надо признать, что общество, у которого столько врагов, находится в опасном положении. Но отнюдь не из-за того, что враги совершат агрессию, а по той причине, что каждая из точек потенциальной напряженности может превратиться в реальный конфликт, где люди, не осознающие истинных причин мучающих их проблем, начинают мочить друг друга в надежде то ли получить реальное облегчение, то ли просто выместить накопившуюся злость.
Впрочем, при ближайшем рассмотрении проблема оказывается не столь серьезной. В ряде случаев имеет место, скорее, имитация противостояния, чем возникновение истинно конфликтной ситуации. В современной политике часто обнаруживается двойное дно. Врага придумывают не из ненависти, а для того, чтобы решить какую-то частную проблему. Как говорится, ничего личного — только бизнес.
Самая очевидная причина создания врагов — это получение финансирования. Если оказывается, что родине кто-то угрожает, мы создаем организацию для ее защиты, а затем начинаем претендовать на выделение средств, помогающих с врагами бороться. Молодежная прокремлевская политическая активность в основном на этом и строится, хотя большинство рядовых членов патриотических организаций вряд ли подозревают, для каких целей их используют.
Другая причина появления врагов связана с той коммерческой выгодой, которую приносит борьба. Любые запреты на поставку «недоброкачественных» продуктов приводят к переделу рынка. Дефицита не возникает: освободившиеся ниши сразу же занимают конкуренты, которые, возможно, сами и позаботились о возведении санитарных кордонов на границе. И прибыль, соответственно, поступает в карманы этих предусмотрительных конкурентов.
Третья причина «охоты на ведьм» состоит в том, чтобы под шумок разработать максимально репрессивное и неконкретное законодательство. Надо у кого-то отнять бизнес — выяснится вдруг, что терпила то ли родину расчленял, то ли геев защищал, то ли прихватизировал что-то не по закону. Надо закрыть неугодное СМИ — мигом найдут в нем недопиканный мат. А наивные добрые обыватели будут думать, будто идет борьба за нравственность.
Четвертая причина состоит в том, чтобы напугать обывателя и заставить массы сплотиться вокруг того, кто готов их от этого врага защитить. Однако опасность такого рода действий состоит в том, что испуг обывателя должен быть неподдельным. И если политики перестараются в запугивании народа, то дело может кончиться погромами, к которым, на самом деле, вожди вовсе и не стремились. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Наконец, есть еще одна широкая зона ненависти. Это ненависть к свободе, или, точнее, страх свободы, порождающий ненависть к либерастам.
Либерализм вообще-то очень простое мировоззрение, сводящееся к тому, что человек должен быть свободным. Что здесь, собственно, ненавидеть? Но вынести свободу трудно. Чтобы использовать ее для самореализации, надо быть личностью. А тот, кто личностью стать не может, естественным образом видит врага во всяком, чье поведение не вписывается в традиционные нормы. И в этом смысле именно неприятие либерастов наиболее характерно для модернизирующегося общества, где миллионы людей вынуждены искать себе новые нормы поведения взамен уходящих в прошлое. Если такому обществу удается перейти от поиска врагов к работе на созидание, оно становится развитым. Если не удается, оно погружается в хаос.
Слабость кремлевской идеологии
Чтобы сохранить поддержку населения в условиях кризиса и выиграть президентские выборы, Путин выстраивает идеологию осажденной крепости. По всей видимости, в краткосрочном плане эта идеология сработает эффективно. Но можно ли таким образом по-настоящему укрепить общество? Вряд ли.
Дело в том, что идеология может быть позитивной и негативной. Позитивная — показывает людям светлую перспективу (возможно, ошибочную), ради которой стоит жить и бороться с врагами. Негативная — демонстрирует только врагов. Она стращает обывателя всякими ужасами и заставляет отчаянно отбиваться от «агрессоров», но не создает при этом никакого образа будущего.
Яркий пример позитивной идеологии — это коммунизм. Первые поколения строителей коммунизма искренне верили в то, что ради счастья детей и внуков нам стоит претерпеть разного рода трудности. Стоит затянуть пояса, сражаться с агрессорами, терпеть тирана-правителя, без мудрости которого эти агрессоры раздавят Советский Союз. Коммунистическая идеология рухнула лишь с приходом поколения семидесятников, не видевшего уже светлых перспектив и отчетливо понимавшего, что брежневское руководство лишь паразитирует на «великих идеях», не веря на самом деле ни в Бога, ни в Маркса.
Христианство — пример долговременной позитивной идеологии, которая переносит светлое будущее в мир иной, а потому не устаревает, как коммунизм, на протяжении жизни двух-трех поколений. Исламские фундаменталисты, готовые жертвовать собой, тоже являются представителями идеологии, рисующей светлый образ будущего и способной увлечь людей, отчаявшихся получить надежду на спасение в этом мире.
Яркий пример негативной идеологии — конспирологическая версия о жидомасонском заговоре, применявшаяся в разных странах в разные времена. Она пугала народ опасным врагом, порождала погромы и даже геноцид, но не рисовала никакой светлой перспективы, способной сделать жизнь лучше. Ну, справимся мы с супостатами, а дальше-то что, размышлял обыватель? Ведь и при нашей власти жизнь-то совсем не сахар.
В отличие от великих религий и великих иллюзий прошлого, негативная идеология путинской эпохи не способна дать людям четкую цель в жизни. По сути, она представляет собой не более чем невроз, когда запуганный телевидением зритель видит со всех сторон революционеров, майдаунов, национал-предателей, либерастов и прочую «нечисть», стремящуюся, как он полагает, вернуть общество в «лихие 90-е», когда зарплаты были низкими, а пенсии — нищенскими.
Ради сохранения своего нынешнего благосостояния российский обыватель готов полюбить Путина, поверить в антикризисные усилия правительства и даже дать добро на некоторое увеличение числа пушек вместо импортного масла (но так, чтобы хотя бы отечественное на прилавках лежало!).
Подобная негативная идеология способна создать иллюзию широкой поддержки и даже привести значительную часть общества к урнам для голосования за Путина в 2018 г. Но у нее есть два серьезных недостатка.
Во-первых, негативная идеология, в отличие от позитивной, не порождает героев, готовых бескомпромиссно бороться за нынешний политический режим. Путинский избиратель спокойно потратит часик своего времени, чтобы пойти на участок и бросить в урну бюллетень, но не выйдет защищать режим ценой своей жизни и здоровья в кризисной ситуации: если, не дай Бог, и впрямь случится какая-то радикальная революция. Ведь режим-то для обывателя ценен лишь тем, что дает возможность спокойного, растительного существования.
Во-вторых, негативная идеология мгновенно умирает в случае, если власть меняется, а никаких напророченных пропагандой ужасов не происходит. Иными словами, идеология воздействует на обывателя лишь до тех пор, пока элиты заинтересованы дурить ему голову. Если же элита вдруг предлагает народу иную модель развития, он быстро теряет свои недавние идеалы. И упоение от того, что Крым наш, развеивается, как дурной сон.
Негативная идеология не переживет своего создателя, если элиты не захотят ее культивировать дальше. А они вряд ли этого захотят, поскольку в перспективе уже не будут иметь от сохранения путинского политического режима тех выгод, которые имели в нулевые годы. При низких ценах на нефть невозможно извлекать былую нефтяную ренту. Невозможно получать былые прибыли от бизнеса, брать былые взятки и откаты, сохранять астрономические зарплаты для ближайшего окружения вождя.
Новому поколению российских лидеров понадобится выстраивать свое благосостояние иным путем, чем нынешнему. И путь этот предполагает создание эффективной экономики, являющейся частью мирового рыночного хозяйства. Поэтому к тому времени, когда Путин уже не будет править Россией, в элите, скорее всего, сформируются устойчивые представления о необходимости разрядки международной напряженности и о необходимости жить по сложившимся европейским правилам. В такой ситуации идеология осажденной крепости не сможет быть востребована, и телевидение быстро перестанет кормить народ подобной духовной продукцией.
Что Путину нужно было в Сирии
Разгром запрещенного в России Исламского государства (ИГ), о необходимости которого постоянно говорит российское руководство, конечно, являлся не более чем надуманным предлогом для осуществления боевых действий в Сирии. Опыт ведения войны СССР и США в Афганистане, а также опыт американской войны против Саддама Хусейна в Ираке показал, что идеи (пусть даже самые дикие, примитивные) невозможно уничтожить с помощью армии. А тем более с помощью одних лишь бомбардировок, которые осуществляла в Сирии Россия, не прибегая к наземным операциям. Идеи, даже разбомбленные, возрождаются в иной форме. И сегодня уже очевидно, что сирийская операция Путина так и не смогла уничтожить ИГ, хотя, конечно, доставила ему некоторые неприятности.
Столь же ошибочным является представление, будто Владимир Путин пытался спасти любой ценой режим Башара Асада.
Российский президент достаточно прагматичен для того, чтобы не заниматься спасением чужих диктатур. Он не спасал ранее ни Саддама, ни Каддафи. А вот собственный политический режим он действительно любой ценой намерен сохранить. Именно с этим, думается, связано было наше неожиданное желание бомбить ИГ.
Говоря выше о слабости новой кремлевской идеологии, я подчеркивал, что Путин сегодня пытается сплотить российское общество, создав из него своеобразную «осажденную крепость», но не предлагает великой цели, ради которой стоило бы терпеть лишения. Однако некий эрзац подобной цели всё же имеется. Именно для ее достижения, собственно говоря, мы и воевали в Сирии.
Путин не должен предстать в глазах российского общества изолированным маргиналом — изгоем, которого сторонятся другие мировые лидеры. А ведь в связи с событиями на Украине подобная опасность появилась. Наша страна попала под санкции. Экономика деградирует. С президентом России никто из западных лидеров не хочет встречаться. А на тех саммитах, куда его нельзя не пригласить, Путину постоянно напоминают о необходимости прекратить вмешательство в украинские дела.
Неприятная вроде бы создалась ситуация. Но, как известно, лучшая защита — это нападение. Путин не стремится оправдываться и объяснять, почему мы имеем право решать судьбу Украины. Вместо подобных разъяснений он во всех своих ключевых выступлениях хочет показать ущербность сложившегося сегодня однополярного Pax Americana. Путин позиционирует Россию в качестве альтернативного Соединенным Штатам лидера, способного решить ключевые проблемы XXI века иными методами.
До сих пор на переднем крае борьбы с международным терроризмом находились США. Ради этого они вторгались в Ирак и Афганистан. Однако, разгромив существовавшие там режимы, американцы спровоцировали формирование на развалинах прежних государств еще более сильного противника, такого как ИГ. Ущербность вашингтонской стратегии со временем стала очевидна практически всему миру, и Путин стремится этим воспользоваться. На самом деле он, конечно, не представляет никакой альтернативы американцам, предлагая всё те же силовые действия, продемонстрировавшие свою неэффективность. Но для решения задачи мобилизации российского электората на очередных выборах важно ведь не реальное достижение внешнеполитических целей, а то, как всё это будет интерпретировано нашим телевидением.
При подаче с экрана создается порой впечатление, что Путин уже сейчас стал фигурой, равной по значению американскому президенту, а то и превосходящей его. Таким образом, у российского телезрителя формируется ощущение, будто мы спасаем мир. Традиционное отечественное мессианство, кормившееся в XIX веке идеями панславизма, а в XX столетии — борьбой за мировую коммунистическую революцию, ныне подпитывается мыслью о том, что именно Великая Россия спасет человечество от кошмара международного терроризма. А на смену ущербному исламскому фундаментализму Россия предложит здравые консервативные идеи: твердый порядок вместо майдана, пламенный патриотизм вместо мультикультурализма, крепкую семью вместо гомосексуализма.
Те западные политики, которые готовы разделить с Путиным эти ценности (например, француженка Марин Ле Пен), получат, возможно, от России поддержку, в том числе финансовую. И будут под камеру нашего TV говорить о Путине как об истинном мировом лидере. Не важно, что на самом деле это не так. Важно, что в глазах избирателя станет формироваться именно та картина мира, какая нужна Кремлю для сохранения нынешней политической системы.
При необходимости Кремль наймет ряд зарубежных политологов (или сам создаст их из ничего), которые начнут с нашего телеэкрана вещать о том, что, мол, Путин пользуется на Западе всё большим авторитетом. А западные эксперты, считающие иначе, будут писать в западных газетах, но не у нас.
«Того, что нет на телевидении, нет в жизни», — говорил герой знаменитого американского фильма «Хвост виляет собакой», излагающего в смешном виде азы современной политтехнологии. Кремль реализует эту мысль, прорабатывая ее на российском электорате. Ведь ради «правильной» телевизионной картинки не грех сбросить несколько бомб на международных террористов.
Тайны курса на импортозамещение
В августе 2014 г. Россия официально провозгласила переход к экономической политике импортозамещения. Чтобы активно способствовать развитию бизнеса отечественных производителей, был осуществлен полный запрет на импорт подавляющего большинства продуктов питания из тех стран, которые раньше ввели экономические санкции против России.
Такой жесткий протекционизм в настоящее время является редкостью. Обычно страны, желающие ограничить импорт, вводят высокие таможенные пошлины (порой столь высокие, что фактически они превращаются в запретительные) или прибегают к нетарифным ограничениям (скажем, к запрету импорта по разным санитарно-эпидемиологическим показателям). Но полный запрет ввоза товаров есть свидетельство совершенно экстраординарной политики.
Обычно для проведения экстраординарной политики ответственные государственные деятели проводят экстраординарную аналитическую подготовку. Она необходима для появления полной уверенности в том, что мы не ударяемся в шарлатанство. Ведь если политик допускает серьезную ошибку, следуя стандартным рекомендациям, принятым в экономической науке, то она в какой-то мере простительна: ошибся вместе со всеми, доверился специалистам. Но ошибка, которую политик допускает, идя наперекор всей современной экономической мысли, выглядит непростительной вдвойне. Ведь для такого авантюризма не имелось никаких серьезных оснований.
Сегодня уже не остается сомнений в том, что Кремль серьезно ошибся при переходе к политике импортозамещения. Прошло два года, а позитивных результатов нет. Россия находится в экономическом кризисе. ВВП снижается. Реальные доходы населения тоже. Инвестиций явно не хватает для развития. В отдельных отраслях (например, в сельском хозяйстве) есть некоторый рост, который можно объяснить импортозамещением, но для нормального функционирования экономики этого абсолютно недостаточно.
Для сравнения отметим, что в 1998 г., когда Россию поразил азиатский финансовый кризис и рубль был сильно девальвирован, импортозамещение началось под воздействием рыночных стимулов. Без всякого государственного протекционизма. Без кремлевских приказов. Без шумной пропагандистской кампании. И результаты появились уже на следующий год. Экономика начала расти, а через два года она уже росла такими темпами, которых Россия не знала ни до, ни после. Ныне же через два года мы только-только стали нащупывать дно той пропасти, в которую продолжаем падать.
Более того, надо принять к сведению, что мировая экономика сейчас не находится в кризисе и объяснить российские проблемы общим состоянием дел невозможно. Другие страны без всякого импортозамещения продолжают развиваться. Россия же в лучшем случае надеется на то, что в ближайшее время спад прекратится и экономике всё же удастся «лечь на дно».
Что же произошло? Как можно объяснить такой конфуз? Он выглядит совершенно необъяснимым, если рассуждать исключительно об экономике, поскольку политика импортозамещения была модной в науке 1950—1970-х гг., да и то преимущественно в странах Латинской Америки. К 1980-м гг. она полностью провалилась, что особенно ярко было видно на фоне значительных успехов экспортоориентированной политики стран Юго-Восточной Азии (Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга). С тех пор мода на импортозамещение прошла. Выходит, что Россия «оделась» вдруг по моде наших бабушек и при этом рассчитывала, по-видимому, иметь успех в свете.
Можно подумать, конечно, что во всем виноваты российские экономисты — убогие, необразованные, отставшие от современной науки. Однако на самом деле в серьезной российской науке проблематика импортозамещения практически не присутствует. Ни среди тех, кто пишет сугубо профессиональные статьи, ни среди тех, кто предлагает свои рекомендации властям. Дискуссии идут весьма интенсивно, и часто сталкиваются непримиримые мнения, но это всё не касается импортозамещения. Споры идут совершенно о другом. И перед принятием российских протекционистских мер в августе 2014 г. никаких серьезных разговоров об импортозамещении среди профессионалов не велось.
Характерно, что мы хорошо знаем авторов всех экономических программ (в том числе нереализованных), которые писались для Кремля, начиная с 1987 г. Но до сих пор толком неясно, был ли хоть один серьезный экономист, который обосновывал курс на импортозамещение летом 2014 г.
Вывод из всего этого можно сделать только один. С экономической точки зрения импортозамещение вообще никто никогда не обосновывал. Это была чисто политическая мера. После присоединения Крыма Россия попала под западные санкции. Отношения обострились до предела. Кремль захотел жестко ответить «противнику». Вводить персональные запреты на въезд западных политиков в Россию было бессмысленно, поскольку эти люди здесь и так почти не бывают. Вводить запрет на экспорт капитала и технологий тоже смысла не имело, так как Россия вообще мало что может Западу в этом плане предложить.
Самым простым вариантом ответа было ударить по тем зарубежным производителям, которые зарабатывают на российском рынке. Но поскольку от этого пострадали и российские потребители, надо было как-то объяснить народу новый шок. Решили объявить его не шоком, а шокотерапией. Мол, потерпеть придется без зарубежных товаров, но зато экономика наша поднимется.
В чем причина провала импортозамещения?
Справедливости ради надо признать, что импортозамещение всё же не являлось стопроцентной авантюрой. Хотя оно не обосновывалось экономически, однако на уровне здравого смысла были обстоятельства, склонявшие российские власти к мысли, что новый курс может сработать.
Глядя на успех импортозамещения, имевший место в 1998 г., кремлевские мечтатели могли предположить, что и на этот раз произойдет нечто подобное. Особенно, если подкрепить рыночные стимулы, возникшие у отечественных производителей благодаря падению рубля, запретительными административными мерами по отношению к их иностранным конкурентам.
На самом деле нынешняя ситуация существенно отличается от той, что была в конце 1990-х, но на эти «детали» предпочли не обращать внимания, поскольку очень хотелось насолить тем, кто ввел против России санкции.
Первое отличие состоит в масштабах девальвации рубля. В 1998 г. он рухнул по отношению к доллару примерно в пять раз. Это привело к столь сильному обнищанию российского населения, что импортные товары оказались доступны лишь узкому слою самых богатых людей, имеющих возможность вообще не считать деньги, которые они тратят на личное потребление. Российский бизнес стал подниматься тогда именно благодаря масштабности девальвации рубля. Практически любой отечественный продукт был дешевле западного.
Ныне же рубль рухнул примерно лишь в два раза. Кроме того, россияне в среднем перед нынешним кризисом были намного богаче благодаря успешным нулевым годам. В общем, платежеспособность населения осталась более высокой, чем в 1998 г., и, соответственно, сохранилась возможность покупать импортные товары.
Второе отличие связано с наличием условий для роста. В 1998 г. многие производственные мощности, оставшиеся еще от советской экономики, были недостаточно загружены из-за длительного трансформационного спада, начавшегося в 1991 г. А значит, российским предпринимателям не надо было осуществлять больших расходов. Они могли производить товары на старых заводах и даже порой на старом оборудовании с минимальными инвестициями.
Сегодня ситуация иная. После длительного подъема нулевых годов у нас почти не осталось свободных мощностей. Для осуществления импортозамещения надо инвестировать большие деньги. Но где их взять?
Зарубежные кредиты слишком дороги по той же самой причине, по которой дороги зарубежные товары. Рубль рухнул. Слишком много надо продать товаров за рубли, чтобы окупить кредит, взятый в долларах или в евро.
Отечественные кредиты тоже дороги, но по другой причине. Центробанк в борьбе с падением рубля сильно поднял свою процентную ставку. Ведь если давать экономике дешевые деньги, значительную их часть спекулянты тут же обрушат на валютный рынок, и рубль продолжит падение. Но если Центробанк дает деньги коммерческим банкам под высокий процент, борясь со спекуляциями, это ударяет и по потенциальным инвесторам. Для них тоже деньги дороги.
Третье отличие связано с тем, что административные запреты на импорт не столь эффективны, как рыночные. Ведь если рубль рухнул в пять раз (как в 1998 г.), то он для всех рухнул в пять раз. А выстроенные государством в 2014 г. барьеры можно обходить с помощью коррупции. Лазеек много. Например, наиболее хитрые предприниматели импортируют товары через Беларусь, которая находится с Россией в едином таможенном пространстве. При этом белорусские власти и белорусский бизнес заинтересованы в контрабанде, поскольку такая посредническая торговля дает доходы предпринимателям и налоги казне. Если товар импортируется с Запада, но по документам проходит как белорусский, то он должен быть пропущен на территорию России. Конфликты Москвы и Минска по этому поводу случались часто, но вряд ли удалось контрабанду пресечь.
И, наконец, поскольку российский бизнес прекрасно понимает мотивы, по которым были введены запреты на импорт, он очень боится нормализации отношений с Западом. Есть ли смысл инвестировать деньги в импортозамещающие производства, если завтра вдруг Москва помирится с Вашингтоном, Брюсселем и Киевом, санкции отменят, а вместе с ними запреты на импорт отменят тоже? На российский рынок вновь хлынут качественные товары из Евросоюза, и конкурентоспособность отечественного производителя снизится. Более того, если вдруг вырастут цены на нефть, вслед за ними вырастет рубль, и положение российского бизнеса станет совсем тяжелым. Не лучше ли при таких угрозах вообще с импортозамещением не связываться?
Все эти причины в совокупности объясняют провал политики импортозамещения. Конечно, по отдельным товарам у хороших российских производителей всегда есть возможность выйти на рынок и вытеснить конкурента. Значит, в отдельных отраслях импортозамещение будет осуществляться. Однако нет оснований считать, что отдельные успехи могут поддержать экономику в целом. Пока большинство экспертов прогнозирует, что после завершения рецессии Россия войдет в длительную стагнацию.
Начни репрессии с себя
По мере того как развитие российской экономики заходит в тупик и выстраивается жесткий политический режим с идеологией, противопоставляющей нас развитому миру, всё чаще возникает вопрос: а не закончится ли дело массовыми репрессиями? Владимира Путина называют порой Сталин-лайт — но не превратится ли этот мягкий автократ в жесткого, если перед ним будут вставать всё более жесткие задачи?
До тех пор, пока большая часть населения страны искренне поддерживала Путина, связывая с ним рост реальных доходов, репрессии нашей власти не требовались. Протестующие представляли собой лишь небольшую часть общества, которую можно было, как правило, вообще игнорировать. Но теперь у нас начинается долгий период затягивания поясов. И если Кремлю не удастся на всем этом длительном промежутке времени поддерживать эйфорию по принципу «Крым наш!», число недовольных станет быстро расти. На протест могут выйти не только столичные интеллектуалы, осознающие всю губительность путинской системы, но также провинциалы, оставшиеся без работы, пенсионеры, страдающие от инфляции, и даже труженики ВПК, которым государство сильно задолжает из-за отсутствия средств в бюджете.
Массовость протеста провоцирует массовость репрессий. Если нельзя для удержания власти накормить общество, то его можно запугать. Сталинский режим, основанный на страхе и лжи, долгое время существовал, несмотря на голод и развал всей системы производства предметов потребления. Ныне ложь уже активно используется для формирования массовых представлений, будто Россия находится в кольце врагов. Теперь осталось добавить страха?
Скорее всего, нет. У сталинского режима имелась одна важная особенность, которую трудно воспроизвести сегодня. А без нее невозможно сделать репрессии по-настоящему полезными для поддержания режима.
Как рассуждал Сталин? Если посадить, скажем, одного маршала, мигом открывается целая система вакансий. Маршалом станет генерал. На его место придет полковник. Майор продвинется на полковничью должность. Капитану доверят батальон, которым раньше командовал майор. И так далее.
Не исключено, что квартира маршала отойдет прокурору, теснившемуся раньше в коммуналке, а в освободившиеся от прокурора комнаты въедет провинциальный партработник, переведенный на службу в Москву.
Имущество маршала в суматохе растащат кухарка, дворник и энкавэдэшники, осуществлявшие арест. Жена маршала (если молодая и красивая) выйдет замуж за «друга семьи», который, собственно, и настучал на старого рубаку. В общем, десятки людей получат определенный выигрыш, если репрессировать всего лишь одного человека. А если репрессировать миллион «верных ленинцев», выигрыш получат несколько миллионов пролетариев, превратившихся благодаря таким «социальным лифтам» в начинающих деятелей советской номенклатуры. На их пролетарские рабочие места придут крестьяне из голодающей деревни и будут славить великого Сталина за то, что он дал им кусок хлеба с маслом, когда десятки миллионов односельчан питаются щами из крапивы.
Не правда ли, очень эффективная система? А основатель такой системы, наверное, может считаться «эффективным менеджером», если под эффектом понимать не пользу для страны, а пользу для укрепления режима? Но вся система действует лишь при условии, что репрессии начинаются с самого верха. Поскольку если «верных ленинцев» щадить, а в места, не столь отдаленные, направлять доярок, то дело кончится не укреплением политического режима, а лишь сокращением объемов производства молочной продукции.
Может ли сработать подобная система «эффективного менеджмента» в наших современных условиях? Если, скажем, представителей креативного класса, имеющих обыкновение временами выходить на Болотную, отправить строить газопровод «Сила Сибири», то ВВП страны несколько сократится, а Сибирь вряд ли усилится, поскольку трубы в Китай тянуть — это не Беломорканал рыть. Нужны не мужики с лопатами, а квалифицированные рабочие и инженеры. Креативщики в тайге быстро протянут ноги, а Путин в итоге не дождется китайских газодолларов.
Если же пересажать в большом количестве генералов ФСБ, работников прокураторы, народных избранников из числа жуликов и воров, мидовских борцов с американским империализмом, телепропагандонов, натравливающих нас на украинцев, а также всех прочих лиц, зарабатывающих правдами и неправдами огромные деньги, то сталинская система «социальных лифтов» вновь эффективно заработает. Газ до Китая, правда, и в этом варианте не дойдет, однако миллионы молодых людей с большими амбициями будут искренне славить национального лидера за предоставленные им карьерные возможности.
Движение «Наши» еще совсем недавно намекало Путину на то, что элита у нас неправильная и молодые карьеристы служили бы вождю гораздо лучше старых коррупционеров. Но почему-то Владимир Владимирович не стал обновлять элиту. Даже Сердюков не отправился шить варежки строителям «Силы Сибири».
Похоже, нынешняя российская элита живет по другим понятиям, чем сталинская. Она стремится продлить личное процветание, жертвуя при этом процветанием авторитарной системы в целом. И Путин ей в этом всецело помогает. Наверное, данный факт можно считать маленькой ложечкой меда в той бочке дегтя, которую на нас сегодня вывалили.
Глава 11. Владимир Путин 3.0
События, описанные в предыдущей главе, настолько изменили картину жизни в современной России, что впору говорить о принципиально новом Путине. Изменений в его политике очень много. И все они представляют собой части единой системы. Тщательно продуманной и выстроенной.
Три режима Путина
За 16 лет своего пребывания у власти (включая четырехлетнюю медведевскую интермедию) Владимир Путин сменил три политических режима. Каждый из них отвечал задачам соответствующего периода и трансформировался, когда возникали принципиально новые задачи. Понять смысл сегодняшних действий Кремля можно лишь в том случае, если мы не только проанализируем действия в Крыму, на Донбассе и в Сирии, но внимательно проследим эволюцию режимов и поймем, почему те «правила игры», которые были установлены раньше, в какой-то момент перестали устраивать «хозяина».
Хотя все три режима возглавлялись лично Путиным, каждый из них имел своего «творца» — ключевого политтехнолога. Создателем первого режима был Александр Волошин, второго — Владислав Сурков, третьего — Вячеслав Володин. Конечно, «персональное авторство» в таких случаях — это некоторая условность. Политические режимы являются продуктом деятельности целого аппарата, и личную роль президента здесь никак не следует преуменьшать. Но для простоты мы будем именовать три путинские эпохи моделью Волошина, Суркова и Володина, соответственно.
Волошин возглавлял кремлевскую администрацию в последние годы пребывания у власти Бориса Ельцина. Этого политического манипулятора справедливо относят к так называемой ельцинской «Семье», включавшей еще Татьяну Дьяченко, Валентина Юмашева и Бориса Березовского. Именно эти люди подобрали Путина в качестве президентского преемника и выстроили механизм, с помощью которого он пришел к власти. Для них Путин был не абсолютным властелином и не хозяином страны, а, скорее, первым среди равных.
Сурков работал лишь заместителем главы президентской администрации, но фактически сменил Волошина как главного манипулятора в тот момент (на рубеже 2003 2004 гг.), когда Путин понял, что может быть не первым среди равных, а полным господином над российской элитой. Произошло это в связи с резким ростом личной популярности президента в широких народных массах, вызванным двумя обстоятельствами: второй чеченской войной и увеличением реальных доходов населения на волне экономического роста.
Володин как заместитель главы кремлевской администрации вытеснил Суркова тогда, когда обстоятельства вновь радикальным образом переменились (в 2012 г.). Экономический рост практически прекратился. Увеличение доходов застопорилось, а к настоящему времени вовсе обернулось спадом. Массовые протесты зимы 2011—2012 гг. хотя и закончились ничем, однако продемонстрировали, что в «столицах» есть небольшая, но энергичная группа людей, прекрасно понимающих неустойчивость путинского «процветания» и не готовых мириться с авторитарным режимом, который к тому же еще и бесплоден.
Модель Волошина предполагала фактически сохранение ельцинского политического режима, но с некоторым усилением авторитарных начал. Кремль при Волошине довольно умело манипулировал сознанием граждан, но при этом не ограничивал основные свободы. Он применял персональные репрессии в отношении олигархов Березовского и Гусинского для установления собственного контроля над телевидением, но не предполагал контролировать бизнес. Для волошинской модели приоритетное значение имело экономическое развитие России, а авторитаризм выполнял лишь служебную роль, заключающуюся в обеспечении политической стабильности, необходимой для роста ВВП. По всей видимости, Волошин хотел создать что-то вроде эффективного авторитаризма чилийского, сингапурского, тайваньского или корейского образца и думал, что Путин готов придерживаться такой же стратегии.
Модель Суркова делала ставку на авторитарное правление, превращавшееся в самоцель. Путин при таком подходе должен был иметь возможность править фактически бессрочно. Ресурсы российского бизнеса использовали для политических нужд Кремля, а несогласных с подобным подходом бизнесменов могли так ущемить в правах, что они приходили к выводу о необходимости делиться с властью своими деньгами по-хорошему. Тем не менее все внешние признаки демократии модель Суркова сохраняла. По сути, она строилась на философии: живи сам и жить давай другим (в том числе тем, кто использует возможности режима для расширения власти и обогащения). Сурковская модель исходила из представления, что хорошо жить в России имеют право если не широкие массы, то хотя бы различные элиты: бизнес, политики, интеллектуалы.
Модель Володина должна в сегодняшних условиях обеспечивать бессрочное правление Путина, несмотря на то что уровень жизни начал снижаться и объективных оснований поддерживать Кремль у народа больше не имеется. Эта модель фактически строится на предположении, что при необходимости могут быть устранены даже внешние признаки демократии. Избиратель должен поддерживать Путина исходя из иррациональных соображений, то есть вопреки своей личной выгоде. А если он этого не делает, необходимо его заставить. Соответственно, всякая оппозиционная деятельность может быть пресечена, как только власть сочтет, что она угрожает стабильности режима.
От СМИ к СМРАДу
За долгие годы правления Владимира Путина в первую очередь качественно менялось отношение кремлевских властей к прессе.
В режиме Волошина никакой особой стратегии по отношению к массмедиа не существовало. Кремль тогда ориентировался на западные демократические стандарты и предполагал, что свобода слова является важнейшим условием нормального отношения к России со стороны потенциальных инвесторов, а также зарубежных политиков, влияющих на экономические процессы. Предполагалось, что мы не поднимем российскую экономику, если не будем играть по принятым на Западе правилам.
И действительно, в эпоху Волошина экономика начала по-настоящему «вставать с колен».
Естественно, Волошин не был идеалистом. Он допускал информационные войны и предполагал влияние государства на СМИ. При нем по противникам Путина нанесли три мощных удара. Сначала (осенью 1999 г.) была развязана информационная война против тандема Лужков—Примаков, в результате которой оба влиятельных политика были выведены из будущей президентской гонки. Затем у Владимира Гусинского, поддерживавшего этот тандем, отняли НТВ. И, наконец, Первый канал TV был выведен из-под влияния Бориса Березовского. Однако радикальной зачистки информационного пространства и превращения телевидения из средства массовой информации в средство массовой пропаганды тогда не предполагалось.
В модели Суркова телевидению и некоторым крупным газетам отводилась особая роль. Все СМИ тогда подразделялись на две части: имеющие электоральное значение и не имеющие такового.
Там, где осуществлялось воздействие на результаты выборов, никакой свободы слова не предполагалось. Западные стандарты демократии полностью устранялись с основных каналов телевидения, а также из газет (типа «Комсомольской правды»), имеющих огромные тиражи. Важнейшей задачей этих СМИ становилось промывание мозгов. А чтобы оно не надоедало обывателю, СМИ должны были превращаться в СМРАД (Средства массового развлечения, агитации и дезинформации), где интригующие телесериалы, захватывающие развлекательные шоу и напряженные спортивные состязания перемежались «политинформациями», формирующими у отдыхающей публики пропутинскую точку зрения по всем ключевым политическим вопросам.
При этом Сурков не был фанатиком СМРАДа. К агитации и дезинформации он относился весьма прагматично. Те СМИ, которые не влияли на результаты выборов из-за своих сравнительно малых тиражей, сохраняли практически полную свободу и превращались в любимое развлечение интеллигенции. Мыслящие люди могли без всяких ограничений получать нужную информацию и аналитические комментарии, но основная часть населения страны к свободным СМИ не обращалась просто потому, что свобода ее не интересовала. Повышающийся уровень жизни снимал у обывателя долгое время вопрос о том, чтобы разбираться в серьезных вопросах. Если жить и так хорошо, да к тому же если в памяти остаются трудности «лихих 90-х», то зачем вообще нужно ломать голову над сложными проблемами экономического развития?
В системе Володина предполагается в той или иной мере ставить под государственный контроль все СМИ. Дело в том, что нарастающие экономические проблемы неизбежно пробуждают у миллионов российских граждан интерес к политике. Ведь если жизнь не становится лучше, то возникает вопрос: не сменить ли нам на очередных выборах власть? Для получения ответа на этот вопрос люди могут временами отвлекаться от телеэкрана и обращаться к серьезным газетам, к неконтролируемому властями радио и к интернету. А там они станут обнаруживать квалифицированную критику режима экспертами и альтернативные предложения оппозиции, не допускаемой к «ящику» со времен Суркова.
Иными словами, в ситуации нарастающих экономических проблем существует вероятность превращения маловлиятельных оппозиционных СМИ, за которыми обыватель вчера еще не следил, в серьезные интеллектуальные центры, объединяющие недовольных. Примерно такие, какими в годы горбачевской перестройки становились журнал «Огонек» и газета «Московские новости», ранее ничем не выделявшиеся из общей массы безликой брежневской прессы.
Некоторые независимые издания уже сменили редакторов и стали послушными. Других в системе Володина «подвесили на крючок». Любой самостоятельный редактор теперь должен понимать, что при проявлении излишней оппозиционности он сильно пострадает. Свободную прессу лишают последних источников самостоятельного финансирования. Ее обкладывают со всех сторон такой системой законов, при которой малейшая оплошность может привести к закрытию издания. Ее правдами и неправдами стремятся передать под контроль лояльных Кремлю бизнесменов, способных уволить любого нелояльного к власти журналиста, который слишком много будет себе позволять.
В общем, если завтра из какой-нибудь скромной газеты или небольшого интернет-издания под воздействием нарастающих оппозиционных настроений станет развиваться что-то опасное для Кремля, президентской администрации достаточно будет лишь пальцем пошевелить, и этот проект исчезнет.
Мария Липман — главный редактор журнала Pro et Contra с 2004 по 2014 г.:
«Те печатные (и иные) СМИ, которые проводят относительно независимую редакционную политику, вместе со своей продвинутой, критически мыслящей аудиторией представляют собой нечто вроде "гетто": внутри почти никаких препон, но выход во "внешний" мир строго ограничен. Каждый реализует свою свободу высказывания,оставаясь на собственном, отдельном "островке". Власть готова мириться с их существованием лишь постольку, поскольку они остаются маргинальными, ни на что не влияют и не представляют для нее опасности. Маргинальность определяется далеко не только ограниченной аудиторией. Она обеспечивается тем, что относительно независимые СМИ радикально изолированы от федеральных телеканалов, а массовая аудитория, таким образом, "защищена" от нежелательного воздействия. У политических репортеров и обозревателей 1990-х годов тиражи тоже были невелики, но у них была возможность обратиться к широкой аудитории. Телевидение той поры приглашало пишущих журналистов делиться добытыми материалами и собственными представлениями о происходящем с миллионами телезрителей — формат, позаимствованный у западного телевидения в те времена, когда российское телевидение не находилось под государственным контролем. В ту пору политический процесс вызывал у граждан живой интерес, да и сама политика была живым, публичным процессом. Сегодня пространство свободного высказывания — это параллельный мир, где все другое: иерархия новостей, ньюсмейкеры, стиль, язык. Существование этого мира федеральное телевидение по большей части игнорирует <...>
И Владимир Путин, и Дмитрий Медведев при случае подчеркивают, что в России работает огромное множество разных СМИ, мол, все не проконтролируешь. Это правда, с той существенной оговоркой, что три федеральных канала с их неизменным политическим единодушием и колоссальной аудиторией по мощи воздействия бесконечно превосходят все остальные десятки тысяч электронных, печатных, радио, сетевых и прочих средств массовой коммуникации».
(Филиппов П., ред. История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. - СПб.: Норма, 2011. Т. 3. С. 78-79)
Имитация России
Сегодня говорят часто, что Россия расколота на имперское большинство, поддерживающее политику Кремля, и демократическое меньшинство, находящееся в оппозиции. На самом деле всё значительно сложнее. Две противостоящих друг другу части общества не просто имеют различные воззрения на происходящие события, а живут фактически в двух разных странах. Или, точнее, видят перед собой две непохожих друг на друга России, поскольку одна часть населения смотрит на нее через телевизионный экран, а другая — через экран монитора, на котором всплывает информация из интернета.
Россия телевизионная выглядит примерно следующим образом. Это страна, которая в конце 1990-х стояла на грани распада, поскольку подверглась воздействию внешних и внутренних врагов. Олигархи и нанятые ими либерасты стремились расчленить Россию на части, поскольку в таком состоянии ее легче было бы захватить подкрадывающемуся к нашим границам Североатлантическому альянсу, который на самом деле представляет собой не военно-политический блок НАТО, а лишь группу европейских государств, являющихся марионетками США. К счастью, тут появился Владимир Путин, и жизнь быстро стала налаживаться. Возросли зарплаты и пенсии, появилась выгодная работа. Это стало следствием того, что Путин обуздал олигархов. Те перестали воровать и проплачивать либерастов, а значит, больше денег остается теперь народу. Россия поднялась с колен, укрепила армию и стала возвращать то, что ей принадлежит по праву: сначала Северный Кавказ, включая Абхазию и Южную Осетию, а затем Крым. Америка нас испугалась, но продолжает строить козни, из-за чего в магазинах нет нынче многих привычных продуктов. Цена на нефть упала из-за сговора США с арабами. Теперь американцы хотят победить нас не с помощью национал-предателей, а с помощью экономических санкций. Но с нами Китай, страны БРИКС, и это означает, что мы не слабее Америки: как в военном, так и в хозяйственном плане.
Картина мира, формируемая интернетом, не просто отличается от телевизионной. Она совершенно иная. Интернет — это множество независимых источников информации, и когда начинаешь их собирать вместе и сопоставлять, выясняется, что телевизионного мира вообще нет нигде за пределами телевизора. Он профессионально сконструирован специально для зрителей, которые время от времени превращаются в избирателей.
Во-первых, в конце 1990-х из состава России собиралась выходить только Чечня. Башкирии и Татарстану Кремль позволил оставлять большую часть нефтяных доходов, что полностью пресекло там сепаратизм. Сегодня уже Чечня удерживается в составе Федерации подобным способом. С той лишь разницей, что покладистые республики просто оставляют себе часть доходов, тогда как в Чечню Москва вкладывает деньги, изымаемые у регионов-доноров. Только дурак будет при такой финансовой поддержке заниматься сепаратизмом, а Рамзан Кадыров, естественно, не дурак. Вот когда деньги у Москвы кончатся...
Во-вторых, никакой расправы с олигархами не было. Нашумевшие истории с Березовским и Ходорковским создали представление, будто укрепляется государство. Однако почти все олигархические состояния 1990-х так и остались у их хозяев, причем сильно увеличились в размерах. Кроме того, появились новые богачи из числа людей, близких к Путину либо послуживших в путинской системе. При этом каждый олигарх должен понимать, что при первом же требовании со стороны Кремля он обязан перечислять деньги на любые его нужды. Подобные трансферты гарантируют неприкосновенность состояний.
В-третьих, жизнь стала лучше совсем не потому, что Путин отнял деньги у олигархов, а благодаря росту цен на нефть. По этой же причине, кстати, увеличились и олигархические капиталы. По этой же причине сейчас жизнь становится хуже. Путин у нас в президентах всё тот же, но цены на нефть существенно снизились. И от былого экономического чуда не осталось и следа. Наши доходы обесцениваются из-за высокой инфляции, а у государства нет никакой возможности компенсировать их в соответствии с ростом цен на потребительском рынке. Дальше дело будет обстоять еще хуже, если только цены на нефть не начнут по какой-то причине быстро расти.
В-четвертых, НАТО приближалось к российским границам, поскольку ее об этом просили страны, которые России не доверяли. В число таких государств входили Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, республики Балтии, но не Украина и не Грузия. Не доверяли России те страны, которые в прошлом сталкивались со случаями вторжения на их территорию советских (а раньше царских) войск. Доверяли те, у которых с нами были издавна дружественные отношения. После историй с Крымом и Южной Осетией настроение в Украине и Грузии существенным образом меняется в пользу опоры на мощь Запада. И хотя в НАТО их сейчас не примут, ментально эти страны стали уже нашими противниками.
В-пятых, привычные продукты исчезли из магазинов совсем не в результате санкций, принятых против России Западом, а в результате санкций, принятых нашими властями против Запада. Путин противостоит ему по принципу «Бей своих, чтоб чужие боялись». Антироссийские же санкции сводятся к мерам, которые рядовой гражданин на себе толком даже не чувствует: черный список для чиновников и политиков, желающих ездить в Европу и США, ограничения на кредитование российских компаний, ликвидация сотрудничества между российским и западным бизнесом в военной сфере...
Какова же реальная картина мира, в отличие от картины телевизионной?
Россия была в 1990-х единым государством, им же и осталась. Орловщина или брянщина никакого сепаратизма не знают. Чечня жила сама по себе и ныне сама по себе живет, входя в состав России и обильно поглощая российские ресурсы. Русские жители оттуда сбежали и возвращаться не собираются. Не только туристы, но даже следователи боятся в Чечню нос сунуть, поскольку гарантий безопасности там нет ни для кого.
Экономика поднялась в нулевые годы на дорогой нефти, а затем рухнула. Сегодня мы имеем в целом столь же неконкурентоспособную хозяйственную систему, как в тот год, когда Путин впервые появился в Кремле. Уровень жизни населения, конечно, выше, чем в конце 1990-х, однако за 16 лет благосостояние выросло во всех нормальных странах мира, кроме самых уж безнадежных. Россия, может, и приподнялась с колен, но тут же села на корточки. Поза, как известно, самая что ни на есть неудобная, Если ничего не делать — скоро шлепнемся на задницу.
Дифференциация доходов в России была очень большой и такой же остается по сей день. Но причиной проблемы являются вовсе не олигархи (они — лишь следствие). Причина — всевластие бюрократии, которое в умах телезрителей превращается в мудреное понятие «государственное регулирование». Бюрократия и впрямь всё регулирует, но с помощью взяток и откатов. Причем чем больше бюрократическое государство «заботится» о народе, тем больше становятся масштабы коррупции.
Единственная радость на этом безрадостном фоне: НАТО нам как не угрожала, так и не угрожает. Положа руку на сердце, мы всё это понимаем. Даже те, кто твердит об угрозах. Поскольку при сегодняшнем соотношении сил мы либо проиграли бы натовцам войну, либо совместно с ними уничтожили человечество. Как тот, так и другой исход был бы ужасен. Любой, кто верит в реальность подобной войны, должен уже от ужаса попасть в психушку.
Но наши мозги пока еще держатся, поскольку «натовская угроза» — это имитация, которая очень нравится большинству населения. Ведь если НАТО хочет напасть, но не решается, значит, мы очень сильны, несмотря на кризис, снижение уровня жизни и запредельную коррупцию. Для телезрителя это хорошая новость. Вернее, не новость, а иллюзия, имитация. «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», — как точно подметил в свое время Пушкин.
Путин всё же — великий имитатор. Поэтому и выигрывает выборы за выборами.
Для чего нужен «взбесившийся принтер»
Важнейшей чертой российского политического режима последних лет (режима Вячеслава Володина, как назвали мы его выше) является деятельность «взбесившегося принтера». Так именуют порой Государственную Думу, которая принимает большое число репрессивных законов, запрещающих то одно, то другое, то третье. Конечно, речь не идет в данном случае о жестоких репрессиях сталинского образца, однако пространство нашей свободы регулярно хоть по чуть-чуть уменьшается. Причем не вполне ясно, зачем власть это делает. Кажется, что сами парламентарии не понимают смысла своей странной законотворческой деятельности.
У нас ныне запрещено оскорблять чувства верующих, пропагандировать сепаратизм, нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, использовать в СМИ, книгах и кино специфическую лексику, принижать героизм предков. Возвращено отмененное ранее уголовное наказание за клевету. Давно уже запрещен экстремизм, хотя толком не выяснено, что это такое. Суровому наказанию подлежит «неправильное» участие в митинге. Серьезными ограничениями обложены популярные блогеры, не имеющие при этом возможности содержать специального юриста для того, чтобы разбираться, как им можно писать, а как нельзя.
Список запретов чрезвычайно велик, и наверняка я упустил здесь что-то важное, поскольку простому человеку невозможно отследить все новшества, которые плодятся в ходе законотворческого процесса. Иногда такая странная активность парламентариев порождает страхи относительно того, что нас чуть ли не готовят к новому репрессивному 1937 г.
Однако, в отличие от сталинщины, прошедшейся по миллионам советских семей, нынешнее наступление на свободы касается лишь немногих. На практике жизнь 99% граждан в связи с подобным изменением юридических норм вообще никак не меняется. Люди даже не знают про корректировку нормативных актов и спокойно живут, как раньше. Репрессивных законов в современной России сколько угодно, но репрессий почти нет. Так, может, деятельность «взбесившегося принтера» — просто случайность или следствие сильной идеологизированности и вопиющей некомпетентности парламентариев?
Пожалуй, нет. «Принтер» хоть и взбесился, но действует совершенно логично. Важнейшей задачей для российских властей сегодня становится обеспечение при необходимости «точечных» ударов по тем потенциальным лидерам общественного мнения, которые могут настраивать народ на оппозиционные действия. Новые законы предоставляют именно такую возможность.
Сам по себе народ пассивен и пока что к стихийному возмущению не готов. В экономическом плане жизнь у нас сносная, даже несмотря на кризис, и стихийных протестов обнищавших масс Кремль не ждет. Однако нервное напряжение в обществе нарастает. И если в нулевые годы или на рубеже десятилетий в стране еще было множество искренних фанатов Владимира Путина, которых ничем нельзя было бы настроить на протест, то ныне застой в развитии, коррупция чиновников и бессмысленная растрата миллиардов рублей на достижение внешнеполитических целей могут всерьез заинтересовать тех граждан, которые привыкли хотя бы изредка шевелить мозгами. Вопрос лишь в том, найдутся ли интеллектуальные лидеры, способные объяснить заинтересованным людям, что же действительно в России происходит, и призвать их к активным действиям.
Формально в демократическом государстве, каким считают Россию наши государственные лидеры, нельзя преследовать политических противников за разоблачение коррупции и за призыв к цивилизованному протесту. Однако можно напринимать множество всяких законов, руководствуясь принципом «Был бы человек, а статья найдется». Или, как шутили чекисты сталинских времен, «Если Вы еще на свободе, это не Ваша заслуга, а наша недоработка».
При ангажированности нынешних российских судов и расплывчатости формулировок законов, созданных «взбесившимся принтером», в случае надобности притянуть к ответственности можно любого человека. Вы говорите в лекции о проблемах нынешнего территориального устройства страны, а вас упрекнут в призыве к сепаратизму. Вы отстаиваете в статьях атеистическую точку зрения, а вам скажут, что это оскорбление чувств верующих. Вы расследуете коррупционные схемы, а вас притянут к суду за клевету на «ни в чем не повинного чиновника». Вы выходите в одиночный пикет, а он благодаря двум-трем провокаторам вдруг превращается в несанкционированный митинг со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.
Массовых репрессий сегодня никому не нужно. Достаточно нейтрализовать моральную и интеллектуальную элиту общества. Важно сделать так, чтобы умные, квалифицированные и честные люди просто не лезли в политику, предпочтя помалкивать, занимаясь своим частным делом, или вообще эмигрировать. Если оставить народ без оппозиционных лидеров, вероятность трансформации политического режима резко снизится. Или, точнее, режим сменится в результате массовых протестов лишь тогда, когда развал экономики станет всеобщим и люди выйдут на улицу уже без всяких лидеров и без каких-либо разъяснений причин деградации режима.
С кем воюет Народный фронт?
В модели Володина вновь трансформируется система парламентских выборов. Россия возвращается от партийно-пропорциональной системы к более сложному механизму избрания депутатов Государственной Думы, при котором одна половина ее состава формируется по спискам, а вторая — по одномандатным мажоритарным округам. На первый взгляд создается впечатление, будто власть сама не знает толком, чего хочет: то укрепляет политические партии, то вновь расширяет демократию, предоставляя возможность сильным местным лидерам проходить в парламент благодаря собранному в округе большинству голосов. Однако на самом деле логика в переменах есть, и связана она (как и в иных трансформациях) с меняющейся экономической ситуацией.
Партийно-пропорциональная система была очень удобна для власти. «Единая Россия» позиционировала себя как партия Путина и проходила в парламент, пользуясь путинским авторитетом. Там она имела явное большинство, причем кремлевская администрация могла не бояться никаких бунтов среди партийцев, поскольку каждый из них представлял собой лишь маленький винтик в огромной партийной машине. Любой винтик нетрудно было заменить на очередных выборах, а потому единороссы вели себя в целом послушно и не формировали даже умеренной внутрипартийной оппозиции. Как бы ни трансформировался кремлевский курс, они его всегда поддерживали ради того, чтобы быть включенными в следующий партийный список.
Более того, Кремль мог не бояться как политических, так и экономических требований со стороны верных солдат партии. Вообще-то в нормальных демократических системах депутаты представляют какие-то группы населения и, соответственно, пользуются парламентским креслом для того, чтобы пролоббировать интересы своих сторонников. Они часто требуют дотаций слабым регионам, снижения налогов для близкого им бизнеса, протекционистской защиты отечественного производителя и т.д. В случае с единороссами, избранными в рамках партийно-пропорциональной системы, Кремль мог по большей части игнорировать лоббизм. Слишком активного лоббиста к следующим выборам просто меняли на послушного депутата, и это сохраняло правительству полный контроль над финансами. Бюджет использовался для поддержки путинских программ (таких, например, как национальные проекты «Здоровье», «Жилье», «Образование» в середине нулевых или программы перевооружения в последние годы), а не для удовлетворения интересов отдельных парламентариев. В общем, в политике полностью торжествовала идея властной вертикали, используемой для укрепления государства и ослабления любых групп интересов — олигархических, политико-оппозиционных, региональных, отраслевых.
В идеале, наверное, Кремль хотел бы и дальше так работать. Однако партийно-пропорциональная система в полной мере исходит из того, что жизнь в стране улучшается, Путин популярен, «Единая Россия» цепляется за Путина, а в самом крайнем случае часть голосов избирателей уходит к «Справедливой России», которая тоже является пропутинской партией. В ситуации экономического кризиса данный механизм может не сработать. Вдруг рассерженные избиратели в отдельных местах страны начнут голосовать против единороссов и даже система фальсификации результатов голосования не сможет скрыть провалы? Вдруг жизненные тяготы скажутся на выборах в большей степени, чем послушание начальству?
При партийно-пропорциональной системе голоса могут вообще уйти к несистемной оппозиции, если она не будет еще до выборов жестко отсечена от парламента. Но даже если несистемную оппозицию отсечь, по-другому начнут себя вести «послушные» коммунисты, жириновцы и справороссы. Когда соотношение сил в Думе сменится в их пользу, они могут оказаться вдруг не совсем послушными и предъявить свои политические требования. Даже если от политических требований эти партии благоразумно воздержатся, они точно станут сильными лоббистами чьих-то экономических интересов, а это очень дорого обойдется государственному бюджету.
Торговаться с успешно выступающей на выборах оппозицией очень трудно. Но гораздо легче торговаться с победителями в одномандатных округах. Каждого из них по отдельности можно втягивать в сферу влияния Кремля гораздо дешевле, чем партии целиком. Скажем, депутата Иванова, победившего где-нибудь в Иванове, можно ублажить сравнительно небольшой дотацией на поддержку местного текстиля, и в политических вопросах он окажется послушен кремлевской администрации. Но если вдруг по спискам победят коммунисты, торг с ними не обойдется столь мелкими уступками. Системная оппозиция станет доминировать в Думе, и тогда ей придется отдавать миллиарды рублей бюджетных денег, пост спикера, премьерский пост и, возможно, многое другое.
Поэтому в нынешней ситуации Кремлю выгодно ослабить партийное представительство и усилить представительство местных «авторитетов», с каждым из которых можно договориться на сходных условиях. Более того, думается, именно с этой целью был создан Общероссийский народный фронт. Втягивать в него независимых местных «авторитетов» гораздо проще, чем втягивать их в «Единую Россию». Формально депутат остается вне состава дискредитирующей себя партии, но реально он точно так же работает на Кремль и контролируется кремлевской администрацией. И вновь выходит, что путинской системе нет никакой альтернативы в глазах рядового избирателя.
Почему Путина любят даже в кризис?
Избиратель может быстро принять решение об альтернативе Путину, если такого кандидата ему покажут по телевизору и представят как человека солидного, уважаемого. И если этот уважаемый человек сможет вступить в полемику с президентом, оспаривая его экономический курс и приводя убедительные данные о том, как нынешний режим за 16 лет довел богатую нефтью страну до экономического кризиса. В такой ситуации миф о великом Путине рухнет за пару месяцев, как, собственно, он и возник за пару месяцев осенью 1999 г. на антитеррористической волне второй чеченской войны.
Именно поэтому реальная оппозиция от телевизора отсекается. И когда демократы предлагают народу не поддерживать нынешнего президента, многие люди вполне логично интересуются: если не Путин, то кто?
В ответ демократ может предложить либо того, кто всё равно до выборов допущен не будет (например, Навального), либо того, кто многократно участвовал, но всегда безуспешно (например, Явлинского), либо того, кого власть намеренно изваляла в грязи (например, Касьянова).
— Так они же не выиграют, — прагматично возражает народ.
— Выиграют, если все мы сплотимся в единой антипутинской коалиции, — уверенно отвечает интеллигент.
— Ты сам-то в такую коалицию веришь? — спрашивает народ.
— Не очень, — отвечает честный демократ, памятуя, что трудно требовать от народа единства, когда сами лидеры условной антипутинской коалиции постоянно грызутся между собой. — Но если мы хотим хоть когда-то жить лучше, нам надо сплачиваться и голосовать против власти. Не в этот раз, так в следующий, мы сможем, наверное, одолеть путинский режим.
— А следующий — это когда? — прагматично интересуется народ.
— Не знаю, — отвечает честный демократ, вспоминая, что первые попытки сплочения были предприняты четверть века назад с участием покойного Егора Гайдара и по сей день здравствующего Григория Явлинского.
— То есть конкретного успеха ты не обещаешь, но предлагаешь бороться за идею?
— Рано или поздно борьба за идею приводит к успеху, — с уверенностью говорит демократ, поскольку хорошо знает историю.
— Ну, если рано, то я, пожалуй, Путина бы скинул, — отвечает народ, почесав глубокомысленно репу. — А если поздно, то лучше уж с Путиным. Выходит, что нет ему никакой альтернативы.
— Ты сам сделай так, чтобы рано было, а не поздно. Не голосуй за Путина. Протестуй. Демонстрируй, что ты с властями не согласен.
— И станет лучше? — недоверчиво спрашивает народ, включая телевизор, поскольку долго без него существовать не может.
Демократ совсем уже открывает рот, чтобы подтвердить это предположение, но тут телевизор начинает рассказывать народу о ситуации на Украине.
— Не обязательно сразу же станет лучше, — говорит честный демократ, косясь на экран. — Но рано или поздно, конечно, станет.
— Похоже, что все-таки поздно, а не рано, — резюмирует народ, глядя в телевизор на свежеотставленного Яценюка. — В общем, нет Путину альтернативы.
В этот момент Яценюк исчезает, а экран гаснет из-за отключения электричества. Народ с помощью небольшого числа букв выражает всё, что он думает о любимой родине, властях предержащих и приватизации тока в розетке.
— Вот-вот, — воодушевляется демократ. — Надо же что-то делать.
— И впрямь, — кивает народ, — пора Путину написать.
— Вот ... — возмущается демократ, используя то небольшое число букв, которыми народ только что охарактеризовал ситуацию с электричеством. — Неужели ты в него веришь?
— Да не очень, — соглашается народ. — А у тебя есть иное предложение?
Не будем дальше развивать этот диалог, поскольку на такой вопрос может последовать лишь один конструктивный ответ: давай выпьем.
У тех людей, которых мы условно обозначили термином «демократ», и у тех, которые столь же условно обозначены термином «народ», существует вполне понятная рациональная логика. Но эти две рациональные логики на удивление несовместимы между собой.
Демократы не могут поддерживать лидера, при котором жизнь в стране становится хуже. Они полагают, что надо делать всё возможное для трансформации власти. Именно так поступают избиратели в демократических государствах, и поэтому уровень жизни там существенно выше, чем у нас.
При этом народ не понимает, какой смысл голосовать за тех, кто всё равно не может победить. По большому счету, нет даже смысла разбираться в их взглядах и программах. Нет даже смысла копаться в интернете, отыскивая политическую информацию и отвлекаясь от переписки в социальных сетях. Когда в России действительно что-то реально можно будет изменить, нам об этом скажут по телевизору. Включаешь — а там диктор вдруг заявляет:
— Как выяснилось на XX съезде «Единой России», президент Путин допускал культ своей личности, покровительствовал внезапно выявившимся иностранным агентам и волюнтаристски проводил политику импортозамещения. Кроме того, съезд постановил поддержать миролюбивый курс американской администрации, а украинскую хунту с нынешнего дня считать демократически избранной властью.
Вот как только подобное из ящика будет слышно, так сразу можно будет соглашаться на переизбрание Путина, если к тому времени его еще не переизберут без нас. А до тех пор, пока он остается национальным лидером, моральным авторитетом и другом всех байкеров, лучше писать петиции начальству о возвращении тока в розетку. Не бог весть что, конечно, но точно эффективнее петиций о возвращении Касьянова в правительство.
В общем, интеллигенция, конечно, умнее народа и более образованна, но, как и в прошлом, строит порой утопические схемы развития. На сегодня, увы, подобной утопией представляется апелляция к демократическим чувствам среднего избирателя. Не стоит думать, будто через организованные Кремлем выборы мы можем прийти к демократии, если народ вдруг проснется, отряхнет лапшу с ушей и возбудится от пустеющего холодильника больше, чем от наполненного враньем телевизора.
От холодильника (только совсем уж пустого) народ может возбудиться на майданы и погромы, но до этого нам еще далеко. Представление о необходимости срочной борьбы с майданом формируют лишь те, кто получает на проведение антимайданов хорошие деньги от Кремля. Народ же спокоен, умерен в своих поступках. Он тихо клянет власть и громко выражает уверенность, что движемся мы правильным путем. Поскольку если не верить в наш правильный путь, то во что же, скажите, пожалуйста, верить при такой власти?
О Путине, капремонте и судьбах России
Поздний вечер. Сижу на автовокзале в провинциальном российском городке. Жду проходящего рейса на Москву. Билеты не продают пока, поскольку неясно, каким будет количество свободных мест. И люди теснятся у кассы, чтобы не пропустить по безалаберности вожделенный момент «обилечивания».
Рядом старичок лет восьмидесяти. Ему — не в Москву. Он только что был у кассы, брал билет до соседней деревеньки. Теперь ждет автобуса. Пристраивается на лавочку неподалеку от меня и обращается к молодому человеку столичного вида:
— Простите, побеспокоить Вас можно?
— Побеспокойте, — тот медленно отрывается от экрана мобильного телефона и поворачивает голову к собеседнику.
— Вот Вы умеете интернетом пользоваться? На компьютерах, там. На планшетах.
— Более-менее, — скромничает молодой человек.
— Вот, говорят, есть решение, что тем, кому больше восьмидесяти, можно взносы за капремонт не платить, — старичок достает из кармана квитанцию и демонстрирует москвичу для наглядности. — Начисляют вот за капремонт, а мы и так ведь сколько всего платим. Вода, отопление... Я бы хотел узнать...
И дальше ветеран долгих жилищно-коммунальных сражений начинает подробно объяснять своему собеседнику, как дорого ему жизнь обходится и как плохо, что государство с него деньги пытается взять еще и за капремонт, плодами которого в силу преклонного возраста, возможно, даже воспользоваться уже не удастся.
— Так что Вы от интернета хотите, собственно? — перебивает, наконец, собеседник эти несколько затянувшиеся стенания.
— Узнать бы...
— Что узнать-то? Зачем с Вас деньги берут? Депутата своего спрашивайте.
— Эх... — старичок резко отмахивается от столь несерьезного предложения и вновь начинает апеллировать к интернету, надеясь на понимание со стороны солидного человека, случайно занесенного судьбой на провинциальный автовокзал.
— Ну, что здесь интернет скажет? Это власть с Вас деньги берет, а не интернет, — демонстрирует москвич свои странные по нынешним временам демократические наклонности. — Вон по всему городу морды висят. «Добьемся, мол, повышения пенсий вместе с президентом». Депутата спрашивайте. Кто у вас депутат?
— Лёшка-то, что ли? Да, ну.. — старичок явно выражает неудовольствие тем, что разговор переводят с серьезной темы об интернете на какую-то ерунду. — Вот смотрите, сколько они начисляют, — ветеран снова мусолит свою квитанцию. — Где столько денег-то взять? А еще вода, отопление...
Разговор о непосильном бремени платежей заходит на второй круг. Москвичу это явно не нравится. Он снова перебивает ветерана-неплателыцика:
— Что вы от интернета хотите, дедуля?
— Ну, есть же там справочная?
— Какая еще справочная?
— Гугль, там, или еще что...
— Гугл — это американская справочная. Вы в Америке хотите узнать, зачем с Вас деньги за капремонт берут? С Обамы спросить? Обама, конечно, скажет.
Старичок посмеивается. Обама, ясно, для него не авторитет в области капитального ремонта. Так же как и таинственный Лёшка-депутат.
— Вот я читал в «Аргументах и фактах», что был такой суд, где решили, что если человеку за восемьдесят, то он деньги за капремонт платить не обязан. Говорю про это в конторе, а они: ничего, мол, ни про какой суд не знаем. Положено платить — так платите. Вот мне бы и узнать в интернете, надо платить или не надо. Потому что очень дорого всё получается. Вода, отопление...
Молодой человек какое-то время слушает, пытаясь умом понять Россию, хотя еще Федор Иванович Тютчев справедливо предупреждал в свое время, что этого ни в коем случае делать не следует. И про аршин говорил, про общий, которым измерять Россию нельзя. И много еще чего добавлял. Москвич, однако, старается добросовестно понять, каким образом обращение жильца в Гугл может решить проблемы, не решенные ранее при обращении в жилконтору. Наконец, он предпринимает попытку увязать воедино политику с экономикой.
— Вы, батя, всё же к депутату обращайтесь. Расскажите ему про этот суд. Про «Аргументы», про «Факты». Про то, что платить ни х.. не обязаны. И пусть он вопрос с платежами решает. На то, б..., и депутат.
Старичок качает головой, удивляясь непонятливости собеседника. Образованный ведь. Из Москвы сюда заехал. В интернете разбирается. С Гуглом знаком. А такие вот несерьезные вещи вдруг говорить начинает. Страдалец вновь распрямляет квитанцию и тычет пальцем в конкретную строку.
— Смотрите. Написано вот — Никитина Екатерина Петровна. Хозяйка жилья. Улица Московская, дом 5, квартира 12. И ей за капремонт начисляют такие огромные деньги. А здесь еще за воду, за отопление...
— Жена Ваша, что ли? — перебивает москвич.
— Жена. Ветеран труда. Ей даже Путин поздравление с праздниками присылает.
— Вот Путину и напишите про капремонт, — нашел вдруг неожиданный ответ москвич. — Раз с праздниками поздравляет, может, и с буднями разберется.
— А Вы, я смотрю, не лишены чувства юмора, — констатировал муж ветерана, с усмешкой покачивая головой. Мысль о том, что Путин может лично отвечать за какие-то принимаемые в России решения, сильно его позабавила.
Оппонент тем не менее завелся и продолжал настаивать на своем:
— Ну, Вы же за Путина голосовали, — прозорливо подметил он. — Вот пусть и разбирается в проблемах избирателя. Отстаивает, так сказать, его интересы.
— Конечно, голосовал, — подтвердил сторонник Путина, являющийся одновременно противником внесения платы за капремонт. Потом немного подумал и взял, наконец, быка за рога. — Я вот читаю «Аргументы и факты». Там Костиков — умеренный критик. Он вот что говорит. У нас все партии — за Путина... А жизнь — всё хуже и хуже... Но, все при этом счастливы. Такой вот, понимаете, парадокс.
— А Вы тоже за Путина?
— И я за Путина.
— А за капремонт платить не хотите.
— Не хочу.
— И при этом счастливы?
— Счастлив, — заметил старичок, так и не добившийся справедливости от Гугла.
Он встал, обнаружив, что подошел нужный ему автобус, и двинулся на посадку.
Те, кто на Москву, посидели еще какое-то время. Наконец, подъехал проходящий через провинциальный городок автобус, и кассирша стала продавать билеты на свободные места. Лишь только она начала это делать, как появился в дверях водитель и махнул нам призывно рукой:
— Идемте. Прямо в автобус посажу.
Хвост очереди, стоявший у выхода, двинулся первым в правильном направлении. При этом предусмотрительная старушка, находящаяся непосредственно у кассы, несказанно удивилась столь неожиданному повороту событий:
— Так я ведь уже билет беру.
— Вот и берите, — без тени сомнений ответил водитель, ведя нас за собой.
Хвост очереди разместился на лучших сиденьях, внеся при этом умеренную плату в фонд материального содействия водителю автобуса. Последней, естественно, пришла на посадку предусмотрительная старушка с билетом. Ей поездка обошлась на сто рублей дороже, чем безбилетникам.
А она ведь еще, наверное, и за капремонт платит.
Ребрендинг Путина
В путинской политической системе Путин постоянно оказывается для избирателя безальтернативен. Но этот результат является следствием не только «работы с оппозицией», но и тщательной работы над обликом самого национального лидера.
За долгие годы правления Путина в России феномен его личной популярности претерпел существенные изменения. Образ вождя нам подавали по-разному, в зависимости от конкретной политической ситуации, экономического положения страны, а также от возраста и внешнего вида самого президента. Электорат к каждым очередным выборам получал именно того Путина, который был им востребован, и голосовал именно так, как желал Кремль.
Первый Путин был «спасителем Отечества». Никому на тот момент не известный политик из «второго эшелона» вдруг по решению Ельцина оказался премьером и преемником. Помнится, Борис Немцов в тот момент пошутил, что в будущую победу Путина на президентских выборах 2000 г. верят в России только два человека: сам Путин и Ельцин. Немцов оказался не прав, поскольку слишком рационально подходил к проблеме выбора. Он недооценил того, что электорат может проголосовать не за реального человека и не за реальные дела, а за миф, который был сформирован телевидением буквально за несколько месяцев.
Однако в стране, живущей нормальной жизнью, нельзя регулярно спасать Отечество к каждым очередным выборам, поскольку нет просто такого большого числа врагов. К счастью для Путина, в середине нулевых его образ формировался в глазах населения на совершенно иной основе, чем на рубеже тысячелетий. Экономика быстро росла, подпитываемая дорожающей нефтью. Жизнь народа становилась получше. Люди покупали всё больше разнообразных товаров, интересуясь в первую очередь своим собственным бытом, а не врагами, тайком подкрадывающимися к нашим границам. И Путин постепенно превратился из уникального героя, «спасителя Отечества» в «лучшего из россиян», в образец для подражания миллионов. В «крутого мачо», которому завидуют юные карьеристы и в которого влюбляются девушки.
Теперь электорат поддерживал Путина и временно замещавшего его Медведева по вполне рациональным соображениям. При них всё было вроде бы достаточно хорошо, а от добра, как известно, добра не ищут. И Путин стремился поддержать представление миллионов о том, что они голосуют за своего парня. За такого, каким, в принципе, мог бы стать каждый, приложи он достаточные усилия. Путин хорошо выглядел, много занимался спортом, много путешествовал и много отдыхал, хотя говорил при этом, естественно, что трудится, как раб на галерах. Он вел такой образ жизни, к которому стремились практически все, и поскольку реальные доходы населения росли, людям казалось, что страна действительно устремилась к процветанию вслед за своим национальным лидером.
Однако после 2012 г. поддерживать подобный образ стало уже невозможно.
Во-первых, Путину исполнилось 60. В таком возрасте даже спорт, отдых и ботекс не могут сотворить чудеса. Постепенно становится видно, что нами правит уже не «крутой мачо», а пожилой человек, не вызывающий у молодежи стремления подражать. Те, кто постарше, еще могут ориентироваться на образ вождя по привычке. Но те, кто не видел Путина в расцвете сил, вряд ли поймут, чем он так привлекателен для родителей и для дедушек с бабушками.
Во-вторых, чудеса перестали происходить в экономике. Стало ясно, что через некоторое время жизнь в России снова станет малоприятной и бесперспективной, какой казалась она во времена Брежнева, Горбачева и Ельцина. На этом фоне трудно было ожидать, что за стареющего президента народ станет голосовать по рациональным соображениям вновь и вновь. Поэтому Кремль в очередной раз должен был трансформировать образ Путина, предложив народу иной «бренд». Тот, который «покупателю» хотелось бы «приобрести», несмотря на то что он вроде бы не нужен ни для чего полезного.
Но мы ведь часто покупаем бесполезные вещи. Чтобы украсить квартиру. Чтобы пробудить воспоминания об интересных поездках. Чтобы сделать символический подарок. Бренд «Путин» в последние годы ориентирован именно на такое иррациональное потребление со стороны избирателя.
У нас напридумывали множество разнообразных врагов, пробудили с помощью телевидения страхи за безопасность державы, и президент вновь, как в самые первые годы, предстал избирателю в образе «спасителя Отечества». А чтобы мы поменьше вспоминали про реальный образ, ларьки заполняются кружками и футболками с ликом вождя, который там навсегда останется сильным, молодым и крутым. Путин, демонстрирующий мускулы. Путин, одетый в боевой камуфляж. Путин, грозящий врагам... Даже Путин на медведе и медведь (в смысле медвежья шкура) на Путине.
Президент России подается населению в качестве одного из важнейших неформальных символов страны наряду со Сталиным, Гагариным, матрешкой, Чебурашкой и Че Геварой. Набор вроде бы странный, но по какой-то невероятной причине востребованный жаждущими символики массами.
Пропаганда отделяет Путина от экономики, превращая его в символ современной России. В нечто безальтернативное. И, надо признать, ребрендинг Путина был произведен вполне профессионально. В комплексе с крымской операцией он обеспечил ему высочайший рейтинг.
Разговор с Путиным
Итак, Путин радикально поменял свой политический курс, забросил экономику и занялся поддержанием собственного имиджа для того, чтобы оставаться популярным максимально долгое время. Это нужно ему для победы на очередных выборах, поскольку власть хочется сохранить вне зависимости от того, как складывается положение дел в стране и как меняется уровень жизни населения.
В подобное многим из нас поверить трудно. В интеллигентских кругах постоянно раздаются вопросы. Ведь должен же глава государства хоть как-то о народе думать? Не может же президент не иметь никакого плана по выходу из кризиса? Хочет же Путин остаться в истории как великий правитель России, а если так, то он вынужден, наверное, делать хоть что-то ради собственной репутации у потомков?
Я, естественно, истинной мотивации Путина не знаю. На что он надеется, могу лишь предполагать. Однако думаю, что любой умный человек иррациональные надежды или подспудные страхи пытается рационализировать. И у Путина наверняка есть истинное объяснение своих действий, которое он открывает лишь самым близким людям в беседах за кружкой пива. Стремясь понять логику этого человека уже на протяжении 16 лет, я решил представить себе гипотетическую ситуацию, при которой Путин искренне отвечает на вопрос о своих мотивах.
— Видишь ли, старик, — сказал бы, наверное, Владимир Владимирович своему собеседнику. — Ты представляешь себе Россию, как какую-нибудь Германию, где можно делать реформы. Рынок внедрять. Демократию. На народ опираться. На его склонность к труду и рациональному выбору. Я знаю Россию и знаю Германию. Ничего общего. В Берлине я первый бы стал реформатором. И Ангеле Меркель всегда говорю, что нельзя больше эту социалистическую халяву по Европе разводить. Сегодня Греция накрылась, завтра Испания... Италия без Берлускони тоже долго не продержится... Катастрофа.
А в России катастрофа — это реформы. С нашим-то народом... Ельцина сожрали, Гайдара сожрали, Чубайса дожевывают. Любят лишь тех, кто их палкой по заднице лупит... Мне, кстати, по популярности до Сталина далеко. Поскольку ГУЛАГа не создавал. Народ не расстреливал. Репрессий настоящих не устраивал. И не устрою, кстати. Ведь я в душе своей — настоящий европеец. Максимум припугнуть могу разгильдяев, как в деле с Pussy Riot. Да и у них всё с лихвой имиджем окупится. Раньше про этих девиц никто не знал, а теперь всю жизнь оставшуюся кормиться станут со скандальной истории.
Ходорковский, говоришь? Признаю, жестковато получилось. Но лес рубят — щепки летят. Он щепкой такой оказался. Один олигарх отсидел, зато другие налоги мигом стали платить. А раньше ведь не платили. Пока Михал Борисыч варежки в лагере вязал, миллионы людей зарплаты и пенсии получили. Окрепли, поправились, имуществом обзавелись. В общем, цель оправдывает средства. Всё — для народа. Если б народ этот сам для себя столько делал, сколько я для него, мы бы давно уж Америкой были. Или Эстонией уж точно.
Да что я тебе рассказываю — оглянись вокруг. В интеллигенции каждый второй про народ то же самое говорит. Рабский, мол, ленивый, вечно пьяный. Работать не способен. От бутылки не оторвать. А бабло при этом обожает. Почти все так о народе думают. А от меня при этом реформ каких-то требуют.
Я, что, Жанна д’Арк? Зоя Космодемьянская? Собой должен жертвовать, чтобы какой-то профессор потом, свалив на Запад, диссертацию написал: Россия, мол, безнадежна, опять все реформы провалены.
Кстати, об интеллигенции. Дима по молодости лет тут трендел что-то про модернизационный класс. Чушь это всё. Ильич лучше дело понимал, когда сказал, что интеллигенция наша — говно. Может, вы, интеллигенты, Гайдару сильно помогли, собой пожертвовали ради его реформ? Наоборот, тут же стали гадить, говорить, что Явлинский лучше реформы провел бы, что Гайдар, мол, книжек мало прочел и на заводах не бывал.
России повезло, что Гайдар всё же на реформы решился, а Ельцин при этом не понял даже, во что ввязывается. Теперь есть главное — рынок. И надо не борьбу хорошего с лучшим развивать, а держаться зубами за то, что есть. Поскольку для России даже сидеть на нефтяной игле лучше, чем лапу с голоду сосать. Мы ведь по своей дурости, почти как Зимбабве. Верхняя Вольта с ракетами.
Без твердой власти здесь всё время майдан, революция. На Украину взгляни. Там лучше, чем у нас? Наоборот, хуже. Народ такой же — только без сильной руки. Совсем пропали хлопцы. Януковича я им нашел, чтобы навел порядок, так он в этой бодяге тоже раскис. Слабым стал. Майдана испугался. В итоге скинули хохлы Януковича — теперь опять глотки друг другу грызут.
Я 16 лет вас сдерживаю от того, чтобы глотки друг другу не перегрызли. И даст Бог, еще лет 16 удержу. Для этого и на рейтинг работаю. Россию подмораживать надо, чтобы не сгнила. Я хочу тридцать лет мирной жизни вам дать — без гражданских войн, без революций, без избиения тех, кто чего-то добился.
Если повезет, за это время новое поколение вырастет. Которое у немцев поучится и, глядишь, работать начнет. А не повезет — значит, судьба. Опять катастрофа... Но я перед Богом чист буду. Что мог — попытался сделать.
Разговор с Путиным про Обаму
По вопросам внешней политики к Путину накопилось не меньше претензий, чем по вопросам политики внутренней. Тут война, там конфликт. Кольцо врагов сжимается до предела. Санкции иностранные на нас давят, не дают голову поднять. Стоило ли нам ссориться со всем миром?
Российско-американские отношения дошли, в частности, до беспрецедентно низкого уровня, и даже Медведев поднять их не сумел. Воспользовавшись имеющимся у меня «ходом к Путину», я решил поинтересоваться, зачем он их так опустил. И тут же получил весьма любопытный ответ.
— Послушай, старик, — сказал Путин, — вы, либералы, все уши мне прожужжали о том, что я, мол, недостаточный рыночник. То реформ, видите ли, вам мало, то госкорпорации вас не устраивают, то наезды на бизнес заколебали. Про наезды я, кстати, знаю побольше вашего. При рынке всегда так: давила давит, терпила терпит. На то она и свободная конкуренция.
А теперь представь, что конкурируют не фирмы, а страны. На мировом рынке. Там, где ни Путина сверху нет, ни Бастрыкина, ни даже Басманного правосудия. Никто порядок не наводит, никто правила не контролирует. Там сильный всегда прав. А слабых бьют. Я, слава Богу, рыночник, и всё это хорошо понимаю. У вас же, либералов, с логикой явно что-то не так.
Если вы верите в рынок и конкуренцию, признайте, что американцы нам спуску не дадут, прижмут всеми доступными им методами. Сибирь с нефтью отнимут. Газопроводы обрежут. Станут свой сжиженный газ в Европу гнать за большие бабки, пока мы тут сопли жевать будем.
Если же вы полагаете, что Обама, как Санта-Клаус, нам будет подарки на Новый год носить, то требуйте от меня не рыночной экономики, а Госплана. Коммунизм давайте строить. От каждого по способностям — каждому по потребностям. Или, точнее, по заднице, поскольку всего этого благодушия мы уже вдоволь при Брежневе нахлебались. Я от него в ГДР сбежал. Хоть пива вволю попил.
В общем, когда я с американцами собачусь, веду себя как менеджер крупной компании, действующий в интересах акционеров. Поскольку бизнес — это игра с нулевой суммой. Всё то, что Обама себе оттяпает, нам с вами уже не достанется. А то, что я у него оттяпаю, совместно распилим. Всей страной. Вплоть до врачей, учителей и либералов, которым, так и быть, тоже кое-что перепадет.
Вот Крым взяли себе — так народ разве плакал? Так туда ломанулся, что очередь на паром возникла. Сутками стояли. Поскольку Крым народу, а не мне нужен. Мне-то и без того есть где отдохнуть. Немцов ваш все мои резиденции посчитал.
А если б не взяли Крым, там вовсе не отдых был бы, а база НАТО. Народ отдыхал бы вместо Крыма в Турции. Бабло бы там оставлял. Поднимал бы турецкую экономику. Или египетскую. А мне потом плакался бы: что это ВВП не растет?
Если б я Диму слушал — про перезагрузку и прочую хрень, — Обама уже в Сибири бы нашей нефтью загружался. Одной рукой тянул, что плохо лежит, а другой — Диму по головке гладил: хороший, мол, мальчик, не спорит с большим дядей. А я с ним спорю. И кинуть при случае могу. Через бедро. Как учили.
Из G8 нас исключили? Да наплевать. Я и так туда перестал ездить, поскольку на «восьмерке» уже много лет пустая говорильня — занятие для Димы, которому всё равно ничего сложного не поручишь. Он там трендел, помнится, пока Кремлем вместо меня заведовал. А Обама — нервничал. Поскольку ему еще через президентские выборы проходить надо было. И оппонент Бараку припоминал, как перезагрузка конфронтацией обернулась.
Мне-то ссора с американцами по барабану. Мой избиратель от конфронтации лишь здоровеет. Крым наш? Ура-а-а. Грузин разбили? Ура-а-а. Сирию бомбили? Ура-а-а. Санкции получили? Тройное ура-а-а-а-а. Даешь импортозамещение!!!
А у американцев не так. Демократам при конфронтации, глядишь, голосов может не хватить на выборах. Сдрейфят рано или поздно. Задумаются. На уступки пойдут. А коль они не пойдут, так республиканцы.
В общем, им меня не запугать. Могу ждать долго. Еще лет 16 как минимум. Или вообще до 2042 года. А у них в Америке такого пространства для маневра нет. Им каждый раз к выборам успехи нужны во внешней политике.
Раньше они на Диму надеялись — мол, мальчика так или иначе уломают, на айфон возьмут. Не вышло. Со мной теперь дело иметь будут.
Затем надеялись на протесты. Тоже не вышло. Протесты я пережевал и выплюнул. Не первый день в президентах. Гоголя от Гегеля отличу, Бабеля от Бебеля и Барака от Мубарака тоже.
Еще они на нефть уповают. Мол, подешевела. Экономика наша при таких ценах накроется. На поклон к ним пойдем. За кредитами.
Не дождутся. От мертвого осла уши они у меня получат, а не поклон. Народ наш сосредоточится, пояса затянет. И я перетерплю. Год потерплю, другой... Десять. Нефть, глядишь, и поднимется. Поскольку на Ближнем Востоке опять нестабильность будет. По их же вине. Никак определиться не могут в Вашингтоне, чего хотят — то ли демократии во всем мире, то ли дешевых энергоносителей. Словом, я Белый дом почти уже к стенке прижал. Рано или поздно очередной президент захочет на мне очки зарабатывать в политике внутренней. Захочет сказать своим избирателям, что Путина уломал. И неизбежно пойдет на уступки.
Вот так политика делается, без белых перчаток. И не учите меня, ребята, рыночной экономике.
Разговор с Путиным об Украине
Когда начались трагические события на Востоке Украины, Путина вновь «удалось раскрутить» на интересный разговор. Российский президент, наверное, мог бы за кружкой пива сказать какому-нибудь близкому по духу зарубежному лидеру примерно следующее.
— Вы там, на Западе, считаете меня мелким восточным деспотом. Типа Асада или Саддама Хусейна. Пусть так. Не буду ничего говорить о величии России, о наших победах в прошлом и о роли моей личности в истории. Оставим всё это для телепропаганды. Но кое-что я скажу, не слишком для вас приятное.
Мелкий диктатор не может высунуть носа дальше своих границ. И если высовывает, вы его по носу щелкаете, как было с Саддамом, решившим захватить Кувейт. Но есть державы, способные так или иначе держать под контролем большие регионы мира. Вот это как раз про Россию.
Ваш западный политолог Сэм Хантингтон писал, что в каждой крупной цивилизации на планете существуют стержневые державы, способные обеспечить «на подконтрольной территории» должный порядок (ну, может, он не совсем так сказал, но я его, во всяком случае, так понял). И если Соединенные Штаты хотят такого порядка, то лучше Америке со стержневыми державами дружить, доверив им попросту мир и покой в регионе. Естественно, на условиях, которые эти державы считают для них подходящими.
Способны вы сами, без помощи из Кремля, добиться порядка на постсоветском пространстве? Не получается как-то.
Причем не надо мне говорить сейчас, что, мол, Россия этому порядку мешает. Подобную демагогию можно гнать по Би-би-си, и многие даже ей поверят. Но для решения важных практических вопросов имеет значение лишь одно: способны вы без меня навести порядок или нет. А кто виноват и что думает на этот счет европейский обыватель, к делу не относится.
16 лет назад я пришел к власти в России и искренне предлагал вам дружбу. Разумеется, на моих условиях. Вы оставляете под российским контролем всё постсоветское пространство (ну, ладно, Прибалтику, так и быть, забирайте, раз она уже в НАТО!) и не принимаете ключевых геополитических решений, не посоветовавшись со мной. А я за это становлюсь просвещенным абсолютистом и всяческим образом помогаю вам всем бороться с исламским терроризмом, тем более что Чечня меня откровенно достала.
Сочувствие Бушу по поводу страшных терактов я, как вы знаете, принес первым. И, кстати, совершенно искренне. Мочить надо этих мерзавцев в сортире. Но дальше, когда я взялся мочить террористов собственных, вы даже не дали мне развернуться в Чечне на полную силу.
Авантюру вашу в Ираке я разругал, тем более что в практическом плане Буш организовал всё даже хуже, чем я в Чечне (и это с американскими-то ресурсами!). Но в тот момент еще компромиссы были возможны. Увы, со мной так никто и не стал считаться по-настоящему.
Пришлось в мюнхенской речи выдать Америке по полной. Дипломатический политес я откинул и четко сказал: от мертвого осла уши вы получите, а не однополярный мир. Мы либо друзья (и тогда отдайте мне постсоветское пространство), либо враги (и тогда вы без меня даже с Сирией не справитесь, хотя эта ближневосточная дыра никого, по большому счету, вообще не волнует).
Через год случилась грузинская война. И у кого ныне Южная Осетия? Да, кстати, этот ваш СШАакашвили больше в Тбилиси не правит. Понятно, что и мое влияние там ничтожно, но это — частности. Главное, Вашингтон понял, как трудно ему будет решать проблемы на постсоветском пространстве без санкции Кремля.
Теперь Украина. Здесь хаос может сохраняться годами. Понятно, майдан был истинной революцией, и большая часть народа новую власть приняла. Но несколько лет хаоса сделают эту власть столь же жалкой, как режим Януковича. Вы можете здесь что-либо изменить, если я вас не поддержу?
Да вы без моей поддержки даже в самолетах летать над Украиной не сможете. Будете огибать ее за тысячи километров. И самое страшное: вы не подозреваете, что завтра еще там может случиться.
Есть у вас ответ на все эти вызовы? Ответа нет. Войну России вы не объявите. Навести порядок на Украине не сможете. Терпеть хаос бесконечно не готовы. Значит, рано или поздно придется вам признать, что Путин В.В. — не мелкий азиатский диктатор, а национальный лидер державы, которая одна только и может обеспечить на постсоветском пространстве тот настоящий порядок, в котором вы больше меня заинтересованы.
Кстати, порядок я сохраню до 2042 года, поскольку раньше не уйду. И умоляю: не надо о демократии. Вы ведь, положа руку на пиво, цените ее не больше меня.
Легенда о национальном лидере
Ну, и коли уж я стал делиться тайными разговорами с Путиным, поведаю под конец еще одну занимательную историю, объясняющую, почему национальный лидер при такой политике всегда находит общий язык с народом. Тот вроде бы должен к свободе стремиться, к смене национальных лидеров. Недоволен должен быть начальством и требовать от властей всё большего и большего. На деле же получается, что ничего он от властей не требует и лишь благодарит по принципу «Прошла зима, настало лето, спасибо Путину за это».
Дело было на знаменитом Валдайском форуме, где наш национальный лидер ежегодно объясняет представителям иностранной элиты, что он — человек порядочный и с ним очень даже можно иметь дело. Если, конечно, по-хорошему.
В числе именитых зарубежных политологов присутствовал на Валдае один чрезвычайно знаменитый мыслитель, в недавнем прошлом властитель дум русской интеллигенции. Поскольку рассказывал он об этой истории приватно, я имя его называть не буду, а обозначу инициалами — И. X.
Слушал он лидера час, слушал два. Не отрывался. Каждому слову внимал. Конспектировал. Но всё равно главного в нашей политике понять не сумел. А потому, когда политологи уже изрядно утомились и перешли от пищи духовной к насыщению своих желудков, И. X. сумел прижать в уголке национального лидера и стал ставить перед ним роковые вопросы российской действительности. Кто виноват в сырьевой направленности экономики? Что делать с протестным движением? С чего начать реформу российской политической системы? И как нам реорганизовать «Единую Россию»?
Национальный лидер по понятной причине утомился еще больше, чем политологи, и любого другого человека со столь роковыми вопросами послал бы... ну, скажем, к своим советникам. Однако И. X. был властителем дум и в одиночку героически противостоял советской власти еще в то время, когда национальный лидер с трудом вступал в пионеры. А потому впитанное им с детства чувство уважения обусловило честный ответ. Лидер на минутку задумался, подозвал любимую собаку (чтобы послушала), отодвинул в сторону захмелевшего западного политолога (чтобы не подслушивал) и произнес небольшую речь. Я изложу ее кратко, выделив курсивом принципиально важные места:
«Человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует, выходит на Болотную, ведет себя, как бандерлог какой-то? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы, раскачают лодку, устроят оранжевую революцию и зальют кровью землю.
Не ты ли так часто говорил: “Хочу сделать вас свободными”. Хватит сопли жевать. Вот ты теперь увидел этих “свободных” людей.
Неспокойство, смятение и несчастие — вот теперешний удел людей, после того как ты столько претерпел за свободу их! От мертвого осла уши они получат у нас, а не свободу. Ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!
Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. На экономическом чуде, на авторитете национального лидера и на таинстве сопричастности великим победам предков.
Сказано им в писании одного пророка: “Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали”. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо.
У нас все будут счастливы и не будут больше ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как было при горбачевской перестройке или в лихих 90-х. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. Мозги им надо поменять, а не политический режим. Тогда они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. И все будут счастливы, все миллионы существ — граждан Российской Федерации. кроме сотни тысяч управляющих ими. Нам придется пахать, как рабам на галерах, с утра до ночи».
Я мог бы и дальше излагать речь национального лидера, а также придумать, что ответил на это властитель дум, однако внимательный читатель уже наверняка уловил мою мистификацию. Не было, конечно же, никакой утечки с Валдайского форума. Я просто взял «Легенду о Великом инквизиторе» из романа «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского и процитировал ее с обильными сокращениями. Курсивом же выделил то, что добавил от себя. Или, точнее, не только от себя, а еще от национального лидера, который примерно так и говорит.
В общем, я здесь изрядно нафантазировал. Однако надо признать, что переложение литературной классики на современный политический язык помогает порой неплохо понять нашу российскую жизнь.
И кроме того, меня в известной мере оправдывает сам национальный лидер. Он ведь жаловался нам как-то, что после смерти Ганди ему и поговорить не с кем. А я дал нашему лидеру возможность высказаться перед самим И. X. Кто скажет, что этот собеседник хуже Махатмы, пусть первый бросит в меня камень.
Глава 12. Путин навсегда?
Итак, теперь, наконец, мы можем подойти к анализу главного вопроса, интересующего нас в данной книге: чем завершится режим Путина? Точный прогноз дать невозможно, но ничто не мешает разобрать ключевые факторы, определяющие перспективы страны.
И Крым, и севрюжины с хреном
Если судить по массовым опросам, то настроение российских граждан после присоединения Крыма можно выразить словами из известного стихотворения Генриха Гейне «Китайский император»: «Мятежный дух исчез совсем. // Кричат маньчжуры дружно: // “Нам конституция зачем? // Нам палку, палку нужно!”»
Экономический кризис делает жизнь общества всё более трудной. Перспектив выхода не видно. А общество пребывает в эйфории, поскольку мы отняли у соседа кусочек земли, на котором подавляющее большинство никогда не бывало и не побывает. В общем, социологические данные, если считать опросы таковыми, показывают полную неспособность населения решать свои реальные проблемы и, более того, сознательное намерение жить хуже ради сохранения былой империи.
Однако в действительности мы сейчас сильно искажаем наши представления об обществе в угоду моде на массовые опросы. Общественные науки пытаются математизировать, поскольку многим кажется, будто адекватное представление об обществе можно получить лишь с цифрами в руках. Отсюда — моделирование в экономике и опросы в социологии. Но часто выходит так, что ученые не могут учесть все факторы, влияющие на результат, а потому принимают во внимание лишь некоторые. И итог их исследований, скорее, искажает реальную картину жизни, чем помогает понять нам существующее в обществе положение дел.
Это примерно как в метеорологии. Прогноз погоды составлять можно, но всех тонкостей поведения природы не учтешь. Поэтому на два часа вперед прогноз будет точным, а уже на два дня — нет. Подует ветер с другой стороны — и унесет обещанные нам тучки в тот регион, где синоптики гарантировали сушь.
Чтобы понять, как можно использовать массовые опросы, их следует разделить на три категории. Во-первых, когда людей спрашивают о том, о чем они думают каждый день. Во-вторых, когда мнением респондентов интересуются по проблеме, о которой они обычно не думают, но которая требует их однозначного решения. И, наконец, в-третьих, когда задается вопрос о том, в чем народ плохо разбирается и что никаких конкретных решений от него не требует.
О повседневной жизни людей нужно спрашивать постоянно. Массовые опросы, выясняющие, скажем, сокращает ли семья потребление в связи с кризисом, весьма полезны и хорошо дополняют статистику реальных доходов. Рассказывая о повседневной жизни, респондент, как правило, искренен. Он не фантазирует и не выдает желаемое за действительное.
Иная картина складывается, когда респондента спрашивают, за кого он будет голосовать на ближайших выборах. Возможно, есть 5—10% политизированных граждан, для которых выборы — вещь столь же важная, как бюджет семьи, и они постоянно о них думают. Но обычный человек размышляет о Путине или Навальном значительно меньше, чем о проблемах на работе, о зарплате, о регулярных походах в магазин и выборе продуктов. Скорее всего, такой человек способен адекватно сказать, как он проголосует, и социолог может принять ответ респондента во внимание, чтобы спрогнозировать результат. Но получить из таких опросов представление о реальных предпочтениях общества довольно сложно, поскольку Путин или Навальный в массовом сознании сильно мифологизируются и наделяются свойствами, которых реально не имеют
Один образ героя формируется в массовом сознании, когда СМИ его постоянно хвалят, но совсем другой — когда они рассказывают о его корысти, коррумпированности и человеческой непорядочности. Изменится картина в медиапространстве — и за пару месяцев кардинальным образом могут измениться оценки населения. То есть применительно к ближайшим выборам по социологическим опросам можно оценить вероятность победы кандидата, но в перспективе мы нисколько не можем быть уверены в том, что оценки общества не сменятся на прямо противоположные.
А если ученые спрашивают респондента про Крым, отношение к Америке, склонность к госрегулированию экономики или смысл жизни, то ответ будет зависеть от того, как сформулирован вопрос. Если человеку дадут понять, что расплатой за Крым является снижение уровня жизни, респондент вынужден будет задуматься. Если же просто спрашивать о предпочтениях, то народ ответит по принципу «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». И Крым хотим, и Путина, и зарплату с пенсией, и Анталью с Хургадой, и санкции против Турции, и чтобы Америка сдохла, и чтобы на «Форде» ездить.
Респонденту ведь не приходится реально выбирать курс и нести ответственность за свой выбор собственным кошельком. Поэтому он скажет о предпочтениях в самой общей форме. И запросто изменит ответ, как только получит иную постановку вопроса или новую информацию для ответа. Так что нынешняя поддержка населением путинского курса свидетельствует, скорее, о качестве машины для промывания мозгов, а не о самих мозгах российских граждан.
Все привычные нам представления о сознании отечественного обывателя могут быстро перемениться в иных условиях. Путин сразу перестанет быть популярен, если его начнут не хвалить, а разоблачать с помощью телевидения. И Крым перестанет быть «сакральным местом», если вдруг телевидение увяжет снижение уровня жизни в России с нашей внешней политикой.
Вам «Шанхай», «Дубай» или «Мумбай»?
Попробуем по-другому взглянуть на то, что скрыто в головах наших граждан. Допустим, мы решили сделать странную вещь — провести голосование о том, какого валютного курса хочет население России. С большой уверенностью можно предположить, что оно выскажется за укрепление рубля, причем образованные и успешные граждане поведут себя точно так же, как основная масса. Ведь все мы зарплату получаем в национальной валюте. Но стоит успешным и образованным ощутить реальные деньги в кармане, как многие из них пойдут покупать доллары, поскольку прекрасно понимают ненадежность рублевых сбережений.
Что это, двойные стандарты? Ни в коей мере. Человек поступает совершенно искренне, как тогда, когда высказывается за рост рубля, так и тогда, когда подрывает его стабильность, отправляясь в обменник. Данный «несерьезный» пример помогает нам понять логику россиян, которых ныне часто упрекают в неевропейской ментальности, в неготовности к реформам, в стремлении паразитировать на нефтяных доходах. Если взглянуть на массовые опросы, то все они так или иначе демонстрируют патриотизм, идентификацию с властью и почти полный «одобрямс». Однако эта «социология» в известной степени похожа на наш гипотетический опрос про рубль. Она говорит не о реальной жизни общества, а, скорее, о стремлении к идеалу.
Реальный же настрой человека трудно «засечь» массовым опросом. Но если понаблюдать за некоторыми аспектами нашей жизни, обнаруживаются вдруг вещи, которые, казалось бы, не вписываются в привычную картину.
Профессора часто жалуются, что при оценке их работы всё реже принимают во внимание публикации в российских изданиях. Зато тот, кто «тиснул статью» в американский журнал, получает большую премию. Что это, низкопоклонство перед Западом и безродный космополитизм? Конечно, нет. Обычный прагматизм, стремление стать частью американской науки, являющейся ныне наиболее авторитетной. Причем приказ о премии подписывает тот же ректор, который в публичных речах демонстрирует начальству столь необходимую для получения господдержки любовь к Крыму, Китаю, импортозамещению и партии «Единая Россия».
А вот пример из совершенно иной области — с рынка недвижимости. В Петербурге на потенциального покупателя обрушивается реклама шведских квартир, финских домов, французских планировок, евродвушек, евротрешек и даже целых кварталов, названных в честь крупных западных столиц. Прагматичный бизнес прекрасно понимает, каковы реальные приоритеты людей с деньгами, какой образ жизни является для них привлекательным. Никто не пытается втюхать кварталы «Шанхай», «Дубай» или «Мумбай» успешному человеку, располагающему для покупки недвижимости суммой в несколько миллионов.
Перенесемся с рынка недвижимости в спортивную сферу. Вот где, казалось бы, царит неприкрытый патриотизм. Вот где болеют всегда за своих и искренне ненавидят любых противников. Однако понятие «свои» за последнее время стало у нас чрезвычайно расплывчатым. Мы искренне поддерживаем футбольный клуб, составленный почти целиком из легионеров, хотя среди его противников — полно наших сограждан, а порой даже земляков. Причем стоит владельцу клуба сменить легионеров, и вскоре болельщик начинает симпатизировать игрокам, которых освистывал, когда они играли в рядах соперников.
Самый яркий пример относительности нашего патриотизма — это кино. Антиамериканизм удивительным образом сочетается с популярностью Голливуда. В опросах наш человек демонстрирует гневное осуждение американской военщины, но, превратившись из респондента в зрителя, он платит деньги за возможность идентифицироваться с американским морпехом или полицейским. Причем здесь опять-таки нет никаких двойных стандартов. В профессионально сделанном отечественном боевике тот же зритель с удовольствием окажется на стороне нашего десантника или мента. Но Голливуд круче, богаче и опытнее в подготовке зрелищ. А в кино мы приходим именно ради зрелища — не для демонстрации патриотических чувств. Вот и платим за то, что нам нужно, хоть продукт и изготовлен вероятным военным противником.
Похожая ситуация и на TV. Патриотическая «информационно-аналитическая» пропаганда сменяется там сериалами и шоу, сделанными на базе заокеанского первоисточника. И миллионы граждан постоянно «американизируются», даже если никогда не ходят в кино на просмотр голливудских блокбастеров. Телевизионный опыт показывает, что мы плачем и смеемся примерно так же, как западные люди. У нас с ними близкие психологические реакции. Нас можно завести похожими сюжетами. Мы чувствуем азарт, реагируя на идентичные раздражители, и расслабляемся, прослушав мелодию, которая точно так же нравится жителю Бостона или Копенгагена.
Подобные примеры можно было бы приводить долго. Думается, если какой-нибудь профессор социологии посадит пару въедливых аспирантов покопаться в деталях реальной жизни российских граждан, мы получим о ней больше информации, чем от массовых опросов, при которых люди говорят не о своем повседневном существовании, а о ментальных конструкциях, создаваемых из страхов, желаний и фобий с поправкой на систему промывания мозгов.
Не стоит, впрочем, ругать опросники. Они делают важную вещь, показывая тот мир страстей, в котором живет человек. Только не надо думать, будто там идет речь о реальной жизни.
Человека модернизирующегося общества обычно мучают противоречия. В реальном мире он ориентируется на образ жизни успешных стран — хочет потреблять, как там, отдыхать, как там, развлекаться, как там. Но поскольку для основной массы населения отстающей страны «как там» невозможно, модернизирующееся общество оказывается в состоянии фрустрации. И чтобы защититься от нее, человек выстраивает своеобразный «ментальный щит»: на самом-то деле мы не отстаем — мы лучше, честнее, правильнее.
И потребление в соответствии с западными стандартами, и ментальное отторжение Запада в равной степени есть продукт догоняющей модернизации. Примерно так же, мучаясь от противоречий, догоняли Запад в свое время немцы. И в конечном счете догнали, несмотря на то что модернизация в середине XX века сыграла с ними злую шутку.
Может ли рухнуть путинский режим?
В общем, несмотря на то что демонстрируют нам массовые опросы, склонность общества к жизни по-европейски никуда не исчезла. Она вполне сочетается с поддержкой Путина. Однако в практической жизни всё устроено совсем не так, как в головах. Там или-или. Реальный путинский курс отдаляет Россию от Европы. И поэтому для будущего страны очень важен вопрос: может ли рухнуть путинский политический режим со всеми его изощренными механизмами маргинализации оппозиции, промывания мозгов населения и формирования идеологии осажденной крепости, сплачивающий толпы людей?
Многие ожидали, что режим рухнет под давлением массовых протестов зимы 2011—2012 гг. Но этого не произошло. Мирные многотысячные протесты эффективны лишь в обществе, где уже работает демократия, поскольку там массмедиа могут рассказать народу о масштабах протеста и причинах недовольства столичных активистов. В авторитарных же обществах власть спокойно выжидает, пока этим активистам надоест выходить на площадь, произнося без всякого результата одни и те же лозунги. Провинция же в это время будет думать с подачи настроенного на агитацию и пропаганду телевидения, будто в столицах бузят зажравшиеся на западные деньги бандерлоги, не желающие честно работать.
Многие ожидают, что режим всё же рухнет под давлением экономических проблем, поскольку в такой ситуации протест станет более широким и более агрессивным. К столицам, мол, присоединится провинция, где жизнь в условиях углубляющегося кризиса становится совсем трудной. Развитие событий по такому сценарию, конечно, не исключено, однако жизненные трудности далеко не всегда приводят к массовому протесту. В брежневском СССР с его пустыми прилавками мало кто был удовлетворен экономическим положением, но протестов не было, и политическая система просуществовала до кончины самого Леонида Брежнева и двух его престарелых преемников (Юрия Андропова и Константина Черненко).
Серьезный анализ нашего советского прошлого 1960—1980-х гг. показывает, каковы стандартные условия стабильности авторитарных режимов и при каких обстоятельствах они могут разваливаться.
Бесспорно, условием выживания поздней советской системы не являлась коммунистическая идеология. В ее идеалы тогда уже мало кто верил, и сами вожди часто были в числе первых обуржуазившихся советских граждан (как Брежнев с его коллекцией дорогих зарубежных автомобилей). Слова насчет строительства коммунизма являлись не более чем скучным ритуалом, от которого нельзя было отказаться, но который никого не привлекал.
Скорее всего, условием выживания системы не был и железный занавес. Хотя выезд за границу жестко лимитировали, а цензура отсекала западные демократические идеи с помощью запрета иностранных книг, газет и журналов, «безыдейный» кинематограф (в первую очередь французский и американский) демонстрировал миллионам советских людей, как красива жизнь «за бугром». Каждый зритель легко мог сравнить их прилавки, квартиры и машины с нашими. И наивных людей, полагавших, будто в мире капитала трудящиеся массы голодают, было не так уж много в брежневском Советском Союзе.
Потенциально мы в ту эпоху готовы были потребовать от власти сделать хоть что-нибудь для улучшения жизни. И в кухонных разговорах эти «требования» порой фигурировали. Но реально настаивать на своем было невозможно по трем причинам. Именно они и определяют устойчивость авторитарного режима.
Во-первых, КГБ при Юрии Андропове выстроил четкую систему минимально достаточных репрессий, способную парализовать потенциальных лидеров протеста за исключением узкого круга героических диссидентов. Вместо массовых сталинских репрессий, разрушавших общество до основания, Андропов внедрил систему профилактирования, при которой нарывавшегося на неприятности человека не хватали внезапно ночью, а мирно приглашали, куда следует, и объясняли, чем его поведение может вскоре закончиться. Подавляющее большинство после этого смирялось с неизбежным и предпочитало заткнуться.
Во-вторых, брежневская система, в отличие от сталинской, худо-бедно поддерживала сложившийся уровень жизни и никого не доводила до откровенной нищеты, вынуждающей порой к отчаянному протесту. При Брежневе не было вымиравших от голода украинских деревень. При Брежневе мы не участвовали в мировой войне, вынуждающей перекачивать все ресурсы тыла на фронт. Более того, именно при Брежневе мы стали экспортировать нефть, а вырученные деньги использовать не на возведение индустриальных гигантов (как при Сталине), а на импорт хлеба, шмоток и зрелищ.
В-третьих, советская элита оставалась единой, несмотря на существование в ней различных мнений о том, как следует жить. Люди типа Михаила Горбачева помалкивали до поры до времени и цинично делали карьеру. Потенциальные претенденты на пост генсека (вроде Суслова, Косыгина, Андропова или Черненко) не только не пытались досрочно скинуть стареющего и слабеющего Брежнева, но даже, когда вождь впал в полный маразм, мирно ждали его кончины, выстраиваясь в очередь на преемство (некоторые, кстати, умерли раньше, так и не дождавшись своего звездного часа). Иными словами, возможные конфликты внутри элиты не расшатывали систему, не разрушали работу КГБ, не поощряли слияние оппозиционных вождей с нонконформистами из низов.
Если путинской политической системе удастся обеспечить эти три условия выживания, то и она сможет, скорее всего, просуществовать до момента полной смены поколения правителей. Хотя, конечно, обеспечить их сложно. Особенно в условиях нашей сильной зависимости от мировой экономической конъюнктуры.
Есть ли слабости у Путина?
Итак, в целом путинский режим довольно устойчив, но и у него имеются слабости. Политическую систему авторитарного типа трудно будет сохранить, если в экономике наметятся по-настоящему серьезные долговременные трудности, если правоохранительные органы станут работать неэффективно или если различные группировки элиты вступят между собой в острый конфликт из-за раздела всё уменьшающегося ресурсного пирога.
Когда экономика может повлиять на политику? Наиболее близкая для власти опасность — это провалы в городах с промышленной монокультурой. Таких у нас по стране насчитывается более трех сотен. Не все они приближаются к серьезному кризису, но некоторые при неблагоприятном развитии событий рискуют оказаться настоящей зоной бедствия.
Эти города целиком зависят от одного-двух градообразующих предприятий. Если такие предприятия окажутся убыточными и собственник вынужден будет их прикрыть, большая часть горожан потеряет все средства к существованию. Подчеркнем, люди не просто станут жить хуже, чем раньше, а вообще не смогут заработать себе на жизнь, поскольку в их городе рабочих мест не окажется, а переселиться в иные места они не смогут, так как не смогут продать свое обесценившееся жилье и, соответственно, приобрести квартиру на новом месте.
Люди, пострадавшие от деградации промышленных моногородов, потенциально могут составить серьезный протестный электорат. В отличие от успешных москвичей и петербуржцев, ходивших на митинги зимой 2011—2012 гг. не из-за голода, а из-за «стилистических» (по выражению писателя Андрея Синявского) разногласий с властью, безработные провинциалы могут выйти на протест от полной безысходности. Когда нет работы в городе с промышленной монокультурой, остается лишь жить на пенсии бабушек или на скромную зарплату жены-учительницы, перечисляемую из федерального центра. А то и вовсе идти в соседний лес по грибы, по ягоды.
Впрочем, такой провинциальный протест никогда не свергает режимов. Они всегда рушатся только от революций, происходящих в столицах. А у нас, в отличие от Украины, нет свободного, независимого бизнеса, который мог бы профинансировать перевозку протестующих из глубинки на столичный майдан и проживание их на площадях Москвы в течение неограниченного периода времени.
Нет у нас и внешней поддержки демократии, о которой говорят кремлевские пропагандисты. Все мифы о щедром зарубежном финансировании российского протеста — не более чем мифы. Протест беден. А потому его слабость выявляется еще даже до того, как полиция приступает к разгонам митингов. В условиях быстро беднеющей страны разгонять, собственно говоря, некого.
Что же касается протестов непосредственно в столицах, то там даже при ухудшении экономического положения не так уж много имеется людей, которым нечего терять и которые готовы идти до конца. В столицах всегда можно найти работу (хоть плохонькую). Люди там обладают сравнительно дорогой недвижимостью, и даже протестующие не готовы, как правило, рисковать здоровьем в стычках с правоохранительными органами.
Экономический кризис лишь в том случае может спровоцировать по-настоящему серьезные протесты в столицах, если жизнь москвичей и петербуржцев ухудшится настолько, что им уже нечего будет терять. Подобное положение сложилось в феврале 1917 г. в Петрограде, но сейчас мы от него очень далеки.
Другое дело — создадут ли массовые протесты в столицах ситуацию, по-настоящему рискованную для протестующих. Иными словами, готовы ли будут силовики идти до конца в случае возникновения агрессивного протеста, скажем, в самом центре Москвы? Если будут готовы, то такой протест в столице может стать непримиримым лишь при полной экономической катастрофе страны. Если же силовики вдруг побоятся применять силу при первых же легких столкновениях с протестующими, режиму трудно будет сохранять свои позиции даже в относительно терпимой экономической обстановке.
Эту проблему можно назвать синдромом «Беркута» по имени украинского силового подразделения, которое, несмотря на надежды бывшего президента Виктора Януковича, так и не сумело предотвратить победу киевского майдана. Будут ли московские силовики вести себя сравнительно пассивно на манер «Беркута» или готовы будут действовать, как царские войска в Кровавое воскресенье января 1905 г., заранее не знает никто. Даже Владимир Путин.
И, наконец, несколько слов по вопросу единства элит. До недавнего времени они и впрямь были едины, поскольку все в большей или меньшей степени выигрывали от существования путинского режима. Но сегодня размер кормушек резко сократился, и начались серьезные схватки в рамках «внутривидового» отбора. Побеждают пока лица, наиболее тесно связанные с Путиным лично, и это не нравится значительному числу людей из вчера еще всем довольной элиты. В некоторых странах в некоторые времена возникновение такого рода проблем приводило к государственным переворотам. Но у нас они маловероятны.
Возможен ли переворот в России?
В развивающихся странах довольно часто случались государственные (в частности, военные) перевороты, а потому вопрос о возможности чего-то подобного в России отнюдь не является праздным. Но внимательный анализ отечественной традиции не подтверждает представление о реальной возможности путча у нас. Дворцовые перевороты временами случались в России XVIII века, когда гвардия готова была взять на себя ответственность за судьбы престола, а широкие народные массы к политике вообще никакого отношения не имели. Но уже в XIX столетии ситуация радикально изменилась. Последней серьезной попыткой военного переворота было восстание декабристов в 1825 г., но оно, как известно, полностью провалилось.
С тех пор Россию сотрясали временами революции и гражданские войны, теракты и контртеррористические операции, массовые мирные и немирные протесты горожан, но настоящих путчей не было. События августа 1991 г. — это исключение, которое лишь подтверждает правило. Группа политических руководителей страны решилась вроде бы восстать против единоличной президентской власти Михаила Горбачева, но когда на его защиту встала не столь уж большая группа демократически настроенных москвичей, армия отказалась брать на себя ответственность и тихо «ушла в кусты». Путч завершился на редкость бескровно.
Серьезные военные перевороты, как правило, происходят там, где есть традиция вмешательства армии в политику. То есть где генералитет и офицерство считают себя корпорацией, ответственной за судьбы страны. Корпорацией, способной взять власть в свои руки тогда, когда политики запутываются в противоречиях и перестают толком контролировать ситуацию.
У нас же военная служба — не более чем разновидность обычной государственной службы. Способ сделать карьеру, заработать деньги, прокормить семью. Менталитет российского офицера в этом смысле не сильно отличается от менталитета обычного чиновника, клерка: наше дело, мол, выполнять свои обязанности и получать зарплату, а путчи в круг обязанностей не входят.
Впрочем, само по себе отсутствие традиции не может гарантировать невмешательства армии. Или тем более спецслужб, которые в России довольно активны и в большей степени, чем военные, похожи на корпорацию, имеющую собственные интересы. За последние годы спецслужбы усилились, разбогатели, ощутили вкус высшей власти и могут, в принципе, попытаться переломить традицию. Могут. Но попытаются ли?
В первую очередь надо отметить, что популярные среди силовиков разговоры об их корпоративном единстве не могут скрыть клановости системы. Сотрудники госбезопасности враждуют друг с другом, если принадлежат к разным кланам и если борются между собой за кормушки. Практические групповые интересы доминируют над теоретическими представлениями силовиков о необходимости корпоративного единства и о священной службе родине.
Более того, в последнее время внутренние конфликты становятся наиболее напряженными. Обычно принято считать, что спецслужбам при Путине столь хорошо живется, что вряд ли они станут желать чего-то большего. До недавнего времени так оно и было. Но сегодня возникла проблема поддержания привычного для элиты образа жизни. Санкции, черные списки, запреты на выезд из страны... Возникает ситуация, когда денег вроде бы много, но они не приносят того удовлетворения, которое еще недавно имелось. А дальше ведь будет еще хуже.
Впрочем, все минусы подобного рода сейчас перекрываются тем, что именно Путин обеспечил элите в целом и спецслужбам в частности очень комфортный способ существования. Можно забирать себе из ВВП страны непропорционально большую долю материальных благ, но при этом не требуется подавлять протесты и рисковать своей репутацией. Народ ведет себя тихо благодаря путинской харизме и созданной им машине для промывания мозгов.
Пока у президента сохраняется столь высокий рейтинг поддержки, никакие путчи ему не страшны. Пока Путин популярен, устраивать любой переворот — себе дороже. При отсутствии в России иной столь же популярной фигуры любой правящей группе выгоднее поддерживать Путина, чем свергать его. Потому что после свержения замучаешься поддерживать стабильность.
Как ни пафосно это звучит, но именно Путин с его высоким рейтингом является гарантом стабильности в нашей стране. Для малообеспеченных людей такая стабильность оборачивается всё большими проблемами, но для хорошо обеспеченных она предотвращает появление проблем, по-настоящему серьезных.
Поэтому для Путина нет более важной задачи, чем сохранение высочайшего рейтинга. Он нужен не для противодействия майдану, а для предотвращения возможного путча. Революция в России вряд ли произойдет даже при низком президентском рейтинге, при больших фальсификациях результатов выборов и при силовом подавлении протестов. Но государственный переворот в подобных условиях может стать реальностью. Ведь если Путин перестанет обеспечивать стабильность режима, может возникнуть спрос на иную фигуру, способную оптимальным образом решать данную проблему.
Можно ли передать Россию по наследству?
Всё вышесказанное говорит о том, что существует большая (хотя, конечно, далеко не стопроцентная) вероятность сохранения путинского режима вплоть до кончины самого его создателя. Правдами и неправдами президент будет удерживать политическую власть в стране еще достаточно долго. Но означает ли это вечность путинской политической системы? Можно ли воспроизвести режим без самого Путина в интересах его преемников?
Политическое устройство нашей страны таково, что вероятность этого не слишком велика. Скорее всего, нынешняя система власти будет существовать столько, сколько простоит у руля ее создатель. А затем начнется быстрая демократизация. Персоналистские режимы, где все полномочия концентрируются в руках вождя (национального лидера), а не политической партии, очень трудно «унаследовать» преемнику, если, конечно, наследование происходит не от отца к сыну, как в Северной Корее, Сирии, Азербайджане или на Гаити.
Если взглянуть на историю нашей страны в XX веке, то обнаружится, что ни разу диктатор, уходящий в мир иной, не мог даже определиться с выбором преемника. И уже тем более — аккуратно передать ему власть.
Ленин в последние годы жизни размышлял о том, кто из ведущих большевиков мог бы после его смерти подхватить правление в Советской России. Итог его размышлений известен по так называемому «Письму к съезду», где дается уничижительная характеристика всей правящей верхушке. Сталин груб и неспособен аккуратно пользоваться властью. Троцкий излишне самоуверен. Бухарин слишком схоластичен. Зиновьев с Каменевым недостаточно надежны. Пятаков увлекается администрированием и плох как политик. Фактически отвергнув мысль о конкретном преемнике, Ленин предложил фантастический вариант усиления коллегиальности в ЦК РКП(б), который, естественно, провалился.
Власть захватил Сталин, попутно поубивав большинство членов ЦК, чтобы не осталось и намека на коллегиальность. При этом «отец народов» также не смог никому передать власть перед смертью. Письменных разъяснений на этот счет вождь не оставил, но, по всей видимости, он, как и Ленин, не видел в ближайшем окружении человека, равного самому себе по гениальности.
В итоге Хрущев с Маленковым съели Берию как самого опасного. Затем Хрущев съел Маленкова с Молотовым, Кагановичем и примкнувшим к ним Шепиловым. На всякий случай прижали маршала Жукова. Что в конечном счете не уберегло самого Хрущева от заговора во главе с Брежневым.
После смерти Брежнева подобной драчки уже не наблюдалось, но не было и подробных инструкций о наследовании. Генсек ЦК всё время колебался, то приближая, то отодвигая соратников. Самые влиятельные лидеры — Косыгин и Суслов — умерли раньше него. Кириленко — своего личного друга — Брежнев перед смертью задвинул в тень. Продвигал Андропова, Черненко и, возможно, Щербицкого, но никого из них так и не поддержал однозначно.
Проблема преемственности связана не только с представлением уходящего вождя о себе любимом как об оптимальном правителе, равного которому уже не подобрать. Дело еще и в том, что при жизни любой автократ боится соперничества и устраняет конкурентов. Не обязательно убивает. И даже в отставку отправляет не обязательно. Он может просто подрывать их позиции во власти, отсекая от аппаратной поддержки и отправляя руководить периферийными сферами. При этом автоматически на ведущие позиции возле вождя попадают самые слабые и сервильные. С ними безопаснее.
В итоге после кончины лидера слабые оказываются на сильных позициях, а сильные — на слабых, что уравновешивает их в борьбе за власть. Борьба эта при подобном раскладе становится более трудной и продолжительной. Политический режим расшатывается. И когда всё так или иначе устаканивается, режим фактически приходится выстраивать заново.
Путин ведет себя точно так же, как его предшественники. На посту премьера оказываются лишь странные персонажи вроде Фрадкова, Зубкова или Медведева. Во главе Государственной Думы, Совета Федерации и политических партий находятся безвластные марионетки, которыми рулят из кремлевской администрации. Причем руководителем самой этой структуры становится слабый политик, а главный кукловод остается на позициях его заместителя.
«Народный герой» Шойгу не поднимается выше министра. Собянина при выборах мэра Москвы обломали, заставив конкурировать с популярным среди интеллигенции Навальным, что резко ухудшило результат победителя. А Сечин — теневой «гений зла» — так фактически никогда из тени и не выходит.
При этом молодежь на ключевые посты вообще не привлекается. Рулят страной люди, давно уже связанные с Путиным, а новые лица получают лишь технические должности (министры, губернаторы и ниже), а не политические.
Удержать в равновесии подобный режим без Путина будет чрезвычайно сложно. Неизбежно произойдет перегруппировка сил. Причем разные группы интересов наверняка будут в поисках поддержки апеллировать к элитам и, возможно, даже к народу. Выйдет из-под контроля система пропаганды и дезинформации. В массы пойдет компромат на ближайших соратников Путина. Кого-то задвинут, кого-то арестуют. Отладить расшатанную систему правления будет проще всего с помощью компромиссов, а не посредством борьбы на уничтожение противника. Компромиссы же неизбежно ведут к демократизации.
Любит ли бизнес Путина?
Итак, явная слабость нынешней политической системы состоит в том, что ей очень трудно будет сохраниться без своего создателя. Ведь, по большому счету, она никому, кроме него, не нужна.
Странный вроде бы получается вывод: ведь все в пропутинских элитах постоянно твердят о том, как хорошо складываются дела в сегодняшней России. Однако на самом деле именно сегодня настроения элиты быстро меняются. А завтра станут, по всей видимости, меняться еще быстрее. И к тому времени, когда в силу естественных причин будет происходить смена поколений правителей, когда Путин на смену царствию земному обретет царствие небесное, сторонников той политической модели, которую он создал, практически не останется.
Для начала посмотрим на то, каковы интересы бизнеса. Деловые круги, конечно, не сильно горевали из-за отсутствия демократии в нулевые годы. Даже если в душе они предпочитали западный образ жизни со свободными выборами, гарантией сохранности собственности и возможностью критики правителей, на деле российские бизнесмены легко утешались теми сверхприбылями, которые на них обрушивались в период благоприятной нефтяной конъюнктуры. Свободы мало — денег много, а значит, можно существовать.
Огорчало бизнес, конечно, то, что на него часто наезжали и заставляли делиться доходами. Сначала с бандитами, затем с силовиками, бандитов заменившими. Но совокупная прибыль была столь велика, что даже необходимость отстегивать крупные суммы за крышевание не подрывала в целом благоприятного положения отечественных деловых кругов. При росте экономики на 6—7% в год денег обычно хватает и тем, кто производит, и тем, кто крышует. И даже народу при этом кое-что перепадает.
В данной ситуации бизнес был откровенно сервилен по отношению к власти. Выражал готовность произносить любые верноподданнические фразы и выделять деньги на любые политические проекты Кремля (естественно, в рамках разумного). Оппозиция или свободная пресса могли апеллировать к деловым кругам: мол, дайте денег, поддержите свободу, а не то вам самим рано или поздно хуже будет при такой власти. Бизнес кивал головой, но при этом разводил руками и закатывал глаза к небу: вы же понимаете... Хуже-то когда еще будет, а сейчас — уж больно всё хорошо.
Но с началом кризиса 2008—2009 гг. ситуация стала резко меняться в худшую сторону. А после 2014 г. положение дел стало откровенно плохим. Возможности для развития деловой активности сокращаются. С одной стороны, наезды и коррупция по-прежнему всерьез уменьшают доходность предпринимательской деятельности. Но с другой — былой приток нефтедолларов уже не компенсирует необходимость отстегивать деньги чиновникам и силовикам. Бизнес постепенно переходит от хорошей жизни к выживанию.
Это не означает, что деловые крути станут голодать. Жизнь элиты по-прежнему качественно отличается в лучшую сторону от жизни простых людей. Но благодарить путинский режим деловой элите уже не за что. Разве за то, что он пока не съел ее окончательно.
Впрочем, из всего вышесказанного отнюдь не следует делать вывод, что бизнес вдруг встрепенется, набросится с критикой на созданную Путиным систему и начнет активно финансировать оппозицию. Михаил Ходорковский уже попытался в 2003 г. раскрыть президенту глаза на тех коррупционных змей, которых глава государства пригрел на своей груди. Результаты известны и не вызывают желания подражать Михаилу Борисовичу.
Бизнес всегда сервилен. Таковым он останется и дальше. Тот, кто не хочет в подобной системе существовать, просто эмигрирует, а вовсе не борется с режимом. Но для понимания перспектив существования путинской политической системы важно другое. Нежелающий рисковать своим состоянием бизнес с радостью займется трансформацией режима, как только это будет позволено. Иными словами, пока нынешняя политическая система крепка, деловые круги не вложат денег в ту борьбу, которую с ней ведут маргиналы. Но, как только она ослабнет в связи со сменой поколений правителей и влиятельные политические группировки станут оспаривать друг у друга право наследовать Путину, бизнес с радостью вложит деньги и силы в то, чтобы такой деструктивной системы, как путинская, больше в России не повторилось.
Не имея возможности пилить халявные нефтяные деньги, бизнес захочет от будущих правителей получить хотя бы западные правила игры (так называемые институты), при которых можно делать деньги цивилизованными методами. Пусть со значительно меньшей нормой прибыли, чем в «благословенные нулевые», но зато с настоящими гарантиями прав собственности. Без западных санкций, наездов силовиков, чиновничьих поборов и необходимости скидываться на нужды политиков, которые всё равно не бизнес защищают, а только Путина, желающего править Россией постоянно.
Путин и олигархи
С олигархами складывается несколько иная картина, чем с обычным бизнесом. Они вроде бы теснее связаны с политическим режимом, но всё же и эта узкая группа интересов постепенно теряет желание быть частью путинской системы.
Как отличить олигарха от обычного бизнесмена? Нередко говорят, что, мол, олигархи — это понятие, взятое из «лихих 90-х», тогда как сегодня наш бизнес уже не является олигархическим. Или даже конкретнее: олигархи правили страной, отняв власть у избранных народом политиков, тогда как сегодня государство вернуло себе свои полномочия.
На самом деле всё обстоит не совсем так. Олигархами в свое время стали называть сравнительно узкую группу бизнесменов, получивших собственность от представителей власти на особо выгодных условиях. По сути, это были «назначенные» бизнесмены. Точно так же как были (и есть) назначенные властью парламентарии. Иными словами, в России сформировалось еще в 1990-х гг. три разновидности чиновников. Во-первых, политические чиновники, непосредственно управляющие страной (бюрократия). Во-вторых, экономические чиновники, управляющие крупным бизнесом (олигархи). В-третьих, юридические чиновники, управляющие законотворческим процессом (депутаты).
Путин, конечно же, не уничтожил олигархическую систему правления, как утверждает у нас официальная пропаганда. Он интегрировал олигархов в свой политический режим, сделав взаимовыгодным сосуществование правящей группы с крупным бизнесом. В этом смысле олигархи сохранились. Они управляют страной вместе с ведущими политиками и силовиками при законотворческой поддержке депутатского корпуса. Но будет ли путинский политический режим для олигархов выгоден и в перспективе?
Значение олигархических капиталов для нынешней политической системы состоит в том, что они фактически представляют собой второй госбюджет. Им может управлять лично Путин при поддержке своего политического аппарата. Он неподконтролен ни министерству финансов, ни даже пропутинскому депутатскому корпусу. И данные о размере этого бюджета никогда не обнародуются.
Любой олигарх понимает, что переданная ему государством собственность может быть в любой момент у него отнята, как у Ходорковского, а значит, он в любой момент должен быть готов передать часть своих доходов для решения важных государственных задач. Или, точнее, не государственных, а окологосударственных — тех, которые важны непосредственно для правящей группы.
К олигарху может прийти некий политик или генерал. Возможно, музыкант или бывший сосед очень высокопоставленного государственного деятеля. А может быть, не сосед, а его партнер по дзюдо или коллега по работе в органах. И этому человеку на офшорный счет надо будет перевести соответствующую денежную сумму. В пределах разумного, естественно. Так, чтобы эта сумма не подрывала олигархический бизнес. Поскольку олигархическое правление в современной России взаимовыгодно для всех сторон, в нем участвующих.
Не стоит думать, будто этот второй бюджет просто исчезает в чьих-то карманах. Он выполняет важные функции. На эти деньги строятся политические кампании. Не обязательно официальные. Кто-то же должен содержать так называемые «фабрики троллей», обнаруженные недавно в Санкт-Петербурге. Или снимать скрытой камерой грязные видео про оппозиционных политиков. Какие-то суммы необходимо переводить на содержание фондов известных деятелей культуры, высказывающихся во время предвыборных кампаний в поддержку Путина. Что-то, наверное, перепадает и зарубежным политикам, которые вдруг внезапно начинают испытывать страстное желание хвалить правящих в России «демократов чистой воды». А уж кондотьеров, сражающихся за свободу регионов, недавно еще ни о какой свободе не думавших, точно не профинансируешь иначе как из тайных фондов, остающихся вне общественного внимания.
Олигархи не возражают против того, что их «стригут» ради осуществления подобных операций. Выгода от сохранения олигархического режима, в котором они ворочают миллиардами, перекрывает ущерб от вынужденных трансферов. Причем, в отличие от рядового бизнесмена, которого могут обстричь полностью, олигархи всегда имеют возможность апеллировать лично к Путину или, во всяком случае, к фигурам, весьма высокопоставленным.
Но всё это выгодно им лишь до тех пор, пока перспективы своей деятельности в России они оценивают как благоприятные. Лишь в таком случае инвестиции в политиков и троллей имеют смысл. Если же перспективы режима становятся сомнительными, им проще вывести деньги из России и осесть за рубежом. Причем сделать это тем быстрее, чем больше шансов попасть в какой-нибудь черный список за содействие путинской политике.
Контролировать вывод олигархических капиталов из страны Путин никак не может. Поскольку офшоры создаются как раз ради того, чтобы генералы и музыканты держали там деньги, необходимые для укрепления режима. Иными словами, олигархи получают карт-бланш на создание офшоров, и сколько они их создадут, сколько и куда выведут капиталов, не проконтролирует никакая госслужба. Любому ретивому чиновнику сразу дадут по носу: не суйся в офшоры, которые вне твоей компетенции. А когда выведенные из России миллиарды перестанут работать на путинскую систему и просто растворятся между Каймановыми островами, поздно будет заниматься деофшоризацией.
Любят ли Путина чиновники?
Бюрократический аппарат, включая силовиков, является важнейшей опорой нынешней политической системы. Эти люди больше всего выиграли за время правления Путина. Разрастающаяся коррупция позволяет им иметь доходы, сопоставимые по размеру с доходами бизнеса, но при этом не вкладывать в дело своих капиталов и не нести никаких рисков в случае провала.
Неудивительно, что чиновничество стремится в максимальной степени содействовать сохранению режима. Однако, как и в случае с бизнесменами, вчерашнее процветание не обязательно оборачивается будущими успехами. Бюрократия в обозримой перспективе будет всё меньше выигрывать от сохранения нынешней политической системы, несмотря на то что с коррупцией по-настоящему никто не борется и на накопленные коррупционерами доходы никто не покушается.
Дело в том, что благосостоянию бюрократии мешают два одновременно развивающихся процесса. С одной стороны, экономические трудности сокращают общую «взяткооблагаемую базу» России (как сокращают они и налогооблагаемую базу), поскольку нельзя взять с предпринимателей больше того, что они зарабатывают. С другой стороны, вчерашние успехи чиновничества на ниве обирания бизнеса сформировали весьма привлекательную картину для многих молодых людей, раздумывающих вслед за Владимиром Владимировичем (Маяковским, естественно) «сделать бы жизнь с кого». Делать они ее собираются не с товарища Дзержинского (как советовал в свое время классик советской поэзии), а с тех нынешних силовиков и чиновников, которые хорошо зарабатывают на взятках, распилах, крышеваниях и откатах.
Итак, спрос на взятки становится с годами всё большим, а предложение на этом рынке — всё меньшим. Если при плохой экономической конъюнктуре из бизнеса будут вытрясать душу, наши предприниматели просто уведут капиталы в офшоры, а то и вообще отправятся доживать свой век за границу, где, конечно, нет таких доходов, как во вчерашней России, но нет и таких рисков, как в России завтрашней. Происходящий в последние годы быстрый отток капиталов за рубеж показывает, что многие в бизнесе уже не связывают свои перспективы с Россией, а если на тех, кто еще пока связывает, навалятся без меры всякие прихлебатели, то отток капитала еще больше ускорится.
В общем, в будущем нам следует ожидать двух важных изменений. Во-первых, благоразумным чиновникам придется как-то затягивать пояса, чтобы не потерять возможность кормиться с бизнеса. Во-вторых, неблагоразумные чиновники, готовые сегодня хоть выжигать страну целиком, лишь бы им регулярно платили положенное, окажутся в какой-то мере объектом антикоррупционных дел. Наша власть на удивление терпима к коррупции, но не настолько же, чтобы ради интересов отдельной группы бюрократии подрывать экономическую базу своего собственного существования.
Как ни парадоксально, но политический режим, основанный на коррупции, в перспективе вынужден будет коррупцию притормаживать, сознательно идя на ссору с частью бюрократии. Однако и бюрократия в этой ситуации рассорится с политическим режимом.
С точки зрения чиновника доход, который он получает от бизнеса, — его законная добыча. И поддерживать бюрократия готова только тот режим, который эту добычу для нее сохраняет. Иными словами, чиновник требует от власти минимальной эффективности и не приветствует шаги, которые способствуют хозяйственному развалу системы.
Именно так обстояло дело в брежневском СССР. Многие думают, будто партийные аппаратчики тогда были главными противниками горбачевских новаций, но на самом деле при Брежневе страна управлялась столь плохо, что от перестройки ушлые аппаратчики лишь выиграли. Они смогли не только больше заработать, но и конвертировать свои доходы в бизнес благодаря появившимся при Горбачеве кооперативам и коммерческим банкам.
В обозримой перспективе путинская бюрократия захочет иметь иной режим. Тот, в котором бизнес процветает и, соответственно, дает возможность себя обирать. Эскалация международной напряженности и зарубежные санкции играют на руку лишь малой части силовиков, которая непосредственно от всего этого выигрывает. В то же время сотни тысяч чиновников хотели бы вернуть благословенные нулевые или даже «лихие 90-е», когда им жилось лучше.
Конечно, никакого чиновного бунта у нас не будет, как не будет и предпринимательского майдана. Бюрократия труслива и корыстна: она не станет рисковать сегодняшними (хоть и сокращающимися, но пока реальными) доходами ради сомнительных будущих. Но когда станет происходить смена поколений правителей России, аппарат сделает ставку на сравнительно умеренных преемников. На тех, которые не зарываются в своих геополитических амбициях. На тех, которые готовы играть по цивилизованным правилам и уходить в отставку при поражении на выборах. На тех, которые сами живут и жить дают другим, а не выжигают после себя землю.
Развал «просвещенного вертикализма»
То, что государственные структуры вошли на третьем президентском сроке Путина в острый кризис, связанный с нехваткой коррупционных доходов, видно по целому ряду конфликтов в высших эшелонах власти. Различные кланы схлестываются между собой, и те, кто послабее, вынуждены отступать.
Самый яркий пример — дело Сердюкова. Сейчас уже очевидно, что серьезной борьбой с коррупцией в рамках этого громкого дела никто не занимался. Проштрафившегося министра вообще вывели из-под удара, приняв версию, будто подчиненные вводили его в заблуждение, а основная фигурантка Евгения Васильева лишь сделала вид, будто отсидела положенный ей срок.
Главным здесь было, судя по всему, не посадить виновников, а оттеснить Сердюкова с его «девочками» от огромной военно-промышленной кормушки. И это удалось сделать в полной мере. Минобороны возглавил человек со стороны — Сергей Шойгу. Он привел туда свою команду, и финансовые потоки пошли в ином направлении. Ничего подобного ни при Путине, ни при Медведеве раньше не случалось. Когда нефтяные доходы были высокими, с госслужбы кормились самые разные ставленники системы, и всем денег хватало. Теперь же приходится кормить одни группы за счет отстранения других.
Еще один характерный пример — дело Евтушенкова. Этот олигарх приватизировал хитрым образом компанию «Башнефть» и полагал, видимо, что никто ее у него не отберет. Однако политический вес Евтушенкова, тесно связанного в прошлом с мэром Москвы Юрием Лужковым, оказался не тот, что ранее. Сильных заступников у него нынче нет в связи с опалой Лужкова. А капиталы сами по себе в системе силового предпринимательства не много значат.
На Евтушенкова жестко наехали и отобрали «Башнефть», продемонстрировав, что прихватизировал он имущество не по чину. Как человек, не имеющий непосредственного «доступа к телу», Евтушенков должен ныне находиться в дальнем эшелоне лиц, отщипывающих кусочки от государственной собственности.
Не столь яркий пример — отставка главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина. На первый взгляд кажется, что ничего общего с делами Сердюкова и Евтушенкова здесь нет. Никто не говорил в данном случае о коррупции (хотя масштабы неэффективного хозяйствования на железных дорогах поражают каждого, кто по ним ездит). В один прекрасный день Якунина просто превратили в почетного отставника.
Но этого человека и нельзя было ни в чем замазать, поскольку его прямой «доступ к телу» не вызывал никаких сомнений. Человек, близкий к Путину, но утративший аппаратное значение, должен был тихо уступить свою сферу влияния другим группам интересов — тем, которые сегодня «на коне». Нанести личный вред своему старому другу президент, конечно, не хотел, однако общая нехватка ресурсов вынудила его пойти на суровое кадровое решение. Ведь поощрить одни кланы можно нынче только за счет других, менее важных и влиятельных.
В общем, Якунин, выйдя из тяжелых катаклизмов, оказался цел, хотя и не совсем уж невредим. Не каждому так везет Как только мы переходим на несколько более низкий уровень государственного управления, где личных друзей Путина уже нет, так сразу выясняется, что на проштрафившегося чиновника можно наехать всерьез. Вплоть до заключения под стражу. В 2015 г. было арестовано сразу два губернатора — Александр Хорошавин (Сахалин) и Вячеслав Гайзер (Коми).
Что сближает регионы, которыми руководили эти люди? Наличие нефти. Наезжают не на любых губернаторов, а именно на тех, которые контролируют большие ресурсы. Если во главе региона окажется вдруг иной начальник, то осваивать эти ресурсы будут, возможно, совсем другие компании. В благоприятное для экономики время губернатор был практически фигурой неприкосновенной, а теперь, когда кланы сражаются между собой за раздел добычи, жертвами оказываются даже люди подобного масштаба.
В дальнейшем, скорее всего, интенсивность межклановых схваток будет только возрастать. Ведь в нашей экономике никаких серьезных улучшений не предвидится. Следовательно, самые разные группы интересов будут пихать друг друга локтями на сужающемся поле. Понятно, что до беспредела Путин эту борьбу довести не даст, чтобы не развалить всю свою столь тщательно выстроенную политическую систему. Пихаться будут «по понятиям», выясняя, кто прав, кто виноват не столько перед законом, сколько перед национальным лидером.
Однако происходящие ныне события всё ярче демонстрируют, что, кроме личной воли этого лидера, никаких сдерживающих механизмов для разборок уже не существует. Иными словами, нет принятых всеми правил игры, институтов развития, которые могли бы вводить схватки за ресурсы в правовое поле. А значит, к тому времени, когда будет происходить смена поколений правителей, то есть когда Путин в силу естественных причин утратит контроль над страной, борьба кланов пойдет с особой интенсивностью. И воспроизвести путинский «просвещенный вертикализм» без самого Путина в такой напряженной борьбе будет довольно сложно.
Путин и дети
Лет десять-пятнадцать назад среди молодежи можно было найти немало путинских фанатов. Девушки пленялись еще сравнительно молодым президентом. Юноши рассматривали успешного, энергичного и неплохо образованного лидера в качестве образца для строительства собственной карьеры. Молодежь редко задумывалась о ценностях, которые пришли в Россию вместе с Владимиром Путиным, однако слишком увлекалась очарованием его личности.
Сегодня ситуация изменилась. Повсюду продаются футболки, кепки, кружки и даже бутылки с портретом вождя, но нечасто встретишь человека, который открыто демонстрировал бы с помощью этих атрибутов свою искреннюю увлеченность Путиным. Фанаты перевелись или, во всяком случае, затаились. А в ходе массовых протестов зимы 2011—2012 гг. многие молодые люди даже оказались в оппозиции. Но следует ли из этого, что новое поколение сейчас уже выбирает демократию вместо авторитарного режима?
Ни в коей мере. Есть небольшое число фанатов демократии на одном фланге, так же как сохраняется некоторое число путинских фанатов на другом. В центре же простирается огромное «болото». Причем не в том смысле, что, мол, молодежь глупа, плохо образованна, слабохарактерна, аполитична и недальновидна. Подобные стариковские претензии редко бывают справедливы. Как правило, молодежь находится в собственном мире, где занимается поиском места в жизни, спутника жизни и смысла жизни. Лишь в редкие периоды революций она вдруг ненадолго заражается социальной эйфорией. Нормальный молодой человек вообще о Путине думать не должен. Есть кому возбудить его, кроме президента.
Сегодня у нас в стране нормальная ситуация. То есть не революционная и не возбуждающая. И думы о Путине идут где-то примерно на одиннадцатом месте после дум о карьере, зарплате, сексе, любимой девушке, любимом футбольном клубе, любимой музыке, любимом костюме, маленьких детях, ближайшей сессии и ближайших каникулах.
Нормальная молодежь эгоистична. Она будет встраиваться в тот политический режим, какой существует. А миф об обязательном молодежном нонконформизме — не более чем миф. Никакого поколения дворников и сторожей не может появиться. Дворники и сторожа являются маргинальной частью любого поколения, тогда как основная масса стремится войти в число хозяев жизни или, по крайней мере, стать высокооплачиваемым офисным планктоном.
До сих пор молодежь неплохо устраивалась при Путине, поскольку экономика росла и создавала хорошие рабочие места. Но основной вопрос состоит в том, будет ли и дальше нынешний политический режим устраивать аполитичных юношей и девушек.
Будет ли он их устраивать в тот главный момент, когда произойдет смена поколений правителей и элиты встанут перед проблемой: сохранять старую систему власти или радикально трансформировать ее?
Думается, что удовлетворенность людей, входящих во взрослую жизнь сейчас и в ближайшие десять-пятнадцать лет, будет намного ниже той, которая была у молодежи девяностых и нулевых годов. Сегодня перестает работать большинство старых социальных лифтов, а новых не появляется.
В девяностые годы, когда у нас только еще формировалась рыночная экономика, молодые люди легко занимали хорошие рабочие места, поскольку люди старших поколений не обладали ни знаниями, ни навыками, ни энергией для того, чтобы крутиться в новых условиях. В нулевые годы оказалось, что ключевые места уже заняты людьми среднего возраста (повзрослевшей молодежью девяностых), хорошо адаптировавшимися к рынку. Теперь молодой человек не мог, конечно, как раньше, стать с ходу главой крупного банка. Но экономический рост расширял число ставок среднего уровня, а потому бесконечное число юношей и девушек превратились в неплохо обеспеченный офисный планктон.
Сегодня у нас нет ни резкой смены поколений в экономике, ни быстрого роста ВВП. Причем ни того, ни другого не предвидится и в перспективе. Молодежь будет бороться за любые рабочие места, перебиваясь «объедками с барского стола» своих родителей, стремящихся как можно дольше не выходить на пенсию, поскольку та вновь становится нищенской.
Сейчас уже можно говорить, наверное, о формировании потерянного поколения людей девяностых и нулевых годов рождения, которых в нынешнем политико-экономическом мире совсем не ждут. Многие, понятно, всё равно пробьются, но немалым будет и число тех, которых постигнет жестокое разочарование. Разочарованные совсем не обязательно выйдут на майдан, поскольку без самой крайней нужды проще мирно искать свою скромную нишу в жизни, чем рисковать этой жизнью, противопоставляя себя авторитарному режиму. Но в момент смены поколений правителей, когда элиты будут апеллировать к народу, предлагая разные модели развития, молодежь вряд ли выберет status quo. Она захочет перемен — не демократии ради демократии, а такой социальной системы, при которой развивается страна в целом, а не только малые группы, оседлавшие Кремль.
В этом поиске взгляды молодых людей окажутся, скорее всего, устремлены на Запад. И если политики будущего предоставят народу выбор моделей развития, новые поколения с большой степенью вероятности склонятся к демократии как к оптимальной модели, формирующей общество благосостояния.
Откуда берутся демократы
Когда глядишь на будущее нашей страны через призму современной социальной науки, то начинают просматриваться не столь уж плохие перспективы. Во всяком случае, если следовать подходу, предложенному американцем Рональдом Инглхартом и немцем Кристианом Вельцелем, нынешняя российская молодежь должна рано или поздно проявить склонность к демократии.
Их социологическая концепция выглядит (если слегка упростить) следующим образом. Все наши человеческие ценности можно собрать в две большие группы: ценности выживания и ценности самовыражения. Когда нам трудно живется, когда нам угрожают война и голод или хотя бы товарный дефицит и высокая преступность, мы склонны всеми силами бороться за выживание. Когда же жизнь наша налаживается и мы не сомневаемся в собственной безопасности и в том, что, придя в магазин, всегда сможем приобрести необходимый набор качественных товаров, на первый план выходят совсем иные задачи.
Люди всё чаще хотят заниматься интересной и творческой работой, трудиться не только ради денег, но еще и ради результата: чтобы оставлять после себя след на Земле. Если сказать слегка высокопарно, люди стремятся выражать собственную личность. Конечно, они не становятся строителями коммунизма. Деньги и объемы индивидуального потребления для них по-прежнему важны. Но не менее важно становится то, что не измеришь никаким объемом потребления.
Ценности выживания часто порождают диктатуры. Люди соглашаются на ограничение своих свобод ради того, чтобы кто-то мог твердой рукой навести порядок. Ценности самовыражения с диктатурой несовместимы, поскольку творческий человек в стремлении выразить свою личность постоянно переходит дозволенные рамки. Он может, конечно, приспособляться к авторитарным режимам, если у него нет иного выхода, но не имеет никаких внутренних стимулов поддерживать такие режимы, если встает вопрос об их замене.
Проще говоря, российский авторитаризм во многом связан с тем, что у нас, как раньше во всех западных странах, житейские трудности настраивали людей на поддержку твердой руки. Советская «экономика дефицита» настраивала по-своему, а «лихие 90-е» с инфляцией, преступностью и утратой привычной работы — по-своему. Но в любом случае люди, прошедшие через суровые катаклизмы прошлых лет, часто склонялись к мысли, что ныне нам грех жаловаться на Путина, поскольку при нем и прилавки в магазинах наполнены, и зарплату выдают регулярно, и цены растут умеренно.
Впрочем, по мере того как материальные трудности жизни уходят в прошлое, у нас должна была, казалось бы, нарастать склонность к демократии. Но этого не происходит, и аналитики, настроенные пессимистически, делают вывод, что русские, мол, на демократию вообще не способны, что души у них рабские и что палку хозяина они уважают больше любых ценностей самовыражения. На это в теории Инглхарта и Вельцеля есть ответ.
Для формирования нашего мировоззрения важно не столько то, как мы сейчас живем, сколько то, в каких условиях выросли. Становление личности и появление духовных запросов приходятся на период юности. Если в юности обстоятельства заставляли нас думать в первую очередь о выживании, то ценности выживания будут доминировать в сознании на протяжении всей нашей жизни. Если же юность сложилась благополучно и молодой человек мог думать о смысле жизни, о том, как выразить себя и посвятить труд любимому делу, то в дальнейшем у него будут доминировать ценности самовыражения.
Если считать, что советская эпоха и «лихие 90-е» по разным причинам были временем, не слишком благоприятным для жизни, то, значит, ценности самовыражения могли нормально формироваться лишь у того поколения россиян, которое входило во взрослую жизнь уже в XXI веке, когда, с одной стороны, установился путинский политический режим, но с другой — рост реальных доходов позволял большей части населения страны уйти от назойливых дум о выживании.
Сегодня представители этого поколения являются школьниками или студентами. Некоторые доучились и стали молодыми специалистами. В целом же по России доминируют люди, ориентированные на выживание. Но лет через 15—20, когда станет происходить смена поколений российских правителей, «новая волна», ориентированная на ценности самовыражения, будет составлять примерно половину населения страны.
Эти люди вряд ли смогут бороться за высшую власть, поскольку для решения такой задачи они еще не достигнут достаточного политического веса. Но от их выбора во многом будет зависеть то, кто эту высшую власть получит. Если в схватке за Кремль элиты станут интересоваться мнением народа, то новое поколение, сформировавшееся в благополучные годы, скорее всего, выскажется за демократию, которая обеспечивает возможность свободного творчества, свободного поиска своего места в жизни.
Правда, это произойдет лишь в том случае, если нарастающие экономические трудности не погрузят Россию в столь длительный и глубокий кризис, при котором придется вновь думать о выживании. Если нас ждет такая катастрофа, то на развалинах одного авторитарного режима может вырасти другой.
Рональд Инглхарт и Кристиан Вельцель — социологи:
«Либеральная демократия вряд ли сможет утвердиться или действовать эффективно,если она существует в рамках культуры с преобладанием ценностей выживания, где свобода человека имеет второстепенное значение по сравнению с соответствием социальным нормам и подчинением государственной власти. В такой ситуации харизматический лидер может без труда нагнетать в обществе ощущение нависшей над страной угрозы, создавать благоприятные условия для давления социальных групп на индивидов и обеспечивать согласие населения с авторитарной по своему характеру властью — вплоть до поддержки людьми отмены их собственных гражданских прав. <...>
Люди, поглощенные заботами о физическом выживании, придают меньшее значение эмансипации личности, а потому с большей готовностью принимают — а порой и требуют — ограничения политических и гражданских свобод, составляющих суть демократии. И, напротив, социально-экономическое развитие ослабляет такого рода ограничения независимости людей, увеличивая объем экономических, когнитивных и социальных ресурсов. Проявлением этого становится "культура самовыражения", в рамках которой демократия воспринимается как форма правления, наиболее подходящая для максимального усиления свободы выбора».
(Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития. - М.: Новое издательство, 2011. С. 232, 239)
Ленин родился в 1997 году
Ленин появился на свет в 1870 г. — через 9 лет после завершения многолетней борьбы российской общественности за отмену рабства. Сформировался как личность Владимир Ильич в самом конце 1880-х, когда вопрос о крепостном праве совсем уже отошел в историю, однако консервативный режим Александра III тормозил осуществление дальнейших перемен. Иными словами, будущий вождь не ценил Великие реформы 1860-х, поскольку получил их готовыми, но ощущал на себе гнет царизма, который на фоне буржуазных свобод Запада казался режимом, совершенно не пригодным для нормального существования.
Вместе с Лениным сформировалось целое поколение людей, не ценивших достигнутое их отцами, но стремившихся к дальнейшим преобразованиям. Среди деятелей 1917 г. имелись политики с разными взглядами, и далеко не все они были авантюристами большевистского типа, но сближало их общее неуважение к старому режиму. Аристократия презирала его за распутинщину, интеллигенция — за отсутствие демократии, народ — за нежелание дать фабрики рабочим, а землю — крестьянам. Между собой эти люди почти ни в чем не сходились, кроме одного: все готовы были к крутым переменам. И даже тот, кто потом одумался, бросился бороться с большевиками, лишь когда они уже укрепились во власти.
Большевистский режим, как ни странно, рухнул в конце 1980-х примерно по той же причине. Ушли в мир иной те поколения, для которых борьба с царизмом была делом священным, тогда как политики новой волны достигнутого не ценили. Идеалисты-шестидесятники хотели реформированного социализма, директора заводов — номенклатурной приватизации, молодежь — джинсов и рок-музыки. Все вместе хотели колбасы без очереди и абсолютно не реагировали на слова официальной советской пропаганды о том, что при капитализме, мол, не каждый трудящийся имеет деньги на колбасу.
Наиболее непримиримыми к старой системе были те, кто появился на свет после завершения сталинской индустриализации и формирования системы, которая, как представлялось отцам, должна создать материально-техническую базу коммунизма. Люди поколения Путина—Медведева (1950—1960-х годов рождения) с младых ногтей осознали, что про коммунизм всё врут и нормальную жизнь надо выстраивать иным образом.
Идейная атмосфера путинской эпохи — это культ потребления и, соответственно, денег, предоставляющих возможность употреблять. Окологосударственная олигархия, ворочающая миллиардами, представляет собой символ эпохи. Мало кто в нее может попасть, но многие стремятся достигнуть подобных успехов или хотя бы комфортно обустроить свой маленький уютный мирок, так не похожий на мир, который пытались ранее строить большевики.
Поколение Ленина—Сталина и поколение Путина—Медведева в полной мере смогли реализовать свое видение новых ценностей, в полной мере отряхнуть со своих ног прах старого мира и разрушить кумиров прошлого. В отличие от них, поколения разночинцев-шестидесятников XIX века и идеалистов-шестидесятников XX столетия оказались поколениями промежуточными, то есть не закрепившимися во власти. Во многом это произошло потому, что они ценили определенные достижения прошлого, наблюдали борьбу своих отцов за осуществление преобразований и желали, скорее, продолжать двигаться путем постепенных перемен, чем вставать на путь радикального переустройства.
Мы видим, таким образом, что новые идеи живут своеобразными циклами, длящимися около 50 лет, то есть примерно столько, сколько нужно для смены двух поколений. Поколение Ленина Сталина застало реализованной важнейшую идею своих отцов, наметило новые цели и реализовало их. Также поступило поколение Путина—Медведева. По всей видимости, похожим образом пойдет развитие и дальше. Новое поколение не примет доминирующих ныне ценностей.
Ленин появился на свет через 9 лет после отмены крепостного права. А когда у нас стала уходить «доденежная» жизнь? Примерно с 1988 г.
В общем, новый Ленин появился на свет в 1997 г. — через 9 лет после слома старой жизни. Сегодня он учится на втором курсе престижного университета и не подозревает еще о том, какая миссия ляжет на его плечи. Этот парень вырос в обеспеченной семье и не слишком ценит деньги, которых у него достаточно. Тем более он не беспокоится относительно колбасы и очереди, которую следует отстоять для ее приобретения. Эта дикость исчезла еще до его рождения.
Молодой человек (назовем его Володя) много думает сегодня о самореализации. Возможно, у него есть старший брат, которого мордуют по «болотному делу», и наш Володя понимает, что идти надо другим путем. Не то чтобы он хочет свергнуть режим, но мысль о необходимости правильного устройства жизни всё чаще приходит ему в голову. Поэтому в поисках ответа на роковые вопросы он после окончания бакалавриата отправится поступать в магистратуру западного университета. На Западе Володя станет впитывать новые ценности. Конечно, не всё ему понравится, однако контраст с нарастающей в России убогостью заставит всерьез задуматься о сравнении систем.
Из нынешнего кризиса наша экономика выйдет в стагнацию, поэтому приличной работы на родине Володя не найдет. Придется остаться в аспирантуре за рубежом и интенсивнее адаптироваться к западной жизни. В 2024 г. наш герой получит PhD и узнает, что его 72-летний тезка остался у власти после завершения четвертого президентского срока. Володя решит, что деньги деньгами, карьера карьерой, но есть ведь и иные ценности. Обидно, когда коллеги вчера еще посмеивались над убогостью твоей родины, а сегодня предпочитают про нее вообще не вспоминать, поскольку беднеющая Россия совсем выпала из европейской жизни.
В 2025 г. Володя переберется в Москву с существенной потерей в зарплате. Он многого лишится, но лишь укрепится в желании сделать российскую жизнь похожей на тот мир уютного западного городка, который решился покинуть. Вряд ли Володя осуществит революцию, как Владимир Ильич в 1917 г., но от решения миллионов таких людей, как наш герой, будет во многом зависеть будущее.
Демократия налогоплательщика
Когда говорят о причинах устойчивости путинского политического режима, часто ссылаются на то, что в России по какой-то причине не работает демократия налогоплательщика. И этим мы отличаемся от «сознательного» Запада. Там, мол, каждый налогоплательщик понимает, что государство существует именно на его деньги, а потому сознательно относится к выборам президента и парламентариев, препятствуя формированию авторитарной коррумпированной системы, разбазаривающей ресурсы. У нас же гражданин не понимает, на какие средства существует власть, а потому остается политически пассивным существом.
Дело, однако, вовсе не в том, что мы глупее зарубежных демократов. Дело в том, что у нас сегодня парадоксальным образом не государство существует за счет миллионов граждан, а миллионы граждан существуют за счет патерналистского государства, раздающего народу всяческие блага. Такая парадоксальная ситуация складывается не только в России, но во многих странах, где государственные доходы зависят от нефти и газа.
Как формировалась демократия налогоплательщиков на Западе? Причины ее успеха определялись вовсе не поголовной сознательностью граждан. В любой западной стране большая часть избирателей, конечно, не думает о судьбе своих налогов. То есть о том, жируют ли чиновники на их деньги или эффективно эти средства используют. О таких вещах думает, как правило, сравнительно небольшой процент населения. Либо те, кто занимается бизнесом и платит очень большие налоги. Либо те, кто занимается интеллектуальной работой и потому вообще склонен к отвлеченным размышлениям.
Именно они требуют от государства эффективности. И при необходимости могут вывести на массовые протесты тех, кто обычно не думает о таких вещах, но способен внимать разумным аргументам элиты. При протестных действиях государство может либо прислушаться к демократам-налогоплателыцикам, либо послать их подальше, одновременно оболванивая массы с помощью TV.
И вот здесь-то возникает главный элемент, обеспечивающий работу демократии. Оболванить массы можно в любой стране, но, если власть пренебрегает мнением элиты, бизнес стремится выводить капиталы за рубеж, а интеллектуалы организовывают утечку мозгов. В таких условиях через какое-то время экономика начинает разваливаться, и оболванивать широкие массы становится трудно из-за снижающегося уровня жизни. Поэтому разумные политические режимы стараются не допускать такого. Они уважают демократию налогоплательщика. А глупые режимы рушатся из-за неудержимых протестов нищающих обывателей.
У нас в России — иная картина. Основную часть государственного благосостояния обеспечивали в нулевые годы не частный бизнес и не интеллектуалы, а государственные и окологосударственные нефтегазовые компании. Таким образом, власть оказывалась в зависимости от эффективной работы сравнительно небольшой доли населения — нефтяников и газовиков, строителей трубопроводов и буровых, а также охраны, пресекающей разворовывание ресурсов из трубы. Более того, государство кормило основную часть общества за счет этих ресурсов. Начиная с чиновников, которым позволялось много воровать, и заканчивая учителями, врачами, профессорами, которым выплачивались государственные зарплаты, значительно большие, чем в «лихие 90-е».
Теоретически любой налогоплательщик мог бы в такой системе выступить против власти, сказав, что он ее кормит, а значит, хочет контролировать. На что власть могла возразить, что на самом деле это она его кормит и налоги он платит с тех денег, которые от государства получает. А если ему в такой ситуации желательно свернуть свой бизнес, вывести капиталы и эмигрировать, то скатертью дорожка. Стабильность власти от его налогов не зависит. Если все бандерлоги (как называл протестующих Путин) разбегутся, бюджет сэкономит деньги и отдаст их тем, кто верой и правдой служит начальству.
Благосостояние путинского режима стало разрушаться не из-за бегства налогоплательщиков, а из-за падения цен на нефть. И если природные ресурсы будут длительное время стоить дешево, патерналистское государство рассыплется. Оно не сможет позволить чиновникам столько красть, как раньше, бизнесменам реализовывать проекты за счет госбюджета, а учителям, врачам и профессорам получать зарплаты, обеспечивающие сносный уровень жизни. Такое государство сможет лишь заботиться в полной мере о силовиках, необходимых для подавления возможных выступлений протестующих.
Вот в такой ситуации демократия налогоплательщика заработает. Если простые бизнесмены и интеллектуалы своими деньгами и своими мозгами не обеспечат существования государства, власть вряд ли сможет быть популярна в народе. Поскольку нищая власть, не имеющая возможности раздавать блага и одновременно препятствующая модернизации страны, редко бывает популярна.
Конечно, не вся масса наших правителей, но какая-то их часть поймет, насколько изменилась ситуация, и сделает ставку на демократию налогоплательщика в борьбе с теми правителями, которые действуют по известному принципу «После нас хоть потоп». Соответственно, у общества появится возможность поддержать прагматиков и отобрать власть у тех, кто умеет лишь подавлять.
Егор Гайдар:
«В наиболее развитых государствах Западной Европы укореняется переданный им итальянскими городами-государствами новый принцип: свободный человек не платит налогов, в установлении которых не принимал участия он сам или его представители. <...> В 1477 году, после гибели Карла Смелого Бургундского в битве при Нанси, нидерландские города добились согласия бургундских правителей на предоставление им Великих привилегий — права Генеральным штатам Бургундских Нидерландов собираться по своей инициативе и самостоятельно решать вопросы, связанные с налогообложением. Победа конфедерации городов-государств (со всеми характерными для них институтами) над крупнейшей европейской державой — Испанией — стала свидетельством преимуществ налогообложения, основанных на принципах демократии налогоплательщиков и косвенных налогах перед традиционными способами взимания налогов в аграрных государствах. <...>
После "славной революции" 1688 года развитие Англии находится под очевидным влиянием голландских установлений.
<...> Связь событий 1688-1689 годов — стабилизация политического режима, укоренение демократии налогоплательщиков, упорядочение прав собственности, гарантии прав личности — с экономическим ростом, подъемом финансового и военного могущества Англии была для западноевропейских современников очевидным фактом».
(Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. - М.: Дело, 2005. С. 246-250)
От клептократии к демократии
В целом я смотрю в будущее с оптимизмом, но, чтобы оптимизм этот не выглядел розовым, надо принять во внимание важный момент, из-за которого развитие России даже после смены поколения нынешних правителей может пойти совсем не по демократическому сценарию.
В любой переходный момент своей истории Россия сильно зависела от того, какой образец ей демонстрировал Запад. Практика брать оттуда всё лучшее установилась еще до Петра I, однако конкретный характер заимствований определялся господствовавшими в Европе тенденциями. С Запада мы брали как демократию, так и тиранию: в зависимости от того, что нынче входило в моду.
Петровский деспотизм был лишь «завернут» в национальную оболочку. Основа же оставалась чисто европейской. XVII век создал деспотическое абсолютистское государство во Франции, Испании, Пруссии, Швеции. А наш царь его заимствовал, сочленив с крепостным правом так, как ему представлялось удобным.
Большевики научились марксизму тоже на Западе. Там к концу XIX века активно входили в моду идеи заботы о народе. Ленин со Сталиным взяли за основу идею заботы и провели ее в жизнь так, как сумели. Или, точнее, так, как позволяли отечественные условия.
В отличие от вышеперечисленных деспотов, Александр II проводил идею свободы. В частности, он отменил крепостное право. Удалось это сделать потому, что для Европы середина XIX века была эпохой максимального либерализма, когда абсолютистский деспотизм уже канул в прошлое, а деспотизм националистический и социалистический еще не зародился. В общем, опять всё пришло с Запада.
Михаил Горбачев осуществил перестройку, когда во всем цивилизованном мире поняли, что советский социализм — это ГУЛАГ и дефицит, а вовсе не забота о простом человеке. На Западе к 1980-м гг. стали модны неолиберальные идеи, временно оттеснившие идеи госрегулирования. Горбачев плохо представлял, что хочет построить, и реформировал социализм, заимствуя из Европы те элементы государственного устройства, которые тогда представлялись эффективными.
Всё это важно принимать во внимание, если мы хотим понять, как изменится российское общество, когда уйдет в прошлое путинское поколение правителей и страна в очередной раз будет выбирать путь выхода из системного кризиса.
Конечно, страны Запада были и останутся существенно богаче России. Тем более что те годы, которые нами будет руководить Путин до момента смены поколения правителей, окажутся нелегкими в экономическом смысле. Однако привлекательность западной модели будет зависеть не только от формальных сравнений, осуществляемых по показателю ВВП на душу населения. Важнее субъективные ощущения. Будут ли новые российские лидеры, приходящие на смену путинскому поколению правителей, считать, как Горбачев в свое время, что Запад по-прежнему находится на подъеме, или же они начнут, как Ленин на рубеже XIX XX веков, полагать, будто близится закат Европы, не способной преодолеть свои многочисленные противоречия?
Если западная демократия к этому времени будет сильна и устойчива, то постпутинская Россия сделает новый рывок на Запад, стремясь, наконец, сформировать те «правила игры», благодаря которым цивилизованный мир стал успешным. Если же западная демократия окажется в очередном кризисе, наши новые лидеры могут попытаться взять за образец иную модель.
Признаков кризиса, к сожалению, сегодня просматривается довольно много.
Во-первых, пирамиды государственного долга, возвышающиеся по всему миру, начиная с США. Запад живет не по средствам, потребляя существенно больше, чем производит. Если вдруг пирамида американского долга рухнет именно в тот момент, когда в России произойдет смена поколения правителей, о западном тренде в российской политике можно будет надолго забыть.
Во-вторых, проблемы миграции, с которыми различные государства всеобщего благоденствия не знают, как справиться. Социальные блага привлекают сомнительную публику со всего мира в Европу и США, а толерантность не позволяет принять жесткие меры против притока «халявщиков». Усиливаются конфликты местного населения с мигрантами, и в результате всё более популярными становятся политики, предлагающие курс жесткой руки.
В-третьих, увеличивается опасность терроризма на фоне активной миграции. Сегодня взрывы в крупных городах еще являются чрезвычайным происшествием, но что будет, если через 15—20 лет они станут столь же будничным явлением, как в Ираке или на Северном Кавказе?
В-четвертых, хотя европейская интеграция является важным и прогрессивным делом, интенсивная бюрократизация Евросоюза грозит ввести западный демократический капитализм примерно в такое же состояние стагнации, в каком уже находится наш клептократический капитализм. И если так пойдет дело, путь от клептократии к демократии окажется чрезвычайно тернистым.
Скорее всего, вышеперечисленные проблемы не станут для Запада фатальными. Не раз он уже в своей истории доходил до сложного кризиса, однако преодолевал возникающие проблемы. Тем не менее следует помнить, что на Востоке существуют недемократические, но динамично развивающиеся в экономическом отношении страны (в первую очередь Китай), которые способны стать в перспективе более привлекательным образцом, чем страны Запада. По уровню жизни они еще очень долго не догонят мировых лидеров, но по образу жизни (минимум госрасходов, госдолга, мигрантов и терактов) могут внезапно оказаться соблазнительны.
Пока что мы еще практически никак не копируем Китай. С Западом ссоримся, но надеемся, что он нас признает рано или поздно за своих. Но что произойдет, если не будет ни надежды такой, ни желания?



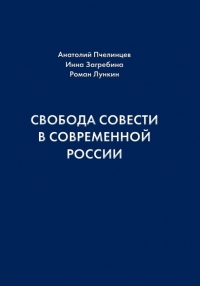

Комментарии к книге «Просуществует ли путинская система до 2042 года?», Дмитрий Яковлевич Травин
Всего 0 комментариев