Ларри Коллинз, Доминик Лапьер Горит ли Париж?
Часть первая Угроза
1
Он никогда не опаздывал. Каждый вечер, когда приходил немец, неся с собой старый маузер, бинокль в потертом кожаном футляре и судок с ужином, жители городка Ме-ан-Мюльсьен знали, что уже шесть часов. Когда он пересекал вымощенную булыжником площадь, с построенной в романском стиле колокольни небольшой церквушки XII века Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон, которая возвышалась над серыми черепичными крышами Ме-ан-Мюльсьена, приютившись на вершине холма над речкой Урк, в 37 милях к северо-востоку от Парижа, неизменно раздавались первые звуки колокола, зовущего к вечерней молитве.
Немец — седеющий сержант люфтваффе — всегда размеренно шагал прямо на этот мирный звук. У дверей церкви он снимал пилотку и входил внутрь. Медленно взбирался по узкой винтовой лестнице на колокольню. Там, на самом верху, стояли стол, газовая лампа и стул. На столе рядом с грязно-зеленым полевым телефоном были аккуратно разложены карта немецкого генерального штаба, блокнот и календарь. Колокольня Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон служила наблюдательным пунктом люфтваффе.
Отсюда немец мог просматривать в бинокль всю местность. От шпилей собора в Mo на юге до средневековых каменных стен Шато-де-ла-Ферте-Милон на севере его взгляд прощупывал участок на глубину до 13 миль, минуя грациозную излучину Марны, терракотовые стены городка Лизи-сюр-Урк и возвращаясь к поросшим тополями и круто обрывающимся вниз берегам Урка.
Через несколько часов на этот мирный пейзаж, предстающий взгляду вооруженного биноклем сержанта, опустится ночь. Всматриваясь в тени вокруг себя, он приступит к очередному ночному бдению — пятьдесят восьмому с начала оккупации. На рассвете он поднимет трубку полевого телефона и отрапортует в региональный штаб люфтваффе в Суасоне. Вот уже 12 дней со времени последнего полнолуния донесения сержанта были неизменными: «По моему сектору сообщений нет».
Союзники забрасывали своих парашютистов для связи с французским Сопротивлением только при свете полной луны. Немец знал это. Как показывал календарь на его столе, полнолуния не будет еще 16 ночей, то есть до 18 августа.
Немец был уверен, что этой ночью ничего не случится в крохотном уголке оккупированной Франции, порученном его заботам. Той ночью, 2 августа 1944 года, сержант не сомневался, что может спокойно подремать на стоящем перед ним шатком столе. Но он ошибался.
Немец спал, а в двух милях от него, в сыром поле среди собранной в копны пшеницы, стояли, образовав треугольник (так партизаны обозначили район выброски), двое мужчин и женщина. Каждый сжимал в руке карманный фонарик, вставленный в жестяную трубку. Если этот фонарик направить вверх, то его тонкий луч будет виден только с высоты. Все трое ждали. Вскоре после полуночи они услышали долгожданный звук. То был низкий гул работающих на неполных оборотах моторов бомбардировщика «Галифакс», мягко скользящего над долиной Урка. Они включили фонарики.
Всматриваясь в темноту, пилот самолета заметил мерцающий треугольник. Он нажал кнопку на передней панели. На фюзеляже бомбардировщика погасла яркая красная лампочка и зажглась зеленая. В тот же миг стоявший у открытого люка человек ухватился за его края и устремился в ночь.
Бесшумно опускаясь на родную землю, молодой студент-медик Ален Перпеза ощущал на талии тяжесть пояса, в котором находились пять миллионов франков. Но не ради доставки этой впечатляющей суммы окунулся он в эту черную августовскую ночь: В подошву левого ботинка Алена Перпеза была спрятана полоска тонкого, как паутина, шелка. На ней были отпечатаны 18 блоков закодированных цифр. Его начальники в Лондоне считали содержащееся в них сообщение столь важным и срочным, что, вопреки правилам, отправили Алена Перпеза в путь в эту безлунную ночь.
Перпеза не знал содержания переданной с ним шифровки. Он знал только, что должен доставить ее как можно скорее главе британской разведывательной службы во Франции. Его подпольное имя было Жад Амиколь. Резиденция Амиколя находилась в Париже.
Было семь утра, когда Перпеза отряхнул солому, налипшую в скирде, где он прятался на ночь. Чтобы добраться до Парижа, молодой студент-медик выбрал самый быстрый из доступных способов. Он решил голосовать.
Остановился первый же грузовик, проезжавший мимо. Он принадлежал люфтваффе. Четыре немецких солдата в касках, держась за деревянные борта открытого кузова, уставились на него сверху вниз.
Водитель кивком подозвал его к себе. В это мгновение Перпеза показалось, что его массивный пояс с деньгами весил добрую сотню фунтов. Немец смотрел изучающе. «Nach Paris?»[1] — спросил он. Перпеза кивнул и, цепенея от страха, скользнул на теплое сиденье рядом с водителем. Немец нажал на газ, и юный агент с шифровкой для главы британской разведки во Франции стал наблюдать, как впереди раскручивается дорога на Париж.
* * *
Преклонив колена в прохладной тени часовни, девять сестер монашеского ордена Страстей Господних читали третью за день молитву, когда тишину монастыря нарушили три долгих звонка и один короткий. Две из них тут же встали, осенили себя крестным знамением и вышли. Для сестры Жанны, матери-настоятельницы, и сестры Жанны-Марии Вьянней, ее помощницы, три долгих и один короткий звонок означали «важный визит».
Вот уже четыре года гестаповцы предпринимали отчаянные попытки найти человека, которого укрывал этот монастырь. Здесь, за шероховатыми стенами старого здания, построенного в месте, где соседствовали пустырь и высокие каменные стены приюта Св. Анны для душевнобольных, рядом с гостиной находилась резиденция Жада Амиколя, главы британской разведки в оккупированной Франции. Оберегаемая этими старыми стенами и спокойным мужеством монахинь, его резиденция так и не была обнаружена, несмотря на непрерывную охоту гестаповцев[2].
Сестра Жанна приоткрыла маленькое окошко, вырезанное в массивной дубовой монастырской двери, и увидела молодого человека.
— Меня зовут Ален, — сказал он. — У меня записка для полковника.
Сестра Жанна отодвинула засов и вышла, чтобы убедиться, что молодой человек один и за ним не следят. Затем жестом пригласила его войти.
В гостиной под портретом аскетического вида священника, по преданию основавшего орден Страстей Господних, Ален Перпеза снял левый ботинок. Ножом, который дала ему сестра Жанна, Перпеза оторвал подошву и вытащил кусочек шелка, ради которого рисковал жизнью. Затем он передал его лысеющему гиганту с голубыми глазами, сидевшему рядом в кресле.
Полковник Клод Оливье — Жад Амиколь — взглянул на черные буквы на шелке и попросил сестру Жанну принести специальную сетку, с помощью которой он расшифровывал переписку. Сетка была отпечатана на тончайшем платке из съедобного материала. Если бы ее пришлось проглотить, она растворилась бы во рту за несколько секунд. Сестра Жанна прятала ее в часовне под алтарным камнем, на котором стояла дарохранительница алтаря Доброго Вора.
Оливье наложил сетку на доставленную Перпеза шифровку. Командование союзников, говорилось в ней, намерено «обойти Париж и отложить его освобождение на как можно более позднее время». Ничто, говорилось далее, не должно повлиять на эти планы. Под шифровкой стояла подпись «Генерал» — подпольная кличка главы разведывательной службы. Он подписывал сообщения только чрезвычайно важного характера.
Полковник посмотрел на Перпеза.
— Боже мой! — воскликнул он. — Это катастрофа!
2
Для города, простиравшегося за стенами монастыря, этим теплым августовским утром начался тысяча пятьсот третий день германской оккупации.
Ровно в полдень, как, собственно, каждый день в течение этих четырех лет, рядовой Фриц Готтшальк и 249 других солдат из 1-го зихерунгсрегимента начали свой обычный марш по Елисейским полям до площади Согласия. Впереди духовой оркестр разразился визгливыми нотами марша «Прюссенс глори» — «Прусская слава». Лишь парижане, стоявшие на тротуарах этого величественного проспекта, наблюдали старания рядового Готтшалька. Они уже давно научились избегать этих унизительных зрелищ.
Подобные надменные парады были лишь одним из многих унижений, которым подвергалась столица Франции с 15 июня 1940 года. В те дни единственным местом в Париже, где французы могли видеть флаг своей страны, был Музей армии в Доме инвалидов, где он был заперт в стеклянном шкафу.
Черно-бело-красная свастика нацистской Германии бросала городу вызов с вершины монумента, по существу, его символа — Эйфелевой башни. На сотнях гостиниц, общественных зданий и жилых домов, реквизированных завоевателями Парижа, развевалось то же знамя угнетения, символ режима, четыре года державшего в оковах дух прекраснейшего в мире города.
Черно-бело-красные будки часовых вермахта, расставленные вдоль изящной аркады улицы Риволи, вокруг площади Согласия, перед Люксембургским дворцом, Палатой депутатов и Министерством иностранных дел, вытеснили парижан с тротуаров их собственного города.
Перед домом № 74 по авеню Фош и № 9 по улице Соссе, перед другими домами, не столь заметными, но не менее известными, стояли другие часовые. На воротниках их кителей сверкали двойные серебряные молнии СС. Они охраняли помещения гестапо. Их соседям не часто удавалось спокойно уснуть: укрыться от воплей, почти каждую ночь доносившихся из этих зданий, было не просто.
Немцы изменили само лицо города. Они уничтожили почти две сотни прекраснейших бронзовых статуй — отправили в Германию для переплавки в снарядные гильзы.
Архитекторы «трудовой организации» ТОДТ поставили свои монументы, возможно, менее эстетичные, но производящие больший эффект. В тротуары Парижа было вдавлено около ста бетонных ДОСов. Их уродливые формы взбугрили лицо города словно россыпь бородавок.
На площади Оперы перед плетеными стульями «Кафе де ла Пе» повырастали, словно бобовые черенки, пучки белых дощатых указателей. Их усеянные черными буквами стрелы показывали немецким водителям такие негалльские направления, как «DER MILITARBEFEHLSHABER IN FRANKREICH», «GENERAL DER LUFTWAFFE», «HAUPTVERKEHRSDIREKTION PARIS». В то лето добавился еще один. Его надпись вселяла надежду в проходивших мимо парижан: «ZUR NORMANDIE FRONT»[3].
Никогда ранее широкие бульвары города не были так пустынны. Автобусы не ездили. Такси пропали в 1940 году. Немногие водители, которые оказались достаточно везучими или достаточно покладистыми, чтобы получить на машину немецкий аусвайс, вместо топлива использовали дрова. Эти переделанные машины назывались «га-зоженами»; приводящие их в движение дрова сжигались в бельевых баках, прикрученных к багажнику.
На дорогах господствовали велосипед и лошадь. Велосипед даже заменил такси. Некоторые водители превратили свои машины в фиакры: разрезали пополам и оставляли лишь половину с сиденьем, которая балансировала на задних колесах. Их называли «вело-такси». Водители буксировали их с помощью велосипеда. На случай срочной доставки существовали супервело-такси, влекомые четырьмя ездоками. Самый быстрый экипаж принадлежал ветеранам «Тур де Франс» — знаменитых французских велогонок. Большинство этих маршруток на людской тяге имели названия. Наиболее популярным было «LES TEMPS MODERNES»[4].
Метро не работало с одиннадцати до пятнадцати по рабочим дням и все субботы и воскресенья. Вечером оно закрывалось в 23 часа. Комендантский час начинался в 24 часа. Если немцы ловили парижанина после комендантского часа, его отводили в комендатуру фельджандармерии (военной полиции), где он проводил ночь, наводя глянец на сапогах. Плата за опоздание на последний поезд метро могла быть выше, если в ту ночь бойцами Сопротивления был убит немецкий солдат. В этом случае расплата наступала перед дулами винтовок. Немцы любили выбирать жертвы для карательных расстрелов среди нарушителей комендантского часа.
Три дня в неделю в уличных кафе города не продавалось спиртное. Вместо этого подавали отвратительный эрзац-кофе, получивший название «национальный кофе». Его делали из желудей и турецкого гороха.
Париж плохо снабжался газом и там почти не было электричества. Хозяйки научились готовить над сваренными вместе десятигаллонными бидонами, называемыми «плитка-44». Как топливо использовали клочки газет, скомканные в крохотные шарики и смоченные водой. Так они горели медленнее. Как говорилось в рекламе одного из универмагов, с помощью газеты в 6 страниц литр воды можно было вскипятить за 12 минут.
Но прежде всего Париж был городом голодным. Он превратился в самую большую в мире деревню: каждое утро просыпался под пение петухов. Они возвещали о наступлении рассвета с задних двориков, с крыш, с чердаков, из неиспользуемых спален и даже чуланов, короче, отовсюду, где миллионы голодных жителей города находили несколько футов для их разведения. Это был город, в котором мальчишки и пожилые женщины каждое утро пробирались в парки, чтобы срезать несколько запретных травинок для своих кроликов, живущих у них в ваннах.
В тот август парижане получали по карточкам два яйца, 3,2 унции растительного масла, 2 унции маргарина. Норма на мясо была так мала, что, как шутили в то время, его можно было завернуть в билет на метро, конечно, если билет не был использован, иначе мясо может вывалиться через дырочку, проколотую компостером. В меню большинства парижан входила преимущественно брюква — разновидность турнепса, — которой раньше кормили скот.
Для тех, у кого водились деньги, существовал черный рынок. Обед на четверых стоил 6250 франков. (Секретарша в то лето зарабатывала 2500 франков в месяц.) Яйца стоили 40 центов штука, масло — 10 долларов фунт. Тем, у кого денег не было, оставалось сесть на велосипед и ехать за 20, 30 или 40 миль в сельскую местность в поисках крестьянина, продающего цыпленка или пучок овощей. Это был единственный способ растянуть карточный рацион.
Стены города были увешаны плакатами вишистов. Французских рабочих призывали «объединяться со своими немецкими братьями» или вступать в «Легион против большевизма». На первых полосах коллаборационистских газет, таких как «Ле пти паризьен», «Пари-суар» и еженедельник «Же суи парту» («Я повсюду»), провозглашалось, что «работа в Германии — это не депортация», а из Берлина объявлялось, что «никогда еще германский генеральный штаб не был столь уверен в будущем». На внутренних полосах неприметные рекламные объявления предлагали «отправку мебели на лошадях на дальние расстояния».
И все же каким-то образом Парижу удавалось жить, по воспоминаниям Эллиота Поля, «с легким и веселым сердцем». Никогда еще его прекрасные женщины не казались столь прекрасными. Четыре года скудного рациона и ежедневных поездок на велосипеде укрепили их тела и сделали ноги стройными. В то лето они убирали волосы под широкополые, украшенные цветами шляпы, словно сошедшие с картин Ренуара.
В июле Мадлен де Рош, Люсьен Лелонг и Жак Фат объявили «воинственную моду» — широкие плечи, широкие пояса и короткие юбки — для экономии материала. Некоторые ткани, в которых Франция испытывала недостаток, изготавливались из древесных волокон. Когда идет дождь, шутили парижане, термиты вылезают наружу.
По вечерам парижанки носили туфли на деревянной подошве, громко стучавшие по мостовой. Они привыкли снимать их и возвращаться домой босиком, если в пути их настигал комендантский час. Тогда немецкие патрули слышали лишь стук собственных кованых сапог.
В тот август парижане оставались в городе. Война есть война: традиционный отдых в деревне пришлось отложить. Школы были открыты. Тысячи горожан загорали на набережных Сены. В то лето эта мутная река превратилась в крупнейшую в мире купальню.
Для коллаборационистов и их немецких друзей, для нуворишей черного рынка в таких заведениях, как «Максим», «Лидо» и нескольких кабаре, вроде «Шехерезады» или «Сюзи Солидор», по-прежнему были шампанское и икра. В ту неделю какой-то счастливчик-француз по билету № 174184 двадцать восьмого тиража национальной лотереи выиграл 6 миллионов франков (34 300 долларов) — больше, чем Ален Перпеза привез в Париж в своем колючем поясе.
В субботу, воскресенье и понедельник продолжался сезон скачек на ипподромах в Лоншаме и Отейе. Лошади были тощие, но трибуны были полны. А из Луна-парка — парижского Кони-Айленда — раздавалось утешительное объявление: «Не огорчайтесь из-за пропавшего отпуска. Нажав на педали вашего велосипеда всего лишь 99 раз, вы найдете у нас свежий воздух и солнце».
Ив Монтан и Эдит Пиаф пели дуэтом в «Мулен руж». Серж Лифарь вновь обратился к балету и прославил двух молодых неизвестных исполнителей — Зизи Жанмер и Ролана Пети.
В кинотеатрах продолжали работать проекторы, приводимые в движение электричеством, которое накручивалось с помощью двух велосипедов. В «Гомон палас» подсчитали, что четыре человека, вращающих педали со скоростью 13 миль в час в течение шести часов, могут выработать электроэнергию для двух сеансов. Кинотеатр рекламировал бесплатную стоянку для 300 велосипедов.
Театры открывались в три и закрывались в сумерках. Свободных мест не было. На круглых зеленых тумбах города висели афиши двадцати различных пьес. Во «Вьё Коломбье» давали пьесу Жана Поля Сартра «Нет выхода». В нескольких кварталах от театра, укрывшись в мансарде, ее автор писал памфлеты для Сопротивления.
Но над всем господствовало одно священнодействие, которое каждый вечер того памятного лета 1944 года удерживало парижан дома. В течение короткого получаса, когда загорался неровный электрический свет, прижав ухо к радиоприемнику и затаив дыхание, весь город вслушивался сквозь потрескивание радиопомех, создаваемых немецкими глушителями, в запретные сообщения Би-би-си. В тот вечер 3 августа 1944 года, когда Париж купался в лучах неповторимого по своей красоте заката, жители города впервые узнали о событии, которое вскоре станет для них страшным кошмаром.
Той ночью горела Варшава. В то время, как ее русские освободители остановились на расстоянии лишь короткого перехода от ворот города, немецкий гарнизон жестоко подавлял преждевременно начавшееся восстание. Когда немцы закончили свое дело, 200 тысяч поляков были мертвы, а Варшава представляла собой груду обгоревших камней.
Выглянув в тот вечер в окно, любой парижанин мог наблюдать одно из чудес войны: Париж был невредим. Нотр-Дам, Сент-Шапель, Лувр, Сакре-Кёр, Триумфальная арка — все неповторимые памятники, сделавшие этот город маяком для цивилизованного человека, оставались в целости на протяжении пяти лет самой разрушительной из всех войн. Теперь, наконец-то, приближался час освобождения Парижа. Рок, по воле которого Варшава в тот августовский вечер превратилась в руины, рок, который до сих пор щадил Париж, вскоре нависнет и над этим красивейшим городом мира.
Париж был осью, вокруг которой вращалась вся Франция. В этом городе сходились все крупнейшие дороги и железные магистрали Франции. Он был сердцем, которое управляло всей Францией. Три с половиной миллиона его жителей, миллионы людей во всем мире думали, возможно, только о сохранности сокровищ, которые сберегались для цивилизованного человечества. Для других людей, находившихся в ту ночь за тысячи миль от Парижа, он представлял собой нечто иное. Для них Париж стал объектом.
3
Для американца, который впоследствии освободит этот город, Париж был дилеммой. Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр, располагавшийся в командном фургоне, укрытом в промокшей от дождя рощице в двух милях от Гранвиля на нормандском побережье, наконец принял скрепя сердце решение, может быть, наиболее важное из всех его решений со дня «Д»[5]. Он отложит освобождение Парижа на как можно более позднее время. Он окружит и обойдет город. Париж, полагал верховный главнокомандующий союзных войск, будет освобожден не ранее, чем месяца через два, во всяком случае, не ранее середины сентября.
Это решение было для Эйзенхауэра нелегким. Он понимал не хуже других, какое огромное эмоциональное воздействие оказало бы освобождение Парижа на французов, на его собственные войска да и на весь мир. Он чувствовал напряженное нетерпение населения города и генерала Шарля де Голля, властного лидера Свободной Франции. Но для Эйзенхауэра конкретные военные аргументы, изложенные в 24-страничном докладе, лежавшем на его столе, значили больше, чем вся магия, заключавшаяся в слове «Париж». На голубой картонной папке было написано: «Совершенно секретно. Действия после операции «Нептун». Раздел II — Форсирование Сены и захват Парижа». Доклад поступил из отдела оперативного планирования ШВКСЭС[6], состоящего из трех человек, дававших рекомендации, на которых командующий основывал свои стратегические решения.
Эйзенхауэр был убежден, что «за Париж немцы будут сражаться упорно». По его мнению, «это диктовалось всеми стратегическими и географическими факторами». Исследование, подготовленное отделом планирования, подтверждало его собственные выводы. Именно этого сражения он хотел избежать.
Доклад предупреждал, что, если немцы будут удерживать Париж значительными силами, ликвидация их потребует «затяжных и тяжелых уличных боев, подобных сталинградским», боев, которые могут завершиться «уничтожением французской столицы».
Эйзенхауэр не мог допустить, чтобы с Парижем произошло такое. Кроме того, он не хотел, чтобы его бронетанковые войска, свободно катившие сейчас по Франции, были втянуты в чреватые неоправданными потерями городские сражения.
Помимо всего прочего была еще одна, главная причина, которая, по мысли Эйзенхауэра, более чем какая-либо другая оправдывала его решение. Она была суммирована всего в одном абзаце представленного ему доклада.
«Если Париж будет взят сейчас, — говорилось в нем, — это может серьезно подорвать боеспособность наших войск». И далее: «Захват Парижа повлечет за собой обязательства перед гражданским населением, что равносильно снабжению восьми действующих дивизий».
Иными словами, захват Парижа означал для Эйзенхауэра риск осушить топливные баки почти четвертой части тех 37 дивизий, которые он уже высадил во Франции. На такой риск он никогда бы не пошел. Бензин в то лето был для него самой большой драгоценностью на свете. «Я испытывал боль всякий раз, когда вынужден был уступить хотя бы один галлон», — скажет он позднее. Париж стоил бы ему тысяч таких галлонов.
Материальные потери были бы вызваны не захватом города, а снабжением его продуктами и всем прочим после освобождения. «Потребности Парижа только в продуктах и медикаментах составят 75 тысяч тонн на первые два месяца, и, вероятно, для удовлетворения нужд коммунального хозяйства потребуется дополнительно 1500 тонн угля в день», — говорилось в докладе штаба Верховного командования. Учитывая, что в качестве портов могли использоваться только Шербур и места высадки на побережье, что французские железные дороги разрушены, каждую тонну из вышеперечисленного пришлось бы доставлять из Нормандии в Париж грузовиками — 416 миль в оба конца. Уклоняться от такого обязательства (и от освобождения Парижа) «как можно дольше» — таков был совет из отдела планирования.
Они предлагали другой план. Он предусматривал двойной охват города с севера и юга, что также позволило бы союзникам стремительно достичь стартовых площадок Фау-1 и Фау-2 на ракетных базах в северной Франции, а это, по их мнению, было задачей столь неотложной, что «оправдывало превышение нормального риска».
В соответствии с планом 21-я группа армии генерала Бернарда Л. Монтгомери ударит в направлении верхней Сены, между Уазой и морем, откроет порт Гавр и создаст угрозу базам Фау в Па-де-Кале. Затем у Амьена, в 82 милях к северу от Парижа, два корпуса повернут на восток. Одновременно южнее Парижа 12-я группа армий американцев форсирует Сену у Мелёна, затем двинется к Реймсу, расположенному в 98 милях к северо-востоку от Парижа, и повернет на запад для встречи с британскими частями, продвигающимися от Амьена. Там обе группы сомкнутся, взяв Париж в гигантский котел. Предполагалось, что операция начнется в период между 15 сентября и 1 октября.
Эйзенхауэру этот план обещал три преимущества. Он позволял избежать разрушительных уличных боев в Париже; давал возможность войскам продвигаться по танкодоступной местности, которую они могли использовать наилучшим для себя образом; и, прежде всего, обеспечивал экономию драгоценного бензина для наиглавнейшей задачи — прорыва «линии Зигфрида» и захвата плацдарма за Рейном до наступления зимы.
Лишь одно могло расстроить этот план: какое-нибудь непредвиденное событие, например восстание в Париже. Но на этот счет Эйзенхауэр мог быть спокоен. Он дал «категорические указания» главе ФФИ (Французских внутренних сил) генералу Пьеру Жозефу Кёнигу, чтобы до соответствующего приказа «ни в Париже, ни где-либо еще не предпринимались какие бы то ни было военные действия». Чрезвычайно важно, сказал он ему, чтобы «ничто в Париже не заставило нас изменить планы».
Для потерявших терпение парижан это будет тяжелым бременем. Но если они смогут «еще немного пожить с немцами, — говорил Эйзенхауэр своему блистательному заместителю генералу Уолтеру Беделлу Смиту, — их жертва поможет нам сделать войну короче».
Чтобы добиться этого от парижан, британская разведка и забросила Алена Перпеза во Францию в ту безлунную ночь.
4
Для меланхоличного француза, томившегося в тревожном ожидании во влажной духоте алжирского лета, Париж был той осью, вокруг которой должен был вскоре произойти поворот в судьбе его страны. А значит, и поворот в собственной судьбе этого одинокого человека. Как никто другой в его окружении, Шарль де Голль понимал, что Париж был тем местом, где рискованная игра, в которую он вступил, обратившись к своим побежденным согражданам из Лондона 18 июня 1940 года, принесет окончательную победу или поражение. Де Голль был убежден: то, что произойдет там в ближайшие несколько недель, в конечном счете определит, кто будет управлять послевоенной Францией. Де Голль был полон решимости взять власть в свои руки.
На пути к этому, считал де Голль, ему противостояли две силы: его политические враги, Французская коммунистическая партия, и его военные союзники — американцы.
Отношения между Соединенными Штатами и де Гол-лем после короткого медового месяца в 1940 году шаг за шагом ухудшались. Признание Соединенными Штатами Виши, сделка с Дарланом, тот факт, что де Голль не был информирован о высадке американских войск в Северной Африке до самого момента, когда она уже практически началась[7], личный антагонизм между де Голлем и президентом Франклином Д. Рузвельтом — все это способствовало усилению недоверия и подозрительности, разъедавших франко-американские отношения летом 1944 года.
Однако ничто так не раздражало де Голля, как отказ Рузвельта признать его Французский комитет национального освобождения (ФКНО) в качестве временного правительства Франции. В этом он усматривал нежелание американцев признать его руководящую роль во Франции[8].
Рузвельт определил позицию Соединенных Штатов в записке генералу Джорджу К. Маршаллу, датированной 14 июня 1944 года. «Мы должны, — писал он, — максимально использовать любую организацию или влияние де Голля, которые будут способствовать нашим военным усилиям, при условии, что мы не будем силой оружия навязывать французскому народу эту организацию в качестве правительства Франции». Он предупреждал Эйзенхауэра о том, что ШВКСЭС «может вступать в контакт с ФКНО, но не должен делать чего-либо такого, что означало бы признание ФКНО в качестве временного правительства Франции».
Отношения де Голля с Эйзенхауэром были лучше, хотя командующий войсками союзников отмечал, что «он [де Голль] всегда пытался заставить нас изменить то одно, то другое в соответствии со своими политическими целями». А его начальник штаба генерал Уолтер Беделл Смит с раздражением вывел в меморандуме штаба Верховного командования, датированном июнем 1944 года: «Я буду рад проинструктировать его [де Голля], если кто-то скажет мне, каков его статус при нашем штабе. Насколько мне известно, никакого».
Вызывало раздражение и другое. Радиосвязь де Голля со своим штабом в Лондоне поддерживалась через англичан и американцев, и он понимал, что Черчилль проинструктировал министра иностранных дел Антони Идена следить за тем, чтобы радиосообщения «изучались на предмет политического содержания». Решение союзников ввести в обращение в день «Д» особую денежную единицу настолько взбесило французского лидера, что он отозвал — за исключением двадцати — почти всех из пятисот французских офицеров связи, подготовленных для оказания помощи Верховному командованию в создании административных органов в освобожденных районах нормандского плацдарма.
Но прежде всего де Голль был намерен решительно бороться за то, чтобы на французской земле не было и следа АМГОТ (Союзного военного правительства на оккупированных территориях). Его опасения частично развеялись в июле, во время первого официального визита в Вашингтон. Там он и Рузвельт пришли к соглашению об управлении освобожденной Францией. Но достигнутое согласие было шатким. Перед отъездом де Голль заметил Роберту Мерфи: «Наши договоренности исчерпают себя в день завершения войны».
В соответствии с соглашением освобожденная Франция будет разделена на две части: Внутреннюю зону, в которой контроль будет передан деголлевскому ФКНО, и Зону боевых действий, в которой верховная власть будет принадлежать ШВКСЭС. Определение границ этих двух зон в основном было оставлено на усмотрение Эйзенхауэра.
В рамках соглашения не удалось решить вопрос о принципиальном разделении власти между де Голлем и Верховным командованием союзников. По мнению де Голля, именно он, как глава Свободного французского правительства, представлял суверенитет Франции, и потому его власть, а не ШВКСЭС, была верховной властью Франции. Для Верховного командования Франция была театром военных действий, и политические запросы де Голля должны были быть подчинены стратегическим задачам ШВКСЭС.
В соглашении ничего не говорилось о Париже. В Вашингтоне исходили из того, что город будет оставаться в зоне боевых действий еще какое-то время после освобождения. Рузвельт был не намерен допускать в него правительство, которое он еще не признал. Вполне логичная посылка. Но она не учитывала очевидный факт — непреклонную решимость Шарля де Голля обосноваться со своим правительством в Париже как можно быстрее. От успеха в этом деле, считал де Голль, зависели его собственная судьба и судьба Франции.
В эти критические первые числа августа де Голль окончательно убедился в том, что Рузвельт предпримет еще одну, последнюю попытку преградить ему дорогу к власти, изолировав в Алжире, тогда как государственный департамент продолжит интриги против него во Франции[9]. Де Голль был уверен, что происки американцев не увенчаются успехом. Но он опасался, что они могут задержать его ровно на столько, сколько потребуется его истинному врагу — Французской коммунистической партии, чтобы укрепиться в коридорах власти. Этого он не допустит.
Ибо де Голль был убежден, что его соперником была Французская коммунистическая партия. Ближайшей целью был Париж. Призом для победителя будет вся Франция.
Еще в 1943 году де Голль отдал приказ полковнику Пасси — Андре де Ваврену, промышленнику, который контролировал организации, осуществлявшие заброску оружия, — чтобы «оружие не доставлялось коммунистам непосредственно и не сбрасывалось таким образом, чтобы оно могло попасть им в руки».
Со дня «Д» он запустил в действие план, призванный не допустить захвата коммунистами политической власти во Франции. По мере того, как освобождался еще один уголок Франции, вся гражданская власть передавалась в руки верховного комиссара, назначаемого де Гол-лем и подотчетного только его правительству. Никакие другие его приказы не были столь категоричны, как те, что касались отношения к местным комитетам Сопротивления, в которых, как считал де Голль, господствовали коммунисты. Они должны были быть лишены какого-либо прямого доступа к власти в освобожденных районах. И ни при каких условиях не должны были превратиться в «комитеты общественной безопасности» по типу тех, что были созданы в период Французской революции. Во время стремительного наступления союзников в Бретани де Голль получил ряд тревожных сообщений. Коммунисты во всех отношениях выглядели сильнее, организованнее, решительнее в борьбе за власть, чем он предполагал.
Решающим испытанием будет Париж. 14 июня де Голль распорядился прекратить всякое десантирование оружия в район Парижа. По его оценке, коммунисты уже имели в городе 25 тысяч вооруженных бойцов.
Де Голль был уверен, что эта партия готовится поднять в Париже кровавое восстание с целью захвата власти, прежде чем до нее доберется он. Затем она пустит корни в правительственные структуры Франции и, когда он со своим правительством войдет в Париж, противопоставит ему уже окрепшую красную Коммуну[10]. Таким образом, прочно обосновавшись, коммунисты могли загнать его и министров его правительства в почетный угол вдали от реальной власти, а сами тем временем завершили бы работу по укреплению своих позиций во Франции. Его политическому представителю в Париже, неприметному гражданскому служащему по имени Александр Пароди, представлялось очевидным, что де Голль ожидал ни больше ни меньше, как «вооруженного коммунистического вызова его власти» в столице[11].
Де Голль ответит просто. Он овладеет Парижем раньше, чем это смогут сделать коммунисты. Он опасался, что если позволить им обосноваться в Париже раньше его правительства, то изгнать их можно будет только путем кровопролитного столкновения, которого Франция не хотела да и не могла себе позволить. Де Голль намерен был попасть в Париж первым любой ценой, любыми средствами.
Примерно в то же время, когда Эйзенхауэр в своем штабе в Гранвиле принимал решение отложить освобождение Парижа, де Голль в Алжире составлял секретный меморандум генералу Пьеру Кёнигу, командующему ФФИ. Существенно важно, писал он Кёнигу, чтобы Париж был освобожден как можно скорее, понравится это союзникам или нет. Как только город будет освобожден, он намерен туда войти и установить в столице свою личную власть и власть своего правительства.
Он уже начал подготовительную работу. Для де Голля, как и для Эйзенхауэра, восстание в Париже означало бы катастрофу. Как и Эйзенхауэр, он отдал строжайший приказ не допустить такого поворота событий.
5
Человек, которому Шарль де Голль отдал этот приказ, всматривался сейчас в темноту августовской ночи из окна мансарды пятиэтажного дома в пригороде Парижа Отейе. Он едва различал очертания ломаных теней, нагромождавшихся друг на друга до самого горизонта. Это были крыши Парижа. Человека звали Жак Шабан-Дельмас, и было ему в то время двадцать пять. Он был уже генералом. В тот день он получил известие от человека, чинившего на улице велосипедное колесо. Это было сообщение, которое несколькими часами ранее расшифровал Жад Амиколь в монастыре ордена Страстей Господних.
Ни для кого в Париже информация, доставленная в ботинке Алена Перпеза, не представлялась столь катастрофичной, как для этого погруженного в раздумье молодого человека.
Шабан знал, ни одно из заданий, которые давал ему де Голль, не было в глазах генерала столь же важным, как то, что касалось Парижа. Ни одна из секретных инструкций, которые он получал из штаба де Голля в Лондоне, не была столь же ясной и категоричной, как та, которую ему дали в отношении Парижа.
Ему предписывалось сохранять полный контроль над вооруженными формированиями Сопротивления в городе. Ни при каких обстоятельствах он не должен был допустить, чтобы в столице разразилось восстание без прямого указания де Голля.
Выполнить это распоряжение было невозможно.
Шабан не контролировал силы Сопротивления в Париже. Их контролировала коммунистическая партия.
Возглавлял подпольную армию всей Франции коммунист, генерал Альфред Малларе-Жуанвиль. В Париже ею командовал коренастый коммунист из Бретани. Его первый заместитель также был коммунист по имени Пьер Фабьен — человек, который в 1942 году на станции метро Барбе застрелил первого немецкого солдата, погибшего в столице. Партия сохраняла за собой ведущую роль в профсоюзах и подпольной печати. Коммунисты возглавляли два из трех парижских политических комитетов Сопротивления и превратили третий в неэффективный дискуссионный клуб[12]. Недавно группа коммунистов совершила дерзкий угон самолета с деньгами, которые были высланы Шабан-Дельмасу лондонской штаб-квартирой ФФИ. В течение многих месяцев они укрепляли свои позиции, внедряя агентов на ключевые посты во всех районах города. Даже один из главных врачей Сопротивления жаловался, что партия навязала ему зоркого заместителя. Шабан-Дельмас видел, как ежедневно разрастаются ряды коммунистического ополчения ФТП.
И все же ни одна группа в Сопротивлении не вела борьбу столь упорно и не заплатила столь высокую кровавую цену, как коммунисты. Придя в Сопротивление позже других — коммунисты не вступали в борьбу с Германией до тех пор, пока нацисты не вторглись в СССР в 1941 году, — они привели за собой самых организованных, самых дисциплинированных и зачастую наиболее отважных бойцов. Во время войны ряды партии неимоверно разрослись. Никогда еще ее престиж не был столь высок. Это была наиболее значительная самостоятельная политическая организация во Франции. Ее ФТП были наиболее важной военной структурой Сопротивления[13]. Ее руководство, обученное правилам конспирации, пережило войну без потерь. Система партийных курьеров, просачивавшихся в Швейцарию и обратно, и два подпольных передатчика на юге Франции обеспечивали ей связь с Москвой.
Теперь настало время этому деятельному политическому гиганту потребовать плату за три тяжелых года службы. Он потребует ее в Париже.
Разглядывая затемненный светомаскировкой город, порученный его заботам, Шабан-Дельмас, понял, какова будет плата. Руководители компартии были полны решимости выплеснуть на улицы Парижа восстание, которое ему было приказано предотвратить.
«Какова бы ни была цена, — думал он, — коммунисты начнут восстание, даже если оно приведет к уничтожению прекраснейшего города в мире». Шабан понимал: Париж «был шансом, который коммунисты не позволят себе упустить».
На протяжении последних недель он пытался убедить их упустить этот шанс. Цели он не достиг. Главный соперник Шабана, один из идеологов коммунистов Роже Вийон, аскет по натуре, считал, что голлисты стремятся предотвратить восстание для того, чтобы «де Голль мог войти в Париж во главе победоносной армии и увидеть город, с благодарностью распростертый у его ног». Шабан считал, что коммунисты хотят начать восстание для того, чтобы «захватить власть в Париже и встретить де Голля не как главу Свободной Франции, а как своего гостя».
Как и весь Париж, Шабан тоже прослушал в ту ночь сообщение Би-би-си о варшавском восстании. Париж не должна постичь такая же участь. В течение многих недель он жил лишь одной надеждой, что союзники, пройдя Нормандию, нанесут удар в направлении Парижа и захватят город, прежде чем коммунисты смогут поднять восстание. Донесение, доставленное в ботинке Алена Перпеза, развеяло эту надежду. В тишине своей затемненной квартиры этот молодой генерал пришел к выводу, что планы союзников будут непосредственным образом играть на руку его противникам — коммунистам.
Шабан был уверен, что Париж ждет одно из двух: либо жаждущий мести вермахт раздавит восстание и Париж вместе с ним, либо победят коммунисты и их руководители закрепятся в столичных цитаделях власти, готовясь распространить свое правление на всю Францию.
В ту ночь Шабан видел лишь один способ решить стоящую перед ним дилемму. Он должен убедить союзников изменить свои планы. Должен предупредить де Голля о положении в Париже. Каким-то образом ему придется проделать тот же путь, которым только что прошел Ален Перпеза, но в противоположном направлении. Он попытается попасть в Лондон. Со своей энергией, присущей отчаянию и молодости, он упросит Эйзенхауэра изменить планы и направить свои бронетанковые колонны прямо на Париж.
* * *
По извращенной логике немца, который из своего железобетонного бункера в Растенбурге, в Восточной Пруссии, направлял армии «третьего рейха», Париж означал, вероятно, даже нечто большее.
На протяжении четырех лет — с 1914 по 1918 год — шесть миллионов немцев, подобно капралу Адольфу Гит-леру, удерживались в окопах Западной Европы с помощью магического заклинания «Nach Paris»[14]. Два миллиона из них погибли.
В 1940 году то, чего они не могли добиться за четыре года, Гитлер сделал за четыре потрясших мир недели. В понедельник, 24 июня, в семь часов утра, спустя две недели после того, как его войска вошли в город, Гитлер прибыл на рандеву с Парижем. Лишь немногие парижане видели в то утро, как его черный «мерседес» подкатил к краю эспланады Трокадеро. Завоеватель долго и с удовлетворением созерцал представившиеся его взору исторические достопримечательности: Сену, Эйфелеву башню, сады Марсова поля, золотой купол над могилой Наполеона в Доме инвалидов и левее, у горизонта, 800-лет-ние башни собора Нотр-Дам.
Париж был последней добычей пяти лет сражений, которая еще оставалась в руках Гитлера. По картам, развешанным в его бункере в Растенбурге, Гитлер следил за продвижением армий союзников, которые вливались через брешь, пробитую в нормандской оборонительной линии у Авранша. Гитлер понимал, что ему предстоит вести битву за Францию. Если он ее проиграет, то в запасе у него останется лишь одна битва — битва за Германию.
Как и Шарль де Голль, Гитлер знал, что Париж был той осью, вокруг которой вращалась вся Франция. Дважды за свою короткую жизнь Адольф Гитлер штурмовал Париж. По иронии судьбы он вскоре сыграет иную роль. На этот раз Адольф Гитлер будет Париж защищать. Как полагали люди из ШВКСЭС, у него были все основания отчаянно цепляться за «естественный оборонительный рубеж», каковыми были для него Париж и Сена. С его утратой были бы потеряны стартовые позиции ракет, а армии союзников оказались бы на пороге рейха.
Гитлер знает, как надо сражаться за Париж, как знал он, как сражаться за Сталинград, Монте-Кассино и Сен-Ло. Через несколько дней в этом бункере, в Восточной Пруссии, он отдаст приказ защищать Париж до последнего солдата. Затем, стуча кулаком по дубовому столу в зале совещаний, он завизжит, обращаясь к своему сомневающемуся генеральному штабу:
«Кто владеет Парижем, тот владеет Францией!»
6
Измотанные войной, усталые солдаты вермахта выстроились вдоль бетонной платформы, тянувшейся параллельно рельсам. Их молодые лица не выражали ничего, кроме безразличия и отчужденности. Вскоре они погрузятся в эшелон, который сейчас стоит рядом, но через несколько минут, окутавшись клубами пара, медленно отойдет от Силезского вокзала Берлина и отправится в длинный путь на Восточный фронт.
Небольшого роста генерал-майор вермахта, медленно пробиравшийся по платформе, с сочувствием разглядывал их бесстрастные лица. Ему самому часто приходилось вот так же молча стоять на вокзале в ожидании поезда, увозящего на войну, на Восточный фронт. Но в тот вечер Дитрих фон Хольтиц ждал другого поезда. В сопровождении ординарца, тащившего чемодан, Хольтиц миновал последнюю шеренгу солдат на платформе и повернул к поезду. На одном из голубых спальных вагонов Холь-тиц с трудом разобрал выцветшие желтые буквы французских слов, которые напомнили ему о других путешествиях, в более мирные для Европы времена. Однако теперь эти вагоны железнодорожной компании «Ля компани интернасьональ де вагон-ли э де гранд экспресс европиан» входили в состав, носивший название «Официр генераль зондерцуг Д2 фюрер», — поезд, который доставит Хольтица и группу избранных высокопоставленных посетителей в ставку Адольфа Гитлера в Растенбурге, в Восточной Пруссии.
Хольтиц вошел в зарезервированное для него купе и начал расстегивать китель. Он наблюдал, как его ординарец аккуратно расставлял на полированной полочке красного дерева, укрепленной над умывальником, его довоенную бритву «Жиллетт», мыло и коробочку с таблетками снотворного «ривонал». Он знал, что позднее будет благодарен за сон, который подарят ему эти таблетки. На следующее утро впервые в жизни генерал-майор Дитрих фон Хольтиц будет беседовать с человеком, повелевавшим «третьим рейхом».
В то лето 1944 года в ставку Гитлера редко вызывались фельдмаршалы. Еще реже Гитлер уделял время генералам. Вызвать Хольтица побудила особая причина. Этот флегматичный прусский генерал, устроившийся на обтянутом коричневой стеганой обивкой сиденье спального купе, был лично выбран Адольфом Гитлером в качестве командующего обороной столицы Франции.
Тремя днями ранее в той же ставке, куда поезд вез сейчас генерала, другой генерал отобрал из металлического ящика, запертого в его сейфе, досье на трех высших офицеров. Одно из досье было на Хольтица. Генерал Вильгельм Бургдорф, начальник отдела кадров офицерского состава в ОКВ («Оберкомандо дер Вермахт»), то есть в штабе Гитлера, сразу обратил внимание на «дело» Хольтица. Прежде всего из него следовало, что Хольтиц был человеком, чья преданность «третьему рейху» не знала границ. Бургдорфу нужен был именно такой человек. Зараза пораженчества и измены расползалась по генеральскому корпусу, и нигде, казалось, она не обосновалась столь прочно, как в Париже. Старший армейский чин во Франции генерал Карл Генрих фон Штюльпнагель оказался главарем заговорщиков, покушавшихся на жизнь Гитлера 20 июля. Ослепший и полуживой после попытки самоубийства, он лежал в ту ночь на нарах в берлинской тюрьме «Плётцензее». Вскоре по приказу Гитлера он будет задушен. Командующий Большого Парижа генерал Ганс фон Бойнебург-Ленгсфельд казался Бургдорфу ничуть не лучше.
Бургдорф знал, что в тяжелые дни, которые предстояло пережить Парижу, ОКБ потребуется человек, лояльность и способности которого были бы вне всякого сомнения, человек, который железной рукой восстановил бы дисциплину в городе, сумел бы без всяких колебаний подавить любое гражданское неповиновение, человек, который бы знал, как организовать яростную оборону города.
Хольтиц представлялся ему именно таким человеком. Бургдорф взял его досье и положил перед фюрером. Он отрекомендовал Хольтица как офицера, никогда не ставившего под сомнение приказы, сколь бы суровыми они ни были. По мнению Бургдорфа, именно Хольтица следует назначить в Париж.
Фюрер дал согласие. Затем, немного подумав, он выдвинул особое требование. Назначение в Париж было столь важным, что он приказал Бургдорфу вызвать Хольтица из штаба Нормандского корпуса в ОКБ, чтобы лично проинструктировать его.
Для безупречно лояльного офицера, которого Гитлер решил направить в Париж, война началась в 5.30 утра 10 мая 1940 года. В то утро, выпрыгнув из первого Ю-52, приземлившегося в аэропорту Роттердама, подполковник фон Хольтиц, командир третьего батальона 16-го воздушно-десантного полка, по существу, возглавил весь германский блицкриг на Западе. Он был первым немецким офицером, вторгшимся в Нидерланды. Ему было приказано захватить мосты через реку Ньёв-Маас чуть южнее города. После четырех дней и четырех ночей упорных боев голландцы продолжали яростно сопротивляться. В полдень 14 мая Хольтиц приказал священнику отправиться в окопы голландцев и убедить их командиров сдаться. Если это сделано не будет, предупредил он, «Роттердам подвергнется безжалостной бомбардировке». Через два часа священник вернулся, так и не найдя командира голландцев, и воздушный налет начался. Решив, что налет продолжался достаточно долго, Хольтиц попытался остановить его выстрелом сигнальной ракеты. Однако, как он впоследствии вспоминал, ракета попала в облако дыма от горевшего поблизости грузового судна, и бомбардировка продолжалась. По данным голландцев, ее результатом были 718 убитых и 78 тысяч раненых и бездомных. Центр Роттердама был разрушен.
Позднее один из друзей спросил у Хольтица, не испытывал ли он угрызений совести, когда возглавил вторжение в страну, которой Германия даже не объявила войны.
— Почему это? — ответил тот.
Дитрих фон Хольтиц не так был воспитан, чтобы задавать вопрос «почему?». С момента его появления на свет в родовом имении в Силезии судьба мальчика была предопределена. Три поколения прусских военных проследовали до него тем же путем из серых сланцевых башен поместья прямо в армию. Начальное образование он получил в саксонском кадетском корпусе, известном своей строжайшей дисциплиной. Мальчик был столь прилежен, что его назначили пажем при дворе королевы Саксонии.
Больше всего гордился фон Хольтиц своей ролью при осаде Севастополя. Именно там он заслужил генеральские знаки отличия. Когда осада этого черноморского порта только начиналась, в его полку насчитывалось 4800 человек. На 27 июля 1942 года оставалось только 347. Но Дитрих фон Хольтиц, сам с кровоточащей раной в правой руке, все же захватил Севастополь.
Чтобы добиться этого, он без всяких колебаний заставил русских пленных подносить боеприпасы и заряжать пушки его батарей. Вообще-то он находил даже забавным, что русские заряжали его пушки снарядами, которые в клочья разносили их дома. Позднее, когда его перевели в группу армий «Центр», печальным жребием дивизии Хольтица стало прикрывать с тыла отступающую армию. Как всегда, он добросовестно выполнял все приказы. А они в те тяжелые дни 1943 года требовали оставлять за отступающими частями вермахта лишь выжженную землю и развалины.
Этот неизвестный генерал, ожидавший отправления поезда, повезет с собой в Париж репутацию разрушителя городов. И нельзя сказать, чтобы она была совершенно незаслуженной.
«После Севастополя, — признается он как-то шведскому дипломату в Париже, — моим уделом стало прикрывать отступление наших армий и уничтожать оставленные ими города».
7
За тринадцать лет воинской службы во славу «третьего рейха» Дитрих фон Хольтиц только однажды встречался с Гитлером. Это было год назад, летом 1943-го, в полевом штабе генерал-фельдмаршала Фрица фон Манштейна на берегах Днепра, в районе Днепропетровска. Встреча произошла на обеде в честь фюрера, устроенном во время одной из инспекционных поездок диктатора Германии по Восточному фронту.
Фон Хольтиц сидел напротив Гитлера. Во время вынужденного молчания, которое сопровождало обычные застольные монологи Гитлера, у Хольтица было достаточно времени изучить хозяина «третьего рейха». В Гитлере его изумили три вещи: поразительная уверенность, исходившая из его нервозного тела; то, что он никогда не улыбался; и еще один факт, шокировавший этого родовитого аристократа, а именно: за столом он держался, как баварский крестьянин.
Теперь, спустя год, к концу этого дождливого августовского утра Хольтиц увидит Гитлера вновь. На этот раз обстоятельства изменились. Оптимистические пророчества фюрера за обедом на Днепре не сбылись. Авангардные части Красной Армии находились уже менее чем в 60 милях от Растенбурга. На западе — и Хольтиц, как и все, хорошо понимал это — вермахт проигрывал битву за Нормандию.
И все же этот прусский генерал, сошедший с поезда фюрера в угрюмом растенбургском лесу, позднее признается, что в то утро он был готов получить новый заряд веры в судьбу Германии. И в то августовское утро он по-прежнему верил, что Германия может выиграть войну. Он приехал в Растенбург, как впоследствии вспоминал, горя желанием, чтобы Гитлер вновь его убедил. Как религиозный человек совершает паломничество, дабы укрепиться в вере, так и Хольтиц в то утро прибыл в Растенбург с надеждой, что его вера в «третий рейх» будет укреплена человеком, который им правил.
В Растенбурге его встретил личный помощник Гитлера. Хольтиц сел в «мерседес» помощника, и оба скрылись в густых еловых зарослях, окружавших «Вольфсшанц» — «Волчье логово». На первом из трех кордонов безопасности из машины был извлечен багаж фон Хольтица. Извиняясь, помощник сообщил, что эту меру предосторожности ввели после 20 июля. Затем машина миновала один за другим три ряда колючей проволоки, минные поля и огневые позиции, окружавшие штаб, пока не достигла последнего барьера на пути к пристанищу нацизма. Внутри под охраной семи рот дивизии СС «Великая Германия» в нескольких строениях, расположенных вокруг небольшого озера, обитали Адольф Гитлер и его главные помощники.
Бургдорф ждал Хольтица на затененной поляне у входа в бункер Гитлера. Даже в этот солнечный день лишь несколько слабых лучиков света проникали через толщу елового леса, окутывавшего «Волчье логово». Со сцепленными за спиной руками оба прохаживались по маленькой лужайке у бункера в ожидании сигнала о том, что им пора предстать перед Гитлером. На ходу Бургдорф кивнул на обугленные руины, все еще остававшиеся после взрыва бомбы заговорщиков.
Хольтиц хорошо понимал, что ему не следует расспрашивать Бургдорфа о цели визита. Но один вопрос он все же задал. Почему, поинтересовался он, именно его выбрали для назначения в Большой Париж?
— Потому, — ответил Бургдорф, — что мы знаем: вы способны выполнить ту работу, которую необходимо там сделать.
Через несколько мгновений часовые СС подали знак, и Хольтиц вошел в бункер, чтобы получить из рук властителя «третьего рейха» полномочия командовать самым прекрасным городом в мире.
Нервно сжимая фуражку, Хольтиц пересек освещенный неоновым светом зал без окон и подошел к человеку, склонившемуся над огромным деревянным столом. В знак приветствия он вскинул правую руку — жест, ставший обязательным для вермахта после 20 июля.
Хольтиц посмотрел в тусклые глаза стоявшего напротив человека. В этот ужасный миг он осознал, что это был не тот человек, с которым он год назад сидел за обеденным столом. Гитлер превратился в старика: помятое и осунувшееся лицо, опущенные плечи. Правой рукой он придерживал левую, чтобы скрыть легкую дрожь[15].
Но больше всего Хольтица поразил голос Гитлера. Тот громкий резкий голос, от которого у генерала часто перехватывало дух, когда он слышал его по радио, тот голос, лишь год назад наполнивший его новой верой, теперь стал слабым старческим шепотом.
Хольтиц едва расслышал первые слова Гитлера, когда тот повернулся к Бургдорфу и спросил: «Ему уже сказали о новом назначении?»
«В общих чертах», — ответил Бургдорф.
Затем Гитлер начал говорить.
Вначале он ударился в воспоминания. Он описывал, как основал нацистскую партию, превратил ее в совершенное орудие, с помощью которого можно было контролировать немецкий народ. Эта партия, утверждал он, дала Германии тот механизм, который был ей необходим, чтобы направить в нужное русло свой боевой дух.
Он говорил все громче. Теперь Хольтиц узнавал подобие того человека, которого видел год назад. Гитлер говорил о победах. Нормандия, сказал он, была лишь временной неудачей. Вскоре с помощью нового оружия он добьется перелома.
Резко, без предупреждения, Гитлер переключился на другую тему. Его пальцы впились в край стола, над которым он склонялся. Он подался вперед; его лицо оказалось так близко, что Хольтиц заморгал от неожиданности. Гитлер перешел на визг.
— После 20 июля, господин генерал, — кричал он, — десятки генералов — да, десятки — уже болтались на виселице, потому что пытались помешать мне, Адольфу Гитлеру, продолжать мое дело, осуществить предназначенную мне судьбой роль вождя германского народа.
В уголках его рта появились пузырьки пены. На лбу выступила испарина. Хольтиц видел, — что его трясло от нервного возбуждения.
Но ничто, кричал он Хольтицу, не остановит его. Он будет продолжать свое дело, пока не приведет немецкий народ к «окончательной победе».
Гитлер продолжал бушевать по поводу «клики прусских генералов», пытавшихся его убить, и пыток, которым он их подвергнет, прежде чем отправить в могилу.
Наконец, задергавшись в судорогах, он опустился в кресло.
После долгой паузы Гитлер снова заговорил. Теперь он был спокоен. С крика он опять перешел на шепот, как в начале аудиенции. Все выглядело так, будто сцены, свидетелем которой стал Хольтиц, вовсе не было.
«Теперь, — сказал он генералу, который пересек пол-Европы, чтобы увидеть его, — вы направляетесь в Париж». В этом городе, продолжал он, борьба, по-видимому, ведется только за места в офицерской столовой. Это позор. Задача Хольтица — покончить с этим. Он должен будет превратить Париж в прифронтовой город. Париж должен стать «грозой» для «вероотступников» в тыловых эшелонах.
Гитлер подчеркнул, что это лишь первый шаг к более крупной задаче, которую ему предстоит решить.
Он назначает Хольтица бефельсхабером, то есть комендантом крепости Париж и исполнителем своих личных распоряжений. Это звание означало, что у Хольтица будут самые широкие полномочия, которые только мог иметь командир гарнизона в немецком городе. Он будет командовать Парижем так, как если бы это была осажденная крепость.
— Вы будете безжалостно подавлять, — сказал ему Гитлер, — любое восстание со стороны гражданского населения, любой акт терроризма, любой акт саботажа против германских вооруженных сил. И в этом, — скрежетал Гитлер, — будьте уверены, господин генерал, вы получите от меня всяческую поддержку.
Было ясно, что аудиенция закончена. Хольтиц отсалютовал, повернулся и направился к выходу. И, пока он шел, ему казалось, что Гитлер не спускает с него глаз.
Выйдя из бункера, Хольтиц посмотрел на Бургдорфа, ища поддержки. Ее не последовало.
Для этого прусского офицера несколько только что пережитых им минут были, может быть, самыми тяжелыми в его жизни. Он пересек половину континента, чтобы встретиться в этом бункере с вождем, укрепить в себе веру в силу германского оружия. Вместо вождя Дитрих фон Хольтиц увидел больного человека, вместо веры — закралось сомнение. Многое в предстоящие дни будет вытекать из разочарований этого утра.
9
Он покинул Растенбург в 8 часов вечера того же дня, 7 августа, в том же желто-голубом спальном вагоне, который доставил его в ставку фюрера. Тот же черный штабной «мерседес», что забрал его утром с безымянного полустанка, доставил его к поезду. На этот раз Хольтица сопровождал штурмфюрер дивизии СС «Великая Германия». Хольтиц уже занес ногу на ступеньку вагона, когда молодой офицер схватил его за руку.
— Господин генерал, — пробормотал он, — желаю удачи. Как я завидую вам: вы едете в Париж!
Теперь, оставшись один в купе, Хольтиц думал об этом молодом офицере. Его искренние слова приносили даже какое-то облегчение. После этого дня, проведенного в Растенбурге, казалось невероятным что кто-то вообще может завидовать ему, его назначению в Париж. Во второй половине дня его вызвали в кабинет начальника генерального штаба генерал-оберста Альфреда Йодля. Йодль вручил ему состоящий из пяти пунктов приказ о назначении в Париж. В приказе подтверждалось то, что уже сказал ему Гитлер. Он отправлялся в Париж с полномочиями, которые еще никогда не давались ни одному из нацистских генералов, будь то в Париже или любом другом городе рейха. Он отправлялся туда как командующий осажденной крепостью. По словам Йодля, это был всего лишь первый из тех приказов, которые намеревался издать ОКВ. Наступали решающие дни, и в Париже от него потребуется многое.
Сидя в сгущающейся темноте купе, Хольтиц начал смутно догадываться, чего ОКВ мог потребовать от него после приезда в Париж. Закралось подозрение, что его попросят обессмертить свое имя, стерев с лица земли город, насчитывающий три с половиной миллиона жителей. Хольтиц в задумчивости смотрел на растенбургский лес, медленно проплывавший за окнами поезда. Вскоре опустится ночь и поезд повернет на юго-запад, преодолевая долгий путь до Берлина через плоские и унылые поля Пруссии.
В меланхоличной тишине наблюдая за проплывающими мимо призрачными елями Растенбурга, Хольтиц почувствовал, что над его головой сгущаются черные тучи. Он прибыл сюда в поисках надежды. Уезжал — потрясенный, с дурными предчувствиями в отношении полученного задания. Он дотянулся до кителя и достал сигару. Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель дал ему ее за обедом. Не спеша откусил кончик сигары и порылся в карманах в поисках спичек. Их не оказалось. Тогда он встал, открыл дверь купе и выглянул в коридор. Через два купе он увидел человека, курившего сигару, прислонившись к открытому окну. Хольтиц подошел к нему. Он узнал седеющие виски и красно-черно-белую эмблему рейхслейтера СС на лацкане кителя. Он сидел рядом с этим человеком за обедом. Его звали Роберт Лей.
Лей любезно дал Хольтицу прикурить. Завязался разговор. Между короткими затяжками Хольтиц поведал Лею о том, что утром у него состоялась первая в жизни встреча с фюрером, и о своем назначении в Париж. Лей поздравил его. Он был в хорошем настроении. Вспомнил свои поездки в Париж во время войны. Увы, сказал он Хольтицу, это уже будет совсем не тот город. Париж сейчас, по его словам, нуждался в сильной руке боевого офицера.
Заметив, что Хольтиц не в настроении, Лей предложил выпить. Официант ОКВ, пояснил он, дал ему бутылку довоенного «бордо». Лей полагал, что самой большой удачей было бы разделить ее с новым командующим Большого Парижа.
Лей принес бутылку в купе Хольтица. Они выпили за удачу Хольтица и за фюрера. Затем Лей признался, что тоже виделся с Гитлером. Темой его беседы с фюрером был проект нового закона, который Лей сам составил. После некоторой доработки закон был окончательно одобрен фюрером. Он будет обнародован в Берлине через несколько дней.
Закон этот, пояснил он Хольтицу, назывался «О задержании и аресте родственников».
Лей, говоривший с ганноверским акцентом, разъяснил Хольтицу его суть. Закон призван послужить Германии в особо тяжелые времена, которые для нее наступали. Как им обоим известно, для того чтобы выиграть войну, рейх нуждался в неизменной преданности своих солдат. Закон этот был вызван к жизни тем печальным фактом, что некоторые из генералов Германии недавно изменили ей. Одни сдались, другие оказались неспособными выполнить поставленные перед ними задачи. Против фюрера, напомнил он, был организован заговор.
Закон о родственниках не допустит подобного впредь. Родственники немецких генералов отныне будут нести ответственность за промахи генералов. В каком-то смысле они станут заложниками государства, гарантами хорошего поведения генералов.
Глубоко затянувшись сигарой, Лей признал, что эта мера чрезвычайная. К несчастью, продолжал он, чтобы закон был действенным, его положения должны быть жесткими. В тех случаях, когда промахи какого-либо генерала окажутся серьезными, а он избежит германского правосудия, сдавшись в плен, закон предусматривает смертную казнь для членов его семьи.
После слов Лея наступила тишина. Хольтиц вдруг почувствовал тошноту. Он уставился на капли «бордо», оставшиеся в стакане, и не мог вымолвить ни слова. Наконец, запинаясь, выдавил из себя, что подобная практика означает для Германии возврат к средневековью.
«Да, возможно», — сказал Лей, медленно вдавливая сигару в стоящую между ними пепельницу. Затем он вновь повторил фразу, которую уже произносил несколько раз: «Это исключительные обстоятельства».
Разговор прекратился, и через несколько минут Лей ушел. Хольтиц стоял у полураскрытой двери и наблюдал, как Лей исчезает в темноте коридора. Больше он его никогда не увидит. Он захлопнул дверь и запер ее. Поезд уже вышел на длинный и ровный участок пути до Берлина. На следующее утро Хольтиц пересядет на другой поезд, идущий до Баден-Бадена. Там он попрощается с женой, дочерьми Марией-Анжеликой четырнадцати лет и восьмилетней Анной-Барбарой и четырехмесячным сыном Тимо, которого подарила ему судьба и которого этот кажущийся бесчувственным пруссак ждал всю свою жизнь.
Хольтиц разделся и лег. Затем он сделал то, чего никогда в жизни не делал. Взяв с ночного столика коробку со снотворным, он вытряхнул из нее сразу три таблетки и проглотил одну за другой.
10
Между Растенбургом и Баден-Баденом фон Хольтиц ка короткое время остановился в Берлине. Когда он сошел с поезда, его ждала телеграмма за подписью Бургдор-фа. Коменданту Большого Парижа сообщалось, что специальным приказом фюрера ему присвоено звание генерала от инфантерии.
Всю ночь по пути в Баден-Баден Хольтиц размышлял над тем, что могло стоять за этим неожиданным повышением. Он знал, ОКВ никогда не поручал командование городом, даже столицей, генерал-лейтенанту. В самом Париже ни один военный губернатор никогда не имел ранга выше генерал-майора.
12
Стоя на гранитных ступенях своего элегантного особняка по авеню Рафаэль, 26, в теплых сумерках августовского вечера, генерал Ганс фон Бойнебург-Ленгсфельд ждал гостя. В ожидании он вел неторопливую беседу со стоящим рядом молодым лейтенантом — своим адъютантом графом Данквартом фон Арнимом. Многие узы, укрепившиеся за время их восемнадцатимесячного совместного пребывания в Париже, связывали старого генерала, страшно изуродованного танком на подступах к Сталинграду, с молодым бранденбургским дворянином. Все эти восемнадцать месяцев в «третьем рейхе» не было другого уголка, которым было бы легче управлять, чем тридцатью квадратными милями французской столицы, предоставленными Бойнебургу как коменданту Большого Парижа.
Только два события омрачили его безмятежное пребывание здесь. Первым было прибытие 14 марта 1944 года офицера из генерального штаба в Берлине. Он потребовал от Бойнебурга досье, которое валялось в его кабинете с того самого момента, как оно было составлено, сразу после рейда на Дьепп в августе 1942 года. Оно было озаглавлено: «Оборонительные меры в районе Парижа в случае высадки десанта противника». Офицер забрал досье в Берлин. Через десять дней оно вернулось в кабинет Бойнебурга. ОКВ признал эти меры «абсолютно неудовлетворительными». Бойнебургу было приказано подготовить другой, более детальный план, предусматривающий в случае наступления врага «возможность вызвать максимальные разрушения в районе Парижа».
Второе событие было более серьезным по последствиям для Бойнебурга. Это был заговор 20 июля. Хотя Бойнебург и не входил в число организаторов заговора, тем не менее, когда в штабе генерала фон Штюльпнагеля был получен пароль «Юбунг», он приказал своим войскам арестовать 1200 эсэсовцев и гестаповцев, расквартированных в Париже. С момента, когда позднее в тот вечер Бойнебург услышал резкий голос Гитлера, раздавшийся из динамиков в отеле «Рафаэль», он стал ждать расплаты.
Она наступила 3 августа. Из штаба главнокомандующего вермахтом на Западном фронте пришла короткая телеграмма, в которой буднично сообщалось, что он «отстраняется от должности военного правителя Парижа и его место займет генерал Дитрих фон Хольтиц». Бойнебург ничего не знал о человеке, который должен был стать его преемником. Он слышал только, какой Хольтиц пользуется репутацией: она опередила его на пути в Париж. Для Бойнебурга, фон Арнима и горстки других офицеров, переживших 20 июля, Хольтиц был «преданным нацистом и непоколебимо послушным пруссаком».
По мнению Бойнебурга, коренастый пруссак, рявкнувший в тот вечер 9 августа 1944 года у стоявшей внизу будки часового «хайль Гитлер», мог представлять собой только безусловного нациста. Наблюдая, как Хольтиц торжественно вышагивает по ступеням резиденции, Бойнебург прошептал фон Арниму: «Твердый орешек».
В салоне Бойнебурга, расположившись на зеленых бархатных стульях в стиле Людовика XV, с полдюжины старших офицеров с нетерпением ждали момента, когда смогут рассмотреть этого маленького человечка. Для фон Арнима это была «трогательная минута». Спокойный и отчужденный Хольтиц чувствовал себя неловко среди этих людей. Мало что в облике окружавших его гарнизонных офицеров могло понравиться генералу, большую часть войны проведшему в грязных окопах России.
Между переменами изысканных блюд, приготовленных болгарским шеф-поваром Бойнебурга, Хольтиц сухо поведал о своем визите в Растенбург. Наблюдая за собравшимися за столом людьми, молча слушавшими его рассказ, Хольтиц почувствовал, как над ним нависает одиночество: оно будет преследовать его на протяжении всего пребывания в Париже. За этим обеденным столом между Хольтицем, новым командующим, и этими людьми, которые теперь подчинялись ему, уже начало постепенно возникать чувство взаимной подозрительности.
Выслушав рассказ Хольтица, фон Арним уже не сомневался, каковы были намерения Гитлера в отношении Парижа. В мозгу молодого графа засел лишь один вопрос: станет ли этот напыщенный человек, только что попавший в их среду, помогать Гитлеру в осуществлении этих намерений?
Оставшись наедине с Хольтицем и Бойнебургом, фон Арним вдруг со страхом понял, что нашел разгадку. Ответом Бойнебурга на суровую реакцию Берлина в отношении его планов было предложение подготовить линию обороны на подступах к столице. Ее уже называли «линией Бойнебурга», и 25 тысяч солдат и соответствующее количество артиллерии образовали бы прочный заслон на подступах к Парижу. Одновременно защитники Парижа должны были бы покинуть столицу. Но кроме этого Бойнебург ничего не сделал, чтобы подготовиться к возможным разрушениям во французской столице.
Теперь, преследуемый воспоминаниями о Сталинграде, Бойнебург убеждал Хольтица следовать его плану и избегать сражений в самом городе. Он умолял Хольтица «не делать ничего такого, что могло бы вызвать в Париже необратимые разрушения». Фон Арним наблюдал за реакцией Хольтица, неподвижно восседавшего на стуле с чашкой кофе в пухлых руках. Его лицо казалось фон Арниму таким же «бесстрастным, как у толстого Будды», стоявшего на черном мраморном камине за его спиной, как раз под портретом фюрера.
Посидев еще немного, Хольтиц собрался уходить. В вестибюле его ждал ординарец капрал Гельмут Майер. Хольтиц отдал ему первое распоряжение. «Майер, — приказал он, — приготовьте мне комнату в „Мёрисе”». Затем, повернувшись к Бойнебургу, добавил с едва заметным сарказмом: «В ближайшее время, господин генерал, мне понадобится командный пункт, а не резиденция».
Стоя в дверях и наблюдая, как «хорх» Хольтица удаляется, проезжая мимо покрытых пышной листвой каштанов Ранелагских садов и далее по направлению к Булонскому лесу, Бойнебург схватил своего молодого помощника за руку.
— Поверьте мне, Арним, — пробормотал он, — хорошие времена для Парижа прошли навсегда.
13
Для Пьера Лефошё хорошие дни закончились с сокрушительными ударами в дверь его квартиры на пятом этаже дома № 88 по улице Лекурб сразу после шести вечера 7 июня. В тот вечер гестапо одним махом арестовало Лефошё, возглавлявшего парижское Сопротивление, и большинство его помощников. Для гестаповцев это был самый большой улов за четыре года[16].
Теперь, измученный и сломленный многодневными пытками, Пьер Лефошё лежал на соломенном матрасе в темной тюремной камере и прислушивался к ночному звуку. Это было металлическое громыхание железных колес тележки для кофе. Скрежет этой тележки о кирпичи галереи четырьмя пролетами ниже имел особое значение для Пьера и 2980 других заключенных тюрьмы «Френе».
Это было равносильно объявлению немцами, что очередная партия заключенных покинет в тот день «Френе» и направится в концентрационные лагеря Германии. Всякий раз, когда Пьер слышал этот звук, он впадал в оцепенение; затем где-то в темноте он слышал, как одна за другой распахиваются двери — двери тюремных камер тех, кто был выбран для отправки. В предрассветной тьме охрана выдавала каждому из них последнюю чашку кофе, которую они могли выпить на французской земле. В такие утренние часы Пьер не мог расслабиться до тех пор, пока не убеждался, что тележка миновала запертую дверь в его собственную камеру.
Сероватый свет начал медленно освещать ночное небо. Теперь Пьер мог дышать спокойнее: наступал рассвет. Теперь он мог быть уверен, в этот день, 10 августа, кофейная тележка не приедет. Он знал, что проведет еще один день, свой шестьдесят четвертый, во «Френе». Еще один день, в который он не будет депортирован в Бухенвальд или Дахау. Еще один день, в течение которого союзнические армии подойдут еще ближе к Парижу, неся с собой надежду, что каким-то образом они освободят его, прежде чем очередной эшелон, его эшелон, отправится в Германию.
Не только для Пьера Лефошё, но и для всех остальных узников гестапо в Париже каждый из тех августовских рассветов приносил особые мучения, заставляя испытывать одновременно надежду и страх. В парижских тюрьмах томились в ожидании свыше семи тысяч человек — цвет французского Сопротивления. В сложенном из серого камня форте Роменвиль содержалось 250 женщин. Им удавалось ежедневно следить за ходом наступления союзников с помощью обрывка туалетной бумаги, который вкладывался в банку джема — единственное, что охранники разрешали приносить в тюрьмы. В нескольких милях от форта в деревянных армейских бараках Дранси 1532 еврея — последние из тысяч, останавливавшихся там на пути в газовые камеры Аушвица и Дахау, — пристально следили за событием, которое возвестит об их отправке. Таким событием было прибытие колонны желто-зеленых автобусов, тех самых парижских городских автобусов, на которых многие из них ежедневно ездили на работу до войны.
И все же, как это ни странно, для некоторых пленников гестапо депортация в Германию означала облегчение. Многие из них, как Ивонна Панье, бретонская журналистка, содержавшаяся во «Френе», были уверены, что все, кто останется после последнего конвоя, будут расстреляны. Для таких людей, как капитан Филипп Кёэн и Луи Арман, любой исход казался лучше, чем ежедневная угроза пыток в здании гестапо по улице Соссе. Кёэн, заместитель резидента разведывательной службы Жада Амиколя, и Арман, железнодорожный служащий, организовавший подпольную сеть Сопротивления на французских железных дорогах, были во «Френе» новичками. Гестапо еще не оставило надежды выжать последние све-деиия из этих измученных пытками людей. Для них каждый новый день означал возможность того, что их заберут из тюремных камер и доставят в камеры пыток на улице Соссе.
* * *
А в нескольких милях — и световых лет — от «Френе», в квартире по улице Монтрозье, 1, у окна стоял толстяк в шелковом халате с монограммой. В уме он перебирал имена всех немцев, которых знал в Париже. Рауль Нордлинг, генеральный консул Швеции, знал многих. В течение четырех лет он руководил заводами фирмы СКФ, выпускавшими подшипники для вермахта. Как дуайен консульского корпуса в Париже, он регулярно присутствовал на всех официальных церемониях. Стоя у своей коллекции картин импрессионистов, Нордлинг методично перебирал в памяти всех известных ему людей, кто мог бы навести его на немца, которого он разыскивал именно в тот день. Он знал его только по имени Бобби. Они встретились лишь однажды, в 1942 году, на террасе кафе «Ше Франси», что на площади Альма. Их познакомил один из немногих немцев, которому Нордлинг доверял, бизнесмен из Берлина. Швед подозревал, что он был связан с абвером — германской военной разведкой.
После той встречи его друг сказал: «Если вам когда-нибудь понадобится открыть любую дверь в Париже, обратитесь к Бобби».
Преследуя именно эту цель, Рауль Нордлинг в то утро ломал голову над тем, кто бы мог его вывести на Бобби. Двери, которые он хотел открыть, были дверями камеры Пьера Лефошё, Луи Армана и остальных политических заключенных в Париже. Нордлинг знал, что в Кане и Ренне отступающие эсэсовцы уничтожили всех заключенных. Он был уверен, что то же самое произойдет в Париже. На сегодняшний день он ничего не добился. Теперь Нордлинг решил обратиться к новому командующему парижским гарнизоном. Но ему было нужно, чтобы кто-то подготовил почву. Он был уверен: именно Бобби, если его удастся найти, сможет это сделать.
В эти минуты Эмиль «Бобби» Бендер запаковывал свой последний чемодан в реквизированной квартире по улице Эле, 6. Через несколько часов он покинет Париж. Его шеф, полковник Фридрих Гарте, глава абвера во Франции, приказал ему явиться вечером в Сент-Мену, однако у Бендера были другие планы. С помощью абверовского пропуска он намеревался в тот же день выехать в Швейцарию, встретить свою любовницу в Цюрихе и на том закончить для себя войну.
Это расставание будет печальным для седеющего сорокапятилетнего пилота первой мировой войны. Под «крышей» представителя швейцарской целлюлозно-бумажной фирмы он действовал в Париже в качестве агента абвера с 18 июня 1940 года. Его первым заданием было проникновение во французские деловые круги и составление донесений на них. Затем ему поручили деликатную работу по выявлению и реквизированию драгоценностей, продажа которых в Швейцарии давала твердую валюту для финансирования программы абвера по глобальному шпионажу. Но Бендер занимался не только этим. С 1941 года он был одной из ключевых фигур в антинацистской сети, созданной в абвере.
Телефонный звонок Нордлинга застал его всего за несколько минут до выхода из квартиры. Швед раздобыл наконец-то номер его телефона у немецкого офицера Эриха Пош-Пастора фон Камперфельда, австрийца по национальности, тайно сотрудничавшего с Сопротивлением. Бендер оставаться не хотел. Но после долгих уговоров пообещал шведу задержаться «на несколько дней», пока не сделает все от него зависящее для освобождения заключенных. Бендер решил, что у него еще будет время пересечь границу Швейцарии.
С его стороны это была большая ошибка. Через две недели он попадет в плен к французам. Но в течение этих двух недель он в значительной мере вернет свой долг этому городу, в котором, несмотря на свой зрелый возраст, был известен лишь как повеса, — долг за те драгоценности, которые вытряхнул из парижских сундуков.
14
Генералу Вальтеру Варлимонту, стоявшему в одиночестве в зале для совещаний в ставке фюрера, затемненные светомаскировкой строения штаба Верховного главнокомандования вермахта казались призрачным городом. Снаружи лес был неподвижен. Волки и шакалы больше не нарушали тишину растенбургской ночи своим воем; минные поля и ряды колючей проволоки под напряжением, окружавшие ОКВ, давно отогнали их в более отдаленные укрытия. Их рычание сменили другие звуки: гудение вентиляционных механизмов, постукивание телетайпа и, прежде всего, перезвон телефонов, которые двадцать четыре часа в сутки уносили нервную энергию Вальтера Варлимонта и сотен таких же, как он, чьи жизни вращались вокруг наступавшего дважды в день момента, когда на своих стратегических совещаниях повелитель «третьего рейха» изрекал решения, определявшие ход войны.
Как всегда в таких случаях, Варлимонт прибыл на совещание на полчаса раньше. Варлимонт, только что вернувшийся из поездки на Нормандский фронт, отвечал за подготовку всех совещаний. Левой рукой он прижимал кипу рабочих бумаг, правой — рулоны карт Генерального штаба, по которым через некоторое время Гитлер будет изучать последние донесения с фронтов. После 22 июля Варлимонт отказался от привычки носить бумаги в портфеле из телячьей кожи. Он был слишком горд, чтобы согласиться на унизительный обыск, которому подвергали всех стоявшие у двери эсэсовцы в серой форме.
Сейчас Варлимонт разложил на столе огромную карту общей обстановки в масштабе 1:1 000 000 и планшеты по секторам в масштабе 1:200 000, на целлулоидных поверхностях которых оперативное управление ОКВ нанесло новейшую информацию о линии фронта.
В одном это совещание сильно отличалось от всех других, на которых Варлимонт присутствовал в ОКВ. В тот вечер, впервые после 21 июня 1941 года, Гитлер отбросил карты Восточного фронта, которые перед ним разложил генерал-оберст Йодль, и обратил внимание вначале на обстановку на западе. Фюрер напомнил Варлимонту «встревоженного зверя», когда в долгом раздумье склонился над разложенными перед ним картами. Затем из всех других карт он выбрал одну — масштаба 1:200 000.
В центре ее было огромное черное пятно, венчавшее три широких изгиба Сены. От него, словно нити паутины, расходились обозначенные на карте дороги. Эта черная масса означала контуры Парижа и его пригородов. Гитлер вынул стеклограф и быстро черканул по карте. Затем распрямился и объявил, что настало время подготовить оборону Парижа.
— Если нам нужно удержать Сену, — сказал он, возвышая голос, — мы должны удержать Париж. Мы будем держаться на подступах к Парижу, мы будем держаться в Париже, мы будем держать сам Париж! — заявил он.
Потеря Парижа, заявил он стоявшим вокруг генералам, оказала бы катастрофическое воздействие на моральный дух вермахта, на население Германии и весь мир. Затем, обращаясь к стоящему рядом Йодлю, который лихорадочно вел записи, Гитлер отдал свое первое распоряжение, непосредственно касающееся обороны города. Во-первых, объявил он, «я хочу, чтобы все мосты через Сену в районе Парижа были заминированы и подготовлены к уничтожению». Во-вторых, продолжал он, промышленность города «должна быть парализована». И наконец, приказал он Йодлю, «все имеющиеся в наличии подкрепления» должны быть переданы в подчинение командующему гарнизоном города.
— Париж надо защищать до последнего солдата, — добавил он, — не обращая внимания на разрушения, которые могут возникнуть в результате боев.
Он надолго замолчал, а затем произнес последнюю фразу.
— Почему нас должно волновать, будет ли разрушен Париж? Союзники в данную минуту своими бомбардировками уничтожают города по всей Германии.
15
Это был один из тех безветренных дней, которые Бог приберегал для Парижа и поэтов. Первые рыбаки уже дремали вдоль набережных Сены, пригревшись под лучами только что взошедшего солнца. Их бамбуковые удилища, воткнутые в гальку под ногами, лениво нависали над мутными водами реки. Чуть в стороне, затерявшись в мире собственных фантазий, наносил первые мазки на холст одинокий художник, расположившийся в конце сквера Вер-Галан, в том месте, где его гранитные берега, словно нос корабля, рассекали Сену надвое у самой оконечности острова Сите. Через несколько часов эти берега заполнятся пляжными зонтами и складными матерчатыми стульями тысяч парижан, ищущих места под августовским солнцем. В это мирное летнее воскресное утро война казалась чем-то далеким.
Для миллионов жителей города это воскресенье 13 августа ознаменовало начало трехдневного празднования Успения, и повсюду парижане готовились насладиться его безоблачным небом. Тысячи парижан собирались отправиться на пикники, предаться игре, любви и, прежде всего, забыть об опасностях предстоящей битвы за освобождение своего города.
* * *
Это воскресенье казалось таким мирным, что новый немецкий командующий парижским гарнизоном отправился на совещание в штаб Западного фронта один в открытом «хорхе». Ни одна пуля бойцов Сопротивления, ни один самолет союзников не потревожили его в этом путешествии. Единственным диссонансом была речь человека, к которому он приехал, — генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге, главнокомандующего Западным фронтом. В своем лишенном солнечного света подземном бункере в Сен-Жермен-ан-Лей, в непосредственной близости от столицы, Клюге обрисовал Хольтицу работу, которую тому предстояло проделать в Париже.
Он заявил, что Гитлер и он сам считают необходимым оборонять Париж. Не может быть и речи, продолжал он, чтобы превратить Париж в открытый город. «Он будет защищен, — сказал он Хольтицу тоном, не терпящим возражений, — и защищать его будете вы».
По предположениям разведки штаба Западного фронта, проинформировал его Клюге, союзники попытаются обойти город с флангов. Клюге считал, что, удерживая Париж, Хольтиц «отвлечет на себя бронетанковые силы противника», вынудит вести бои в самом городе, где его механизированные части будут менее эффективными, что «замедлит его продвижение по Франции». Контрнаступление в Мортене, против которого Клюге яростно возражал, привело его 7-ю армию в Фалезский «котел», который теперь захлопнулся. Но у Клюге по-прежнему имелась большая часть из девятнадцати дивизий 15-й армии, самой большой во Франции, которую ОКВ до начала августа держал в бездействии в районе Па-де-Кале в ожидании второй высадки. За счет этих войск Клюге обещал дать Хольтицу, когда придет время, подкрепление для обороны Парижа. Оба согласились, что с помощью трех дивизий город можно будет удерживать в кровопролитных уличных боях по меньшей мере три недели. Хольтиц попросил дать подкрепление немедленно, но Клюге отказал. Положение в Париже, сказал он, еще не достигло критической точки, чтобы уже сейчас связывать там войска.
После того, как распоряжения были отданы, Клюге пригласил Хольтица отобедать. Обед прошел холодно. Затем Клюге повторил то, что сказал ранее. «Боюсь, мой друг Хольтиц, — закончил он, — Париж может стать для вас довольно неприятным местом: сильно попахивает могилой».
После некоторой паузы Хольтиц ответил: «По крайней мере, похороны пройдут по первому разряду».
* * *
Возвращаясь в своем «хорхе» в Париж, фон Хольтиц не смог даже остановиться, чтобы подышать чистым воздухом Булонского леса. В «Мёрисе» его ждал доклад о деликатной операции, которую он начал в то утро, — первой с момента его прибытия в Париж. Ее целью было разоружение 20-тысячного корпуса полицейских Парижа. Клюге приказал внезапными действиями разоружить всю полицию Франции. По приказу Хольтица операция началась в полицейском комиссариате промышленного пригорода Сен-Дени, а затем быстро, насколько это было возможно, охватила остальную часть города.
К тому времени, когда он вернулся в «Мёрис», его помощник, молодой граф фон Арним, уже подготовил полный отчет. Операция прошла успешно. Было захвачено свыше пяти тысяч единиц оружия. Хольтиц был удовлетворен. Спокойствие в городе, а теперь и беспрепятственное выполнение первой задачи можно было считать хорошим предзнаменованием. Теперь он мог сосредоточить внимание на бумаге, которую протянул ему фон Арним. Это была телетайпная копия устного приказа, который отдал ему Клюге перед обедом. «Париж, — говорилось в ней, — следует оборонять любой ценой».
16
Резкий нетерпеливый голос фюрера прервал генерал-оберста Альфреда Йодля на середине ежедневного доклада по оперативной сводке на первом в тот день, 14 августа, стратегическом совещании ОКВ. Мысли Гитлера вновь обратились к обороне Парижа. Взмахом руки он оборвал Йодля и повернулся к генералу Бюле, начальнику службы снабжения артиллерии ОКВ.
— Где находится, — спросил он, — 600-миллиметровая мортира, которую мы создали для взятия Брест-Литовска и Севастополя? Я принял решение направить ее генералу фон Хольтицу.
Захваченный врасплох, Бюле повернулся к Кейтелю, тот к Йодлю, который в свою очередь посмотрел на Варлимонта. Никто из них не имел ни малейшего представления, где находится мортира. Варлимонт даже не знал, что она вообще существует. Придя в ярость от их смущенного молчания, Гитлер начал барабанить кулаком по столу. Он велел Бюле немедленно разыскать мортиру и отправить ее в Париж. При этом потребовал дважды в день докладывать ему о месте ее нахождения до тех пор, пока она не прибудет в город.
Варлимонт составил распоряжение и на цыпочках вышел вместе с Бюле из комнаты, чтобы выяснить, «где находится и что из себя представляет загадочная мортира фюрера».
Через восемь часов помощник Варлимонта майор Гельмут Перпонхер принес ему ответ. Мортиру нашли на складе в Берлине. Специально сконструированная для ведения уличного боя, она использовалась в Брест-Литовске, Севастополе и Сталинграде. Фон Хольтиц сам использовал ее для уничтожения оборонительных сооружений Севастополя. Это было самое мощное артиллерийское орудие, созданное человеком в доатомную эпоху. Названная «Карлом» в честь своего создателя генерала Карла Бекера, эта мортира на гусеничном ходу могла забросить 2,5-тонный снаряд диаметром в два фута на расстояние более трех миль. Этот огромный заряд мог пробить восьмифутовую стену из армированного бетона. Нескольких точных попаданий было бы достаточно, чтобы превратить в руины целый квартал.
Тем же вечером на втором стратегическом совещании у фюрера Варлимонт доложил, что «Карл», водруженный на специальную железнодорожную платформу, уже катится в Париж. Мортира будет там через восемь дней, сказал он.
* * *
В Париже, в обшарпанной задней комнате кафе по улице Пе в рабочем пригороде Леваллуа-Перре, два совершенно незнакомых друг другу человека сидели за бутылкой дешевого вина. В соседней комнате, за дверью, отделяющей их от собственно кафе, сидели два человека, которые познакомили первых после того, как сами сложили две части разорванного билета на метро. В задней комнате полковник Роль, коммунист, руководивший парижскими отрядами ФФИ, поднял стакан, обращаясь к собеседнику. Это был руководитель созданного коммунистами отряда Сопротивления в парижской полиции. В тот день он организовал забастовку городской полиции.
Роль хотел узнать лишь одно: подчинятся ли бастующие полицейские его приказам в случае восстания? Роль знал, что вскоре союзники выйдут к Сене у Манта и Мелёна, выше и ниже по течению от Парижа. Восстание, которое пытался предотвратить Шабан-Дельмас, должно было начаться, считал Роль, через несколько дней или даже часов. Сила, которую он больше всего хотел подчинить себе в городе после начала восстания, представляла собой 20-тысячный корпус полицейских. Чтобы убедиться в этом, он и пришел в кафе.
* * *
Как и во все предыдущие годы, алтарь в церкви небольшой деревушки на главном шоссе между Парижем и Кале получит к празднику Богородицы самое красивое во всей Пикардии украшение из цветов. В нынешний канун Успения высокая статная женщина и шестеро ее детей вышли из покрытого серой черепицей замка времен Людовика XIII, который они делили с 65 немцами, и на велосипедах отправились в ближайшую деревушку Варлу. Там с полными охапками цветов семья Отклоков вошла в церковь и начала украшать алтарь к предстоящему на следующий день, 15 августа, празднику.
Тереза де Отклок питала особую любовь к Деве Марии. Четыре года назад, 3 июля 1940 года, она отдала под ее покровительство судьбу самого близкого человека — своего мужа Филиппа. В тот день в шесть утра Филипп на своем красном велосипеде покинул убежище в винных погребах Бордо, где скрывалась вся семья. Он уезжал с намерением во что бы то ни стало добыть оружие и продолжить борьбу против завоевателей Франции.
Шестеро их детей в то утро еще спали, когда Филипп прощался с женой. «Мужайся, Тереза, — сказал он. — Наша разлука может оказаться долгой».
Почти четыре года Тереза де Отклок не знала, жив ли ее муж или мертв. Но однажды ночью в марте 1944 года, когда она слушала ночную передачу Би-би-си, согнувшись в наушниках над детекторным приемником, поскольку от занимавших соседнюю комнату немцев ее отделяла лишь запертая дверь, Тереза вдруг вздрогнула. На какое-то мгновение Терезе показалось, что земля разверзлась у нее под ногами. Одно из личных посланий, которые она сейчас прослушала, гласило: «Филипп, родившийся 22 ноября 1902 года, крепко обнимает жену и полдюжины своих детишек». Человек, за которым Тереза де Отклок была замужем, родился 22 ноября 1902 года.
В тот день, когда Тереза и ее шестеро детей украшали роскошными розами, лилиями и гладиолусами алтарь маленькой церквушки, в прохладной тишине вдруг раздался голос. «Мадам де Отклок, идите быстрее, быстрее!» — позвала Дюмон, владелица «Кафе-де-ла-Плас», располагавшегося на противоположной стороне деревенской площади. Тереза де Отклок сбежала по ступенькам бокового придела, пересекла площадь и прошла в заднюю комнату бистро мадам Дюмон. Из динамика старомодного приемника мадам Дюмон она услышала голос. Тереза де Отклок почувствовала, как по ее щекам катятся слезы, впервые после того, как Франция потерпела поражение. Тем же спокойным, подбадривающим тоном, каким он сказал ей «мужайся, Тереза», Филипп де Отклок, известный теперь как генерал Жак Леклер, объявлял, на этот раз для всей Франции, что он вернулся на французскую землю во главе французской бронетанковой дивизии, чтобы вступить в борьбу за освобождение своей страны. «Вскоре, — пообещал он, — трехцветный флаг вновь взовьется над Парижем».
17
Совершенно отчетливо и безошибочно Пьер Лефошё расслышал металлический скрежет, внезапно разорвавший предрассветную тишину. Четырьмя этажами ниже его камеры несмазанные колеса кофейной тележки «Френе» только что начали свое последнее путешествие по коридорам тюрьмы. Пьер слышал, как одна за другой распахивались двери камер. Их было необычно много. Но вот повизгивание металлических колес стало громче. Пьер услышал, как тележка громыхнула за углом слева и направилась по коридору в сторону его камеры. Шум прекратился. Пьер Лефошё услышал позвякивание ключей тюремщика, а затем, когда дверь его собственной камеры распахнулась, увидел перед собой очертания ожидавшей его кофейной тележки.
В женской части «Френе» день начался с предрассветного визита немецкого офицера. Двадцатилетняя Жанни Руссо, самая красивая девушка в тюрьме, вскрикнула от неожиданности, когда увидела стоящего рядом немецкого офицера. Уже потом она разглядела кончик распятия, свисавшего из-под кителя тюремного капеллана аббата Штейнерта.
— Дамы, — объявил он пяти девушкам, прижимавшимся друг к другу в камере, в которой не было даже окон, — я пришел причастить вас перед тяжким испытанием, ожидающим вас через несколько часов.
Было четыре часа утра.
Для миллионов парижан, все еще спавших в притихшем за серыми каменными стенами «Френе» городе, это медленно начинавшееся утро означало наступление последнего праздника, на который они могли рассчитывать в этом неопределенном мире. Но для Пьера Лефошё, его соседа по камере и для 2500 других заключенных «Френе», а также Роменвиля и Дранси, где эсэсовцы держали 1500 евреев, этот праздник Успения будет иметь другой смысл. Для них в этот серый предрассветный час начинался их крестный путь.
К рассвету операция уже шла полным ходом. Во «Френе» первыми выгнали и затолкали в автобусы женщин. В одном из них сочувствующий водитель посоветовал засунуть под сиденья последние записки семьям. И пообещал доставить их по назначению.
В Дранси 1500 евреев получили неожиданную отсрочку. Ни один из предназначенных для них автобусов не завелся: кто-то украл все генераторы.
Во «Френе» 2000 мужчин, отобранных для отправки, были выведены из камер сразу после отъезда автобусов с женщинами. Капитан Филипп Кёэн, помощник резидента разведки Жада Амиколя, благодарил бога за то, что его тоже выбрали. Его пытки закончились, и, куда бы ни отвезли его немцы, он мог ехать со спокойной совестью. Он не предал своего дела.
Одному из заключенных сбор французов на тюремном дворе под окном его камеры показался чудовищной несправедливостью, с которой он когда-либо сталкивался. Сигнальщик Вилли Вагенкнехт сидел в этой камере весь срок пребывания в Париже (за исключением двух дней), отбывая шестимесячное заключение за то, что ударил офицера на телефонном узле в ставке главнокомандующего Западным фронтом. От возмущения он затряс головой. Вилли Вагенкнехт не мог понять такую несправедливость. Ничто не казалось ему более нелогичным, чем наблюдать колонну французов, выходящих за ворота тюрьмы для отправки в Германию, тогда как он, Вилли Вагенкнехт, оставался здесь, в их проклятой парижской тюрьме.
На улице Мари-Элен Лефошё, увидев, как распахиваются ворота тюрьмы «Френе», стиснула нервно руль велосипеда. С шести часов, стоя на крохотном пятачке тротуара, куда ее оттолкнули эсэсовские охранники, Мари-Элен Лефошё молча и безропотно ждала, когда откроются эти ворота. Теперь она рассматривала заключенных, которые друг за другом плелись мимо пулеметов охраны СС и взбирались по ступенькам ожидавших их автобусов.
Вдруг она увидела его. При первом же взгляде на изможденное и искаженное от боли лицо мужа у Мари-Элен вырвался сдавленный вопль. «Боже мой, как он похудел», — подумала она. Неистовое ликование охватило ее молодое тело. «Он жив, он жив», — повторяла она. Лишь через несколько мгновений Мари-Элен Лефошё осознала весь ужас происходящей сцены. Она вдруг поняла, что Пьера отправляют в Германию. В агонии она следила за каждым его шагом к автобусу, который вот-вот увезет его от нее. Поднимаясь по ступенькам, Пьер — она это отчетливо видела — дерзко вскинул голову, как бы выражая свое расположение, что делал всякий раз, когда молча с ней здоровался. «Он увидел меня», — произнесла она вслух. Она уже не могла сдерживать слез. Как сквозь туман, Мари-Элен увидела в группе немецких офицеров знакомую фигуру аббата Штейнерта. Она проскользнула мимо стоявшего рядом эсэсовца и подбежала к нему.
— Дитя мое, — прошептал тот, — это счастье, что он уезжает. В тюрьме будет резня.
Двигатели автобусов заработали, и длинная вереница желто-зеленых машин тронулась в путь. Мари-Элен бросилась к своему велосипеду. Не понимая зачем, она поехала вслед за колонной.
18
Дитрих фон Хольтиц сидел в залитом искусственным светом подземном бункере ставки главнокомандующего Западным фронтом и с безразличием слушал генерал-лейтенанта Гюнтера Блюментритта, бывшего у фон Клюге начальником штаба. Блюментритт сухо излагал вариант применения в районе Парижа «тактики выжженной земли в ограниченных масштабах»[17]. Его голосу вторило жужжание вентиляционной системы бункера, создавая подобие полифонии. Блюментритт зачитывал детали операции по отпечатанной на машинке шпаргалке, зажатой в левой руке. Периодически он отрывал взгляд от бумаги и тыкал пальцем в красные линии на карте масштаба 1:10 000, разложенной перед ним на столе красного дерева в кабинете Клюге. Эти нанесенные красным стеклографом на целлулоидной поверхности карты линии помечали все газовые заводы, электростанции и водохранилища, снабжавшие пятимиллионное население Парижа.
Предложение Блюментритта, как, впрочем, и все аналитические исследования, исходившие из его оперативного отдела, представляло собой тщательно разработанный документ. Операция была разбита на две фазы. Первая, которую он настойчиво предлагал Клюге начать немедленно, предполагала методичное уничтожение газовых и электрических сетей и системы водоснабжения города. Вторая включала «избирательные диверсии» против промышленных предприятий города. Немцы понимали, что у них нет ни времени, ни сил, чтобы полностью уничтожить все заводы в мощном промышленном поясе Парижа. План Блюментритта предусматривал логичный компромисс: уничтожение на этих заводах наиболее важного оборудования, потеря которого сделает их бесполезными для наступающих союзников.
Предложенная «тактика выжженной земли в ограниченных масштабах», сообщил на совещании Блюментритт, была «очень важной в стратегическом отношении». Если промышленные предприятия Парижа не будут повреждены, то союзники обернут их продукцию против Германии в течение нескольких недель. Он аргументировал свое предложение тем, что, «приведя население в смятение и парализовав жизнь города» путем уничтожения его коммунальных систем, можно было бы замедлить продвижение войск противника, поскольку союзники будут вынуждены направить часть военных ресурсов на оказание помощи терпящей бедствие столице.
Блюментритт подчеркнул необходимость незамедлительно начать осуществление первой фазы плана. Он передал Хольтицу список флотских складов, где тот мог бы реквизировать дополнительное количество взрывчатки из запасов военно-морского флота для пополнения арсеналов вермахта. Если выполнение этой программы не будет начато немедленно, убеждал он, то возникнет риск, что работа не будет завершена до подхода союзников к городу на расстояние удара.
Хольтицу доклад Блюментритта показался «очень сухим, очень профессиональным и очень убедительным». Его предложение не было неожиданным для Хольтица. Накануне он получил первое распоряжение из ОКВ после своего назначения в Париж. В нем говорилось о необходимости «уничтожить или полностью парализовать» все промышленные предприятия Парижа. Он знал, что этот приказ прошел через ставку Западного фронта. Как только Хольтиц получил вызов на это назначенное на раннее утро совещание, он сразу понял, что ему предстоит выслушать рекомендации Блюментритта относительно осуществления этого приказа Гитлера.
Да и сам приказ не показался Хольтицу необычным. Лежащая в его основе концепция представлялась ему «вполне обоснованной». В конце концов это было лишь продолжением тактики, применявшейся на Восточном фронте. И в то время как бомбардировщики союзников еженощно сравнивали с землей германские города, для людей, собравшихся за этим столом в кабинете Клюге, ничто не казалось более логичным, чем применение той же тактики в Париже, с той лишь разницей, что применяться она будет не с воздуха.
Только одно в докладе Блюментритта все же вызывало у Хольтица возражение — вопрос о сроках. В настоящее время он был заинтересован в обороне Парижа, а не в его разрушении. В то утро он доказывал, что к выполнению плана Блюментритта необходимо будет приступить только тогда, когда войска будут готовы покинуть город. Очевидно, подчеркивал он, они не собираются покидать город в течение некоторого времени. Преждевременное осуществление плана Блюментритта толкнет тысячи заводских рабочих в ряды Сопротивления и вынудит население оказать открытое сопротивление его войскам. Кроме того, добавил он лаконично, немецкие солдаты тоже пьют воду.
Генерал-фельдмаршал фон Клюге апатично слушал перепалку двух подчиненных, затем без предупреждения поднял руку, давая понять, что прения длились достаточно долго. Оба, сказал он, выдвинули веские аргументы. Он отдаст окончательное распоряжение позже. На этом совещание закончилось. Хольтиц кивнул Клюге и вышел. Через пятьдесят шесть часов, следуя в Германию после того, как его отстранили от командования и вместо него назначили одного из самых свирепых фельдмаршалов Гитлера, фон Клюге покончит жизнь самоубийством.
Но перед отъездом он прикажет Хольтицу начать систематичное разрушение по плану, предложенному в то утро Блюментриттом.
* * *
Вернувшись в «Мёрис», Хольтиц застал в приемной своего кабинета четырех человек. На распоряжении, которое они привезли с собой из Берлина, стояла подпись генерал-оберста Йодля. Эти инженеры были направлены в Париж из ОКВ «для подготовки и осуществления взрывных работ на всех крупнейших промышленных объектах в Парижском районе». Они привезли с собой все необходимое. В приемной находилась дюжина черных цилиндрических футляров для карт. В них были чертежи всех крупнейших заводов Парижа.
Их командир, седоватый спокойный человек, объяснил Хольтицу, что если заложить необходимое количество зарядов, то можно парализовать промышленность Парижа по меньшей мере на шесть месяцев.
Хольтиц предоставил им комнаты на пятом этаже гостиницы и выделил в их распоряжение две штабные машины, чтобы они сами могли осмотреть предприятия города. Через два часа, когда он зашел к ним в номер, они были «с головой погружены в карты и чертежи». Если Париж падет, пообещал один из них, союзники не найдут в городе ни одной работающей фабрики.
19
Августовское солнце нещадно палило ржавые железные крыши вагонов для перевозки скота, соединенных в состав на запасном пути грузовой станции Пантен, находившейся сразу за парижским скотопригонным двором. Внутри этих вагонов, набитых более плотно, чем метро в часы «пик», стояли люди, которых эсэсовцы приготовили для депортации в Германию. В нестерпимой жаре люди пытались втянуть хотя бы глоток воздуха. Цвет французского Сопротивления — 2104 мужчины и 400 женщин, то есть восемь из каждых десяти заключенных «Френе» и «Роменвиля», — в ужасных муках ожидали отправки поезда.
Жанни Руссо была втиснута в вагон вместе с 92 другими женщинами. Единственное окно с натянутой колючей проволокой было слишком высоко, чтобы даже самая высокая из женщин в вагоне могла хоть мельком увидеть, что происходит снаружи. Эта хорошенькая девушка на всю жизнь запомнила жару в том вагоне и то, как жадно втягивала его зловонный воздух в разрывающиеся легкие. Одна за другой женщины сняли с себя все, кроме белья. В углу вагона, рядом с цинковым ведром, служившим туалетом, женщины освободили небольшое пространство, где одновременно трое из них могли сесть на корточки, плотно прижав колени к ключицам, и отдохнуть. Остальные вынуждены были стоять.
В соседнем вагоне места было побольше. Там Ивонна Панье и другие женщины могли сесть на корточки и образовать живую цепь. Но то и дело кто-нибудь из них терял сознание. Человек шесть вскоре умерли.
Вдруг Ивонна Панье заметила в дверном проеме мужчину; его жирное лицо лоснилось от пота. Она узнала эсэсовского охранника, выходца с Украины, который наблюдал, как ее пытают в гестапо на авеню Фош. Казалось, он пришел пожелать «счастливого пути этому стаду животных, на которых он уже поставил свое клеймо и которые теперь отправлялись на бойню».
У мужчин положение было еще хуже. Полураздетые, по сто и более человек в одном вагоне, они страстно желали лишь одного — чтобы поезд, в который они когда-то надеялись не попасть, теперь поскорее отправился.
Пьер Лефошё, у которого от голода, жажды и жары кружилась голова, молил лишь о том, чтобы поезд отправился. Стоявший позади него заключенный, страдая от мучительной жажды, слизывал со спины Пьера стекающий пот.
* * *
Со станции Пантен вышел и направился в ближайшее кафе человек, весь вид которого — поникшая голова, опущенные широкие плечи — говорил о том, что он чем-то подавлен. Эмиль «Бобби» Бендер, абверовский плейбой средних лет, только что попытался остановить поезд с заключенными, прибегнув к обману в переговорах с эсэсовским начальником эшелона. Его замысел не удался. После того как его разыскал Нордлинг, оба предпринимали отчаянные попытки передать находившихся в районе Парижа политических заключенных под опеку Красного Креста. Все их усилия остались безрезультатными. Нордлинг встречался с Пьером Лавалем, премьер-министром Виши; германским послом Отто Абетцом; шефом гестапо во Франции Карлом Обергом. Ни один из них не проявил ни малейшего интереса к его идее. Фон Хольтиц не принял их по причине крайней занятости.
Были и другие люди, пытавшиеся в то утро остановить товарный состав, подготовленный к отправке со станции Пантен. Их тактика была другой. Пока заключенные изнемогали от жары в вагонах для скота, из Парижа в небольшую деревушку Нантей-Сааси мчался на велосипеде подросток. Ему было поручено доставить устный приказ парижского штаба ФФИ руководителю отряда Сопротивления в этой деревне. Приказ был прост и ясен: любой ценой, любыми средствами перерезать главную железнодорожную магистраль между Парижем и Нанси. Именно по этой дороге стоявший на станции Пантен состав должен был проследовать в Германию.
А в середине дня с одного из парижских чердаков подпольная радиостанция передала в Лондон следующее закодированное сообщение: «Для срочной передачи всем руководителям ФФИ. Немцы организовали эвакуацию заключенных парижских тюрем, в частности «Френе», по железной дороге через Метц, Нанси. Опасаемся массовой резни по ходу следования. Примите все меры возможного саботажа транспорта».
20
Трагедия, разыгрывавшаяся под палящим солнцем на станции Пантен в праздник Успения, в Париже прошла почти никем не замеченной. Большинство жителей города было озабочено все более ощущавшейся нехваткой продовольствия. Их мучила одна проблема — как бы раздобыть что-нибудь поесть. Париж, писала в тот вечер «Пари-Суар», представляет собой «почти осажденный город, в котором нехватка продовольствия ежедневно усугубляется и уже появляются первые признаки голода». Некий месье Шевалье из Академии наук сообщил горожанам в «Ле пти паризьен», что «в безвыходной ситуации» листья вяза, липы и ясеня могут быть вполне съедобными.
Для самых юных жителей Парижа основным событием этого праздничного дня должно было стать паломничество всех школьников города к собору Нотр-Дам, чтобы просить Деву Марию, покровительницу Франции, защитить Париж, ее столицу. В последний момент фон Хольтиц запретил его.
На западной окраине столицы примерно в то время, когда первые группы школьников должны были двинуться к Нотр-Дам, тридцатишестилетний немецкий капитан приказал водителю своей покрытой маскировочной сеткой автомашины остановиться посреди моста Нейи. Вернер Эбернах жестом приказал солдатам своей 813-й саперной роты остановиться и подошел к бетонному парапету моста. Затем голубоглазый офицер, потерявший три пальца на левой руке, устанавливая мину-ловушку в крестьянской избе на Восточном фронте, зажег сигарету и уставился в илистые воды Сены. Его удивила ширина реки. В сравнении с ней Шпрея в его родном Берлине казалась узкой. Впереди Эбернах увидел великолепные арки моста Пюто, начинавшегося от зеленой границы Булонского леса. В противоположной стороне, вниз по течению, реку пересекал мост Жатт, прерываясь лишь посередине маленького островочка, застроенного серыми каменными домами. Эбернах достал из кармана карту, развернул ее на каменном парапете и начал медленно считать.
По всему Парижу — от пригорода Ле-Пек на западе до Шуази на юго-востоке — Сену пересекали сорок пять мостов, подобных тому, на котором стоял Эбернах. Эти сорок пять мостов были артериями, связывавшими Париж в единое целое. Без них рассекавшие Париж широкие петли Сены стали бы вновь тем, чем они были, когда этот город 2000 лет назад был основан на острове посреди реки, то есть непреодолимым препятствием. Хотя Эбернах мог этого и не знать, некоторые из этих мостов французы считали произведениями искусства. Мост Александра III, названный так царем Николаем II, был национальным памятником. Мост Согласия был сложен из камней Бастилии, а балки моста Турнель заложены в 1369 году.
А у стоявшего на мосту Нейи капитана Вернера Эбернаха в кармане кителя, под железным крестом первой степени, лежал листок голубой бумаги, который через некоторое время он вручит генералу фон Хольтицу. Она была подписана генерал-оберстом Йодлем и имела гриф «сверхсрочно». Это был приказ уничтожить сорок пять мостов, пересекавших Сену в районе Парижа.
Вернер Эбернах понятия не имел, почему Гитлер хотел уничтожить эти сорок пять мостов. Доступа к стратегическим планам ОКВ у него не было, да они его и не интересовали. Он был всего лишь аккуратным и искусным специалистом. За свою карьеру Эбернах взорвал десятки мостов. Стоя на мосту Нейи, он не думал, что эти, парижские, окажутся более трудными, чем разрушенные им в Киеве и Днепропетровске. Через некоторое время он заметит командующему парижским округом, что после того, как он закончит работу и «вся каменная кладка парижских мостов обрушится в реку, Сена окажется полностью запруженной в черте Парижа».
Прежде чем вернуться в свой автомобиль, Эбернах должен был произвести весьма важный осмотр оснований моста Нейи. В сопровождении командира взрывников старшего сержанта Хеггера Эбернах спустился по берегу к воде и внимательно осмотрел мост. Луч фонарика выхватил отблеск полосы металла, которую он искал. К основанию моста, как и надеялся Эбернах, была прикреплена ржавеющая минная платформа. В соответствии с законом вот уже более семидесяти лет эти минные платформы существовали под всеми мостами. Они были установлены там французами, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств мосты могли быть быстро уничтожены.
* * *
Для Дитриха фон Хольтица приказ, который протянул ему капитан Вернер Эбернах, войдя в его кабинет в отеле «Мёрис», не был сюрпризом: он уже получил его копию непосредственно из ОКВ. Хольтиц сказал Эбернаху, чтобы тот продолжал все приготовления, но добавил, что без его личного одобрения никакие взрывы в Париже не должны производиться.
Прошло всего несколько минут после ухода Эбернаха, как в кабинет Хольтица вошел с двумя донесениями начальник штаба полковник Фридрих фон Унгер. Первое фон Хольтиц почти проигнорировал — это было сообщение о забастовке парижских полицейских. Однако второе его встревожило. Восемь немецких солдат были убиты из засады в пригороде Парижа Обервилье. Это была первая серьезная стычка в городе. Держа в руке донесение, фон Хольтиц подошел к огромной карте города. Его пальцы заскользили по ней в поисках Обервилье. Найдя его, он вздохнул и прошептал: «Сегодня они в пригородах, завтра будут в Париже».
* * *
По всему составу прокатился грохот сцеплений, ударявшихся друг о друга, словно звенья длинной цепи. Поскрипывающие деревянные вагоны начали медленно выкатываться со станции Пантен. 2500 несчастных, так долго со страхом ждавших скрежета колес, вздохнули с облегчением. Из-за деревянных досок одного из вагонов послышались робкие звуки песни. Затем вагон за вагоном стал подхватывать, пока голоса из перегруженных телячьих вагонов не переросли в непокорный хор и торжественная мелодия не заполнила сумерки на станции Пантен. Это была «Марсельеза».
Часы с готическими фигурками на станционной башне показывали полночь. Железнодорожный рабочий с красными от слез глазами подошел к одинокой женщине, стоявшей рядом со своим велосипедом.
— Вот и все, — сказал он как можно мягче. — Они уехали.
Мари-Элен Лефошё села на велосипед и поехала домой. Там она поставила будильник на три часа и упала в кровать. Сама не зная, зачем и как, она решила следовать, насколько хватит сил, за увозившим ее мужа тюремным поездом.
21
Как и все другие жители парижского пригорода Сен-Клу, Тереза Жарийон знала, что автомобильный тоннель, выходящий на автостраду как раз под окнами ее серого каменного коттеджа, был набит взрывчаткой. Теперь эта школьная учительница пребывала в состоянии, граничащем с паникой. Ее домработница мадам Капитен, всегда располагавшая абсолютно точными сведениями, только что сообщила ей тревожную новость. По утверждению мадам Капитен, немцы готовились взорвать тоннель. Тереза Жарийон понимала: если они это сделают, ее собственный маленький домик и сотни других таких же домов в этом расположившемся на склонах холма городке исчезнут с лица земли. Тереза Жарийон предприняла единственную возможную меру предосторожности. Она извлекла из буфета фаянсовую посуду, завернула ее в старые газеты и спрятала под кровать. Затем повалила буфет на пол, открыла все окна и вышла из дома.
В этом автомобильном тоннеле, получившем у немцев кодовое название «Пилц» («Гриб»), они организовали производство торпед. До конца 1943 года завод этот поставлял торпеды для большинства немецких подводных лодок, действовавших в Атлантике. Несмотря на то, что с ростом потерь на немецком подводном флоте интенсивность подводной войны снизилась, «Пилц» продолжал полным ходом выпускать торпеды. Их складировали в бесконечных подземных пещерах по соседству с тесными отсеками, где жили согнанные туда рабочие завода.
Был лишь один способ уничтожить этот завод — взорвать его изнутри. Как раз это и собирались сделать охранявшие его военные моряки, когда туда прибыл специалист по взрывным работам 813-й саперной роты капитан Вернер Эбернах. Он приехал в «Пилц» в поисках взрывчатки, которую мог бы использовать для выполнения порученной ему задачи в Париже.
У капитана голова пошла кругом при виде зрелища, открывшегося ему в хорошо освещенных подземных помещениях «Пилца». В длинных аккуратных штабелях, поблескивая черными боками, лежало свыше трехсот торпед, заряженных и приготовленных к отправке. За ними находились сотни других, тщательно уложенных и снабженных взрывчаткой, в которые достаточно было лишь вставить детонаторы, лежавшие здесь же в специальных ящиках.
— Доннерветтер! — пробормотал Эбернах с чувством уважения. — Бог ты мой, с помощью этого мы сможем взорвать половину мостов во всем мире! — воскликнул он, обращаясь к стоявшему рядом старшему сержанту Хеггеру.
Затем капитан Эбернах повернулся к сопровождавшему его по тоннелю морскому офицеру. Сухим, профессиональным тоном он заявил: «От имени командующего округом Большого Парижа я реквизирую все материалы в этом тоннеле».
* * *
В нескольких сотнях ярдов от входа в тоннель черный «хорх» командующего округом Большого Парижа резко свернул на боковую улицу и со скрипом остановился у входа в симпатичную виллу, расположившуюся на вершине холма по улице Поццо ди Борго. Там фон Хольтица ожидал самый важный из его подчиненных — подполковник Хубертус фон Аулок, отвечавший за оборону на подступах к городу. В отделанном дубовыми панелями кабинете фон Аулока на огромной карте, разложенной на прекрасном рояле фирмы «Бехштейн», эти два человека разработали в то утро первый конкретный план обороны французской столицы.
Фон Хольтиц поправил монокль и карандашом пометил на карте линию обороны. Закончив, он повернулся к фон Аулоку. «Вы будете стоять здесь», — сказал он.
Фон Аулок взглянул на карту и с изумлением обнаружил, что линия, начертанная фон Хольтицем, образовывала 60-мильную дугу, отстоявшую намного вперед от линии обороны, предложенной ранее предшественником командующего генералом фон Бойнебургом. От Сены к западу от Пуасси она проходила вдоль западных, южных и юго-восточных подступов к городу до расположенной на берегу Марны деревни Ла-Варен-Сент-Илер, пересекая Сен-Жермен-ан-Лей, Версаль, Палезо, Орли и Вильнев-Сен-Жорж.
Фон Хольтиц знал, что Аулок не сможет удержать эту линию без существенных подкреплений. Но эти подкрепления ему обещали. До их прибытия 10 тысяч солдат Аулока смогут обеспечить прикрытие подходов к городу. В целях их укрепления Хольтиц принял предложение полковника Фрица Мейсе, командира 11-го парашютного полка. Тот предложил снять в городе все 88-миллиметровые зенитные орудия и использовать их как противотанковые пушки. Мейсе пояснил, что в городе эти орудия совершенно не нужны, поскольку союзники не собираются бомбить Париж.
Покончив с делами, Аулок предложил своему новому командующему шампанское. Его преданный адъютант капитан Тео Вульф разлил вино в хрустальные бокалы, принадлежавшие хозяину виллы — еврейскому промышленнику Штерну, который с 1939 года проживал в Нью-Йорке. Фон Хольтиц поднял бокал и предложил выпить за «трудные дни, которые нам предстоят».
22
Впереди взору Мари-Элен Лефошё предстали алеющие в лучах восходящего солнца средневековые башни собора Сент-Этьен, взметнувшиеся ввысь над городом Mo, что раскинулся на берегах Марны. Позади остались два часа и двадцать шесть миль пути, которые она преодолела, преследуя поезд, увозивший ее мужа по долине Марны в сторону Нанси и далее к Рейну. Однако вскоре ее надежды догнать этот поезд начали меркнуть. На каждой станции, где она останавливалась и наводила справки, ей сообщали одно и то же: поезд прошел здесь двумя часами ранее. И как ни старалась она накручивать педали, расстояние между ней и поездом не сокращалось. Казалось, она была обречена преследовать этот ускользающий поезд через всю Францию, все время отставая от него на два часа.
В это время Пьер находился в двадцати милях, ведя борьбу за жизнь в заполненном дымом железнодорожном тоннеле. Срочно направленное с велосипедистом на север от Парижа распоряжение руководителей Сопротивления прибыло вовремя. Сразу за тоннелем Нантей-Сааси, прорубленном в восточном скалистом берегу Марны в 46 милях от Парижа, боевики ФФИ взорвали 65 ярдов железнодорожного полотна, ведущего в Нанси. Поезд застрял.
Для ремонта разрушенного полотна немцам потребовалась бы большая часть дня. Чтобы не подвергаться риску нападения, эсэсовская охрана приказала загнать поезд обратно в тоннель. Остававшиеся за наглухо закрытыми дверями вагонов 2453 заключенных уже успели забыть первую вспышку безумной радости, прокатившуюся по составу, когда они поняли, что бойцы ФФИ разрушили полотно. Вот уже два часа паровоз испускал в тоннель черные клубы дыма. Страдающие от тошноты, впадающие в истерику, почти задыхающиеся заключенные судорожно глотали едкий дым. Пол в вагоне, где находилась Ивонна Панье, уже был скользким от рвоты. В соседнем вагоне женщины, среди которых была прелестная Жанни Руссо, были уверены, что немцы пытаются их удушить. Они слышали, как в темноте грохочут сапоги охранников, бегавших вдоль путей и выкрикивавших друг другу приказания.
И все же с каждым мгновением страдающие в удушливом тоннеле приближались к свободе. Пять человек выжидательно наблюдали за происходящим, спрятавшись за кучами камней в тополиной роще на склоне холма перед выходом из тоннеля. Это они взорвали полотно. Им было известно, что по всей долине Марны поодиночке и небольшими группами к этому холму пробираются другие бойцы ФФИ. Когда их соберется достаточно, они должны будут атаковать охрану поезда, насчитывавшую двести человек.
* * *
Это подкрепление прибудет слишком поздно. По горькой иронии судьбы эсэсовские охранники всего в трех милях от этого места набрели на единственный поезд в радиусе тридцати миль от Нантей-Сааси. То был настоящий состав для перевозки скота, стоявший на запасном пути в Нантей-сюр-Марн с грузом говядины для вермахта. Эсэсовцы выгнали животных из состава и реквизировали его под заключенных. Через некоторое время немцы вывели эшелон из тоннеля, чтобы дать возможность заключенным перейти по разрушенному полотну в другой состав. В тот момент, когда поезд показался из тоннеля, на дороге, извивавшейся вдоль реки и путей, появилась молодая женщина на велосипеде. Мари-Элен Лефошё догнала поезд. Среди черных, кашляющих существ, выбиравшихся из вагонов, она отыскала глазами Пьера. В этот миг «ничто на свете, даже СС», не могло помешать ей поговорить с мужем. Ведя рядом велосипед, она пересекла разделявшее их небольшое поле маргариток. И тогда, увидев совсем рядом его изможденную фигуру, она сделала первое, что пришло ей в голову: достала из кармана белый платок и вытерла сажу с его век.
По какой-то непостижимой причине шедший за Пьером охранник безразлично пожал плечами и позволил Мари-Элен идти рядом с этим бледным, спотыкающимся человеком, который был ее мужем. Ее юбка слегка шуршала о его истрепанные брюки, ее рука была зажата в его руке. Так она провела с ним два часа. Даже за половину всего этого она готова была гнать свой велосипед хоть в преисподнюю. Из всех тех фраз, которые они шептали друг другу во время этой жестокой прогулки, одна осталась в ее памяти на всю жизнь. Услышав ее, Мари-Элен поняла, что пытки гестапо не сломили этого сильного человека. Чувство юмора не покинуло его.
— Уж одно я могу тебе пообещать, — сказал ей Пьер. — После этой поездки я больше никогда не буду возражать против покупки билетов в спальный вагон.
23
Лейтенант Эрнст фон Брессендорф, двадцатисемилетний заместитель командира 550-й роты связи, вздрогнул при виде вспыхнувшей красной лампочки на щите коммутатора, установленного на третьем этаже отеля «Мёрис». Этот сигнал означал, что на прямом проводе с военным губернатором Парижа был Берлин или Растенбург.
Это был ОКВ, и Брессендорф тут же узнал сухой, властный голос генерал-оберста Альфреда Йодля. Слышимость была такой, как будто он говорил из Лувра. Брессендорф переключил линию на аппарат генерала фон Хольтица. Затем, вставив в гнездо коммутатора еще один штырь, с риском пойти под трибунал подслушал разговор.
От первых же слов Йодля Брессендорф вздрогнул. Тот спрашивал фон Хольтица, на какой стадии находилось выполнение приказа об уничтожении Парижа. По словам Йодля, фюрер распорядился, чтобы соответствующий доклад был подготовлен и представлен ему на полуденном стратегическом совещании, которое должно было начаться менее чем через час. Наступило молчание. Наконец Хольтиц ответил.
Он сказал, что, «к сожалению», не в состоянии начать операцию. Он пояснил, что подготовка еще продолжается; взрывники прибыли лишь 24 часа назад. Йодль был чрезвычайно расстроен. Фюрер, сообщил он Хольтицу, «проявляет большое нетерпение».
Затем Хольтиц высказал Йодлю те же аргументы, которые днем ранее приводил в штабе Западного фронта. Если действительно приступить к взрывным работам, убеждал он Йодля, то «это заставит жителей города взяться за оружие». Его предложение заключалось в том, чтобы продолжить приготовления, но задержать взрывные работы на несколько дней. Йодль ответил, что сообщит об этих предложениях фюреру и перезвонит фон Хольтицу. Но он предупредил, что рассчитывать на изменение планов не стоит. Фон Хольтиц должен закончить подготовительные работы как можно быстрее.
В завершение беседы фон Хольтиц заверил начальника штаба ОКВ, что в городе все спокойно и что «парижане не осмеливаются действовать».
* * *
В Алжире стояла изнурительная жара. Исходя отчасти из информации, привезенной Шабаном из Парижа, Шарль де Голль принял решение: он отправляется во Францию. Сидя под медленно вращающимися лопастями вентилятора, де Голль занимался тем, что составляло наиболее отвратительную часть этой поездки. Он испрашивал разрешение на нее у сэра Генри Мейтленда Уилсона — генерала, командовавшего войсками союзников в Алжире. Обязанностью Уилсона было направить просьбу де Голля на согласование в штаб Верховного командования союзников. Даже сейчас де Голль был вынужден получать согласие союзников на поездку во Францию.
Союзникам де Голль сообщал, что просто совершит обычную инспекционную поездку по той части Франции, которая уже была освобождена союзническими армиями. На самом деле он рассчитывал предпринять более серьезный шаг: перебраться вначале самому и затем перевести все свое правительство во Францию, а если еще более конкретно — в Париж. Понравится ли это союзникам, признает ли его Рузвельт или нет, но де Голль был полон решимости обосноваться вместе со своим правительством в столице Франции. Он умышленно скрыл свои намерения от Верховного командования союзников по двум причинам. Во-первых, он считал, что это не его — Верховного командования — дело. Во-вторых, он делал это, исходя из практических соображений, поскольку был убежден, что если его американские союзники догадаются о его замыслах, то постараются подольше продержать в Алжире. А именно этого он и хотел избежать. Так или иначе, но гордый полководец Свободной Франции был полон решимости добраться до родной земли и войти в Париж. Он доберется туда с помощью союзников или без нее, своими силами, и даже, если потребуется, рискуя собственной жизнью.
24
Как всегда в этот ранний час, небольшого роста мужчина в черной фетровой шляпе вошел, минуя двух немецких часовых, под арочные своды, над которыми возвышался восьмигранный купол Люксембургского дворца. Марсель Макари, смотритель дворца, был единственным французом, которому разрешалось свободно входить в это многоэтажное здание, служившее с 25 августа 1940 года штабом для генерал-фельдмаршала Хуго Шперрле и офицеров Третьего флота люфтваффе из его окружения. В то утро Макари шел быстрее обычного; он знал, что накануне, 16 августа, Шперрле и его штаб переехали в Реймс, оставив дворец прибывшим для его обороны эсэсовцам.
Для Макари их отъезд означал лишь конец короткой и требующей скорейшего забвения главы в четырехвековой истории этого здания, которое он так любил. Но этот же факт предвещал и другое событие — оно должно было вот-вот наступить — освобождение Парижа. Вскоре Макари предстояло возвратить в целости своей столице это здание, которое он охранял на протяжении последних четырех лет, как будто оно было его собственным.
Этот массивный, серого цвета дворец превратился для него почти в живое существо. Каждый раз, когда немецкий сапог вдавливал в паркет окурок, Макари почти физически ощущал ожог на собственной бледной коже.
В то утро, как это было каждое утро в течение последних четырех лет, его рабочий день начался с осмотра сокровищ дворца. Вначале библиотека, насчитывавшая 300 тысяч томов, затем над главным входом картина Делакруа «Александр после битвы при Арбеллах помещает поэмы Гомера в золотую шкатулку Дария». Каждый раз Макари смотрел на эту картину с особым чувством облегчения. Только благодаря его настойчивым уговорам ее удалось уберечь от почетного места среди сокровищ известного коллекционера — Германа Геринга.
Наконец, он проходил через Золотую комнату, откуда когда-то правила Мария Медичи, в большой салон мимо огромного полотна, с которого величественный Наполеон взирал на пирующих узурпаторов этого дворца, где он когда-то жил с Жозефиной. Затем Макари решил пройти через Двор славы. Немцы заканчивали там работы по строительству нового подземного убежища.
К своему изумлению, он, всегда имевший свободный доступ в любой уголок Люксембургского дворца, обнаружил, что путь ему преграждает автомат молодого эсэсовца. Мгновенно Макари все понял. Там были выстроены около дюжины грузовиков вермахта, с которых рабочие из ТОДТ разгружали тяжелые деревянные ящики. На каждом была надпись: «Achtung Ecrasit» и нарисован большой череп с костями. Рядом с грузовиками Макари увидел кучу пневматических дрелей и шланг для подачи воздуха. Он все понял.
Немцы собирались заминировать дворец, который он столь ревностно охранял в течение четырех лет. В отчаянии Макари мысленно перебирал возможные варианты спасения дворца. Наконец, ему пришла в голову идея. Есть лишь один человек, подумалось ему, который мог бы помешать немцам. Это был электрик по имени Франсуа Дальби. Он знал каждый дюйм электропроводки во дворце, а именно она и потребуется немцам, чтобы привести в действие взрывчатку.
Люксембургский дворец был не единственным местом в Париже, где в то утро внезапно и под покровом секретности начались приготовления, на которых настаивал Гитлер. Это были не только фабрики и электростанции.
Палата депутатов и здания на набережной Орсей, в которых располагалось Министерство иностранных дел Франции, — они образовали одну сторону ни с чем не сравнимой по красоте площади Согласия — были также заминированы. В других районах завод «Панхард» по авеню Иври, 19, выпускавший узлы к ракетам Фау-2, гигантский комплекс «Сименс-Вестингхаус» в Фонтенбло, телефонные узлы города, железнодорожные вокзалы, мосты — все это готовилось к уничтожению.
На улице Сент-Аман, около парижской городской бойни, сержанты Бернхард Блахе и Макс Шнейдер из 112-го полка связи приступили к размещению одной тонны динамита и двухсот детонаторов, с помощью которых они должны были взорвать центральную телефонную станцию Парижа. В течение четырех лет ее междугородные линии и 132 телетайпных аппарата выполняли роль военного центра связи в оккупированной Франции, который принимал и передавал сообщения по всему Западному фронту от Норвегии до Испании. Начальник сержанта Блахе обер-лейтенант Берлипш намеревался привести всю эту массу взрывчатки в действие с помощью пульта, находившегося в неприметном автомобиле, припаркованном за углом. В это время его коллега лейтенант Дауб должен будет взорвать второй по значению телефонный узел города, расположенный под могилой Наполеона в Доме инвалидов.
В отеле «Мёрис» человек, чьими усилиями были приведены в действие эти приготовления, в то утро второй раз побывал у специалистов по взрывным работам, присланным из Берлина. До обеда они обследовали пять крупнейших заводов. Среди них — автомобильный «Рено» и авиационный пионера воздухоплавания Луи Блеруа. В процессе осмотра они помечали в своих чертежах красными крестами те места, где следует разместить заряды взрывчатки. Эти чертежи и были продемонстрированы фон Хольтицу. Позднее он вспоминал, что на чертежах каждого завода было «маленькое море красных крестов».
Вернувшись к себе, он застал там начальника штаба полковника фон Унгера. Тот молча протянул ему отпечатанную на голубом бланке телеграмму из штаба Западного фронта. Она была подписана фон Клюге и носила гриф «срочно, совершенно секретно». Внимание фон Хольтица немедленно привлекло одно предложение в конце четвертого параграфа за номером 6232/44. Оно гласило: «Приказываю начать в Париже предусмотренные действия по нейтрализации и уничтожению».
* * *
Среди беспорядка и хаоса, царивших в опустевшем отеле «Мажестик», метались два человека, отчаянно пытавшихся заполучить подпись. Однако в то утро в этих пустынных и замусоренных коридорах, казалось, не было уже никого, кто мог бы ее поставить. Швед Рауль Нордлинг и его верный союзник Бобби Бендер, по-видимому, прибыли слишком поздно.
Здесь они надеялись завершить четырехдневные усилия, чтобы взять под свое покровительство 3633 политических заключенных, еще оставшихся в Париже, и таким образом спасти их от неминуемой резни. Полчаса назад фон Хольтиц сказал им, что «ему наплевать на политических заключенных». Он был бы готов заключить соглашение об их освобождении при условии, что оно будет подтверждено подписью офицера из штаба оккупационного командования «Франкрейха», от которого он зависел. Для Нордлинга и Бендера это было первым просветом за четыре дня.
Оба они вздрогнули, когда услышали резкий металлический удар, эхом разнесшийся по пустым коридорам. Это майор Йозеф Хухм, начальник штаба оккупационного командования, со злостью захлопнул ящик металлического шкафа. Рядом в камине догорали последние бумаги. Хухм, возможно, был последним офицером, остававшимся в этом огромном отеле. Через несколько минут он сядет в штабную машину, ожидавшую его на авеню Клебер, и направится на восток догонять своих коллег по штабу.
Когда Нордлинг и Бендер ворвались в его кабинет, немец вначале слушал их объяснения с явным нетерпением. Наконец, он сказал, что без разрешения своего начальника, генерала Китцингера, который находился уже в Нанси, он ничего сделать не сможет. Однако от шведа не так легко было отделаться. Он заявил Хухму, что уполномочен предложить «пять немецких солдат за каждого французского политзаключенного, освобожденного оккупационным командованием». Это произвело впечатление на Хухма. Он поинтересовался, какие гарантии может предоставить Нордлинг.
Нордлинг торжественно заверил, что у него есть «все полномочия от самых высоких инстанций союзников». Это уже заинтересовало Хухма. Он будет готов, заявил он Нордлингу, изучить предложение, если оно будет составлено в надлежащей юридической форме. Затем он взглянул на часы. Был полдень. «Через час, — предупредил он Нордлинга, — я должен уехать».
Швед и Бендер выскочили из гостиницы и разыскали юриста, чтобы облечь сделку с человеческим товаром в приемлемую для тевтона юридическую форму. Хухм, будучи, вероятно, убежден, что вернул рейху 15 тысяч солдат, поставил свою подпись под документом из 12 пунктов. Немецким администрациям тюрем предписывалось передать всех политических заключенных из пяти тюрем, трех лагерей и трех госпиталей под попечительство Нордлинга. Когда Хухм расписался, Нордлинг посмотрел на часы. Был час дня. За последние час с четвертью он уговорил немцев заключить соглашение, которое должно было спасти жизни сотням французов.
* * *
Во дворе тюрьмы «Френе» шведский генеральный консул Рауль Нордлинг наблюдал, как заключенные выстраивались для переклички. Их было 532, включая трех человек, приговоренных к смерти. Нордлингу пообещали, что на следующий день они будут отпущены.
Нордлинг с нетерпением наблюдал за этой сценой. Дел еще было много. Нужно было навестить еврейских беженцев в Дранси, Роменвильскую тюрьму и лагерь за пределами Парижа, в Компьене. Затем он надеялся остановить поезд, увозивший Пьера Лефошё, Ивонну Панье и еще 2451 человека в Германию.
* * *
Дитрих фон Хольтиц попросил карту Парижа. Его рука покружила над ней, после чего толстый палец генерала наугад воткнулся в ее поверхность. «Предположим, — сказал он, вглядываясь в то место, куда попал его палец, — в одного из моих солдат выстрелили здесь, на авеню Опера. Я сожгу все дома в этом квартале и перестреляю всех жителей».
Для достижения этой цели, заверил он своего посетителя, у него достаточно средств. В своем распоряжении он имеет 22 тысячи солдат, в основном СС, сотню «тигров» и 90 самолетов.
Пьер Шарль Теттинже, вишистский мэр Парижа, почувствовал озноб. Сюда его привел анонимный звонок. «Немцы, — предупредил неизвестный, — начали эвакуацию из зданий, прилегающих к парижским мостам. Они собираются их взрывать». Теперь, наблюдая за этим прусским толстяком, столь обыденным голосом угрожающим стереть с лица земли целые районы Парижа, Теттинже мог заметить лишь «мрачную решимость». Он пришел в надежде встретить человека, готового прислушаться к голосу разума; перед ним же был солдафон.
Вновь повернувшись к карте, фон Хольтиц скользнул пальцем вдоль крутых изгибов Сены. «Как офицер, господин Теттинже, вы поймете, — продолжал он, — что я должен принять в Париже некоторые меры. Я считаю своей обязанностью, насколько это возможно, замедлить продвижение союзников».
Сухим хриплым голосом фон Хольтиц уточнил, что он собирается сделать: взорвать городские мосты, электростанции, железные дороги, линии связи.
Оглушенный, Теттинже сидел молча. Этот человек, подумал он, «готовится уничтожить Париж с таким безразличием, будто это деревушка на пересечении дорог где-нибудь на Украине».
Назначенный Виши мэр не питал иллюзий по поводу остававшейся в его руках власти. В это августовское утро он мог сделать лишь одно: попытаться каким-то образом передать этому антипатичному вояке хоть каплю своей привязанности к Парижу. Холодная злость фон Хольтица внезапно и неожиданно дала Теттинже такую возможность. Распираемый эмоциями, коротышка-генерал разразился приступом астматического кашля. Теттинже предложил выйти на балкон, с которого взору открывались скульптуры в саду Тюильри.
Разглядывая простиравшийся вокруг мирный пейзаж, Теттинже нашел аргумент, которого ему не хватало. Внизу, на улице Риволи, проезжавшая на велосипеде хорошенькая девушка в цветастом платье одергивала взметнувшуюся вверх юбку. Чуть дальше, посредине зеленых лужаек Тюильри, будущие мореходы устремляли свои парусники в просторы круглого пруда Ленотра. Через реку в лучах полуденного солнца блестел золотой купол Дома инвалидов, а за ним в безоблачное небо устремлялась Эйфелева башня.
Привлекая внимание к развернувшейся перед ними панораме, Теттинже предпринял отчаянную попытку пробудить чувства в этом казавшемся бесчувственном солдафоне. Слева он указал на серые крылья Лувра, холодным каменным объятием удерживающие внутренние зеленые сады; справа — на безупречную симметрию площади Согласия.
— Генералу, — сказал Теттинже, — приходится чаще уничтожать и реже оберегать. Представьте себе, что однажды вы вновь окажетесь на этом балконе, в качестве туриста, вновь увидите эти памятники нашим восторгам и страданиям и скажете: «Однажды я мог все это уничтожить, но сохранил как подарок человечеству». Генерал, неужели это не стоит всей славы завоевателя?
Фон Хольтиц молчал. Затем повернулся к Теттинже. Теперь его голос стал мягче. «Вы хороший адвокат Парижа, господин Теттинже, — сказал он. — Вы выполнили свой долг. А я, как германский генерал, должен выполнить свой».
25
Легкий летний ветерок доносил визг детей, игравших в саду Тюильри, до балкона отеля «Мёрис», на котором фон Хольтиц, теперь уже в одиночестве, размышлял над словами Пьера Теттинже. Однако долго раздумывать ему не пришлось. Он услышал голос фон Унгера, а затем, прежде чем начальник штаба смог объявить о его приходе, в кабинет ворвался человек в длинном кожаном пальто.
«Фельдмаршал Модель», — объявил фон Унгер. Хольтиц вздрогнул, услышав это имя и увидев перед собой покрытого пылью человека, чью едкую усмешку он так хорошо знал. Что нужно здесь командующему группой армий на Украине? Взмахнув фельдмаршальским жезлом, Вальтер Модель ответил на его молчаливый вопрос. Он прибыл, чтобы заменить фон Клюге на должности главнокомандующего Западным фронтом. У него приказ — удерживать Париж и Сену любой ценой. Он язвительно заметил, что в целом его задача — восстановить порядок в том хаосе, который царил на Западном фронте, то есть сделать то, что действительно уже было необходимо, судя по количеству дезертиров, попадавшихся Моделю на глаза по всей дороге от Меца до Парижа.
Как и все в германской армии, фон Хольтиц знал о репутации Моделя. Он был ярым нацистом, человеком несгибаемой воли и огромного личного мужества. Он также был вспыльчив и склонен принимать необдуманные, поспешные решения. Через несколько дней в своем донесении офицер разведки союзников напишет о нем: «Известно, что он лично предан Гитлеру и больше всего любит, чтобы его просили сделать невозможное».
Его прибытие было неприятным сюрпризом для фон Хольтица, мало верившего в разумность решений Моделя. Он был уверен: Модель без колебаний предоставит ему честь стереть Париж с лица земли; фон Хольтиц знал, что образ мыслей Моделя был «типичным для человека с Восточного фронта».
Однако его прибытие все же давало некоторую передышку. У фон Хольтица появилась возможность отложить взрывные работы вопреки приказу фон Клюге, поступившему сегодня утром. Он сказал Моделю, что это было бы поспешным действием. Это может вызвать лишь волнения среди гражданского населения и даже помешать приготовлениям к обороне города. Модель согласился с ним. Он распорядился не предпринимать никаких действий до тех пор, пока не осмотрится на своей новой должности.
Однако передышка, которую получил фон Хольтиц, оказалась не слишком долгой. Когда он провожал Моделя к «хорху», который должен был доставить фельдмаршала в его новую резиденцию, этот властный человек обернулся к коменданту Парижа. Рядом с фон Хольтицем стоял его молодой адъютант граф фон Арним, который в тот вечер записал слова Моделя — для потомства — в своем дневнике с обложкой из зеленой кожи.
— Поверьте мне, Хольтиц, — сказал Модель, — на то, что мы сделали в Ковеле за 40 минут, в Париже потребуется 40 часов. Но когда мы закончим, этот город будет уничтожен[18].
26
Для толпы, кружившей ранним утром по улице Севр, вокруг универмага «Бон марше», они были еще одной влюбленной парой. Почти касаясь друг друга лбами, они опирались на два велосипеда, тесно прижатых друг к другу на обочине, и о чем-то перешептывались. Девушка нежно привлекла его к себе и провела руками по волосам. В этот момент ловкие пальцы юноши перевесили крохотный велосипедный насос с его велосипеда на ее.
Девушка спокойно доехала домой и поднялась по трем лестничным пролетам в свою квартиру на улице Седийо. Заперев за собой дверь, она взяла с полки альбом по фламандской живописи в красном кожаном переплете, перелистала его, пока не нашла цветную репродукцию малоизвестной картины Брейгеля, и, зажав страницу между большим и указательным пальцами, вытянула из-под цветной репродукции листок папиросной бумаги. Затем отвинтила основание маленького велосипедного насоса, который передал ей ее возлюбленный, и извлекла оттуда еще один листок бумаги. Разгладив оба листка на столе, она приступила к работе.
Девушку звали Жоселин. Она была одной из двух шифровальщиц Сопротивления в Париже. На листке, который она прятала на книжных полках, содержалась информация, за которую гестапо заплатило бы по-королевски — кровью и золотом: шифр штаба голлистского движения во Франции. Жоселин была звеном в сложной цепочке, по которой все донесения поступали из Парижа в штаб «Свободной Франции» в Лондоне. Три радиопередатчика действовали в Париже и еще три — в пригородах. Парижские передатчики работали по четным дням, а пригородные — по нечетным. После обеда, когда шифровка будет завершена, Жоселин передаст сообщение, полученное ею у универмага «Бон марше», другому велосипедисту на набережной Вольтера. Тот, в свою очередь, доставит его в комнату горничной под самым карнизом дома № 8 по улице Вано. Там в нише над ржавым бачком унитаза находился один из передатчиков.
Долго обучавшаяся не читать зашифровываемые ею сообщения, Жоселин не обратила внимания и на это, аккуратно расправленное на рабочем столе. Это было первое после возвращения донесение Шабана в Лондон. Но при взгляде на последний из пятизначных блоков шифровки она вздрогнула. Тогда она вернулась к началу текста и вопреки инструкции прочла его.
«СИТУАЦИЯ В ПАРИЖЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НАПРЯЖЕННАЯ. ЗАБАСТОВКА ПОЛИЦИИ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, ПОЧТЫ И УСИЛИВАЮЩАЯСЯ ТЕНДЕНЦИЯ К ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ. ВСЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВОССТАНИЯ, СОЗДАНЫ.
ЛЮБОГО МЕСТНОГО ИНЦИДЕНТА — СПОНТАННОГО, СПРОВОЦИРОВАННОГО ПРОТИВНИКОМ ИЛИ ДАЖЕ НЕТЕРПЕЛИВЫМИ ГРУППАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ — БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ С КРОВАВЫМИ РЕПРЕССИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕМЦЫ, ПО-ВИДИМОМУ, УЖЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ И СОБРАЛИ НЕОБХОДИМЫЕ СИЛЫ. СИТУАЦИЯ УХУДШАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗДЕЙСТВИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ: НЕТ ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОЛТОРА ЧАСА В ДЕНЬ, В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ОТСУТСТВУЕТ ВОДА, ПОЛОЖЕНИЕ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ. НЕОБХОДИМО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ К СОЮЗНИКАМ С ПРОСЬБОЙ О БЫСТРОЙ ОККУПАЦИИ ПАРИЖА. ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДУПРЕДИТЕ НАСЕЛЕНИЕ В САМЫХ РЕЗКИХ НЕДВУСМЫСЛЕННЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ, ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ БИ-БИ-СИ, О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗБЕЖАТЬ НОВОЙ ВАРШАВЫ».
«Варшава», — подумала Жоселин. Неужели дело дошло до этого? Под окном она видела мягкую зелень верхушек деревьев, вытянувшихся вдоль Марсова поля к подножию Эйфелевой башни. Неужели, спрашивала она себя, ничего этого в конце концов не останется?
* * *
В семи милях к югу от Парижа, в районе Пти-Кламар, находилась кольцевая дорожная развилка, украшенная ржавой вывеской, рекламирующей мыло фирмы «Кадум». Полковник Роль подкатил на велосипеде по отливающему черным блеском парижскому шоссе, повернув на кольцо, затем неторопливо объехал вокруг центрального островка и затормозил у устранявшего поломку велосипедиста. Мужчины кивнули друг другу. Роль спросил, не нужна ли помощь. Они перебросились еще несколькими словами, после чего мужчина, ремонтировавший велосипед, встал и уехал. Роль последовал за ним.
Шесть раз за последние три часа Раймон Боке, шахтер из Лилля, разыгрывал эту маленькую сценку, которую только что завершил под ржавой вывеской «Кадум». Каждый раз он вел за собой нового попутчика и, как намеревался проделать и с Ролем, доставлял своих благожелателей к крытой жестью лачуге по улице Алсас, 9, в Кламаре. Там, в глубине чахлого огорода, обнесенного обшарпанным штакетником, в тесной комнатушке размером с келью монаха сидели пять членов Парижского комитета освобождения.
Андре Толле, вспыльчивый, небольшого роста коммунист, возглавлявший этот комитет, принял первое в тот день решение: курить никто не будет. Толле хотел быть уверен, что ничто не выдаст их местонахождение в тот день.
Он не мог допустить, чтобы совещание было чем-то прервано. Он созвал этих людей в заброшенную лачугу для принятия самого важного из всех решений, которые когда-либо поручались его комитету. Толле хорошо понимал, что это решение может привести к полному уничтожению самого прекрасного в мире города и стоить жизни, может быть, тысячам его жителей. В этом жалком домишке в конце проселочной дороги Андре Толле предложил четырем другим участникам дать согласие на вооруженное восстание на улицах Парижа.
Даже такой убежденный сторонник подобного решения, как Толле, позднее вспоминал, что «шансов почти не было». Он предвидел, что его решение обрушит на Париж «массовые репрессии». Однако двумя сутками ранее Толле получил приказ партийного руководства. Он не мог покинуть этого заседания, не заручившись поддержкой, которая придала бы вид политической законности тому делу, которое они собирались начать на следующий день, чего бы это ни стоило. Даже плакаты с призывом к горожанам взяться за оружие уже были отпечатаны и тщательно припрятаны на чердаке фабрики в Монруже.
План партии был прост: как только восстание начнется, считали ее руководители, остановить его будет уже невозможно. На этом тайном совещании комитета им необходимо было получить политическое прикрытие, оправдывавшее их действия. Затем они начнут восстание, его поддержат тысячи патриотически настроенных членов ФФИ, которые не были коммунистами, но горели желанием сражаться с немцами. К тому времени, когда гол-листы узнают об их решении, дело уже будет сделано. Восстание уже будет идти полным ходом под руководством коммунистов. Существенным моментом этого плана было: скрывать его от Шабана, Пароди и других руководителей голлистов до тех пор, когда остановить восстание они уже не смогут.
Через два часа пятеро собравшихся один за другим незаметно покинули укрытие. Последним уходил Толле. Он был счастлив и полон решимости. Он победил. Он и партия, которую он представлял, получат свое восстание — восстание, которое запретил Шарль де Голль и союзники. Оно начнется втайне от Шабана и руководителей голлистов на следующее утро.
* * *
В самом конце перрона, в дальнем углу станции Нанси, который указал ей сочувствующий железнодорожник, Мари-Элен Лефошё возобновила свое дежурство. За два с половиной дня без сна и отдыха она преодолела 183 мили — три четверти пути в Германию. На душе у нее было тяжело; двигаться дальше не было сил.
Как и в день Успения, лучи палящего солнца били в состав сквозь ажурные переплеты крыши, переброшенной через перрон. Мари-Элен слышала слабые, полные отчаяния голоса людей, моливших о глотке воды. Время от времени раздавался еще более страшный звук: дикий вопль бьющегося в истерике заключенного.
Через некоторое время — она не помнила, сколько ей пришлось ждать, — вокруг состава забегала охрана и железнодорожники. Усилия генерального консула Нордлинга и Бобби Бендера в Париже увенчались успехом, но остановить этот последний эшелон им не удалось. Гестапо ни за что не хотело уступать добычу — этот груз человеческих страданий.
При первом рывке локомотива раздался короткий, отозвавшийся эхом удар вагонов друг о друга. Затем медленно длинный состав начал выползать со станции. Через закрытые двери уходящего поезда до слуха Мари-Элен вновь, как и на станции Пантен, донеслись гордые слова «Марсельезы». Набирая скорость, поезд вышел из-под станционного навеса под палящие лучи солнца и скрылся в конце перрона. Она не двигалась до тех пор, пока еще были видны его уменьшающиеся очертания, пока в тишине опустевшей станции не затихло эхо последнего гудка.
Когда она повернула назад, поезд уже карабкался через холмистые виноградники Эльзаса в сторону Страсбурга и Рейна. Больше он не останавливался, пока не доставил 2453 пассажиров к воротам Равенсбрюка и Бухенвальда. Из этих 2453 непокорных мужчин и женщин во Францию вернутся меньше трехсот.
* * *
Стоявший на балконе мужчина наблюдал, как девушка в белой блузке и полосатой юбке поворачивала за угол улицы Монмартр. Когда девушка скрылась из виду, тридцатичетырехлетний Ив Байе достал из кармана изготовленную из эрзац-табака сигарету, прикурил и с облегчением затянулся. «На этот раз сработает», — подумал Байе. Байе возглавлял голлистский отряд Сопротивления в парижском полицейском корпусе, то есть одну из трех организаций, боровшихся за контроль над теми 20 000 человек, которых хотел подчинить себе Роль. Сюзанна, его связная, везла к Шатильонским воротам три конверта, спрятанных в подкладку сумки, висевшей у нее на плече. В этих конвертах находились три идентичных сообщения — по одному для каждой из полицейских групп Сопротивления. Это были самые важные сообщения, которые ему когда-либо поручали отправить.
Было почти восемь вечера. В девять комендантский час отрежет город от внешнего мира на целую ночь. Ив Байе знал, что у Сюзанны было достаточно времени, чтобы доставить все три конверта по месту назначения — в кафе, куда Байе направлял донесения для последующей передачи, — и вернуться обратно. Он улыбнулся при мысли, что в эту ночь комендантский час генерала фон Хольтица послужит делу генерала де Голля. Комендантский час помешает одному из трех конвертов, которые везла Сюзанна, попасть в место назначения. Именно это и было нужно Байе. Сообщение, которое в эту ночь не дойдет до места, было адресовано самому крупному и мощному отряду Сопротивления в полиции, контролировавшемуся коммунистической партией. Этой ночью коммунисты станут жертвами собственной одержимости конспирацией. В отличие от двух других подпольных групп, коммунисты получали сообщения не через один, а через два промежуточных пункта доставки. Поэтому отправленное с Сюзанной сообщение пролежит всю ночь в их втором почтовом ящике.
Александр Пароди, политический глава голлистского Сопротивления во Франции, получил информацию от гол-листа, тайно внедренного в комитет Андре Толле, что коммунисты начнут восстание на следующий день. Узнав эту ошеломляющую новость, Пароди принял смелое решение.
Если коммунисты решили действовать, он тоже будет действовать. Только он будет действовать быстрее. Он лишит их наиболее важного общественного здания в Париже, города в городе, каковым была Префектура полиции. В доставленных Сюзанной записках содержался приказ полицейским Парижа собраться на следующий день, 19 августа, в 7 часов утра на улицах, прилегающих к огромной каменной крепости, расположенной недалеко от Нотр-Дам. Оттуда под руководством Байе они пойдут на штурм Префектуры полиции.
В туалете кафе Сюзанна извлекла записки из своей сумки. Через несколько минут она передала их сыну владельца кафе, просунув под деревянный поднос, на котором он подал ей эрзац-лимонад. Было 8.30. Байе рассчитал все точно. Завтра под восемьсотлетними стенами собора Нотр-Дам полицейские Парижа соберутся для выполнения первой задачи восстания, столь тщательно подготовленного коммунистами. Но коммунистическая партия не будет присутствовать на этом рандеву.
* * *
С высоты десяти тысяч футов капитан Клод Ги наблюдал, как Атласские горы Марокко, залитые пурпуром в лучах заходящего солнца, медленно проплывали под крыльями его «локхида», носившего название «Франция». Напротив него, накрепко пристегнутый к креслу, с вызывающе торчащей изо рта сигарой сидел, глядя прямо перед собой, Шарль де Голль. Ги знал, де Голль терпеть не мог летать. Он редко разговаривал в полете. И на этот раз генерал едва ли сказал пару слов с того самого момента, как три часа назад они вылетели из Алжира, начав первый этап самого важного, вероятно, перелета, который совершил де Голль с июня 1940 года, когда покинул Францию. Он с головой ушел в свои мысли.
Первый из тех инцидентов, которые буквально преследовали его на всем пути, уже задержал их вылет из Алжира в Касабланку на семь часов. Беспокоясь по поводу того, что самолет де Голля не обладал ни дальностью полета, ни запасом горючего, требовавшегося для перелета из Гибралтара в Шербур, американское командование в Алжире предоставило в его распоряжение самолет В-17 с американским экипажем. Де Голль нехотя принял эту помощь. Но затем, при посадке в алжирском аэропорту Мезон-Бланш, где находился де Голль, В-17 проскочил посадочную полосу и сломал шасси. Де Голль был убежден, что этот несчастный случай — часть преднамеренного плана американцев задержать его возвращение во Францию. Глядя на поврежденный самолет, он заметил: «Надеюсь, вы не думаете, что они подсовывают мне свои самолеты лишь из чувства доброй воли?»
Однако, считал Ги, эти проблемы были на время забыты. В Касабланке их ждал другой В-17. Мысли сидевшего напротив человека витали вокруг гораздо более сложных вопросов, которые предстояло решить. Для де Голля это было началом конца длинной дороги, на которую он вступил в одиночестве, обратившись с воззванием 18 июня 1940 года. В конце этой дороги находился Париж, город, который де Голль четыре года назад покинул как никому не известный бригадный генерал. Для того чтобы вернуться туда, де Голль был готов пойти против воли союзников, задушить своих политических противников, даже рисковать собственной жизнью. Именно там и только там будет получен ответ на предложение, которое стояло за его смелым шагом, предпринятым четыре года назад.
Позже покажется странным, что он не знал, каков будет этот ответ. Но в тот момент, когда они летели в окрашенном закатом африканском небе, Ги понимал, что де Голль все еще мучается сомнениями и вопросами. И прежде всего он по-прежнему не знал, готов ли народ Франции признать его своим лидером. Де Голль хорошо понимал: есть лишь одно место, где он может получить ответ на этот вопрос, — улицы Парижа.
Всего через неделю на этих улицах меланхоличному пассажиру «Франции» предстояла встреча с историей.
Часть вторая Борьба
1
19 августа
Воздух был влажным и тяжелым. С севера на Монмартр накатывались, обещая пролиться дождем, огромные серые тучи. По тихим улицам города спешили в свои бараки последние немецкие патрули. Комендантский час закончился. Вскоре столичные хозяйки выстроятся в унылые голодные очереди в ожидании ежедневного куска черного хлеба. По отработанной и надоевшей за четыре года привычке Париж пробуждался навстречу еще одному дню оккупации. Но этот день будет особым. Начиная с этого серого утра солдаты вермахта уже никогда не смогут считать улицы Парижа своими.
В разбросанных по всему Парижу квартирах и гостиничных номерах, в сотнях домов и тайных убежищ, где скрывались полицейские, сотни полных решимости мужчин уже начали сборы, откликнувшись на призыв доставленных Сюзанной посланий. После сонного поцелуя и ненавистного эрзац-кофе они покидали свои дома и поодиночке или небольшими группами, пешком или на велосипедах стекались по улицам Парижа к собору Нотр-Дам. Там через некоторое время эти полицейские сыграют первый смелый акт в освобождении Парижа и впервые продемонстрируют оккупантам реальную возможность отмщения, скрывающуюся за внешним спокойствием города.
Эта суббота станет памятным днем и для многих простых парижан.
Стоя за пустым прилавком своей мясной лавки, Луи Берти ожидал обычных субботних посетителей — группу охранников из расположенной по соседству тюрьмы «Мон-Валерьен». Каждую субботу, храня своеобразную верность этому заведению, они использовали его мясоразделочную машину для нарезания на ломти недельного запаса колбасы. Он ненавидел их: в своей лавке Берти мог по залпам, раздававшимся из-за стен «Мон-Валерьен», определить, когда специальная команда из их числа ежедневно расстреливала его соотечественников[19].
Но до прихода охранников к Берти зашел другой, совершенно неожиданный, посетитель — человек «из Задига». Это была кодовая фраза, означавшая, что отряд Сопротивления, к которому принадлежал Берти, переходил к открытым действиям. Берти взял кольт 45-го калибра. Он позвал своего восемнадцатилетнего соседа Пьера Ле-Гана, горевшего желанием присоединиться к людям «из Задига», и вручил ему пистолет калибра 6,35 мм, который его жена прятала в кассе. Затем, нацепив на руку повязку, на которой было выведено «Свобода или смерть», Берти отправился сражаться с оккупантами.
На противоположном от мясной лавки Берти конце Парижа веселый толстый человек в голубом берете опрокинул утреннюю рюмку коньяка и поднялся в кабину грузового «ситроена Р-45», работавшего на дровах. Он был угонщиком. Но его действия были законными. С 1 августа Поль Парду, запасшись фальшивыми документами, очистил 23 из 30 тайных складов продовольствия, созданных ненавистной вишистской милицией, и доставил отрядам Сопротивления 180 из 250 тонн запасов, которые милиция приберегала как раз на такие чрезвычайные обстоятельства.
Сегодня Парду согласился на последнее, особое задание. Он собирался угнать оружие. Он должен будет вывезти его из склада милиции и доставить группе бойцов ФФИ, которая собиралась захватить мэрию Ле-Перрё. Заводя свой «газожен», Парду дал себе обещание, что эта поездка будет последней.
* * *
Одинокая фигура в черной сутане медленно и с достоинством двигалась через мост Понт-о-Дубль. Глаза аббата Роберта Лепутра, тридцати пяти лет, как и ежедневно в этот утренний час, были прикованы к требнику, который он держал перед собой. Он редко отступал от этой привычки. К тому времени, когда он дочитает последние строки, аббат Лепутр подойдет к кованым воротам Св. Анны собора Нотр-Дам, где должен будет прочесть утреннюю мессу. В этот момент часы на башне госпиталя «Отель-Дьё» пробьют семь.
В то утро тихий служитель церкви так и не дочитал свой требник. Когда он подошел к площади перед Нотр-Дам, обычно пустой в этот ранний час, глазам его предстало незабываемое зрелище. В беретах, шляпах или с непокрытой головой, в пиджаках, свитерах или одних рубашках сотни молчаливых мужчин двигались в сторону ворот Префектуры полиции. Буквально через несколько секунд аббат Лепутр увидел, как в небе над мрачными серыми крышами Префектуры развернулось на ветру полотнище. Впервые за четыре года, два месяца и четыре дня трехцветный французский флаг официально развевался на здании в столице Франции. Аббат Лепутр захлопнул требник и сунул его в складки сутаны. Охваченный любопытством, он присоединился к людскому потоку, вливавшемуся в здание Префектуры. В предстоящие семь лихорадочных и героических дней в этом осажденном здании, давшем сигнал к восстанию, будет свой капеллан.
* * *
Амеде Бюссьер, префект парижской полиции, проснулся, когда дневной свет уже пробивался сквозь ставни на окнах его спальни. Последние четыре дня Бюссьер был капитаном покинутого командой корабля. Бастующие полицейские бросили его.
Протянув руку к стоящей рядом тумбочке, префект позвонил своему слуге. Через пять минут полный достоинства, как английский дворецкий, Жорж принес Бюссьеру завтрак.
— Есть что-нибудь новенькое, Жорж? — спросил Бюссьер.
— Да, господин префект, — ответил Жорж, не меняя выражения лица, — новости есть. Они вернулись.
Бюссьер натянул тапочки и выскочил в коридор к ближайшему окну, выходившему в огромный, замкнутый со всех сторон двор Префектуры. Пораженный увиденным внизу, он нервно теребил лацканы халата. Там, во дворе, он увидел сотни людей — вооруженных пистолетами, ружьями, гранатами, — собравшихся вокруг черного «ситроена» и слушавших долговязого блондина в клетчатом костюме, на рукаве которого была трехцветная повязка.
Громким голосом Ив Байе провозглашал: «От имени Республики и Шарля де Голля я вступаю во владение Префектурой полиции».
Когда смолкли сопровождавшие его слова приветственные выкрики, где-то заиграла труба и из переполненного двора до слуха Бюссьера стали долетать сильные, волнующие слова «Марсельезы».
Их услышал и одинокий велосипедист, проезжавший в тот момент под окнами Префектуры. Он остановился послушать. Ничто в то утро не могло удивить руководителя коммунистов Роля больше, чем доносившиеся из здания Префектуры звуки распеваемой в полный голос «Марсельезы». Ни один из тщательно разработанных приказов, спрятанных в спальный мешок, который был привязан к велосипеду Роля, не предусматривал захвата этого внушительного здания. Удивленный и раздосадованный, Роль попытался войти в Префектуру, но его не пустили. Такой оборот дела подтвердил его подозрения: кто-то пытался помешать ему руководить восстанием.
Он доехал до находившегося поблизости гаража, развернул спальный мешок и надел краги и китель со стоячим воротничком от формы, которую в последний раз носил в поезде, вывозившем интернациональные бригады из обреченной Барселоны. В таком виде, символизировавшем занимаемую им должность, Роль направился в Префектуру полиции, намереваясь установить свою власть над этими самовольными повстанцами, которые создавали угрозу его руководящей роли в этом тщательно подготовленном восстании.
Роль опоздал на час. Примерно в это же время Ив Байе выбрался из полицейской машины и подошел к бледному мужчине, читавшему газету на террасе кафе «Де-Маго».
— Господин префект, — сказал Байе, — Префектура захвачена. Она ваша.
Мужчина улыбнулся, встал, надел фетровую шляпу, роговые очки и последовал за Байе к машине. Семью днями ранее по приказу Шарля де Голля Шарль Луизе приземлился на парашюте в южной Франции. Он был послан с особым заданием — стать деголлевским префектом полиции. Ему поручалось обеспечить, чтобы жизненно важные полицейские силы Парижа оставались в руках голлистов, а не коммунистов. Через некоторое время этот тихий человек станет первым должностным лицом, назначенным де Голлем для работы в Париже. Первый раунд голлисты выиграли. Здание, которое должно было превратиться в символ восстания, подготовленного коммунистами, было в их руках. Это будет прочная скала, на которую они смогут опереться в предстоящие дни.
* * *
В тот момент, когда Луизе появился в Префектуре, некий застенчивый человек с двумя чемоданами вошел туда через боковую дверь и направился в полицейскую лабораторию. Из чемоданов он достал восемь бутылок серной кислоты и несколько фунтов бертолетовой соли. Закатав рукава, Фредерик Жолио-Кюри взял эти бутылки, одолженные в лаборатории, в которой его теща открыла радий, и начал приготовлять «коктейль Молотова» для защиты Префектуры.
2
Если не считать неожиданной неудачи в Префектуре, тщательно подготовленное Ролем восстание быстро и эффективно распространялось по столице. Приказы, выполнение которых началось в то утро, были скрупулезно проработаны и разосланы в предыдущие четыре дня. Заместитель Роля по Парижу — худощавый школьный учитель, известный в Сопротивлении под именем «Дюфрен», всю ночь трудился над завершением последних из этих приказов, сидя в душной спальне рядом с авеню Фош и прислушиваясь к шагам часовых гестапо за углом. В семь утра он передал их посыльным на набережной Конти, почти под носом у немцев. С рассвета коммунисты оклеивали стены города плакатами, призывавшими к «всеобщей мобилизации».
Перед Ролем и его подчиненными в то утро стояли весьма сложные задачи: налаживание связи и взаимодействия, организация штаба, доставка оружия из тайников и распределение его среди бойцов ФФИ. На телефонных станциях города отряды Сопротивления выполнили первую и одну из наиболее важных задач, которая впоследствии значительно облегчила положение восставших: они уничтожили немецкие подслушивающие устройства.
Для рядовых бойцов Роля в этой партизанской войне работа была простой: «Каждому по бошу». Начиная с семи утра бойцы ФФИ приступили к выполнению этого приказа по всему Парижу. Небольшими группами они начали охотиться за немецкими солдатами и автомашинами и атаковать их, где бы они ни находились. Прежде всего их целью было добыть оружие, отняв его у немецких оккупантов.
К девяти часам перестрелка уже шла по всему Парижу. Первое донесение о восстании привело фон Хольтица в недоумение и ярость. Для него это было полной неожиданностью. Ни одна из подчиненных ему разведывательных служб не предупредила его, если не считать нескольких самых общих фраз о «волнениях» среди гражданского населения. В его собственном докладе в штаб группы армий «Б» и командованию Западного фронта, сделанном за несколько минут до первых сообщений, оптимистически утверждалось, что в городе царит «полное спокойствие». Первые же нападения были совершены в самых различных местах и казались столь целенаправленными, что Хольтицу сразу стало ясно: «ими кто-то руководит».
За первые два часа лицо города изменилось. Теперь в воздухе пустынных улиц чувствовалось что-то угрожающее и зловещее. Немногочисленные прохожие с опаской перебегали от одной двери к другой. Велосипедисты прижимались поближе к тротуарам, и время от времени мимо изумленных консьержек на большой скорости проносились автомашины, на бортах которых красовались наспех выведенные белой краской буквы ФФИ. Но более всего то утро отличал новый звук, который парижские улицы не слышали с 1871 года. Это был звук ружейных выстрелов.
Для небольшой группы людей, собравшихся в салоне в стиле ампир на улице Бельшасс, в нескольких кварталах от Сены, звуки этих выстрелов были неприятным напоминанием сказанного Жаном Полем Сартром: «Пока мы спорим, жребий уже брошен». Члены Национального комитета сопротивления (НКС), высшего политического органа Сопротивления, были вызваны в этот салон, чтобы одобрить восстание, которое накануне было объявлено в Кламаре Парижским комитетом освобождения — органом, теоретически подчиненным НКС. В тот самый момент, когда председательствующий Жорж Бидо объявил: «Мы собрались здесь, чтобы обсудить предложение о начале восстания», залп ружейного огня этого самого восстания прокатился эхом по прилегающим к зданию улицам. Профсоюзный вожак с железной волей, коммунист Андре Толле поставил своих коллег, как он и рассчитывал, перед свершившимся фактом. Восстание будет продолжаться, заявил он собравшимся, независимо от того, поддержат они его или нет.
Спокойного, чем-то напоминавшего школьного учителя человека, представлявшего в этой комнате Шарля де Голля, слова Толле поставили перед дилеммой. Александр Пароди был убежден, что «для коммунистов восстание было в такой же мере и политическим шагом, и стремлением ускорить поражение немцев». Тем не менее, санкционировав захват Префектуры полиции, он в каком-то смысле принял неизбежность этого восстания. Если он откажется продолжать борьбу сейчас, то фактически передаст руководство восстанием в руки коммунистов и вызовет раскол в рядах Сопротивления. Его не оставляла одна-единственная мысль: ценой этого политического жеста коммунистов будет уничтожение Парижа. Через несколько часов, терзаемый муками из-за своего решения, он скажет: «Если я допустил ошибку, то до конца своих дней буду сожалеть о ней на развалинах Парижа».
По-видимому, выбора не было. Через два часа после начала восстание стало разрастаться столь быстро, что, как понимал Пароди, остановить его не было никакой возможности. Оставалось лишь попытаться контролировать его. Повернувшись к Бидо, Пароди от имени Шарля де Голля благословил восстание, которое лидер Свободной Франции приказал ему предотвратить.
На улицах города восстание уже переходило во вторую фазу. Организованные группы бойцов ФФИ, вооруженные чем попало, по всему городу перешли к нападениям на общественные здания. Следуя тщательно разработанному плану, они направлялись для захвата мэрий двадцати парижских районов, полицейских участков, общественных зданий и даже скотобойни, морга, театра «Комеди Франсэз». Из окон и с крыш в небо устремлялось запретное знамя Франции — пыльное после многомесячного хранения в тайниках или наскоро смастеренное из простыней и шелковых платьев.
* * *
Ни один из районов Парижа не был более спокойным в течение четырех лет оккупации, чем район элегантных вилл на краю Булонского леса, которые образовывали коммуну Нейи. В каждом ее квартале особняки восемнадцатого века вмещали, вероятно, больше коллаборационистов, больше вишистов, больше германских агентов и немцев, чем в любом другом районе Парижа. С 1940 года это был самый тихий уголок в оккупированном Париже, образец дисциплинированного признания власти завоевателей Франции.
Как и остальные пять тысяч солдат, расквартированных в коммуне, эти два немца, потягивавших коньяк в кафе на улице Шези, расположенном за углом от мэрии Нейи, чувствовали себя совсем как дома. При звуке открывшейся двери немцы обменялись похотливыми улыбками. Это должна была быть Жанин, симпатичная белокурая служанка, ради которой они и пришли. Однако, обернувшись, они увидели вместо нее Луи Берти, мясника из Нантера, впервые в своей жизни направлявшего пистолет на немецкого солдата. Берти разоружил своих пленников и повел их в мэрию. По дороге он отогнал трех разгневанных парижан, подбежавших, чтобы плюнуть немцам в лицо. «Это пленные», — предупредил он. Один из немцев обернулся, утер лицо и кивнул Берти. «Данке шён»[20], — произнес он.
Из окна своего кабинета на четвертом этаже здания напротив мэрии Эмиль Марион с ужасом наблюдал за тем, что происходило внизу: вначале — Берти и его два пленника, теперь — вызывающе взметнувшийся в небо над мэрией трехцветный флаг. Не менее официально, чем Клемансо обращался к Палате депутатов, этот пятидесятидвухлетний ветеран Вердена повернулся к своему пожилому секретарю и провозгласил: «Республика спасена». Затем взял шляпу и вышел, чтобы присоединиться к новым хозяевам мэрии.
За этой сценой с неменьшим ужасом наблюдала еще одна пара глаз. Жанин, служанка, к которой пришли два немца, бросилась к велосипеду, намереваясь предупредить немецкое командование.
В захваченной мэрии Андре Кайетт, владелец фабрики, командовавший Луи Берти и 65 другими людьми «из Задига», захватившими мэрию, расставил своих людей по всем четырем этажам. Седеющий Кайетт едва успел закончить, когда на площади перед мэрией скрипнул тормозами грузовик вермахта, вызванный Жанин. Прячась за грязными бортами открытого кузова, с полдюжины немецких солдат выставили свои винтовки в сторону открытых окон мэрии. Из кабины вышел офицер, встал руки в боки и уставился на здание. «Сдавайтесь и выходите!» — заорал он.
С высоты своего положения в бело-золотом зале торжеств под картиной, изображавшей Генриха IV падающим в озеро Нейи, Кайетт уставился на представителя завоевателей образца 1940 года. Переполненный гордостью за этот первый открытый акт сопротивления, по вполне простительной причине преувеличивая свою силу, он ответил: «Сами сдавайтесь! Это Армия Освобождения».
Немец рывком расстегнул коричневую кожаную кобуру, вытащил пистолет и выстрелил наугад в окно, из которого доносился голос Кайетта. В ответ из всех окон мэрии на немцев обрушился шквал огня. Кайетт видел, как надменный офицер медленно осел на тротуар, «как надувной шар, из которого выходит воздух».
Наконец огонь прекратился. На ратушной площади воцарилась тишина: ни единого звука, ни единого предсмертного вопля. Только один из немцев еще дергался. Остальные лежали спокойно. В смятении и ужасе люди «из Задига» созерцали то, что только что сделали. Затем со всех прилегающих улиц до них донесся рев грузовиков, окружавших здание мэрии.
* * *
Внутри Префектуры полиции студент юридического факультета Эдгар Пизани пощипывал свою черную бороду. На наклонной панели рядом с его столом загорались и гасли 24 красные лампочки. Со всех концов Парижа в Префектуру звонили из полицейских комиссариатов. Но этот новый заведующий канцелярией префекта полиции Шарля Луизе не знал, как ответить на звонки. Пизани еще не научился пользоваться вверенным ему коммутатором. Наконец, беспорядочно тыкая в панель, Пизани нажал кнопку и приставил к уху трубку. На другом конце линии он услышал взволнованный голос: «Боши пытаются штурмовать мэрию Нейи». Последние слова говорившего потонули в грохоте раздавшегося под окном взрыва. Пизани повесил трубку и бросился к окну. Посреди мостовой горел немецкий грузовик, подбитый зажигательным снарядом. «Это было похоже на тир», — вспоминал позднее Пизани. Один за другим немцы, выскакивающие из горящего грузовика, падали, словно маленькие оловянные мишени.
Никто из немцев, оказавшихся в то утро в смертельной ловушке вокруг Префектуры, не был настроен сопротивляться более яростно, чем человек, только что закончивший минировать телефонный коммутатор в Сент-Амане, — сержант Бернхард Блахе из 112-го полка связи.
Прижавшись к борту открытого грузовика, Блахе увидел, как двое солдат, находившихся на передних крыльях, вскрикнули и рухнули на мостовую при первом же перекрестном залпе из Префектуры и Дворца правосудия, располагавшегося напротив. Водитель был ранен в правую ногу и потерял управление. Помотавшись из стороны в сторону, грузовик врезался в дерево под окном Префектуры. Кто-то крикнул «Всем наружу!», и сержант выпрыгнул из открытого кузова и пополз вдоль машины. В кузове наверху солдат с простреленными легкими, разрывая руками грудь, дико кричал: «Бернхард, Бернхард, помоги мне!» Оглянувшись, Блахе увидел бегущего через улицу офицера, на ходу беспорядочно стрелявшего из револьвера по каменным стенам Префектуры. На полпути в голову ему попала разрывная пуля. На глазах Блахе голова офицера «буквально взорвалась» и тело рухнуло на асфальт.
Французы были так близко, что, когда стрельба несколько утихла, Блахе мог слышать их голоса, доносившиеся из верхних окон Префектуры. Скользя вдоль грузовика, Блахе добрался до кабины. Подняв глаза, он увидел навалившегося на руль водителя. Тот был мертв. Взглянув поверх каски убитого через открытое окно грузовика на здание Префектуры, Блахе вдруг заметил обнаженную руку, свесившуюся через подоконник. Рука сжимала завернутую в грязное полотенце бутылку темнозеленого цвета.
В ужасе Блахе вскочил и бросился по тротуару к мосту Понт-о-Шанж, находившемуся поблизости. Вокруг бежавшего изо всех сил немца пули выбивали из асфальта бульвара Пале маленькие черные облачка. И тут он почувствовал, как мостовая содрогнулась под ногами. От брошенной из Префектуры бутылки с «коктейлем Молотова» грузовик Блахе вспыхнул и загорелся.
У края моста Блахе перепрыгнул через парапет и залег по другую сторону, чтобы перевести дух. Подняв голову, он увидел нечто такое, во что было трудно поверить: по мосту мирно шел небольшого роста пожилой человек в черной шляпе и с тросточкой, совершенно не обращая внимания на летящие вокруг него пули, как будто он вышел на послеобеденную прогулку. Поддавшемуся безрассудной ярости Блахе захотелось прострелить эту вызывающе мирную фигуру.
Выглянув из-за парапета, Блахе увидел на другом конце моста, у площади Шатле, кучку гражданских. Зажав в каждой руке по гранате и дико вопя, Блахе помчался по мосту. При виде размахивающего гранатами Блахе, по лицу которого струились пот и кровь, люди разбежались, как стая испуганных голубей. По пустынной теперь уже площади навстречу сержанту двигалась автомашина. Он жестом остановил ее и, угрожая гранатами, заставил сидевшего за рулем французского доктора доставить его в отель «Мёрис».
Все еще размахивая гранатами, полупомешанный Блахе вбежал в вестибюль «Мёриса» и бросился вверх по лестнице. Он распахнул первую попавшуюся дверь и ворвался в комнату. «Боже мой, боже мой! — завопил он. — Чего вы ждете? Почему не посылаете танки? Они поджаривают моих парней, как сосиски!»
3
Танки — три штуки — уже подкатили к мэрии Нейи. Два развернулись и заняли позицию на площади перед ее испещренным пулями и обугленным фасадом. Третий направился в обход, чтобы зайти со стороны сада. Находясь в окружении и в течение трех часов под обстрелом, израсходовав почти все боеприпасы, люди «из Задига» впали в отчаяние. Паркетный пол зала торжеств был завален осколками гранат, гильзами, битым стеклом и штукатуркой. От картин на стенах остались одни обрывки. Белые с золотом резные деревянные панели комнаты обуглились. За дверью, у мраморной лестницы, на сдвинутых вместе деревянных столах, вынесенных из кабинета мэра, лежали рядом мертвые и умирающие. В момент всеобщего опьянения несколько часов назад, когда люди «из Задига» завладели зданием мэрии, никому не пришло в голову прихватить с собой хотя бы моток пластыря. Теперь из-за отсутствия лекарств, обезболивающих и перевязочных средств раненые истекали кровью и умирали на этой липкой общей постели.
На всю жизнь Андре Кайетт запомнил испуганные глаза бойца с распоротым животом, молившего его о помощи. В отчаянии Кайетт сделал единственное, что казалось в тот момент возможным: он попытался перетянуть ремнем живот раненого.
Выглянув из окна зала торжеств, брат Кайетта Шарль заметил немца, выползавшего из овального окна на крыше расположенного напротив дома. В поисках укрытия немец начал перебегать по крыше к низкой желтой трубе. Шарль выстрелил. Немец упал и, слегка подскакивая, заскользил вниз по темной черепице, оставляя за собой яркую полосу крови. На какую-то секунду он зацепился пальцами за карниз, затем руки его разжались, и он с воплем рухнул на тротуар с высоты пятиэтажного дома. Шарль был лучшим стрелком в Нейи.
Его брат дал ему новое задание. Позади мэрии, на пересечении двух невысоких, покрытых мхом стен сада немцы установили пулемет, из которого обстреливали окна этой стороны осажденного здания. Шарль взял винтовку «Лебель» образца первой мировой войны и, высунув ее из окна напротив пулемета, выстрелил. Пулеметчик, почти полностью скрывавшийся за штабелем из мешков с песком, рухнул вперед. Из-за замшелой стены сада показались две пары рук, схватили пулеметчика за сапоги и втащили в укрытие. Его место занял другой стрелок. Этот засек Шарля. Он дал очередь по окну прямо над головой француза, сбив его голубой берет. Шарль переполз к другому окну, прицелился и снова выстрелил. Теперь уже этот пулеметчик подпрыгнул, взмахнув над головой руками, и упал на землю. И его тело кто-то втащил в укрытие. Пулемет взял третий человек. Шарль переместился к другому окну и сделал третий выстрел. Новый стрелок рухнул рядом с пулеметом, из которого так и не успел выстрелить. На этот раз уже не было рук из-за стены сада. Пулемет замолчал.
Сквозь треск раздававшейся вокруг стрельбы Андре Кайетт услышал совершенно иной звук. Это было тонкое дребезжание телефона мэрии. Кайетт прополз по битому стеклу и штукатурке к куче перевернутой мебели, где стоял телефон. Сняв трубку, он услышал взволнованный голос, кричавший что-то с расстояния миль в пятьдесят. То был полицейский, звонивший из комиссариата города Шартр. Незнакомый полицейский стал описывать ему сцену, разворачивавшуюся перед окнами комиссариата: освободители Шартра вливались в город нескончаемым потоком танков и бронемашин. «Бог мой, — сообщил он Кайетту, — у американцев есть даже такой огромный грузовик, что на нем помещается целых три танка!» В тот момент, когда Кайетт слушал этот рассказ, не в силах произнести ни слова в ответ на описание зрелища, которое он уже никогда не надеялся увидеть, осажденное здание потряс грохот. Немецкие танки за окнами начали обстреливать мэрию фугасными снарядами.
Кайетт повесил трубку и, всхлипывая от переполнявших его чувств, пробрался назад в зал торжеств. «Ребята, — прокричал он резким и хриплым от напряжения голосом, — американцы уже в Шартре!» Обессилившие, измученные люди переглянулись и вновь уставились на Кайетта. По его лицу катились слезы. Стоя на вытяжку, он запел «Марсельезу». На какое-то мгновение остальные замерли, а затем стали подпевать. Звуки полились из осажденного здания. И вот уже «Марсельезу» подхватили сотни мужчин и женщин, наблюдавших за боем из окон и с балконов. В этот трагический момент голоса французов внутри и снаружи окруженной мэрии слились в необычном хоре, заставив на мгновение замолчать яростный треск ружейной стрельбы. Высунувшись из-за края окна, Кайетт увидел на балконе своей собственной квартиры в трех кварталах от мэрии знакомую фигуру, поющую вместе со всеми. За горшком герани стояла его жена. Он не видел ее уже три месяца, так как прятался от гестапо. Она даже не знала, что он находится в этом здании.
Положение было отчаянным. К этому времени в мэрии уже было десять убитых и три десятка раненых. Снаружи раздался усиленный репродуктором голос немецкого офицера: «Сдавайтесь или мы уничтожим мэрию вместе с вами!» Люди «из Задига» ответили очередным залпом из своих быстро тающих боеприпасов.
Танк на площади двинулся вперед. Фугасным снарядом он разнес железную дверь мэрии и стал карабкаться вверх по мраморным ступеням. Французы были беззащитны. Они забыли взять с собой не только медикаменты — у них не было и «коктейлей Молотова». Задыхаясь от пыли и дыма, Кайетт и его товарищи из-за мраморной лестницы в вестибюле обстреливали из ружей угрожавшую им серую массу. Надежды не оставалось. Кайетт приказал отступать в подвал. Там под бетонным люком шириной в два фута находился цилиндрический колодец, ведший в камеру размером с большой чулан. За этой камерой, по другую сторону кирпичной стены, проходил канал парижской канализационной системы. Это был единственный путь к свободе. Когда немцы ринулись за ними, Кайетт и горстка его товарищей бросились в подвал и протиснулись через люк. Часом ранее два человека начали пробивать отверстие в стене, отделявшей камеру от канализационной сети. Теперь Кайетт и его товарищи в напряженном молчании ожидали, когда они закончат работу. Раненым зажимали рты, чтобы заглушить их стоны. Двое рубивших стену обмотали кирки рубашками, чтобы приглушить удары.
Кайетт взобрался по ржавой лестнице, ведущей к выходу и, скрючившись под закрытой бетонной крышкой люка, прислушался. Буквально в нескольких дюймах над головой он слышал шарканье ног немцев, сновавших по подвалу в поисках беглецов и выгонявших тех, кто остался наверху. Один остановился прямо над его головой. Кайетт слышал, как под ногами немца скрипели песчинки и крупицы мусора, как будто тот раздавливал их на его черепе. Немец что-то проорал. Кайетт с дрожью ждал, когда он поднимет крышку и бросит вниз с полдюжины гранат, которых будет достаточно, чтобы уничтожить его и всех остальных, спрятавшихся в этом темном колодце.
* * *
У Префектуры полиции первый же снаряд снес тяжелые чугунные ворота, служившие главным входом в здание. Взрывная волна развернула студента-юриста Эдгара Пизани и бросила в угол комнаты, осыпав градом штукатурки. Ползая в пыльной куче мусора в поисках очков, чернобородый Пизани услышал панический вопль: «Танки подошли!»
Танки — две «пантеры» и «рено» 5-го зихерунгсрегимента — кружили по просторной площади между Нотр-Дам и Префектурой. Было 3.30 пополудни. Оказавшись в ловушке за хлипкими баррикадами из мешков с песком, вооруженные пистолетами, винтовками со скользящим затвором образца первой мировой войны и несколькими устаревшими пулеметами, полицейские с ужасом наблюдали за танками. Там, на фоне массивных очертаний Нотр-Дам, их ожидала расплата за смелые действия. Ими овладела паника. Сначала небольшими группами, а затем десятками они стали покидать баррикады и устремлялись к единственному спасительному выходу из здания — к внутренней станции метро, из которой под землей можно было перейти на левый берег Сены.
Однако нашелся решительный человек, остановивший их. Сержант полиции Арман Фурне, командир одного из двух отрядов Сопротивления в департаменте полиции, прорвался сквозь отступающую толпу и оказался на вершине лестницы. Выхватив из кобуры пистолет, Фурне пообещал застрелить первого, кто пройдет мимо него. «Наш единственный шанс на спасение, — крикнул он, — это победа!» Ошеломленные и пристыженные, люди остановились.
В самом здании студент Пизани, вновь обретший вертикальное положение, диктовал телетайписту срочное воззвание. «Атака немцев на Префектуру неизбежна, — говорил он. — Необходимы все наличные силы ФФИ для нападения на немцев с тыла». Под его диктовку оператор отстукивал текст непосредственно на печатающем устройстве, которое разошлет это сообщение во все полицейские участки города. Выбив последнее слово, он дотянулся до кнопки с надписью «A. G.» и нажал ее. Это была кнопка общей тревоги для всей полиции Парижа.
В тускло освещенном подвале Префектуры три человека, раздевшись по пояс и обливаясь потом, собирали самое мощное из имеющегося в здании оружия. На расставленных вдоль стен стеллажах лежали бутылки с шампанским, принадлежавшие вишистскому префекту полиции. Собранная Фредериком Жолио-Кюри команда вскрывала эти бутылки одну за другой и, не глядя, выливала драгоценную жидкость на пол. Как только содержимое бутылок заменялось на бензин и серную кислоту, они вновь закупоривали их и оборачивали бумагой, пропитанной раствором бертолетовой соли. Поджидавшая здесь же цепочка полицейских передавала бутылки на верхние этажи здания.
На площади Нотр-Дам танкист Вилли Линке из 5-го зихерунгсрегимента увидел, как одна из смертоносных бутылок Жолио-Кюри, крутясь в воздухе, шлепнулась в неосторожно открытый люк башни соседнего танка, «как баскетбольный мяч в корзину». Из башни вырвались огромные желтые языки пламени. В считанные секунды танк был охвачен огнем. В тесном пространстве своего собственного танка Линке услышал радостные крики полицейских из Префектуры. Приказав зарядить пушку, Линке в ярости послал снаряд в здание Префектуры.
Незадолго до пяти часов по осажденному зданию пронесся страшный слух: боеприпасы почти закончились. Сержант Фурне, остановивший поддавшихся панике полицейских, с хмурым видом вошел в кабинет Пизани, чтобы проверить этот слух. У некоторых бойцов, сообщил он Пизани, «едва хватит боеприпасов на две минуты огня».
Юный студент права поднял трубку и набрал номер. Он звонил домой своей сестре Лоренс. «Живыми мы отсюда не выберемся, — сказал он ей. — Боеприпасы почти закончились. Единственное, что нас может спасти, это если американцы прибудут сюда как можно скорее». Он попросил поцеловать за себя своих двоих детей и повесил трубку.
* * *
Однако для двух десятков американцев, находившихся в 175 милях от города в увешанном картами фургоне размером с половину железнодорожного вагона, Париж в тот день был «не более чем кляксой на наших картах, которую мы должны были обойти на пути к Рейну». Это были карты передового эшелона штаба 12-й группы армий США, расквартированного в яблоневом саду на берегах реки Майен вблизи хлопкопрядильного городка Лаваль, и именно на этих картах вскоре должна быть начертана судьба Парижа. Для командующего 12-й группой армий генерал-майора Омара Н. Брэдли, для его штабистов это было место, которого любой ценой следовало избегать.
Перед этим уже начинающим лысеть, мягким по натуре уроженцем штата Миссури, носившим очки в стальной оправе, стояла лишь одна задача: вести своих солдат как можно быстрее и как можно дальше, пробить брешь в «линии Зигфрида» и прорваться к Рейну прежде, чем отступающий противник успеет перегруппировать силы. Сейчас его беспокоило лишь одно: хватит ли бензина?
Два дня назад штаб Верховного командования предупредил, что после освобождения Парижа его дневная норма горючего будет сокращена на 67 тысяч галлонов, которые будут переданы населению города. Эта цифра обескуражила и возмутила его. Такого количества было бы достаточно для продвижения целого корпуса на 25 миль. Он считал, что «если бы мы смогли прорваться к «линии Зигфрида» с тем горючим, которое предназначалось для Парижа, то город был бы вознагражден «более скорым завершением войны».
Сейчас, сидя в своем фургоне на совещании, Брэдли внимательно вслушивался в слова начальника тыла, сообщавшего жизненно важные цифры о наличии горючего, от которых зависело столь многое: количестве галлонов, выгруженных на побережье в тот день, их количестве, перевозимом грузовиками по все удлиняющимся путям снабжения, резервных количествах, остававшихся на передовых складах его дивизий. Для находившегося здесь же помощника Брэдли майора Честера Бейарда Хансена ежедневно слышать, как тает горючее, было все равно, что «наблюдать за агонией смертельно больного человека». Брэдли не заметил, как в конце фургона появился посыльный и передал начальнику разведки бригадному генералу Эдвину Сайберту написанную от руки записку. Это был радиоперехват немецких донесений. Сайберт уже вскользь упомянул о нем в своем докладе. «По-видимому, — сказал он, — в Париже происходят какие-то волнения гражданского населения».
Брэдли выпрямился.
«Черт возьми, Эдди, выясните, что там происходит, — приказал он. — Мы не можем допустить, чтобы Париж помешал нам». Омар Брэдли, возглавлявший армию, на которую так рассчитывали Эдгар Пизани и его товарищи, был полон решимости «не допустить, чтобы кто-то отговорил нас от плана обойти Париж».
У Брэдли были веские причины для беспокойства. Андре Толле и его соратники решили начать восстание как раз в тот самый день, когда союзники утвердили план обхода столицы. За несколько часов до этого совещания в штабе группы армий после длительных консультаций со своими встревоженными подчиненными, ведавшими снабжением войск, Дуайт Эйзенхауэр приказал войскам форсировать Сену. В эту ночь, когда у осажденных в Префектуре полиции повстанцев иссякали последние боеприпасы, американские солдаты 313-го пехотного полка должны были пересечь реку по дамбе у Ман-Гассикура и тем самым привести в действие план обхода Парижа.
4
Элегантный полковник Ганс Яй побелел при виде мертвых тел своих солдат, разбросанных вокруг грузовика перед зданием мэрии в Нейи. Глядя на выстроенных вдоль стены с поднятыми руками пленных, Яй решил «расстрелять всех на месте».
Луи Берти — его почки все еще ныли от ударов, полученных от немцев, когда те выгоняли его из мэрии, — и его юный сосед по Нантеру Пьер Ле-Ган также были в этой шеренге несчастных. Их поймали на четвертом этаже здания, когда туда ворвались немцы.
Мэр Нейи от вишистов Макс Роже убедил Яя, что некоторые из выстроенных у стены людей были его служащими. Яй позволил отобрать их. Когда Роже закончил, гнев полковника несколько поутих. Он решил, что не будет расстреливать остальных. Он приказал им идти с поднятыми руками в комендатуру на авеню Мадрид. По пути следования этой несчастной колонны их приветствовали выглядывавшие из окон люди. Стоявшие вдоль тротуара женщины всхлипывали и перебирали четки.
В черной яме под мэрией два человека, скрытно прорубавшие кирпичную стену, отделявшую их от пути к спасению, уже слышали журчание сточных вод и чувствовали затхлый запах из канализационного канала. Наконец отверстие было пробито. Один за другим оставшиеся в живых люди «из Задига» пролезли в дыру и двинулись по пояс в воде вдоль канала.
Снайпер Шарль Кайетт нес Анри Герена, ветерана первой мировой войны, деревянная нога которого была разбита осколком снаряда. Взглянув на нее, Герен заметил: «Слава богу, они всегда стреляют в одну и ту же». Андре Кайетт все еще слышал грохот немецких сапог, вышагивающих взад и вперед по тонкой бетонной крышке люка.
В комендатуре Нейи Луи Берти и двадцать других арестованных были выстроены в круг. В середину протиснулся немецкий солдат и стал разглядывать пленных. Это был один из двух солдат, которых Берти со столь гордым видом захватил шесть часов назад в кафе за углом от мэрии. Очевидно, ему приказали опознать тех, кто это сделал. Когда солдат приблизился к Берти, тот, слабея от страха, почувствовал, что не может больше держать руки над головой. Немец встал перед ним и посмотрел прямо в сузившиеся глаза Берти. Разглядывая Берти, он сделал жест, как будто «вытирал со щеки плевок». Затем, не подавая вида, что узнал, повернулся к следующему пленнику.
* * *
Дитрих фон Хольтиц с угрюмым видом поднялся по лестнице в свой кабинет в отеле «Мёрис». Как и полковник Ганс Яй, фон Хольтиц только что видел тела некоторых своих солдат из числа первых убитых на внезапно ставших враждебными улицах Парижа. На другом берегу Сены Хольтицу показали обгоревшие и окровавленные тела шести немцев, убитых из засады бойцами ФФИ.
Хольтиц решил нанести ответный удар. Когда он вошел в кабинет, начальник штаба полковник фон Унгер вручил ему листок бумаги. Его содержание было менее красноречивым, нежели зрелище, которое только что созерцал Хольтиц, но более метким. Это была дневная сводка потерь, и в ней указывалось, что Хольтиц уже потерял свыше пятидесяти человек убитыми и около сотни ранеными.
Разгневанный генерал вызвал своих помощников. Твердо и спокойно Хольтиц начал излагать. Выбор, в общем-то, был прост: либо он осуществит угрозу, которую высказал мэру Парижа три дня назад, и применит массовые репрессии против части населения города, либо раздавит Префектуру полиции, которая была, по-видимому, сердцем восстания, и этим «кровавым актом уничтожит их восстание раз и навсегда».
Фон Хольтиц предложил своим помощникам высказаться, после чего на минуту задумался сам. С улицы доносились выстрелы.
Фон Хольтиц решил атаковать Префектуру. Для этого он предложил объединить ядро своих ударных войск — 190-й зихерунгсрегимент, танки 5-го зихерунгсрегимента и танки войск СС, расквартированных в бараках Принца Евгения на площади Республики. Кроме того, он решил вызвать самолеты люфтваффе и до штурма подвергнуть здание бомбардировке с воздуха.
Он считал поддержку с воздуха действительно важной. Согласно его плану, танки должны были подойти по двум прилегающим мостам — Сен-Мишель и Пон-Нёф, — с тем чтобы атаковать здание Префектуры в его наиболее уязвимых точках. Но прежде чем посылать танки по этим открытым мостам, необходимо подавить всякое сопротивление в здании с помощью пикирующих бомбардировщиков, что позволит его танкам «лишь прокатиться по обломкам». Поскольку люфтваффе не поднимет свои самолеты днем, его план означал, что атаку следует начать на закате либо на рассвете.
Одновременно со штурмом Префектуры он пошлет танки и бронемашины в несколько других очагов сопротивления. Он преподаст им жестокий урок, повергнет город в состояние шока, но восстановит спокойствие. Всматриваясь в лица присутствующих, Хольтиц читал на них лишь согласие со своим планом. В тот августовский день люди его штаба были уверены: с взявшимся за оружие Парижем можно разговаривать только одним языком — языком силы.
Оставалось решить единственную проблему — когда атаковать. Начальник разведотдела полковник Хаген предлагал нанести удар тем же вечером. Хольтиц вспоминал, что, когда посмотрел на часы, уже было 5.30; и он вообще был против атаки вечером. Когда самолеты сделают свое дело, его танки будут атаковать в полной темноте, и под ее покровом люди из Префектуры смогут улизнуть.
Он распорядился начать наступление на следующий день, через полчаса после восхода солнца. Затем приказал фон Унгеру предупредить люфтваффе и назначить время штурма.
20 августа 1944 года восход солнца был в 5.51.
5
С балкона отеля «Мёрис» два человека наблюдали, как молоденькая девушка в красном платье ехала на велосипеде через Тюильри. Ее белокурые волосы развевались на ветру. «Мне нравятся эти хорошенькие парижанки, — сказал генерал фон Хольтиц стоявшему рядом человеку. — Было бы трагедией, если бы пришлось убивать их или уничтожить их город».
Генеральный консул Швеции Рауль Нордлинг вздрогнул от этой фразы, столь буднично слетевшей с губ покашливающего немца. Неужели этот мрачный пруссак, со страхом спрашивал он себя, действительно готов совершить такой акт вандализма, как уничтожение Парижа? История никогда не простит такого преступления, серьезно предупредил он Хольтица.
Немец пожал плечами. «Я солдат, — ответил он. — Я получаю приказы и выполняю их».
Беседу прервали выстрелы, донесшиеся слева, из-за серой громады Лувра и из района осажденной Префектуры. При этих звуках угловатое лицо Хольтица помрачнело. Маленький генерал почувствовал, как внутри его закипает гнев.
— Я заставлю их покинуть свою Префектуру, — пообещал он. — Мои бомбы заставят их это сделать.
В изумлении Нордлинг повернулся к нему. Он не знал, что Хольтиц наметил через несколько часов превратить Префектуру в руины. «Да понимаете ли вы, — спросил он, — что в случае промаха ваши бомбы будут падать на Нотр-Дам и Сент-Шапель?»
Фон Хольтиц пожал плечами. Его не беспокоил тот факт, что Нотр-Дам находился рядом, а Сент-Шапель прямо через улицу от того здания, которое он предлагал на рассвете превратить в обломки. «Вы знаете ситуацию, — сказал он шведу. — Поставьте себя на мое место. Разве у меня есть выбор?»
Именно с целью предложить командующему Большого Парижа альтернативу и явился швед на закате в эту комнату.
Некоторое время назад в его консульстве в нескольких кварталах отсюда, на улице Анжу, раздался телефонный звонок. Звонили из Префектуры полиции. На другом конце провода Нордлинг услышал умоляющий голос: «Мы в отчаянном положении. У нас боеприпасов лишь на несколько минут. Вы можете что-нибудь сделать?»
Повесив трубку, Нордлинг тут же позвонил Хольтицу и попросил о встрече. По пути в «Мёрис» ему пришла в голову идея. Теперь он излагал ее стоящему рядом немцу. Это будет временное прекращение огня, чтобы «подобрать мертвых и раненых». Если оно сработает, то его можно будет продлить.
Фон Хольтиц вздрогнул, услышав предложение шведа. За тридцать лет военной карьеры он никогда не соглашался на перемирие и не просил о нем. Но в смелом предложении шведа Хольтиц усмотрел и некоторые преимущества. Основной заботой Хольтица в ту ночь было поддерживать в Париже спокойствие. Если прекращение огня поможет ему в этом, то, рассуждал он, оно будет полезным. Его войска не будут более связаны необходимостью подавлять восстание. Они освободятся для более важных задач. Если перемирие будет соблюдаться, то ему не понадобятся дополнительные полицейские силы для охраны линий связи.
Но самое главное заключалось в том, что, если оно сработает, у Хольтица будет основание отложить штурм Префектуры, назначенный на утренние часы. Он знал, что этот штурм был бы непоправимым шагом, по существу объявлением войны городу. Если согласно его приказу в небе Парижа появятся самолеты люфтваффе, обратного пути не будет. Это было ответственное решение, а Дитрих фон Хольтиц не любил принимать ответственные решения.
Если командиры в Префектуре полиции смогут продемонстрировать в течение часа, что способны контролировать своих людей, то ради спасения города он согласится обсудить вопрос о прекращении огня.
И все же одно обстоятельство беспокоило фон Холь-тица. Его действия «противоречили духу приказов», которые он получил в отношении Парижа. Хольтиц не хотел, чтобы Модель узнал об этом.
Понизив голос, он сказал Нордлингу: «Я попросил бы вас кое о чем. Не упоминайте мое имя в связи с вашим перемирием».
Он проводил Нордлинга до двери, попрощался со шведом за руку и вызвал фон Унгера. Хольтиц коротко объявил, что штурм Префектуры «временно откладывается». Затем он отправился в свою комнату, чтобы поразмышлять над только что содеянным.
6
Хвост самолета, находившегося в этот момент в 1200 милях от Парижа, почти лежал в покрытой рябью воде, плескавшейся у края затемненной взлетной полосы, которая пролегала вдоль скалистой крепости Гибралтар. В темной кабине самолета флуоресцентные стрелки приборов на панели зашкаливали, к немалому беспокойству пилота. Впереди было Средиземное море — черная угрожающая гладь в конце короткой взлетной полосы. В самолет было залито 950 галлонов горючего — больше, чем ему когда-либо приходилось брать на борт. Пилот, полковник Лионель де Мармье, знал, что самолет перегружен почти на полтонны.
Он разгонял оба двигателя до тех пор, пока подрагивающая стрелка не остановилась на отметке 2700 оборотов в минуту. Самолет задрожал. Мармье спиной чувствовал, как хвост машины слегка заносит. Температура двигателей медленно поднималась до 104, 113, 122 градусов. Мармье продолжал удерживать самолет, одновременно увеличивая обороты, насколько хватало смелости.
— Готов? — спросил он сидевшего рядом человека.
— Готов, — ответил тот.
Мармье убрал тормоза. Самолет на мгновение затрясся, а затем ринулся вперед по полосе. Мармье чувствовал, что перегруженный самолет плохо поддается управлению. Перед глазами проносилась черная взлетная полоса, с каждым мгновением приближавшая его к смертоносным водам Средиземного моря; 600, 800, 900 ярдов, а самолет по-прежнему отказывался подниматься. Теперь Мармье уже видел пенистые барашки стремительно надвигавшегося фосфорисцирующего моря — пройдено 1100 ярдов. Пилот сделал последнюю попытку и почувствовал, как машина медленно, как бы протестуя, поднялась над землей. Едва не коснувшись крыльями волн, Мармье удержал самолет в горизонтальном положении и стал набирать скорость. Затем медленно опустил закрылки и начал плавно набирать высоту. Через плечо он с облегчением увидел, как все дальше уходит громоздящаяся внизу черная масса Гибралтара. Лионель де Мармье вздохнул. Он только что совершил самый трудный взлет за свои 15 000 часов летного времени.
В отсеке за спиной пилота Шарль де Голль отстегнул ремень безопасности и потянулся в карман за сигарой. Молча нарушив распоряжение де Мармье, он сунул сигару в рот и закурил.
Де Голль сам распорядился об отлете вопреки советам своих помощников и английских хозяев. Самолет «Летающая крепость», уже второй выделенный для его перелета во Францию, пропорол покрышку при посадке в Гибралтаре. Чтобы перебросить по воздуху новую покрышку, потребовалось бы 24 часа. Узнав о задержке, де Голль заявил своим протестующим хозяевам: «Я вылечу в одиннадцать часов, как было запланировано, и отправлюсь в собственном самолете».
Сберегая драгоценное горючее для этого самого длинного из всех совершенных «локхидом» «Франция» перелетов, де Мармье направил машину на север мимо маяка на мысе Сан-Висенти в южной Португалии и далее вдоль португальского побережья. Впереди показался Лисабон — море огней в затемненном мире. Еще дальше, на северо-западной оконечности Испании, находился последний ориентир — маяк на мысе Финистерре. Оттуда он полетит почти строго на север, курсом 357°, вдоль окутанного тьмой, полного опасностей побережья оккупированной Франции, пока не встретится с ожидающим его у южной оконечности Англии эскортом королевских ВВС.
В неосвещенном и тихом пассажирском салоне помощник де Голля Клод Ги уставился на горевший напротив маленький оранжевый огонек. Удивительно, судьба его страны сейчас зависела от «сигарного окурка, светящегося в затемненном самолете».
7
20 августа
Первые лучи солнечного света только что прорезали небо, все еще затянутое облаками ночного ненастья. Тишина вновь окутала город. Казалось, ошеломленный и истерзанный Париж остановился в эти ранние часы воскресенья, 20 августа, чтобы сосчитать свои раны.
Для пробуждающейся столицы этот влажный воскресный день принесет хаос, контрасты и путаницу. Для немногих парижан это было лишь очередное воскресенье. На набережных Сены у Нотр-Дам, где накануне были самые тяжелые бои, несколько рыболовов уже проверяли мутные воды реки. Даже восстание не могло остановить нескольких элегантных ездоков от велосипедной прогулки на свежем утреннем воздухе по тенистым тропинкам Булонского леса.
В этот ранний воскресный час зыбкое перемирие, заключенное шведским генеральным консулом Раулем Нордлингом в 3 часа утра, сдерживало волну насилия, прокатившуюся в предыдущий день. И оккупантам, и оккупированным оно принесло краткую передышку, возможность взвесить последствия субботнего переворота.
С немецкой тщательностью капитан Отто Ницки из военной полиции совершал свой регулярный утренний обход городских баров и публичных домов. В то утро только в одном из таких заведений — обычно хорошо посещаемых — Ницки обнаружил немецкого майора, который, лежа на спине в кровати, на глазах у испуганной хозяйки расстреливал из пистолета лампочки в висевшей под потолком люстре. «Чего они ждут, почему не забирают нас отсюда?» — вновь и вновь вопрошал он в пьяном угаре.
Но ни один из находившихся в городе немцев не получил более странного задания, чем сержант военной полиции Рудольф Рейс, тридцати двух лет от роду, из плац-комендатуры.
Предыдущий день Рейс провел за парапетом набережной Монтебелло, откуда он вел огонь по осажденным в Префектуре полицейским. Этим утром он раскатывал в автомашине парижской полиции в окружении двух полицейских, которых вчера пытался убить. Они объявляли об организованном Нордлингом прекращении огня. По всему городу парижане спешили к своим новым «газетам» — стенам домов, — чтобы прочесть первые из множества плакатов, одобрявших или осуждавших перемирие. На углу авеню Опера и улицы Пирамид к изумленному Рейсу подбежал владелец кафе с бутылкой красного вина и тремя стаканами. Чуть погодя на глазах у ошеломленных прохожих немецкий солдат и два полицейских чокнулись и выпили за успех перемирия, о котором они оповещали Париж.
8
Глаза изнемогающего от усталости лейтенанта Эме Бюлли вновь скользнули по четырем счетчикам топлива на приборной панели самолета. Счетчиков было по одному для каждого из четырех баков. Три уже были пусты. Ручной помпой Бюлли откачал из них последние капли. Теперь начала скользить к нулю белая стрелка четвертого счетчика. Тридцатитрехлетний бортинженер понимал, что в этом последнем баке горючего не хватит даже на полчаса полета. Свыше часа затерявшийся в тумане и дожде, бросаемый из стороны в сторону штормовым ветром «локхид» «Франция» бороздил этот участок неба где-то над побережьем Англии в поисках истребителей королевских ВВС, которые сопроводили бы его до спасительной Нормандии. Раздавшийся рядом голос прервал тревожные размышления Бюлли.
— Горючее? — спросил сидевший впереди.
— Опустошаем последний бак, — ответил бортинженер пилоту Лионелю де Мармье. — Продолжать эту игру больше нельзя.
Де Мармье, у которого от нервного напряжения вспотели руки, понял, что придется искать место для посадки. Ему придется это делать самому, почти без горючего и, в довершение ко всему, имея на борту человека, который держал на своих плечах судьбу всей Франции, а в данный момент курил сигару в пассажирском салоне. Де Мармье сбросил газ и перевел самолет на медленное снижение. Наблюдая, как стрелка высотометра приближается к нулю, Бюлли молился, чтобы они находились над Ла-Маншем, а не над землей. В пассажирском салоне позади него Шарль де Голль молча и бесстрастно созерцал блеклый мир за иллюминатором самолета.
— Горючее? — спросил де Мармье.
— Еще на несколько минут, полковник.
Теперь уже под крылом самолета Бюлли видел белые барашки волн на поверхности Ла-Манша. Затем прямо по курсу из тумана показались серые очертания английского побережья. Дверь кабины распахнулась и вошел помощник де Голля Клод Ги.
— Что происходит? — спросил Г и.
— Нас бросили, — ответил де Мармье. — Эскорта нет. — Он объяснил Ги, что им придется садиться в Англии.
Молодой помощник вернулся в салон и объявил сидевшему там невозмутимому человеку, что эскорт истребителей так и не появился.
Де Голль вздохнул. «Кто на этот раз? — спросил он Ги. — Англичане? Американцы? Или и те и другие?»
Затем Ги объявил, что у них почти не осталось горючего и они будут вынуждены приземлиться в Англии.
Де Голль выпрямился. «В Англии? — спросил он. — Никогда! Скажи Мармье, что я приземлюсь только во Франции».
— Горючее? — запросил Мармье бортинженера.
На этот раз Бюлли, сглотнув слюну, ответил: «Почти пусто».
Скользя над поверхностью покрытого рябью Ла-Манша, при видимое™ менее ста ярдов, «локхид» направлялся строго на юг к французскому побережью. Бюлли поглаживал ручную помпу, которой он откачает последние капли горючего из последнего топливного бака. Де Мармье нервно облизывал губы. Бюлли казалось, что никогда еще в жизни минуты не тянулись так долго. И вот на горизонте показался берег Франции. Самолет быстро пронесся над заброшенным пляжем, усеянным блокгаузами и обломками. Де Мармье внимательно всматривался вниз, но местности не узнавал. Он понимал, что у него нет времени болтаться над этим сельским районом, чтобы определить свое местоположение.
— Бюлли, — приказал он, — отнеси-ка эту карту патрону. Может быть, он узнает, где мы находимся.
Де Голль надел очки, покосился на карту, затем долго всматривался наружу; потом повернулся, воткнул палец в выступ земли на самом краю Нормандии и объявил: «Мы здесь, чуть восточнее Шербура». Бюлли бросился назад.
Тем временем Мармье установил свои координаты. Они действительно были чуть восточнее Шербура, точно в том месте, которое указал де Голль. Де Мармье уже направлял самолет на посадку на наскоро сделанную полосу для истребителей.
Когда самолет скользнул по вафельной поверхности сборной посадочной полосы, на приборной панели перед Бюлли замигала красная лампочка. Это был предупредительный сигнал из последнего резервного бака «Франции». Он означал, что на борту самолета оставалось горючего ровно на 120 секунд. Вот так, с запасом всего лишь в две минуты, полет Шарля де Голля завершился благополучным возвращением во Францию, а не трагическим концом в водах Английского канала.
Никто не приветствовал его на этой крохотной посадочной полосе в Моперту. Ни фанфар, ни толпы, только грязь и мельчайшая нормандская морось. Его помощник Клод Ги пошел к амбару, превращенному в административное здание аэродрома. Навстречу вышел скучающий унтер-офицер и остановил Ги дулом автомата. «Что вы здесь делаете? — спросил он. — И кто это у вас там на борту?»
— Можете убрать ваш автомат, — ответил Ги. Он объявил, что находящегося на борту самолета человека зовут генерал де Голль.
Де Голль и сопровождавшие его направились в Шербур на дымящем «газожене». В истерзанном портовом городке группа обессиленных и грязных людей смогла найти одно-единственное лезвие для бритья. Де Голлю предоставили честь воспользоваться им первым. Другие члены группы передавали его по старшинству. Затем де Голль попросил сделать две вещи: достать бумагу, чтобы он мог написать речь, и как можно быстрее организовать встречу с Эйзенхауэром.
Через несколько минут в префектуре Шербура генерал Кёниг сообщил де Голлю: «В Париже произошло восстание». Генерал прореагировал редкой для него демонстрацией чувств. Как он, собственно, и ожидал, политические враги швырнули ему перчатку. Жребий брошен. До наступления темноты он обязан будет добиться решения Эйзенхауэра наступать на Париж.
9
На самом нижнем этаже подземной крепости в 210 милях от посадочной полосы, на которую приземлился Шарль де Голль, генерал-лейтенант Ганс Шпейдель, сорока одного года от роду, ожидал возвращения нового главнокомандующего генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя. «BII» — такое кодовое название носил новый штаб группы армий «Б», похороненный в заброшенной каменоломне у деревни Марживаль, в нескольких милях от Суассона и в 60 милях к северу от Парижа. Четыре года назад из этого подземного лабиринта коридоров, комнат для совещаний и центров связи Адольф Гитлер собирался сам руководить вторжением в Англию. Теперь в стерильной чистоте освещенных неоном комнат генерал-фельдмаршал Модель был приговорен руководить менее почетным предприятием — отступлением вермахта из Франции. За те 48 часов, что прошли со времени отъезда Моделя в инспекционную поездку по вверенным ему войскам, на столе Шпейделя накопилась гора распоряжений ОКВ. По мнению начальника штаба, эти приказы не оставляли никаких иллюзий в отношении судьбы, уготовленной Гитлером столице Франции. И вряд ли он смог бы сделать что-либо, чтобы предотвратить такой исход. Скомпрометированный участием в заговоре 20 июля, Шпейдель подозревал, что его собственные дни в этом штабе сочтены.
Шпейдель вспоминал, что обычно энергичный фельдмаршал вернулся обессиленным. Он был небрит, осунулся и вдобавок пребывал в ней свойственной для него депрессии. Модель рухнул в кресло. Эта инспекционная поездка, сообщил он Шпейделю, была кошмаром. В худшие переделки он попадал разве только на Восточном фронте. Он был поражен, узнав, что ситуация намного хуже, чем он ожидал. Повсюду его люди были измотаны и деморализованы. Фронт, если его действительно можно назвать фронтом, был развален. Эта поездка продемонстрировала чудотворцу Гитлера, каково на самом деле будет его первое чудо. Моделю придется каким-то образом восстановить порядок на Западном фронте. На каком-то участке этого чрезмерно растянутого и раздробленного фронта Моделю придется начать игру, чтобы получить время для перегруппировки потрепанных сил. Модель сделал свой выбор, невзирая на категорические приказы человека, которому почти слепо подчинялся, невзирая на гору официальных сообщений, которые вручил ему Шпейдель. Он решил разыграть парижскую карту.
К такому решению его подвели два фактора. Во-первых, Хольтиц. С момента начала восстания Хольтиц сознательно и систематически занижал масштабы проблемы в Париже. В утреннем донесении из Большого Парижа, по — лученном в 8.20 в воскресенье, 20 августа, говорилось о «спокойной ночи. Лишь изолированные и незначительные стычки утром». Донесения за субботу также были обнадеживающими. Судя по представленным ему в то утро донесениям, у Моделя не было никаких причин полагать, что в Париже возникли какие-то проблемы, выходящие за рамки нескольких «террористических» акций[21].
Вторым был тщательно обдуманный еженедельный доклад разведки, составленный начальником разведки Западного фронта подполковником И. Г. Штаубвассером. Он был закончен накануне вечером. «Союзники, — заявлялось в докладе, — в составе 53 дивизий[22] готовятся ударить на восток вдоль дороги Кан — Лизьё и к северу и северо-западу от Дрё, чтобы попытаться окружить немецкие войска к западу от Сены ниже Парижа». Одновременно делался прогноз, что они «ударят к востоку от Орлеана, южнее Парижа».
Убедившись таким образом, что непосредственной угрозы Парижу нет, Модель принял решение сосредоточить силы вначале на выводе войск, находящихся под угрозой окружения к западу от нижнего течения Сены. Он перебросит их через Сену, прежде чем союзники смогут захлопнуть ловушку. Затем он начнет работать над «оборонительным поясом», который Гитлер считал первоочередной задачей. Когда прибудут обещанные подкрепления — 26-я и 27-я танковые дивизии СС, — то они и все уцелевшие части 7-й армии могут быть переброшены через город для занятия укрепленных оборонительных позиций на его окраинах. Начальнику оперативного управления группы армий «Б» полковнику Гансу фон Темтгльхофу Модель продиктовал приказы, которые должны были обеспечить выполнение его первых решений, принятых в качестве командующего Западным фронтом. Но он недоучел одну вещь. Он не сообщил коменданту Большого Парижа, что ОКВ выделил ему танковые дивизии. Эта промашка будет иметь роковые последствия.
Когда Модель ушел, Шпейдель остался стоять в задумчивости посреди кабинета. На стенах висели три гравюры, которые он купил четырнадцать лет назад, будучи студентом Сорбонны. На протяжении всех этих лет они следовали за ним повсюду, даже в эту подземную крепость. На этих гравюрах XVIII века были изображены Тюильри, Версаль и Нотр-Дам. На мгновение Шпейделю пришла мысль, что они тоже могут быть разрушены в той безумной катастрофе, к которой привел Европу Гитлер.
* * *
Резиденция Дитриха фон Хольтица в отеле «Мёрис» не была украшена гравюрами. Позади стола, напротив карты Парижа, граф фон Арним повесил огромную карту Нормандского фронта. По ней фон Хольтиц мог проследить тот же двойной прорыв войск союзников вокруг Парижа, который был столь очевиден для шефа разведки Моделя, находившегося в 60 милях отсюда. Он предвидел это. В тот день он полагал, что союзники перейдут в наступление не ранее начала сентября. Когда это наступление начнется, фон Хольтиц будет оборонять Париж. Маленький толстенький пруссак теперь понимал, что эта задача будет не из легких. Но он собирался справиться с ней; его миссия в Париже по-прежнему определялась словами фон Клюге, произнесенными вскоре после его прибытия: «Париж должен быть защищен, и защищать его будете вы».
Мрачные размышления пруссака прервал требовательный звонок телефона. Это был телефон, который через расположенный наверху коммутатор Брессендорфа связывал его непосредственно с ОКВ и Берлином. Генерал-оберст Йодль звонил ему уже в третий раз. Резкие нотки в его голосе подсказывали фон Хольтицу, что начальник штаба фюрера был крайне возмущен.
Фюрер, сказал он, требует от Хольтица личных объяснений, почему ОКВ не получил ни единого доклада о взрывных работах, которые ему было приказано осуществить в районе Парижа. Фон Хольтица обеспокоил и смутил этот вопрос. Четыре специалиста, присланные Берлином, уже закончили работу сегодня утром. В кабинете у него лежали результаты их работы — скрупулезно составленные планы уничтожения свыше двухсот промышленных предприятий, включая — что немало позабавило Хольтица — две велосипедные фабрики. Вскоре эти люди вернутся в Берлин. Он уже не мог более объяснять невыполнение приказа о взрывных работах ссылкой на то, что их предварительная работа еще не завершена. Застигнутый врасплох нетерпеливым собеседником на другом конце провода, Хольтиц вынужден был дать объяснение — единственное, которое у него было и о котором он сразу же пожалел. Он не мог начать взрывные работы, сообщил он Йодлю, потому что его люди заняты подавлением вспышек «терроризма» по всей столице.
Йодль, вспоминал позднее Хольтиц, был потрясен известием. В состоянии шока Йодль долго молчал. Он только что вышел с первого в тот день совещания у Гитлера. Стенограммы распоряжений Гитлера еще были в его блокноте. Тот опять подчеркнул, что «огромную важность следует придавать обороне Парижа и, следовательно, должны быть приняты все меры к его обороне». Фюрер, сказал Йодль фон Хольтицу, придет в ярость, когда узнает, что в Париже волнения. Он предупредил коменданта Парижа, что тот должен принять все возможные меры для восстановления в городе порядка.
Затем, тщательно подбирая слова, произнося их сухим, размеренным тоном, чтобы донести до фон Хольтица весь смысл сказанного, Йодль объявил: «Что бы ни случилось, фюрер рассчитывает, что вы осуществите максимально возможные разрушения во вверенном вам районе».
* * *
Прислушиваясь к мягкому шороху нормандского дождя, Верховный главнокомандующий вышагивал по деревянному полу картографического тента в своем передовом штабе «Шеллбёрст» в Гранвиле, что раскинулся у основания полуострова Котантен. Дуайт Эйзенхауэр терпеливо и сосредоточенно ждал посетителя. Он был уверен, что точно знает, чего хотел Шарль де Голль в тот дождливый августовский день — Парижа. И решил, что пока не отдаст ему этот город.
Как и де Голль, Эйзенхауэр несколькими часами ранее узнал о разгоравшемся в городе сражении. Когда ему стало известно об этом, он пришел в ярость. По его мнению, восстание в Париже создавало «как раз такую ситуацию, которой я избегал, ситуацию, которая была вне нашего контроля и могла заставить нас изменить планы прежде, чем мы будем к этому готовы». Эйзенхауэр не сомневался, что де Голль собирался прибыть в «Шеллбёрст», чтобы заставить его изменить эти планы. Он противился такому давлению, видя в этом еще один пример раздражающей привычки де Голля «пытаться заставить нас изменить планы, чтобы удовлетворить свои политические нужды». Для американского генерала, возглавлявшего армии союзников, «политические аспекты были вторичными». У него была лишь одна забота — сражаться с немцами. И он не позволит, чтобы что-то, даже Париж, задержало его. Услышав приближающиеся шаги, он вновь поклялся «не брать обязательств в отношении Парижа».
Непреклонный и мрачный, Шарль де Голль шагал по мокрой траве, ведущей к тенту Верховного главнокомандующего. Сегодня утром он прибыл домой — в самолете почти без горючего, на почти пустую взлетную полосу, которую обслуживал безразличный ко всему служака, — чтобы повести за собой страну. Это была страна, в которой миллионы знали его голос, но не видели его лица. Для этих миллионов он был призраком, идеалом. Теперь он должен будет предстать перед ними во плоти и крови, чтобы осуществить идеал, который отныне должен стать политической реальностью. Для него политические аспекты Парижа были превыше всего. Учитывая, что коммунисты уже сделали заявку на власть, город был для де Голля личным и национальным императивом. Входя в палатку Верховного главнокомандующего, де Голль не меньше Эйзенхауэра был настроен решительно настоять на своем.
* * *
Полковник Лионель де Мармье из кабины «Франции» наблюдал за тремя людьми, медленно шагавшими к самолету по доходившей до щиколоток траве. На два шага впереди со сцепленными за спиной руками в одиночестве шел де Голль. Голова его была слегка наклонена, плечи опущены. В этот момент он показался своему пилоту «более меланхоличным, более отчужденным», чем когда бы то ни было. Вся тяжесть Вселенной, подумалось Мармье, давила на широкие плечи де Голля.
Шарль де Голль проиграл: Эйзенхауэр не согласился изменить свои планы и немедленно двинуться на Париж.
Встретившись, они сразу перешли к делу. Двигаясь от карты к карте, тыкая в них указкой с резиновым наконечником, Эйзенхауэр объяснил де Голлю, «к чему мы стремились и каковы были наши планы». Эйзенхауэр набросал на картах детали планировавшегося двойного охвата французской столицы, как он был изложен в оперативном исследовании по развитию операции «Нептун». В окончательной редакции этот документ попал на его стол лишь 48 часов назад, то есть за сутки до того, как над зданием Префектуры полиции взметнулся трехцветный флаг. Поскольку ситуация на фронте менялась быстро, Верховный главнокомандующий не установил сроков освобождения Парижа. Но для генерала де Голля информация на картах Эйзенхауэра не представляла загадки. Графики Эйзенхауэра его не касались.
Де Голль, вспоминал позднее Эйзенхауэр, «сразу же попросил нас пересмотреть позицию по Парижу. Он без обиняков заявил, что существует серьезная угроза городу со стороны коммунистов».
Он предупредил Верховного главнокомандующего, что если тот промедлит, то рискует столкнуться с «катастрофической политической ситуацией в городе, которая может даже отрицательно сказаться на военных усилиях союзников».
Несмотря на глубокое уважение к суждениям де Голля, Эйзенхауэр отказался изменить свои планы. Де Голль подозревал, что его колебания имели политическую подо‘ плеку. Верховный главнокомандующий будет позднее настаивать на том, что причины были «чисто военными». Эйзенхауэр считал, что было «слишком рано». Он по-прежнему был обеспокоен тем, что «мы могли бы ввязаться там в чертовски тяжелый бой».
Перед ссутулившимся, озабоченным человеком, шагавшим к самолету Мармье, ответ Эйзенхауэра ставил жестокую дилемму. Де Голлю приходилось принимать ужасное решение. Несколькими минутами ранее он намекнул стоявшему напротив хмурому американцу, каким оно может быть. Подчеркнуто корректный де Голль заявил Эйзенхауэру, что освобождение Парижа является столь первостепенной задачей для Франции, что, если у него не будет другого выхода, он готов вывести 2-ю Французскую бронетанковую дивизию из подчинения командованию союзников и направить ее в Париж своей властью. Париж для де Голля имел столь решающее значение, что он был готов ради этого разорвать четырехлетние союзнические связи.
Обернувшись к своему обеспокоенному помощнику, де Голль, прежде чем забраться в «локхид», спросил: «Где генерал Леклерк?»
10
Для коммуниста, возглавлявшего парижские ФФИ, перемирие Нордлинга, уже начинавшее устанавливаться в городе, было актом измены. Как только полковник Роль узнал об этом, он направил все свои силы на то, чтобы сорвать его. Этот грубоватый бретонец считал перемирие личной и политической изменой. В течение четырех лет, ведя в одиночку подпольную борьбу, он ждал этого момента, когда сможет вступить в открытый бой с поработителями своей страны. И никто не посмеет лишить его этого боя.
Точно так же, как его голлистские соперники готовы были применить любую тактику, чтобы установить в городе перемирие, Роль использовал все средства для того, чтобы помешать ему. По телефону, через курьеров и лично Роль подтверждал свою вчерашнюю команду: «Приказываю начать восстание. До тех пор, пока на улицах Парижа будет оставаться хоть один немец, мы должны сражаться». Своим хорошо дисциплинированным боевикам из отрядов ФТП он отдал срочный приказ атаковать немцев, где бы те ни находились. Он не позволит, чтобы звуки перестрелки исчезли с улиц Парижа. Тишина будет означать, что перемирие принято. К полудню в помощь Ролю коммунисты начали расклеивать на стенах города тысячи плакатов, осуждавших прекращение огня как трюк, предпринятый с целью «уничтожить рабочий класс Парижа» и позволить «тем, кто переполнен страхом и ненавистью к народу, провернуть свои грязные делишки».
И для голлистов, и для их противников общим полем битвы было массивное здание Префектуры полиции. В лабиринте его кабинетов и коридоров обе фракции сражались за контроль над ним. Они спорили почти с такой же страстью, как сражались с немцами накануне. Морис Кригель-Вальримон, коммунист, заброшенный в Префектуру, чтобы переманить рядовых полицейских из-под контроля голлистов, призывал их не подчиняться своим командирам. Во время одной из таких перепалок Александр де Сен-Фалль, казначей голлистов, схватил коммуниста за пухлую руку. «Если вы будете продолжать это ваше восстание, — гневно кричал он, — эта рука покроется кровью тысяч убитых парижан». Вальримон, вспоминал позднее Сен-Фалль, недоуменно уставился на свою руку.
Через несколько дверей в другой совещательной комнате молодой помощник Жака Шабан-Дельмаса Лоррен Крюз умолял своего собеседника согласиться на перемирие. Он был в отчаянии, ибо платой за этот политический шаг коммунистов будут 200 тысяч убитых и почерневшие руины города. Сидевший напротив флегматичный человек смотрел презрительно. Затем, грохнув ладонью по столу.
Роль ответил не менее страстно, чем его оппонент. Крюз никогда не забудет его слов.
— Париж, — провозгласил Роль, — стоит 200 тысяч мертвых.
* * *
Мало-помалу в результате настойчивого подстрекательства со стороны Роля восстание вновь обрело ту силу, которую было потеряло в начале дня. По всему городу дисциплинированные группы руководимых Ролем ФТП обстреливали проходящие немецкие патрули. Немцы, многие из которых насмехались над перемирием фон Хольтица, с готовностью открывали ответный огонь, а то и сами начинали стрельбу. Словно распускаемый свитер, перемирие начало разваливаться.
Те, кто из любопытства или по привычке вышел в это воскресенье прогуляться, оказались застигнутыми внезапным перекрестным огнем. Те из домовладельцев, кто несколько часов назад с радостью вывешивал в окнах трехцветные флаги, вдруг обнаружили, что они стали мишенью для немецких патрулей.
В извивающихся переулках между Сеной и Сен-Жермен-де-Пре, на улицах со столь причудливыми названиями, как Ша-ки-Пеш и Жи-ле-Кёр[23], замаскированные отряды ФФИ устроили засаду на четыре грузовика с немецкими солдатами. Некоторые из них в горящей одежде, вспыхивавшей от брызг «коктейлей Молотова», с воплями носились по этим боковым улочкам — живые факелы в тысячелетнем рае для жаждущих развлечений.
И город начал организовываться. На тайных типографиях люди, печатавшие ранее подпольные газеты, перешли на выпуск листовок о том, как сделать «коктейль Молотова» или построить баррикаду. Аптекари Парижа, у которых имелись запасы бертолетовой соли, становились содержателями городских арсеналов. Давно и, тайно организованные госпитали были переданы для нужд Сопротивления. В квартирах и лавках студенты-медики и юные девушки организовывали клиники скорой помощи. Добровольные санитары с носилками, большей частью подростки, заняли свои места по всему городу. В Лез-Алле складские рабочие — члены ФФИ — захватили все продовольствие, которое смогли найти, для нескольких ресторанов, превращенных в суповые кухни. Они предлагали голодным и нуждающимся в продуктах горожанам по тарелке горячего супа в день.
Но нигде во всем бурлящем городе работа Сопротивления не была организована с таким вкусом, как в квадратном сером здании на площади Пале-Рояль. Здесь, в Доме Мольера, мужчины и женщины из «Комеди Франсэз», национальной труппы Франции, превратили этот классический театр в госпиталь и укрепленный баррикадами опорный пункт. Мари Бель, королева французского театра с хрипловатым голосом, Лиз Деламар и Мони Дальме, две самые красивые молодые, актрисы, перерыли свои гардеробы в поисках ночных рубашек XVII века, которые превратились в униформу медсестер. Среди добровольных санитаров был и спокойный человек в роговых очках. Он выбрал ночное дежурство, поскольку полагал, что будет поспокойнее и он сможет изложить на бумаге свои личные впечатления от этих дней. Его звали Жан Поль Сартр. В бойлерной актеры сломали бережно охранявшийся тайник с оружием. Чтобы пополнить свои жалкие запасы, они разграбили собственные сундуки с реквизитом. Жак Дакмин надел костюм французской армии времен первой мировой войны и сохранил старый «винчестер», который ему выдали для этой роли. Другой актер — Жорж Маршаль, кудрявый кумир молодежи, — вооружился редким, старинным оружием — короткоствольным ружьем с раструбом, изготовленным в XVIII веке.
11
Натренированный глаз Дитриха фон Хольтица заметил у горизонта серую тучу, что предвещало городу новые ливни. Как обычно после обеда, Хольтиц стоял на своем маленьком балконе в отеле «Мёрис» и, глубоко вдыхая, наслаждался теплым августовским воздухом. В этот момент ничто в мире не могло бы так порадовать коренастого генерала, как продление полуденного оцепенения, в которое, казалось, погрузился город. Но он уже слышал приглушенные хлопки выстрелов из ручного оружия, сливавшиеся в короткие, прерывистые всплески шума по всему горизонту. Их отголоски вызвали у Хольтица чувство беспокойства.
Прислушиваясь к этим расползающимся звукам стрельбы, фон Хольтиц вспомнил разговор, состоявшийся у него с Йодлем около часа назад. Признание, которое он вынужден был сделать, — невольное предупреждение в адрес ОКВ о сложности ситуации в Париже — положило конец его надеждам отвлечь внимание фюрера от своего бедственного положения. Он знал: теперь Гитлер не даст ему покоя. Генерал понимал, что, если шведский дипломат не смог восстановить порядок в городе с помощью перемирия, Гитлер заставит его сделать это силой. В противном случае назначит на его место того, кто это сделает.
Его размышления вновь были прерваны телефонным звонком. Он вернулся в кабинет и снял трубку — на этот раз простого аппарата. До него донесся голос человека, требовавшего личного разговора с комендантом Большого Парижа.
— У аппарата, — ответил фон Хольтиц.
Говоривший представился. Это был офицер военного трибунала в Сен-Клу. Распираемый гордостью, он объявил Хольтицу, что захватил в автомашине, набитой оружием и документами, трех гражданских лиц, которые утверждали, что являются «министрами де Голля». По-видимому, добавил он, это наиболее важный улов в Париже за многие месяцы. Он спросил фон Хольтица, следует ли этих людей казнить на месте за ношение оружия или же передать в СД. Солдатам фон Хольтица был отдан приказ расстреливать на месте гражданских лиц с оружием, и поэтому он отреагировал соответственно.
«Да, конечно, — сказал он, — расстреляйте их». Но тут же передумал. Если эти люди действительно те, за кого себя выдают, то есть представители генерала де Голля в городе, то тогда, подумал Хольтиц, они, наверное, смогут восстановить в столице порядок.
— Привезите их ко мне, — приказал фон Хольтиц. — Я хочу их видеть, прежде чем вы их расстреляете.
Незадолго до прибытия арестованных в его кабинете появились запыхавшиеся генеральный консул Нордлинг и Бобби Бендер. Сюда их привело невероятное совпадение. На авеню Анри-Мартен во время обычной воскресной прогулки хорошенькая парижанка увидела, как в грузовике вермахта мимо нее проехали трое человек в наручниках. Среди них она узнала своего жениха. Нордлинг умолял фон Хольтица найти этих троих, вырвать их из рук СС, пока их не расстреляли. Он сообщил немцу, что это были как раз те люди, с которыми он накануне ночью вел переговоры о перемирии. Без них руководство городом наверняка перейдет к коммунистам. Один из них был даже министром Шарля де Голля. Его зовут Александр Пароди, сообщил фон Хольтицу Нордлинг.
Лицо генерала скривилось в улыбке. «Господин консул, — ответил он, — по-видимому, это как раз те господа, которых я ожидаю».
* * *
Комендант Большого Парижа поправил свой монокль и с любопытством уставился на троих мужчин, которых подтолкнули к нему два огромных охранника. За последние 24 часа фон Хольтиц часто задавался вопросом, как выглядят люди, возглавляющие это безликое восстание. Окажутся ли они, как утверждает его разведка, «хулиганами» или «коммунистами»? К своему удивлению, генерал увидел трех запуганных мужчин, мало чем отличающихся от тысяч клерков, которые заполняют улицы Парижа по окончании рабочего дня.
Некоторое время он разглядывал их, а затем, не удержавшись от едва заметной улыбки, выразил свое удивление по поводу того, что три руководителя тайного Сопротивления оказались настолько глупы, что отправились по улицам средь бела дня в машине, набитой оружием и компрометирующими документами. «Вы что, принимаете моих солдат за бой-скаутов?» — спросил он.
Но фон Хольтиц не за тем приказал доставить этих людей в свой кабинет, чтобы потренироваться в насмешках. Он собирался сообщить им о масштабах катастрофы, которая обрушится на Париж, если уже принятое перемирие не состоится. По всему городу вновь начались перестрелки, добавил он. Как военный губернатор Парижа, отвечающий за порядок и безопасность своих войск, он будет вынужден, не имея другого выхода, ответить насилием на насилие. Он предупредил арестованных, что со всей решимостью будет обеспечивать безопасность своих коммуникаций в самом Париже и транзитных. Если бои возобновятся, то последствия для столицы и ее жителей могут быть трагическими.
Фон Хольтиц заметил, как при этих словах Пароди побледнел. Этот человек ему сразу же не понравился. Упорный и бескомпромиссный Пароди не проявил покорности, которой, по мнению фон Хольтица, требовало его положение. Теперь заговорил француз. Он тоже хочет порядка в городе. Но добавил: «Вы, генерал, командуете армией. Вы отдаете приказы, и ваши люди подчиняются. Сопротивление состоит из многих отрядов, и я контролирую далеко не все».
Фон Хольтиц оценивал его долгим взглядом. Несколько минут назад у него возникло сильное желание приказать, чтобы этого самонадеянного французишку расстреляли прямо под окнами, в саду Тюильри. Однако он не оставил надежды, что из этой встречи может что-то получиться. Если его предостережения действительно дошли до этих людей, то их влияние может помочь сохранить нордлинговское перемирие. Обернувшись к шведу, он сказал: «Господин консул, поскольку эти люди были арестованы после прекращения огня, я решил передать их на ваше попечение».
С этими словами немец встал и вышел из-за стола. Он спросил Пароди, является ли тот офицером. Француз ответил, что он офицер запаса. «В таком случае, — сказал фон Хольтиц, — между офицерами такой жест допускается». И с этими словами прусский генерал протянул руку человеку, которому он только что сохранил жизнь.
Но Пароди отказался ее пожать.
Нордлинг заметил, как краска залила лицо фон Хольтица. Это был жест, который фон Хольтиц и двадцать лет спустя вспоминал с горечью. Но не меньше его был взбешен офицер фельджандармерии, доставивший трех пленников. Когда этот офицер провожал их вниз по лестнице отеля «Мёрис», другой офицер услышал его бормотание: «Мы вас достанем». Бобби Бендер обогнал эту маленькую группу и выскочил на улицу. Слева, у тротуара улицы Риволи, он увидел черный «паккард» с работавшим на холостых оборотах двигателем. Рядом с водителем сидел человек в гражданском и наблюдал за группой. Перед ним на приборной панели поблескивал вороненой сталью автомат.
Агент абвера подошел к машине Нордлинга. Он сказал шведу и сопровождавшим его трем французам, чтобы они не отъезжали, пока он не заведет свою машину.
Бобби нажал на стартер своего «ситроена», запаркованного недалеко от машины консула. Под его капотом был секрет, который через несколько секунд спасет жизнь Нордлингу и сидевшим рядом трем голлистским лидерам. Бендер, будучи до войны агентом фирмы «Ситроен», установил в своей машине гоночный двигатель — во всем Париже не было быстрее автомобиля. Машина Нордлинга тронулась. И тут же, как Бендер и ожидал, черный «паккард» пристроился за ней. Бендер вдавил акселератор.
Визг колес заставил фон Хольтица броситься на балкон. В конце улицы Риволи, у въезда на площадь Согласия, он увидел, как «ситроен» Бендера под прямым углом перерезал дорогу черному «паккарду». На другом конце площади скрывался из виду «ситроен» Нордлинга с развевающимся шведским флажком. Фон Хольтиц все понял. Кровожадные агенты СД — им закон не писан — попытались заполучить назад голлистов, которых он только что освободил. Они готовы были расстрелять их, а заодно и генерального консула Швеции почти на ступенях его дома.
— Боже мой, — подумал фон Хольтиц, — им просто повезло.
* * *
На ужин мужчины съели груши. В старинной вилле в деревне Сен-Ном-ла-Бретеш, где они укрылись на ночь, они нашли только эту горстку перезрелых фруктов. Из-за ржавых ворот виллы до них доносились стук дождя по мощеным улицам и зловещий топот проходящего батальона СС, занимавшего этот городок. Майор Роже Галлуа и его проводник доктор Робер Моно были удручены. За полдня им удалось продвинуться только до этой деревни, расположенной в восемнадцати милях от Парижа и все еще в тылу у немцев.
Галлуа, начальнику штаба возглавлявшихся Ролем парижских ФФИ, было приказано следовать за Моно через линию фронта для выполнения наиболее ответственного задания, которое он когда-либо получал от Сопротивления. Роль послал его просить союзников о массовой заброске оружия, с помощью которого Роль надеялся завершить восстание и установить в Париже власть победоносного коммунистического крыла Сопротивления.
Галлуа и Моно были старыми друзьями; но на этой сырой вилле они оказались вместе по чистой случайности. Будучи инспектором лечебных заведений в районе вокруг Парижа и одновременно главой медицинской службы Сопротивления в этом же районе, доктор Моно имел автомашину и достаточно немецких пропусков, чтобы при желании добраться до Берлина. Благодаря этой редкой привилегии и родилась идея поездки.
На протяжении многих недель Моно наблюдал, как коммунисты внедряли своих агентов во все звенья Сопротивления, включая его собственную контору. Моно считал восстание первым шагом к коммунистическому перевороту и решил помешать этому. В субботу вечером от одного из своих агентов он узнал о существовании в немецкой линии обороны прохода. Он предложил Ролю провести через линию фронта человека, который «установит связь с союзниками и попросит у них оружие». Как он и надеялся, Роль сразу же ухватился за эту идею.
В сырой и затхлой вилле Моно спокойно и аргументированно объяснил Галлуа, что просить о заброске в Париж оружия было бы жестокой и непоправимой ошибкой. Просить американцев забросить в Париж хотя бы один-единственный патрон — значит послужить подготовке коммунистического переворота. Не оружия надо просить, уговаривал доктор, а как можно быстрее привести в Париж союзников и прежде всего де Голля.
Галлуа знал, что Роль не торопится увидеть, как на улицы Парижа вкатываются «шерманы» союзников с огромными белыми звездами на броне. Лидер коммунистического крыла ФФИ хотел получить пулеметы Эйзенхауэра, а не его солдат. Одержимый идеей получить оружие, Роль совершил тактическую ошибку, послав на задание, вероятно, единственного человека из своего штаба, который был восприимчив к настоятельным уговорам Моно.
Единственная свеча в комнате зашипела и погасла в расплавленном воске, и в погрузившейся во тьму вилле повисло долгое молчание. Наконец Галлуа заговорил. «Робер, — сказал он, — по-моему, ты прав».
Под шум хлеставшего по черепице дождя спутники уснули. Через несколько часов Роже Галлуа, безвестный боец французского Сопротивления, переодетый в брата милосердия, добьется того, чего не смог сделать даже Шарль де Голль. Он убедит Дуайта Эйзенхауэра изменить свои планы и направить войска в Париж.
12
21 августа
Это была ночь для заговорщиков. Нормандский яблоневый сад стоял черной молчаливой массой под безлунным небом. Низкие остроконечные очертания тентов, разбросанных среди деревьев, были почти невидимы. До рассвета остался еще час. На краю узкой дороги, ведущей из сада в сторону маленького поселка Экуше, стояла штабная машина. Ее фары были потушены, мотор тихо работал на холостых оборотах. Высокий человек, бесшумно ступая по влажной от росы траве, подошел к машине и сел рядом с водителем. С собой он принес портфель из кожи катамбуру — чадской антилопы. В портфеле лежал листок белой бумаги и карта масштаба 1: 1 000 000 с проставленным на ней серийным номером 10Г. В центре ее было большое, неправильной формы черное пятно — город Париж.
Когда машина плавно заскользила вперед, из темноты выплыла фигура другого человека, опиравшегося на трость. «Вы счастливчик», — тихо сказал он сидевшему рядом с водителем пассажиру.
Человек с тростью был генерал Жак Филипп Леклерк, командующий 2-й Французской бронетанковой дивизией, штабные палатки которой располагались в этом саду. Не согласовав ни с кем, под собственную ответственность он отдал приказ об этом скрытом отъезде.
Подполковника Жака де Гийбона, тридцати четырех лет, которому Леклерк только что прошептал прощальные слова, дорога через Экуше должна была привести к черному пятну на его карте. Из всех воинов освободительной армии он должен стать первым, кто войдет в столицу Франции. Располагая 17 легкими танками, 10 бронемашинами и двумя взводами пехоты, он должен был «представлять французскую армию в свободной столице» и стать французским военным губернатором в Париже.
После отъезда Гийбона остальные члены этого специального контингента бесшумно забрались в машины и начали отъезжать в сторону сборного пункта за околицей деревушки Экуше. Они были отобраны из всех районов дислокации бронетанковой дивизии, разбросанных по сельской Нормандии, с тем чтобы их отсутствие не бросалось в глаза. Их походные кухни, ранцы, баки были заполнены достаточным количеством боеприпасов, пайков и горючего, чтобы добраться до Страсбурга. Перед отъездом каждый офицер получил по листу желтой бумаги, на которой Гийбон собственноручно написал: «Конфиденциально», и одну-единственную, но самую важную инструкцию. Она сводилась к лаконичной фразе: «Избегать американцев любой ценой».
Сидя в грустном одиночестве на ступеньках своего командного фургона, Леклерк прислушивался к затихающему в ночи шуму удаляющейся штабной машины Гий-бона и размышлял о только что предпринятом им смелом шаге. Он понимал, что это было открытое неповиновение союзному командованию, от которого он зависел. Но Леклерк был связан клятвой, той самой клятвой, которую дал самому себе три года назад на первой же из захваченных им вражеских позиций — в форте Куфра в Ливийской пустыне. Там, в 1800 милях от столицы Франции, от поклялся освободить Париж.
Другие дивизии в подчинении союзного командования уже наносили удары вблизи города, тогда как он и его люди, входившие в единственную французскую дивизию на Нормандском фронте, нетерпеливо ожидали подходящего случая в яблоневом саду. Он боялся, что союзники войдут в город без него. Шесть дней назад он написал генералу Паттону, прося отстранить его от командования дивизией, если она не будет участвовать в освобождении Парижа. На всякий случай, чтобы полностью не лишиться этой чести, он и отправил Гийбона в путь по дороге на Экуше.
За три дня до того как Шарль де Голль пригрозил вывести 2-ю Французскую бронетанковую дивизию из-под союзного командования, Леклерк по собственной инициативе подготовил дивизию именно к такому шагу. Дуайт Эйзенхауэр ошибался: 2-я бронетанковая могла бы передвигаться и без помощи союзников. Она могла дойти даже до Парижа. В течение четырех дней по приказу Леклерка бензовозы вывозили со складов двойные нормы, выбирая по четыре тонны горючего в день вместо двух. Его командиры полков не докладывали о потерях боевой техники и по-прежнему требовали горючее и боеприпасы для уничтоженных машин. А в последние три ночи, отвлекая американских часовых, солдаты дивизии при свете луны реквизировали со складов союзников остальное горючее и боеприпасы, которые им были необходимы. В это раннее утро 2 тысячи машин и 16 тысяч человек, составлявших 2-ю Французскую бронетанковую дивизию, были готовы отправиться вслед за штабной машиной Жака Гийбона до самого Парижа, если бы Леклерк — или де Голль — отдал такой приказ. Но несмотря на отчаянные призывы к своему американскому начальству, Леклерк не получал никаких приказов, кроме как «сидите смирно и наберитесь терпения».
Теперь Леклерк был доволен. Символическое подразделение его дивизии под командованием такого же пикардийца, как и он сам, наконец-то находилось на пути к Парижу. Вскоре и он последует этой дорогой. Лишь одно беспокоило его: американское начальство не должно знать об этом шаге до тех пор, пока не будет слишком поздно что-либо изменить.
Прежде чем отправиться спать, Леклерк предпринял еще один шаг — последнюю меру предосторожности. Он разбудил капитана Алена де Буассье, командовавшего отделением охраны. Указав на джип и стоявшую позади палатку, Леклерк приказал де Буассье вежливо похитить двух человек из этой палатки. «Отвези их на маленькую экскурсию», — сказал Леклерк. Из 16 тысяч человек в его дивизии лейтенант Дик Рифкинд и капитан Боб Хой были единственными, кто мог сообщить об исчезновении Гийбона начальству Леклерка в V корпусе Соединенных Штатов. Они были американскими офицерами связи.
* * *
В Париже другая группа заговорщиков также пробиралась тайком в предрассветной темноте. Среди людей, бесшумно проскальзывавших через открытый люк в здании Парижского управления водоснабжения и канализации, был самый непримиримый враг Дитриха фон Хольтица — полковник Роль. Роль осторожно спустился по 138 каменным ступенькам в свой новый, подземный командный пункт. В самом низу со скрежетом открылась бронированная дверь. Здесь, у основания Парижа, среди черепов и скелетов сорока поколений парижан на глубине 90 футов находилась секретная крепость, из которой отныне он будет руководить сражениями на улицах города. Она носила кодовое наименование «Дюро» в честь другого французского воина — маршала наполеоновских армий. Ее дверь вела в город под городом, каковым были 300 миль тоннелей, пронизывавших основание Парижа в виде канализации, метро и катакомб.
Войдя в «Дюро» и осветив фонарем комнату, чтобы как-то осмотреться, Роль вздрогнул от удивления, о чем вспоминал даже двадцать лет спустя. На установленной под потолком вентиляционной машине Роль высветил табличку с именем изготовителя. Он хорошо знал это имя и машину, сделанную по специальному заказу. Восемь лет назад, до того как отправиться воевать в Испанию, Анри Танги (ныне полковник Роль), простой рабочий, склепал швы этого вентилятора, который теперь будет очищать для него воздух в самые славные часы его жизни.
Это был не единственный сюрприз для него в то утро. В этом секретном убежище был телефон, специальный телефон, который независимо от парижской телефонной сети соединялся с 250 постами Парижского управления водоснабжения и канализации. Это была сеть, на которой не было установлено немецких подслушивающих устройств и которая вскоре позволит Ролю командовать восстанием. Телефон зазвонил. При этом звуке сопровождавшие Роля люди замерли. Их проводник, постоянный обходчик этой подземной камеры, поднял трубку. Из нее до Роля донеслись два слова, на всю комнату отчетливо произнесенных гортанным голосом: «Аллее гут?»
— Йа, йа, — ответил сопровождавший Роля. — Аллес гут.
В двух милях отсюда, в комнате 347 отеля «Крийон», лейтенант Отто Думмлер из плацкомендатуры — единственный немец, знавший о существовании «Дюро», — повесил трубку и вздохнул с облегчением. Думмлер знал канализационную сеть Парижа так же хорошо, как улицы своего родного Штутгарта. Этот немецкий офицер отвечал за ее содержание, безопасность и оборону. На протяжении двух лет каждое утро с завидной пунктуальностью он звонил смотрителю «Дюро», чтобы задать этот вопрос. Ежедневно до конца недели он будет по-прежнему звонить в один и тот же час и получать из штаба восстания, которое его соотечественники пытались подавить, успокаивающий ответ: «Аллее гут».
13
От набережных Сены в Сен-Клу до мрачных трущоб Пантена и Сен-Дени, от склонов Монмартра через извилистые аллеи Латинского квартала и до отдаленных уголков Монпарнаса — повсюду на мостовых Парижа вырастали, словно нарциссы после апрельского дождя, баррикады Роля. К вечеру их будут уже десятки; ко времени прибытия союзников — свыше четырехсот, самой разнообразной формы и высоты — по росту людей, которые их строили.
На углу улицы Сен-Жак приходской священник, бывший когда-то инженером, зажав во рту трубку и подвернув до колен сутану, показывал своим прихожанам, как строить баррикаду; они увенчали ее огромными портретами Гитлера и Геринга. На улице Ушетт в квартале от Сены, напротив осажденной Префектуры полиции, работы возглавляла женщина — Колетт Бриан, голова которой утопала в огромном немецком шлеме.
Все, что можно было передвинуть или унести, сваливалось в баррикады. Женщины и дети передавали из рук в руки булыжники, по мере того как их вырывали из мостовых. Приготовленные гражданской обороной мешки с песком, решетки от сточных колодцев, деревья, сожженные немецкие грузовики, огромный рояль, матрасы, мебель, старые вывески типа «Сегодня вечером тираж национальной лотереи» или «Мочиться запрещено» — все использовалось для их сооружения. На улице Дофин у моста Пон-Нёф, почти на краю острова Сите, стержнем такой баррикады был величаво и гордо возвышавшийся зеленый писсуар. На улице Буси торговец антиквариатом выгреб из своего подвала все, что могло укрепить баррикаду, воздвигнутую у его двери.
Но, вероятно, наиболее величественной из всех баррикад города была каменная кладка, воздвигнутая группой будущих инженеров на пересечении бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель в центре Латинского квартала. Она была полностью сложена из булыжника, имела толщину 6 футов и занимала доминирующую позицию на одном из важнейших перекрестков города, который вскоре получил название «Перекресток смерти».
Перед кафе «Универ», расположенном напротив «Комеди Франсэз», актеры театра построили собственную баррикаду, заполнив ее середину всем, что оставалось на складе декораций. Она показалась им щуплой и ненадежной. Чтобы отвадить немецкие танки, они решили использовать психологию. Баррикаду окружили кольцом из консервных банок. На каждой по-немецки было написано: «Внимание! Мины!». За всю неделю ни один немецкий танк не отважился подойти к их хрупкой крепости.
Быстрое возникновение баррикад принесло Ролю огромное удовлетворение. Теперь его беспокоило оружие. От Лоррена Крюза — молодого помощника Шабан-Дельмаса, которому он накануне заявил, что Париж стоит 200 тысяч мертвых, — Роль потребовал боевые средства, которые позволили бы добиться, чтобы справедливая доля этих мертвецов состояла из немцев. Не зная ничего о судьбе Галлуа и его миссии, он попросил организовать массовую парашютную заброску в город оружия союзников. В представленном Крюзу списке он просил 10 тысяч гранат «Гаммон», 5 тонн взрывчатки и несколько тысяч футов бикфордова шнура, а также стрелковое оружие и боеприпасы. Шабан-Дельмас контролировал радио, через которое должен был быть передан этот запрос, и Роль подозревал, что он никогда не попадет в Лондон, а если и попадет, то будет проигнорирован.
* * *
Коренастый молодой человек с силой бросил телефонную трубку. Ивону Моранда срочно требовалось 30 бойцов ФФИ, лояльных де Голлю. Во всем вооруженном Париже он не смог найти ни одного. Этот профсоюзный вожак должен был сыграть ключевую роль в смелой операции голлистов под названием «Захват власти». Он понимал, что ему придется действовать в одиночку или почти в одиночку. Он должен был захватить отель «Матиньон», в котором находилась резиденция премьер-министров Франции. И только один человек был готов помочь ему в этом — его секретарша и невеста, блондинка с ямочками на щеках по имени Клер.
Александр Пароди принял решение о начале операции несколько минут назад в этой скромной квартире на улице Сент-Огюстен, где находились сейчас Моранда и Клер. Давно и тщательно подготовленная, одобренная Лондоном операция «Захват власти» была, по признанию Пароди и Моранда, «психологическим блефом».
Пароди понимал, что жест Дитриха фон Хольтица прошлой ночью, возможно, спас ему жизнь, но мог скомпрометировать его авторитет. Перемирие, с помощью которого он надеялся спасти Париж, разваливалось; восстание, которое он хотел заморозить, вновь нарастало. Теперь уже от того времени, которое он пытался выиграть, оставалось лишь несколько часов. Пока внимание его соперников было по-прежнему приковано к перемирию, Пароди решил использовать эти последние часы не для того, чтобы сохранить настоящее, а чтобы обеспечить будущее. Пароди попытается одним махом утвердить правительство Шарля де Голля в восставшем Париже. С помощью операции «Захват власти» он обойдет коммунистов в борьбе за ключевые органы власти в столице.
У каждого министра в кабинете де Голля в столице был тщательно подобранный дублер — заместитель, который должен был выполнять функции министра до его прибытия. Согласно плану операции «Захват власти», Пароди должен был заняться расстановками по министерствам. Затем он решил созвать этих «министров» на символическое заседание кабинета в резиденции премьер-министра в отеле «Матиньон». Оттуда, совершив смелый шаг, он публично провозгласит, что правительство де Голля вышло из подполья и функционирует. Если коммунисты захотят узурпировать эти органы власти, им придется вначале сместить людей Пароди, а затем публично дезавуировать созданный им костяк власти.
С целью поддержать Пароди голлисты из состава «Делегасьон женераль» начали доставлять в Париж из своих тщательно охраняемых тайников на плато выше Туссона сотни единиц оружия. Оно понадобится для того, чтобы вооружить их собственную «преторианскую гвардию» — группу под названием «Правительственные силы». Она была составлена из преданных голлистов и надежных людей в полиции, жандармерии и мобильной охране. Эти люди, которым было приказано удерживать столицу Франции до прибытия Шарля де Голля, знали, что в предстоящие дни, им, возможно, придется обороняться в тех зданиях, в которых они находились. И они опасались, что нападающими будут не только серо-зеленые солдаты вермахта.
Моранда, 26-летний профсоюзный деятель, избранный начать эту политическую игру, отодвинул занавеску в доме на улице Сент-Огюстен и выглянул на улицу. Его охватил страх, когда он увидел, что улица полна немцев. Здание было окружено. Кто-то выдал место совещания. Всего за несколько дней до освобождения оказаться в руках гестапо, подумал он в отчаянии.
Однако с удивлением и облегчением Моранда увидел, что ошибся. Немецкие солдаты у него под окном прочесывали расположенный по соседству публичный дом.
Моранда спустился вниз. Сев на велосипед, он отправился вместе с Клер захватывать резиденцию премьер-министра Франции. Прекрасно развитое чувство логики повлекло его прямо на авеню Матиньон у начала Елисейских полей. Но, к своему удивлению, на единственном общественном здании на авеню Матиньон он увидел развевавшуюся свастику, а у входа — немецких часовых. Моранда подкатил к пожилому французу, выгуливавшему своего пуделя. Сбитый с толку, Моранда вынужден был спросить у него дорогу. Молодой голлист, посланный захватить резиденцию премьер-министра Франции, только сейчас понял, что не знает, где она находится.
14
Ивон Моранда все-таки прибыл туда, куда стремился. Он нашел отель «Матиньон» на улице Варенн, на противоположном от Елисейских полей левом берегу Сены. Прислонив велосипед в укромном месте к желтой стене здания, он и Клер приблизились к огромным зеленым воротам, которые четырьмя днями ранее захлопнулись за Пьером Лавалем. Моранда решительно постучал. В воротах открылось маленькое окошко, и прижатой к нему вплотную физиономии Моранда объявил, что пришел к командиру. В ответ деревянные ворота со скрипом отворились.
Представшее глазам Моранды зрелище привело его в смятение. На устланном гравием дворе симметричными рядами лежало оружие, а рядом с пристегнутыми к поясам на черной униформе гранатами прохаживалось свыше сотни человек из личной охраны Лаваля. В наступившем осторожном и уважительном, как он надеялся, молчании Моранда, держа Клер под руку, прошел в угол двора.
«Подожди, Ивон, — прошептала Клер, — надень это», — и она протянула Моранде его трехцветную повязку. Затем дрожащими пальцами натянула такую же на рукав своего платья. Командир охраны, самодовольный коротышка, прохрустел по белому гравию в их сторону. Моранда не знал, что делать. «Если там будет оппозиция, — говорил ему Пароди, — уходите». «Если это оппозиция, — подумал Моранда, — меня вынесут в гробу».
— Я командир, — прохрипел представший перед ним коротышка. — Что вы хотите?
И в этот момент Моранда принял решение. Громовым голосом, достойным глашатаев прошлого, не допускающим возражений тоном, который удивил его самого, он объявил: «Я пришел, чтобы занять эти помещения от имени Временного правительства Французской Республики».
Маленький человечек, в течение четырех лет преданно служивший правительству Виши, вытянулся по стойке «смирно». «В вашем распоряжении, — сказал он. — Я всегда был убежденным республиканцем».
Он подал охране команду «смирно», и Клер в летнем платьице и Моранда в одной рубашке продефилировали мимо них к мраморным ступенькам, ведущим в прекрасную резиденцию. На верхних ступенях их уже ждал метрдотель в черном фраке с белой бабочкой и висящей на шее серебряной печатью, символизирующей его должность.
Полным достоинства кивком и грациозным взмахом руки в белой перчатке он пригласил их в дом, а затем повел показывать комнаты. Он показал им пустой кабинет Лаваля — письменный стол все еще стоял с выдвинутыми ящиками, — после чего повел в жилые помещения, мимо элегантных апартаментов и отделанной мрамором ванной комнаты, в которой Пьер Лаваль при свечах мылся последний раз четыре дня назад. Метр предложил Моранде занять соседнюю с ванной Зеленую комнату для личных нужд.
А что, спросил Моранда, находится в Зеленой комнате? Едва заметно выказав свое удивление, метрдотель в белых перчатках сообщил новому владельцу этой комнаты: «Это спальня премьер-министра Франции».
* * *
Путешествие Роже Галлуа, посланного Ролем просить оружие у союзников, подходило к концу. Глядя в упор на измученного француза, за разворошенным стогом сена сидел немецкий солдат — последний человек, отделявший Роже Галлуа от небольшой группы американцев всего в 500 ярдах отсюда. В течение многих часов Галлуа маневрировал, чтобы добраться из виллы, в которой он и сопровождавший его хирург провели дождливую ночь, в городок Пюссе на пересечении дорог в 56 милях к западу от Парижа.
Оставшись теперь уже без сопровождения, он пошел на обоснованный риск. Немец, подумал он, не станет открывать огонь по одному-единственному гражданскому и выдавать свою позицию американцам. Галлуа двинулся мимо немца. Сердце его бешено колотилось, а в пересохшем от волнения рту появился горький привкус шампанского, которым он угостился в обед. Как он и предполагал, немец наблюдал за ним, выражая свое отношение к происходящему лишь мрачным взглядом.
Его тактика сработала! Он пересек немецкую линию фронта! Ликуя, почти лишившись рассудка от переполнявшего его чувства триумфа, грязный, небритый француз бросился к первым в своей жизни американским солдатам.
Солдат, к которому он подошел, сидел на корточках в придорожной канаве и ел что-то из зеленой банки. Обращаясь к нему, Галлуа с восторгом объявил: «Я прибыл из Парижа с посланием к генералу Эйзенхауэру!»
Солдат извлек ложкой очередную порцию клейкой массы и взглянул на Галлуа. «Да? — отреагировал он. — Ну так и что?»
15
Однажды в такой же августовский день самолеты гарманского воздушного флота № 3, который сейчас представлял сидевший рядом с Дитрихом фон Хольтицем румяный майор, заполнили небо Франции, бесконечно курсируя громадной массой через Ла-Манш до Лондона. Но это было четыре года назад, в другое лето. Теперь костяк этого воздушного флота во Франции составляли 150 бомбардировщиков, размещенных в аэропорту Ле Бурже, в семи милях от комнаты в отеле «Мёрис», в которой эти двое беседовали. Вскоре даже этим самолетам придется отправиться на север или подвергнуться риску уничтожения. Но прежде чем удалиться, их новый командующий предлагал украсить еще одним лавровым венком этот флот, на гербе которого уже красовались слова — Роттердам, Лондон и Ковентри.
Генерал-оберст Отто Десслох сменил толстого и нерешительного генерал-фельдмаршала Гуго Шперле на посту командующего воздушным флотом № 3 в полдень 18 августа, имея приказ вернуть самолеты в небо над Западным фронтом. В качестве одного из первых шагов он направил к фон Хольтицу этого майора, чтобы предложить помощь люфтваффе в ликвидации беспорядков в Париже. Первой реакцией фон Хольтица было вновь вернуться к отмененному им рейду на Префектуру полиции. Но у майора было другое предложение. Рейд мог бы быть осуществлен ночью на более обширную территорию. Ему не смогли бы помешать ни зенитный огонь, ни истребители союзников. Это был простой, безопасный, хотя и несколько дикий, способ положить конец восстанию в районе Большого Парижа. Он предлагал сровнять с землей северо-восточный сектор города путем длительной и массированной бомбардировки.
Пухлым пальцем майор очертил на карте фон Хольтица рабочие кварталы Парижа, которые имел в виду. Палец скользнул с вершин Монмартра на восток к мрачным кварталам Пантена, от Бутт-Шомона на север к пустому скотопригонному двору у Виеетских ворот. Он выбрал этот район, поскольку Ле Бурже находился лишь в пяти милях отсюда. С этого аэродрома его самолеты могли бы, сменяя друг друга, доставлять свой смертоносный груз в район проживания 800 тысяч человек. По его оценке, каждый самолет мог бы совершить как минимум 10 вылетов, освободив таким образом подземные склады Ле Бурже, набитые боеприпасами. В противном случае отступающий люфтваффе не смог бы ни вывезти, ни использовать эти запасы.
Майор обещал, что после ночи бомбометания с низкой высоты по четко определенным и незащищенным целям в северо-восточной части Парижа не пробежит «ни кошка, ни собака». Это будет «маленький Гамбург». Это сравнение фон Хольтиц запомнил на всю жизнь. Употребивший его офицер был уроженцем этого ганзейского порта. В «огневом рейде» на город в июле 1943 года он потерял жену и двоих детей.
По плану от Хольтица требовалось лишь вывести своих людей, четко обозначить район огнями, разрушить водопровод, чтобы возникший пожар нельзя было остановить, — если он захочет — за несколько минут до налета предупредить население.
В то утро фон Хольтиц искал средство усмирить население. Жест, который он сделал накануне, освободив Александра Пароди и двух его помощников, не принес ожидаемых результатов. Казалось, вместо того чтобы сдержать восстание, он помог его распространению. По всему городу, как из-под земли, вырастали баррикады. На его столе лежало наиболее неприятное и убедительное из всех полученных им свидетельств силы восстания: список немецких потерь. В воскресенье, когда он якобы заключил с восставшими перемирие, потери составили свыше 75 человек убитыми — больше, чем в субботу, когда восстание только начиналось.
Сейчас его первейший долг — думать о своих солдатах. Предложение майора было «жестоким и кровавым», но, рассуждал фон Хольтиц, «оно бы показало населению, что я могу постоять за себя». Это было самое меньшее, что он мог сделать для своих солдат. Он ответил майору, что отдаст приказание своему штабу подготовить план рейда.
* * *
Среди разбросанных телеграмм на полированной поверхности стола времен Людовика XVI лежал лист чистой бумаги. В его левом верхнем углу Председатель Временного правительства Французской Республики распорядился черным шрифтом отпечатать простую шапку: «Генерал де Голль». По мнению сидевшего за столом прямого, подтянутого человека, эти слова в достаточной степени отражали суверенитет Франции. Сидя в одиночестве в кабинете префекта департамента Ренн, генерал де Голль своим аккуратным, с наклоном, почерком выводил на листе последний призыв к генералу Эйзенхауэру.
Всю ночь и все утро подпольные передатчики Жака Шабан-Дельмаса и Александра Пароди забрасывали его срочными просьбами о немедленном вводе войск союзников. Наиболее срочная из радиограмм гласила: «Начатое в субботу и сдерживаемое в течение двух дней перемирием восстание… выйдет из-под контроля к сегодняшнему вечеру. Бои завтра по всему Парижу при трагическом неравновесии сил представляются неизбежными».
Ухудшение ситуации, судя по этим сообщениям, представлялось де Голлю столь серьезным, что нельзя было допустить, чтобы что-то помешало приходу в Париж его собственных и союзнических войск. Он понимал, каждый час промедления давал преимущество его политическим противникам. Хаос и анархия, которые они стремились спровоцировать в ходе восстания, вскоре станут всеобщими. Беспорядок, в условиях которого они надеялись осуществить свои политические замыслы, приобретет угрожающие масштабы. Шарль де Голль считал опасность столь реальной, что, выступая от имени суверенной Франции, пошел на риск, на который не отважились даже его союзники. Оккупация столицы необходима столь срочно, писал он, что должна быть предпринята, «даже если в результате в городе возникнут бои и разрушения».
Для доставки этого письма Эйзенхауэру де Голль выбрал единственного человека во Франции, который, помимо его собственных братьев, имел право обращаться к нему на «ты». Передавая письмо генералу Альфонсу Жуэну, прославленному завоевателю Монте-Кассино, де Голль просил его сообщить Верховному главнокомандующему кое-что на словах. Если эта последняя просьба останется без внимания, он будет вынужден вывести 2-ю Французскую бронетанковую дивизию из подчинения Верховного командования союзников и собственным распоряжением направить ее в Париж.
Когда дверь за Жуэном закрылась, де Голль вынул другой лист бумаги и составил второе письмо, на этот раз Леклерку, командиру 2-й бронетанковой дивизии. Нетерпеливому молодому генералу, первое, тайно отправленное подразделение которого уже незаметно пробиралось мимо шпилей Шартра, де Голль адресовал официальное предупреждение. Его угроза Эйзенхауэру не была пустым звуком. Несмотря на всю тяжесть такого решения и его возможных последствий, де Голль был готов ради Парижа пойти на разрыв с командованием союзников. Он приказал Леклерку быть готовым к тому, что ему придется не подчиняться приказам своих командиров и считать себя в непосредственном распоряжении Французского правительства. Если Эйзенхауэр не намерен посылать Леклерка в Париж, то это сделает де Голль.
* * *
Слова, выплескивавшиеся из телефонной трубки, которую прижимал к уху Дитрих фон Хольтиц, звучали с неумолимой ясностью. С особым высокомерием, которое он приберегал для своих генералов, генерал-фельдмаршал Вальтер Модель отчитывал парижского командующего за неспособность поддержать порядок в столице. До него даже дошли слухи, сообщил он Хольтицу, что тот заключал какие-то соглашения с окопавшимися в городе террористами.
Побагровев от стыда и страха, фон Хольтиц отверг эти обвинения. Модель поверил ему, но предупредил о недопустимости «превышать полномочия в отношении Парижа». Модель был раздражен и нетерпелив. Все, чего он хотел от Хольтица, это порядка в Париже. И он рассчитывал, что «для его восстановления фон Хольтиц использует все имеющиеся средства». Фон Хольтиц пообещал ему это, но предупредил фельдмаршала, что, если ситуация выйдет из-под контроля, ему потребуются подкрепления. Модель разразился потоком гневных обвинений. «Обходитесь тем, что у вас есть», — сказал он командующему парижским округом. В конце концов, уступив настойчивым просьбам фон Хольтица, он согласился выделить ему часть 48-й пехотной дивизии, которая перебрасывалась из Нидерландов.
Нетерпение и раздражительность Моделя были понятны. Почти 48 часов фельдмаршал действовал вопреки распоряжениям того, кто ждал от него чудес. Со стороны человека, испытывавшего безмерную личную привязанность к фюреру, такие действия были необъяснимы.
В воскресенье, через несколько часов после того, как он в присутствии Шпейделя решил главное внимание уделить выводу своих войск за Сену, он получил новый приказ, в котором в самой категоричной форме заявлялось, что его главной задачей является оборона парижского плацдарма. Приказ был скреплен личной печатью хозяина рейха. Моделю было приказано «удерживать парижский плацдарм любой ценой» и стоять на нем, «невзирая на разрушения», которые могут возникнуть в городе. Никто лучше Моделя не знал, что «любой ценой» означало для человека, чье имя стояло на телеграмме, борьбу до последнего солдата, такую борьбу, которая ассоциировалась со словами Сталинград, Смоленск и Монте-Кассино.
Этот приказ, первый из подготовленных на вечернем стратегическом совещании у фюрера, поступил в штаб Западного фронта в 11.30 вечера. К этому времени отданные Моделем ранее распоряжения 5-й бронетанковой армии начать подготовку к отходу за Сену уже ушли. Фельдмаршал, по-видимому, решил, что отменять их уже поздно. Приказ застиг танковые части, которые Гитлер распорядился направить в Париж, буквально на полпути.
В некотором смысле в таком же положении оказался и сам Модель. Единственным утешением было то, что его попытка выиграть время на подступах к Парижу сработала. По докладам оперативного отдела, там наблюдались «лишь ограниченные разведывательные действия противника». Может быть, в силу того, что он сам считал позиции своих войск вдоль Сены вполне надежными, может быть, из-за того, что сомневался в стратегической целесообразности уличных боев в Париже, но позднее в тот же день Модель предложил организовать оборону Парижа к северу и востоку от города. На это он получил от Йодля грубый и категорический отказ. В выражениях, не оставлявших Моделю никакого выбора, Йодль заявил, что Париж следует оборонять не с севера или востока, а в самом городе.
Теперь же, завершая сердитый разговор с командующим парижским округом, Модель во второй раз за последние 24 часа не удосужился проинформировать фон Хольтица о том чрезвычайно важном факте, что две танковые дивизии, выделенные ему ставкой, уже продвигались на юг. На прощание он бросил Хольтицу лишь одну резкую фразу: «Восстановите порядок в городе любой ценой».
16
По улицам Парижа, на которых несколькими часами ранее раздавался славный призыв «На баррикады!», теперь эхом прокатился исполненный страдания вопль, вырывавшийся из этих первых ненадежных укреплений: «Танки идут!». Придя в ярость при виде выраставших на мостовых города символов открытого неповиновения, командование вермахта приняло первые меры по восстановлению порядка, которого требовал Модель. Из разбросанных по всему городу мест дислокации танки, добывшие в 1940 году ключи от Парижа, вновь вышли на улицы столицы.
Одному из повстанцев об их прибытии сообщил официально вежливый телефонный звонок. Из Люксембургского дворца, находившегося почти за углом от штаба ФФИ в полицейском комиссариате 5-го района Парижа, офицер СС заявил, что «месье из ФФИ должен убрать баррикады, в противном случае это сделают за него танки». Завороженный правильным французским немца и его сдержанно-вежливым тоном, студент юридического факультета Раймон Сарран на мгновение растерялся. Затем, постаравшись говорить как можно более сухо, он ответил: «Вы здесь больше не распоряжаетесь, полковник».
Танки прибыли через десять минут. К башне каждого было привязано по два француза, одетых в гражданское. Для защиты своих танков от «коктейлей Молотова» эсэсовский командир решил использовать живые щиты. Держа идеальный строй, они начали разрушать баррикады Саррана.
От площади Республики два танка из бараков Принца Евгения палили по бульвару Вальтера отрывистыми очередями. Две женщины, державшие за ручки огромную плетеную корзину для белья, накрытую белой скатертью, бросились в укрытие. Бельевая корзина была доверху наполнена «коктейлями Молотова». Клара Бонте, жена депутата-коммуниста, и ее дочь Маргарита наполнили ее сами. Вместе с другими женщинами из этого квартала они организовали фабрику по изготовлению «коктейлей Молотова» в женском клубе 11-го района Парижа, который располагался по соседству. Мужья ожидали их на площади Республики, чтобы из окон забросать бутылками те самые танки, которые теперь вели огонь по двум женщинам, метавшимся в поисках укрытия.
На другом конце Парижа бойцы ФФИ выставили против немецких танков предназначенную на металлолом замысловатую конструкцию. Когда их довоенного образца танк «Сомуа», захваченный на фабрике в близлежащем Сент-Уане, появился на улице, ликующая толпа украсила его башню трехцветным знаменем. Увы, этот флаг был единственным оружием единственного танка, которым располагало парижское Сопротивление. Снарядов к его пушке не было.
* * *
Тот вечер принес первые капли очередного ливня, а вместе с ними фантастический и долгожданный слух. Он поднял дух парижан. В своей квартире на улице Бак драматург Андре Руссен писал: «День, начатый в страхе, завершается надеждой. Кажется, американцы уже в Рамбуйе. Завтра они будут в Париже».
* * *
Американцы действительно были в Рамбуйе, всего в 30 милях от Парижа. Однако драматург Андре Руссен несколько завысил их численность. Их было всего трое, и ни у одного не было причин там находиться. Первым был обходительный виргинец по имени Дейвид Брюс, полковник, начальник отдела Франции в Управлении стратегических служб, поимка которого доставила бы немцам неописуемое удовольствие. Вторым был водитель джипа, молчаливый солдат по имени «Красный» Пелки из западной Виргинии. Третьим — военный корреспондент. Верный давней клятве, Эрнст Хемингуэй вел в Париж корреспондентский корпус Соединенных Штатов.
Его первым действием было освобождение бара в отеле «Гран Венёр» — увитой жимолостью гостиницы, которую парижане и их дамы любили посещать по выходным. В баре он разместил ящик с ручными гранатами, карабин, бутылку лучшего коньяка, подаренную благодарным владельцем, и довоенную карту фирмы «Мишлен», на которую уже начал наносить немецкие позиции в этом районе. Бойцы ФФИ, стекавшиеся в отель, называли Хемингуэя «мой капитан». К моменту освобождения Парижа, получив одно из самых головокружительных повышений в военной истории Франции, он станет «моим генералом».
Единственные освободители этого охотничьего заповедника для королей и президентов Франции, опередившие на 48 часов остальные войска союзников, столкнулись с весьма непростой проблемой: вокруг было слишком много немцев. «Стоило только повернуться, — обнаружил Брюс, — как из щелей кто-нибудь вылезал сдаваться». Хемингуэй снимал с них штаны и отправлял на кухню чистить картошку для своего растущего отряда ФФИ.
18
Эта ночь в душном номере гостиницы была, вероятно, самой одинокой в жизни Дитриха фон Хольтица. Через 20 лет ее помнил даже его денщик капрал Гельмут Майер. Тогда впервые за семь лет совместной службы фон Хольтиц обратился к нему со злостью в голосе. «Убирайся и не беспокой меня!» — заорал он, когда жизнерадостный, как всегда, капрал появился в дверях, чтобы приготовить комнату на ночь.
Ни один из полученных Хольтицем приказов ОКВ не был выполнен. В приемной его кабинета — там же, где они были оставлены сутки назад, — лежали сложенными в аккуратную стопку планы, составленные четырьмя экспертами ОКВ по взрывным работам. И все же на сегодняшний вечер, 21 августа, то есть спустя четыре дня после того, как фон Клюге приказал ему начать уничтожение промышленных предприятий Парижа, и более чем через сутки после того, как Йодль лично повторил этот приказ по телефону, фон Хольтиц так и не отдал приказа об уничтожении ни единой фабрики. Он даже отказался принять после полудня капитана Эбернаха. А в кармане его кителя, валявшегося на кровати рядом с высоким креслом, лежал самый последний и короткий приказ из ОКВ: «Генерал-оберст Йодль приказывает любой ценой подготовить уничтожение парижских мостов». Хольтиц был уверен, что его имя в ОКВ уже взято на заметку.
Он и сам понимал, что впервые за 29 лет офицерской службы допускал неповиновение приказу. При этой мысли он вспомнил лицо рейхслейтера Роберта Лея в задымленном спальном вагоне поезда, в котором возвращался из Растенбурга в Берлин. На ночном столике, на «Истории франко-прусской войны» в простой кожаной рамке стояла фотография трех людей, к которым был применим удивительно точно сформулированный рейхслейтером закон о родственниках: его жена Уберта и две дочери. Тимо, его сын, еще не родился, когда была сделана эта фотография, которую Хольтиц носил с собой все четыре года войны.
Теперь он сожалел о своем решении отменить рейд на Префектуру полиции. И 20 лет спустя он все еще вспоминал горечь, которую испытал той ночью от своей «ошибки», заключавшейся в освобождении Александра Пароди и двух его помощников. Он мог бы исправить ее, воспользовавшись планом майора люфтваффе. Он даже вскочил, произнося вслух ругательства и обещания осуществить этот план. Сейчас же, в неподвижной духоте комнаты, он задыхался. Он разделся до трусов и подошел к открытому окну.
В его споре с самим собой появился новый элемент. Никогда еще за свои 49 лет у Дитриха фон Хольтица не было причин сомневаться в истинной ценности силезского воспитания, веры в судьбу Германии, кодекса дисциплины прусского офицера. Теперь это произошло.
После того получаса, что он провел две недели назад в бункере Растенбурга, фон Хольтица преследовала мысль, что человек, которому он поклялся слепо подчиняться, был сумасшедшим. Он со страхом понимал, что чудес для Германии больше не будет, что дорога из Данцига ведет к поражению.
Его разговоры с Моделем и Йодлем за последние сутки подтверждали все те же страшные подозрения, а именно что ОКВ назначило его в Париж не для выполнения военной задачи. Оборонять Париж от врага, даже ценой его разрушения, было действием, вполне объяснимым с военной точки зрения. Но подвергнуть город бессмысленному разрушению единственно ради удовольствия стереть с карты одно из чудес Европы было актом, не имеющим военного оправдания. И именно это, второе, как он начал убеждаться, Гитлер и прислал его сюда сделать. Этот сумасшедший хотел, чтобы Хольтиц уничтожил город «и потом сел на пепелище и ожидал последствий».
Стоявшая перед ним дилемма, по-видимому, имела лишь одно решение: молниеносное вторжение союзников в город, которое избавит его от этого тяжелого бремени. Чуть ранее в тот день он узнал поразительный факт. Генерал Курт фон дер Шаваллери, командующий 1-й армией, сообщил ему, что по приказу Моделя он отодвигает свою армию к югу от нынешней позиции на подступах к Парижу. Это означало, что парадная дверь в Париж была открыта и манила к себе. Стоит только союзникам изменить свои планы, и они ворвутся в город, прежде чем он или кто-либо еще сможет их остановить.
Его размышления прервал телефонный звонок. Фон Хольтиц с шумом закрыл жалюзи окна и в темноте пробрался к телефону. На другом конце провода фон Хольтиц услышал голос генерала Вильгельма Бургдорфа из ОКВ — человека, который выбрал его для этой работы. Однажды, в 1942 году, хвастливый Бургдорф заявил герою Севастополя: «У меня столько генералов, что я мог бы кормить ими свиней». Сегодня он звонил фон Хольтицу, чтобы сообщить, что в ОКВ больше не осталось генералов. Вместо того чтобы прислать фон Хольтицу, как тот просил, генерала для командования войсками на подступах к городу, Гитлер, сообщил Бургдорф, решил произвести Хубертуса фон Аулока, с которым фон Хольтиц пил шампанское на вилле Сен-Клу, из подполковника в генерал-майоры. Фон Хольтиц поблагодарил Бургдорфа за «заботу» и повесил трубку.
Затем он растянулся на кровати и уставился в потолок. Наконец, все в той же нерешительности, которая двое суток назад привела его к согласию на нордлинговское перемирие, он подумал, что даст себе последнюю отсрочку. Он подождет еще сутки, после чего позвонит краснолицему майору в Лe Бурже. Приняв такое решение, он мысленно обратился к более легкой военной проблеме. Где, размышлял он, в этом неспокойном городе, он сможет найти две генеральские «звездочки» на погоны получившему повышение генерал-майору Хубертусу фон Аулоку?
19
Для Роже Галлуа, того самого, кто, несмотря на приказы своего начальника-коммуниста, поставил перед собой задачу привести союзников в Париж, имя человека, которого он должен был сейчас увидеть, по-прежнему оставалось тайной. Но по поведению американцев, находившихся с ним в закамуфлированной палатке, он понял, что это была важная персона.
После безразличного приема, оказанного ему первым же американским солдатом, Галлуа посадили в джип. Молоденький водитель получил, видимо, приказ не разговаривать. В течение двух тяжелейших часов распираемый восхищением и любопытством при виде союзных армий Галлуа не услышал ни звука, если не считать равномерного пощелкивания жевательной резинки во рту своего спутника.
Джип, наконец, остановился в тополиной роще, усеянной палатками. Там американские хозяева проверили его личность столь странным образом, что Галлуа до сих пор не мог прийти в себя. На чистейшем французском полковник Роберт И. Пауэлл, архитектор из Нью-Йорка, демонстрируя доскональное знание Сопротивления, задавал ему десятки вопросов в столь непринужденной манере, словно говорил о погоде. Затем, будто задавая очередной, рутинный вопрос, Пауэлл спросил Галлуа, встречался ли тот когда-либо с подполковником по имени Андре де Брабуа. Галлуа едва вспомнил, что встретил человека с таким именем на углу парижской улицы десять дней назад. Пауэлл спросил, виделись ли они еще. Галлуа подумал и вспомнил: они договорились о следующей встрече, но Брабуа так и не пришел. Почему, спросил Пауэлл. Галлуа признался, что не знает.
— Сейчас я покажу вам, почему, — ответил Пауэлл. Он обернулся к стоящему сзади помощнику и что-то прошептал ему.
Через мгновение в палатку вошел стройный человек в форме. Галлуа был настолько поражен, что в течение нескольких секунд не мог выговорить его имя. Это был Андре де Брабуа.
Через некоторое время вошел другой человек. Волосы его растрепались, а рубашка цвета хаки лишь местами была заправлена в брюки. «Извините меня, — сказал он, — я спал». Затем добавил: «О’кей, слушаю. Так что там у вас?»
Галлуа изложил все со всей страстью, накопившейся в его галльской душе. Когда он закончил, американец сказал: «Вы солдат, и я солдат. И я отвечу вам как солдату». Ответ будет отрицательным, продолжал он, по трем причинам. Союзники «уничтожают немцев, а не захватывают столицы». Сопротивление начало восстание без приказа и «должно само отвечать за последствия». Испытывающие нехватку горючего союзники не могут «взять на себя моральную ответственность за снабжение города».
На этом он протянул Галлуа руку. Слова его были настолько жесткими и однозначными, а тон настолько авторитетным, что ответ показался Галлуа не подлежащим никакому обжалованию. Так оно вполне и могло быть. Ибо американским генералом, которого Галлуа поднял посреди ночи, был Джордж С. Паттон.
Для грязного, небритого француза, преодолевшего все опасности пути с верой в то, что он избавит Париж от судьбы Варшавы, это был самый тяжелый момент в жизни. Он был, как сам потом вспоминал, «в состоянии эмоционального обморока».
Паттон ушел, но вскоре вернулся. Он спросил француза, не согласится ли тот предпринять еще одну поездку в городок Лаваль, чтобы встретиться с другим американским генералом.
20
22 августа
Подполковник Чак Хефлин, дрожа от холода промозглой английской ночи, покрепче обхватил широкую кружку с кофе. Снаружи металлического сборного барака маячили силуэты бомбардировщиков В-24 его эскадрильи «Кар-петбеггер», выстроившихся черной полосой до подножия холмов у городка Харрингтон на северо-западе Англии. Рядовой состав эскадрильи Хефлина уже был занят тем, что напичкивал самолеты 200-фунтовыми контейнерами с оружием и боеприпасами, которые вскоре будут сброшены на парашютах в оккупированной Европе.
Хефлин и 3000 его подчиненных составляли весьма специфическую воинскую часть. «Бомбы», которые они сбрасывали, были замедленного действия. Совместно с другой эскадрильей королевских ВВС они снабжали оружием движения Сопротивления во всей Европе. С января 1943 года «карпетбеггеры» совершили свыше 300 вылетов, сбросив тысячи тонн оружия и боеприпасов и сотни человек в расположение сил Сопротивления во Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии и Польше. Немногие из тех вылетов были столь же трудными, как тот, что предстоял «карпетбеггерам» в это утро. Операция носила кодовое название «Нищий». Пилоты Хефлина должны будут лететь днем, на высоте 400 футов, над окруженным немецкими зенитками районом, к целям, некоторые из которых чуть больше футбольного поля.
Полковник Роль выиграл. Его срочные радиограммы с просьбами об оружии в конце концов были услышаны. Через несколько часов, вскоре после того как первые бледные лучи рассвета смягчат темноту английской ночи, 130 самолетов эскадрильи «Карпетбеггер» начнут требующую «максимальной концентрации усилий» операцию и сбросят 200 тонн оружия в самом центре Парижа — на Булонский лес, ипподромы в Отёйе и Лоншане, эспланаду Дома инвалидов, площадь Республики и… прямо во двор осажденной Префектуры полиции.
* * *
Для полковника Альбера Лебеля встреча с грязным, небритым соотечественником, выбирающимся из джипа у контрольно-пропускного пункта штаба 12-й группы армий генерала Брэдли, была совпадением, ниспосланным самим провидением. Если когда-нибудь, подумал Лебель, нужный человек и мог оказаться в нужном месте в нужное время, то им, конечно же, был этот измученный парижанин. Через несколько минут, в шесть часов, у Лебеля должна была состояться последняя встреча со своим начальником, бригадным генералом Эдвином Сайбертом, руководившим разведкой 12-й группы армий. После встречи Сайберт собирался вместе с генералом Брэдли отбыть в штаб Эйзенхауэра. Там эти трое должны были обсудить судьбу Парижа.
В последние двое суток Сайберт всячески противился идее изменить планы союзников и начать немедленное наступление на город. Эта встреча была последним шансом Лебеля заставить его изменить свое мнение. Вид растрепанного, с покрасневшими глазами Роже Галлуа мог бы стать более веским, более убедительным аргументом, чем любые страстные мольбы самого Лебеля.
Галлуа, пребывавший в подавленном состоянии после очередной поездки в джипе — уже третьей за последние 12 часов в компании с упорно молчащим водителем, сразу уловил всю важность происходящего. Короткое «нет» генерала Паттона прошлой ночью не было, в конце концов, окончательным ответом. У него появлялся еще один шанс. «Прошлой ночью, — подумал он, — я был недостаточно убедителен. На этот раз у меня должно получиться лучше».
Так оно и случилось. С искренностью и убежденностью, взволновавшими окруживших его американских офицеров, Галлуа просил у них не оружия, за которым он был послан, а солдат.
«Жители Парижа, — говорил он, — хотели освободить свою столицу сами и отдать ее союзникам. Но они не могут завершить то, что начали. Вы должны прийти нам на помощь, — умолял он, — иначе там будет ужасная бойня. Сотни тысяч французов будут убиты».
Когда он закончил, в комнате воцарилось молчание. Генерал Сайберт, слегка откашлявшись, поблагодарил Галлуа и собрал свои бумаги. Выходя из комнаты, он дружески ущипнул полковника Лебеля за локоть. «Сегодня приезжает ваш нетерпеливый лев, Леклерк, — сказал он. — Позаботьтесь о нем. Возможно, вечером у нас будут для него кое-какие новости».
С документами под мышкой янки из Новой Англии направился к ожидавшему его самолету. Слова Галлуа произвели на Сайберта «глубокое впечатление». Пристегиваясь в кресле, он подумал: «Если мы не прибудем в Париж через пару дней, там произойдет страшная резня».
* * *
На краю рощи, поблизости от того места, где была завершена Фалезская операция, сразу за деревней Граншан, в это раннее утро о судьбе Парижа размышлял и Дуайт Эйзенхауэр. На полированном столе в его фургоне лежал простой лист бумаги, тот самый, на котором сутки назад Шарль де Голль изложил свое требование о немедленном освобождении Парижа. Твердым и аккуратным почерком Эйзенхауэр неохотно вывел собственную приписку к этому посланию: «Похоже, — писал он начальнику штаба генералу Уолтеру Беделлу Смиту, — что мы будем вынуждены направиться в Париж».
Это был шаг, на который Эйзенхауэр пошел бы, если бы не было другого выхода, с крайней неохотой. Разгневанный Джордж Паттон уже по три раза на день названивал начальнику снабжения, требуя еще горючего.
Прежде чем начать утренний прием, верховный главнокомандующий изложил свои сомнения в короткой телеграмме на имя своего вашингтонского начальника генерала Джорджа Маршалла. «Из-за обязательств по снабжению освобожденного Парижа, — писал он, — желательно отложить захват города до тех пор, пока не будет завершена операция по уничтожению сил противника на подступах к Па-де-Кале и в самом этом районе».
Но, предупреждал он Маршалла, это может оказаться невыполнимым. Если освобождение произойдет в скором времени, «через несколько дней де Голлю будет позволено официально вступить в город». План Эйзенхауэра предполагал, что после того, как союзники отодвинут немецкие части на достаточное расстояние от столицы, де Голлю позволят вернуться, «возможно, обставив это возвращение таким образом, чтобы в нем участвовали и союзники». Лондонская «Дейли геральд» в то августовское утро даже объявила, со ссылкой на дипломатов высокого ранга, что Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль возглавят «триумфальное шествие союзников по столице» через некоторое время после ее освобождения. «Де Голлю, — продолжала газета, — вероятно, будет отведено почетное место».
Вопрос о том, чтобы он там остался после возвращения, вообще не ставился. Верховный главнокомандующий был информирован, что де Голль находился во Франции только временно с целью совершить инспекционную поездку. Франко-американское соглашение по гражданским делам, в принципе одобренное Вашингтоном в июле, до сих пор не было подписано. Как стало известно заместителю Эйзенхауэра по гражданским вопросам бригадному генералу Джулиусу Холмсу, никто из разработчиков этого соглашения в Государственном департаменте не имел ни малейшего намерения позволить де Голлю в обозримом будущем перенести местонахождение своей штаб-квартиры из Алжира в Париж. Они предполагали, что де Голль мирно вернется в Алжир. Оттуда ему будет позволено постепенно перенести свою деятельность в какой-либо крупный французский город, а уж затем в Париж, и лишь после того, как Вашингтон формально признает его де факто и немцы будут в основном изгнаны из Франции.
Но Шарль де Голль никогда бы не согласился войти в столицу своей страны как подопечный союзников. Он намеревался войти туда один, как Шарль де Голль, глава Свободной Франции. Потом уже он примет союзников в своей столице. Он даже приказал своему адъютанту Клоду Ги подыскать для этого случая французскую автомашину. Накануне ночью Ги реквизировал у швейцарского бизнесмена в Ренне великолепный «отккис».
В этой французской машине, управляемой французским водителем, охраняемой французскими солдатами, де Голль намеревался торжественно въехать в Париж. Точно так же, как он преднамеренно не информировал своих союзников, что его «визит» во Францию станет постоянным, он не информировал их о другом важном факте: он не собирался покидать Париж после того, как туда приедет. Для де Голля прибытие в Париж означало лишь первый из шагов, которые должны будут утвердить его временное правительство в Париже — с признанием или без такового.
Будучи хорошо осведомленным о нежелании союзников согласиться на такие его действия, де Голль в то утро принял решение не допустить, чтобы какой-либо дипломатический маневр американцев в последний момент разрушил его планы. Начиная с сегодняшнего утра, предупредил он помощников, союзникам следует вежливо отвечать, что его местонахождение неизвестно.
* * *
Пронзительный звонок зеленого ВЧ-телефона привел в движение всех присутствующих на командном пункте эскадрильи «Карпетбеггер». Этот телефон связывал военно-воздушную базу в Харрингтоне непосредственно со штабом Управления стратегических служб в Лондоне. Подполковник Боб Салливан снял трубку. Из-за помех, создаваемых высокочастотным устройством, голос на другом конце напоминал бульканье воды. «Отбой операции „Нищий”», — сказали Салливану. Операция, сообщал Лондон, переносится на следующий день, среду, 25 августа.
Как и Дитрих фон Хольтиц, генерал Пьер Кёниг, командующий ФФИ, только что решил дать себе 24-часовую передышку. Кёниг сам приказал провести операцию «Нищий» и всего лишь за несколько минут до звонка Салливану отложил ее. По мнению Кёнига и других лиц в штабе ФФИ на площади Брайнстон-сквер в Лондоне, заброска оружия в Париж была чрезвычайно рискованной. Она могла привести к уничтожению парижан, которые бросятся собирать это оружие. Значительная часть оружия попадет в руки немцев. Но, что самое важное, большая его часть попадет в руки соперников де Голля — коммунистов. За три года работы этого штаба не было другого такого правила, соблюдение которого контролировалось бы столь же строго, как запрещение забрасывать оружие в те города и районы, в которых значительная его часть могла бы попасть в руки коммунистов. Не так-то легко было отказаться от этого правила в последние недели сражений за Францию ради операции, в ходе которой оружие должно было посыпаться градом в одно из мест наибольшего сосредоточения коммунистов во Франции.
21
У Парижа 24-часовой передышки не было. С рассветом перестрелка возобновилась с нарастающей интенсивностью по всему городу. Вскоре после 8 утра четыре танка изобретательного штандартенфюрера СС вновь появились у полицейского комиссариата, где находился Раймон Сарран, студент-юрист, заявивший накануне полковнику: «Вы здесь больше не распоряжаетесь». На этот раз танкисты штандартенфюрера не воспользовались живыми щитами. После двухчасового ожесточенного боя они вытеснили Саррана и его людей из здания. Но прежде чем отступить по крышам соседних домов, бойцы Саррана рассчитались с оккупантами: ценой собственной жизни один из них подскочил к немецкому танку и разбил «коктейль Молотова» о вентилятор. Вскоре от пылающей машины остался один остов.
В 17-м районе, где накануне появился единственный и безмолвный танк Сопротивления, немцы разнесли снарядами несколько многоквартирных домов, что, по-видимому, было их ответом немому сопернику. На левом берегу бойцы ФФИ были теперь полными хозяевами на извилистых маленьких улочках между Сеной и бульваром Сен-Жермен. Немцы не осмеливались появляться в этих слишком узких для танков переулках. На «перекрестке смерти» — на пересечении бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель — возбужденные стрелки из числа студентов соорудили заграждения из горящих немецких грузовиков. Из одного из них они извлекли дюжину пленных и тяжелый пулемет, который тут же установили на своей аккуратно сложенной баррикаде. На Лионском вокзале немецкий грузовик с солдатами попал в засаду, после чего те отступили в кафе. С десяток постоянных посетителей заведения вздумали посмеяться над их участью. Немцы перестреляли всех до одного. Двор Префектуры полиции превратился в свалку захваченных немецких автомашин, на изрешеченных бортах которых белой краской были выведены буквы «ФФИ».
В «Отель де Виль» — огромной, в стиле ренессанса ратуше Парижа, которая была захвачена двое суток назад, — соперники Пароди начали создавать собственную цитадель в противовес бастиону голлистов в Префектуре полиции. Солдаты Хольтица штурмом захватили и это здание. Пока Андре Толле — тот самый, что навязал первое решение об этом восстании, — обучал внутри группу шестнадцатилетних стрельбе из пистолета, четыре немецких танка обстреляли здание снаружи. Толле подполз к окну, чтобы открыть огонь. Выглянув, он увидел, как молоденькая девушка перелезла через парапет на набережной Сены и побежала к ближайшему танку. Ее красная юбка раздувалась, словно распустившийся цветок. Коротким броском она взобралась на боковую сторону танка. Ее рука, зажимавшая зеленую бутылку из-под шампанского, взметнулась вверх, зависла на секунду в воздухе и метнула свою ношу в открытую башню танка. Из отверстия вырвался гейзер огня. Девушка спрыгнула с танка и бросилась к парапету. Пробежав несколько футов, она упала, сраженная пулей; ее красная юбка разметалась по тротуару «как тюльпан, отсеченный от стебля ударом ножа». Три оставшихся танка ретировались.
22
Генеральный консул Швеции Рауль Нордлинг пытался сообразить, с чем возится Дитрих фон Хольтиц в небольшом шкафу позади стола. Хольтиц никогда не открывал этот шкафчик в его присутствии. Наконец, генерал извлек позвякивающие графин и два стакана. С заговорщической улыбкой он потянулся через стол. «Не говорите англичанам, — промолвил он, — но я собираюсь пить виски». Второй стакан он протянул Нордлингу. Определенно, подумал швед, этот коротышка, на лице которого, кажется, впервые появилась легкая улыбка, очень странный тип. Неужели только ради того, чтобы предложить выпить, фон Хольтиц пригласил его сюда, пообещав даже прислать за ним бронемашину?
Фон Хольтиц налил спиртное, поднял стакан, вежливо пробормотал «прозит» и залпом проглотил свое виски.
Затем он откинулся в кресле и несколько секунд изучающе разглядывал дипломата. «Ваше перемирие, господин генеральный консул, — заметил он, — кажется, не срабатывает». Прежде чем Нордлинг успел ответить, он добавил с горечью, что три пленных, которых он освободил в воскресенье, не сделали ничего, что могло бы оправдать такой жест с его стороны. Восстание с каждым днем все больше разрастается.
Нордлинг вздохнул. Есть лишь один человек, которому действительно подчиняются ФФИ, заметил он. Это генерал де Голль, но его нет в Париже. Он, вероятно, где-нибудь в Нормандии, с союзниками.
Хольтиц опять бросил на Нордлинга мимолетный взгляд. Затем тихо, но твердо задал шведскому дипломату вопрос: «Почему бы кому-то не отправиться к нему?»
Какое-то время швед не знал, что ответить. Уж не шутит ли Хольтиц, гадал он. А может быть сидящий напротив офицер действительно предлагает, чтобы кто-то отправился с миссией к командованию союзников?
Нордлинг спросил Хольтица, разрешит ли тот кому-либо пройти через немецкую линию фронта для встречи с союзниками?
— Почему бы и нет? — ответил немец.
Нордлинг был ошеломлен. Он оттолкнул пустой стакан через стол к Хольтицу. Как нейтральный дипломат, был его ответ, он готов предпринять поездку к союзникам, если получит соответствующий пропуск.
Фон Хольтиц кивнул, но, казалось, не проявил к этому интереса. Нордлингу было ясно, что он думает о чем-то другом. Генерал поставил стакан на стол. Расстегнув пуговицу кителя, он вынул из кармана серого мундира лист голубой бумаги и расправил его на столе. Он не предложил Нордлингу взглянуть на нее. Это был, сказал он шведу, приказ, один из целого ряда приказов, которые он получил за последние несколько дней. К настоящему времени он должен был уже начать программу систематического уничтожения, предусмотренного этими приказами. Несмотря на постоянное давление ОКВ, несмотря на настойчивые требования Гитлера применить грубую силу для подавления восстания, даже если это будет означать разрушение больших участков города, он предпочел воспользоваться перемирием, напомнил он Нордлингу. Перемирие не сработало, и теперь он будет вынужден выполнить эти приказы.
Хранившему молчание и слегка шокированному дипломату Хольтиц заявил, что весьма скоро он будет вынужден распорядиться о выполнении этих приказов или же будет смещен. Медленно и очень спокойно выговаривая слова, он подался вперед: единственное, что может помешать выполнению этих приказов, — быстрое прибытие в Париж союзников.
Едва слышным, с легким астматическим присвистом голосом он добавил: «Вы должны понимать, что уже то, что я говорю вам об этом, может быть истолковано как измена». На несколько секунд в комнате повисла мертвая тишина. Затем, очень осторожно подбирая слова, фон Хольтиц произнес: «Поэтому я и прошу союзников помочь мне».
Нордлинг почувствовал всю значимость каждого произнесенного Хольтицем слова. Выработавшаяся за долгие годы дипломатической работы интуиция подсказывала, что его собственных слов может оказаться недостаточно, чтобы убедить союзников в том, что он только что услышал. Он спросил Хольтица, не даст ли тот письменный документ для союзников.
Немец изумленно посмотрел на него. «Я никогда не напишу на бумаге то, что только что сказал вам», — ответил он.
Затем Хольтиц составил для Нордлинга единственный письменный документ, который был готов предоставить ему. «Командующий округом Большого Парижа, — написал он, — разрешает генеральному консулу Швеции Р. Норддингу покинуть Париж и пересечь линию обороны». Он протянул листок круглолицему шведу. Нордлинг, от нервного напряжения покрывшийся легкой испариной, попросил у Хольтица каких-либо дополнительных гарантий, которые позволили бы ему пересечь линию фронта.
Фон Хольтиц посоветовал Нордлингу взять с собой Бобби Бендера. С явной неохотой он согласился повторить свои распоряжения устно, по телефону, если у них возникнут затруднения.
Фон Хольтиц встал, чтобы проводить Нордлинга до двери. На душе стало полегче: он нашел способ предупредить союзников о нависшей над Парижем опасности и надеялся, что они поймут — на данный момент дорога на Париж была открыта. Сколько она останется открытой, он не знал. Если обещанные ему подкрепления прибудут раньше, чем союзники, солдатский долг вынудит его попытаться самому захлопнуть дверь и защищать Париж в кровопролитных и разрушительных уличных боях.
Но союзники будут предупреждены. Если они вовремя не отреагируют, то тогда уже они, а не он будут отвечать перед историей за последствия.
В знак расположения он взял Нордлинга под локоть и проводил до двери. Там он неожиданно схватил его за руку. «Отправляйтесь немедленно, — сказал он. — Сутки, двое суток — это все, что у вас есть. После этого я не смогу гарантировать что-либо».
23
За свою тридцатипятилетнюю дипломатическую карьеру генеральный консул Рауль Нордлинг не часто сталкивался со столь сложной задачей. Одно дело — пересечь немецкую линию фронта, и совсем другое — убедить де Голля и союзников в правдивости своего рассказа. Чтобы не провалить дело, размышлял он, придется взять с собой кого-то, кто был бы известен союзникам. Не сообщая фон Хольтицу о своих действиях, Нордлинг решил пригласить еще двух человек: Александра де Сен-Фалля, казначея голлистского Сопротивления в Париже, и Жана Лорана, банкира, который в 1940 году был сотрудником аппарата де Голля в министерстве обороны. Их присутствие, считал он, придаст миссии достоверность в глазах де Голля. Швед ошибался. Он не мог этого знать, но ни тот, ни другой не входили в число лиц, имеющих доступ к генералу.
Однако они были не единственным добавлением в эту странную компанию, которую лихорадочно сколачивал швед. В середине дня, когда Нордлинг ожидал от Сен-Фалля сообщения о наилучшем маршруте к линии фронта союзников, в консульстве раздался звонок дверного колокольчика. У двери его ждал лысеющий гигант с глубоко посаженными голубыми глазами. Он представился Нордлингу как Арну, сотрудник Красного Креста. Он хотел уехать вместе с группой. Его присутствие, добавил он, может помочь им пересечь немецкую линию фронта. Швед был одновременно взбешен и удивлен. Вращаясь в маленьком мирке ревниво относящихся друг к другу нейтралов, он не видел оснований для включения кого бы то ни было из Красного Креста в свою миссию. И что более важно, он был напуган тем, что произошла утечка информации о его поездке.
В резких и недвусмысленных выражениях он дал понять Арну, что для него нет ни места в этой поездке, ни необходимости в ней участвовать. Однако в разговор вмешался подошедший Сен-Фалль. Он настаивал, чтобы Арну отправился с ними. Нордлинг нехотя согласился. Через несколько недель он узнал, кем в действительности был любопытный месье Арну из Красного Креста. Швед только что включил в группу главу британской разведки во Франции, полковника Клода Оливье (Жада Амиколя), ради которого Ален Перпеза прыгнул с парашютом в безлунную ночь почти три недели назад.
Со следующим незваным гостем, позвонившим в его дверь, Нордлинг был по крайней мере знаком: это был высокий молодой австриец, который десять дней назад нашел для него Бобби Бендера. Нордлинг знал, что элегантно вышитые инициалы Э.П.П. на нагрудном кармане его рубашки означали Эрих Пош-Пастор. Швед подозревал, что он был агентом немецкой разведки и по приказу фон Хольтица был приставлен наблюдать за ним.
На этот раз предположения Нордлинга были отчасти правильными. Пош-Пастор был агентом разведки, но не немецкой. Для участников группы Сопротивления «Голетт» инициалы Э.П.П. на груди Пош-Пастора означали совсем иное. Они расшифровывались как Этьен Поль Прово — подпольная кличка, которую носил двадцатидевятилетний австрийский дворянин с момента своего вступления в ряды Сопротивления в октябре 1943 года. За это время Пош-Пастор, сын последнего посла Австро-Венгерской империи в Ватикане, передал союзникам немало разведывательной информации, включая некоторые из чертежей ракеты Фау-1. Самым последним назначением молодого лейтенанта по линии вермахта была его служба в качестве офицера безопасности на фабрике радиоуправляемых взрывателей в Ниоре у атлантического побережья. Там, осторожно расширив свои обязанности как офицера безопасности, он проследил за тем, чтобы уровень производства на фабрике сократился с 13 тысяч взрывателей в месяц до менее тысячи. Теперь же он объявил неприятно удивленному Нордлингу, что фон Хольтиц приказал ему сопровождать миссию к союзникам[24]. Швед, будучи уверен, что Пош-Пастор приставлен Хольтицем следить за ним, холодно ответил согласием.
Однако в тот поразительный день Нордлинга, измученного всеми этими хлопотами, ожидал еще один неприятный сюрприз. Обдумывая последние приготовления к поездке, Нордлинг вдруг почувствовал пронизывающую боль в груди. Он упал на колени, хватая ртом воздух.
Человек, избранный для того, чтобы донести отчаянное предупреждение Дитриха фон Хольтица до союзников, находившихся в 60 милях от Парижа, едва смог доползти до кровати. С ним только что произошел сердечный приступ.
Через полчаса после этого события, когда Нордлинг в полусознательном состоянии лежал в консульстве, его черный «ситроен» выехал в сторону Версаля. Послание фон Хольтица отправилось в путь к Дуайту Эйзенхауэру.
В «ситроене» Нордлинга находились два голлиста, которых Шарль де Голль не хотел видеть, два разведчика союзников, не знавших друг друга, и не тот шведский дипломат. Рауль Нордлинг послал вместо себя единственного человека в Париже, который мог выполнить за него эту миссию и откликнуться на имя «Р. Нордлинг», указанное в пропуске фон Хольтица. Это был его брат Рольф.
* * *
Через 45 минут, преодолев три дорожных кордона, машина Нордлинга, сопровождаемая сверхмощным «ситроеном-купе» Бобби Бендера, проскочила через деревню Сен-Сир и устремилась по зеленым полям Иль-де-Франса к далекому городу Шартру и американской линии фронта.
Сразу за деревней Трапп из придорожной канавы выскочил полуголый человек в каске вермахта и купальном костюме в горошек. Сердито размахивая автоматом, он приказал остановиться. Воткнув дуло автомата в открытое окно со стороны Сен-Фалля, он произнес: «Вас ист дас?». В ответ Сен-Фалль тупо уставился на серебряную медаль, болтавшуюся на шее немца. Это был «железный крест». И тут за его голыми плечами Сен-Фалль увидел очертания восьми «тигров», замаскированных в маленькой рощице прямо у дороги. «Нам конец», — подумал он. В зеркало машины он мельком увидел, что месье Арну из Красного Креста перебирает черные бусины четок. Рядом с ним курил сигарету безучастно улыбающийся Пош-Пастор. Позднее Сен-Фалль узнает, что единственным документом, который имел при себе Пош-Пастор в тот вечер, было фальшивое французское удостоверение личности на имя Этьена Поля Прово, засунутое в его левый носок.
Но вот до Сен-Фалля стали доноситься германские интонации разгневанного Бобби Бендера, оравшего на остановившего их солдата. От стоявших у дороги танков к машине подошел гауптштурмфюрер СC в маскировочном комбинезоне. Бендер рявкнул приближающемуся офицеру «хайль Гитлер» и протянул абверовское удостоверение. Затем он взял у Сен-Фалля выписанный Хольтицем пропуск и вручил гауптштурмфюреру. Быстрым и резким движением капитан СС оттолкнул его назад Бендеру. «Мне плевать, какой генерал его подписал, — сказал он. — После 20 июля мы не подчиняемся генералам вермахта».
Бендер на мгновение растерялся, но тут же впал в ярость. Гауптштурмфюрер, удивленный его бурной реакцией, наконец согласился позвонить в штаб округа Большого Парижа для получения разъяснений. Вдвоем с Бендером они ушли, оставив Сен-Фалля и его спутников сидеть в гробовом молчании, которое нарушалось лишь едва слышными обращениями к Деве Марии, исходившими из уст сидящего на заднем сиденье «ситроена» человека из Красного Креста.
Через час оба вернулись. Бендер хорошо сыграл свою роль. Ему удалось подозвать к телефону единственного человека в штабе округа Большого Парижа, который знал об этой миссии. Разгневанный Хольтиц заявил упрямому эсэсовскому офицеру, что если он не пропустит группу через линию фронта, то Хольтиц сам «приедет и проследит за этим».
Безразлично пожав плечами, гауптштурмфюрер жестом разрешил Сен-Фаллю ехать. Сзади за ними наблюдал хорошо поработавший Бендер.
Сен-Фалль только начал разгоняться, как из придорожной канавы выскочил другой немец и бросился на капот «ситроена». Сен-Фалль резко затормозил. Только теперь он услышал слово, которое выкрикивал немец: «Минен»[25]. Всего в трех футах от передних колес «ситроена» виднелся первый заряд тщательно установленного минного поля. Любая из этих мин уничтожила бы горстку путешественников, а с ними канул бы в вечность и призыв, от которого, вероятно, зависела судьба Парижа.
Немец достал из кармана лист бумаги и, стоя перед автомашиной, начал его скрупулезно изучать. Затем, взмахом предложив Сен-Фаллю следовать за ним, внимательно вглядываясь в асфальт, повел «ситроен» зигзагообразным курсом. В течение 35 минут пятеро пассажиров, обливаясь потом, крутились по минному полю в ужасающем слаломе. На последнем перекрестке немец выпрямился и засунул бумажку в карман. Затем он указал рукой на запад и гордо объявил: «Американцы. 500 метров».
Сен-Фалль со своим грузом надежды для трех с половиной миллионов парижан и терпящего бедствие Дитриха фон Хольтица повернул у развилки на дорогу, ведущую к Нофль-ле-Вьё, где рассчитывал встретить обещанных американцев. У белокурого банкира это получилось инстинктивно: всю свою жизнь он ездил по этой дороге почти каждое воскресенье. Она вела к дому его бабушки.
24
Генерал Жак Филипп Леклерк, прозванный американским начальством «нетерпеливым львом», прогуливался по травянистой взлетной полосе у штаба 12-й группы армий, в раздражении хлестая тростью попадавшиеся ему по пути стебельки травы. За ним в уважительном молчании следовал Роже Галлуа, которого прислал из Парижа полковник Роль. Генерал Омар Брэдли до сих пор не вернулся с совещания у генерала Эйзенхауэра, а через несколько минут — 15 или 20 — Леклерк будет вынужден вылететь в штаб своей дивизии.
Первые пятьдесят или шестьдесят кругов вдоль взлетной полосы Галлуа беседовал с Леклерком, пока генерал не подвел итог короткой, настойчивой фразой: «Я должен получить приказ сегодня вечером».
При первом едва различимом шуме подлетающего самолета Леклерк остановился как вкопанный, вглядываясь в небо. Вскоре появился и сел «пайпер каб». Пропеллер самолета все еще вращался, когда Леклерк подбежал к нему. Внутри генерал Эдвин Сайберт расстегнул ремень и прокричал «нетерпеливому льву» сквозь шум работающего двигателя: «Вы победили. Они решили послать вас прямо в Париж».
Некоторое время назад в Граншане, где верховный главнокомандующий инструктировал прибывшую с визитом делегацию профсоюзных деятелей, Сайберт передал Брэдли и Эйзенхауэру информацию, которую ему утром доставил Галлуа. Эйзенхауэр в характерной для него манере наморщил лоб, вздохнул и обратился к Брэдли: «Черт возьми, Брэд, кажется, мы будем вынуждены войти в город».
Теперь позади них подкатывал к стоянке «каб» Брэдли. Тихий миссуриец вышел из самолета и подозвал к себе Леклерка и Галлуа. «Принято решение занять Париж, — сообщил он им, — и ответственность за это разделим мы трое: я, потому что я отдал этот приказ; вы, генерал Леклерк, потому что вы будете его исполнять; и вы, майор Галлуа, потому что решение было принято в общем-то на основании предоставленной вами информации». Посланец, которого два дня назад в отсыревшей от дождя вилле уговорили не выполнять указаний своего командира-коммуниста и просить у союзников не оружия, а войска, совершил то, чего не удалось достичь даже Шарлю де Голлю. Благодаря Роже Галлуа войска союзников через несколько часов направятся к столице Франции, над которой нависла страшная угроза.
Затем Брэдли повернулся к Леклерку и высоким, звонким голосом сказал: «Я хочу, чтобы вы запомнили самое главное: мне не нужны бои в Париже. У меня для вас только один приказ — любой ценой избегать тяжелых боев в Париже». Омар Брэдли видел Сен-Ло. В тот день бывший крестьянский парень поклялся, что никогда не допустит, если это будет в его силах, чтобы подобная трагедия повторилась в городе, которым он восхищался издалека, но никогда не видел, — в Париже.
Леклерк бросился к своему самолету. В догонку ему Брэдли крикнул: «Получите распоряжения у командира вашего корпуса».
Когда Леклерк прибыл в штаб дивизии, было уже почти темно. Прыгнув как школьник, он выскочил из самолета. Поджидавшему его начальнику оперативного отдела майору Андре Грибиу он на одном дыхании весело выпалил единственную фразу, произнести которую готовился четыре года: «Грибиу, немедленно выступаем на Париж!» им смерти, потому что они потеряли веру в другую Францию — Францию Виши. Там были и такие французы, которые никогда не ступали на землю собственно Франции; арабы, едва умевшие говорить по-французски; африканцы из джунглей Камеруна; туареги из Сахары; испанские ветераны из армий лоялистов; ливанцы, чилийцы, мексиканцы, сохранившие веру во Францию. Там даже были французы, которые сражались и убивали друг друга в Сирии и Тунисе от имени Шарля де Голля и Анри Филиппа Петена. Для всех них война в Европе была поистине крестовым походом. Их Иерусалим был теперь прямо по курсу — город, прозвучавший в конце короткой фразы, которую ликующий Жак Филипп Леклерк прокричал своему начальнику оперативного отдела.
Многие из них никогда не бывали в Париже. У многих, кто побывал там, с этим городом были связаны горькие воспоминания: образ столицы, которая более им не принадлежала. Это был город, о котором они думали в Ливийской пустыне, Атласских горах Марокко, на влажных зеленых холмах Англии. Теперь известие о том, что Париж станет их очередным рубежом, летело со скоростью звука — звука их собственных возбужденных голосов, объявляющих чудесную новость: их следующей остановкой будет столица собственной страны.
* * *
Сидевший в своем кабинете в отеле «Мёрис» генерал фон Хольтиц вздрогнул. Со свойственной ему непроницаемостью начальник штаба полковник Фридрих фон Унгер объявил, что в приемной встречи с генералом ждут четыре офицера СС. Генерал мог предположить лишь одно: о миссии Нордлинга стало известно и его пришли арестовывать.
Все четверо ввалились в кабинет, лихо щелкнули каблуками и разразились шумным «хайль Гитлер». Один, худощавый, с большим шрамом на скуле, подошел к столу Хольтица. Он был в звании оберштурмбаннфюрера, и фон Хольтиц разглядел на воротнике его кителя значок бронетанковой дивизии «Адольф Гитлер лейбштандарте». Он объявил Хольтицу, что получил по радио личный приказ Генриха Гиммлера. Упоминание имени главы СС и гестапо окончательно укрепило Хольтица в его опасениях: его действительно сейчас арестуют.
Вместо этого, однако, оберштурмбаннфюрер заявил, что Гиммлер приказал ему немедленно прибыть в Париж, чтобы завладеть находящимся в Лувре произведением искусства — гобеленом, эвакуированным в Париж из музея нормандского города Байё. Ни в коем случае, продолжал оберштурмбаннфюрер, гобелен не должен попасть в руки союзников. Он получил официальное распоряжение доставить гобелен на хранение в Германию.
Успокоившийся Хольтиц с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. «Ах, ребята, — сказал он четырем эсэсовцам, — это же прекрасно, что вы помогаете спасти ценности от уничтожения». Он даже предложил старшему из офицеров воспользоваться пребыванием в городе и взять под покровительство и другие предметы из Лувра, например «Крылатую Победу» и «Мону Лизу»[26]. Нет, нет, ответил оберштурмбаннфюрер, единственное, что хотели Гиммлер и фюрер, это гобелен из Байё.
Фон Хольтиц вывел четырех визитеров на балкон. Облокотившись о перила, он указал влево, где в вечерних сумерках виднелись величественные очертания Лувра. Почти в тот же миг тишину ночи разорвала вспыхнувшая с новой яростью перестрелка, доносившаяся, казалось, из самого Лувра. «Очевидно, террористы захватили здание», — заметил Хольтиц. Эсэсовские офицеры с несколько озабоченным видом согласились с этим фактом. Однако, продолжал Хольтиц, он уверен, что банда французских террористов не может стать серьезным препятствием для четырех офицеров СС.
Оберштурмбаннфюрер несколько секунд молчал. Затем спросил Хольтица: не считает ли тот, что французы могли уже перевезти гобелен в какое-нибудь другое место? Нет, нет, возразил Хольтиц, зачем бы им это делать? Со стороны Лувра вновь донеслись выстрелы, и эсэсовцы еще раз выразили сомнение в том, что гобелен все еще в Лувре. Фон Хольтиц, который теперь наслаждался каждой минутой пребывания своих гостей, вызвал пожилого офицера, имевшего, вероятно, самую эвфемистическую должность в штабе. Этот капитан отвечал за «охрану французских памятников и произведений искусства». Он торжественно заверил офицеров СС, что гобелен действительно находится в Лувре.
Чтобы облегчить им задачу, Хольтиц предложил эсэсовцам бронемашину и отделение солдат, которые прикроют здание с улицы, пока четыре офицера будут добывать гобелен.
Изуродованный шрамом оберштурмбаннфюрер, видимо, был сбит с толку. Он заявил, что свяжется по радио с Берлином для получения дальнейших указаний и вернется через час. Еще раз выкрикнув гитлеровское приветствие, он удалился.
Четверка никогда более не попадалась фон Хольтицу на глаза. Драгоценный гобелен, который им было приказано спасти от союзников и на котором был изображен уникальный момент в истории, остался в Лувре. На 84 квадратных ярдах ткани придворные дамы Вильгельма Завоевателя девять столетий назад вышили сцену, которую так и не удалось запечатлеть кинооператорам Адольфа Гитлера: вторжение в Англию.
25
Небольшой яблоневый сад недалеко от Экуше был окутан такой же непроницаемой тьмой, как и та, что двое суток назад помогла незаметно уехать подполковнику Жаку де Гийбону. В штабном фургоне под увешанными плодами деревьями, из которого он наблюдал отъезд де Гийбона, генерал Жак Филипп Леклерк прислушивался к перестуку пишущей машинки: канцелярист допечатывал последние слова только что продиктованного им приказа из восьми пунктов. Всего через шесть с половиной часов, в 6.30 утра, Филипп Леклерк и солдаты его дивизии начнут преодолевать последние 122 мили путешествия, которое он начал 4 года назад: в пироге через реку в британскую Нигерию, граничившую с французским Камеруном. Леклерк вновь пробежал глазами приказ: «Я требую, чтобы на этом марше, который приведет дивизию в столицу Франции, все вы приложили максимум усилий, что, я не сомневаюсь, вы и сделаете». Леклерк взглянул на часы, затем подписал приказ и поставил дату. Была полночь.
Бургдорф, Фегелейн и эсэсовский помощник Гитлера гауптштурмфюрер Гюнше в мрачном молчании слушали генерал-оберста Йодля, который, вытянув на столе руки, докладывал ситуацию на Западном фронте. Гитлер вновь потребовал, чтобы этот доклад предшествовал сообщениям с Восточного фронта. Фюрер, отмечал позднее в своем дневнике Варлимонт, слушал Йодля сидя, при этом его правая рука, лежавшая на карте, слегка дрожала.
Когда Йодль закончил, Гитлер дернул головой. Хриплым от злости голосом он спросил: «Где мортира?» На этот раз у генерала Варлимонта были для него приятные новости. «Карл» и состав с боеприпасами достигли Суассона — менее 60 миль от Парижа. Еще через сутки, доложил Варлимонт Гитлеру, «Карл» будет во французской столице.
При мысли, что эта пушка, обладающая колоссальной разрушительной способностью, вскоре будет в Париже, Гитлер удовлетворенно пробурчал что-то. Затем бросил: «Йодль, пишите». Слова понеслись таким бешеным потоком, что степенный Йодль едва поспевал записывать.
— Оборона парижского плацдарма, — заявил Гитлер, — имеет наивысшее значение для военных и политических планов. Потеря города может привести к утрате всего побережья к северу от Сены и лишить нас площадок для запуска ракет, предназначенных для дистанционной войны против Англии.
— Вся история свидетельствует, — продолжал он, — что потеря Парижа неизбежно приводит к потере всей Франции.
Гитлер напомнил верховному командующему на Западе, что для обороны города он выделил две бронетанковые дивизии СС. Он распорядился, чтобы восстание в Париже было раздавлено любыми мерами, включая «полное уничтожение целых городских кварталов», что будет значительно легче сделать с прибытием «Карла», и «публичную казнь главарей восстания».
— Париж не должен попасть в руки противника, а если это случится, то он должен найти там лишь одни развалины, — закончил он.
Когда Гитлер замолчал, в бункере повисла тишина. Слышно было только равномерное жужжание вентиляционного оборудования и шуршание карандаша в руках Йодля, лихорадочно пытавшегося зафиксировать последние слова фюрера.
* * *
В окутанном тьмой Меце, расположенном в каких-нибудь 35 милях от франко-германской границы, темные махины танков с лязгом катились по брусчатке мостовых, отшлифованная поверхность которых была почти истерта ногами трех поколений немецких завоевателей, рвавшихся по этой дороге к сердцу Франции. В трясущихся машинах пытались, насколько это было возможно, поспать солдаты, измотанные длинным маршем на юг от самой Ютландии. Это были солдаты, о прибытии которых Дитрих фон Хольтиц не был информирован, подкрепления, которые вынудили бы его сражаться за подчиненный ему район. Они представляли собой первые подразделения прибывавшей во Францию 26-й бронетанковой дивизии СС. Как и воины 2-й бронетанковой дивизии, расквартированной в яблоневом саду в Экуше, они тоже направлялись в Париж. Им оставалось пройти всего 188 миль.
26
23 августа
Загорелый мужчина окидывал одобрительным взглядом пустые ряды сидений, поднимавшихся над головой до самой куполообразной стеклянной крыши огромного «Гран пале». Его звали Жан У к. Он был владельцем цирка в Швеции и приехал в Париж по делу. Для своего цирка он арендовал, за большие деньги, это обширное здание, расположенное между Сеной и Елисейскими полями, как раз через реку от могилы Наполеона. Это было одно из крупнейших зданий в Париже. С 1900 года его ионический фасад, в два с половиной раза превышавший длину футбольного поля, зазывал парижан на все крупнейшие выставки, которые устраивались в городе.
Через несколько дней, думал Ук, Париж будет освобожден, и этот самый фасад будет зазывать тысячи празднующих французов сюда, в его цирк, на единственное большое представление, которое будет даваться в столице. Это был самый крупный из всех оставшихся в Европе цирков, и он истратил все до последней кроны, чтобы привезти его сюда. У Ука было все. В голодном Париже его клетки были полны львов, тигров, пантер. У него были клоуны, лошади и акробаты на трапеции, которые могли соперничать с цирком Барнума. У него был даже клоун с новой программой по случаю освобождения; швед специально просил его подготовить эту программу. Это была пародия на Гитлера. В этом здании было все, чем владел Ук; даже те небольшие наличные деньги, что еще оставались у него, он упаковал в чемодан, стоявший в его кабинете. В это душное утро, в среду, стоя на посыпанной опилками арене, он уже представлял себе, как толпы зрителей вливаются в «Гран пале» и занимают места. Жан Ук был уверен, что освобождение Парижа сделает его богачом.
Под ареной, в подвале, принадлежавшем полицейскому комиссариату 8-го района, который занимал одно крыло «Гран пале», полицейский Андре Сомон следил, как под деревьями на Елисейских полях останавливается колонна немецких грузовиков. 20 минут назад коллеги Сомона организовали засаду на немецкую автомашину, ехавшую по этой широкой авеню, и уничтожили всех ее пассажиров. «Боши, — подумал Сомон, — собираются с нами рассчитаться». Вдруг Сомон увидел, что к зданию подползает странный, похожий на жука, аппарат. Он повернулся к пленному, которого охранял. Капитан Вильгельм фон Цигесар-Бейнес до войны, будучи капитаном конников германской армии, пережил в этом здании куда более славные моменты. «Что это такое?» — спросил его Сомон.
Фон Цигесар-Бейнес взглянул на направлявшийся прямо к их окну приземистый аппарат, выглядевший почти как маленький игрушечный танк. С восхитительным спокойствием он повернулся к Сомону и заметил: «Это специальная машина, напичканная взрывчаткой. Если мы не выберемся отсюда, то нас разнесет в куски».
Половина Парижа слышала, как взорвался цирк Ука. Когда грохот от разорвавшихся снарядов стих, из «Гран пале» заструился столб черного дыма. Чтобы завершить работу, начатую радиоуправляемым танком со взрывчаткой, немецкие танки открыли по зданию огонь зажигательными снарядами. Внутри дым, крики, топот бегущих ног — людей и животных — вызвали панику. Львы и тигры цирка Ука ревели от ужаса. Лошади табуном носились по пылающему зданию. В комиссариате полицейские поспешно открыли камеры, выпустив проституток, арестованных накануне ночью, и визг перепуганных женщин слился в дыму и пыли с воем перепуганных львов Ука.
На улице окружившие здание танкисты прострелили шланги пожарных, пытавшихся погасить огонь. Вскоре весь дворец был объят пламенем. Одна из лошадей Ука выскочила наружу и бросилась по улицам. Она была подстрелена и со ржанием упала на асфальт. Изо всех прилегающих домов с тарелками и ножами выскочили голодные парижане и бросились к умирающему животному, все еще украшенному красными, белыми и голубыми лентами, которые У к заказал для своего шоу по случаю освобождения.
Зажатые между немцами, огнем и мечущимися животными Ука, полицейские «Гран пале» поняли, что их положение безнадежно. Некоторые обратились к единственному пленному немцу в комиссариате — важному на вид барону, с которым накануне вечером делились тарелкой брюквы, — с просьбой организовать их сдачу в плен. Взяв длинный металлический шест, которым пользовался укротитель львов Ука, фон Цигесар-Бейнес привязал к нему белый носовой платок и вышел из дыма и пыли, чтобы сдать в плен соотечественникам своих пленителей.
Пока языки пламени завершали свою работу на каркасе «Гран пале», поблизости, прислонившись спиной к дереву, сидел всхлипывающий человек, снова и снова повторявший одни и те же слова: «Все потеряно… все потеряно». Сочувствующий прохожий подошел к Жану Уку, чтобы успокоить его. Он похлопал его по поникшим плечам и попытался подбодрить: «Не расстраивайтесь, союзники будут здесь через несколько дней, вот увидите». Хозяин цирка Ук с тупой злостью уставился на говорившего… и зарыдал громче прежнего.
* * *
В течение всего дня черный дым, струившийся из «Гран пале» словно мрачный предвестник гибели, покрывал пятнами серое парижское небо. На город, никогда не видевший результатов работы дюжины танков или массированного воздушного налета, ужасающее впечатление произвела та легкость, с которой один танк-робот и несколько зажигательных снарядов распотрошили огромное здание. Пока тянулись эти гнетущие часы наполненного влагой дня, горящее здание служило постоянным напоминанием о реальности захлестнувшего город слуха: вермахт готовится к уничтожению столицы.
После четырех с половиной дней сражений боевой дух отрядов ФФИ впервые заметно упал. Боеприпасы подходили к концу. Потери были большими. Ответные удары немцев становились все более мстительными. К ночи в эту кровавую среду на улицах города будет убит пятисотый парижанин, число раненых достигнет двух тысяч. Союзники, которых так ждали сразу после начала восстания, все не прибывали.
Во всех районах города интенсивность боя нарастала. В Лa-Вийетт группа бойцов ФФИ, прижатых к пустому скотопригонному двору, отражала многочисленные атаки свыше пятидесяти немецких солдат. На улице Жессен, у подножия Монмартра, баррикада, под прикрытием которой сражались две дюжины отважных железнодорожников-коммунистов, выстояла против танка и немецких солдат, доставленных туда на двух грузовиках.
В своем кабинете в отеле «Мёрис» унтер-офицер Отто Фогель из 650-й роты связи снял трубку зазвонившего телефона. Раздался умоляющий призыв на немецком: «Гипноз, помогите!» «Гипноз» был новым кодовым наименованием отеля «Мёрис». «Нас атакуют террористы. Скорее, помогите!» — продолжал говоривший. В этот момент Фогель услышал на другом конце провода выстрелы. «Они уже пересекают двор!» — прокричал неизвестный. Раздалась еще одна очередь. Фогель услышал глубокий вздох и медленно, затихающим голосом произнесенные слова: «Мама, мама, помоги!». Наступила тишина. Затем издалека послышалась французская речь, и Фогель повесил трубку.
С обеих сторон участились случаи бессмысленной жестокости. На площади Оперы какой-то немец выпрыгнул из машины, подбежал к французу, читавшему одну из появившихся в городе свободных газет, и застрелил его.
Затем он повернулся к продававшей их старушке. Она спаслась тем, что прикинулась неграмотной.
На улице Арп у мадам Андре Кош, открывшей пункт скорой помощи в классе школы Сен-Винсент-де-Поль, не нашлось места для легкораненого восемнадцатилетнего немецкого солдата. «Не беспокойтесь, — сказал ей сопровождавший раненого боец ФФИ, — мы все равно их всех перестреляем». Немец схватил руки мадам Кош и, глядя на нее молящими сыновьими глазами, дрожащими губами произнес что-то по-немецки. Она умолила охранника пообещать, что юношу не расстреляют. Они ушли, а через несколько секунд до ее слуха донеслись выстрелы. «Они прикончили его», — объявил один из санитаров.
Но, как всегда, такие случаи уравновешивались проявлениями благородства.
Почти в то же самое время в палате госпиталя «Отель-Дьё», куда его принесли на носилках санитары ФФИ, зондерфюрер Альфред Шленкер — переводчик военного трибунала — увидел склонившуюся над своей кроватью фигуру окровавленного француза в гражданском. Берлинец Шленкер, раненный три часа назад около «Перекрестка смерти» на бульваре Сен-Мишель, был уверен, что «террористы» сейчас его прикончат. Шленкер увидел, как человек полез в карман. «Достает пистолет», — подумал Шленкер и закрыл глаза. Когда через несколько секунд он их открыл, то увидел перед собой протянутую руку. Рука сжимала сигарету. «Тебе повезло, фриц, — сказал француз, отдавая ее Шленкеру, — для тебя война закончилась».
* * *
Из всех опасностей, нависших над жителями Парижа, ни одна не была столь близкой в эту среду, как растущая нехватка оружия и боеприпасов. В Префектуре полиции боеприпасов оставалось лишь на несколько часов боя, несмотря на то что по подземным проходам от метро запасы были несколько пополнены. Полковника Роля, находившегося на своем подземном командном пункте «Дюро», осаждали мольбами об оружии и боеприпасах, молили о том, чего у него совершенно не было. Роль проклинал своих соперников-голлистов, будучи уверен, что они так и не передали его срочные обращения к Лондону за оружием.
Но в это утро исполнению желаний Роля помешали не махинации голлистов. Генерал Пьер Кёниг отдал приказ, как сам себе и обещал, о массированной заброске оружия в город, которую накануне в последний момент отменил. 130 самолетов эскадрильи «Карпетбеггер», доверху загруженные тысячами единиц оружия и боеприпасов, в которых отчаянно нуждался Роль, были готовы взять курс на Париж. Удерживало их лишь одно: враг более непримиримый, чем любой политический соперник, — туман, густой, непроницаемый английский туман. С самого рассвета он приковал самолеты полковника Хефлина к взлетной полосе в Харрингтоне. Хефлин уже отчаялся когда-либо вылететь на это задание.
Стоявший рядом зеленый ВЧ-телефон зазвонил. В Лондоне, в штабе генерала Пьера Кёнига, только что стало известно, что 2-я бронетанковая дивизия получила приказ наступать на Париж. Для заброски оружия не оставалось никаких оснований. Пьер Кёниг отдал приказ вновь отменить операцию «Нищий», на этот раз навсегда. Через несколько минут солдаты Хефлина начнут разгружать 130 самолетов. Пилоты эскадрильи «Карпетбеггер» все же выполнят необычное задание в Париже, но тремя днями позже, 26 августа. Правда, вместо ручных гранат и пулеметов, в которых так нуждался Роль, они доставят мешки с углем и продуктами.
27
С рассветом, словно пара гигантских змей длиной в 13 миль, две колонны 2-й бронетанковой поползли по холмистым полям Нормандии, устремляясь под проливным дождем к осажденному Парижу. Буксуя и скользя на мокрых и узких дорогах, сотрясая дубовые балки попадавшихся на пути нормандских ферм, красочный, ликующий караван из 4000 машин и 16 000 солдат дивизии упорно продвигался к столь желанной столице.
Из открытых люков танков и бронемашин выглядывали красные пилотки марроканских спаги, алые помпоны французских морских пехотинцев, элегантные черные береты солдат Чадского полка. Вдоль дорог нескончаемой живой цепью стояли нормандские крестьяне. Они подстегивали военных, бурными овациями встречали трехцветное знамя и Лотарингский крест, которые несли на себе «шерманы» и «ГМСы», приветствовали белые буквы на башнях танков, буквы, обозначавшие названия других битв Франции: «Марна», «Верден» и «Аустерлиц».
Не обращая внимания на жгучую боль в глазах от колючего дождя и выхлопных газов, распаленные водители танков, бронемашин, полугусеничных машин и грузовиков 2-й бронетанковой напрягали все силы, чтобы удержать буксующие машины на скользкой дороге, не выпасть из сомкнутых колонн, помочь этой грузной массе брони преодолеть те мили, которые отделяли их от Парижа.
От бронемашин в голове колонн до громоздких тягачей в арьергарде вся дивизия была наэлектризована от предвкушения, от почти истерической радости при мысли, что на этот раз они едут прямо в Париж.
Жан Рене Шампьон, француз из Мексики, направлявшийся домой в столицу, которой никогда не видел, то и дело переводил взгляд с тыльной стороны двигавшегося впереди танка на медленно опускающуюся белую стрелку масляного манометра. Шампьон знал, что, как только стрелка пересечет красную черту, его мечте об освобождении Парижа не суждено будет сбыться. В эту дождливую среду он, как и почти все в колонне, боялся лишь одного: отстать от остальных из-за поломки.
Для многих из этих возбужденных людей, с неукротимой энергией рвавшихся вперед, стремительный бросок по мокрым полям Франции был сопряжен с воспоминаниями или надеждами увидеть любимое лицо всего через каких-нибудь несколько миль. Лейтенант Анри Карше за ветровое стекло своей полугусеничной машины воткнул фотографию. То была фотография малыша, четырехлетнего сына Карше, которого он никогда не видел. Карше хотел быть уверен, что узнает его с первого взгляда.
В голове одной из дивизионных колонн наводчик противотанкового орудия «Симун» Робер Мади вздрогнул при виде открывавшегося его глазам зрелища. Среди моря пшеницы Мади увидел маячившие впереди величественные шпили Шартра. Затем ему в голову пришла другая мысль. «Что это они? — подумал Мади. — Пшеница до сих пор не убрана»[27].
Для капитана Алена де Буассье, тридцати лет, командира роты охраны Леклерка, вид многоэтажного силуэта Шартра означал нечто большее, чем историю. Для Буассье это был дом. За собором, на берегу Эра, в красивом коттедже, где он не был пять лет, жили родители Буассье. Нажав на педаль газа, Буассье выскочил на своем джипе на обочину дороги и обогнал наступающую колонну. Он пролетел по городу, мимо собора, в конец бульвара Шарль-Пеги. Там он одним махом выпрыгнул из джипа и помчался на берег, к мосту, по которому мог попасть к дому своих родителей. Резко повернув, он увидел перед собой мост, вернее то, что от него осталось, — несколько искореженных конструкций со свисающими обломками бетона. На другой стороне реки стоял дом. Его крыша была снесена, боковые стены разрушены, и лишь изувеченный фасад, словно декорация для съемок, по-прежнему стоял. Это был его дом.
Убитый горем Буассье бросился к соседке. Немцы, сообщила она, эвакуировали из этого района всех, в том числе его родителей; затем они взорвали мосты, а с ними и большинство домов вдоль реки. На мосту перед его домом, продолжала она, немецкий командир установил дополнительное количество торпед, «чтобы мадам де Буассье знала, как иметь сына, который служит у де Голля».
Молча созерцая руины, Буассье вдруг с ужасом подумал: «Боже мой, если они сделают то же самое в Париже, то какую трагедию увидим мы завтра!»
* * *
В течение двенадцати часов человек, доставивший послание, которое могло бы избавить Париж от участи Варшавы и Сталинграда, проходил такую же серию проверок и допросов, какой подвергся днем ранее Роже Галлуа. И вот теперь на той же взлетной полосе в Нормандии, на которой генерал Брэдли накануне вечером отдал приказ Леклерку выступать на Париж, Рольф Нордлинг передал послание американскому генералу.
Сдвинув шлем на лысеющий затылок, Брэдли молча слушал шведа. Немецкому генералу, коменданту Парижа, сообщил ему Нордлинг, приказано разрушить город. Он еще не начал его выполнять, но, предупредил Нордлинг, «сейчас он загнан в угол» и, если нынешняя ситуация будет сохраняться долго, вынужден будет поступить в соответствии с приказом. Немец считает, что его могут сместить с должности. По-видимому, он хочет, чтобы союзники прибыли в город до того, как он получит подкрепления или начнет выполнять приказ.
Реакция Брэдли была мгновенной. Операция, которую он приказал начать прошлой ночью, вдруг приобрела чрезвычайно срочный характер. Как и Эйзенхауэр, Брэдли знал, что во Францию стягиваются 26-я и 27-я бронетанковые части и другие немецкие дивизии. Он понимал, что некоторые из них, вероятно, продвигаются к Парижу. Если союзникам не удастся разгромить их на подступах к городу, Париж может превратиться в ужасающее поле битвы. Более всего Брэдли беспокоил Хольтиц. «Мы не можем, — подумал он, — полагаться на то, что этот парень не передумает». Стоявшему рядом генералу Сайберту Брэдли приказал: «Скажите Ходжесу, чтобы французская дивизия неслась туда что есть духу». Затем, вспомнив, какое расстояние необходимо преодолеть 2-й бронетанковой, Брэдли принял другое решение. «Скажите ему, чтобы 4-я дивизия приготовилась выступать в том же направлении. Мы не можем рассчитывать на то, что этот чертов генерал не передумает и не вытрясет из города душу».
28
Дитрих фон Хольтиц, не говоря ни слова, протянул голубой бланк телеграммы стоявшему рядом полковнику. Фон Хольтиц знал Ганса Яя уже 20 лет, с тех самых времен, когда они вместе служили младшими офицерами в одном и том же полку. Два года назад именно с Яем фон Хольтиц отпраздновал в берлинском отеле «Адлон» получение своих первых генеральских погон. Пока Яй читал телеграмму, фон Хольтиц разглядывал из окна сад Тюильри. В это утро смеющиеся дети не пускали кораблики в изящных прудах работы Ленотра. 250-летние шпалеры и тропы были пустынны.
Яй сложил телеграмму и вернул ее фон Хольтицу. Хольтиц напрасно пытался разглядеть на его лице хоть малейший проблеск чувств. От человека, который был ему другом на протяжении 20 лет, он ожидал каких-то сочувственных слов, успокаивающего жеста, какого-то намека, что он не одинок. Ибо на этот голубой телеграфный бланк был наклеен самый жестокий приказ, который Дитрих фон Хольтиц когда-либо получал, варварское распоряжение, продиктованное Гитлером прошлой ночью. Оно повелевало генералу превратить простиравшийся перед ним город в руины.
Яй со вздохом вымолвил: «Дело дрянь».
Десятью минутами ранее Дитрих фон Хольтиц услышал точно такое же выражение бессильной покорности от другого человека, которому он показывал эту телеграмму, — холодного и неприступного начальника штаба полковника Фридриха фон Унгера.
Фон Хольтиц отошел от окна и решительно направился к телефону. Резким движением он сорвал трубку и потребовал соединить с группой армий «Б».
В искусственном освещении подземного бункера в районе Марживаля, в 60 милях к северу от Парижа, кожа генерал-лейтенанта Ганса Шпейделя уже и так приобрела восковой оттенок после пяти дней пребывания без свежего воздуха. Теперь же, вслушиваясь в пронизанные горечью и злостью слова Дитриха фон Хольтица, начальник штаба группы армий «Б» побледнел еще больше.
— Вы будете счастливы услышать, что «Гран пале» уже объят пламенем, — начал Хольтиц. Затем он поблагодарил Шпейделя за замечательный приказ.
— Какой приказ? — спросил Шпейдель.
— Приказ превратить Париж в груду развалин, — ответил Хольтиц.
Группа армий «Б» лишь передала этот приказ, запротестовал Шпейдель. «Он поступил от фюрера», — сообщил он Хольтицу. Не слушая его, Хольтиц продолжал. Он уже приготовил, доложил он Шпейделю, свыше тонны взрывчатки в Палате депутатов, две тонны в подвале Дома инвалидов и три тонны в подземной часовне Нотр-Дам.
— Я полагаю, дорогой мой Шпейдель, — продолжал Хольтиц, — вы согласны с такими мерами? — Наступила неловкая тишина. Шпейдель взглянул на висящие над головой гравюры Нотр-Дам и Тюильри и едва слышным голосом ответил: «Да, да, господин генерал, я согласен».
Продолжая, Хольтиц поведал Шпейделю, что готов «одним махом взорвать церковь Мадлен и здание Оперы». Он планирует вскоре заложить динамит в Триумфальную арку, чтобы расчистить поле для обстрела вдоль Елисейских полей и «взорвать Эйфелеву башню. Ее обломки завалят подступы к мостам, которые к тому времени тоже будут взорваны».
В своем подземном кабинете Шпейдель пытался понять, что происходит с Хольтицем — сошел ли тот с ума или разыгрывает комедию. На самом же деле, придя в ярость от приказа, переданного ему из группы армий «Б», Хольтиц лишь пытался «заставить Шпейделя понять весь ужас ситуации, в которой оказался солдат, получивший подобный приказ и вынужденный его выполнять».
* * *
На противоположном от кабинета фон Хольтица берегу Сены в почти опустевшем здании телефонной станции Сент-Аман удары топора сержанта Бернхарда Блахе грохотали, как выстрелы. Блахе, подчиненные которого «поджаривались, как сосиски» четыре дня назад у здания Префектуры полиции, по очереди уничтожал теперь установленные в здании 132 телетайпных аппарата. Его товарищ Макс Шнейдер разматывал 600 футов запального шнура, присоединенного к 25 зарядам взрывчатки, размещенным по всему трехэтажному зданию. Шнур тянулся полтора квартала к «Пежо-202», в котором их командир подполковник фон Берлипш установил взрыватель. Блахе рубанул по последнему аппарату, и шестеро солдат выбежали из здания. Позади Блахе услышал слабые звуки вальса. Впопыхах выбегая из телефонной станции, они забыли выключить радио.
Поодаль, на расстоянии сотни ярдов, за кордоном военной полиции Блахе увидел окаменевшие лица жителей прилегающего района, отрешенно взиравших на свои дома. Быстрым движением подполковник фон Берлипш опустил рукоятку взрывателя. Через несколько секунд телефонная станция, через которую армии рейха от Норвегии до Испании передавали когда-то свои приказы, исчезла в облаке пыли и обломков. Было 11.55 утра. Первая крохотная частичка программы разрушений, задуманной Адольфом Гитлером для района Большого Парижа, была выполнена.
В подвале Дома инвалидов другой офицер, подполковник Дауб, наблюдал, как его люди подсоединяли запальный шнур к двум тоннам взрывчатки, размещенной по этому подземному центру связи. Помимо взрывчатки солдаты установили десятки стальных баллонов, в которые под давлением в 180 атмосфер был закачан кислород. Когда взрывчатка сработает, эти баллоны произведут эффект десятков зажигательных бомб, от которых огонь молниеносно распространится по всему центру связи и, по всей вероятности, по всему занимающему 30 акров Дому инвалидов вместе с Музеем французской армии, картинной галереей, четырехсотлетними бараками и увенчанной золотым куполом могилой завоевателя Европы прошлого — Наполеона Бонапарта.
В Люксембургском дворце, несмотря на 35-часовое отсутствие электричества, которое удалось организовать храброму Франсуа Дальби, рабочие из ТОДТ заканчивали бурить отверстия под мины. Они уже начинили дворец, построенный в 1627 году для Марии Медичи, семью тоннами ТНТ, чего было достаточно, чтобы разметать его восьмигранный купол в клочки от 31 полотна работы Делакруа над половиной левобережного Парижа.
На прекрасной площади Согласия, за бесподобными коринфскими колоннами дворца Габриэля, над которым последние четыре года развевалась эмблема военно-морского флота Германии, хранилось свыше пяти тонн мин «Теллер» и других боеприпасов, которых было достаточно, чтобы разнести само здание, весь прилегающий сзади квартал и «Отель де Таллейран» по соседству.
На другом конце заложенной Людовиком XV площади Согласия, через Сену, во дворе Палаты депутатов солдаты 813-й саперной роты капитана Вернера Эбернаха получили подкрепление — 177-ю саперную роту 77-й пехотной дивизии. Пока солдаты Эбернаха завершали минирование 45 мостов через Сену, чтобы произвести серию взрывов, которые в густонаселенном Париже вызовут такие разрушения, после которых увиденное Аленом де Буассье в Шартре покажется пустяком, вновь прибывшая рота заканчивала бурить отверстия в районе, прилегающем к Палате депутатов. Они уже заминировали Бурбонский дворец, в котором размещался парламент Франции, и разбросанные за ним учреждения, примыкавшие к прекрасному району Бурбонского дворца. Теперь же с помощью пневматических буров они заканчивали подготовку отверстий под взрывчатку в элегантном дворце XVIII века, в котором находилась канцелярия председателя Палаты депутатов, и украшенном колоннами здании «Ке д’Орсей» — Министерстве иностранных дел Франции. Одним махом эти 20 прекрасных акров бесценной архитектуры вдоль берегов Сены и площади Согласия будут стерты с лица земли, чем будет отдано должное симметрии самой прекрасной в мире площади: по обе стороны не останется ничего, кроме похожих друг на друга гор обломков.
И в это ужасное утро к южной опоре Эйфелевой башни у края Марсова поля подкатил «кюбельваген», ощетинившийся ветками камуфляжа. Из машины вышли четверо и одну за другой обследовали четыре железобетонные опоры величественной башни. Час назад они получили из Берлина приказ заминировать «символ Франции». У унтерштурмфюрера Ганса Шнетта из Лейпцига и трех его товарищей, окруживших обнаженные опоры веретенообразного каркаса, вопросов не возникло. Для них символом Парижа была Эйфелева башня.
По всему Парижу — на железнодорожных вокзалах, электростанциях, телефонных станциях, в Люксембургском дворце, Палате депутатов, Министерстве иностранных дел, в штабе германского ВМФ, под Домом инвалидов, под 45 мостами — приготовления к варварской акции близились к завершению. Все, что требовалось теперь, — это еще несколько часов работы и команда от колеблющегося прусского генерала из отеля «Мёрис». Там в нерешительности томился Хольтиц, размышляя над тем, сколько еще пройдет времени, прежде чем он отдаст приказ о начале акции, которая превратит некоторые из самых прекрасных монументов Парижа в пыль и обломки.
29
Впервые за последние трое суток полковник Андре Вернон посмотрел с каким-то удовлетворением на засохшие бутерброды и выщербленную чашку с холодным чаем, стоявшую на его столе в лондонской штаб-квартире ФФИ на площади Брайнстон. Именно этот человек с вьющимися волосами стал автором колоссального розыгрыша, приведшего в состояние экстаза миллионы людей на всей планете.
Шесть часов назад в этом самом кабинете Вернон расшифровал последнее из отчаянных воззваний, исходивших от Жака Шабан-Дельмаса в Париже, мольбу о срочной присылке войск союзников, прежде чем в городе произойдет резня. Вернон не знал, что накануне вечером 2-я бронетанковая дивизия получила приказ срочно идти на помощь городу. Обуреваемый чувствами, которые в нем разожгла телеграмма Шабан-Дельмаса, он решил попытаться как-то помочь городу «преодолеть завалы» и вынудить Верховное командование союзников направить войска в столицу. Неожиданно для себя он схватил лист бумаги и набросал сообщение для прессы, в котором объявлялось, что город «сам себя освободил». Затем он приказал своим подчиненным направить бумагу прямо на Би-би-си без согласования с цензурой штаба Верховного командования союзников. Если Би-би-си, размышлял он, объявит миру об освобождении Парижа, у штаба Верховного командования не будет предлога отказаться от введения войск в город, который Вернон преждевременно освободил несколькими росчерками пера.
Незадолго перед полуднем, за несколько минут до начала ежедневно передаваемой Би-би-си сводки новостей на французском языке, молодой офицер из отдела информации Свободной Франции передал по телефону текст Вернона на студию Би-би-си. Он заверил диктора, что бюллетень был устно согласован с цензором штаба Верховного командования: это делалось довольно часто и ранее, если нужно было передать новости, полученные в последнюю минуту. Через несколько секунд ликующий и ничего не подозревающий диктор пустил фальшивую сенсацию гулять по белу свету.
30
Лейтенант Сэм Брайтмен из отдела печати штаба Верховного командования разглядывал насквозь промокших людей, заполнявших улицы Рамбуйе в 30 милях от Парижа. Танки, джипы, грузовики, французские солдаты, американские, бойцы ФФИ, репортеры и простые французы толпились за окнами ресторана при гостинице «Гран Венёр» в Рамбуйе. «Не хватало только де Голля, — подумал Брайтмен, — и у немцев будет самая лучшая цель со дня „Д”».
На лице Брайтмена витала улыбка. У его локтя стояло сокровище, столь редкое в этом городе, в котором и без того скудные буфеты уже были полностью опустошены дружелюбными оккупантами. Это была бутылка холодного рислинга. И вот теперь хорошенькая официантка подносила ему тарелку разогретых консервов. Подойдя к столу, она вдруг вскрикнула и выронила тарелку, перевернув бутылку Брайтмена. Пока Брайтмен созерцал, как драгоценное вино выплескивается на пол, официантка, как завороженная, уставилась в окно и со слезами на глазах непрерывно повторяла: «Де Голль, де Голль, де Голль».
Шарль де Голль действительно только что прибыл в Рамбуйе. Здесь, на пороге столицы своей страны, в авангарде армии, которой предстояло ее освободить, этот одинокий человек сделал предпоследнюю остановку на долгом пути к дому из изгнания, начавшегося в июне 1940 года. Его помощнику Клоду Ги на всю жизнь запомнилась сцена в тот августовский вечер. Не все в Рамбуйе, как официантка из «Гран Венёр», узнавали одинокую фигуру де Голля. Когда он проходил, сотни людей выкрикивали имя де Голля, но, не зная его лица, не могли понять, кому аплодировать.
Де Голль со своими спутниками направился прямо в «Шато де Рамбуйе», в котором двери, и простыни, и даже столовые приборы все еще были проштампованы надписью «Французское государство» — символом бывших хозяев, вишистов. Там, в полутемном торжественном зале, где отрекся от престола Карл X, где пировали короли, императоры и президенты Франции от Людовика XVI до Наполеона и Пуанкаре, Шарль де Голль и три его верных помощника уселись за стол и вскрыли на ужин банки холодного пайка. Поужинав, де Голль вызвал Леклерка. Он сгорал от нетерпения, стремясь побыстрее попасть в Париж. Теперь на счету был каждый час.
Изучив разведданные, поступившие от оперативной группы Хемингуэя и от десятков агентов ФФИ, просочившихся через немецкую линию фронта, Леклерк принял важное решение. От своего американского начальства он получил приказ двигаться строго вперед по кратчайшей дороге до Парижа, минуя Рамбуйе и Версаль. Однако за последние сутки, как сообщала разведка, немцы подтянули в этот район еще 60 танков и расставили минные поля. По собственной инициативе Леклерк решил сделать крюк в 17 миль на восток, к Арпажону и Лонжюмо, и войти в столицу с юго-востока через Орлеанские ворота. Он не позаботился о том, чтобы согласовать свои планы с вышестоящим начальством из V корпуса; через несколько часов это упущение вызовет горькую и раздраженную реакцию.
Теперь же, в «Шато», Леклерк изложил свой план наступления де Голлю. Оба понимали: время не ждет. Мощь противостоявших немецких частей быстро возрастала. То, что 24 часа назад представлялось как прогулка, теперь грозило перерасти в битву. Но, что было еще хуже, если бы не удалось быстро преодолеть сопротивление, Леклерк мог застрять на дороге к Парижу, а тем временем немцы успели бы разделаться с восставшими и подтянуть подкрепления. Де Голль, в глазах которого читалось нетерпение, изучил план молодого командира и после довольно долгих размышлений дал свое благословение.
Затем он посмотрел на Леклерка. Де Голль испытывал особые симпатии к этому искреннему и пылкому пикардийцу. Для всегда сохранявшего дистанцию лидера Свободной Франции Леклерк был почти как сын. «Счастливчик», — пробормотал он. Наступила долгая пауза. После чего он добавил: «Спешите. Мы не можем позволить себе еще одну Коммуну».
31
Измотанные долгой и изнурительной гонкой в Рамбуйе, насквозь промокшие под проливным дождем солдаты Леклерка разбрелись по лесам и деревням вокруг Рамбуйе и теперь пытались хоть немного соснуть. Скрытно продвигаясь в ночи, дивизионные ГМСы сбрасывали канистры с горючим для танков и бронемашин, которые для предстоящей на рассвете атаки были разбиты теперь на три штурмовые группы. Люди строили планы, мечтали, вспоминали о своей последней встрече с Парижем, молились или просто засыпали мертвецким сном. В своей палатке у керосиновой лампы майор Анри Мирамбо из 40-го артиллерийского полка согласовывал огневой план с американским подполковником, пушки которого будут поддерживать его на следующий день. Наводчик Робер Мади и товарищи по расчету противотанкового орудия «Симун» с жадностью смотрели на все еще сырую утку, лежавшую на стеллаже для снарядов. Усталость не дала им ее изжарить. Вместо этого они проглотили холодный паек и легли спать.
Лейтенант Анри Карше покрасневшими от многочасового пребывания в выхлопных газах глазами еще раз посмотрел на фотографию сына и заснул. Жак де Гийбон, тридцатичетырехлетний подполковник, двое суток назад посланный впереди своей дивизии, отнесся к прибытию боевых товарищей со смешанным чувством. Целые сутки он сгорал от желания провести собственный смелый маневр, проскользнуть в осажденный город и оказать помощь восставшим силами своего небольшого подразделения. Но самый молодой военный губернатор за всю историю Парижа так и не получил от Леклерка согласия на такую операцию. Накануне ночью помощник Леклерка не осмелился разбудить его, чтобы передать просьбу Гийбона. Удрученный Гийбон дожидался в Рамбуйе, пока его нагонит остальная дивизия.
Вероятно, никто во 2-й бронетанковой не был более взволнован, чем рядовой 1-го класса Поль Ландриё, лежавший в одиночном окопе у своего «шермана» «Марна» на краю деревушки Бреи. Танковая рота Ландриё только что получила задание на следующий день. Их целью был пригород Френе в 15 милях отсюда. Для Поля Ландриё эти 15 миль были всем, что осталось от 1800-мильного путешествия через концентрационные лагеря Испании, пустыни Чада и Ливии вплоть до этого окопа. Оно началось три года назад, в такой же вот вечер, когда, бросив своей жене: «Схожу за пачкой «Голуаз», вернусь минут через десять», — Ландриё вышел из своей квартиры в Френе. Завтра эти 10 минут закончатся. На улицах Френе Ландриё будет сражаться за освобождение своего дома и жены, которая так и не знала, жив он или мертв. Ради шутки он принесет ей пачку сигарет, за которой отправился три года назад. Правда, вместо «Голуаз» это будет пайковый «Кэмл».
* * *
В то время как измученные бойцы 2-й бронетанковой устраивались на ночь в лесах вокруг Рамбуйе, другая дивизия только начинала тот же долгий марш, который они закончили. В Карруже, в 132 милях от Парижа, под проливным дождем и в полной темноте в сторону столицы выступила 4-я пехотная дивизия США. Генерал Брэдли, обеспокоенный сообщением Рольфа Нордлинга, по вполне понятным причинам выбрал именно эту дивизию для оказания поддержки 2-й бронетанковой. С самого дня «Д» вместе с 1-й и 29-й дивизиями 4-я составляла первый эшелон американской армии в Европе. Она высадилась на побережье Юты, была переброшена в Шербур, затем сдержала три бронетанковые дивизии немцев у Мортена, не дав им развить отчаянную контратаку в Нормандии, руководить которой ОКВ послал Вальтера Варлимонта. Для 12-го пехотного полка, двигавшегося в авангарде ночного марша, эта дорога на Париж уже стала кровавой Голгофой. Полк численностью 3000 человек оставлял за собой 4034 человек убитыми и ранеными — потери за 78 дней боев после 6 июня.
Для некоторых американцев это была дорога домой. Лейтенант Дэн Хантер из Управления стратегических служб прожил в Париже большую часть своей жизни. В палатке командира парижской оперативной группы — подразделения, которому было поручено произвести разведку в городе, — Хантер водил пальцем по карте пригородов столицы. Ему было приказано выбрать передовую базу для своего подразделения. Его палец остановился на знакомом названии, и, решив в шутку устроить маленькую месть, Хантер сделал выбор: он займет свою старую школу.
В Шартре полковнику Джону Хэскиллу из УСС пришло в голову «просто так» попробовать позвонить в Париж. Он решил позвонить старому другу, Мими Гилгуд, невестке актера Джона Гилгуда. Всю войну она оставалась в оккупированном Париже, и Хэскиллу хотелось узнать, удалось ли ей — и каким образом — выжить. Он соединился с нужным номером и к изумлению и облегчению услышал на другом конце провода — на расстоянии 50 миль, в городе, все еще кишевшем немецкими войсками, — отчетливый спокойный голос англичанки.
— А, Джон, — ответила она столь невозмутимо, как если бы он звонил, чтобы пригласить на партию в бридж, — я ждала твоего звонка.
* * *
То радостное возбуждение, которое кружило головы солдатам 2-й бронетанковой и 4-й пехотной дивизий, предвкушавшим освобождение Парижа, должно было иметь свою цену. В этот августовский вечер офицеры тыла из штаба Верховного командования готовились оплатить счета. В Бристоле и Саутгемптоне ожидали срочной отправки на континент и в Париж 53 тонны медикаментов, 23 338 тонн печенья, мясных консервов, маргарина, супов, витаминизированного шоколада и молочного порошка. 3000 тонн из этого груза будет доставлено по воздуху эскадрильей «Карпетбеггер». Чтобы доставить остальное, у 21-й группы армий Великобритании было изъято 2000 грузовиков и 300 тяжелых тягачей с трехтонными прицепами. Еще 1000 грузовиков сняли с маршрутов обеспечения американской армии.
Кроме того, 21-й группе армий Монтгомери было приказано ежедневно доставлять в город на армейских грузовиках 5000 тонн грузов, а американским частям — еще пятьсот. Ценой этого усилия будут 70 тысяч галлонов драгоценного бензина в день, или один миллион галлонов в течение следующих двух решающих недель гонки по Франции.
В палатке, где двое суток назад он сказал «нет» Галлуа и Парижу, генерал Джордж Паттон в ярости и смятении изучал срочное донесение. В нем говорилось, что сегодня, 23 августа, его стремительно продвигавшиеся бронетанковые колонны впервые после прорыва обороны противника в Авранше израсходовали больше горючего, чем получили. Надвигалась «смертельная болезнь», которую четыре дня назад предрекал помощник Брэдли майор Чет Хансен. Всего через неделю у ворот Меца, в каких-нибудь несчастных 100 милях от Рейна, когда немецкие войска будут пятиться в полном беспорядке, в танках 3-й армии Паттона кончится горючее.
Его не останется ни капли. Чтобы достичь Рейна, им потребуется всего один миллион галлонов, то есть то самое количество, которое было израсходовано из-за преждевременного освобождения Парижа. Когда к концу сентября горючее поступит, противостоящие им немецкие части будут усилены, перегруппируются и займут оборону на линии Зигфрида. Паттон доберется до Рейна лишь через семь долгих месяцев — 22 марта 1945 года.
32
Уже во второй раз менее чем за сутки генерал-оберст Альфред Йодль буквально не мог устоять под потоком гневных слов, которые извергал Адольф Гитлер. Весь день телеграфные аппараты ОКВ докладывали об ухудшении ситуации в Париже. В своем последнем бюллетене фон Хольтиц был, наконец, вынужден признать, что «террористы» ведут «интенсивные боевые действия» по всему городу. Эти сообщения вызвали у Гитлера запомнившийся многим приступ бешенства. Злополучный генерал Бюле, эксперт по артиллерийско-техническим вопросам, подлил масла в огонь, объявив, что жестокие налеты авиации союзников парализовали работу всего железнодорожного транспорта вокруг Парижа. Отчаянные призывы Жака Шабан-Дельмаса своевременно сослужили хорошую службу. Мортира «Карл», нехотя признался Гитлеру Бюле, за весь день не сдвинулась ни на дюйм.
Обращаясь к Йодлю, Гитлер кричал, что если вермахт не сможет «сокрушить ничтожных бунтарей» на улицах Парижа, то «покроет себя самым страшным позором и бесчестием за всю свою историю». Модель, заявил он Йодлю, должен направить в город все имеющиеся танки и бронемашины. Что касается фон Хольтица, то Гитлер приказал ему собрать бронетанковые части и артиллерию в специальные штурмовые отряды, чтобы «безжалостно уничтожить очаги восстания». Затем люфтваффе нанесет бомбовые удары, в том числе фугасами, чтобы полностью уничтожить те кварталы Парижа, которые еще будут угрожать его войскам.
Генералу Вальтеру Варлимонту безудержная ярость Гитлера в ту среду вечером навсегда запомнилась как один из самых страшных припадков, которые он видел у фюрера в этом бункере. Когда Варлимонт быстро заносил слова Гитлера в свою записную книжку, у него промелькнула мысль, приходившая в голову столь многим французам. «Париж, — сказал он себе, — станет второй Варшавой».
* * *
На подземном командном пункте группы армий «Б» в Марживале генерал-фельдмаршал Вальтер Модель изучал вечерние сводки о положении на Западном фронте. Они не давали никаких оснований подозревать, что вскоре по его войскам, стоявшим на подступах к городу, будет нанесен удар, который преднамеренно вызвал на себя командующий Парижским округом. Как и все последние четыре дня, в вечернем докладе штаба Западного фронта говорилось лишь о «незначительных прощупывающих танковых ударах» на подступах к столице. В нем даже оптимистически утверждалось, что союзники вынуждены будут «ввести новые подразделения», прежде чем смогут начать крупное наступление на город. Никто в штабе Моделя не заметил быстрого продвижения 2-й бронетанковой и приготовлений 4-й пехотной дивизии американцев.
Тем не менее Модель, очевидно, сутки назад решил, что достаточно долго тянул время на подступах к Парижу. Вероятно, сыграл определенную роль вежливый, но настойчивый звонок Варлимонта по приказу Гитлера. Гитлер желает знать, сказал ему Варлимонт, почему не сделано большее. «Скажите фюреру, — со злостью ответил Модель, — я знаю, что делаю». Но после этого он начал собирать все имеющиеся части и направлять их для укрепления линий обороны фон Аулока на подходах к столице.
В среду вечером, поняв, что из-за налетов авиации союзников 26-я и 27-я бронетанковые дивизии могут продвигаться только по ночам и не скоро прибудут в Париж, Модель попытался найти временное средство укрепить свои части в районе города. Он предпринял три шага. Во-первых, приказал 47-й пехотной дивизии собраться в районе Меру-Нейи, к северу от столицы, и приготовиться занять позиции на северо-западном фланге. Первой армии он приказал собрать 47 танков в Mo, что в 26 милях от Парижа, для немедленной переброски в город. Наконец, он направил в город 11-ю бригаду штурмовых орудий. Он предполагал, что эти части будут готовы к боевым действиям через 36–48 часов, то есть 25 или 26 августа. В крайнем случае, они помогли бы Хольтицу продержаться до прихода 26-й и 27-й бронетанковых дивизий. А уж потом, имея в своем распоряжении более трех дивизий, герой Севастополя смог бы — Модель был в этом совершенно уверен — подарить Гитлеру такую кровавую и упорную битву за город, какую только мог вообразить его воспаленный мозг. Все, что нужно было Моделю сейчас, это чуть больше времени, ровно столько, чтобы выделенные им части заняли позиции. Фактически ему нужно было еще двое суток.
34
24 августа
Капрал Гельмут Майер плавно двигался по длинному, устланному красным ковром коридору отеля. Одной рукой он удерживал в равновесии поднос с завтраком, который состоял из неизменных: чашки черного кофе, баночки английского мармелада и четырех ломтиков хлеба. В другой Майер сжимал черную папку. Несколько минут назад ему передал ее граф фон Арним. В ней лежали поступившие минувшей ночью телеграммы на имя коменданта Большого Парижа. Майер обратил внимание, что это была самая толстая пачка бумаг, которую ему доводилось носить по этому коридору с момента прибытия в Париж.
У комнаты 238 Майер остановился, открыл дверь, поставил поднос и раздвинул шторы. Как только первые лучи света прорезали темноту, Хольтиц пошевелился, открыл глаза и посмотрел на Майера. Затем, как он это делал почти каждое утро за последние семь лет, Хольтиц спросил добродушного капрала: «Какая сегодня погода?»
День выдался пасмурным и серым; было ровно семь утра, четверг, 24 августа, и в этот день капрал Майер последний раз в своей жизни принес завтрак Дитриху фон Хольтицу.
Фон Хольтиц взял с ночного столика монокль и одну за другой пролистал телеграммы, сложенные в черной папке Майера. В первой был варварский приказ Гитлера, продиктованный Йодлю накануне вечером и требовавший от Хольтица «сокрушить центр восстания… и уничтожить бомбовыми ударами и зажигательными средствами все городские кварталы, в которых оно будет продолжаться». Под ней были копии приказов генерал-фельдмаршала Моделя 47-й пехотной дивизии, первой армии и 11-й бригаде штурмовых орудий о направлении в Париж подкреплений. Но самым важным содержимым черной папки была телеграмма из оперативного отдела группы армий «Б» с той самой информацией, которую Модель дважды отказывался предоставить своему парижскому командующему, а именно новость о том, что 26-я и 27-я бронетанковые дивизии СС вошли во Францию и направляются в Париж в распоряжение Хольтица[28].
Долгое время генерал лежал в постели неподвижно. Дилемма, угнетавшая его многие дни, теперь была решена. Хольтиц надеялся на другое решение. Но за те 36 часов, что прошли с момента отъезда Рольфа Нордлинга, ни Хольтиц, ни кто-либо еще в Париже о шведе ничего не слышали. Коменданту Большого Парижа было ясно: союзники либо не хотят, либо не могут воспользоваться его широким жестом. Они не собирались ворваться в зияющую брешь в обороне Парижа, прежде чем подкрепления от Моделя ее ликвидируют. Таким образом, он получит свои подкрепления и будет вынужден оборонять город. Бесполезная битва в уже проигранной войне. Она позволит Германии выиграть всего несколько дней, а ценой ее будут горы обломков, которые мир не скоро забудет, а Франция никогда не простит. Но Хольтица загнали в угол. Его чувство долга, кодекс солдатской чести не оставляли ему иного выхода. Он вынужден будет сражаться.
Это был первый случай за всю его военную карьеру, когда завоеватель Роттердама и Севастополя ждал предстоящую битву без всякого энтузиазма. Но каковы бы ни были его собственные соображения относительно разумности такого сражения, он даст его без малейшего колебания. С грустью и вместе с тем с растущей решимостью Хольтиц залпом выпил кофе и босиком направился в ванну, которую ему только что приготовил капрал Майер.
* * *
На третьем этаже дома по улице Анжу, едва ли в пятистах ярдах от ванной комнаты, где в клубах пара размышлял над только что полученными сообщениями немецкий генерал, молодой француз с изумлением слушал сидевшего напротив немца. Удобно развалившись в кресле у постели больного генерального консула Швеции Рауля Нордлинга, агент абвера Бобби Бендер сообщал представителю французского Сопротивления суть секретных телеграмм, только что прочитанных комендантом Большого Парижа.
Пользуясь чрезвычайной свободой передвижения, которая была ему предоставлена в отеле «Мёрис» в последние 10 дней, Бендер зашел в гостиницу и детально изучил содержание телеграмм, дожидавшихся подноса с завтраком для коменданта Большого Парижа. Бендер знал, что через полчаса у него будет встреча с Лорреном Крюзом, помощником генерала Жака Шабан-Дельмаса.
Бендер сообщил Крюзу, что ситуация ухудшается с каждым часом. Он повторил длинный перечень подкреплений, которые должны были свалиться на город, и отметил тот печальный факт, что на пути к Парижу находились две дивизии СС. Бендер заявил, что если они попадут в Париж раньше союзников, то Хольтиц использует их для организации упорной обороны. Приказы Гитлера о разрушениях и репрессиях в городе день ото дня становятся все более дикими. Хольтиц будет вынужден начать их осуществление или подвергнуться риску собственного ареста и, возможно, казни его семьи. Натянутым, как показалось Крюзу, почти патетическим тоном Бендер предупредил, что, если «союзники не прибудут в Париж в течение нескольких часов, наступит катастрофа».
Крюз встал, кивком поблагодарил Бендера и хозяина дома и бросился к велосипеду. Через несколько минут запыхавшийся Крюз влетел в убежище Шабан-Дельмаса. «Скорее, — вымолвил он, — мы должны предупредить союзников. Хольтиц получит подкрепления. У него приказ взорвать Париж!»
35
С рассветом машины 2-й бронетанковой дивизии начали движение под сенью столетних дубов насквозь промокших лесов Рамбуйе, направляясь в сторону столицы Франции, которая была теперь всего в двадцати мучительных милях. На гребне холма, сразу по выезде из этого древнего охотничьего заповедника властителей Франции, в наброшенном на плечи плаще с капитанскими погонами Жак Филипп Леклерк наблюдал за выдвижением своих первых подразделений.
Леклерк начал наступление, разделив свои силы на три колонны, которые продвигались к юго-западной части столицы, образовав фронт шириной в 17 миль. Первая, и самая слабая из них, под командованием майора Франсуа Морель-Девиля, должна была выполнить отвлекающий маневр вдоль оси, намеченной командованием V корпуса: через Трапп, Сен-Сир, мимо величественного Версальского замка и далее в город через Севрские ворота. Ее задачей было «произвести шум», убедить немцев, что здесь и наносится главный удар. Вторая, под командованием подполковника Поля де Ланглада, двигалась в пяти милях к юго-востоку от оси наступления Морель-Девиля через роскошные зеленые долины Шеврёз к Туссю-ле-Нобль, Вилакубле и далее к городу через Ванвские ворота. Основной удар Леклерк наносил третьей колонной под командованием полковника Пьера Бийотта, которая должна была прорываться строго на южных подступах к городу через мрачные промышленные пригороды Лонжюмо, Антони и Френе, и затем в столицу через южные, Орлеанские ворота.
В эти первые утренние часы, когда немцы почти не оказывали сопротивления, продвижение 2-й бронетанковой выглядело как бесшабашный парад через море доведенных до экстаза сограждан, буквально заполонивших дорогу.
Повсюду на их пути выстраивались толпы соотечественников — ликующих, размахивающих флагами, поющих, плачущих. Женщины и девушки на ходу цеплялись за борта грузовиков, чтобы одарить своих освободителей градом цветов, фруктов, поцелуев, вина и слез. Жан Рене Шампьон, француз из Мексики, управлявший танком «Морт-Омм», увидел, как ему отчаянно жестикулирует пожилая женщина. Он приоткрыл смотровую щель, и в отверстие скользнул пакет. В нем была кастрюлька с фаршированными помидорами. Лейтенант Ален Родель поймал на лету жареного цыпленка и бутылку шампанского, которые метнул ему в танк какой-то булочник. Некоторым достались подарки попроще, но не менее трогательные, как, например, капралу Клоду Адею, выдернувшему из рук застенчивой девчушки трехцветный букетик.
На запруженных улицах Орсе лейтенант Анри Карше, прикрепивший к ветровому стеклу фотографию сына, которого он никогда не видел, внимательно вглядывался в попадавшихся по пути женщин и детей. «Ты знаешь, — сказал он своему водителю Леону Зибольски, — если бы в этой толпе был мой сынишка, я бы его не узнал». Он действительно там был. На следующий день Карше узнает, что его жена и сын Жан-Луи, родившийся 3 июня 1940 года, стояли как раз на этой улице и видели его колонну; при этом Жан-Луи все время теребил мать: «Где папа? Я хочу видеть папу».
К своему изумлению, солдаты 2-й бронетанковой узнали, что телефонные линии, связывавшие окрестности с городом, были исправны и работали. Когда их колонны на какое-то время останавливались, они врывались в дома, бистро и магазины, чтобы набрать номера, по которым не звонили многие годы. Патрик Дешан, покинувший Париж в 1940 году, был одним из первых. «Мама, — весело прокричал он, — доставай шампанское, мы возвращаемся домой!» Некоторые были так ошарашены, услышав знакомый голос, что не знали, что сказать. «Э-э… э-э… — запинался рядовой Этьен Крафт в разговоре с матерью, — это я». Некоторые телефоны не отвечали. Лейтенант Жак Туни узнал от своего дяди, что его отец был арестован гестапо в феврале.
В Арпажоне капрал Морис Бовера услышал, когда его колонна на минуту остановилась, как в доме рядом с его джипом какая-то женщина разговаривала с Парижем. «Мадам, — попросил он ее, — позвоните на Елисейские 60–67 моим родителям». Женщина прервала разговор и тут же набрала его номер. Но в этот момент колонна Бовера двинулась вперед. Через плечо он прокричал: «Мадам, скажите моей маме, что ее сын возвращается домой. Я в полку с черными беретами!»
Через несколько минут в своей квартире по улице Пантиевр, 32, мадам Иветта Бовера сняла трубку и услышала, что ее сын возвращается в «полку с черными беретами». Онемев от радости, она всхлипнула «мерси» и повесила трубку.
И тут мадам Бовера вздрогнула. «Но какой сын?» — вскрикнула она. У де Голля служили два сына мадам Бовера. В течение трех лет она ничего не знала о месте нахождения ни того, ни другого.
Внезапно в это серое, облачное утро в Масси-Палезо, на окраинах Арпажона и в Траппе все три колонны 2-й бронетанковой наткнулись на хорошо закрепившихся и поджидавших их солдат генерал-майора Хубертуса фон Аулока. Почти одновременно двигавшиеся в голове колонн Леклерка части были обстреляны немцами из двухсот тщательно замаскированных орудий 88-го калибра. Парадное шествие 2-й бронетанковой дивизии закончилось.
36
Дитрих фон Хольтиц моментально узнал голос звонившего. Это был краснолицый майор люфтваффе, который три дня назад предложил ему превратить часть Парижа в «маленький Гамбург». Хольтиц ждал его звонка. Он знал, что на этот раз майор звонит не по собственной воле и не по распоряжению своего командира генерал-оберста Отто Десслоха. Он звонил по приказу фюрера. В правом верхнем углу телеграммы, которую Хольтиц получил за завтраком, под своим именем он увидел упоминание воздушного флота № 3. Это был тот инструмент, который Гитлер избрал для исполнения своего приказа о полном уничтожении районов Парижа, удерживавшихся восставшими.
Как Хольтиц и ожидал, майор с первых же слов запросто объявил, что звонит, чтобы скоординировать план «бомбардировки Парижа». Он сообщил Хольтицу, что со времени их последнего разговора был занят в основном эвакуацией самолетов люфтваффе из Ле-Бурже. Поэтому идею, которую он предложил ранее, — о массированной бомбардировке одного из районов города — осуществить уже не удастся.
Вместо этого, поведал фон Хольтицу майор, он теперь планирует один-единственный терроризирующий налет на город. Хольтиц спросил, когда тот собирается его организовать — днем или ночью? Явно раздраженный вопросом парижского командующего, майор ответил: «Ночью, конечно!»
Хольтиц заметил, что Париж уже забит немецкими войсками, и штаб Западного фронта только что сообщил ему, что подходят подкрепления, которые вскоре войдут в город, возможно, в эту самую ночь. Слепой ночной рейд без четко обозначенных целей, язвительно заметил он, «погубит столько же немцев, сколько и парижан». Майор вздохнул. У него нет выбора. Он получил категорический приказ. Воздушному флоту № 3 был отдан приказ бомбить Париж, и у него нет другого выхода, как только исполнять. Поскольку они не могут подставить те несколько бомбардировщиков, что еще оставались во Франции, под удары истребителей союзников, рейд придется совершить ночью. В нынешних обстоятельствах, добавил он, потеря бомбардировщика «будет неизмеримо более тяжелой утратой, чем потеря нескольких человек».
Хольтиц с трудом сдержал гнев. Язвительным тоном он попросил майора хотя бы проинформировать его о дне и времени планируемой акции. Тогда он сможет эвакуировать свои войска из тех зон, которые могут попасть под бомбежку, другими словами, из всего Парижа. Люфтваффе, сказал он звонившему, вероятно, сможет взять на себя ответственность за это перед ОКВ.
Понимая, что разговор зашел в тупик, майор ответил, что он еще раз проконсультируется со своим начальством и лично навестит фон Хольтица во второй половине дня. Тогда же они смогут обсудить детали рейда, который необходимо осуществить как можно быстрее, желательно в эту ночь.
Фон Хольтиц с негодованием повесил трубку. Затем еще раз перечитал последнюю строчку телеграммы, тот самый приказ, по поводу которого звонил майор. «Люфтваффе, — говорилось в ней, — уничтожит любой квартал города, в котором будет продолжаться восстание». Фон Хольтиц пожал плечами. Для этого, с иронией подумал он, майору теперь придется уничтожить большую часть Парижа.
37
На вершине холма за городом Сен-Жермен-ан-Лей, на западных подступах к Парижу, другой немецкий генерал изучал местность в полевой бинокль. У подножия холма в черном восьмицилиндровом «хорхе» водитель генерал-лейтенанта Гюнтера Блюментритта старший сержант Отто Пихлер караулил десять генеральских длиннохвостых попугаев. Как и генерал Монтгомери, Блюментритт обожал этих маленьких птичек. Этот офицер, предложивший две недели назад применить в Париже «тактику выжженной земли в ограниченных масштабах», в это августовское утро решил «из спортивного интереса» немного пощекотать себе нервы. Прежде чем покинуть старое помещение штаба Западного фронта в Сен-Жермене и присоединиться к своим коллегам, которые неделей раньше выехали на север, на новые квартиры под Реймсом, Блюментритт хотел хотя бы мельком взглянуть на первые танки противника, штурмующие французскую столицу.
Несколько минут назад Блюментритт попрощался с работавшим при штабе садовником-французом, сорвал последнюю розу и взобрался на холм. Теперь вдалеке он видел клубы пыли, поднимающиеся за цепью наступающих «шерманов». Он наблюдал за ними до тех пор, пока до его насеста на вершине холма не докатилось эхо пушечных выстрелов. Закончилась, размышлял он, целая эпоха в его жизни.
Забираясь в машину, чтобы покинуть этот город, который он столь счастливо оккупировал в течение двух лет, Блюментритт услышал от своего шофера печальную новость. «Генерал, — сказал тот, — не осталось корма для птичек. Придется вам попросить Монтгомери, чтобы он прислал немного».
В 12 милях к югу от холма Блюментритта, на плато, возвышавшемся над аэродромом в Туссю-ле-Нобль, еще один немецкий офицер наблюдал за наступлением танковой колонны союзников. Двадцатидвухлетний лейтенант Генрих Бланкемейер из 11-го зенитного полка находился на своем холме не из спортивного интереса. Окруженный орудиями других расчетов, он должен был остановить эти танки, а не смотреть на них. Наступление французов казалось молодому вестфальцу «парадом». Он видел даже обтянутые розовой тканью щиты, прикрепленные по бокам танков, чтобы обозначить их для авиации союзников.
В то мгновение, когда он отдал приказ открыть огонь своему собственному 88-миллиметровому орудию на тракторной тяге, гряда холмов вокруг него словно взорвалась. Бланкемейер увидел, как под огнем его соплеменников наступающие танки один за другим окутывались пламенем, «словно игрушечные».
Из канавы на краю аэродрома, за которым в бинокль наблюдал Бланкемейер, свое наблюдение вел Кеннет Крофорд, военный корреспондент журнала «Ньюсуик». Он ругался вслух. Пять минут назад «папа» Хемингуэй спокойно уверял Крофорда, что его разведчики из ФФИ прощупали дорогу через небольшой аэродром и ничего не нашли. Чуть поодаль, вжавшись в ту же канаву, майор Анри де Мирамбо, командир артиллерийского батальона, в смятении наблюдал за цепью «шерманов» 12-го кирасирского полка, переваливших через хребет на летное поле «словно устремившийся в атаку кавалерийский эскадрон». Один за другим они были подбиты прицельным огнем все еще не выявленных немецких орудий.
Мирамбо показалось, что из своего окопа он, наконец, засек наиболее опасные немецкие позиции. Огонь, по-видимому, велся из-за стогов сена, вытянувшихся вдоль пшеничного поля за аэродромом. Он бросился к своему джипу, неведомо как уцелевшему, и отдал приказ моторизованным батареям перенести огонь на пшеничное поле. Как только над его головой пронеслись первые снаряды, Мирамбо с изумлением увидел, что вся шеренга стогов начала двигаться. Под каждым полковник Зейдель, известный пианист из Дрездена, спрятал по противотанковому орудию.
Когда дальний край поля был, наконец, очищен, к Крофорду подошел сзади ухмыляющийся Хемингуэй. «Сукин ты сын, — набросился на него Крофорд, — по-моему, ты сказал, что прочесал это место и никаких немцев там не обнаружил!» Хемингуэй пожал плечами. «Мне нужно было найти кого-то, — ответил он, — на роль подопытного кролика».
На всем пути следования трех колонн 2-й бронетанковой темпы наступления сдерживались упорным, беспощадным сопротивлением немцев в узких проходах, подобных тому, что были в Туссю-ле-Нобль. На каждом из трех направлений наступления дивизии местность была абсолютно ровной, усеянной множеством деревушек и пригородов, опоясанной пересекающимися дорогами, и любой ее участок представлял собой идеальную позицию для немецкого противотанкового орудия. Стремясь побыстрее прорваться к Парижу, солдаты 2-й бронетанковой зачастую пытались таранить орудия, вместо того чтобы уничтожать их с помощью пехоты. Эта тактика экономила время, но оставляла позади каждой из наступающих колонн печальное зрелище — все удлиняющийся шлейф обгоревших машин.
Но в этот серый августовский день самым драгоценным было время. В каждой колонне безжалостно и неумолимо действовал приказ: «Быстрее, быстрее». Миновав реку Бьевр, за очередным поворотом извилистой дороги рядовой Жорж Симонен, управлявший «шерманом» «Циклон» в голове взвода танков, увидел распростертых прямо на дороге пятерых раненых немцев. Один из них, бешено работая локтями, попытался уползти в сторону. Симонен инстинктивно снял ногу с педали газа. В тот же момент он услышал в наушниках гневный голос своего командира взвода: «„Циклон“, ради бога, жми!» Симонен задрожал, закрыл глаза и нажал на акселератор.
38
Словно грохот отдаленного прибоя с юго-запада до столицы докатывалось эхо орудийных выстрелов наступающей 2-й бронетанковой. С каждым часом этот долгожданный звук приближался, его глухие раскаты становились более отчетливыми. На этот раз союзники действительно шли на помощь.
И вновь трубы над немецкими штабами в городе выбрасывали столбы черного дыма, с которым навсегда исчезали последние архивы четырех лет оккупации. Бегая между каминами, установленными в каждом конце обеденного зала в отеле «Континенталь», Мария Фус, секретарша парижского военного трибунала вермахта, сжигала одно за другим сотни досье из четырех шкафов, которые вкатили в этот зал. Чтобы ускорить дело, она шевелила огонь палкой от швабры; и в сером небе тонкой пепельной вуалью исчезали последние следы 4500 французов, казненных в «Мон-Валерьен».
Для бойцов ФФИ отдаленные звуки канонады были сигналом к решительному наступлению. Несмотря на столь ощутимую нехватку оружия и боеприпасов, люди Роля поднимали восстание там, где оно еще не разгорелось.
Наиболее ожесточенные бои в городе велись вокруг обширного открытого пространства площади Республики. Там 1200 солдат из бараков Принца Евгения отбивались от сжимавших кольцо отрядов ФФИ. Бойцы ФФИ сражались яростно. Чтобы зайти противнику в тыл, немцы попытались пробраться под площадью через неосвещенные тоннели метро. В этих душных проходах, посвистывая, чтобы опознать друг друга в темноте, обе стороны вели отчаянную борьбу. Их бой освещался лишь пламенем от взрывающихся гранат и короткими яркими вспышками ружейных выстрелов.
Но наиболее впечатляющий успех ФФИ в тот день остался почти незамеченным. Никто из французов, карауливших в засаде конвой из шести грузовиков, медленно продвигавшихся к Палате депутатов, не имел ни малейшего представления, что в них находится.
Об этом знал унтер-офицер Ганс Фриц, сидевший в последнем грузовике. Ему достаточно было лишь посмотреть в заднее окно кабины, чтобы увидеть в кузове штабеля черных, страшных торпед. То были последние торпеды, необходимые капитану Вернеру Эбернаху, чтобы закончить минирование Палаты депутатов и расположенного рядом моста Согласия. В напряженной тишине Фриц слышал лишь один звук: неравномерное тиканье, доносившееся из картонной коробки с часовыми механизмами, которую он держал на коленях. На протяжении всего времени, пока длилось это медленное и опасное возвращение из Сен-Клу, тиканье странных маленьких устройств отсчитывало уходящие секунды самого долгого в жизни Фрица путешествия.
Первым же залпом был убит сидевший рядом водитель. Грузовик остановился, и Фриц выскочил наружу, вопя что есть мочи пяти другим «мерседесам» из конвоя. Они не остановились. Секунду Фриц наблюдал, как они удаляются. Затем, не дожидаясь, пока его проклятый грузовик с торпедами взорвется, Фриц бросился в укрытие. Через несколько часов, когда он, наконец, вернулся под защиту стен Палаты депутатов, Фриц узнал, что ни один из тех нагруженных торпедами грузовиков не дошел до цели. Один за другим они были подбиты бойцами ФФИ.
В осажденной Префектуре полиции бородатый студент-юрист Эдгар Пизани только что узнал, что уже во второй раз за последние пять дней этот главный оплот парижского восстания остался почти без боеприпасов. А на площади перед Нотр-Дам словно стервятники рыскали три немецких танка, ожидая, казалось, того мгновения, когда у осажденных кончатся патроны.
Услышав отдаленные звуки канонады, Пизани решил позвать на помощь. Он позвонил в полицейский комиссариат Лонжюмо, в 25 милях от Префектуры. «Союзники уже прибыли?» — спросил он жандарма, снявшего трубку.
К его изумлению, жандарм ответил: «Они только что пришли. Входят через переднюю дверь. Послушайте». Пизани попросил жандарма позвать к телефону первого же из офицеров, кого он сможет найти. Это оказался капитан де Буассье. Пизани передал через него отчаянный призыв к Леклерку. «Ради бога, спешите! — кричал Пизани. — Мы больше не продержимся. Боеприпасы почти закончились. Нас просто раздавят».
39
Капрал Люсьен Давантюр прижался лбом к перископу и лихорадочно маневрировал своим «шерманом» «Викинг», попавшим под перекрестный огонь немецких 88-миллиметровок на окраине городка Савиньи-сюр-Орж, в 12 милях к югу от Парижа. Вдруг в нескольких футах от себя Давантюр увидел вспышку зелено-желто-фиолетового пламени, вырвавшегося из дома у дороги. В следующее мгновение мир для него потух. Хотя немец промахнулся, снарядом срезало перископ танка. В панике Давантюр сообразил, что «Викинг» был теперь похож на слепого слона, и немцы со своими рыщущими 88-миллиметровками такую цель не пропустят.
В тот же миг Давантюр услышал в своих наушниках спокойный, хладнокровный голос командира. «Люсьен, — сказал тот, — делай, что я тебе говорю. Назад. Направо. Опять назад. Быстрее». Давантюр, задыхаясь в маслянистом дыме, словно робот выполнял приказы, гадая, в какое мгновение немецкий снаряд разорвет на части его самого и «Викинг». «Направо. Налево. Сильнее. Резко налево. Быстрее. Теперь прямо. Резко налево». Слова звенели в ушах, как ружейные выстрелы. И вот, когда он закрутил «Викинг» в резком повороте, то не поверил своим ушам, услышав голос командира: «Люсьен, стоп. Порядок».
На мгновение в танке воцарилась тишина. Давантюр обмяк. Было нечем дышать, глаза слезились. Затем он откинул крышку люка и выбрался на свежий воздух. Часто мигая от оказавшегося таким ярким света, Давантюр поначалу ничего не видел. Смахнув с глаз пелену, он уставился прямо перед собой и в тот же миг почувствовал, что сердце его сейчас остановится. Его взору предстало грациозное и величественное сооружение, каким он всегда себе его и представлял, но никогда не видел, — Эйфелева башня.
В тот же полуденный час взметнувшийся высоко в небо ажурный каркас предстал взору воинов всех трех наступающих колонн 2-й бронетанковой, на прибытие которой возлагал такие надежды префект полиции Шарль Луизе.
Полковнику Луи Варабуа показалось, что это зрелище буквально парализовало его людей. Из своего танка капитан Жорж Бюи с благоговением смотрел на далекие очертания башни. Ему пришла в голову мысль, что «крестоносцы при виде стен Иерусалима, должно быть, испытывали такое же, почти чувственное, наслаждение».
Словно магнит башня притягивала солдат дивизии Лек-лерка, с удвоенной энергией увлекая вперед уже обагренные кровью колонны.
Но для некоторых ажурная башня так и осталась навсегда несбыточной мечтой. Рядовой Патрик Дешан, всего несколько часов назад попросивший мать «достать шампанское» по случаю своего возвращения домой, тоже увидел ее, но всего за несколько секунд до того, как 88-миллиметровый снаряд разорвал его танк. Изувеченное тело сраженного на месте Дешана осталось в стальном гробу, его глаза навеки закрылись, запечатлев этот символ Парижа, который он пришел освободить.
* * *
Но в тот августовский день ни один из солдат 2-й бронетанковой не подберется к священному столпу из стали ближе, чем двадцативосьмилетний Жан Калле. Башня была сейчас прямо под крыльями его «пайпер каба», проплывавшего в небе вдоль Сены к Префектуре полиции. Сидевший сзади наблюдатель Этьен Манту сжимал небольшой джутовый сверток, к которому был привязан кусок свинца. В этот сверток был заложен ответ на отчаянный призыв Эдгара Пизани: три слова надежды для людей в осажденном здании.
Придя в неистовый восторг от зрелища, разворачивавшегося под крыльями его самолета, Калле даже забыл об опасностях, которыми был чреват его медленный полет над столицей. По очереди он пересчитал все ее монументы — от Сакре-Кёр слева от себя до золотого купола Дома инвалидов прямо под собой. «Париж невредим, — прошептал он, — Париж моей юности». Он сделал разворот над Нотр-Дам и тремя танками на площади у собора. Калле видел крохотные вспышки от их пулеметов, направленных в сторону самолета. Он разглядел бегущих немецких солдат, а на крышах — размахивающих белыми платками соотечественников. И на какую-то прекрасную долю секунды его внимание привлекло очаровательное зрелище, хотя и несоответствующее ситуации: влюбленная пара, в обнимку прогуливающаяся вдоль Сены.
Над Префектурой Калле сделал вид, что у его «каба» заглох мотор, и, показывая немцам, будто сбит, начал падать, как сорванный лист. Устремившись к открытому двору Префектуры, Калле увидел распростертый флаг с лотарингским крестом, и в этот момент Манту словно стрелу метнул вниз джутовый сверток. Калле вышел из пике и поспешил в безопасное место.
Внизу аббат Лепутр, священник, почти случайно ставший капелланом Префектуры, был в числе первых, кто подбежал к сброшенному пакету. Кто-то разорвал его и прочитал вслух: «Держитесь. Мы идем».
40
Вилли Вагенкнехт, желудок которого согревал глоток коньяка, а глаза были прикованы к прицелу вкопанной у главных ворот тюрьмы «Френе» 88-миллиметровой пушки, прислушивался и ждал. Заключенный-немец, с такой горечью наблюдавший, как тысячи французов выстраивались за воротами «Френе», чтобы отправиться в концентрационные лагеря Германии, теперь был приставлен охранять свою собственную тюрьму. Где-то в глубине одной из пустынных улиц, лучами сходившихся прямо к стволу его пушки, Вагенкнехт слышал медленное позвякивание гусениц приближающихся танков.
Из окна третьего класса школы для девочек во Френе, значительно правее того места, где находился Вагенкнехт, у самого шоссе № 20, школьная учительница Жинетта Девре увидела те танки, шум которых он слышал. Весь день она ждала этого зрелища. «Вот они! — закричала она, и слезы покатились по ее щекам. — Боже мой, вот они!»
Один за другим мимо ее окна прошли три «шерма-на» — «Марна», «Ускуб»[29] и «Дуомон». Рядовой первого класса Поль Ландриё, тот самый, что покинул Париж три года назад, чтобы купить пачку «Голуаз», вернулся домой. Гусеницы его танка «Марна» взламывали ту самую мостовую, на которой он мальчишкой играл в футбол.
В этот серый день, перед заходом солнца, все три колонны 2-й бронетанковой, как и танк Ландриё, оказались на самом пороге Парижа. Фронт их наступления, составлявший утром 17 миль, сузился теперь менее чем до 10 миль, чтобы взломать оборону противника в юго-западной части города. На западном фланге колонна Морель-Девиля, которой было поручено «наделать шума» вдоль первоначальной линии наступления, наткнулась на упорное сопротивление за Траппом и остановилась. Двигавшаяся рядом колонна подполковника Поля де Ланглада достигла наибольшего успеха. После кровопролитного боя у Туссю-ле-Нобля бойцы Ланглада вытеснили немцев за реку Бьевр и далее за аэродром — в Виллакубле и закопченный пригород Кламар. Теперь же они готовились сделать крюк влево, к самой Сене, где до захода солнца должны будут захватить плацдарм в городе, проникнув через Севрские ворота. Но главная, восточная колонна полковника Пьера Бийотта наткнулась на упорное сопротивление по всему фронту своего наступления на город. Находясь на окраине Парижа, Бийотт попал в яростно обороняемый треугольник, заблокировавший ему дорогу в столицу, словно пробка, запечатавшая бутылку. Противник оседлал национальное шоссе № 20. В правом углу основания треугольника, чуть к востоку от шоссе, была тюрьма-крепость «Френе». Другой угол, к западу от шоссе, был привязан к промышленному пригороду Антони, а вершина находилась на глубине в одну милю на перекрестке в Круа-де-Берни, где был перекрыт южный въезд в город, до которого оставалось всего 4 мили.
Стены «Френе» из серого камня, за которыми лишь 9 дней назад находились Пьер Лефошё и его товарищи по несчастью, были превращены во внушительное препятствие Вагенкнехтом и 350 другими немецкими заключенными, в помощь которым был придан батальон 132-го пехотного полка. На флангах пушки Вагенкнехта, установленной перед главным входом в тюрьму, располагались пара противотанковых орудий меньшего калибра и два пулемета поддержки. Ворота, прорезанные в длинной стене «Френе», обеспечивали Вагенкнехту превосходный сектор обстрела вдоль трех из пяти улиц, ведущих к тюрьме.
Продвигаясь в своем «шермане» «Марна» к началу одной из них, авеню Республики, рядовой первого класса Поль Ландриё указал своему наводчику на квадратную колокольню церкви, в которой он венчался. Рядом была закрытая ставнями витрина табачной лавки — той самой, в которую три года назад Ландриё направился в поисках мифической пачки «Голуаз». Оба замолчали. Три танка повернули и начали осторожно продвигаться по авеню Республики к воротам «Френе». Там, на расстоянии 1000 футов, их поджидали Вилли Вагенкнехт и его пушка калибра 88 мм.
На борту танка «Вьей Арман», еще одного «шермана», двигавшегося сбоку, вдоль каменной стены «Френе» к воротам тюрьмы, рядовой Пьер Шове, наведя бинокль на забаррикадированный вход, подумал: «Бог мой, чего они тянут, почему не стреляют?»
Согнувшись за щитком своей пушки, Вилли Вагенкнехт задавал себе тот же вопрос. Теперь он видел танки, шум которых до этого только слышал, причем три из них осторожно подкрадывались к нему вдоль покрытых копотью многоэтажных домов на авеню Республики. Взяв первый танк на прицел, Вагенкнехт решил считать до десяти. Только он начал, как сзади раздался крик офицера: «Стреляй, болван. Ждешь, когда они через тебя переедут?»
Капитан Дюпон и адъютант лейтенант Марсель Кристан, пешком пробиравшиеся вдоль тюремной стены, чтобы лучше руководить боем, услышали раскаты первого выстрела 88-миллиметровки. Кристан увидел, как ведущий танк, двигавшийся по авеню Республики, от удара снаряда приподнялся в воздухе и грохнулся наземь, объятый пламенем. На глазах у Дюпона и Кристана из танка выполз и скатился на мостовую человек без ног и еще один, в горящем комбинезоне, выкарабкался из башни и бросился в укрытие.
Теперь со всех сторон наступающие танки Дюпона открыли огонь по воротам тюрьмы. Кристан понял, что, «если мы не выбьем оттуда эту стерву, она перестреляет всю роту». Над головой Кристана в сторону ворот понесся поток снарядов, выпущенных Пьером Шове из своего «Вьей Армана». Внезапно раздался ужасный взрыв. Один из снарядов Шове попал в грузовик с боеприпасами, стоявший позади пушки Вагенкнехта. У чудом уцелевшего Вагенкнехта мелькнула лишь одна мысль. Бросив свою изуродованную пушку, он сквозь дым и летящие во все стороны обломки ворот понесся в укрытие. За этой завесой он проскочил мимо танков, по которым только что стрелял, и бросился по улице, шедшей параллельно стенам «Френе» к деревенскому кладбищу. Там, задыхаясь, он упал в канаву. Когда он наконец перевел дух, в мозгу бывшего заключенного Вагенкнехта вдруг промелькнула мысль: «Слава Богу, я на свободе».
Ворота тюрьмы все еще изрыгали на наступавших французов столбы дыма и орудийного огня. Кристан и Дюпон продолжали скользить вдоль тюремной стены. От входа их отделяло менее 50 ярдов. Вдруг впереди из дыма возник немец в разорванной и измазанной униформе и дал по ним короткую автоматную очередь. Кристан услышал, как рядом охнул капитан Дюпон, и, обернувшись, увидел, как тот падает на тротуар: его голова была прострелена. В то же мгновение мимо Кристана пронесся один из его танков — «Нотр Дам де Лоретт». У ворот тюрьмы он повернул направо и, паля из всех стволов, протаранил остатки орудия Вагенкнехта и немцев, все еще оборонявшихся в воротах. Для водителя «Нотр Дам де Лоретт» в тюрьме «Френе» не было секретов. Рядовой первого класса Жак Неаль знал ее двор как свой парижский дом. Он был пленником гестапо в течение тринадцати месяцев, прежде чем ему удалось совершить побег и присоединиться к войскам Свободной Франции.
Остальные танки капитана Дюпона ворвались в тюрьму вслед за «Нотр Дам де Лоретт» и подавили огневые средства оборонявшихся.
Цена победы оказалась высокой. На прилегающих к «Френе» улицах стояли пять покрытых копотью, почерневших танков. В одном из них — посреди авеню Республики, в обгоревшем остове «Марны» — пара невидящих глаз уставилась через открытый люк на плывущие в сторону Парижа облака. Поль Ландриё был мертв: его грудь пронзил осколок первого снаряда, направленного точно в цель Вилли Вагенкнехтом. В кармане его обгоревшего комбинезона лежала нераспечатанная пачка «Кэмла», которую он привез домой, во Френе, из столь долгого путешествия в вечность.
41
«Господи, — подумал ошеломленный француз, — этот парень совершает измену!» Уже во второй раз менее чем за восемь часов Лоррен Крюз, помощник Жака Шабан-Дельмаса, стоял у постели шведского генерального консула Рауля Нордлинга и слушал вкрадчивый голос агента абвера Бобби Бендера. Держа в одной руке стакан виски, а в другой карандаш, Бендер склонился над потертой картой парижского района, Один за другим Бендер раскрывал все немецкие укрепления на дороге в Париж.
«Здесь, — говорил Бендер, указывая на окраины Кламара, — находится полк, усиленный двумя танковыми ротами. Ваш генерал Леклерк должен их обойти». Быстрыми движениями карандаша вдоль красных и желтых линий на карте, стекающихся к столице, Бендер показал Крюзу, как это должно быть сделано. Когда его стремительный карандаш приблизился к границам города, Бендер на мгновение задумался, а затем набросал линию в сторону Сены, через реку к площади Шатле и вдоль по улице Риволи к площади Согласия. Войска Леклерка, сказал он Крюзу, должны двигаться этим маршрутом, если хотят попасть в центр Парижа, не встречая сопротивления. Этот путь, продолжал он, приведет их «без боя прямо к отелю “Мёрис”».
Седовласый немец только что вернулся из отеля “Мёрис”. Там Бендер смог измерить расстояние, отделявшее Париж от катастрофы. Оно составляло 60 миль — дистанцию между отелем “Мёрис” и передовыми частями 26-й бронетанковой дивизии СС, ожидавшей темноты около наполеоновского поля боя у городка Монмирай. В эту ночь они начнут свой очередной и, вероятно, последний бросок к столице. Бендер предупредил Крюза, что союзники должны обставить их в этой гонке к Парижу. Если «шерманы» Леклерка прибудут к отелю “Мёрис” раньше немецких танков, Хольтиц будет готов сдать город после символического сопротивления, необходимого ему, чтобы сохранить солдатскую честь. Но если туда первыми прибудут немецкие танки, генерал будет сражаться. Все зависит от генерала Леклерка, говорил он молодому загорелому подпольщику.
Некогда элегантный повеса тряхнул седеющей головой и опрокинул в рот остатки виски. После чего проницательно посмотрел на стоявшего напротив молодого офицера. “Если я и раскрыл какие-то тайны, что вас, вероятно, удивило, то только потому, что искренне верю: это в наибольшей степени отвечает интересам моей страны”.
Затем Бендер поставил стакан, потянулся к желтому ремню, на котором висела кобура, и расстегнул его. «А теперь, — сказал он, передавая его французу, — я считаю себя вашим пленником».
Крюз не принял его. У него не было времени. Завтра, сказал он Бендеру, он возьмет его в плен; а пока он должен оставаться в консульстве Нордлинга. Затем Крюз ринулся к своему велосипеду.
42
Весь день одинокая фигура Шарля де Голля маячила в отдалении на покрытой плитами террасе «Шато де Рамбуйе». В ранние утренние часы из своих скромных апартаментов под самой крышей замка де Голль наблюдал, с грустью вспоминая прошлое, как под мелким, моросящим дождем мощные колонны 2-й бронетанковой двигались в сторону Парижа. Он с горечью подумал о том, что если бы в 1940 году у Франции было «семь таких дивизий, то как бы это изменило дело». Теперь же час за часом де Голль следил за трудным продвижением дивизии по дороге в Париж. Он надеялся попасть в столицу до наступления темноты. Но по мере того как вырастала гора донесений об упорном сопротивлении противника, становилось все более ясно, что этого не произойдет. Долгое возвращение главы Свободной Франции из изгнания домой продлится еще на одну ночь.
Во второй половине дня первые же документы Сопротивления, доставленные из города, подтвердили подозрения де Голля относительно мотивов его политических соперников. Как он и предполагал, руководители восстания готовились теперь утвердить себя в качестве комитета по организации его встречи, взять его под свое крыло, покровительствовать его въезду в город. Де Голль не допустит чего-либо подобного. Он был готов согласиться лишь на одну процедуру вступления в должность, в которой лидерам восстания не отводилось никакой роли, — признание со стороны народа.
На доставленное из города предложение о том, что по прибытии он будет «принят» руководителями восстания в городской ратуше, де Голль отправил вежливый, но холодный ответ. Он направится, заявил он, прямо в Министерство обороны и, когда ему будет это удобно, примет там лидеров восстания. Что же касается самих этих лидеров и их комитетов, то де Голль уже определил их будущее: почетное место «в славной истории освобождения»… и забвение.
Де Голль знаком пригласил своего близкого соратника Жоффруа де Курселя прогуляться с ним по саду замка. Попыхивая английской сигаретой, он укрылся за стеной молчания. Курсель благоразумно не прерывал его мыслей. Ибо, как и все в его окружении, де Курсель знал, что де Голль следит за неожиданно упорными боями на подступах к Парижу не только глазами политика. Он следил за ними и как отец. На одном из самоходных противотанковых орудий, выезжавших в то утро из Рамбуйе, находился молодой морской лейтенант, гордый и подтянутый. То был единственный сын Шарля де Голля Филипп.
* * *
В десятке миль от великолепных башен Рамбуйе, срели скопища зеленых палаток у деревни Ментенон, еще один генерал проявлял нетерпение по поводу Парижа, которое могло соперничать с деголлевским. С полуночи предыдущего дня генерал-майор Леонард Т. Джероу, командир V корпуса американцев, куда входила дивизия Леклерка, не получал никаких известий о наступлении 2-й бронетанковой. Более того, он узнал о принятом лично Леклерком решении сместить линию наступления своей дивизии на 17 миль к юго-востоку не от 2-й бронетанковой, а от находившейся на ее фланге американской дивизии. В сердитой телеграмме в штаб первой армии Джероу сообщал: «2-я бронетанковая… ведет наступление из районов Арпажона и Лонжюмо к центру Парижа. Это противоречит боевому приказу № 21 от 22 августа и нарушает разграничительную линию между 2-й бронетанковой и 4-й дивизиями».
Теперь, вышагивая по штабному тенту, Джероу клялся своему начальнику оперативного отдела полковнику Джону Хиллу, что если бы Леклерк был американцем, то он немедленно отстранил его от командования. Раздражение Джероу усиливалось давлением со стороны Верховного командования, полагавшего, что укрепления противника на подступах к Парижу были тоньше бумаги, и ожидавшего, что Леклерк войдет в город к полудню.
Встревоженный сообщением Нордлинга, Брэдли ежечасно требовал объяснений, почему Париж еще не взят. Этот американец с вкрадчивым голосом не хотел рисковать, уповая на то, что германский комендант Парижа не передумает. В конце концов раздасадованный Брэдли издал новый приказ. «К черту престиж, — объявил он. — Прикажите 4-й (пехотной дивизии США) наступать прямо на город и освободить его».
К своему изумлению и неудовольствию Джероу, едва закончив бесполезные поиски Леклерка, получил распоряжение Брэдли, переведенное на суровый язык боевого приказа: «Абсолютно необходимо, чтобы подчиненные вам части незамедлительно вошли в Париж». В приказе говорилось далее, что ему следует ускорить продвижение 2-й бронетанковой и направить в город 4-ю американскую дивизию, «независимо» от места нахождения 2-й бронетанковой. Другими словами, если французы не способны первыми войти в Париж, то это сделают американцы из корпуса Джероу.
Джероу передал распоряжение 4-й дивизии, после чего написал сухое и резкое послание Леклерку, приказав командиру 2-й бронетанковой «вести самое решительное наступление сегодня во второй половине дня и вечером». Затем, по-прежнему не имея возможности связаться с Леклерком, он раздраженно приказал Хиллу лично доставить этот приказ по назначению. Когда Хилл уже забирался в свой джип, Джероу заявил ему: «Мне плевать, если для этого вам понадобится спуститься в ад и подняться обратно. Не возвращайтесь, пока не найдете этого француза».
* * *
Жак Филипп Леклерк в этот момент вонзал латунный наконечник своей ротанговой трости в асфальт сельской дороги — все еще в 10 милях от Парижа. В полумиле слева от себя он слышал орудийную стрельбу французских бронетанковых колонн, прорывавшихся через Круа-де-Берни. Ни Джероу, ни де Голлю не было необходимости поторапливать Леклерка в Париж. Его и так подхлестывали опасения, что вверенные ему части прибудут в столицу уже после того, как немецкий гарнизон приведет в действие взрывные устройства, установленные по всему городу. Со злостью и негодованием Леклерк был вынужден смириться с тем, что не сможет попасть в город в течение ближайших 12 часов.
Рыжеволосый капитан, кативший в своем джипе навстречу Леклерку во главе небольшого бронетанкового подразделения, также был разгневан. Дважды за последние полчаса у Раймона Дронна возникала уверенность, что дорога на Париж была открыта. И дважды его непосредственный начальник вежливо приказывал ему занять свое место в боевых порядках наступающих войск. Заметив Леклерка, Дронн выскочил из джипа и подбежал к своему командиру.
— Какого черта вы здесь делаете? — спросил Леклерк. Дронн доложил ему.
— Дронн, — продолжал Леклерк, — неужели вы не научились не подчиняться глупым приказам?
Схватив за локоть деликатного капитана, с которым они вместе служили уже четыре года, Леклерк сказал ему: «Я хочу, чтобы вы прорвались в Париж. Соберите все, что у вас есть, и отправляйтесь. Не ввязывайтесь в бой с немцами. Просто любыми путями попадите в город. Скажите нашим, чтобы они держались, мы прибудем завтра».
Дронн развернул свое маленькое подразделение и через 20 минут подготовил для прорыва в Париж. Чтобы вернуть знамя французской армии в столицу страны, Дронн располагал тремя «шерманами», названными в честь наполеоновских битв «Ромийи», «Монмирай» и «Шанпобер», и примерно шестью полугусеничными машинами. Рыжеволосый капитан, которому хотелось бы выглядеть красавцем перед парижанками, имел довольно неприглядный вид. Он не спал уже двое суток; под покрасневшими глазами появились мешки, борода спуталась от пота и грязи. С головы до ног он был перепачкан маслом, порохом и грязью, а на форме виднелись темные пятна пота. Для города, в памяти которого французская армия запечатлелась в образе офицеров в белых перчатках, с явным удовольствием покидавших «странную войну» 1940 года, Дронн был достойным символом новой эры.
В последний раз окинув взглядом колонну, этот человек, которому было суждено стать первым французским офицером, возвратившимся в столицу Франции, забрался в джип. После чего он задал свой последний вопрос.
— Эй, — крикнул он, — здесь кто-нибудь знает дорогу на Париж?
43
В нескольких милях оттуда, на запруженных улицах Лонжюмо, американский офицер потянулся к сумке, лежавшей на полу его джипа. Из нее он извлек две пачки сигарет и протянул их улыбающемуся французу. Француз, в свою очередь, передал ему пакет. Капитан Билл Миллз, начальник оперативного отделения 2-го батальона 12-го полка, входившего в состав 4-й дивизии, выразил свою признательность счастливой улыбкой. Это была карта Парижа, и она решала самую неотложную задачу, стоявшую перед Миллзом в тот августовский вечер.
Продвижение 4-й из Нормандии было столь стремительным, а поставленная перед ней задача столь неожиданной, что в штабе не нашлось детальных карт города и прилегающих районов. Несколько минут назад командир 4-й дивизии, генерал-майор Раймонд Бартон узнал, что она должна будет войти в Париж. Он тут же подумал, что не знает местонахождения своей цели — Префектуры полиции.
Сжимая в руках драгоценный документ, Миллз отправился в штаб. В верхнем левом углу карты он прочитал имя издателя — «А. Леконт». Под ним четким шрифтом был набран заголовок карты, с которой через несколько часов передовые части этой дивизии ринутся наперегонки с солдатами 2-й бронетанковой в столицу Франции. Он гласил: «Удобный маршрут к достопримечательностям города для тех, кто не знаком с Парижем».
Измученные долгой ездой в автомашинах под дождем, при строжайшей светомаскировке, когда немецкие самолеты рыскали над головой, солдаты 4-й дивизии были рассредоточены по трем районам сбора на южных подступах к городу. Для некоторых, как для техника-сержанта Милта Шентона из Тейлорз-Айленда, штат Мэриленд, «Париж был сбывшейся мечтой бедного мальчугана». Для других, как для стрелка Уилли Хэнкока из Ленокса, штат Джорджия, опасавшегося, как все пехотинцы, застроенных участков, это был «еще один большой город в руках немцев по дороге к Берлину и обратно домой».
Для некоторых лежавший впереди город уже имел особое значение. Услышав новость, подполковник Ди Стоун нащупал в кармане полевой куртки потертый конверт. Это письмо было его талисманом. Он носил его с собой с того самого ноябрьского вечера 1943 года, когда отплывал в Англию из родного Форест-хилза в штате Нью-Йорк. Оно было с ним во время высадки в день «Д», сопровождало его в кровопролитных сражениях в Нормандии. Оно довело его невредимым до предместий Парижа, и завтра Стоун сдержит слово, данное его автору. Он доставит письмо в Париж.
Младший лейтенант Джек Ноулз, командир 3-го взвода роты «I» 22-го пехотного полка, и его взводный сержант «Торопыга» Стоун были крайне озабочены в связи с предстоящей переброской в Париж. Командир их роты заявил, что это будет «парад» и они должны будут снабдить своих солдат галстуками. Ни Стоун, ни Ноулз в глаза не видели галстуков с самого отъезда из Англии. Но Стоун был лучшим «доставалой» в дивизии и потому пообещал Ноулзу раздобыть их к утру. «Торопыга» Стоун считал, что Париж стоит парада.
Сержант Лэрри Келли, находившийся в этот момент в тополиной роще на окраине Траппа, был счастлив. Этот белокурый, гигантского роста ирландец из Алтуны, штат Пенсильвания, питал почти мистическую любовь к Франции. В 1917 году, когда ему было 15 лет, он солгал о своем возрасте, был зачислен в армию, восемь месяцев сражался во Франции и был дважды ранен. Он высадился во Франции в день «Д» в составе 82-й воздушно-десантной дивизии, затем был ранен и переведен в полевую артиллерию. Теперь Келли был в восторге от своего назначения передовым наблюдателем американского батальона, поддерживавшего колонну майора Морель-Девиля. Он пообещал себе, что будет первым американцем в Париже. И, судя по всему, обстоятельства складывались так, что это ему удастся.
Когда наступили сумерки, лейтенант Уорен Хукер, командир взвода роты «А» 22-го пехотного полка, взобрался на средневековую наблюдательную башню, находившуюся чуть южнее поля Орли. На вершине у Хукера от восхищения перехватило дух: перед ним лежал Париж, о каждом священном камне которого Хукер читал в книгах по истории и у Александра Дюма. Контуры Нотр-Дам, Эйфелевой башни и Сакре-Кёр казались Хукеру «старыми друзьями». С присущей пехотинцам пессимистичной мудростью Хукер подумал, что ему не суждено будет посетить эти достопримечательности, о которых он мечтал еще мальчишкой. Предназначение его дивизии будет в том, чтобы «пролить кровь в этом городе и двинуться дальше». Хукер с грустью вспомнил строки из стихотворения Роберта Фроста, которое заучивал в школе: «Но я должен обещанья выполнять и мили прошагать, прежде чем лечь спать, и мили прошагать, прежде чем лечь спать».
* * *
На всем участке от вершины холма над Севром на окраине Парижа до краев поля Орли усталые и измученные солдаты 2-й бронетанковой прервали на ночь продвижение к городу. Они этого еще не знали, но последние очаги сопротивления немцев были уже сломлены и не попадутся им до самого центра столицы. Дорога на Париж была открыта.
Почти во всех подразделениях дивизии Леклерка в тот вечер, в который солдаты 2-й бронетанковой надеялись отпраздновать триумф в Париже, были потери. Генерал-майор Хубертус фон Аулок сдержал слово: он заставил эту дивизию дорого заплатить за ключи к Парижу. Вдоль дорог, по которым продвигалась дивизия, ее три колонны оставили печальный шлейф обгорелых машин и мертвых тел. Одна из рот Чадского полка потеряла пятнадцать из шестнадцати полугусеничных машин. 3-я рота 501-го танкового полка потеряла треть машин только во Френе.
Потери и простая усталость снизили боевой дух 2-й бронетанковой. Утешало солдат только то, что до Парижа уже было рукой подать. Их путешествие домой почти закончилось.
Теперь уже ни американцы, ни неполадки в моторе не смогли бы удержать Жана Рене Шампьона из экипажа «Морт-Омм». В эту ночь Париж представлялся ему «спящей любовницей», ждущей, чтобы ее разбудили. Рядом со своим «шерманом» «Норуэй» капитан Жорж Бюи распевал песню, которую сам сочинил в Ливийской пустыне. Его наводчик подыгрывал на губной гармонике. Песня начиналась словами: «Все наши пути — это только шаги по дороге к Парижу». Сержант Марсель Бизьян лениво посматривал на небо и вдруг вслух пообещал, что на следующий день он заставит своих бретонских предков гордиться им. Он так и сделает. Водитель танка Бизьян врежется своим «шерманом» в бок «пантеры» на площади Согласия.
Но ни один из воинов 2-й бронетанковой не испытывал больших чувств по поводу предстоящего освобождения, чем сорокалетний лейтенант Чадского полка, наблюдавший, как занимают исходные позиции подразделения, которые возглавят заключительный рывок в город. При виде высокого белокурого парня, стоявшего в полный рост в проезжающей машине из 97-й штабной роты, лейтенант Рене Берт зарделся от гордости. То был его сын Рай-мон. Два года назад, не сказав ни слова матери, этот загорелый двадцатилетний юноша засунул кое-какие вещи в рюкзак и пешком отправился из Парижа в Пиренеи, чтобы вместе с отцом сражаться в рядах Свободной Франции. Вдвоем отец и сын прошли с боями до ворот Парижа в составе 2-й бронетанковой. В этот августовский вечер в самом городе их ждала Луиза Берт, не знавшая даже, живы ли ее муж и сын, не говоря уже о том, что они находятся всего в 10 милях от дома.
Следя за удалявшимся по дороге в Париж долговязым сыном, лейтенант Берт подумал, что через несколько часов вся семья будет в сборе. И тут ему пришла другая мысль. Завтра, 25 августа, у Луизы именины. «Бог мой, — подумал он, — это будут самые счастливые именины в ее жизни».
К воротам тюрьмы «Френе» двое бойцов ФФИ гнали перед собой угрюмого пленного. Они проследовали мимо победителей из 2-й бронетанковой и далее в замусоренный двор тюрьмы. Для Вилли Вагенкнехта, невольного защитника «Френе», это были самые горькие минуты за всю войну. Он был пойман; его пребывание в Париже закончится в эту ночь там же, где оно и началось, — в тюремной камере.
* * *
Последняя ночь оккупации опустилась на Париж так же, как и первая, — под отдаленную канонаду. На закате этот надвигающийся звук, казалось, висел над горизонтом, словно вздымающаяся волна, готовая обрушиться на город. Обороняющиеся в Париже немцы готовились в своих опорных пунктах к штурму, который мог начаться всего через несколько часов.
Командиры всех тридцати крупнейших «штюцпунктов» поклялись оборонять их «до последнего патрона». То не были пустые слова. Так потребовал сам Гитлер три недели назад. Это был один из редких случаев на Западном фронте, когда фюрер приказывал произносить эту клятву под присягой. Последний раз так было в Сен-Мало. Там, соблюдая ее слово в слово, защитники окруженной крепости оказали союзникам такое яростное сопротивление, какого они больше нигде не встретят к югу от германских границ.
В Париже, окопавшись в некоторых из самых прекрасных зданий города, немцы готовились сопротивляться не менее упорно. В окруженных бараках СС на площади Республики некий штурмбаннфюрер собрал своих людей, чтобы информировать их о подходе двух эсэсовских дивизий. «Мы будем держаться, — объявил он, — пока они не освободят нас». В Военной школе сержант Бернхард Блахе, чьи подчиненные «поджаривались, как сосиски», у здания Префектуры полиции неделю назад, услышал, как майор Отто Мюллер оповещал своих подчиненных, что они будут «сражаться до конца, как приказал фюрер». Затем строем Блахе увели на предбоевое угощение — вестфальской ветчиной. Речь Мюллера и перспектива погибнуть за Военную школу так расстроили Блахе, что к ветчине он так и не притронулся.
В Люксембургском дворце Марсель Макари и электрик Франсуа Дальби наблюдали, как их немецкие пленители баррикадировали здание, готовясь к последнему бою. Дальби знал, что, несмотря на все его старания, немцы в основном завершили минирование этого прекрасного здания. Он опасался, что они взорвут себя, здание и своих пленников. Того же опасались и жители соседних домов. Они торопливо покидали прилегающие кварталы.
В самом важном «штюцпункте» города — в заложенном мешками с песком вестибюле отеля «Мёрис» — человек, которому было поручено оборонять Париж, встречался с подчиненными. Дитриха фон Хольтица захлестывал редко проявлявшийся на публике приступ гнева. Несколько минут назад один из его офицеров попросил разрешения «выбраться из этой мышеловки». Каковы бы ни были его дальнейшие действия, Хольтиц был намерен обеспечить хотя бы одно: держать своих солдат в железном кулаке дисциплины.
Он напомнил стоявшим перед ним офицерам, что все они подчиняются ему. Ему приказано оборонять Париж, и именно это он и собирается делать. Далее он предупредил, что намерен обеспечить выполнение своих приказов, «если понадобится, то и с пистолетом в руках». Потрясенным офицерам он заявил: «Я лично расстреляю того, кто следующим придет ко мне с предложением оставить Париж без боя».
В тишине, наступившей вслед за его словами, Клаус Энгельмейер, доктор из Вестфалии, получивший назначение в Большой Париж, подумал про себя: «Бог мой, он заставит нас всех умереть в этой гостинице».
44
Дитрих фон Хольтиц стоял перед зеркалом в спальне и рассматривал жесткий, врезающийся в шею воротничок. Было очевидно, что в Париже он поправился. Со времени своего приезда в город он впервые надевал рубашку с жестким воротничком. Позади него на кровати лежал только что отутюженный белый китель, который он через несколько минут наденет к серым форменным брюкам с красными генеральскими лампасами. Фон Хольтиц лишь однажды надевал этот китель — на прием после взятия плацдарма в Анцио, когда отмечал присвоение звания генерал-майора. В этот вечер он надел его для другого приема, своего последнего на многие годы вперед. На втором этаже «Мёриса» в одной из комнат его служебного номера коллеги давали прощальный ужин.
Почти никто из немцев в отеле «Мёрис» не питал иллюзий относительно ожидавшей их участи. На протяжении всего дня на огромной карте Парижского района в кабинете Хольтица красными булавками отмечалось совершенно непредвиденное и молниеносное продвижение союзников. Теперь эти булавки были воткнуты у самых ворот города. Вечерняя оперативная сводка из штаба Западного фронта о положении на всем фронте в целом была не менее удручающей. Из нее Хольтиц узнал нечто, чего не знал Бобби Бендер. Американцы совершили прорыв через Сену в районе Сана и беспрепятственно углублялись в немецкие тылы. Чтобы остановить их, в Ножан-сюр-Сен и Труа были направлены две дивизии — 26-я и 27-я бронетанковые СС. Подкреплений Хольтиц уже не получит.
Завязывая черный галстук перед овальным зеркалом, Хольтиц подумал, что через несколько часов, может быть, на рассвете придут союзники, придут убивать. Даже майор люфтваффе, столь грозный во время их утреннего разговора, так и не появился в штабе. Хольтиц с горечью думал об этом майоре, о Гитлере, Йодле, Моделе. Вместо подкреплений для защиты города они посылали ему лишь слова и пневматические буры 813-й саперной роты. Оказавшись неспособным оборонять Париж, ОКВ вместо этого решил насладиться его разрушением.
Теперь все они ждали от Хольтица лишь одного: приказа взорвать мины, столь тщательно расставленные Вернером Эбернахом.
Завтра к вечеру, размышлял покоритель Севастополя, он будет либо погребен под обломками отеля, либо окажется в плену. Тем майским утром, когда он выпрыгнул из своего «юнкерса» в аэропорту Роттердама, он мечтал о другом конце для себя, для Германии. И тем не менее orç сознавал, что сам, послав Нордлинга к союзникам, способствовал наступлению именно такого конца.
Взяв одеколон, который десять дней назад принес ему капрал Майер, Хольтиц растер виски: в этот горестный вечер он по крайней мере постарается выглядеть бодрым перед подчиненными. Он поставил изысканно выполненный флакон на место. Поскольку он редко им пользовался, то только сейчас заметил название одеколона — «Парижский вечер».
Затем, словно капитан, приготовившийся пойти ко дну вместе со своим кораблем, Хольтиц вышел из комнаты и спокойно отправился на прощальный ужин.
* * *
В другой комнате отеля хорошенькая темноволосая девушка скользнула в черное шелковое платье, сверкающее серебряными блестками. Определенно, думала двадцатитрехлетняя Цита Креббен, глядя на себя в зеркало, это последнее платье, сшитое ее парижской портнихой, было потрясающим.
Секретарша из Мюнхена была одной из немногих немок, остававшихся в Париже. Элегантность и регулярные хлопоты парижской портнихи делали ее очаровательной женщиной. Через несколько минут, когда она вошла в освещенную свечами комнату, где собрались подчиненные Хольтица, все глаза устремились в ее сторону. Сам фон Хольтиц наполнил бокал кордонружем и предложил тост «за здоровье всех прекрасных немок, чья солидарность в ходе этой войны смягчала ее тяжелые удары».
Все присутствовавшие подняли бокалы. «Волнующий момент», — подумал граф Данкварт фон Арним. Он изучал лица собравшихся: фон Унгер, как всегда холодный и держащий дистанцию; Яй, бодрый даже в этот последний вечер; Клеменс Подевилс, заезжий военный корреспондент, унывающий оттого, что попал в этом городе в ловушку; школьный товарищ Арнима капитан Отто Кайзер, преподаватель литературы из Кёльна, самый мрачный из всех собравшихся. В тот день Кайзер показал Арниму сорванный со стены около «Комеди Франсэз» плакат Сопротивления. Это был прямой лозунг Роля «Каждому по бошу».
Когда они с деланной веселостью болтали, фон Арним заметил, как посыльный вызвал Хольтица из комнаты к телефону.
На другом конце провода Хольтиц узнал едва различимый, но знакомый голос Вальтера Крюгера, товарища еще с довоенных времен, командовавшего теперь 58-м бронетанковым корпусом. Крюгер звонил по полевому телефону из района Шантийи, что в 25 милях от Парижа. «Я еду в Париж, — пошутил Крюгер, — пойдем вместе в „Сфинкс“»[30].
Однако Крюгер звонил не ради этой шутки. Модель приказал ему собрать все имеющиеся в распоряжении 58-го корпуса танки и срочно направить их на помощь Хольтицу. Крюгер был вынужден признаться своему старому другу, что в этот августовский вечер у него не было в наличии танков. Из 120 тысяч человек и 800 танков, с которыми 58-й корпус начал кампанию в Нормандии, уцелела лишь горстка. Потерпев поражение, они в беспорядке отступали по пересеченной местности южнее Шантийи.
Крюгер сообщил Хольтицу, что как раз в это время его офицеры прочесывают прилегающие к городу районы в надежде найти бронетанковую технику, которую ему велено было прислать в Париж. К сожалению, признался Крюгер, в хаосе разваливающегося фронта он вряд ли сможет вовремя найти танки.
Оба замолчали. Крюгер спросил Хольтица, что тот собирается делать. «Не знаю, — ответил командующий Парижским округом. — Положение хуже некуда». Вновь наступила тишина, после чего друзья сказали друг другу: «Переломай себе шею и ноги». Это было старинное немецкое армейское выражение, означавшее «удачи тебе».
45
В сумерках надвигающейся ночи капитан Раймон Дронн увидел впереди неясно вырисовывающуюся надпись из трех слов. Она была на обочине той самой дороги, по которой 129 лет назад Наполеон Бонапарт возвращался домой из изгнания, с острова Эльбы. Надпись гласила: «Париж — Итальянские ворота».
Танки Дронна стремительно пересекли границы города и устремились в Париж. На какую-то долю секунды у рыжебородого капитана мелькнула мысль, что он выиграл гонку длиною в четыре года. Он был первым французским солдатом, вернувшимся домой, в Париж. За его спиной втиснутые в танки и полугусеничные машины бойцы небольшого отряда разразились восторженными криками.
Со всех концов площади Италии сотни парижан, поспешивших было в укрытие, заслышав лязганье гусениц приближающихся танков Дронна, теперь разглядывали эти непривычные силуэты скользящих по площади машин. Поборов замешательство, они вдруг поняли, что у этих солдат не было угловатых касок вермахта. Это были первые освободители Парижа.
«Американцы!» — вскрикнул кто-то, и при этом слове к машинам Дронна с прилегающих улиц, из всех подъездов хлынула бурлящая людская волна.
Пьер Кренес, корреспондент «Французского радио», пять дней назад отбитого бойцами Сопротивления у коллаборационистов, подбежал к первому же солдату, выбиравшемуся из головного танка Дронна «Шанпобер». Держа в руке микрофон, он радостно завопил: «А сейчас вы услышите голос первого французского солдата, первого простого французского солдата, прибывшего в Париж».
Сунув микрофон ошалевшему парню, Кренес задал первый вопрос, который пришел ему в голову в этот торжественный момент: «Откуда вы?»
— Из Константинополя, — ответил рядовой Фирмиам Пирлиан.
Почти час радио передавало безумную смесь из сообщений с мест, слухов и патриотических песен. Желая поскорее разнести по столице весть о прибытии Дронна, электрики на парижских электростанциях включили все рубильники, чтобы передачу могли слышать во всех уголках Парижа.
«Ликуйте, парижане! — кричал Пьер Шаффе на главной студии радиостанции. — Мы вышли в эфир, чтобы объявить вам о нашем освобождении. Дивизия Леклерка вошла в Париж. Мы сходим с ума от счастья!» Чтобы выразить глубину своих чувств, Шаффе продекламировал волнующую и столь подходящую к случаю строфу из «Возмездия» Виктора Гюго:
«Проснись! Покончи с позором!
Стань вновь великой Францией!
Стань вновь великим Парижем!»
С восторженными криками люди выскакивали на улицу, распахивали закрытые ставнями окна, бросались в объятия соседей, с которыми годами не разговаривали. Питаемое мощью парижских электростанций, радио разразилось громовыми звуками «Марсельезы». И тогда произошло нечто невероятное: в сотнях тысяч домов парижане, не сговариваясь, включили свои приемники на полную мощность и распахнули окна.
С балконов, из парадных и окон, на тротуарах, улицах и баррикадах — весь затемненный город, вновь обретший гордость и жизнь, пел вместе с радио. На несколько минут Париж окутался звуками этого гимна, волнами катившегося по его неосвещенным улицам.
Для падающего от усталости Раймона Дронна, стоявшего на ступенях городской ратуши, этот момент стал самым памятным в жизни. Мощные, таинственные звуки «Марсельезы», казалось, «вздымали на волне весь город». На налитые кровью глаза Дронна наворачивались слезы. Сейчас он мог думать только об одном: насколько лживой была пропаганда Виши, все четыре года изгнания внушавшая Дронну и его товарищам, что они были париями на своей собственной родине.
Едва затихли звуки «Марсельезы», как Шаффе вновь схватил микрофон. «Скажите всем приходским священникам, кто слышит меня, всем священникам, кого можно разыскать, — потребовал он, — чтобы они возвестили о прибытии союзников в Париж звоном церковных колоколов!»
Четыре года колокола Парижа оставались немыми. Ни разу за время оккупации их гулкие удары не призывали парижан на мессу, не объявляли о том, что «король родился» или «Христос воскрес», и даже не оповещали о кончине прихожанина. Теперь же по призыву Шаффе они сбросили с себя оковы и стряхнули пыль, накопившуюся за четыре года молчания и печали.
С южной башни Нотр-Дам уже послышался радостный перезвон огромного 14-тонного колокола парижского собора. С вершины Монмартра ему вторил «Савояр» — 19-тонный колокол Сакре-Кёр, отлитый в знак благодарности за окончание предыдущей оккупации Парижа.
Один за другим то в одном конце города, то в другом к ним присоединялись колокола других парижских церквей. Буквально в считанные минуты весь небосвод над Парижем дрожал от их величественного хора. Парижане, выглядывавшие в темноту из своих окон, рыдали от этого звука.
В своем чердачном убежище в Сен-Жермен-де-Пре влюбленная пара обернулась при этих звуках к стоявшему в комнате граммофону. Вывернув на полную мощность регулятор звука в своем маленьком, с ручным заводом аппарате, они поставили пластинку. Все соседи в округе могли слышать, как, смешиваясь с величественными раскатами колоколов, зазвучала запрещенная в годы оккупации музыка: американский джаз. Это была довоенная пластинка Луи Армстронга, исполнявшего «Бейсин стрит блюз».
Рудольф Рейс из немецкой военной полиции, который вместе с французским полицейским объявлял в воскресенье о таком недолговечном перемирии, организованном генеральным консулом Нордлингом, догадался, что означает этот колокольный звон. Своему другу, унтер-офицеру Отто Вестерманну, он объявил эту новость просто: «Вот и дождались». Капрал Альфред Холлеш наблюдал всю эту «незабываемую сцену» с крыши Министерства почт, телеграфа и телефона, где он услышал сначала разносившуюся по затемненным улицам мелодию «Марсельезы», а затем раскаты церковных колоколов, разбивавшиеся вокруг него, словно волны прибоя. Взволнованный Холлеш подумал: «Мы беспомощно наблюдаем, как уходят последние часы нашей свободы».
Но нигде во всем городе эти колокола не произвели большего впечатления, чем в маленькой освещенной свечами комнате на втором этаже отеля «Мёрис».
При первых же звуках, еще слабых и отдаленных, несвязный разговор фон Хольтица со своими подчиненными затих. Словно волна, накатывающаяся на берег, колокольный звон с нарастающей глубиной и мощью ворвался в открытые окна отеля.
Цита Креббен повернулась к Хольтицу. «Господин генерал, — обратилась она к нему, — колокола звонят. Разве вы не слышите?» Фон Хольтиц откинулся в кресле и на мгновение остановил на ней взгляд. Ему хотелось придать голосу суровость, но слова прозвучали отрешенно: «Да, я слышу. Я не глухой».
— Почему они звонят? — спросила двадцатитрехлетняя красавица.
— Почему они звонят? — переспросил Хольтиц. — Они звонят по нам, моя девочка. Они звонят, потому что союзники вошли в Париж. Как вы думаете, почему еще они станут звонить?
Глядя на стоящих рядом офицеров, Хольтиц прочитал на лицах некоторых из них шок и изумление, как будто каким-то образом, каким-то чудом им удалось убедить себя в том, что союзники на самом деле не придут.
— А чего вы еще ждали? — спросил он теперь уже гневно. — Вы сидели здесь многие годы в собственном воображаемом мирке. Что вы знаете об этой войне? Вы ничего не видели, кроме приятной жизни в Париже. Вы не видели того, что произошло с Германией в России и Нормандии.
Он говорил со злостью и горечью: «Господа, я могу сообщить вам нечто, что ускользнуло от вашего внимания в этой приятной парижской обстановке. Германия проиграла войну, и мы проиграли ее вместе с ней».
Его жестокие слова положили конец остаткам того веселья, которое еще сохранялось на их прощальной вечеринке. Полковник Яй налил себе последний бокал шампанского и в задумчивости повертел его перед глазами. Затем этот завсегдатай ночного Парижа сделал единственное, что ему оставалось в этот последний вечер в Париже, — пошел спать.
Граф Данкварт фон Арним тоже потихоньку удалился. В своем дневнике он отметил: «Я только что слышал звон колоколов на собственных похоронах». Потом молодой граф открыл «Историю Франции», но, взглянув на главу, которую собирался начать этим вечером, он задрожал и захлопнул книгу. Глава называлась «Варфоломеевская ночь».
Оставшись один в темном кабинете, Хольтиц взял трубку и вызвал — уже во второй раз за последние сутки — штаб группы армий «Б». Фон Унгер только что подтвердил то, о чем и так догадался комендант Большого Парижа: авангард войск союзников был уже в городе. Остальные, он был уверен, обрушатся на рассвете. Сквозь потрескивание на линии он наконец услышал голос начальника штаба.
— Добрый вечер, Шпейдель, — мрачно произнес Хольтиц. Затем добавил: — Послушайте. — Резким движением Хольтиц выставил трубку на улицу: ночной воздух вибрировал от торжественного гула парижских колоколов. В залитой неоновым светом стерильной чистоте подземного командного пункта Шпейделя, находившегося в 60 милях от Парижа, этот звук, казалось, пронизывал все пространство маленького кабинета. Шпейдель взглянул на своего помощника, капитана Эрнста Майша, слушавшего вместе с ним, затем на гравюру Нотр-Дам у себя над головой.
— Вы слышите этот звук, Шпейдель? — спросил Хольтиц.
— Да, — ответил Шпейдель, — слышу. Похоже на колокола.
— Это и есть звон колоколов, дорогой мой Шпейдель, — подтвердил Хольтиц. — Колокола Парижа звонят, чтобы известить город, что союзники уже здесь.
Наступила длинная пауза. Затем фон Хольтиц сообщил Шпейделю, что, как и было приказано, он подготовил «мосты, железнодорожные вокзалы, коммунальные службы и их административные здания к уничтожению». Может ли он, спросил Хольтиц, «рассчитывать на помощь группы армий «Б» в вызволении его самого и своих солдат из города после того, как будут выполнены взрывные работы?» Опять наступила долгая пауза.
— Нет, — ответил Шпейдель, — боюсь, что нет, господин генерал.
Хольтиц утомленно вздохнул и спросил: «Есть ли у вас для меня какие-либо последние распоряжения?» Шпейдель ответил отрицательно.
— Тогда, дорогой мой Шпейдель, — продолжал фон Хольтиц, — мне ничего не остается, как только попрощаться с вами. Прошу вас, присмотрите за моей женой и детьми в Баден-Бадене.
— Присмотрю, — ответил Шпейдель напряженным от волнения голосом, — обещаю вам.
В отеле «Мёрис» усталый командующий округом Большого Парижа повесил трубку. Больше ею он не воспользуется.
46
Была полночь. На балконе второго этажа отеля «Мёрис» стояли два человека. В последний раз за свое короткое командование Дитрих фон Хольтиц вдыхал свежий ночной воздух простиравшегося перед ним города. Рядом с ним молча стояла блондинка, чей смех за прошедшие четыре года столько раз оживлял вечеринки в оккупированном Париже. Аннабелла Вальднер, отрезанная от своего отеля, собиралась провести свою последнюю ночь в Париже на кушетке в кабинете Хольтица. На рассвете вместе с другими немками, оставшимися в городе, Аннабеллу передадут Красному Кресту для репатриации в Германию.
Над затемненным городом прокатился другой звук, сменивший радостный перезвон церковных колоколов Парижа. Это была яростная пальба, которую открыл двадцатитысячный гарнизон Хольтица, напоминая городу, что час освобождения еще не наступил и что три танка капитана Дронна — это еще не армия. Пулеметная очередь ворвалась в праздничную атмосферу, царившую в «Отель де Виль», сорвав мраморный парик с бюста Людовика XIV и чуть не выбив бокал шампанского из рук Жоржа Бидо. Радио, несколько минут назад призывавшее город на улицы, теперь умоляло парижан «вернуться домой, закрыть окна, не выходить на улицу, это еще не конец».
В Префектуре полиции изнемогающий от усталости освободитель Парижа, прибытие которого вызвало такую бурю восторгов, готовился принять единственную желанную награду — искупаться. Когда Раймон Дронн влез в чан с холодной водой, только что принесший ее застенчивый молодой человек назвал себя. Его звали Феликс Гайар, и, когда они встретятся в следующий раз, он уже будет премьер-министром Франции.
Прислушиваясь к доносившейся со всех сторон стрельбе, Хольтиц повторял: «Что мне делать? Что мне делать?» Аннабелле Вальднер показалось, что он обращался наполовину к ней, наполовину в темноту.
Аннабелла взглянула на его сгорбленную, поникшую фигуру. «Сейчас уже поздно что-либо делать, — сказала она, — кроме как подумать о жене и детях». От ее слов Хольтиц вздрогнул. «Им будет нужен их отец», — добавила она.
Хольтиц долго стоял, не говоря ни слова. Затем очень мягко ответил: «Да, моя девочка, по-видимому, вы правы». Он взял ее руку, осторожно поднес к губам и поцеловал. После чего, пожелав даме спокойной ночи, Хольтиц отправился в свою комнату, чтобы часок соснуть.
Проходя по длинному коридору к лестнице, Хольтиц услышал за собой торопливые шаги. Он обернулся и оказался лицом к лицу с молодым офицером, с которым познакомился на Мульде, — капитаном Вернером Эбернахом. Эбернах тоже слышал звон колоколов и понял, что он означает. У него не было ни малейшего желания попасть в плен. Он сообщил Хольтицу, что его работа закончена, и спросил, есть ли какие-либо дальнейшие распоряжения.
— Нет, — ответил Хольтиц, — у меня нет для вас распоряжений, Эбернах.
Затем Эбернах спросил, поскольку его подразделение было откомандировано в Париж из первой армии, будет ли ему позволено отбыть. Он оставит отделение солдат, которые взорвут установленные заряды.
Хольтиц посмотрел на молодого офицера. «Да, Эбернах, — грубо и резко ответил он, — забирайте всех ваших людей и уезжайте отсюда». Не говоря больше ни слова, он повернулся к капитану спиной и удалился в свою комнату. Тремя часами позже Эбернах и солдаты его 813-й саперной роты отбыли, проехав по тем самым парижским мостам, которые их прислали взорвать.
* * *
Хольтиц уже спал. Спали и Яй, Унгер, Арним, Кайзер. Огромный отель, в котором на протяжении четырех лет решались судьбы Парижа и его жителей, погрузился в тишину. В эти последние быстротечные часы короткой августовской ночи его покой нарушали лишь топот сапог часовых и периодическое постукивание телетайпа.
Аннабелла Вальднер тоже спала, когда сквозь ее легкий сон прорезался телефонный звонок, резкий и настойчивый. Не обуваясь, она пробралась в темноте к телефону. Далекий голос, слабый и скрипучий, попросил генерала.
— Он спит, — ответила она. — Разбудить его?
Телефон замолчал. Затем звонивший вновь заговорил. «Нет, — сказал он. — не будите. Уже слишком поздно. Передайте ему…»
Последовала пауза. Аннабелла поняла, что ее собеседник колеблется.
— Передайте ему, звонил генерал Крюгер. Передайте, что мои танки не прибудут.
Часть третья Освобождение
1
25 августа
«День славы наступил». Париж ждал его четыре года. И вот он пришел безветренным ясным летним утром. Ни одно облачко не омрачило рассвет этого дня славы. Он был таким прекрасным, таким совершенным, что казалось, будто погода и история объединили свои усилия. В тысячах домов парижане готовились встретить его взрывом чувств, который навеки запечатлит этот день в истории и в памяти тех, кто его прожил. Пожалуй, никогда больше город не испытает ничего похожего на то подлинное счастье, которое должно было вот-вот захлестнуть Париж в День освобождения. Было 25 августа 1944 года, праздник Святого Людовика, покровителя Франции. Это был, подумалось рядовому американскому солдату по имени Ирвин Шоу, «день, когда должна закончиться война».
* * *
Оборонявшиеся немцы тоже отсчитывали минуты — минуты, которые отделяли их от завершающего штурма союзников. Как и многие другие, унтер-офицер Отто Киршнер, тридцати пяти лет, находясь в комендатуре около здания Оперы, слушал последние наставления к бою. «Мы должны выполнить наш долг и сражаться до конца за фюрера», — заявил ему полковник Ганс Рёмер из Висбадена. Такая решимость, отметил позднее Киршнер, оказалась недостаточной, чтобы помешать полковнику исчезнуть, когда во второй половине дня разгорелся бой.
Некоторые получали последний паек. У Вилли Вернера и его товарищей в здании Министерства иностранных дел это была тарелка бобового супа. Сержанту Бернхарду Блахе в Военной школе повезло больше. Ему достался глоток коньяка.
Унтер-офицер Ганс Фриц, грузовик с торпедами которого попал накануне в засаду, получил приказ взять патрульный наряд в Палате депутатов и разыскать пропавший грузовик. Фриц и сопровождавшие его солдаты отошли всего на несколько сот ярдов от здания, когда увидели, что ФФИ возвели баррикады на тех улицах, которые вчера принадлежали вермахту. Попав под перекрестный огонь, Фриц приказал своим людям укрыться, а сам бросился назад, в Палату, за помощью. Ее огромные ворота были заперты. Фриц безрезультатно барабанил в них, пока снайперы не открыли по нему огонь.
Фриц бросился через улицу, чтобы укрыться в подъезде. Пока он стоял там, размышляя, что делать, к нему подошла пожилая женщина и попросила: «Пожалуйста, найдите другое место, откуда вы будете стрелять». Фриц вздохнул и решил, что он вообще не будет больше стрелять ни с какого места. «Для меня, — сказал он пожилой женщине, — война окончена».
Из всех 20 тысяч немцев, оставшихся в Париже, лишь один, вероятно, двигался к центру города по собственному желанию. Никто не сообщил Йоахиму фон Кнесебеку, директору филиала «Сименс» во Франции, что Париж вот-вот падет. Кнесебек только что вернулся из поездки в Берлин. Выйдя из грузовика люфтваффе поблизости от своего дома, фон Кнесебек пошел дальше пешком, испытывая при этом лишь легкое чувство беспокойства по поводу предупреждения водителя о том, что «в Париже беспорядки».
Когда он пришел домой, его французская консьержка расплакалась. «Вы сумасшедший, — сказала она. — Вас убьют». Она отвела его в подвал, где заранее приготовила для него велосипед, и велела скрыться. Вдогонку накручивающему педали Кнесебеку она крикнула: «Не беспокойтесь, через две недели вы вернетесь!»
Из окна отеля «Мёрис» капитан Отто Кайзер — профессор литературы из Кёльна, который днем ранее показал Данкварту фон Арниму лозунг Роля «Каждому по бошу», — в компании молодого графа наблюдал за восходом солнца. «Париж, — сказал он фон Арниму, — обязательно отомстит нам за эти четыре года. Интересно, сможем ли мы когда-нибудь сюда вернуться?» Ученому профессору ни к чему было задавать этот вопрос. Он уже никогда не покинет этого города.
В центре связи Большого Парижа унтер-офицер Отто Фогель потерял всякую надежду. Он только что попытался в последний раз позвонить домой в Бад-Вимпфен, но дальше Реймса связи не было. Теперь телефоны «Гипноза» трезвонили почти беспрестанно. Это звонили наступающие союзники. Чуть позже, почти ровно в восемь, заклацал телетайпный аппарат Фогеля. Он отстучал состоящий из двух слов вопрос ОКВ к Хольтицу. Вопрос был столь простым, что ОКВ даже не счел нужным его закодировать.
Вопрос был таков: «Уничтожение начато?»
2
Для техника-сержанта Милта Шентона, американца, для которого Париж был «сбывшейся мечтой бедного мальчугана», город теперь превратился в кошмар пехотинца. Шентон только что узнал, что его назначили головным дозорным роты, а его роте была поставлена задача возглавить наступление на Париж всей 4-й дивизии. Это означало, что сержант Шентон станет первой соблазнительной целью, которую дивизия предлагала обороняющимся в городе. Шентон» уже выполнял такую работу в другой день, 6 июня, когда вел за собой 4-ю дивизию на побережье Юта и не получил ни царапины. Сержант Шентон полагал, что это был тот запас везения, на который может рассчитывать человек в этой жизни. Пристегивая дополнительную коробку с боеприпасами к своему джипу, стоявшему у расположенного на перекрестке дорог городка Нозе, Шентон чертыхался про себя и проклинал тот день, когда услышал слово «Париж».
* * *
Ценнейшие разведданные о точном местонахождении немецких опорных пунктов в городе, которые предоставил Лоррену Крюзу агент абвера Бобби Бендер, не попали к Леклерку. На рассвете Крюз вскочил на велосипед, чтобы самому доставить эту информацию. Он разыскал полковника де Ланглада неподалеку от Севрских ворот, но Ланглад, раздраженный наплывом преисполненных наилучших намерений, но зачастую плохо информированных бойцов ФФИ, которые всю ночь штурмовали его штаб, не принял Крюза. И только после того, как один из одноклассников Крюза, состоявший в штабе Ланглада, поручился за него, полковник согласился выслушать его. К тому времени радиосвязь между Лангладом и Леклерком нарушилась, и три колонны уже выступили в соответствии с ранее утвержденным планом наступления. Ранним утром по всей южной оконечности города начали выдвигаться вперед французские и американские колонны. Для всех них — и для возвращающихся домой бойцов 2-й бронетанковой, и для радостно любопытных американских солдат 4-й дивизии — задача дня сводилась к тому, что прозвучало в лаконичной команде в адрес капитана Билли Бьюнзла из Роузелла, штат Нью-Джерси, который должен был повести за собой в город 38-й разведывательный батальон: «Устройте по дороге хороший спектакль и дуйте вовсю в Париж!»
3
Дорога, по которой ехал джип Милта Шентона, казалась пустынной и опасной. Грязно-серые покосившиеся ставни на оштукатуренных домах, нависавших над узкими тротуарами, были наглухо закрыты. Единственным живым существом поблизости от Шентона была бездомная кошка, кравшаяся вдоль фасада здания. Сержанту казалось, что единственным доносившимся до него звуком был стук его собственного сердца.
Впереди Шентон увидел сине-белый Т-образный дорожный знак «Париж — Итальянские ворота», тот самый, который накануне ночью видел Дронн. Вдруг над головой Шентона со скрипом открылось окно. Он резко повернулся на звук, сбрасывая предохранитель карабина. Затем раскрылось еще одно окно, и еще одно. Откуда-то до него долетел женский голос: «Лез америкен!» Краем глаза он увидел, как к машине бросились, стуча шлепанцами, мужчина в рубашке и две женщины в халатах. Мужчина обхватил сержанта из Мэриленда и слюняво расцеловал в обе щеки.
Шентон так и не понял, откуда они все взялись, но через несколько секунд буквально каждое здание изрыгало толпы счастливых, вопящих парижан. В считанные минуты пустынные улицы заполнились плотной, ликующей, непроходимой людской массой. Там, где всего мгновение назад сержант с опаской ощущал свое одиночество, теперь он увидел, что пробиться на джипе через многоголосое море лиц, преграждавшее дорогу, было почти невозможно.
И так было повсюду.
На маршрутах продвижения 2-й бронетанковой толпы сходили с ума. Когда они поняли, что солдаты в американских касках и униформе были их согражданами; когда увидели лотарингские кресты на «шерманах», а на башнях такие названия, как «Вернон» и «Сен-Сир», их радость перешла в какое-то безумие. Девушки и дети свисали с каждого танка, бронетранспортера, машины, словно гроздья винограда. Водители джипов порой рисковали оказаться раздавленными роем людей, прыгавших на них, чтобы поцеловать, потрогать, сказать что-то. Толпы на тротуарах бросали в них цветы… и спелые помидоры, морковку, редиску и вообще все, что могли предложить. Они преследовали колонны пешком и на велосипедах; они накатывались им навстречу крикливыми волнами.
Находившийся в танке «Эль Аламейн» лейтенант Туни обнаружил, что так много людей карабкаются на гусеницы его машины, ныряют в башню, загораживают дорогу, что ему пришлось стрелять из пулеметов в воздух, чтобы расчистить дорогу. Капитану Жоржу Бюи — с покрасневшими глазами, измученному двумя бессонными ночами — его танк казался «магнитом, проходящим через кучу стальных опилок». Жан Рене Шампьон, француз из Мексики, на своем танке «Морт-Омм» добрался до площади Шатле в 8.30. Там он находился в течение «пяти наиболее памятных часов» в его жизни. Люди пели, танцевали, плакали, передавали солдатам вино и шампанское, буквально завалили машины его взвода, так что их не было видно. Девятнадцатилетний Леандр Мадори, корсиканский крестьянин, никогда не бывавший в Париже, разглядывал толпы из своей полугусеничной машины и без устали повторял: «Боже мой, какой он огромный!»
На пути продвижения 4-й дивизии американцев прием был не менее бурным. Капитану Бену Уэллсу из УСС, больному, усталому, покрытому испариной из-за сысокой температуры, казалось, что «волна людских эмоций подхватила нас и потащила в самое сердце Парижа… Было такое впечатление, будто пробираешься наощупь во сне». Стоя по щиколотки в цветах, Уэллс наклонился, чтобы обнять почтенную седовласую женщину, тянувшуюся поцеловать его. «Слава богу, вы здесь, — сказала она. — Теперь Париж опять будет Парижем». Через три недели сын дипломата Уэллс встретился с ней официально. Она была внучкой Фердинанда де Лессепса, построившего Суэцкий канал.
Но из всех впечатлений от продвижения по этому маршруту ничто так не запомнилось этим людям, как чисто эмоциональное воздействие сотен тысяч торжествующих, переполненных благодарностью парижан, окружавших их. Майор Фрэнк Бёрк из Джексона, штат Миссисипи, погрузившись в людское море, подумал, что это, «несомненно, счастливейшая сцена, которую когда-либо видел мир». У Бёрка осталось впечатление, что это были «целых пятнадцать миль ликующих, исступленно счастливых людей, ожидавших своей очереди, чтобы пожать вам руку, поцеловать вас, одарить едой и вином».
Прелестная девушка обвила руками шифровальщика Брюса Райна и всхлипнула: «Мы ждали вас четыре года». Точный во всем вирджинец заметил: «Но Соединенные Штаты участвуют в войне только три года».
— Ну так и что? — ответила девушка. — Мы знали, что вы все равно придете!
Повсюду на их пути счастливые, благодарные французы бросали американским солдатам, что у них было. Лейтенант Ли Ллойд из Алабамы заметил у своей машины женщину, вопившую: «Сувенир! Сувенир!» Вдруг она обернулась к стоящему рядом мужчине и выдернула у него изо рта трубку. Быстрым движением она сунула ее Ллойду. Прежде чем алабамец успел вернуть трубку, машина покатила дальше. Ллойд видел удаляющееся в толпе изумленное лицо мужчины. В конце концов, придя в себя и смирившись, мужчина заулыбался.
Хорошенькая девушка с тарелкой прохладного свежего винограда подбежала к лейтенанту Джону Моргану Уэлчу. Какой-то немец, пояснила она, забыл его в ее лавке. Когда Уэлч начал есть, наблюдавшая за ним красивая женщина заметила: «Это первый виноград, который я вижу за четыре года». Устыдившись, Уэлч предложил ей присоединиться.
— Нет, — ответила она. — Сегодня, молодой человек, все для вас.
* * *
Среди бури восторгов, бушевавшей на ведущих к центру города улицах, необычные вещи происходили и с гражданскими. Поль Бертран, художник по декорациям, неотрывно следивший за джипами 2-й бронетанковой, не верил своим глазам. Если американцы, думал он, смогли создать такую машину, то «победа в войне обеспечена». Подобно французам, в восточной части города сбегавшимся навстречу американским солдатам, чтобы проверить свои знания в английском, Роберт Миллер, американский адвокат, застрявший в Париже после Пёрл-Харбора, подскочил к проезжавшим мимо его дома на площади Мюэтт солдатам 2-й бронетанковой, лепеча по-французски слова приветствия. Они ответили ему недоуменными взглядами: все они были испанцами.
Восемнадцатилетняя Колетта Массиньи была уверена, что освобождение наступит именно в этот день. Она надела специально припасенное для этого случая голубое шелковое платье и отправилась на поиски освободителей. На улице Понп под наглухо закрытыми ставнями она увидела причудливую машину, в которой сидели трое в касках. Она подъехала к первому в своей жизни джипу и заговорила с его пассажирами. Они посмотрели на нее с таким же недоумением, с каким испанцы встретили Миллера. «Вы американцы?» — спросила она по-английски. «Черт побери, конечно, милая», — ответил водитель. Колетта бросилась ему на шею. В этот момент десятки людей, наблюдавших за ними из-за ставен, хлынули на улицу. Джип был буквально погребен под грудой человеческих тел. И тут над головой Колетты с шумом распахнулись деревянные ставни еще одного окна. Из окна высунулся молодой человек с серебристой трубой в руках. Полились сильные, волнующие звуки «Марсельезы». Колетта подумала, что вряд ли когда-либо услышит более прекрасное исполнение этой мелодии.
* * *
Во время счастливого марша случались и трагедии. Лейтенант Ив Чампи из 2-й бронетанковой, сидевший в машине, которая двигалась в колонне через Орлеанские ворота, увидел, как пожилой немецкий солдат на велосипеде — его обмундирование было в лохмотьях, вещи кое-как затолканы в рюкзак — вдруг направился наперерез их быстро идущим машинам. Колонна проехала по нему. Оглянувшись, Чампи увидел «размазанное по мостовой красное пятно — все, что осталось от человека, который еще мгновение назад был жив».
В общем и целом на начальном этапе наступления противник сопротивления почти не оказывал. Окопавшись в своих опорных пунктах, в окружении ФФИ, немцы перешли к обороне и в полной готовности ждали, когда освободители города попытаются их оттуда выбить. Время от времени с этих позиций раздавались выстрелы, разгонявшие возбужденных парижан, как стаи перепуганных голубей, после чего освободители города оставались на его улицах одни.
К восьми часам первые подразделения подошли к центру города. Капитан Жорж Бюи, в изнеможении клевавший носом в башне своего танка, почувствовал, как заглохли моторы. Бюи автоматически поднял голову и выглянул наружу. И тут же пережил «самый сильный в своей жизни шок»: прямо перед ним, приветливо сияя на солнце, был Нотр-Дам. Капитан Билли Бьюнзл из 38-го разведывательного батальона наткнулся на танки Бюи на короткой боковой улочке по другую сторону Сены. С радостными воплями обе колонны, французская и американская, помчались наперегонки, соревнуясь за честь первыми въехать на площадь Нотр-Дам. Они финишировали одновременно. Только теперь Бьюнзл сообщил по радио своему командиру полковнику Сайрусу А. Долфу, что он в Париже. «Откуда вы знаете, черт возьми?» — спросил старый профессиональный солдат Долф. «Какого дьявола, полковник, — ответил Бьюнзл, — я смотрю прямо на Нотр-Дам!»
* * *
Повсюду вдоль дорог, по которым вступали в город войска, стояли женщины Парижа, стройные, загорелые и — для этих мужчин, прошедших с боями до Парижа из самой Нормандии, — почти невероятно красивые. Рядовой первого класса Марсель Рюфен из Чадского полка 2-й бронетанковой хвастался по их поводу всю дорогу до столицы. Теперь, свешиваясь из своей машины «Люневиль», Рюфен перецеловывал их десятками, пока, как показалось его товарищам, его лицо не стало «похожим на красный гриб». У находившегося на борту «шермана» «Викинг» капрала Люсьена Давантюра сложилось такое впечатление, что парижанки просто штурмуют его танк. Он установил порядок допуска в свою башню: вначале — самые красивые! Рядовой первого класса Чарли Хейли из 12-го полка наблюдал за светловолосым парнем, который хотел выяснить, скольких девушек он сможет облобызать. «Он перецеловал, должно быть, тысячу», — с благоговением подумал Хейли.
Для бойцов 2-й бронетанковой еще более трогательным, чем дикий рев толпы, было неожиданное воссоединение с семьей и друзьями. Со своей полугусеничной машины «Ларш» Жорж Бюше наблюдал, как на улице Бурдонне какая-то женщина бросилась под пули и повисла на приближавшемся пехотинце. «Мой сын, мой сын», — всхлипывала она. Около площади Шатле капрал Жорж Тиолла внезапно увидел перед своим танком два знакомых лица. Всего в пятидесяти ярдах, крутя педали двухместного велосипеда, к нему подкатывали его родители. Майор Андре Грибиу благодарил бога за то, что в его джипе оказался ящик с пайком, когда он нашел своих родителей в Версале. Он их едва узнал: его мать похудела почти на пятьдесят фунтов, а отец — на тридцать пять.
Около Орлеанских ворот обезумевшая женщина кружила у колонны «шерманов». У каждого танка она задавала один и тот же вопрос: «Где можно найти полк в черных беретах?» Это была мадам Бовера, искавшая одного из своих двух сыновей.
Но самой трогательной была встреча у капрала Люсьена Давантюра. Давантюр знал, что его брат уехал в Париж, чтобы избежать депортации в Германию. На всем пути в Париж водитель «Викинга» посылал в окружавшие танк толпы записки, адресованные брату. В центре Парижа, у моста Пон-Нёф, когда 75-миллиметровая пушка «Викинга» смотрела прямо на универмаг «Самаритен», Давантюр заметил человека, медленно пробиравшегося вдоль колонны танков. Человек подошел к его машине, и Давантюр заморгал, не веря своим глазам. Это был «невероятно тощий, в слишком большой для него полицейской форме с повязкой ФФИ на руке» его собственный брат, которого он не видел три года. Братья, символизировавшие собой две части сражающейся Франции, попали в объятия друг друга, как будто их «притянуло электрическим током». Их встреча была короткой. Через несколько минут «Викинг» получил приказ двигаться дальше. Брат Давантюра попытался втиснуться в танк, но понял, что там нет места. Капрал запрыгнул в машину, захлопнул крышку люка и выставил перископ; он остался в темноте один со своими слезами. В наступавшей следом за танком группе пехотинцев прибавился еще один человек. Это был брат Давантюра в полицейской форме.
Не все встречи были столь радостными. В 16-м районе Робер Пербаль из лотарингской деревни Ромба узнал от проходящей мимо землячки, что его отец был депортирован два года назад. Бледный молодой человек подошел к машине лейтенанта Анри Карше, на минуту остановившейся по пути в город. «Извините, — спросил он, — вы случайно не знаете Люсьена Луазо? Мы ничего не слышали о нем с тех пор, как он ушел к де Голлю три года назад». Карше молча посмотрел на парня. «Да, — ответил он, — я знал Люсьена Луазо. Он был моим лучшим другом». Затем, задержав взгляд своих мягких карих глаз на молодом человеке, он добавил: «Он был убит в Бир-Хакейме». Парень побелел и исчез.
Для десятков бойцов 2-й бронетанковой телефон, который они столь чудесным образом обнаружили накануне, стал той первой ниточкой, которая связала их с семьями. Рядовой первого класса Жан Ферраччи нацарапал имя и номер телефона своей сестры на маленьких клочках бумаги и раздавал их в толпу каждый раз, когда его машина останавливалась. К полудню десятки людей звонили ей, чтобы сообщить о возвращении брата. Сержант Пьер Лель, командир танка «Монфокон», заскочил в бистро у площади Шатле, чтобы позвонить невесте, которую не видел и о которой ничего не слышал четыре года. Услышав ее голос, Лель поначалу онемел и смог выговорить лишь два слова, столь же прекрасных сколь и банальных: «Жё тем»[31]. Потом уже он сообщил ей, где находится, и она бросилась его разыскивать.
У немногих американских солдат в этот день тоже были своего рода воссоединения. Лейтенант Дэн Хантер был в числе первых американцев, оказавшихся в центре города. Ему поручили реквизировать «Пти-пале», чтобы устроить там центр для допросов коллаборационистов. Перепуганный смотритель этого музея на Елисейских полях сказал, что этого делать нельзя: в здании находилась драгоценная коллекция произведений искусства. «Вывезите ее», — приказал Хантер; его подразделение должно прибыть в пять часов. Невозможно, умолял смотритель, коллекцию нельзя вывезти так быстро. Это особый дар, сообщил он, переданный Франции одним из его соотечественников-американцев, человеком по имени Эдвард Так. Хантер рассмеялся. Он велел смотрителю вывозить коллекцию, а всю ответственность брал на себя: Эдвард Так был его двоюродным братом.
По пути в Париж майор Франклин Холкомб из морской пехоты завернул на улицу Университетскую, 72, в дом своей очаровательно эксцентричной тетушки Сильвии Шеридан, добровольной попечительницы русской колонии в Париже. Холкомб выбрал самую прямую дорогу: он вошел через окно на первом этаже. Старая дама величественно, с достоинством восседала в гостиной и читала книгу, когда туда ввалился Холкомб. Она взвизгнула, увидев его зеленую морскую форму, похожую по цвету на форму вермахта, но потом узнала Холкомба.
— Франклин! — закричала она пронзительным голосом, как школьная учительница, обращавшаяся к несносному ребенку. — Неужели тебя учили этому в морской пехоте — врываться в квартиру дамы через окно?
* * *
Не всех прибывших в этот день в Париж встречали поцелуями. В Корбее, что в 12 милях к югу от Парижа, из стоявшего в 50 ярдах от берега Сены дома, окна которого были закрыты ставнями, американский офицер пытался рассмотреть местность сквозь поднимающийся от реки густой туман. Это был лейтенант Джек Ноулз, тот самый, которому было приказано раздобыть своим людям галстуки для предстоящего «парада» через Париж. Весь парад Ноулза состоял в спуске к берегу, где ему было поручено организовать переправу через Сену. Поскольку с занимаемой ими позиции невозможно было что-либо рассмотреть, Ноулз и его взводный сержант «Торопыга» Стоун вышли наружу и начали осторожно спускаться к воде. Когда они приблизились к ней, немцы открыли огонь. Ноулз нырнул за дерево, кора и ветви которого уже были срезаны пулеметным огнем. Раненный в плечо и ягодицы, Ноулз услышал позади себя слабый стон: «Врача, врача». Это звал на помощь умирающий у самой Сены «Торопыга» Стоун, на шее которого все еще был повязан галстук, добытый им для «парада» в Париже.
* * *
В нескольких милях от этого места, на юго-западной окраине Парижа, неподалеку от склада торпед «Пилц» в Сен-Клу, только что появились первые колонны под командованием майора Франсуа Морель-Девиля, встреченные такими же громовыми овациями, как и другие части 2-й бронетанковой на другом конце столицы.
В этот момент мимо колонн Морель-Девиля по улице Дайи в сторону моста Сен-Клу с ревом пронесся джип. Макс Жиро из 2-й бронетанковой подумал, что «водитель, должно быть, торопится попасть в Париж».
Он угадал. Это был сержант Лэрри Келли, ирландец из Пенсильвании, торопившийся сдержать свое обещание стать первым американским солдатом в Париже. Он пересек площадь у начала улицы Дайи и с веселым гиканьем направил свой джип через мост. На другом его конце пожарник Жан Дави возвращался с похорон бойца ФФИ. В тот самый момент, когда Келли летел на своем джипе через Сену к Парижу, Дави вступил на мост с противоположного берега реки.
Когда Дави увидел странную автомашину, каски, форму, он сразу понял, что эти люди могут быть только немцами. Он вскинул к плечу свою новенькую винтовку «маузер» и выстрелил в упор, выпустив в приближающийся джип всю обойму. С шестью ранениями обливающийся кровью сержант Келли упал на мостовую, сраженный по ошибке всего в 50 ярдах от границы города, в котором он хотел быть первым американским солдатом.
* * *
Теперь, когда по всему Парижу наступающие войска оказались в пределах досягаемости для огневых средств опорных пунктов Хольтица, к счастливым воплям толпы стали примешиваться звуки перестрелки. Выстрелы эти были леденящим кровь напоминанием о том, что в Париже оставались в полной боевой готовности почти 20 тысяч немецких солдат, то есть почти столько же, сколько наступало союзников.
Лейтенант Пьер де ла Фушардьер из 501-го танкового полка с изумлением смотрел на пустую площадь Обсерватории, резко контрастировавшую с многолюдными улицами, по которым только что двигались его танки. Впереди послышалась стрельба. Ла Фушардьер выскочил из своего танка и подбежал к единственному попавшемуся на глаза парижанину — жавшемуся к двери старику.
— Месье, — спросил он, — где здесь немцы?
4
Немцы были как раз за углом, под восьмигранным куполом Люксембургского дворца. Там, в просторном саду, между статуями королевы Шотландии Марии и гранд-дамы герцогини де Монпансье, противника ожидали 700 человек, готовые «сражаться до последнего патрона». Чтобы подбодрить их, штандартенфюрер СС, танки которого использовали живые щиты для прикрытия своих башен, выдал каждому последний боевой паек: пинту коньяка и пачку сигарет.
Затягиваясь одной из них в бетонном доте, развернутом на бульвар Сен-Мишель, сержант Мартин Геррхольц, двадцати семи лет, из 190-го зихерунгсрегимента, с уверенностью поглядывал на свое оружие. Это был «панцерфауст» — немецкий противотанковый гранатомет. С его помощью Геррхольц получил железный крест первой степени под Ростовом-на-Дону, подбив четыре русских Т-34 четырьмя выстрелами. Сегодня ему впервые представится случай попробовать гранатомет на американском танке.
Съежившиеся в окопах, вырытых среди герани и бегонии, которые генерал-фельдмаршал Хуго Шперрле столь любовно взращивал в течение четырех лет оккупации, младший капрал Ганс Георг Людвиг и его товарищи из 6-й парашютно-десантной егерской дивизии могли прикрывать входы в сад продольным огнем из своих пулеметных гнезд. Над ними, на крыше дворца, наблюдатель из 484-й роты фельджандармерии следил в свой полевой бинокль за прилегающими улицами. При первом же появлении войск союзников на подступах к зданию он должен был предупредить эсэсовского командира, укрывавшегося на глубине 30 футов в подземном бункере Шперрле. Оттуда штандартенфюрер был готов руководить боем за здание. Главными его силами были танки 5-го зихерунгсрегимента, врытые в землю в саду на подходах к дворцу. В одном из них, башня которого была нацелена на улицу Вожерар, водил перископом из стороны в сторону танкист Вилли Линке, который пять дней назад возглавил первую танковую атаку на Префектуру полиции. Просматривая местность вокруг себя, Линке мог видеть колонны театра Одеон, а за ними крыши Сорбонны. Улицы были пустынны, ставни на домах плотно закрыты. Никаких освободителей здесь пока не появлялось. Линке вспомнил о своей родной деревне у Балтийского моря и подумал, что это, конечно же, было «затишьем перед бурей».
Менее чем в 60 ярдах от его огневой точки, находившейся сбоку от какой-то школы, группа гражданских, расположившихся в читальном зале этой самой школы, выжидала всю ночь, чтобы как раз и устроить ту бурю, в приближении которой не сомневался Вилли Линке. Один из них, молодой человек с пышными волосами, сам не намного старше старшеклассника, готовился ее начать. Его звали Пьер Фабьен. Ему было двадцать пять, и за свою короткую жизнь он был трижды ранен — два раза в Испании и один в Чехословакии. Дважды он совершал побег из гестапо, причем один раз — лишь за несколько минут до казни. Два года назад этот молодой полковник-коммунист на станции метро Барбе застрелил первого немецкого солдата, погибшего в Париже. Теперь, когда бронированные колонны 2-й бронетанковой вошли в город, Фабьен отдал приказ, в ожидании которого сам сгорал от нетерпения всю неделю. Он приказал своим людям ударить по Люксембургскому дворцу, первому немецкому «штюцпункту» в Париже, который подвергнется атаке.
* * *
Молодой человек в расстегнутой на груди грязной белой рубашке, с трехцветной повязкой на рукаве и видавшим виды маузером в руке крался вдоль стены по улице Одеон к Люксембургскому дворцу. Это был один из бойцов Фабьена. Его звали Жак Гиерр, и в этот изумительный день ему исполнилось двадцать лет. Его задачей было обнаружить немцев в районе вокруг улицы Вожирар, чтобы подготовить атаку на дворец. Гиерр проскользнул в кафе «Арбёф» на площади Одеон. Из окон кафе он увидел напротив, за театром Одеон, увенчанные касками силуэты оборонявшихся в Люксембургском дворце немцев.
— Ты хотя бы ел, малыш? — спросила владелица кафе мадам Арбёф. Когда Гиерр покачал головой, она сунула ему бутерброд. «Съешь это, — сказала она. — На сытый желудок воевать лучше». Молодой человек съел бутерброд и проглотил стакан «Сансерра», который предложила мадам Арбёф вместе с бутербродом. «Спасибо, — поблагодарил он. — Да здравствует Франция!» Затем он бросился через площадь к театру.
Через три-четыре секунды мадам Арбёф услышала раскаты выстрелов. Она увидела, что мальчик, которого она только что кормила, лежит на площади, а по его белой рубашке расползается красное пятно. Жак Гиерр, с гордостью отметивший в то утро свое двадцатилетие, был мертв. Это был первый боец Фабьена, погибший при штурме Люксембургского дворца.
Затем прямо перед собой мадам Арбёф услышала серию взрывов. Две бронемашины штандартенфюрера, совершив короткую вылазку из дворца, обстреливали группу ФФИ, укрывавшуюся в небольшом отеле на углу улиц Вожирар и Месье-ле-Пренс. Из окон здания, задыхаясь от дыма, бойцы ФФИ забрасывали фанатами стоявшие внизу машины. В клубах черного дыма и пыли две девушки в ярких летних платьях, специально надетых по случаю этого дня, оттаскивали раненых в укрытие в коридоры гостиницы. На первом этаже за дверью спрятался парень в майке, сжимавший в руках сверкающий нож. Это был мясник из соседней лавки. Он был готов раскроить голову первому же немецкому пехотинцу, который попытается войти в здание. Вдруг осажденный отряд ФФИ увидел, что бронемашины попятились назад и поспешили укрыться на территории дворца. Затем с бульвара Сен-Мишель до них долетел грохот гусениц других танков. Это были «шерманы» лейтенанта Пьера де ла Фушардьера. Он наконец нашел своих немцев. Подкатывая к Горной школе, он изучал их теперь из башни своего танка.
Сержант Мартин Геррхольц, немецкий снайпер, тоже изучал де ла Фушардьера — сквозь разметку прицела своего гранатомета. Почти в тот самый момент, когда Геррхольц решил выстрелить, ла Фушардьер засек его дот. «Направо!» — заорал он водителю Люсьену Керба. Танк ле Фушардьера уже свернул в укрытие на улицу Аббе-де-л’Эпе, когда вдогонку ему полетел первый снаряд Геррхольца. Он просвистел над задней частью «шермана», разорвавшись в дверях дома напротив. Чертыхаясь, Геррхольц увидел, что танк скрывается из виду, и удивился, что дал промах.
Выбравшись из танка, ла Фушардьер попросил трех бойцов ФФИ из отряда Фабьена помочь ему изучить немецкие позиции, вдававшиеся клином в сад Люксембургского дворца. Все четверо вошли в здание, фасад которого выходил на школу, и галопом помчались по лестнице на пятый этаж. Там они позвонили в первую же попавшуюся дверь. Открыла пожилая женщина в черном. «Лейтенант Пьер де ла Фушардьер из дивизии Леклерка», — представился молодой офицер, отдавая честь. Затем, слегка наклонившись, он взял руку старой дамы и поцеловал ее. Четверо мужчин прошли мимо ошарашенной женщины к окну ее гостиной. Оттуда они могли видеть Горную школу, расположенную всего в тридцати ярдах по ту сторону бульвара Сен-Мишель. Там, за мешками с песком, сложенными в окнах школы, ла Фушардьер увидел то и дело высовывавшиеся каски оборонявшихся немцев. Никогда за сорок месяцев боев он не видел врага так близко. Словно герой какого-нибудь вестерна, ла Фушардьер извлек свой кольт, прислонился к косяку окна и пальнул в изумленных немцев. Элегантный, заставленный книгами салон пожилой дамы наполнился едким запахом пороха. Она сама покорно уселась в кресло в углу комнаты и с восхищением и ужасом наблюдала, как четверо мужчин превращают ее гостиную в миниатюрное поле боя. Расстреляв все патроны, ла Фушардьер положил свой пистолет на полированную поверхность антикварного, в стиле Людовика XVI, стола и в восторге плюхнулся на красную бархатную софу.
Теперь уже все танки 501-го полка, в котором служил ла Фушардьер, стояли вокруг Люксембургского дворца. В наушники танкист Вилли Линке слышал резкий, сухой голос своего командира лейтенанта Клауса Куна, предупреждавшего: «Четыре танка противника движутся по улице Гей-Люссак». Линке подумал про себя: «Где эта чертова улица Гей-Люссак?» Медленно перемещая перископ вдоль горизонта, Линке наконец обнаружил силуэт самоходной гаубицы, продвигавшейся по улице справа от него. Почти в то же мгновение, когда Линке сделал свое открытие, командир гаубицы лейтенант Филипп Дюплей из 12-го кирасирского полка увидел его. Скривившись, Дюплей приказал отвести гаубицу «Моск» назад, на боковую улицу, прежде чем Линке успел выстрелить.
В трехстах ярдах отсюда джип капитана Алена де Буассье, командира роты охраны Леклерка, подъехал к площади Обсерватории. Решив выбить немцев из Люксембургского дворца любой ценой, Буассье приказал своим танкистам открыть огонь по этому зданию, в котором когда-то заседал Сенат Франции. Отдав этот приказ, молодой офицер посмотрел на стоявшее перед ним величественное здание и подумал, что это выглядело так, как будто он «только что отдал приказ стрелять по правительству».
Самое главное, подумал Буассье, это уничтожить танки. Этот неожиданный бой вынудил Леклерка разместить свой командный пункт в здании вокзала Монпарнас, а не в отеле «Крийон», как планировалось ранее. Если, размышлял Буассье, танки выйдут с территории Люксембургского дворца и двинутся в сторону вокзала Монпарнас, ничто их не остановит. «Танки, — приказал он, — ради бога, уничтожьте танки».
В своей самоходной гаубице лейтенант Филипп Дюплей слышал по радио сердитый голос капитана де Буассье. «Танки, Христа ради, уберите танки», — вновь приказал он. Слушая голос Буассье, Дюплей увидел потного солдата, выбирающегося из полугусеничной машины с белыми звездами на бортах. Это был американец. Собрав все свои знания английского языка, Дюплей попросил американца: «Извините, сэр, у вас есть базука?»
Через несколько минут, словно пара молодых людей, вышедших пропустить стаканчик в соседнем баре, француз и американец, таща между собой базуку, направились в сторону бульвара Сен-Мишель. Не обращая внимания на свистящие вокруг пули снайперов, твердой и решительной походкой они направились сводить счеты с танками Вилли Линке.
5
Пока Дюплей и неизвестный американец шли к своей цели, солдаты 2-й бронетанковой дивизии стягивали кольцо вокруг других немецких опорных пунктов в городе: Палаты депутатов, Министерства иностранных дел, обширного комплекса Военной школы, занимавшего более четырех городских кварталов, отеля «Мажестик» и района вокруг Триумфальной арки, площади Республики, отеля «Крийон», штаба германского ВМФ и всей украшенной колоннадами улицы Риволи, включая резиденцию Хольтица.
Прежде чем начать массированный и кровопролитный штурм этих укреплений, полковник Пьер Бийотт, получивший наконец разведданные, сообщенные прошлой ночью Бобби Бендером Лоррену Крюзу, решил предъявить Хольтицу ультиматум. Слова Бендера убедили Крюза, что 2-й бронетанковой достаточно будет лишь объявить о своем присутствии, чтобы Хольтиц сдался. Бийотт, произведя себя в бригадные генералы, написал Хольтицу выраженную в резких тонах ноту, дав ему полчаса на то, чтобы «прекратить всякое сопротивление» или подвергнуть свой гарнизон риску «полного уничтожения».
Бийотт отправил ноту Бендеру, находившемуся в шведском консульстве. Прочитав ее, Бендер расстроился. У него были опасения, что слишком резкий тон ноты будет неприемлем для Хольтица. Но, по настоянию Нордлинга, агент абвера, переодетый в гражданское, направился с ультиматумом в отель «Мёрис». После перепалки с часовыми, которые теперь были готовы стрелять во все подозрительное, он в конце концов вручил ультиматум графу фон Арниму, который передал его фон Унгеру. Холодный, суровый начальник штаба счел его абсолютно неприемлемым. Он не стал его показывать Хольтицу, а вместо этого проинформировал командующего округом Большого Парижа, что «французы хотят предъявить вам ультиматум». На эту прямолинейную фразу Хольтиц ответил: «Я не принимаю ультиматумов». Ноту вернули Бендеру.
Придя в отчаяние от отказа Хольтица, Бендер прибавил в ответе Бийотту кое-что от себя. Генерал, сказал он, прикажет парижскому гарнизону сдаться, если первым будет взят в плен с применением силы, достаточной для спасения его солдатской чести.
* * *
В девятистах милях от Парижа, в холодном, нереальном мире ОКВ, Адольф Гитлер в этот августовский день узнал о предстоящей потере последнего трофея; еще остававшегося у империи, которая должна была стоять тысячу лет. Накануне вечером генерал-фельдмаршал Модель, застигнутый врасплох внезапным стремительным наступлением 2-й бронетанковой, предупредил ОКВ, что Париж находится в «критическом положении». Злополучный фельдмаршал, от которого Гитлер ждал чудес, не смог сделать чуда. Его ставка на выигрыш во времени оказалась битой из-за нехватки всего каких-то 24 часов. 47-я пехотная дивизия, которую он послал в Париж на помощь Хольтицу до прибытия 25-й и 26-й бронетанковых, сможет, как он уже понял, прибыть в пригороды Парижа не ранее середины дня 26 августа. С отчаяния Модель попытался срочно перебросить в город все разрозненные части, которые смог найти в Парижском районе: батальон полугусеничных машин, пехотный полк, всю броню, оставшуюся от его разбитых танковых дивизий. Но усилия эти будут «слишком незначительными» и приняты они будут «слишком поздно».
Теперь же, во время первого стратегического совещания в ОКВ, Гитлеру представили дневную оперативную сводку по группе армий «Б», полученную в Растенбурге несколько минут назад. Союзники, говорилось в ней, находятся в центре Парижа, «нанося удары по нашим укреплениям артиллерией и пехотой». Шокирующая новость о том, что союзники наводнили Париж, — казалось, этот удар материализовался из ничего — вызвала у Гитлера приступ бешенства.
Он со злостью повторял Йодлю, что целую неделю требовал защищать Париж до последнего человека. Он лично направил подкрепления командующему городским гарнизоном. И вот теперь он чувствовал, что, почти без предупреждения, и этот символ его головокружительных триумфов будет вырван из его рук. Еще каких-нибудь три года назад он правил Европой, простиравшейся от тундры Лапландии до подножия пирамид, от скалистого побережья Британии до окраин Москвы. Теперь Париж, по поводу захвата которого он от восторга сплясал джигу, будет у него отнят. А в считанные дни после падения Парижа, в чем отдавал себе отчет Гитлер, война, которую он начал, должна неизбежно перенестись на священную землю Германии.
Мстительно и зло он вновь кричал Йодлю, что союзники должны найти в Париже лишь «кучу обломков». Он отдал приказ о разрушениях в городе, кричал он. Для выполнения взрывных работ он направил в Париж саперные подразделения.
Охваченный истерией усиливающейся ярости, Гитлер начал пронзительно кричать. Что случилось? Выполнены ли эти приказы? Гитлер метнул взгляд в сторону начальника генерального штаба.
— Йодль! — хрипел он. — Brennt Paris? — Горит ли Париж?
В бункере наступило молчание. Даже обычно невозмутимый Йодль казался ошеломленным. Он сидел в своем кресле прямо и неподвижно.
— Йодль, — повторил Гитлер, ударив кулаком по столу и еще больше повысив голос, — я хочу знать, горит ли Париж? Горит ли Париж в данную минуту, Йодль?
Наконец, Йодль пошевелился. Шепотом он послал одного из помощников звонить в штаб Западного фронта, чтобы получить немедленный доклад о ходе взрывных работ в городе. Когда помощник ушел, Гитлер приказал Йодлю лично позвонить Моделю. Он велел Йодлю вновь повторить свой приказ о том, что Париж следует защищать «до последнего солдата». «Скажите ему, — орал Гитлер, — что Париж должен быть превращен в «груду обломков», прежде чем его захватят союзники».
Но затем, после паузы, Гитлер принял иное решение. Поскольку союзники все равно лишат его ракетных баз, он найдет им достойное применение. Вновь повернувшись к Йодлю, он приказал ему подготовить массированный обстрел Парижа всеми имеющимися ракетами Фау-1 и Фау-2 при поддержке всех имеющихся на Западном фронте самолетов люфтваффе. Если Париж действительно у него заберут, противник найдет там лишь «почерневшее поле руин».
Через несколько минут, выскочив с совещания, генерал Варлимонт заметил помощника Йодля, который энергично разговаривал по специальному телефону, подсоединенному к далекому подземному командному пункту в Марживале. «Фюрер, — с отчаянием в голосе говорил молодой офицер, — хочет знать: горит ли Париж?»
* * *
Париж, так быстро ускользавший из рук Гитлера, изобиловал уже разительными контрастами. На одном углу улицы толпы набрасывались на освободителей города, обезумев от восторга. На другом, среди дыма, свистящих пуль и неразберихи, эти же самые освободители приступали к выполнению своей задачи — медленно и зачастую с большими потерями ликвидировали опорные пункты Хольтица. На углу улицы рядом с Люксембургским дворцом лежало уже осыпанное цветами тело неизвестного американского рядового, который отправился вместе в Филиппом Дюплеем сводить счеты с танками Вилли Линке. Метко посланная пуля раскроила ему голову в нескольких ярдах от цели.
Неподалеку пара полугусеничных машин на бешеной скорости неслась по краю Марсова поля к Эйфелевой башне. Экипажи двух машин из полка спаги с гиканьем и лязгом гусениц катили к башне, словно возницы соревнующихся римских колесниц.
Несколько секунд назад, когда обе машины одновременно вырулили на аллею Адриенн-Лекуврё, их водители — капрал Пьер Лефевр и рядовой 1-го класса Этьен Крафт — бросили друг другу вызов: ужин в «Максиме» для экипажа, который окажется под башней первым. На время забыв о войне, экипажи двух огромных машин сломя голову помчались к башне. Проскакивая под ее опорами со скоростью 30 миль в час, Крафт подумал: «Бог мой, а что, если она заминирована?» Но тут же понял, что это не так и издал победный клич: гонку выиграл он.
Высоко над головой рядового 1-го класса Этьена Крафта внутри самой башни другой человек тоже участвовал в гонке. Его легкие разрывались, ноги ныли. Под мышкой он тащил тяжелый узел, перевязанный бельевой веревкой. Это был французский флаг. Впереди, сквозь ажурную металлическую сетку пожарник капитан Сарниге видел перед собой карабкающиеся фигуры двух людей, которых он пытался обогнать на пути к вершине Эйфелевой башни. Сарниге знал, что они тоже несли трехцветный флаг, чтобы установить его на самой макушке башни. Почти теряя сознание от усталости, Сарниге преследовал их все 1750 ступенек к вершине, во второй раз совершая это изнурительное восхождение, которое он уже однажды проделал — в 7.30 утра 13 июля 1940 года, чтобы в последний раз спустить флаг.
Сарниге продолжал карабкаться за ускользающими силуэтами соперников. В голове стучало, ноги налились свинцовой тяжестью словно в дурном сне. Он нагнал их, когда до вершины оставалось менее 200 ступеней. С выпученными от напряжения глазами, слишком обессилившие, чтобы говорить, трое человек шли вровень друг с другом весь последний участок. На вершине Сарниге рывком выскочил вперед. Он выиграл свою гонку. Из свертка он достал флаг, собственноручно сшитый неделю назад, и поднял его на флагштоке самого что ни на есть символа Парижа. Флаг был сделан из скрепленных вместе трех старых армейских простыней. Одна была покрашена в розовый цвет, другая — в линялый голубой, а третья была бледносерой. Но это были французские цвета, и в полдень 25 августа 1944 года флаг был вновь там, где ему и надлежало быть, — на вершине Эйфелевой башни.
6
«Ауген гераде аус! Смирно!»
При этих резких словах, прозвеневших под сводами обеденного зала, офицеры застыли по стойке «смирно». В комнату вошел Дитрих фон Хольтиц, затянутый все в тот же светло-серый мундир, который был на нем 19 дней назад во время встречи с Адольфом Гитлером; на шее его висел «железный крест», монокль с надменной суровостью поблескивал из глазницы. Торжественно и грузно он проследовал к своему обычному месту за столом. Несмотря на то, что на его лице читалась усталость, Хольтиц был аккуратен и подтянут. Он только что побрился и принял ванну, прежде чем надеть эту форму, чтобы в последний раз сыграть роль немецкого генерала.
Когда Хольтиц подошел к столу, полковник Яй попросил его не занимать свое обычное место — спиной к окну. «Нет, — мягко сказал Хольтиц, — сегодня я тем более сяду на свое обычное место». Генерал сел, и в этот момент часы в обеденном зале коротко пробили час дня.
Для капитана Жака Бране, тридцати лет, и двухсот его подчиненных, собравшихся на площади Шатле менее чем в одной миле от «Мёриса», час дня был временем наступления. Бране, решительный, с суровым голосом ветеран 2-й бронетанковой дивизии, получил приказ захватить немецкого генерала, сидевшего в обеденном зале отеля. Бране разделил своих людей на три группы. Первую он направил вдоль набережной Межиссери и далее через изящные проходы в боковых строениях Лувра, в сад Тюильри. Вторая группа должна была пройти мимо элегантных витрин на улице Сент-Оноре до Вандомской площади и оттуда штурмовать «Мёрис» с тылу. Третья группа, возглавляемая им самим, пойдет прямо через 130-летнюю аркаду улицы Риволи мимо Министерства финансов. Бране решил войти в штаб командующего округом Большого Парижа через парадную дверь.
Атака началась, как воскресная прогулка. От начала улицы Риволи Анри Карше — лейтенант, накануне выискивавший лицо сына на улицах Орсе, — повел своих пехотинцев и отделение ФФИ, подчинявшихся Ролю, к цели под приветственные возгласы толпы, которая была полна такого энтузиазма, что полиции пришлось силой ее сдерживать. Впереди, на всем протяжении длинной и прекрасной улицы, выстроенной в ознаменование одной из побед Наполеона над австрийцами, открывался поразительный вид: до площади Пале-Рояль и угла Тюильри все двери и окна были украшены трехцветными флагами. За Тюильри вплоть до площади Согласия над улицей развевался другой флаг — красно-черное знамя нацистской Германии.
Пока люди Карше перебегали от колонны к колонне вдоль улицы, к ним подскакивали женщины, чтобы поцеловать или бросить последний букетик цветов. На углу улицы Лавандьер-Сент-Оппортюн, известной своими публичными домами, крепкая рыжеволосая девица ринулась в объятья рядового 1-го класса Жака д’Этьена, наводчика танка «Лаффо». Не выдержав натиска ее пылкого штурма, д’Этьен кувыркнулся через голову и упал в танк на стеллаж со снарядами. Рыжая девица рухнула туда же. В это мгновение д’Этьен услышал в наушниках команду «Вперед!». Подняв глаза, д’Этьен увидел своего водителя Жака Нуда и сидящую рядом блондинку; тот пожал плечами и рванул «шерман» вперед. «Лаффо» с двумя новыми, хохочущими членами экипажа отправился штурмовать «Мёрис».
Пехотинцы Карше оставили счастливых гражданских далеко позади. Теперь улица впереди была пустынна, тиха и полна опасностей. Время от времени над головами его людей распахивалось окно. Они тут же направляли свое оружие в сторону звука. Но это был еще не Тюильри. За окнами все еще виднелись соотечественники, из-под прикрытия своих жилищ подхлестывавшие бойцов вперед.
В смотровые щели дота, установленного у начала Тюильри рядом с улицей Риволи, капитан Отто Ницки из армейского патруля тоже наблюдал за ними. Ему показалось, что это странное зрелище выглядит как «процессия на страстную неделю».
И в обеденном зале отеля «Мёрис» их тоже заметили. Капрал Майер незаметно подошел к фон Хольтицу и, почтительно склонившись над ним, прошептал своему командиру: «Идут, господин генерал».
* * *
Снаружи навстречу наступающим вдоль галерей улицы Риволи танкам Бране вывернул немецкий танк. Шедший впереди «шерман» «Дуомон» тут же навел на него свою 75-миллиметровую пушку. «Дуомон» разнес его с первого же выстрела.
После выстрела «Дуомона» вся улица разразилась стрельбой. В обеденном зале «Мёриса» ударной волной взрывающихся на улице снарядов были выбиты оконные рамы. Хольтиц стоически закончил свой обед. Затем, спокойный и невозмутимый, он поднялся, чтобы сказать несколько слов офицерам, ждавшим его ухода, чтобы немедленно удрать из опасного теперь помещения.
— Господа, — сказал он, — начался наш последний бой. Да хранит вас Бог. — И добавил, — я надеюсь, что уцелевшие попадут в руки регулярной армии, а не толпы. — Закончив, он медленно вышел из комнаты.
Поднимаясь вместе с фон Арнимом по лестнице на второй этаж, где находился его кабинет, Хольтиц остановился у сложенного на площадке штабеля из мешков с песком. Укрывавшемуся за ними седовласому солдату, нацелившему свой пулемет на вход в отель, Хольтиц сказал что-то подбадривающее.
— В Мюнстере, — пробормотал в ответ старый солдат, — моя ферма, моя жена… Они ждут меня пять лет.
Проходя мимо, фон Арним с грустью посмотрел на старика и подумал, что ради него он когда-нибудь съездит посмотреть его мюнстерскую ферму.
В это время из своего дота на углу улицы Риволи капитан Отто Ницки открыл уничтожающий огонь по наступающим бойцам Карше. Следя за полетом трассирующих пуль, прочерчивавших свой путь вдоль изящных очертаний галерей, Ницки считал людей Карше, один за другим падавших на тротуар.
Из другого обложенного мешками опорного пункта на площади Пирамид лейтенант Генрих Тиргартнер подключился к Ницки огнем своего пулемета, в результате чего люди Карше попали под перекрестный обстрел.
Прижатые огнем пулеметов к мостовой, Карше и его люди оказались в безвыходном положении. Не было больше ни приветственных возгласов, ни цветов. «Бога ради, «Митуз», пулемет!» — завопил Карше. В то время как его люди вели обстрел сложенной из мешков с песком баррикады Генриха Тиргартнера, они вдруг заметили, как какой-то старик в эспаньолке и с антикварным охотничьим ружьем в руке вышел на огневой рубеж, приставил свое древнее оружие к плечу и послал дымный заряд в сторону солдат Тиргартнера. После чего с сияющим от счастья лицом исчез в глубине той же улицы, из которой только что появился.
Увидев, что его пехотное сопровождение сковано, Бране приказал танкам выдвинуться вперед и сломить сопротивление противника, сдерживавшего Карше. Ведомые сержантом Марселем Бизьяном — маленьким бретонцем из «Дуомона», поклявшимся, что его родственники будут гордиться этим днем, — пять танков покатили мимо залегших солдат Карше. Выезжая на площадь Пирамид, Жак д’Эть-ен, наводчик «Лаффо», увидел трех немцев, мчавшихся мимо статуи Жанны д’Арк, в каких-нибудь 30 ярдах впереди. Д’Этьен выстрелил. В то же мгновение он испытал и ужас, и экстаз, наблюдая, как оторванные конечности немцев разлетаются в воздухе словно кошмарный букет, на какую-то долю секунды окаймивший позолоченную фигуру Орлеанской девы.
* * *
Прохаживаясь по кабинету, наполненному теперь звуками орудийной стрельбы, Дитрих фон Хольтиц диктовал последнее письмо. Оно было адресовано генеральному консулу Нордлингу. На рассвете красавица Цита Креббен и другие немки были переданы под опеку Красного Креста. Кроме верного капрала, не осталось никого, кому генерал мог бы продиктовать это письмо. «Уважаемый господин Нордлинг, — начиналось оно, — я хотел бы выразить вам свою глубокую благодарность». Хольтиц прервался, сделал несколько шагов к окну и тут же вздрогнул: противник был уже здесь. Прямо под балконом, на котором он столько раз стоял в растерянности последние две недели, Хольтиц увидел «шерман». Люк башни был открыт, пушка описывала грациозную дугу в сторону отеля. Как зачарованный, смотрел Хольтиц на черный берет командира, высовывавшийся из открытой башни танка. Ему захотелось узнать, кто это был: француз или американец. Затем он подумал, что кто бы там ни был, «бой этот не казался ему серьезным, раз он оставил открытым люк башни». Рядом с Хольтицем на разворачивающуюся к двери отеля пушку смотрел фон Арним. «Господи, — удивился он, — что он собирается делать?»
— Полагаю, — ответил Хольтиц, — он собирается воспользоваться ею. Будет немного шумно, и у нас будут неприятности. — Когда они повернулись, чтобы отойти от окна, немецкий солдат на крыше бросил в открытую башню гранату.
Лейтенант Альбер Бенар, командир танка «Морт-Омм», почувствовал, как она ударила его по голове и соскользнула по спине в башню. Иссеченный ее осколками с головы до пояса, Бенар выбрался из дымящегося, охваченного пламенем танка. Наводчик вылез следом. Оставшись один, задыхающийся от дыма Жан Рене Шампьон попытался увести машину вперед, в укрытие.
Наблюдая, как Бенар и его наводчик катаются по асфальту, пытаясь потушить горящую одежду, немцы на какое-то время прекратили огонь. На крыше штаба ВМФ капитан-лейтенант Гарри Лейтхольд приказал солдатам не стрелять по раненым французам. В следующий момент Лейтхольд увидел, как из-за шлейфа черного дыма от «Морт-Омма» появляются, тяжело громыхая гусеницами, остальные «шерманы» Бране. Лейтхольд тут же сообразил, что они выйдут во фланг «пантере», стоящей у входа в Тюильри со стороны площади Согласия. Лейтхольд предпринял отчаянную попытку подать сигнал командиру «пантеры». Из ствола 88-миллиметровой пушки «пантеры» вырвалось пламя. Командир танка был слишком занят другой целью, появившейся в начале Елисейских полей.
В том конце Елисейских полей, у их пересечения с площадью Звезды, заряд, только что выпущенный «пантерой», срезал последний газовый фонарь на этом широком проспекте. Стеклянные брызги обрушились на башню противотанкового самоходного орудия, проезжавшего в этот момент перед Триумфальной аркой. Это был «Симун». В его тесных отсеках над всеми запахами войны доминировал особый запах: смрад от протухшей утки, все еще лежавшей на снарядном стеллаже «Симуна». Еще два снаряда пролетели над «Симуном». Первый отколол кусок основания скульптуры «Марсельеза». Второй пролетел под самой крупной Триумфальной аркой в мире, прямо над головами полковника Поля де Ланглада и майора Анри де Миранбо, решивших спешно отдать дань уважения могиле Неизвестного солдата Франции, прежде чем пойти штурмом на находящийся рядом отель «Мажзстик».
На площади Звезды второй помощник Поль Квиньон, командовавший «Симуном», направил свой полевой бинокль на «пантеру». Наводчику Роберу Мади он приказал зарядить кумулятивный снаряд. Сообщил Мади дальность: 1500 метров. Мади установил эту дальность на прицеле, но потом засомневался. Не говоря ни слова Квиньону, он перевел прицел еще на три деления, установив дальность 1800 метров. Парижанин Мади вовремя вспомнил, что когда-то давным-давно он читал в «Альманак вер-мо» — самом распространенном французском альманахе, — что длина Елисейских полей от Триумфальной арки до Обелиска составляет 1800 метров. Мади выстрелил. Альманах был прав. Первый же снаряд попал в «пантеру». Наблюдая за столбом черного дыма, поднимающегося над покалеченным танком, Мади вдруг подумал: «Боже правый, если бы я выстрелил на два метра вправо, то сбил бы Обелиск!»
Из заложенного мешками окна отеля «Крийон» сержант Эрих Вандамм наблюдал, как поднимается дым из того места, где снаряд Мади разорвал одну из гусениц «пантеры». В этот момент по улице Риволи подкатила колонна «шерманов» и развернулась к подбитому танку.
В «Дуомоне», возглавлявшем процессию, за которой наблюдал Вандамм, сержант Марсель Бизьян тоже увидел «пантеру». «Танк бошей слева! — завопил он наводчику. — Огонь!» Кумулятивный снаряд врезался в броню «пантеры», не повредив ее. Теперь уже Бизьян мог наблюдать, как башня немецкого танка с его смертоносной 88-миллимет-ровой пушкой медленно разворачивается в их сторону. Внутри немецкого танка его экипаж поворачивал башню вручную, поскольку снаряд Мади повредил систему электропитания. «Бронебойный, Христа ради!» — заорал Бизьян. Внизу наводчик шарил в дыму, заполнявшим башню «Дуомона», в поисках снаряда. «Огонь!» — скомандовал Бизьян.
Снаряд поразил «пантеру». От нее начали подниматься клубы дыма: в темноте башни наводчик Бизьяна зарядил дымовой снаряд вместо бронебойного. Теперь «пантера» была уже в каких-нибудь 30 ярдах от танка Бизьяна. В считанные секунды, прежде чем «Дуомон» сможет выстрелить опять, немецкая 88-миллиметровка разнесет «Дуомон» в клочья. В одно мгновение потомок бретонских рейдеров сообразил, что его единственная надежда — это врезаться в немецкий танк раньше, чем он выстрелит. «Тарань его!» — приказал Бизьян. Водитель Жорж Канпийо надавил на педаль газа, резко бросив машину вперед. Со своего наблюдательного пункта на крыше штаба ВМФ капитан-лейтенант Лейтхольд видел, как «шерман», словно локомотив, ринулся сквозь окутывавший «пантеру» дым. Ему подумалось, что это зрелище выглядело, как «средневековый турнир».
В башне своего танка Бизьян приготовился к столкновению. Канпийо прижался к металлической спинке сиденья, чтобы погасить удар. Пушки двух танков скрестились, как шпаги. В фонтане искр и громовом грохоте семьдесят тонн металла сшиблись в центре прекраснейшей площади в мире. Вскоре эхо удара замерло, и на площади воцарилась гнетущая тишина.
Оглушенные, задыхающиеся от дыма экипажи обоих танков в полусознательном состоянии лежали в своих машинах. Медленно приходя в себя, первым пошевелился Бизьян. Водителю Канпийо он указал на стройные очертания Обелиска, проступавшие сквозь дым над ними, «как мачта корабля в тумане». Бретонец отстегнул свой кольт и выпрыгнул из танка, направляясь к стоявшей рядом «пантере». Оставшийся в «Дуомоне» Канпийо услышал глухой взрыв гранаты. Затем из дыма появился чертыхающийся Бизьян. «Смылись все, сукины дети», — сказал он.
Все еще зачарованно наблюдая в свой полевой бинокль, Лейтхольд увидел, как «шерман» собственным ходом начал сдавать назад. В этот момент раздалось несколько выстрелов, и высовывавшийся из башни человек упал вперед. Это был сержант Бизьян; пуля попала ему в шею. Триумф бретонца, хотевшего, чтобы предки гордились им, продолжался лишь несколько минут — ровно столько, чтобы вкусить прелесть выполненного обещания и умереть.
* * *
В «Мёрисе» мрачный, смирившийся со своей участью Хольтиц только что принял решение. Это было как раз то решение, на которое надеялся Бендер, когда по собственной инициативе заявил французам, что командующий округом Большого Парижа сдаст все опорные пункты, как только сам будет взят в плен. Несколько минут назад Яй сказал своему старому другу: «Теперь вам пора решиться. Либо вы сидите здесь и целый день играете с американцами в прятки, либо сдаетесь и кладете конец всей этой чертовщине».
Грустный и растерянный Хольтиц размышлял. Он понял, что не может обрекать своих людей на смерть в долгом и бесполезном сражении, которое не имеет никакого смысла. Он вызвал Унгера. Если отель попытаются взять бойцы ФФИ, приказал он, то бой следует продолжать. Если первыми подойдут регулярные части, то после нескольких выстрелов комендант здания должен будет сдаться. Он приказал Унгеру спустить флаг, когда в здание войдут союзники. Затем покинул свой кабинет, чтобы ждать их в небольшой комнате, выходящей в защищенный внутренний двор.
В спальне Хольтица капрал Майер аккуратно и тщательно — чувствовалась семилетняя выучка — в последний раз укладывал чемодан для коменданта Большого Парижа. Туда он положил три рубашки, китель, носки, белье и пару генеральских брюк с темно-красными лампасами. В другой комнате граф фон Арним засовывал в сумку несколько плиток шоколада, толстый свитер, связанный его матерью в прошлую зиму, и две книги. Одна из них была «История Франции» Жака Бенвиля, другая — «Война и мир».
На улице французы подтягивались к отелю. Рванувшись через улицу Риволи за клубами дыма, три бойца хлопнулись на землю у ворот Тюильри. Осматриваясь вокруг сквозь дым, один из них, лейтенант Анри Рикебюс, с ужасом увидел, что в качестве укрытия выбрал себе место прямо напротив щели немецкого дота. Шаря в дыму рукой, он почувствовал, как ладонь ему обжег раскаленный металл. Это был ствол торчащего из дота пулемета, брошенного оборонявшимися несколько секунд назад.
На другой стороне Тюильри капрал Жорж Тиолла из «шермана» «Франшвиль» увидел, что его бронебойный снаряд угодил в гусеницы «пантеры», притаившейся у Оранжереи и развернувшей свою пушку в сторону противоположного берега Сены. Получив такое предупреждение, «пантера» начала разворачивать свою башню в сторону танка Тиолла. Второй выстрел «Франшвиля» не достиг цели, и Тиолла ахнул от отчаяния. Следующий выстрел был за «пантерой». И тут он увидел, что пушка танка замерла: ее медленное движение в его сторону было остановлено стволом дерева, оказавшимся возле танка.
На другом конце сада смертоносным дождем ручных гранат и огнем базук из зданий по обе стороны улицы Риволи три из пяти танков, начавших атаку, были уже выведены из строя. Драматург Ирвин Шоу, в то время рядовой армейской фотослужбы, видел, как один из них покинул поле боя с развороченной задней стенкой. Разъяренный смертью товарищей экипаж «Лаффо», одного из двух уцелевших танков, открыл беспорядочную стрельбу, израсходовав почти весь боезапас в 90 снарядов, от которых осталось с десяток.
«„Лаффо“, — приказал разъяренный капитан Бране, — прекратите огонь! Вы расстреливаете красивейшую площадь в мире». Как только затихли его слова, другой голос объявил экипажу «Лаффо», что Пьер Лель в «Монфоконе» убит, а его танк выведен из строя.
— Дерьмово! — подумал наводчик «Лаффо» Жак д’Этьен. — Мы остались последними.
7
Позади отеля «Мёрис» лейтенант Марсель Кристан разглядывал цепочку машин, горевших, как факелы, на всем протяжении улиц Кастильон и Сент-Оноре. «Бог мой, — подумал он, — должно быть, точно так же начинался Сталинград!» Прямо напротив стоял в руинах отель «Континенталь» — с выбитыми окнами, изрешеченным и проломленным фасадом; на улице валялись тела убитых немцев. Выхватив свой кольт, молодой лейтенант, накануне в числе первых участвовавший в штурме тюрьмы «Френе», выпрыгнул из танка. Вдвоем с водителем Анри Вийеттом они короткими перебежками добрались до входа в отель. Оттуда вдруг вывалился, спотыкаясь, маленький немецкий капитан с каской в руке. «Сдавайся!» — крикнул эльзасец Кристан по-немецки. Расстроенный капитан промямлил «йа» и поднял руки. Толкая его перед собой, оба француза вошли в отель. Навстречу им друг за другом сплошным потоком устремились немцы с поднятыми над головой руками. Каждый раз, замечая немца с «железным крестом», Вийетт срывал его. Он собирал их еще с Ливии. В его танкистском поясе уже было семнадцать, но никогда еще Вийетт не набредал на такие залежи, как в отеле «Континенталь».
Этаж за этажом эти два бойца очистили отель. На шестом этаже Кристан услышал тихие стоны, доносившиеся из-за одной из дверей. Распахнув ее ногой, он обнаружил в комнате прикованных цепью к стене американских пленных, изнемогающих от усталости и голода.
— Порядок, ребята, вы свободны! — произнес изумленный француз.
На нижнем этаже вслед за Кристаном в отель ворвалась группа пехотинцев. Они окружили остальных немцев. Было 2.30 дня. Пал первый «штюцпункт» Хольтица.
* * *
Перед отелем «Мёрис» бой разгорался все жарче. Лейтенант Ив Брекар был так занят увертыванием от пуль Отто Ницки, пронизывавших все пространство над Тюильри, что немецкому офицеру, выползшему из кустов сдаваться, смог сказать лишь: «Подожди минутку, я возьму тебя в плен позже». На углу улицы Сен-Рош наводчик д’Этьен танка «Лаффо», последнего уцелевшего «шермана» из тех, что так беззаботно шествовали по улице Риволи 90 минут назад, увидел упавшего на землю офицера, изуродованного осколками гранаты. Это был капитан Бране, хотевший войти в отель «Мёрис» через парадную дверь. Спустя несколько секунд граната разорвала вентиляционную трубу «Лаффо», ранив д’Этьена и его водителя. Танк развернулся и помчался назад, к пункту ремонта на площади Шатле, где уже находились «Монфокон» и «Вийе-Коттере». Экипаж «Дуомона» бросил свой танк на площади Согласия, оставив внутри тело Марселя Бизьяна. На улице Рояль «Морт-Омм», в котором укрылся Жан Рене Шампьон, сгорел до тла.
На несколько секунд над улицей Риволи повисла тишина. Затем от площади Согласия подошла танковая рота капитана Жоржа Бюи, чтобы продолжить атаку. Проезжая по широкой площади, Бюи увидел слева от башни своего танка «Норуей» обугленный каркас «Гран пале». «Вот это груда!» — пробормотал он наводчику Анри Жаку. Наводчик согласился. «А что если мы его прикончим?» — спросил Бюи. Хмыкнув, Жак начал искать на стеллажах зажигательный снаряд.
Через несколько секунд он с грустью объявил своему капитану, что зажигательных не осталось. Разрывной, добавил он, здесь не поможет.
— Жаль, — ответил Бюи. Расстроенные, они покатили дальше к отелю «Мёрис».
* * *
Впереди Анри Карше увидел надпись, выведенную на овальной доске: ОТЕЛЬ «МЁРИС» — ЧАЙ — РЕСТОРАН. За несколько секунд до этого лейтенант так близко стоял лицом к лицу со смертью, как никогда раньше. В тот миг, когда он повернул голову, чтобы отдать приказание стоявшему сзади солдату, его левую бровь опалила трассирующая пуля. Он сообразил, что если бы не повернул голову, то пуля попала бы в глаз и прошла через мозг. Подходя к двери отеля, Карше вспомнил, что уже бывал здесь. Как раз накануне войны, когда знакомый газетчик пригласил его «выпить по бокалу с королевой Румынии».
С автоматом наперевес Карше в сопровождении трех человек ворвался в отель. Прямо перед собой Карше увидел огромный портрет Гитлера, венчавший витрину с драгоценностями, вечерними дамскими сумочками и косметикой. Витрина рассыпалась на мелкие кусочки: первой же реакцией Карше в резиденции немецкого коменданта Большого Парижа было выстрелить по фюреру. Из-за мешков с песком на первой лестничной площадке по Карше открыл огонь старый солдат из Мюнстера. Карше присел за стойкой регистрации и выдернул из пояса черный шар. Это была фосфорная граната. Вырвав зубами чеку, он швырнул гранату в вестибюль. Позади Карше рядовой 1-го класса Вальтер Герреман, эльзасец, направил свой огнемет на кабину лифта. В тот же миг Герреман увидел, как по лестнице, подпрыгивая на ступеньках, покатилась немецкая каска. Она принадлежала старому фермеру из Мюнстера, убитому гранатой Карше.
В клубах едкого дыма, заполнившего вестибюль, появилась фигура немецкого офицера с поднятыми вверх руками. Карше подскочил к нему и упер в живот дуло автомата. Герреман перевел приказ Карше: «Выходи по одному, руки вверх, оружие в сторону!». Немец прокричал команду. Стрельба прекратилась, и один за другим покрытые кровью и потом солдаты, оборонявшиеся на первом этаже отеля, стали появляться из клубов дыма навстречу Карше и трем его солдатам. Немецкий офицер в генеральских брюках с красными лампасами спустился по лестнице, перешагнув через тело старого солдата из Мюнстера, и направился в сторону Карше. Карше метнулся к нему. «Где, — спросил он, — ваш генерал?»
* * *
Генерал сидел за длинным столом в маленькой комнате, этажом выше от того места, где находился Карше. Обхватив голову руками, Дитрих фон Хольтиц, казалось, был погружен в свои мысли. На столе перед ним в перевернутой вверх дном офицерской фуражке лежала коричневая кожаная кобура с пистолетом калибра 6,35, вместе с которым он вскоре сдаст свой гарнизон. Хольтицу пришлось одолжить пистолет, ибо своего у него не было. Рядом ожидали Унгер, Яй, Брессендорф и Арним. Они тоже сложили свои пистолеты на стол, словно средневековые воины, бросающие мечи на щиты своих победителей. Это был тяжкий и мучительный момент, который каждый из них переживал по-своему. В навалившейся на них тишине эти последние представители воинства, которое на протяжении четырех лет держало в оковах своей безжалостной власти один из прекраснейших городов мира, подводили для себя личный итог.
Спокойный и отчужденный Хольтиц ожидал развязки без всяких эмоций. Ему не в чем было, считал он, себя укорять. Его солдаты в этот момент выполняли приказ фюрера «сражаться до последнего патрона». Его солдатская честь не пострадала, и он, как только сам станет пленником, сможет, не уронив чести, приказать своим людям сдаться. С другой стороны, он мог теперь без страха и стыда ждать суда истории. Он не позволил мстительному Гитлеру заставить себя сыграть роль палача этого города, в который судьба забросила его девятнадцать дней назад. В эти последние минуты свободы Хольтиц со всей искренностью был убежден, что в Париже он не замарал своего имени и достойно послужил своему народу.
У стоявшего слева от него франтоватого и учтивого полковника Яя были другие мысли. Он совершал воображаемую поездку. После того как наступит нависшая над Германией катастрофа, когда союзники разделят между собой рун™ его страны, для подобных ему, думал он, почти не останется места. Куда, спрашивал себя Яй, он направится?
Молодому Эрнсту фон Брессенсдорфу казалось, что такой конец открывает «чудесную перспективу начала новой жизни».
Стоявший рядом его молодой друг граф фон Арним думал, что наконец эта война, «отнявшая лучшие годы жизни», закончилась. Но что было странно, перед приближающимся концом никто не выглядел более безмятежным, чем холодный, неприступный и суровый фон Унгер. Арним заметил, как стоявший справа от Хольтица полковник, черты лица которого вдруг стали мягче, а из блиставшей военной выправкой фигуры на глазах улетучивалась жестокость, с нежностью перебирал фотографии своих детей, вложенные в бумажник, который он только что извлек из кармана.
Когда дверь открылась, Хольтиц поднял голову. В дверях стоял капрал Майер. Второй раз в течение последних двух часов капрал слегка щелкнул каблуками и объявил: «Идут, господин генерал».
* * *
На этот раз «они» были на другом конце коридора. У основания ведущей на верхние этажи лестницы Карше только что встретил группу молчаливых офицеров с поднятыми вверх руками. Когда Карше появился, один из них разразился истерическим смехом. Это был лысый лейтенантик, на чистом французском завопивший: «Это самый счастливый день в моей жизни! Я австриец. Я ненавижу этих нацистов. Всю войну мне удавалось уклоняться от отправки на фронт. Три дня назад они прислали меня сюда. Я так рад вас видеть!» С этими словами лысый офицер бросился к ногам Карше и стал целовать его сапоги.
Идя задымленным коридором к ожидавшему его трофею, Карше почувствовал, как у него стучит в висках. Впереди него только что спустившиеся по лестнице офицеры, так и не опуская поднятых рук, указывали дорогу. «Сейчас ты не должен ударить в грязь лицом», — сказал себе Карше. При этой мысли в мозгу его пронеслась вереница воспоминаний. Он увидел лица друзей, которых оставил на дороге в этот гостиничный коридор: Луазо, брата которого он встретил ранее; человека, чей кольт сжимал сейчас в руке; людей, которых, в некотором смысле, будет представлять в приближающиеся минуты триумфа, когда ему сдастся немецкий офицер, оккупировавший столицу его страны. Карше открыл дверь в комнату, указанную ему шедшим впереди офицером. Хольтиц встал. Карше вытянулся по стойке «смирно» и отсалютовал.
— Лейтенант Анри Карше из армии генерала де Голля, — объявил он.
— Генерал фон Хольтиц, комендант Большого Парижа, — ответил немец.
Карше спросил Хольтица, готов ли тот сдаться.
— Йа, — ответил Хольтиц.
— В таком случае, — сказал Карше, — вы мой пленник.
— Йа, — повторил Хольтиц.
В этот момент в комнату вошел еще один французский офицер. При виде майора Жана де ла Ори полковник Яй слегка приподнял брови. До войны эти два человека вели иные сражения на скаловых дорожках Европы, где каждый из них участвовал в скачках в составе конников своей армии. Встретившись глазами, оба почти незаметно кивнули друг другу. Ла Ори повернулся к Хольтицу. Через переводчика он сказал ему: «Генерал, вы хотели сражения. У вас оно было, и мы за него заплатили высокую цену. Я требую, чтобы вы приказали всем своим опорным пунктам в городе прекратить сопротивление».
Церемонно повернувшись к Карше, ла Ори добавил: «Уважаемый коллега, не позаботитесь ли вы об остальных?» Затем он приказал Хольтицу следовать за ним. Пруссак пожал руку Яю и Унгеру, пробормотал каждому «Хальс унд бейн брух»[32] и, надев фуражку, удалился.
После их ухода Карше потребовал осмотра штаба гарнизона Большого Парижа. Сопровождать его вызвался фон Унгер. В бывшем кабинете Хольтица Карше заметил на столе генерала аккуратно упакованный сверток ткани.
— Что это? — спросил он Унгера.
— Это флаг гарнизона Большого Парижа, — ответил Унгер. Он был спущен, пояснил Унгер, когда Карше вошел в здание.
— В таком случае, — сказал Карше, — вы должны отдать его мне.
Они были одни в задымленной комнате. До окон долетали прерывистые звуки перестрелки, продолжавшейся в Тюильри и на площади Согласия. С тротуаров под окнами послышался разноголосый гомон. Это были шум толпы, уже подбиравшейся поближе к дверям «Мёриса». Оба офицера встали навытяжку лицом друг к другу, отсалютовали, после чего Унгер торжественно вручил своему молодому французскому пленителю огромное красно-черное знамя, которое в течение четырех лет, двух месяцев и десяти дней развевалось на флагштоке дома № 228 по улице Риволи.
После завершения этой короткой церемонии Карше снял — трубку парижского телефона на столе Хольтица и набрал номер.
— Отёй 04.21? — спросил он, когда телефон ответил. — Ну вот, папа, — объявил Карше своему отчиму, отставному генералу, не разделявшему его любви к де Голлю, — свидетельствую вам свое почтение. Это лейтенант Анри Карше. Несмотря на ваши мрачные предсказания по поводу моей военной карьеры, я счастлив объявить вам, что только что захватил немецкого генерала, его штаб и его знамя.
На улице майор де ла Ори с револьвером в руках сражался за жизнь своего пленника. Непроницаемый Дитрих фон Хольтиц воспринимал ярость жаждущей мести толпы с чувством собственного достоинства. По дороге женщины с искаженными от ненависти лицами цеплялись за его форму, пытались сорвать погоны, плевали в него. Мужчины кричали «сукин сын!» В приятном зрелище, каковое представлял собой пленный немецкий генерал с высоко поднятыми руками, народ, на протяжении четырех лет нацистской оккупации сносивший зверства, оковы и репрессии, удовлетворял инстинктивно возникающее чувство мести.
«Они меня растерзают», — подумал Хольтиц. За спиной он слышал пыхтение верного ординарца капрала Майера. В одной руке Майер сжимал чемодан, который столь тщательно подготовил для этого тяжкого путешествия в тюремную камеру. Усталый Хольтиц чувствовал, как с каждым шагом его руки опускаются все ниже. «Выше, выше, генерал, — прошептал Майер. — Если вы не будете держать их вверх, они вас убьют!»
По всей улице Риволи перед ними волной катилась произносимая торжествующим тоном фраза: «Ле женераль бош, ле женераль бош!»[33] На площади Пирамид женщина лет сорока с перекошенным от ненависти лицом выскочила ему навстречу. «Подонок!» — взвизгнула она, после чего откинула голову назад и, словно змея, резко выбросила ее вперед, посылая здоровенный плевок, который угодил ему на скулу, прямо под моноклем.
В этот момент женщина в форме Красного Креста встала рядом с ним и, негодуя и сердясь, прикрыла его своим телом от толпы. Тронутый этим редким знаком сочувствия, Хольтиц, проходивший в этот момент позади позолоченной статуи Жанны д’Арк, прошептал своей покровительнице: «Мадам, вы как Жанна д’Арк».
Ла Ори, наконец, заметил полугусеничную машину, к которой вел пленного. В сутолоке француз забыл про капрала Майера. Ординарец с ужасом увидел, что машина трогается без него, оставляя его одного посреди жаждущей мести толпы парижан.
В этот момент боец ФФИ прикладом ружья выбил из рук Майера генеральский чемодан. Чемодан раскрылся, и француз начал извлекать запасные форменные брюки и китель, которые Майер так тщательно упаковал для этого путешествия. Майер, не обращая внимания на оставленные вещи и отбиваясь от рук, которые уже тянулись к его одежде, отчаянным усилием рванулся вперед и уцепился за борт удаляющейся машины. С облегчением он увидел над собой фигуру Хольтица.
Хольтиц впервые не обратил на него внимания. Как завороженный, он наблюдал за зрелищем, которого никогда не забудет. Он увидел гротескную фигуру уродливой парижанки, танцевавшей дикую карманьолу на асфальте улицы Риволи. Над головой она победно размахивала собственным трофеем, добытым в день освобождения ее родного города. Это была пара брюк… и вдоль их швов шли величественные бордового цвета лампасы офицера вермахта в генеральском чине.
8
В самом сердце Парижа, в отделанном панелями банкетном зале Префектуры полиции, располагавшейся напротив Нотр-Дам, другой генерал в мятой, покрытой пылью форме только что принялся за поздний обед. Впервые на его суровом пикардийском лице появилась улыбка. Жак Филипп Леклерк выполнил клятву, данную самому себе в Ливийской пустыне. Он стал освободителем Парижа. По одной из счастливых исторических случайностей момент его полного триумфа должен был наступить день в день, почти минута в минуту через четыре года с того момента, как он отправился в обратный путь, в столицу своей страны. Это путешествие началось под палящим африканским солнцем в середине дня 25 августа 1940 года на берегах реки Вури в Камеруне, когда от имени Шарля де Голля отправился на отвоевание первого уголка Французской империи. Леклерк начал свое путешествие в пироге с семнадцатью другими людьми: тремя офицерами, двумя миссионерами, семью фермерами и пятью гражданскими служащими. Он закончил его с 16 тысячами солдат и самым современным вооружением во французской армии.
Для командующего 2-й бронетанковой этот праздничный обед продлился не далее блюда с закуской. Один из помощников на цыпочках подошел к нему и прошептал что-то на ухо. Леклерк встал и вышел в соседнюю комнату. Это была бильярдная. Там, за бильярдным столом, Леклерк приготовился принять формальную сдачу столицы его страны ее последним немецким комендантом.
Снаружи донеслись выкрики и свист толпы, собравшейся во дворе здания, которое пять дней назад Хольтиц решил превратить в руины. Дверь отворилась. В комнату вошел краснолицый, страдающий одышкой немец. Генерал приблизился к Леклерку, и оба представились друг другу: Хольтиц — начищенный и свежевыбритый, затянутый в полную форму и обливающийся в ней потом; Леклерк — в полевой форме с расстегнутым воротничком, с прилипшей в уголке рта крошкой. Глядя на первого в своей жизни французского генерала, Хольтиц удивился, как «неофициально» тот выглядел. По этому историческому случаю на Леклерке была грязная рубашка цвета хаки и американские солдатские ботинки. Он не надел наград, и единственным знаком различия были соответствующие его званию звезды, приколотые к нарукавным нашивкам.
Генералы коротко обсудили условия уже отпечатанного на машинке документа о сдаче. В это время в комнате произошло движение. Коммунист полковник Роль, разгневанный тем, что его даже не пригласили наблюдать за сдачей города, за который он сражался шесть дней, требовал впустить его. Леклерк не стал возражать. Затем Морис Кригель-Вальримон, словоохотливый член КОМАК от коммунистов, которому партия поручила наблюдать за Префектурой, настоял на том, чтобы имя Роля значилось на документе рядом с именем Леклерка. Выведенный из себя, Леклерк согласился.
Леклерк потребовал, чтобы Хольтиц приказал прекратить огонь, а чтобы обеспечить выполнение приказа, послать немца, француза и американца в каждый опорный пункт. Затем вместе с Хольтицом Леклерк отправился в штаб на вокзале Монпарнас. Когда они взбирались в его штабную машину, водитель Леклерка с презрением посмотрел на этого краснолицего, пыхтящего генерала, который всего несколько часов назад еще распоряжался судьбой Парижа. «Ты смотри, толстая свинья еще суетится», — сказал он.
* * *
По мере того, как слухи о капитуляции Хольтица расползались по Парижу, город, и без того уже обезумевший от восторга, все больше впадал в транс. Вероятно, никогда ранее ни один город не раскрывал столь широко своего сердца, как Париж в тот день. По мнению военного корреспондента Эрни Пайла, массовое выражение радости горожанами было «самым прекрасным, самым ярким событием нашего времени». «Описывать сегодняшний Париж словами, — писал его коллега Эд Болл, — это все равно что рисовать закат черной и белой красками».
Париж жил и любил, аплодировал и плакал, танцевал и, время от времени, умирал на протяжении всего этого чудесного дня с такой силой, которая делала честь даже его веселому галльскому характеру.
Ничто так не трогало освободителей города, оказавшихся посреди ликующих, счастливых толп, как спонтанная щедрость города, горевшего желанием поделиться тем немногим, что оставалось после четырех лет оккупации. Проходящим войскам толпы вновь и вновь кричали «мерси, мерси». «Ах, Париж, — даже двадцать лет спустя вспоминал сержант Дуглас Кимболл из Франклина, штат Нью-Хемпшир, — его «мерси» будет всегда звучать у меня в ушах».
В коробке на заднем сиденье джипа сержанта Дона Флэннегана бегал любимец роты кролик Дженни, тощее животное, освобожденное на нормандской ферме. Остановившись на какое-то время посреди толпы, Флэннеган заметил пробиравшегося к нему француза, в руках которого трепыхался огромный жирный кролик. Француз увидел костлявого Дженни и в трогательном порыве решил, что он предложит Флэннегану кролика, который будет повкуснее, чем то дохлое животное, что было в джипе. С большим трудом Флэннеган убедил своего изумленного благодетеля, что Дженни не предназначался для еды.
Но еще больше, чем какие-либо подарки от анонимной толпы, прибывающих воинов смущала огромная благодарность всего народа. К тому времени, когда рядовой 1-го класса Джордж Макинтайр из роты «Б», уроженец Нью-Джерси, прибыл на площадь Звезды, он уже попадал в объятия столько раз, что «думал, что у него переломаны ребра». Макинтайр, «маленького роста, почти лысый, во рту лишь половина зубов», спрыгнул со своего буксируемого трактором бульдозера, чтобы отдохнуть. Усевшись, он увидел, как «прекрасная восемнадцатилетняя девушка» проталкивается к нему через кольцо обступивших его людей. Не меньше десяти секунд она внимательно разглядывала небритого, грязного солдатика. Стоявшие вокруг люди притихли. Вдруг ее лицо озарилось счастьем, и она воскликнула: «Народ Франции вновь может поднять голову. Мы благодарим Господа за наших освободителей. Да здравствует Америка! Да здравствует Франция!» После этих слов она бросилась на сидевшего с открытым ртом солдата и поцеловала его. Затем, покрывая его руки поцелуями, она опустилась перед ним на колени. Глубоко тронутый и не менее смущенный Макинтайр поднял эту прекрасную девушку и сам поцеловал ее, на этот раз под радостные вопли толпы. Солдатику из Нью-Джерси, глаза которого наполнились слезами, показалось, будто «все тяготы войны отступили перед трогательным поступком одной девушки».
* * *
В своей двухкомнатной квартире по улице Ришелье, 102, мадам Жак Жюже прислушивалась к радостным воплям толпы под окнами. Почтенная вдова, которой исполнился уже 71 год, улыбалась этому шуму с легкой печалью. В Париже она была одинока, отрезана от своей семьи и встречала День освобождения так же, как провела почти весь период оккупации, — один на один со своими мыслями. Она не расслышала, когда в дверь постучали в первый раз. Наконец она услышала стук, но решила, что это ошибка. Когда постучали в третий раз, она со страхом пошла открывать.
За дверью стоял улыбающийся гигант в странной форме. Он полез в карман, и таким образом в День освобождения первый же американец, которого увидела мадам Жюже в своей жизни, вручил ей письмо. Это было письмо от ее единственного сына, проживавшего за 3600 миль от Парижа, в другой стране, которую она совсем не знала. Пришедший к ней военный оказался подполковником Ги Стоуном. Сын мадам Жюже был соседом Стоуна в Фо-рест-Хиллз, штат Нью-Йорк. В тот вечер, когда Стоун покидал Соединенные Штаты, Жюже дал ему это письмо. «Оно принесет тебе удачу», — сказал он. Это письмо Стоун пронес с собой, как талисман, через сражения на берегу Юты, на полях Нормандии и доставил в эту невзрачную парижскую квартиру.
* * *
В веселом карнавале, царившем теперь на улицах Парижа, все происходило одновременно. Возбужденные бойцы ФФИ с бутылкой в одной руке и винтовкой в другой прочесывали крышки города в поисках немецких снайперов. На Елисейских полях хор под руководством радостно возбужденного пожарника попеременно распевал «Марсельезу» и «Год блесс Америка». Вокруг еще сопротивляющихся немецких опорных пунктов солдаты 2-й бронетанковой сражались и умирали, тогда как всего в нескольких кварталах их товарищи, закончив свое сражение, праздновали победу.
Подполковник Кен Даунс и лейтенант Джон Мовинкл решили пропустить по бокальчику за возвращение в единственном месте, которое, по мнению бывшего газетчика Даунса, было подходящим для такого случая, — в отеле «Крийон». Даунс растолкал служащих отеля, загораживающих железной решеткой вход в вестибюль, и вошел внутрь. Увидев происходящее там, он резко остановился. Из одного конца вестибюля в другой выстроилась угрюмая масса немцев с ранцами через плечо, с пристегнутым к поясу оружием. Они уставились на двух американцев. Затем один из них вышел вперед. «Вы американцы?» — спросил он.
Даунс ответил утвердительно.
— Тогда, — продолжал немец, — мы сдадимся вам, а не тем, — он презрительно кивнул в сторону толпы за дверями отеля.
— Сколько вас? — спросил Даунс.
— Сто семьдесят шесть, — ответил немец.
Даунс на секунду задумался. Затем повернулся к Мо-винклу. «Лейтенант, — сказал он, — позаботьтесь о пленных». С этими словами Даунс отправился на поиски более подходящего бара. Оставшись один со ста семьюдесятью шестью пленными, Мовинкл решил разоружить их, как джентльмен. Он приказал им сдать оружие в гардероб.
Пока они это проделывали, Мовинкл обнаружил союзника — огромного роста французского лейтенанта в форме полка спаги. Он полагал, что это штаб Леклерка. Француз решил осмотреть отель. Вынув кольт из кобуры, он расчищал дорогу к лестнице, расталкивая попадавшихся на пути немцев рукояткой пистолета. Американец пошел за ним. Наверху был огромный банкетный зал, все еще заваленный остатками последнего пиршества немцев. Молодые офицеры вошли через разные двери и почти в один и тот же момент заметили трофей, оставленный немцами, — ящик шампанского. Насколько позволяло им чувство собственного достоинства, они заспешили наперегонки к этому ящику. И добрались к нему одновременно.
— Лейтенант Жан Бьельман, французская разведывательная служба, — произнес француз.
— Лейтенант Джон Мовинкл, американская разведывательная служба, — ответил Мовинкл.
— Я предлагаю, — промолвил француз, делая широкий жест, — шесть вам и шесть мне. — Мовинкл в знак согласия вежливо поклонился, и молодые офицеры разобрали шампанское. Затем друг подле друга, держа в охапке бутылки с шампанским, они торжественно направились вниз по парадной лестнице отеля мимо своих ошарашенных пленников и, смеясь как два только что напроказивших школьника, продефилировали из отеля.
В нескольких кварталах от этого места два грузовика с бойцами ФФИ подкатили к главному входу не менее знаменитой парижской гостиницы. Грязные и пыльные, в беретах, майках и промасленной рабочей одежде они прошли, словно рабочие батальоны на защиту Мадрида, в самую цитадель старорежимной роскоши — отель «Риц». Во главе их шли самозванный генерал этой армии Эрнст Хемингуэй и два его добровольных помощника — достопочтенный полковник Дэвид Брюс и «Мутард», служивший до войны инженером на принадлежавшей Франции железной дороге в Эфиопии и выполнявший роль начальника штаба в хемингуэйевской армии ФФИ в течение последних четырех дней.
В пустынном вестибюле «Рица» они встретили лишь одного человека — перепуганного помощника администратора. Он узнал своих почтенных американских посетителей, часто останавливавшихся в этом отеле до войны.
— Как, это вы? Что вы здесь делаете? — выдохнул он.
Они сообщили ему, что прибыли с несколькими друзьями, чтобы ненадолго остановиться здесь. Приходя в себя от изумления, помощник администратора спросил Хемингуэя, может ли отель что-нибудь предложить ему в качестве приветственного жеста. Писатель посмотрел на орду счастливых, нечесанных бойцов ФФИ, уже заполнявших вестибюль отеля.
— Нельзя ли 73 бокальчика сухого мартини? — спросил он.
* * *
Все утро Иветта Бовера, ее муж и дочь Элен проталкивались на велосипедах сквозь смеющиеся толпы, пытаясь разыскать полк в черных беретах. Они начали свои поиски от Орлеанских ворот, где впервые увидели входящие в Париж войска, потом добрались до Люксембургского дворца и далее по бульвару Сен-Мишель до «Отель де виль». Теперь, по крайней мере, они знали название полка, который им был нужен. Это был 501-й танковый полк, подразделения которого вели наступление на отель «Мёрис».
Наконец, на площади Шатле Бовера нашли первых солдат в черных беретах. Но никто из них не знал ни Раймона, ни Мориса Бовера. Они посоветовали поискать на острове Сен-Луи, где стояли другие подразделения их полка.
Примерно с час все трое Бовера носились по кривым улочкам маленького острова. Всех встречных они спрашивали, не видели ли те «солдат в черных беретах». Ответ неизменно был отрицательным. Наконец, перед входом в кафе двое бойцов ФФИ, охранявших джип, сообщили несчастному семейству, что во дворе кафе спит какой-то солдат в черном берете.
Первой во двор попала Элен. В углу, на солнышке, свернувшись калачиком, спал солдат. Он был слишком велик для одного из ее братьев, подумала она. Вскоре к ней присоединились мать и отец. Все трое Бовера наклонились и впились глазами в грязного, небритого человека, похрапывавшего у их ног. И тут мадам Бовера протянула руку и тем нежным, ласковым движением, каким будила его в детстве, легонько потрясла плечо спящего солдата. Это был ее сын Морис.
Пробуждаясь, Морис сладко потянулся. Первой, кого он увидел, открыв глаза, была его сестра. «Какая она стала красивая», — подумал он. Девочка со слезами на глазах нагнулась поближе, чтобы лучше рассмотреть этого огромного мужчину, которого она запомнила долговязым подростком. Она заметила металлический отблеск воткнутого в его пояс предмета, который поначалу показался ей знакомым. Это была обойма с патронами к его кольту 45-го калибра.
— О, — воскликнула она тихим от застенчивого восхищения голосом, — ты все еще играешь на губной гармошке?
* * *
Скулы капитана Виктора Врейбла «болели от смеха и поцелуев». Тридцатилетний капитан, начальник боепитания 12-го полка, оказался в центре толпы счастливых парижан, облепивших его джип на мосту Согласия. В тот момент, когда Врейбл пытался разобрать английский вежливого пятнадцатилетнего мальчика, из толпы появилась хорошенькая блондинка. «Могу ли я вам помочь?» — спросила она.
Смеющийся капитан ответил, что может, и попросил о свидании. Только если с ней пойдет мама, которая стоит сейчас сзади, ответила девушка. Они обменялись адресами, но, увидев список имен, уже заполнивших его блокнот, Жаклин Малиссине подумала, что она никогда больше не увидит этого смеющегося капитана. Она ошиблась. Он вернется, и через два года мужчина, с которым она обменялась всего лишь несколькими фразами на английском, выученном в школе секретарш, станет ее мужем.
* * *
Цита Креббен, хорошенькая секретарша из Мюнхена, услышала лязг гусениц за окнами квартиры по улице Фобур-Сент-Оноре, в которой вместе с ней находились оставшиеся в Париже немки. Чтобы совершить короткий путь в плен, двадцатитрехлетняя Цита с гордостью надела свой самый элегантный наряд — светло-бежевый чесучевый костюм, поверх которого была наброшена пелерина. Принявшие их под свою опеку шведы из консульства Нордлинга отвели Циту и ее соотечественниц вначале в отель «Бристоль». Там после быстрого обыска из их тщательно упакованных чемоданов исчезли запасы шоколада, чулки, столовое серебро, гостиничные простыни и даже несколько дамских револьверов.
Затем через толпу, которая была немногим менее враждебна, чем та, что окружала Хольтица, они проследовали на этот сборный пункт. Из всех проявлений гнева на этом скорбном пути ни одно не резануло Циту более жестоко, чем то, что имело место всего в нескольких кварталах от этой квартиры. Там женщина с искаженным от ненависти лицом плюнула на бежевый костюм, в котором Циту уводили в лагерь для военнопленных. Той женщиной была портниха Циты.
Заслышав танки, Цита приблизилась к окну. Через плечо жандарма в синем кителе она увидела остановившиеся у начала улицы Жан-Мермо пять грязных «шерманов». Наблюдая, как вокруг победителей роятся толпы счастливых людей, Цита сокрушенно подумала, что «войне действительно пришел конец». Ей бросилось в глаза название одного из танков. Оно звучало почти по-немецки, и Цита удивилась, как такое название могло попасть на французский танк. Это был «Хартманне Виллеркопф».
Как и Цита Креббен, Нелли Шабрие также обратила внимание на «Хартманне Виллеркопф». В немом восхищении она разглядывала высокого, темноволосого и грязного молодого офицера, командовавшего танком. Пробраться сквозь толпу своих соседей, окруживших его, было невозможно, и Нелли набросала молодому человеку записку.
«Вы, — писала она, — относитесь как раз к тем французам, которых нам необходимо знать и видеть. Если когда-нибудь вы вновь будете проезжать через Париж, милости просим по адресу: улица Жан-Мермо, дом 20, Елисейские поля 09–82». Отчаянным усилием она передала записку через головы молодому лейтенанту. Пятнадцать месяцев спустя каноник Жан Мюлле, наблюдавший сейчас за ней, освятит брак Нелли Шабрие и лейтенанта Марселя Кристана в церкви Сен-Филипп-дю-Руль, всего в нескольких ярдах от того места, где в День освобождения танк под названием «Хартманне Виллеркопф» сделал краткую остановку на пути к Рейну.
9
В других частях города сражение продолжалось. Немцы, все еще не знавшие о капитуляции Хольтица, оказывали яростное сопротивление 2-й бронетанковой. Каждый час уносил все большие жертвы из числа молодых солдат, несколько часов назад с триумфом вошедших в Париж, и сражавшихся рядом с ними бойцов ФФИ.
* * *
Рядовой 1-го класса Леандр Медори, корсиканский крестьянин, которому Париж показался таким огромным, подумал, что дерево, за которым он прятался перед зданием Министерства иностранных дел, было самым маленьким деревом, которое он когда-либо видел. Ведя прицельный огонь, оборонявшиеся в здании немцы пригвоздили Медори и его роту к тем немногим укрытиям, которые им удалось найти. Рядом с Медори, прижавшись спиной к его спине, был рядовой 1-го класса Жан Ферраччи — парень, рассылавший в толпу по дороге в город десятки записок своей сестре. Стоило кому-нибудь из них пошевелиться, и оба тут же слышали, как немецкие пули откалывают кору с укрывавшего их дерева.
В здании Министерства иностранных дел Вилли Вернер услышал, как майор люфтваффе объявил, что отказывается сдаваться. Он был уверен, говорил майор, что «выразил общее мнение». Вилли придерживался другого мнения. Застонав от тупости майора, Вернер уполз в подвал, чтобы напиться и «мирно ожидать окончания войны».
Перед зданием другой солдат 2-й бронетанковой отправился на свою собственную маленькую войну. С кольтом в руке и в залихватски надвинутой на голову красной пилотке спаги капрал Серж Жофруа отправился на поиски каких-нибудь немцев.
Своего первого, трусливо размахивавшего белым носовым платком, он встретил на мосту Согласия. Жофруа согласился следовать за ним, чтобы взять в плен тридцать его товарищей, прятавшихся за стеной по улице Бургонь. На глазах изумленной консьержки, прятавшейся в соседнем подъезде, француз и немец остановились у середины стены, окружавшей сад. Француз нагнулся, сложил вместе ладони и подтолкнул немца наверх. Затем немец наклонился и подтянул Жофруа к себе. Спрыгнув в небольшой сад, немец повел Жофруа к стеклянным дверям, через которые можно было попасть в салон. Внутри был бар и тридцать немцев. Двадцать девять из них подняли руки. Тридцатый подошел к Жофруа со стаканом в одной руке и бутылкой сухого вермута в другой и предложил ему выпить.
* * *
На втором этаже Военной школы сержант Бернхард Блахе наблюдал за штурмом своего опорного пункта. Он лежал на матрасе у окна. Рядом тихо постанывал его товарищ на данный, последний день войны — булочник из Мюнхена, которому снарядом оторвало руку. На зеленую лужайку Марсова поля выливался поток «шерманов». Блахе начал считать их. Дойдя до семнадцатого, он бросил это занятие. Черный вихрь от одного из снарядов, разорвавшегося поблизости, сорвал с него каску, и «война вдруг превратилась в ад» для двадцатичетырехлетнего берлинца, прибывшего в Париж с первыми подразделениями вермахта в июне 1940 года.
За Военной школой, в здании Министерства почт, телеграфа и телефона, в котором накануне вечером он услышал звон парижских колоколов, капрал Альфред Холлеш вместе с другими солдатами решил, что настало время сдаваться. Для этого Холлеш нашел оригинальный способ. Он разбил ящик пожарной сигнализации в подвале здания и объявил дежурному, пронзительный голос которого донесся из ящика, что обороняющиеся готовы сдаться.
Перед самим зданием капитан Жорж Годе, командир 4-го дивизиона 12-го кирасирского полка, носившего название «Белые слоны», решил, что настало время прекратить сражение. Подав назад свой «шерман» «Верден», Годе установил его прямо напротив двери. Затем на полной скорости он понесся прямо на замолчавшую 88-миллиметровку немцев. Из своего окна Бернхард Блахе видел атаку Годе и дождь обломков, посыпавшийся после того, как «Верден» прорвался через баррикаду. Блахе был сыт по горло. Он переломил надвое свою винтовку и бросился в подвал.
Через несколько минут Блахе и дюжину других немецких солдат с поднятыми вверх руками согнали в небольшую комнату. Там огромного роста солдат с ручным пулеметом, выкрикивая «Гитлер капут!», начал одного за другим выталкивать их через окно на тротуар. Блахе услыхал раздавшиеся снаружи выстрелы. Побелев от страха, он ждал своей очереди.
Когда его подтолкнули к окну, Блахе увидел снизу распростертые на тротуаре тела полдюжины своих товарищей. Бойцы ФФИ по очереди расстреливали пленных. Прежде чем охранник успел отреагировать, Блахе рванулся влево и выбежал из комнаты. В коридоре он с благодарностью отдался в руки группы солдат 2-й бронетанковой.
10
Когда стрельба на улицах города, заполненных солнечным светом и счастьем, постепенно затихла, оккупанты Парижа начали свой последний, печальный парад по улицам города, которым они правили четыре года. При виде их потных и изнеможденных колонн население Парижа захлестнула ненависть, накапливавшаяся за долгие горькие месяцы оккупации. Парижане били и пинали, проклинали и оплевывали их, а при случае и убивали.
Некоторые из оккупантов, как лейтенант-танкист на площади Республики, предпочитали покончить с собой, чтобы не попасть в руки жаждущей мести толпы. Другие находили более легкие пути, чтобы избежать такой участи. Рядовой Георг Кильбер переоделся в гражданское и смешался с толпой, чтобы приветствовать освободителей вместе с остальным Парижем. Капитан фон Цигесар-Бейнес, уже проведший два дня в заточении в «Гран пале», надел пижаму и уговорил своего друга сдать себя в американский госпиталь в Нейи, где он мог бы «мирно дожидаться американцев».
Но у большинства не было возможности избежать тяжкой и унизительной процедуры, которой до них на улице Риволи подвергся командовавший ими генерал. Сержанту Рудольфу Рейсу из военной полиции, который пять дней назад объявлял по городу о перемирии, пришли на ум телеги Французской революции, когда грузовик 2-й бронетанковой дивизии вез его к Префектуре полиции сквозь воющую, угрожающую толпу.
На площади Шатле младший капрал Пауль Зейдель стал свидетелем зрелища, показавшегося ему еще более тяжким, чем его собственная участь. Конвоиры специально остановили его, чтобы он не пропустил этой картины. На площади были выстроены около 20 девушек с обритыми головами, голые по пояс, с намалеванными на груди свастиками. На шее у каждой висела надпись: «Я спала с бошами».
Бывало, что не жалели и раненых. Жак д’Этьен, наводчик «Лаффо», очнулся в санитарной машине, увозившей его в госпиталь Сент-Антуан, и обнаружил рядом с собой лежащего без сознания раненого немца. Д’Этьен дотянулся до него и задушил. Затем сорвал с его кителя немецкий «железный крест» и сунул себе в карман. Через несколько минут этот трофей чуть было не стоил ему жизни. В приемном покое госпиталя сестра приколола крест на его одеяло. Валившийся от усталости хирург, решив прооперировать вначале своих соотечественников, шел между рядами носилок, цедя сквозь зубы «бош, бош, бош», если видел раненого немца. Увидев у д’Этьена «железный крест», он вымолвил «бош» и прошел мимо. Француз, уже впадавший в беспамятство, при этих словах попытался приподняться. «Я — бош? — вскрикнул он. — Да вы с ума сошли!»
Но среди тысяч немцев, взятых в плен в этот солнечный день, самая печальная участь ждала офицеров из штаба коменданта Большого Парижа. Для этих людей, символизировавших оплот нацистской тирании, угнетавшей город четыре года, народ Парижа приготовил особую пытку. На всем их пути толпа выла, плевалась, прорывалась через кордоны бойцов ФФИ, чтобы разодрать на них форму, ударить дубинкой, лягнуть в голень.
В середине длинной колонны граф Данкварт фон Арним, несмотря на наброшенную на плечи шинель, чувствовал озноб, глядя на толпу, и вспоминал несколько строк, прочитанных им накануне вечером, о резне, учиненной в Варфоломеевскую ночь. Арним был уверен, что умрет. Отчетливо и ясно представляя свою смерть, он повторял про себя: «Мне придется заплатить за все наши преступления здесь». Чтобы освободиться от этих мыслей, молодой аристократ заставил себя думать о чем-нибудь приятном. Посреди этой визжащей толпы, только что вырвавшей из его рук маленький саквояж, Арним думал о широких просторах своего родового поместья в Бранденбурге, где он еще мальчиком охотился на диких кабанов и оленей.
Его мечты были прерваны появлением орущего человека в голубом берете, прорвавшегося в их ряды. На секунду француз задержался перед Арнимом, выкрикивая что-то и размахивая пистолетом, после чего нацелил его в голову ближайшего немца и выстрелил. Это оказалась голова капитана Отто Кайзера, профессора литературы из Кёльна, который накануне показал Арниму плакат Роля с надписью «Каждому по бошу». Арним побелел и почувствовал подступающую тошноту, заглянув в умоляющие глаза своего умирающего друга. Он задержался, и боец ФФИ прикладом ружья предложил ему двигаться дальше. Арним осторожно перешагнул через тело Кайзера. «Следующая очередь моя», — подумал он.
11
Шарль де Голль, молчаливый и неулыбчивый, спешил на рандеву с историей в открытом черном «отккисе». По мере того как машина преодолевала последние мили, отделявшие его от столицы Франции, де Голлем все больше «овладевала спокойная уверенность». Он возвращался на родину почти по тем же дорогам, по которым уезжал из Парижа 10 июня 1940 года, когда там царили хаос и всеобщий развал. Он возвращался в Париж, когда в городе еще шли бои — без ведома и согласия своих союзников, во французской машине с водителем-французом, — чтобы помочь в кульминационный момент освобождения, которое, как он и желал того, осуществлялось в основном силами французов.
Было почти 4.30, когда маленькая процессия из трех автомашин, возглавляемая броневиком из 2-й бронетанковой, подъехала к Орлеанским воротам, у которых было «черно от разлившегося вокруг моря взволнованных людей». Его изгнание закончилось. Он покинул Францию как малоизвестный бригадный генерал разбитой армии, а вернулся домой героем.
На другом конце авеню Орлеан, отходящей от площади, через которую он въехал в город, за величественным фасадом «Отель де Виль» лидеры парижского восстания готовились приложить свою официальную печать к его триумфальному шествию по столице. Ждать им придется еще долго. Процессия де Голля свернула влево от «Отель де Виль» к другому зданию — штабу 2-й бронетанковой дивизии на вокзале Монпарнас.
Входя в вокзал под приветственные крики толпы, де Голль увидел знакомую фигуру. Это был его сын Филипп, отправлявшийся вместе с немецким майором в Палату депутатов, чтобы заставить сдаться засевших там немцев.
Леклерк ждал генерала на 21-м пути. Он передал генералу копию документа о капитуляции Хольтица. Читая первые строки документа, де Голль вздрогнул, неприятно удивленный. Имя Роля, холодно указал он Леклерку, не имеет никакого отношения к этому документу. Роль, как его подчиненный, не должен был его подписывать. В этом шаге де Голль прежде всего усматривал попытку своих соперников-коммунистов присвоить себе заслугу освобождения Парижа. Он не собирался уступать им титул освободителя.
Подпись Роля под документом о капитуляции только усилила гнев де Г олля. А порожден он был прокламацией, опубликованной в тот день Национальным комитетом сопротивления, в которой провозглашалось освобождение Парижа. В этом документе ни разу не упоминалось имя де Голля или его правительства. Кроме того, Национальный комитет сопротивления присвоил себе право говорить «от имени французского народа». Это право де Голль не намерен был предоставлять комитету, мысленно приговоренному им к забвению. Де Голлю прокламация представлялась как прямой вызов его власти. Он был готов дать столь же прямой ответ.
Выйдя наружу, де Голль стал здороваться с офицерами штаба Леклерка. Когда он приблизился к Ролю — у того были красные глаза, усталое лицо, да и вообще выглядел он странно в своей форме времен гражданской войны в Испании, — де Голль задержался и бросил на молодого бретонца оценивающий взгляд. Затем, как показалось Ролю, будто поразмыслив, он принял протянутую руку и пожал ее. После этого, как отмечал позднее его помощник, де Голль вышел со станции через двери, обозначенные «Багаж — Прибытие», чтобы отправиться в то самое здание, из которого в обстановке всеобщего хаоса выехал вечером 10 июня 1940 года, — Министерство обороны.
Под охраной всего лишь одного броневика его небольшая колонна двинулась по улицам левобережья, почти мимо того дома, в котором он играл еще мальчишкой. На улице Эбле, не доезжая до Дома инвалидов, процессия попала под обстрел. Пока охрана отстреливалась, де Голль вышел из машины и стал наблюдать. Спокойно попыхивая сигаретой, он стоял возле машины — мишень высотой в шесть футов четыре дюйма, гордо бросающая вызов снайперам вермахта. Две пули пробили багажник машины. Генерал не обратил на них внимания. Жофруа де Курселю, уехавшему вместе с ним из Парижа в 1940 году, де Голль насмешливо заметил: «Ну вот, де Кур-сель, по крайней мере мы в лучших условиях, чем те, что были при нашем отъезде».
В министерстве у прибывшей ранее передовой группы едва хватило времени, чтобы собрать несколько оскорбительных для нового хозяина бюстов маршала Петена, когда к воротам подъехала машина де Голля. Медленным, торжественным шагом он поднялся по ступеням и заглянул, отдавая дань ностальгии, в кабинет, который занимал четыре года назад. Затем он прошел в кабинет министра. Там не были тронуты ни столы, ни ковры, ни шторы. Тот же коридорный, пожелавший ему счастливого пути июньским вечером четыре года назад, теперь поздравил его с возвращением. Даже фамилии, аккуратно выведенные на кнопках вызова на старинном телефоне министра, оставались все теми же, какие он видел в 1940 году. «С тех пор, — подумал он, — огромного масштаба события потрясли Вселенную. Наша армия была уничтожена. Франция чуть не исчезла с лица земли». Но, как с иронией заметил де Голль, в министерстве, которое довело неподготовленную и необученную армию до катастрофы 1940 года, «все осталось неизменным».
12
Вооружившись письменными приказами Хольтица, офицеры его штаба отправились организовывать капитуляцию тех опорных пунктов в городе, которые еще продолжали сопротивление. Элегантный полковник Яй получил задание прибыть в крепость в той части Парижа, которую он знал меньше всего, — на площади Республики. Пытаясь сохранять достоинство под все усиливающимся потоком плевков, летящих в его джип, Яй смог найти лишь одно утешение в этом тяжком испытании. Меткость толпы оставляла желать лучшего. Сопровождавший его капитан-парижанин принимал на себя, кажется, не меньшее количество слюны. Дорогу показывал Яй: как холодно объяснил ему француз, он долгое время отсутствовал.
Перед зданием Палаты депутатов американский фотограф рядовой 1-го класса Фил Дрелл из Чикаго присоединился к лейтенанту Филиппу де Голлю, когда француз вел переговоры о капитуляции с парламентером от гарнизона этого опорного пункта численностью в 500 человек. В водовороте толпы переводчик де Голля потерялся, и американец в мокрой от пота рубашке вызвался заменить его. Дрелл обратился к одетому в безукоризненную форму немцу на единственном известном ему иностранном языке, который немец мог понять. На идише.
Один за другим опорные пункты пали, и впервые почти за целую неделю на улицах Парижа затихли отзвуки интенсивной перестрелки. В прохладном полумраке шведского консульства на улице Анжу сидел, развалясь в мягком кресле, смертельно усталый человек. Медленно, ощущая боль во всем теле, Бобби Бендер встал, подошел к своему плащу, висевшему на вешалке консульства, и вынул револьвер. Затем уже во второй раз менее чем за сутки он предложил Лоррену Крюзу, чтобы тот взял его в плен. На этот раз молодой адъютант Шабана согласился.
К концу дня один опорный пункт все еще продолжал сопротивление, тот самый, что открыл огонь первым, — теперь уже обугленный и изуродованный снарядами Люксембургский дворец. Сдерживаемый войсками СС, его защитники за весь день не уступили ни пяди земли. Чтобы заставить гарнизон прекратить сопротивление, Хольтиц направил во дворец своего начальника штаба полковника Фридриха фон Унгера. С ним отправился полковник Жан Крепен, командир артиллерии 2-й бронетанковой дивизии. Желая спрятать Унгера от толпы, Крепен уложил сурового полковника на дно своей полугусеничной машины.
Попав внутрь, Крепен с возмущением созерцал неразбериху и беспорядок в коридорах дворца Марии Медичи. Паркетные полы были завалены касками, гильзами, перевернутыми ящиками из-под патронов. Шторы и фрески были порваны и повреждены. Мертвые и умирающие валялись вместе на персидских коврах. Командовавший дворцом эсэсовец, штандартенфюрер с моноклем в глазу и красующимся на груди «железным крестом», слушал короткие распоряжения Унгера и Крепена. Стоявшая поодаль группа молодых эсэсовских офицеров, разъяренных и непреклонных, грозила убить его, Унгера и Крепена, если он прикажет капитулировать.
Теряя терпение и наливаясь злостью, Крепен понял, что их усилия ни к чему не приведут. Он заявил командиру и стоявшим вокруг эсэсовцам, что дает им один час на размышление. Если они не сдадутся, то «с ними не будут обращаться как с военнопленными». Несколько секунд немцы спорили. Затем штандартенфюрер «красный, как свекла», заорал эсэсовцам, что «от имени фюрера» он приказывает им сдаться. Побледнев, они сорвали свои награды и с криками «хайль Гитлер» вышли.
В течение отведенного им часа эсэсовцы расстреляли все свои боеприпасы. После этого остальная часть гарнизона собралась в заваленном обломками внутреннем дворе. Вместе с ними потянулись к выходу и их пленники.
Словно шахтер, поднимающийся на поверхность после долгих дней под землей, электрик Франсуа Дальби тоже вышел из своей дежурки, чтобы понаблюдать за этим зрелищем. Дальби собирался остаться в здании. В течение следующих двух суток он будет находиться в Сенате, наблюдая за разминированием здания, спасенного в основном благодаря продуманному саботажу с его стороны.
В 7.35, то есть ровно через час после объявления Крепеном ультиматума, ворота огромного дворца распахнулись. Из ворот вышел эсэсовский комендант дворца — в глазу вызывающе поблескивающий монокль, «железный крест» на груди, огромный белый флаг в вытянутых руках, — чтобы сдать последний оплот немцев. Париж был формально и окончательно свободен.
* * *
Теперь в мягких лучах заходящего солнца единственным еще раздававшимся звуком войны было периодическое щелканье снайперской винтовки. Орудия оккупантов замолчали, но их молчание далось дорогой ценой. За последние двое суток было взято в плен почти 20 тысяч немцев, 3200 были убиты или ранены. Только в этот день 2-я бронетанковая дивизия потеряла 42 человека убитыми и 77 ранеными. Среди гражданского Населения 127 человек было убито и 714 ранено. Каждая из этих потерь образовывала свой островок печали в волнах счастья, захлестывавших город.
Позади здания Министерства иностранных дел к солдатам роты капитана Шарля д’Оржеи подбежала взволнованная девушка. Это была сестренка рядового 1-го класса Жана Ферраччи. Одна из целого потока записок, которые он рассылал в толпу во время триумфального шествия по городу, нашла ее в ее собственной мясной лавке в пригороде Менильмонтан. Она прибежала слишком поздно. Ее брат был убит за обычным деревом у Дома инвалидов, ствол которого был расщеплен пулеметным огнем. На площади Шатле встревоженная девушка, вызванная веселым телефонным звонком несколько часов назад, шла вдоль ряда почерневших, разбитых танков, оставшихся здесь после штурма «Мёриса». Всем встречным она задавала один и тот же вопрос: «Вы знаете моего жениха Пьера Леля?» Ни у одного из смертельно усталых людей в черных беретах не хватило мужества сказать ей, что Пьер был убит всего лишь два часа назад.
13
От основания моста Арколь, растекаясь по набережным Сены, проталкиваясь по улице Риволи до ступеней самого популярного в городе универмага, плотная, черная масса парижан заполняла площадь Отель-де-Виль. Здесь, на этой исторической площади, где в 1870 году была провозглашена Третья республика, а год спустя Коммуна, тысячи людей несколько часов ожидали события не менее исторического — первого официального выступления генерала де Голля, первого шанса непосредственно услышать человека, на протяжении четырех лет бывшего выразителем воли угнетенной Франции.
Де Голль не сразу согласился прийти.
В своем кабинете в Министерстве обороны де Голль только что впервые встретился с человеком, который был его политическим представителем в Париже, — Александром Пароди. Для сухощавого, обходительного Пароди эта встреча стала неприятным испытанием. С присущей ему прямолинейностью де Голль выразил свое неудовольствие по поводу изданной накануне прокламации НКС, прокламации, которую Пароди на свою беду подписал.
Но больше всего Пароди был поражен взглядом де Голля на ситуацию в Париже. Пароди показалось, что де Голль ожидал в Париже ни больше, ни меньше, как «прямого вызова своей власти со стороны коммунистов». НКС и другие подобные органы в глазах де Голля были не чем иным, как невольными орудиями в руках партии.
Де Голль холодно информировал Пароди, что не намерен оказаться в ситуации, когда он будет «принят» НКС или ПКО. На его взгляд, не было никаких причин для посещения им здания, символизирующего городскую власть. Он напомнил Пароди, что является главой Французского правительства. Он примет членов НКС и ПКО, когда будет готов. И примет он их в правительственном здании.
Предвидя, какую горечь и шок вызовет отказ де Голля прийти на площадь, Пароди призывал генерала пересмотреть свое решение. Де Голль был непреклонен. Он не пойдет. Наконец, почувствовав, что кто-то, кто знает де Голля лучше, сможет, вероятно, добиться успеха там, где не смог он сам, Пароди послал за подкреплениями. Он попросил прийти Шарля Луизе, префекта полиции.
После долгих прений Луизе, наконец, уговорил де Голля изменить свою точку зрения, подчеркнув, какое плохое впечатление произведет отказ де Голля на массу людей, ожидавших его. Но прежде чем согласиться, де Голль объявил о двух вещах: он вначале посетит Префектуру полиции — символ голлистского Сопротивления и государственной власти, а уж потом отправится в «Отель де Виль». И перед уходом на встречу он отдал распоряжения по поводу своего собственного приема, единственного приема, который считал действительным, символического единения между ним самим и массами. Он объявил, что на следующий день «официально вступит в город». Он пойдет во главе парада по Елисейским полям от могилы Неизвестного солдата до собора Нотр-Дам — символов традиций и преемственности во Франции, которые он будет представлять. Это будет его ответом на претензии НКС и, как он надеялся, способом открыто продемонстрировать своим противникам, кого поддерживают массы. И это будет праздник, на который НКС не будет приглашен. Затем с суровым выражением лица он объявил своему окружению: «Ну что ж, если мы должны идти, пойдемте!»
* * *
Собравшиеся в «Отель де Виль» руководители восстания начинали испытывать чувство раздражения и разочарования. Тот факт, что де Голль не появлялся, вначале удивил их, а потом возмутил. Теперь они были разгневаны. Прохаживаясь по кабинету муниципального совета, Жорж Бидо, бледный и расстроенный, бурчал: «Никто еще не заставлял меня столько ждать». Решение де Голля посетить Префектуру, «дом полицейских», а уже потом «Отель де Виль», «дом народа», вызвало — как, может быть, и рассчитывал де Г олль — чувство глубокого негодования среди сторонников НКС. Фернан Мулье, репортер, проникший в город за неделю до прибытия союзников, услышал, как один из его членов ворчал: «Эти сукины дети арестовывали нас все четыре года, а теперь де Голль наносит им визит вежливости».
Если де Голль не прибудет в «Отель де Виль», заявил Бидо, НКС «проведет церемонию по случаю освобождения без него». Указывая на толпы людей на улице, Бидо похвастался: «Вот где народ Парижа, а не в доме “фараонов”».
В действительности оценка де Голля в отношении амбиций большинства членов политической организации Сопротивления, объединившихся вокруг «Отель де Виль», была в основном правильной. Для большинства ее членов восстание носило политический характер. Они действительно хотели официально представить де Голля населению Парижа, что явилось бы шагом, который незаметно закрепил бы за НКС роль своего рода спонсора де Голля. Они были готовы приглашать его «присутствовать» на своих заседаниях. Они ожидали, что в их распоряжение будет предоставлен важный «национальный дворец». И что было наиболее важным, они подготовили текст торжественного «провозглашения Республики», который намеревались предложить де Голлю зачитать перед толпой в полном соответствии с освященной веками традицией этой площади. Текст лежал у Бидо в кармане. Это был умный политический шаг, который официально положил бы конец правлению Виши. В существенно менее явной форме он означал бы также конец и начало для собственного правительства де Голля. Такой шаг позволил бы НКС претендовать на роль основателя новой республики, в которой де Голль играл бы роль должностного лица исполнительной власти. Это были амбициозные и наивные мечты, и первое пробуждение не заставит себя долго ждать.
Фактически оно наступило, когда у основания белой мраморной лестницы городской ратуши появился высокий и властный Шарль де Голль, шествовавший через ликующую толпу к ожидавшим его членам НКС.
В простой форме цвета хаки, к которой были прикреплены лишь Лотарингский крест и красно-голубой значок Сражающейся Франции, де Голль продефилировал мимо почетного караула в летней форме и подошел к Жоржу Бидо. Генерал грубо скомкал процедуру представления Жоржем Бидо присутствующих.
В кабинете председателя муниципального совета оба деятеля обменялись речами. Речь Бидо была вдохновенной и эмоциональной. Де Голль, говоря не менее вдохновенно, продемонстрировал красноречие в вопросах государственной важности.
— Почему мы должны скрывать свои чувства? — спросил он. — Мы переживаем минуты, которые оставят свой след и после жизни каждого из нас, переживут наши жалкие жизни.
Далее он заявил собравшимся: «Враг потрясен, но не разбит… Национальное единство необходимо нам, как никогда ранее… Война, единство, величие — вот моя программа».
Как только он закончил, Бидо вынул из кармана подготовленную прокламацию. «Генерал, — сказал он, — не соблаговолите ли вы выйти на балкон и торжественно провозгласить Республику перед собравшимся внизу народом?»
Де Голль посмотрел сверху вниз на стоявшего перед ним человечка. «Нет, — возразил он, — Республика никогда не переставала существовать».
Затем он подошел к окну. Внизу — от Сены до улицы Риволи и на всех стекающихся сюда улицах — площадь Отель-де-Виль представляла собой черную, пульсирующую массу людей. При его появлении толпа оживилась. В его сторону неслись волны оваций. Затем, переходя на ритмичное скандирование, толпа начала выкрикивать: «Де Голль, де Голль, де Голль». Стоявший сзади его помощник капитан Клод Ги, заметив, что перила балкона едва доходят де Голлю до бедра, просунул руку за портупею генерала. Если в де Голля выстрелит снайпер, прикинул Ги, то он может вывалиться на тротуар. Через плечо, с таким расчетом, чтобы слышали все в комнате, де Голль бросил: «Не будете ли вы столь добры оставить меня к черту в покое?» Ги ослабил хватку на поясе де Голля, но не отпустил совсем. Генерал повернулся и обратился к толпе с речью.
Наконец, закончив свое выступление, де Голль повернулся, чтобы уйти. Он взглянул на Ги и подмигнул ему: «Спасибо».
После нескольких поспешных рукопожатий де Голль ушел. В своей речи он ни разу не упомянул НКС или Сопротивление. Тост за победу так и не был поднят. Ожидавшее его в соседней комнате шампанское так и осталось во льду. Он избегал официальной встречи с НКС. Подготовленная Бидо, но не оглашенная прокламация так и осталась у того в кармане.
Когда де Голль ушел, ошарашенные и огорченные члены НКС услышали, как от рева толпы на улице задребезжали несколько уцелевших стекол ратуши. Пьер Мёнье, один из двух секретарей-коммунистов НКС, услышал, как стоявший рядом товарищ зло пробурчал: «Все очень просто. Нас одурачили».
* * *
Его маленький триумф у здания ратуши не был единственной победой де Голля в тот день. В кое-как обставленном кабинете в Доме инвалидов, куда снаружи еще доносилось эхо перестрелки, два человека завизировали пространный, на тридцати семи страницах, документ. Во всеобщем ликовании по случаю освобождения их акт остался для мира почти незамеченным. И тем не менее все то же счастливое стечение обстоятельств, благодаря которому освобождение Парижа пришлось на празднование дня Святого Людовика, сделало возможным в этот день и другое событие — подписание франко-американского соглашения по гражданским делам. На нем настаивал Эйзенхауэр еще до дня «Д», оно было согласовано в принципе в Вашингтоне де Голлем и Ф. Д. Рузвельтом в июле, затем многие недели вокруг него шли споры, а окончательное подписание откладывалось раз пять.
Наконец, в День освобождения бригадный генерал Джулиус Холмс вылетел из штаба Верховного командования союзников на самолете Эйзенхауэра Л-5 и приземлился в пшеничном поле неподалеку от Парижа, чтобы передать документ генералу Пьеру Кёнигу для подписания. Даже в последний момент это затянувшееся первое официальное признание Соединенными Штатами власти де Голля во Франции оказалось не без шипов. Из Вашингтона Эйзенхауэру было предписано объявить, что он «уполномочен подписать эти соглашения при том понимании, что французские власти намерены предоставить народу Франции возможность избрать правительство по своему усмотрению». Такое заявление вряд ли способствовало укреплению отношений с де Голлем. И в отличие от англичан, подписавших соглашение на уровне министров иностранных дел, Соединенные Штаты настояли на том, чтобы оно было подписано между военными. Рузвельт хотел быть уверен, что этот документ не будут путать с официальным признанием французского правительства.
Видя обстановку в городе на момент подписания, профессиональный дипломат Холмс размышлял о несоответствии этого документа реальности. Ему было известно, что никто в Вашингтоне не предполагал, что правительство де Голля утвердится и начнет функционировать в Париже так быстро. А де Голль, как он понял, присутствует здесь и пускает корни и «ничто, кроме силы, не Сможет его выдернуть». Государственный департамент, размышлял он, уже вынужден будет начинать борьбу за изменения в этом документе, на котором в буквальном смысле не высохли чернила.
У де Голля, думал Холмс, «никогда не было ни малейшего намерения быть где-либо еще в этот вечер, кроме как того места, где он сейчас находился, — в Париже». Иронично улыбнувшись про себя, американский дипломат рассудил — примерно в том же ключе, что и один из руководителей Сопротивления на ступеньках «Отель де Виль», — что «вот и еще раз де Голль нас вежливо одурачил».
* * *
В штабе германского ВМФ на площади Согласия один немец избежал пленения. Капитан-лейтенант Гарри Лейтхольд очень хорошо знал расположение коридоров дворца Габриэля. Понаблюдав за боем на площади Согласия, Лейтхольд нырнул в маленькую комнату в самом углу четвертого этажа, чтобы дождаться ночи. Снаружи, с площади послышался рев толпы. Выглянув наружу, он увидел черную открытую машину, въезжающую на площадь с улицы Риволи. Лейтхольд потянулся вниз и поднял свой автомат. Он осторожно положил его на подоконник и посмотрел в прицел. «Как эти французы глупо рискуют», — подумал Лейтхольд. Внизу, в каких-нибудь 200 ярдах от него, на заднем сиденье открытой машины Лейтхольд заметил фуражку французского генерала. Он поймал его в прицел и приготовился стрелять. Лейтхольд решил, что уничтожение французского генерала было бы достойным способом окончить эту войну. Пока он наблюдал и примерялся, толпа, приветствовавшая проходящую автомашину, сорвалась с места и бросилась к ней. Лейтхольду пришла в голову другая мысль. Если он выстрелит, толпа обязательно его разыщет и забьет до смерти. Лейтхольд замер и после короткого раздумья нехотя снял свой автомат с подоконника. Кто бы этот генерал ни был, решил Лейтхольд, собственная жизнь дороже его жизни. Черная машина проплыла под его окном и исчезла на другом конце площади Согласия.
Два года спустя в лагере для военнопленных морской офицер узнал из подписи к фотографии в газете, кто был тем генералом, которого он несколько секунд держал на прицеле в один из августовских вечеров. Это был Шарль де Голль.
14
На свободный Париж мягко опустились сумерки. Словно утомленное любовью тело, город погрузился в подобие экстатического оцепенения — естественное похмелье после дневного эмоционального взрыва. Наступила стадия нежности после бури восторгов.
Сержант Арманд Соррьеро из Филадельфии, личный телохранитель командира 12-го полка, с карабином на плече вошел на цыпочках в Нотр-Дам. В полумраке собора филадельфиец опустился на колени и стал молиться, пока ему неожиданно не пришла в голову мысль, что ему «не место в храме божьем с оружием, которым убивают». Когда он, устыдившись, поспешил к выходу, две монахини, жестом пригласили Соррьеро присесть на треногий табурет, какой обычно используют при дойке коров. Щебеча, как беззаботные воробышки, они теплой водой из фарфоровой миски смыли с его лица сажу. Соррьеро был тронут; он подумал, что, «должно быть, Господь выбрал именно этот способ отблагодарить меня за посещение церкви».
Поблизости от Елисейских полей к рядовому 1-го класса Джорджу Макинтайру подошел священник. Он рассказал, что одна из его прихожанок, пожилая женщина, умирающая от рака, хотела увидеть американского солдата в качестве доказательства, что союзники действительно пришли и что, по крайней мере, она может умереть в свободном Париже.
Священник провел Макинтайра по лабиринту боковых улочек к обычному многоквартирному дому. Женщина жила в крохотной двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Ее комната, вспоминал позднее Макинтайр, «едва вмещала двойную кровать, два деревянных стула с высокими спинками, маленький стол со статуэткой Св. Анны, вазой увядших цветов и свечой». Женщина — страшно худая, «в белой кружевной ночной рубашке и чепчике на голове» — спросила Макинтайра через говорившего по-английски священника: «Как скоро вы будете в Берлине?»
— Скоро, — ответил Макинтайр.
Несмотря на то, что слова с трудом слетали с ее губ, старуха настаивала на беседе. Она расспрашивала Макинтайра о высадке в Европе, разрушениях в Нормандии, были ли «люди гостеприимны к вам», и, наконец, с горячностью спросила: «Сколько бошей вы убили?»
За его спиной в комнату проскользнули двое ее соседей с бутылкой коньяка. Они выпили. «Да здравствует Америка», — прошептала старуха.
«Да здравствует Франция!», — ответил Макинтайр. Уходя, лысеющий американец оставил все, что у него было в карманах: две плитки шоколада «Хёрши» и кусок мыла «Айвори». Со стоявшего рядом стола женщина взяла и отдала ему распятие: «Чтобы хранило вас до самого конца войны». Он наклонился и поцеловал ее в обе пергаментные щеки. Пообещал вернуться на следующий день. Когда он пришел, она была мертва.
Граф Жан де Вогуэ в этот вечер тоже должен был сделать важное дело. Сбрив усы, которые отпустил за долгие месяцы подполья, и взяв букет, этот видный аристократ и один из лидеров Сопротивления подошел к массивному особняку по набережной Орсей, 54.
Дверь открыла горничная. Она долго разглядывала его, а потом, обхватив лицо руками, закричала: «Месьё Жан вернулся домой!» Де Вогуэ вошел в дом своей матери и проследовал в гостиную, где пыталась подняться из кресла изумленная и все еще не верящая своему счастью мать. С нежным чувством де Вогуэ вручил букет этой женщине, от которой, находясь в подполье, он как-то спрятался при случайной встрече на углу улицы под дождем.
— Когда ты вернулся из Лондона? — спросила она.
— Я не был в Лондоне, мама, — сказал де Вогуэ. — Я был одним из руководителей Сопротивления.
Она отшатнулась в изумлении. «Жан, — спросила она, — как мог ты так поступить — связаться со всеми этими головорезами и коммунистами?» В негодовании она вновь опустилась в кресло.
15
Из всех работ, которые ему приходилось выполнять в своей жизни, та, что предстояла, думал майор Роберт Дж. Леви, будет самой трудной. Нью-Йоркский биржевой брокер был только что назначен американским офицером связи при Шарле де Голле. После трех дней поисков он наконец-то разыскал де Голля в Париже вечером в День освобождения. Теперь он ожидал в приемной его кабинета, когда будет представлен генералу. По лицам людей, потоком вытекавших из кабинета этого великого человека, Леви понял, что генерал в весьма дурном расположении духа. И это было понятно. Помещения Министерства обороны, занятые всего три часа назад, были похожи на сумасшедший дом. Света не было. Телефоны то и дело отключались, а когда и работали, то только в режиме местной связи. Складывалось впечатление, что никто не знает, что где находится.
Наконец, капитан Ги пригласил Леви в кабинет де Голля. Генерал поднялся из-за простого гладкого стола и вперил свой взгляд в Леви, рост которого был пять футов восемь дюймов.
— Ну вот, Леви, — сказал он, — я надеюсь, вы говорите по-французски. Я говорю по-английски, но не собираюсь этого делать.
Последовавшие затем формальности были короткими. Покончив с ними, де Голль гневным жестом выбросил вперед руку, как бы призывая обратить внимание на шум, мигающий свет и неразбериху.
— Как я могу, — громовым голосом обратился он к Леви, — управлять Францией в таком хаосе?
Не дожидаясь ответа, он тут же перечислил Леви три пункта, которые считал существенно важными для эффективного управления Францией в ту ночь: сигареты, паек и керосиновые лампы.
Леви отсалютовал и, убежденный в неотложности своей миссии, начал прочесывать улицы Парижа в поисках этих драгоценных предметов, которые в ту ночь представлялись де Голлю совершенно необходимыми для упорядоченного руководства Францией.
Сигареты — «Плейерз» — он раздобыл у английского коллеги, боевой паек — в грузовике 2-й дивизии около отеля «Крийон». С лампами было сложнее. Он нашел их в колонне грузовиков тылового обеспечения, стоявшей на обочине дороги за городом. Часовой вначале отказался уступить часть охраняемого им добра. В конце Леви уговорил солдата повернуться к нему спиной, пока он будет осуществлять «реквизицию при свете луны» ламп, которые осветят первую ночь Шарля де Голля в Париже.
* * *
В эту первую праздничную ночь свободы Париж устроил себе веселый, хотя и не всегда изобилующий яствами, банкет по случаю победы. По всему городу солдаты 2-й Французской бронетанковой дивизии и 4-й пехотной дивизии США потянулись к своим вещмешкам, чтобы разделить с жителями то, что смогут там найти. Иногда это был продукт, сохранившийся у парижан лишь в памяти. На площади Бастилии маленькая девочка попросила у американского солдата «еще один красный шарик», такой же, как он только что ей дал. Это был апельсин. Она еще никогда не видела апельсинов. Парижане делились со своими освободителями тем немногим, что им удалось спасти для себя или выкрасть из немецких запасов. В некоторых районах, как на улице Ушетт, были обнаружены огромные запасы масла, тушенки и сахара. В других это была просто еще одна тарелка брюквы, украшенная бутылкой давно приберегавшегося вина. Но что бы это ни было, оно подавалось с огоньком и душевным подъемом. Сотни американских солдат узнали в ту ночь, что, пройдя через французскую кухню, даже консервы из боевого пайка могут стать аппетитными.
В Министерстве обороны в спешном порядке призванный исполнить свой долг повар приготовил генералу де Голлю его первый ужин в столице. Повар тоже только что прибыл в Париж — из Виши. Он был одним из поваров маршала Петена.
В обеденном зале отеля «Мёрис», всего в нескольких футах от того места, где несколькими часами ранее за своей последней трапезой сидел Дитрих фон Хольтиц, его пленитель лейтенант Анри Карше обосновался за роскошно накрытым столом. То была его награда от управляющего за то, что «не произвел слишком много разрушений», освобождая отель.
За углом, в «Рице», один из посетителей вскрикнул от злости. Официант только что вручил Эрнсту Хемингуэю счет за ужин по случаю освобождения.
— Миллионы для защиты Франции, — заявил он, — тысячи во славу вашего народа, но ни одного су в честь Виши.
В конце счета официант автоматически включил в сумму установленный вишистами торговый налог.
В Префектуре полиции Шарль Луизе осторожно вывел своего гостя на крохотный балкончик. Стоя там, Луизе и бригадный генерал Джулиус Холмс, подписавший франко-американское соглашение по гражданским делам, потягивали бренди.
«В Париже теперь существует огромная опасность», — сказал Луизе Холмсу, который уже несколько месяцев был его другом. И это не немцы, не вишисты, заявил он, а коммунисты. «Я вам могу сказать только одно. В настоящее время мы не можем их контролировать», — продолжал он. Если коммунисты пойдут на смелый шаг, правительство де Голля не сможет их остановить. Он попросил Холмса достать оружие для полиции и жандармерии. Через двое суток к Префектуре скрытно подошла колонна грузовиков. В них были 8000 карабинов, пулеметов, боеприпасы и несколько гранатометов в придачу.
* * *
В ту ночь лишь у немногих воинов 2-й бронетанковой и 4-й пехотной дивизий были на уме такие серьезные мысли. Большинство было слишком занято, наслаждаясь, как вспоминал потом рядовой 1-го класса Джон Холден из Мейсвилла, штат Северная Каролина, «величайшей ночью, которую когда-либо знало человечество». Холден провел ее «в славном мире вина, женщин и песен». Техник Дейвид Маккредил из 12-й противотанковой роты направился «в кафе, где все было бесплатно, французы сходили с ума от счастья, женщины танцевали на крышке рояля, мы все выпили и беспрерывно пели «Мерсельезу», хотя и не знали слов».
Казалось, из каждого танка, бронемашины и джипа обеих дивизий доносился счастливый смех солдат и парижанок. В сотнях кафе, за занавешенными для светомаскировки дверями они пили, танцевали, пели, смеялись и любили.
Робер Мади, наводчик, помнивший длину Елисейских полей, остановился на ночь вместе с экипажем «Симуна» в середине этого проспекта. Они освободили «Лидо». На опустевшей танцплощадке Мади и его приятели получили подарок, который заставил их забыть о своей протухшей утке: лучшее шампанское в самом знаменитом ночном клубе мира.
На улице Ушетт, около штаба 12-го полка, под музыку оркестра пожарников прямо на открытом воздухе развернулся бал, как в день Бастилии. К сержанту охраны Томасу У. Ламберо подвели взволнованную женщину средних лет. Она хотела знать, у всех ли бойцов были девушки на ночь. Ламберо заверил ее, что ситуация полностью контролируется.
В Венсеннском лесу командир одного из пехотных батальонов этого полка, беспокоясь о дисциплине, приказал солдатам установить свои двухместные палатки в линию по отделениям и назначил подъем и построение на рассвете. Только когда все было так и исполнено, он смог оценить степень своей ошибки: практически из каждой палатки выбирался усталый солдат… и заспанная девушка.
В ту счастливую ночь языкового барьера не существовало. Продолжая перелистывать армейский разговорник в поисках чего-нибудь, что можно было бы сказать сидевшей рядом хорошенькой девушке, рядовой 1-го класса Чарли Хейли из роты «В» 4-го саперного батальона размышлял над тем, каким дурацким учреждением является армия. «Представь-ка, — говорил он сам себе, — каково будет сказать этой девушке: «У вас есть яйца?»»
Техник-сержант Кен Дейвис, предприимчивый пенсильванец, вызубрил единственную полезную фразу: «Вуз эт тре жоли»[34]. Пока Дейвис готовился воспользоваться ею, к его грузовику подбежала группа возбужденных бойцов ФФИ, разыскивавших нескольких американцев, чтобы те помогли выкурить снайпера. Дейвис отправился с ними.
На обратном пути в машину, в которой он ехал, врезался грузовик, в результате чего сержант вылетел на мостовую и потерял сознание. Приходя в себя, Дейвис увидел склоненные над ним лица, то возникающие, то вновь расплывавшиеся. Одно из них было женским и очень симпатичным. К его большой досаде, тщательно заученная фраза выскочила из головы. Вместо этого он все повторял и повторял стоявшей над ним симпатичной парижанке другую фразу. Это была фраза, которую он и его приятели произносили в Нормандии в оправдание периодической конфискации цыпленка или утки: «Это слишком низкая цена за свободу».
Среди веселья, смеха, счастья в этот вечер никто не заметил грузовик-пикап с наглухо закрытым брезентовым верхом, быстро кативший по авеню Италии. Один из пассажиров поглядывал в щель на царившее снаружи празднество. Он увидел, как американский солдат нагнулся и подтянул в башню своего танка девушку. Толпа вокруг них аплодировала. Дитрих фон Хольтиц грустно прикрыл брезентовый клапан и подумал, что заканчивается целая эра в его жизни. Сидевший рядом полковник Ганс Яй в утешение ему заметил: «Война закончится через восемь недель». «Нет, — ответил фон Хольтиц, — в Германии из-за каждого дерева по ним будет стрелять какой-нибудь сумасшедший. Вот увидите». После этих слов, закурив первую в своей жизни американскую сигарету, Дитрих фон Хольтиц откинулся назад и, погрузившись в меланхоличное молчание, продолжил свой путь из города, который помог спасти, навстречу двум годам и восьми месяцам пребывания в лагерях союзников.
* * *
Для большинства солдат 2-й бронетанковой и 4-й пехотной дивизий, которым посчастливилось пережить этот сказочный день, воспоминание о испытанных тогда чувствах, ласке, увиденной красоте всегда будут связаны с образом женщины. У техника-сержанта Тома Коннолли это была прекрасная белокурая девушка в белом платье. Впервые он увидел ее, когда она смущенно направила свой велосипед к кружку ребятишек, собравшихся вокруг него на мощеном дворе старого шато, в котором его батальон разместил свой командный пункт. Ее звали Симона Пинтон, и ей было двадцать один. Ее белокурые волосы ниспадали до плеч, и двадцатисемилетнему солдату из Детройта она казалась самой прекрасной девушкой, которую он видел после отъезда из Штатов.
Он никогда не забудет ее первых слов. «Можно мне постирать вашу форму? — спросила она на ломаном английском. — Она очень грязная». При этих словах Коннолли почувствовал себя «неловким, косноязычным, очень грязным и очень благодарным». Вскоре после наступления темноты Симона принесла его чистую форму, и, взявшись за руки, оба отправились на прогулку по прилегающим кварталам. Коннолли показалось, что в ту ночь он «чокался с миллионом французов». Повсюду к ним подбегали смеющиеся люди, кричавшие «да здравствует любовь», «да здравствует Америка» и «да здравствует Франция». Они предлагали молодой паре вино и цветы и свое обожание. Наконец, усталые и счастливые, они ускользнули от восхищавшихся ими толп. Оставшись вдвоем, долговязый сержант из Детройта и прекрасная француженка в белом платье взбежали на невысокий, поросший деревьями холм. На его вершине они со смехом упали в траву. Над головой Коннолли было море звезд, а вдалеке, в центре Парижа, на фоне более светлого неба вырисовывался темный силуэт Эйфелевой башни. Симона нежно обхватила его голову и положила себе на колени. Она наклонилась и поцеловала его, и ее белокурые волосы рассыпались у него по лицу. Затем движением, существующим с тех пор, как появились мужчины, женщины и руки, она начала осторожно гладить его волосы. «Забудь о войне, — тихо прошептала она. — На сегодня, мой маленький Том, забудь о войне».
16
26 августа
Потрясенные и все еще не верящие в происходящее парижане пробуждались, чтобы прожить первый полный день свободы. Освободители и освобожденные, разминая онемевшие члены, иногда с тяжелой от похмелья головой, но все еще переполненные энтузиазмом прожитого дня, жмурились от теплого солнечного света, заливавшего Париж в ту субботу, 26 августа.
* * *
Этот день будет прежде всего днем Шарля де Голля. Всю ночь радио объявляло о его парадном марше по Ели-сейским полям. До самого рассвета станки непрерывно печатали тысячи транспарантов с надписями «Да здравствует де Голль». Де Голлю предстояло рандеву с историей, которое должно было стать кульминацией его четырехлетнего крестового похода, неофициальным плебисцитом, в ходе которого он получит подтверждение своего права заставить замолчать своих политических соперников.
Де Голль считал важным, чтобы по пути его следования к Нотр-Дам были расставлены солдаты 2-й бронетанковой дивизии. Они нужны были ему для обеспечения безопасности. Но еще важнее, как он полагал, было то, чтобы своим количеством и видом войска произвели на население впечатление мощной поддержки его правительства. В обход командных инстанций союзников де Голль отдал приказ Леклерку собрать войска для парада. В качестве единственной уступки он согласился направить одну из боевых групп на северо-восток, в Ле-Бурже, где угрожала контрнаступлением группировка немецких войск.
Весь план был чрезвычайно опасным. В городе, до конца еще не очищенном от немецких снайперов, когда лишь один полк американской армии и боевая группа 2-й бронетанковой дивизии преграждали путь в столицу немецкому арьергарду, де Голль предлагал собрать вместе свыше миллиона людей и виднейших лидеров страны. С самого дня высадки, когда у побережья Нормандии стояла армада судов, у люфтваффе не было такой соблазнительной и столь усердно разрекламированной цели.
И все же, несмотря на этот риск, де Голль решил осуществить задуманное. Его собственное политическое будущее и, как он был уверен, будущее Франции зависело от того, пойдет ли он на этот риск. Он должен был утвердить свою власть, свою роль лидера немедленно, пока столица пребывала на гребне волны чувств по поводу своего освобождения.
Первым следствием его решения был конфликт с американскими союзниками. В 10 часов утра, ничего не подозревая о приказе де Голля 2-й бронетанковой, в распоряжении ее штаба появился офицер из V корпуса с распоряжениями на текущий день. Командующего V корпусом генерала Леонардо Т. Джероу беспокоили оголенные подходы к городу; он хотел, чтобы дивизия заняла оборонительный рубеж на северо-восточном направлении от столицы. В V корпус сообщили, что на 2-ю бронетанковую дивизию в этот день рассчитывать нечего.
Разгневанный командующий V корпусом направил радиограмму в первую армию: «Генерал де Голль приказал Леклерку организовать сегодня большой парад от Триумфальной арки до Нотр-Дам. Штаб французской дивизии возмущен тем, что ее отвлекают от боевых операций. В штабе говорят, что Леклерк получил приказ и ничего нельзя сделать. 2-я бронетанковая будет настолько задействована, что по крайней мере в течение двенадцати, а то и более часов ее нельзя будет использовать для выполнения срочных задач».
Вернувшись после осмотра боевых порядков, Джероу кипел от злости. Он направил Леклерку составленный в резкой форме рукописный приказ: «Вы действуете под моим началом и не должны подчиняться приказам из каких-либо других источников. Мне известно, что вы получили указание генерала де Голля организовать парад своих войск в 14.00. Вы должны игнорировать этот приказ и продолжать выполнение поставленной перед вами задачи по ликвидации сопротивления в Париже и его окрестностях. Вверенные вам войска не должны участвовать в каком бы то ни было параде сегодня или в любое другое время без подписанного лично мной приказа».
Несчастный Леклерк, попав под перекрестный огонь, решил, что у него нет другого выхода, как подчиниться де Голлю. Чтобы свести к минимуму свои разногласия с V корпусом, он попытался прятаться от приказов генерала Джероу. В конце концов подполковник из штаба корпуса разыскал его в ресторане у Дома инвалидов. Вручая ему приказ генерала, полковник добавил, что, если дивизия примет участие в параде, Джероу будет считать это «формальным нарушением воинской дисциплины». Выведенный из себя Леклерк отвел офицера к де Голлю.
— Я одолжил вам Леклерка, — с важным видом заявил де Голль. — Поэтому с полным основанием могу на время забирать его назад.
* * *
Когда последние приготовления к параду уже подходили к концу, в подземном командном пункте группы армий «Б» в Марживале раздался телефонный звонок. Это была линия «Блиц» генерал-фельдмаршала Моделя. Телефон не ответил. Впервые после возвращения из своей первой инспекционной поездки на фронт фельдмаршал отсутствовал в своем штабе. В то утро Модель отправился на инспекцию своих войск вокруг Компьеня.
Звонивший расстроился. У него было поручение от фюрера передать приказ фельдмаршалу, которого Гитлер знал как одного из своих самых преданных сторонников. Нехотя генерал-оберст Альфред Йодль попросил подозвать к телефону второе после Моделя лицо — начальника штаба группы армий «Б» генерал-лейтенанта Ганса Шпейделя. Он отдал Шпейделю приказ о выполнении задачи, подготовиться к которой Гитлер приказал днем ранее, — обстреле Парижа ракетами Фау. Фюрер, сообщил Йодль Шпейделю, хотел, чтобы ракеты, размещенные примерно на ста базах в Па-де-Кале и на севере Франции, «пролились дождем» на Париж. Штаб люфтваффе получил приказ в предстоящую ночь нанести удар по Парижу «всеми имеющимися силами».
Шпейдель повесил трубку. В то время, когда уже. начали собираться первые из двух миллионов людей, которые пройдут в этот день через центр Парижа, генерал, получивший распоряжение, предназначавшееся для самого преданного из всех фельдмаршалов Гитлера, размышлял над тем, что делать с этим приказом. Шпейдель решил о нем забыть. Не прошло и недели, как Шпейдель был арестован гестапо[35].
* * *
В Париже де Голль сам дал окончательное определение цели парада, который собирался устроить в центре города. Он объяснил ее майору Роберту Дж. Леви, своему новому американскому офицеру связи, которому выпала деликатная миссия изложить де Голлю возражения генерала Джероу.
С военной точки зрения, сказал де Голль, Джероу прав. Риск действительно велик. Но, продолжал он, обращаясь к майору, «мы должны провести этот парад». Его цель оправдывала риск.
— Этот парад, — заявил де Г олль, — должен обеспечить Франции политическое единство.
17
Высокий и осанистый, возвышающийся над окружающей его толпой, Шарль де Голль стоял перед могилой Неизвестного солдата Франции у Триумфальной арки. На простую каменную плиту могилы он возложил венок из красных гладиолусов. Затем символическим жестом де Голль вновь зажег вечный огонь, став первым французом, совершившим этот священный акт в условиях свободы после июня 1940 года.
После минуты молчания де Голль повернулся и осмотрел танки и бронемашины 2-й бронетанковой, выстроенные вокруг площади Звезды. С балконов, крыш домов, тротуаров и окон тысячи горожан приветствовали его бурными аплодисментами. Затем он вернулся к подножию арки. Перед ним лежали Елисейские поля. По обе их стороны на всем протяжении до Обелиска чернела ликующая людская масса. Вновь теплое солнце сияло на безоблачном небе, делая ярче радугу летних платьев, флагов и транспарантов.
За всю историю редко выпадало на долю одного человека пережить минуты триумфа столь же головокружительные и величественные, какие ожидали сейчас Шарля де Голля.
Он знал, что внезапный воздушный налет противника мог бы завершить этот славный миг кровопролитием и трагедией, трагедией, в которой его быстро обвинят политические противники. Но в этот момент, глядя на массу ожидавших его людей, де Голль «верил в счастливую судьбу Франции»… и Шарля де Голля.
Из полицейской машины толпе было объявлено, что де Голль «вверяет свое благополучие жителям Парижа». Четыре танка из 2-й бронетанковой тронулись по улице. По обе стороны две цепи из взявшихся за руки бойцов ФФИ, полицейских и пожарных пошли вдоль тротуаров, сдерживая толпу. Позади де Голля беспорядочной группой собрались лидеры новой Франции: генералы Жуэн, Кёниг, Леклерк, руководители Сопротивления, НКС, ПКО, КОМАК, Пароди, Шабан-Дельмас.
Де Голль обернулся к ним: «Господа, на шаг сзади меня».
И тогда пешком, один, оглушенный шквалом громоподобных оваций, Шарль де Голль отправился по этому прекрасному проспекту, славящемуся величием и широтой пространства.
Позади него, не соблюдая строя и субординации, неравномерной массой двигались остальные участники парада. Так задумал де Голль. Он не хотел формальностей, как на военном параде. Он не хотел, чтобы между ним и массами возникали искусственные барьеры, и их не было.
На всем пути следования де Голля толпы людей выстраивались на крышах, у окон и на балконах, заполняли тротуары, выкрикивали слова поддержки. Маленькие девочки подбегали, чтобы вручить ему букеты цветов, которые он поспешно переправлял идущим сзади.
Де Голлю казалось, что у этой толпы «была единая мысль, единый дух, единый вопль». Глядя на плачущих от счастья детей, мужчин, кричащих «мерси», «людей престарелых, делающих мне честь своими слезами», де Голль «как никогда» чувствовал, что является «орудием в руках провидения во Франции».
Но, как понимал де Голль, радость не дается без трудностей. Первый выстрел прозвучал, когда де Голль вышел с Елисейских полей на площадь Согласия. При этом звуке тысячи людей упали на землю или попытались укрыться за стоявшими на площади машинами 2-й бронетанковой. Сержант Арманд Соррьеро, американский солдат, посетивший накануне Нотр-Дам, спрятался за своим джипом. Выглянув оттуда, ветеран дня «Д» «почувствовал стыд»: прямо перед собой он увидел шедшего под обстрелом с невозмутимым видом де Голля, как показалось Соррьеро, «очень прямого, вставшего во весь рост за свою страну».
На другой стороне площади у лейтенанта Ива Чампи из 2-й бронетанковой возникла та же инстинктивная реакция, что и у Соррьеро. Он тоже нырнул в укрытие и в этот момент почувствовал, что в его спину уперлась трость. «Месье офицер, — воскликнул аристократического вида старик, — в вашем возрасте вы должны подняться и прекратить эту глупую пальбу».
* * *
У основания северной башни собора Нотр-Дам разгневанный мужчина барабанил в дверь. Один из священнослужителей собора обещал лейтенанту Бёрту Калишу, что ему будет позволено посадить в башне фотографа для съемки благодарственного молебна. Калиш услышал раздававшиеся за дверью голоса и забарабанил вновь. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появилось небритое лицо человека средних лет в белой рубашке. Он зло прокричал что-то Калишу по-французски и захлопнул дверь. Почти в тот же миг Калиш услышал рев толпы, возвещавший о приближении де Голля. Затем раздались выстрелы. Калиш инстинктивно посмотрел вверх. При этом он отчетливо увидел, что из щелей возвышавшейся над ним башни высовывались дула трех винтовок, стрелявших прямо в толпу. На его глазах все три ствола исчезли внутри башни. «Боже мой, — мелькнула у Калиша мысль, — они хотят убить де Голля!»
Открытая машина де Голля только что подкатила к собору. Де Голль спокойно вышел из нее и принял из рук двух маленьких девочек, одетых в эльзасские национальные костюмы, трехцветный букет. Затем с властным и вызывающе безразличным видом де Голль направился к огромному главному порталу Судного дня собора Нотр-Дам. В это время по площади прокатились залпы выстрелов. Бойцы ФФИ и солдаты 2-й бронетанковой открыли огонь по крышам домов, и вниз дождем посыпалось множество гранитных осколков от гаргулий, украшавших балюстрады собора. Офицеры Леклерка предприняли отчаянную попытку восстановить порядок. Вспыльчивый генерал сам огрел тростью одного из своих беспорядочно паливших солдат.
Де Голль продолжил шествие с невозмутимым видом. В полумраке собора приглашенные на благодарственный молебен слышали доносившиеся снаружи приветственные вопли толпы и резкие звуки ружейной стрельбы. Когда де Голль вошел через портал Судного дня, перестрелка началась в самом соборе. В притихшем, прохладном пространстве огромной церкви эхо перестрелки перерастало в грохот. Прихожане распластались на полу, пытаясь, как показалось капитану Ги, «натянуть на себя молельные скамейки, словно щиты». По 190-футовому проходу, отделявшему его от предназначенного для него места, де Голль шел все той же размеренной походкой, при этом следовавшая сзади и уже изрядно поредевшая группа должностных лиц все так же отставала от него на один шаг. Андре Ле-Троке, один из министров де Голля, прошептал: «Я вижу больше задов, чем лиц». Какая-то женщина высунула голову из-за своего сиденья ровно на столько, чтобы прокричать «Да здравствует де Голль», и снова нырнула в укрытие. Стоя у выхода, Жаннин Стил, секретарша одного из старших офицеров де Голля, подумала: «Мерзавцы, они убили его». Затем, увидев в глубине церкви его маячившую голову, она подумала: «Какая мишень». И наконец, когда он продолжал идти вперед: «Прямой и несгибаемый, столб света, рассекая полумрак, упал ему на плечи». В этот момент симпатичная блондинка, никогда не бывшая ярой голлисткой, почувствовала, что ее глаза наполняются «слезами гордости за этого человека».
У начала поперечного нефа де Голль спокойно направился к предназначавшемуся для него почетному месту слева от главного прохода. Шедший сзади генерал Кёниг оглядел прихожан, после чего победитель при Бир-Хакейме повелительным тоном крикнул: «Есть ли у вас гордость? Встать!» Стрельба в соборе все еще продолжалась, но де Голль с псалтырем в руке встал перед совершавшим богослужение священником и повторил за ним все фразы из «Магнификат».
Понимая, что продолжать дальше бессмысленно, он прервал службу после чтения «Магнификат». Тем же размеренным шагом, каким он входил в собор, де Голль покинул его.
Ни один шаг, который он мог бы предпринять, ни одна фраза, которую он мог бы сказать, не принесли бы де Голлю такое восхищение соотечественников, как эта демонстрация личного мужества. «После этого, — сказал один из наблюдавших за ним американских газетчиков, — Франция была уже у де Голля в руках».
Оставался открытым вопрос, кто стрелял. Окончательный ответ так и не будет найден. Но среди все большего числа голлистов высказывалось подозрение, что это было сделано не милицией Виши и не немецкими снайперами.
От края моста Дубль два молодых полковника наблюдали за тем, как солдаты Леклерка обстреливают крыши домов вокруг собора. «Я вижу, — сказал коммунист полковник Роль полковнику Жаку де Гийбону из 2-й бронетанковой, — что ваши солдаты не очень-то знакомы с уличным боем».
«Да, не знакомы, — ответил Гийбон, спокойно глядя на руководителя парижского восстания, — но они непременно научатся».
18
У его окружения, возможно, и возникло недоумение по поводу инициаторов перестрелки; де Голль не сомневался относительно того, кто за этим стоял. Он был убежден, что это дело рук коммунистов. Возвращаясь в Министерство обороны, он заметил своим помощникам: «Ну вот, господа, в нашей стране существуют силы, готовые уничтожить меня, чтобы проложить себе дорогу к власти». В худшем случае, предполагал де Голль, стрелявшие намеревались убить его, в лучшем — посеять семена хаоса, который был бы на руку его соперникам.
К моменту возвращения в Министерство обороны у де Голля созрело решение. Восторженный прием со стороны толпы подтверждал, что он пользуется поддержкой народа; стрельба продемонстрировала те опасности, с которыми ему придется столкнуться. Он решил реагировать немедленно, пока находится на вершине популярности, и сломить своих противников. Его первым решением было разоружить ФТП и раздробить их на небольшие подразделения в составе регулярной армии, где они будут связаны армейской дисциплиной.
Через несколько часов генерал Кёниг заявил полковнику Ричарду Виссерингу из штаба Верховного командования союзников, что «самой страшной опасностью в Париже в настоящее время являются ФФИ». Де Голль, продолжал он, хочет «ослабить напряжение, облачив самые беспокойные элементы в военную форму и связав их воинской дисциплиной». С этой целью Кёниг попросил «срочно» предоставить 15 тысяч комплектов обмундирования. Вслед за информацией Кёнига в штаб Верховного командования союзников поступило донесение: «Ситуация с точки зрения общественной безопасности вызывает тревогу. Граждане, придерживающиеся различных взглядов, опасаются арестов со стороны той или иной банды. Представляется, что большинство этих групп носит политический характер, и самая мощная из них — коммунисты. Район [Парижа] быстро превращается в зону террора, и всеми сторонами высказывается общее мнение, что в любой момент может возникнуть состояние гражданской войны».
Де Г олль написал Эйзенхауэру, убеждая его в абсолютной необходимости оставить 2-ю бронетанковую дивизию в городе до полного восстановления порядка. На следующий день он попросил Эйзенхауэра устроить в городе парад американской дивизии, чтобы продемонстрировать населению, насколько союзники поддерживают его правительство.
Через два дня де Голль объявил о роспуске высших эшелонов командования ФФИ в Париже. Он объявил, что «те подразделения ФФИ, которые могут быть полезны», будут включены в состав действующей армии. Все члены ФФИ должны были зарегистрироваться у Кёнига. Их оружие и снаряжение должны быть сданы на хранение под наблюдением воинских подразделений генерала Кёнига.
НКС вместо «национального дворца» получил для проведения нескольких своих заседаний невзрачную виллу, принадлежавшую английскому лорду, после чего эта организация была быстро предана забвению. Де Голль, конечно, никогда не присутствовал на его заседаниях. Лишь однажды он устроил для его членов короткий прием. Они выразили свое намерение преобразовать эту организацию в постоянный орган, функционирующий параллельно с правительственными учреждениями, передать в ведение КОМАК, военного органа НКС, коммунистическую милицию. Де Голль вежливо, но безапелляционно заявил, что их деятельность должна быть прекращена. Законность и порядок будут обеспечиваться полицией, сказал он. В «народной милиции» коммунистов больше нет необходимости. Она была распущена, равно как и КОМАК, членов которого он так и не принял.
«Железо было горячо, — писал позднее де Голль в красноречиво сдержанных выражениях, — и я нанес по нему удар».
19
Тишину ночи заполнил низкий, мощный гул самолетов. Они прилетели с северо-востока, накатываясь угрожающими волнами вдоль реки, пока не начали содрогаться терракотовые стены уже спавшего городка Ме-ан-Мюльсьен. С романской колокольни церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон пожилой немецкий сержант с удивлением наблюдал, как они с грохотом проносятся мимо, целыми дюжинами, крылом к крылу, разрезая небо едва ли не в тысяче футов над его головой. Давно уже не видел он подобного зрелища. Самолеты были немецкими и направлялись они строго вниз по течению Марны, к Парижу, расположенному в 48 милях отсюда.
Капитан Тео Вульф также наблюдал за ними из парка старого замка к северо-востоку от Парижа, куда Хубертус фон Аулок перенес свой штаб. Заслышав шум их моторов, Вульф поспешил в укрытие. Ветеран Нормандии знал, что небо Франции принадлежало теперь союзникам. Он прислушивался к рокоту самолетов, проносившихся над головой. Шум их работающих двигателей показался ему не похожим на моторы «мародеров» и В-24, ставших привычными в небе Нормандии. На мгновение ему показалось, что это могут быть «хейнкели» люфтваффе. Но Вульф был уверен, что люфтваффе не поднимет в небо такое количество самолетов. Капитан заблуждался.
Германский воздушный флот № 3 действительно вернулся в небо Франции, чтобы коротко и навсегда с ним распрощаться. В реймском штабе генерал-оберста Отто Десслоха не было «забывчивых» генералов. Наконец-то, через тринадцать дней после первого приказа об обороне города и через сутки после его сдачи, Адольфу Гитлеру все-таки удалось причинить Парижу малую толику тех разрушений, которыми он грозил. Шпейдель не дал воспользоваться ракетами Фау, но люфтваффе оставался верен приказам фюрера.
Вульф прислушивался к самолетам — их было почти 150, — грациозно проплывавшим над Венсеннским лесом в сторону северо-восточных окраин Парижа. Через несколько минут он услышал отдаленное эхо первых бомбовых разрывов и увидел медленно поднимающееся в небо зарево пожаров от зажигательных бомб. Почти с благоговением Вульф подумал, что «никогда уже мы не увидим в небе так много наших самолетов одновременно».
В Париже пронзительный вой сирен воздушной тревоги обрушился на город, праздновавший свое освобождение, с такой силой, как если бы этот звук оповещал о конце войны. По всему городу горел свет, люди танцевали на улицах, кабаре и бары сотрясались от смеха. Первые бомбы упали еще до того, как стих вой сирен.
Капрал Билл Маттерн из 20-го полка полевой артиллерии только-только начал танцевать с симпатичной рыжеволосой девушкой на импровизированной танцплощадке у Венсеннского замка, как вдруг услышал приближающиеся самолеты. Его девушка и все остальные исчезли, «оставив около пятидесяти чертыхающихся американцев посреди городской площади». Капитан Билл Миллз, купивший карту Парижа в Лонжюмо, находился на батальонном командном пункте, который сам разместил в «кафе-дансан» у озера Доменвиль. Несколькими часами ранее Миллз сообразил, что до прибытия его батальона этот новый командный пункт удовлетворял значительно больший круг интересов, чем просто светские танцы: на втором этаже находился бордель. Миллз помнит, как, сжавшись под столом, прислушиваясь к грохоту взрывавшихся вокруг бомб, молился: «Господи, если ты проведешь меня сквозь это невредимым, в будущем я буду более осторожен в выборе места для батальонного командного пункта».
В течение тридцати минут самолеты генерала Десслоха на низкой высоте беспрепятственно курсировали в небе Парижа. В городе не было ни одного зенитного орудия союзников, которое могло бы им противостоять. Через двадцать минут ночное небо освещалось полдюжиной огромных пожаров. Самый большой из них сопровождался хлопками разрывающихся бутылок. В этот самый разрушительный воздушный налет, который пережил Париж за годы войны, самолеты люфтваффе подожгли винный рынок. Они также убили 213 человек, ранили 914 и повредили или разрушили 597 зданий, по большей части многоквартирные жилые дома между Лионским вокзалом и Венсеннским лесом.
В своем узилище в пожарном депо на бульваре Пор-Рояль граф фон Арним поверх отдаленных разрывов бомб услышал другой звук, более близкий, более опасный для молодого немецкого аристократа. Это был вой жаждущей мести толпы, стекавшейся к пожарному депо. Фон Арним уже мог различить, как ее вожаки колотят во входную дверь тремя этажами ниже, выкрикивая «Бошей, бошей, отдайте нам бошей». Фон Арним понимал, что горстка охранявших их безразличных ко всему пожарников отступит в сторону, как только толпа предпримет первый же решительный натиск. Вместе со стоявшим рядом военным корреспондентом Клеменсом Подевилсом Арним смотрел через перила лестницы на цементный пол пожарного депо четырьмя этажами ниже. Оба молодых дворянина поклялись друг другу, что если толпа бросится вверх по этой лестнице, то они предпочтут разбиться насмерть, нежели попасть в ее руки.
Они молча созерцали холодный цементный пол внизу, прислушиваясь к тому, как выкрики снаружи перерастают в полный ненависти требовательный рев. И тут сквозь взрывы и вопли толпы Арним услышал еще один звук — металлический лязг танковых гусениц. Он подбежал к окну и увидел с полдюжины танков, подкатывающих ко входу в пожарное депо. Их башни были украшены белыми звездами армии США. Варфоломеевская резня, которой в эту августовскую ночь опасался молодой бранденбургский аристократ, не состоится.
* * *
Капитан Клод Ги тоже наблюдал за происходящим из окна темной приемной Министерства обороны. Он видел всполохи разрывающихся бомб и мягкое багровое зарево пожаров, пятнами высвечивавших темный горизонт. Слева, из-за ставен соседних квартир, прорываясь сквозь шум налета, доносился раскованный и счастливый смех. Это группа парижан шумно праздновала освобождение, игнорируя воздушный налет.
В темноте Ги почувствовал, как кто-то тихо подошел к нему и встал рядом. Это был де Голль. В задумчивом молчании он разглядывал происходящее за окном, потом повернул голову и прислушался к раздававшемуся в ночи смеху.
— Ах, Ги, — вздохнул он, — они думают, что раз Париж освобожден, то война окончена. Но, как видите, война продолжается. Самые тяжелые дни еще впереди. Наша работа только началась.
С этими словами через затемненную комнату де Голль отправился в свой кабинет. Там при свете керосиновой лампы он продолжил работу, которая только началась.
Париж был свободен — на пятнадцать дней раньше, чем планировали союзники. Опережая их графики, раньше, чем надеялись его друзья и опасались противники, Шарль де Голль вернулся, чтобы успеть на рандеву с историей. Теперь, пока Париж спал, он готовился установить свою власть в столице Франции. Было уже за полночь. Начинался новый день.
28 августа 1944 года в 12.45 пополудни, через три дня после капитуляции генерала фон Хольтица, фельдмаршал Модель, главнокомандующий армиями Западного фронта, передал в ставку Адольфа Гитлера следующее сообщение:
28.8.44–12.45
Гриф «Блиц»
Получатель: ОКВ, Отдел кадров офицерского состава генерального штаба.
Только для лиц командного состава. Подлежит передаче только офицером. Совершенно секретно.
Для ГШ: Первое бюро, военному прокурору. Третье бюро (оригинал). Первая копия в группу армий «Б».
Я просил председателя Трибунала рейха возбудить уголовное дело за нарушение дисциплины против генерала от инфантерии фон ХОЛЬТИЦА и его сообщников.
Генерал фон Хольтиц не справился с тем, что от него ожидалось как от генерала, назначенного оборонять Париж.
Я не знаю, вызвана ли его беспомощность осколочной раной или же ослаблением воли к сопротивлению и способности действовать в результате применения противником особого оружия. Такую возможность исключать нельзя.
МОДЕЛЬ
Главнокомандующий Западным фронтом
3-е бюро № 770/44
Ларри Коллинз
Доминик Лапьер
Ларри Коллинз
Доминик Лапьер
ГОРИТ ЛИ ПАРИЖ?
МОСКВА
«ДЭМ»
1991
ББК 84.37(7США)
К60
К 4703040100—001 Без объявл.
ДЭМ—91
© 1965, by Larry Collins and Dominique Lapierre
© Сокр. пер. с английского Лукьяненко О. И., 1991
ISBN 5-85207-015-7
Документально-художественное издание
Ларри Коллинз, Доминик Лапьер
ГОРИТ ЛИ ПАРИЖ?
Редактор Т. Б. Романова
Оформление художника В. И. Терещенко
Технический редактор Т. С. Орешкова
Корректор Л. Ф. Крылова
ИБ № Н/К
Сдано в набор 17.08.90. Подписано в печать 01.10.90. Формат 84×1081/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,54. Усл. кр. — отт. 15, 96. Уч. — изд. л. 17,01. Тираж 500 000 экз. Заказ № 1200. Цена 7 руб. Изд. № ДЭМ-27.
Издательство совместного советско-французского предприятия «ДЭМ». 117049, Москва, Крымский вал, 9. Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.
Коллинз Л., Лапьер Д.
К60 Горит ли Париж?: Сокр. пер. с англ. — М.: «ДЭМ», 1991. — 296 с.
ISBN 5-85207-015-7
«ДЭМ» впервые публикует книгу Л. Коллинза и Д. Лапьера «Горит ли Париж?», волнующую, полную драматизма документальную повесть о чудовищном плане Гитлера разрушить Париж и о том, как сотни людей боролись за спасение города.
Для широкого круга читателей.
К 4703040100—001 Без объявл.
ДЭМ—91
ББК 84.37(7США)
Примечания
1
«В Париж?» (нем.).
(обратно)2
В 1943 году монастырь стал даже местом тайной встречи адмирала Вильгельма Канариса, главы абвера — военной разведки Германии, которого привели туда с завязанными глазами, и шефа разведывательной службы во Франции. Канарис хотел выяснить у Черчилля, каковы могут быть условия возможного мирного договора между союзниками и Германией без Гитлера. Через 15 дней от Черчилля пришел ответ. Он гласил: «Безоговорочная капитуляция». Через 18 месяцев Канарис был казнен за участие в заговоре против Гитлера.
(обратно)3
«На Нормандский фронт» (нем.).
(обратно)4
«Новые времена» (фр.).
(обратно)5
День высадки союзных войск в Европе — 6 июня 1944 года. — Прим. пер.
(обратно)6
Штаб Верховного командования союзных экспедиционных сил. — Прим. пер.
(обратно)7
Чтобы гарантировать беспрепятственную высадку в Алжире, Соединенные Штаты пошли на вызвавшую суровую критику сделку с адмиралом Жаном Луи Дарланом, вишистским хозяином Алжира. Первыми словами разъяренного де Голля, когда его разбудили 8 ноября 1942 года и сообщили, что высадка идет полным ходом, были: «Надеюсь, Виши сбросят их в море».
(обратно)8
Еще во время Касабланкской конференции в январе 1943 года де Голль убедился, что Соединенные Штаты стремятся не допустить его к руководству послевоенной Францией. По словам одного дипломата, его «буквально вытолкали из Лондона» в Касабланку. И в первых же словах французского лидера, сказанных американскому дипломату Роберту Мерфи, принимавшему де Голля на правах хозяина, прозвучала холодная враждебность. «Позвольте заверить вас, господин Мерфи, — сказал он, — что я не согласился бы приехать сюда, на французскую землю, за американскую колючую проволоку, если бы вилла, в которой мы находимся, принадлежала французу». Она принадлежала датчанину.
(обратно)9
Его подозрения, вероятно, были небезосновательными. По словам Роберта Мерфи, летом 1944 года Рузвельт все еще был «готов согласиться на любую жизнеспособную альтернативу де Голлю, при условии, конечно, что таковая нашлась бы».
(обратно)10
Революционная власть, возникшая в Париже в результате восстания 18 марта 1871 года вслед за отступлением прусской армии. Она была свергнута в мае того же года силами регулярной французской армии. Позднее стала символом надежд коммунистов в отношении этого города.
(обратно)11
Это обвинение отвергалось как самой партией, так и многими людьми, не являвшимися коммунистами. Вероятно, мы так и не узнаем, как далеко готовы были зайти коммунисты в борьбе за политическую власть. По самым скромным предположениям, можно утверждать, что их целью было закрепиться на ключевых позициях, которые затем можно было бы использовать как трамплин (как это было в Праге) для броска к управлению страной, если бы такая возможность представилась в послевоенной Франции. Возможно, их подлинное отношение к де Голлю было сформулировано одним из красных лидеров коммунистического Сопротивления на юге Франции болгарином Иваном Калевым. «В данный момент, — сказал он, — де Голль нам нужен. А после войны, кто знает, захочет ли де Голль остаться и захочет ли его Франция?» (нью-йоркская «Геральд трибьюн» за 23 августа 1944 года, стр. 25).
Каковы бы ни были цели коммунистов, их тактика в тех районах Франции, которые они контролировали, как правило, подкрепляла подозрения де Голля. На юго-западе Франции голлистскому движению потребовались месяцы, чтобы вырвать этот район из-под контроля партии. В некоторых районах де Голль даже вынужден был использовать подпольные передатчики Сопротивления, чтобы поддерживать связь со своими верховными комиссарами. В докладе Управления стратегических служб от 26 октября 1944 года, составленном на основе контактов с деголлевскими агентами безопасности, говорилось: «Если внутреннее положение во Франции будет оставаться столь же плохим, следует ожидать коммунистического переворота». В Тулузе, говорилось далее, ежедневно подвергаются незаконному аресту до 50 человек; 40 тысяч вооруженных и тщательно подобранных членов ФТП (франтирёры и партизаны — коммунистическая военная организация движения Сопротивления) готовы к тайной переброске в Париж. Они будут «представлять собой ударную группу войск партии на случай военного переворота. Такая попытка, если она будет предпринята, намечается на середину января, когда их силы будут полностью укомплектованы, а население дойдет до крайней нищеты (так в тексте). Партия считает, что на эту операцию потребуется 8–10 дней, и союзники не будут вмешиваться, поскольку это будет внутренним делом французов».
(обратно)12
Это были Парижский комитет освобождения (ПКО) и Комитет военных действий (КОМАК), контролировавшиеся коммунистами, и Национальный комитет сопротивления (НКС), в котором они составляли влиятельное меньшинство. Основанный де Голлем в 1943 году, НКС теоретически был высшим политическим органом Сопротивления. Фактически же к лету 1944 года он перестал быть чем-то полезным де Голлю и оказался, по его мнению, в руках коммунистов. Он язвительно называл его «этот комитет общественной безопасности» — по аналогии с французским революционным директоратом, который управлял Францией при Максимилиане Робеспьере в годы террора.
(обратно)13
По оценке генерала Кёнига, подготовленной им 6 сентября для Эйзенхауэра, во Франции партии подчинялись 250 тысяч вооруженных бойцов и еще 200 тысяч ожидали оружия. Французская регулярная армия насчитывала в то время менее 500 тысяч человек.
(обратно)14
На Париж! (нем.)
(обратно)15
Некоторые из врачей Гитлера были убеждены, что он страдал болезнью Паркинсона.
(обратно)16
Это привело также к тому, что контроль над парижским отделением ФФИ захватил коммунист Роль. Роль сменил на этом посту Лефошё, который за несколько дней до ареста жаловался, что коммунисты его «топят».
(обратно)17
Немцы не применяли во Франции тактику выжженной земли. Однако не делали они этого не из-за какого-либо особого отношения к их французским соседям. По воспоминаниям Эйзенхауэра, в южной Италии, на земле своих союзников, «они застрелили всех коров и кур, которых не смогли увезти». Во Франции же, после Авранша, они отступали столь быстро, что у них просто не было для этого времени.
(обратно)18
Ковель — небольшой город в Польше, полностью уничтоженный солдатами Моделя.
(обратно)19
С 1941 года они расстреляли 4500 человек.
(обратно)20
Большое спасибо (нем.).
(обратно)21
Двадцать лет спустя в Баден-Бадене Хольтиц объяснил, почему он преднамеренно приуменьшал масштабы столкновений в Париже в докладах своему командующему. Как и большинство немецких генералов, он опасался быстрой и безжалостной реакции Моделя. Он не хотел привлекать внимание к себе и Парижу.
(обратно)22
Немецкие офицеры постоянно преувеличивали противостоящие им силы союзников. В действительности на тот день в Нормандии было лишь 39 дивизий союзников.
(обратно)23
Буквально: улицы «Кошки, ловящей рыбу» и «Где покоится сердце».
(обратно)24
Точный характер взаимоотношений между фон Хольтицем и Пош-Пастором и роль самого австрийца остаются, к сожалению, не выясненными. Из многих сотен людей, с которыми в процессе подготовки этой книги беседовали авторы, Пош-Пастор, служащий теперь в цюрихском отделении немецкой металлургической фирмы, был единственным человеком, который категорически отказался обсуждать свое участие в освобождении Парижа.
(обратно)25
Мины (нем.).
(обратно)26
Фон Хольтиц, никогда не бывавший в Лувре, не знал, что французы уже убрали оттуда большинство сокровищ, чтобы уберечь их от подобных заботливых действий.
(обратно)27
Недосмотр крестьян Шартра был преднамеренным: штаб ФФИ в Лондоне приказал им отложить уборку, чтобы немцы не вывезли зерно.
(обратно)28
Фон Хольтиц считает, что упущение Моделя в отношении этих двух дивизий было преднамеренным. По его мнению, оно объясняется убежденностью Моделя в том, что эти дивизии можно было бы лучше использовать где-то в другом месте, и желанием фельдмаршала как можно дальше оттягивать момент, когда их придется окончательно пообещать Парижу.
(обратно)29
Назван так в честь одной из битв Наполеона в России.
(обратно)30
До войны «Сфинкс» был самым известным и популярным из всех публичных домов Парижа.
(обратно)31
Я тебя люблю (фр.).
(обратно)32
Переломай себе шею и ноги (нем.).
(обратно)33
Генерал бошей, генерал бошей! (фр.).
(обратно)34
Вы очень красивая (фр.).
(обратно)35
Ни Шпейдель, ни ОКВ не знали о запланированной на тот день демонстрации в Париже. После ареста Шпейделя допрашивали о его участии в заговоре против Гитлера 20 июля. До окончания войны он просидел в немецкой тюрьме.
(обратно)
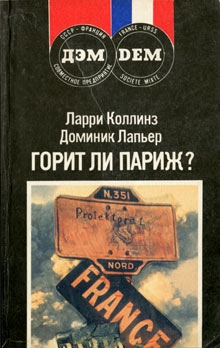

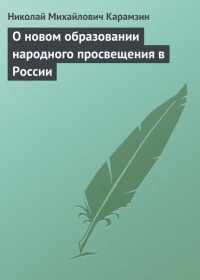
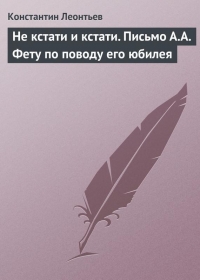
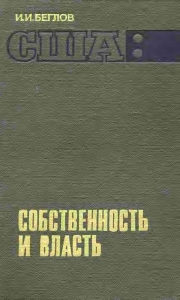
Комментарии к книге «Горит ли Париж?», Ларри Коллинз
Всего 0 комментариев