Валерий Ганичев РОССИЮ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ (Выступление на Соборной встрече 5 декабря 2ОО8 г.)
В разговоре о слове мы не можем не говорить об одном из очагов, где заботятся о поддержании его духовной высоты, о державных смыслах, о нравственности.
Это, конечно, Союз писателей России, пятьдесят лет деятельности которого мы отмечаем сегодня. Не собираюсь делать ни обзор, ни отчёт – впереди, в первой половине будущего года, наш съезд.
Хотелось поделиться некоторыми размышлениями, сказать о некоторых уроках его существования и работы.
Считаю, что история Союза писателей России – это история сбережения России. Это процесс собирания духовного ядра нации. Тогда, в 50-60-е годы, это главы и окончание шолоховской «Поднятой целины», «Они сражались за Родину», это главы о героизме, трагедии и жизненной силе нашего народа. Это «Владимирские просёлки» Владимира Солоухина, открывавшие мир не сусальной, а естественной красоты России и её людей. Это восторженные, полные искреннего восхищения Родиной стихи Расула Гамзатова. Ну а ныне может и меньше оптимизма, но не меньше исторической ответственности перед народом. Это предостерегающая от безнаказанности и показывающая вектор народного гнева «Дочь Ивана, мать Ивана» Валентина Распутина, признанная лучшей книгой иностранного автора в миллиардном Китае. Это мощнейшее полотно, указующее на глубины тектонических национальных сдвигов – «Раскол» Владимира Личутина. Это книга о фактах становления средне- вековой империи Чингизхана якута Николая Лугинова. Это трагическая книга «Безотцовщина» Виктора Николаева, побывавшего во всех детских колониях, увидевшего бездну горя, но и высветившего путь выпрямления судьбы, наполнения души подростка светом и смыслом. Это вызывающие к жизни, к действию и стойкости в наше не бодряческое время стихи и песни Владимира Кострова, Евгения Семичева, Светланы Сырневой и Глеба Горбовского, Михаила Ножкина, Николая Зиновьева и Виктора Смирнова, Егора Исаева и Магомета Ахметова и других замечательных поэтов России.
Не могу не сказать о великой роли Союза писателей России по соединению литератур, культур, языков народов России в единое духовное и культурное пространство.
Это великая миссия, которую, к сожалению, сегодня в стране не осуществляет ни один государственный орган и, пожалуй, ни одна общественная организация, за исключением, может быть, некоторых направлений в деятельности политической партии «Единой России», Коммунистической и «Справедливой России».
Ведь нет нынче Министерства по делам национальностей, а лучше бы Министерства по делам русского народа и других национальностей страны.
Не имея никаких средств на это, не имея поддержки СМИ, министерств, у нас, в Союзе писателей, ежегодно проводятся десятки полнокровных встреч писателей всех национальностей, у нас предоставляется такой букет ярких, самобытных, красивых, вдохновенных, с любовью к своему народу и простым людям, к нашему общему Отечеству произведений башкир, якутов, кабардинцев, аварцев, удмуртов, бурятов, о которых нигде больше не узнаете, не прочитаете, не услышите. Почти незаметен ныне, потерял позолоту фонтан «Дружбы народов» на Выставке достижений народного хозяйства. Но здесь у нас, в здании на Комсомольском проспекте, он не иссяк, он животворен, он рассыпается всеми цветами радуги.
Приникните к нему, дорогие наши соотечественники, омойте свои души, руководители политических сил, перестаньте брюзжать, что в народе растёт напряжённость и отчуждение, поддержите то, что наяву проявляется в писательских встречах на Комсомольском. Об этом, кстати, свидетельствует присутствие на нашей встрече и писателей из других стран (Украины, Китая, Финляндии, Белоруссии, Палестины и др.).
Хотелось бы сказать об одной важной черте сегодняшнего Союза писателей. После опыта писателей военных поколений, после глубинного проникновения в народную душу выветрился дух богоборчества и богоразрушения, касавшийся писателей начала XX века. Отечественный писатель уже не может, как и в XIX веке, золотом веке нашей литературы, не творить на координатах Веры.
Поэтому мы участвуем и являемся соучредителями Всемирного Русского Народного Собора, глава которого святейший Патриарх. Поэтому книги нынешних писателей России проникнуты высотой помыслов, нравственностью, духовностью. Поэтому святейший Патриарх сказал при встрече с писателями, что средостение между писателями и Русской Православной Церковью разрушено, и в этом немалая заслуга и Союза писателей.
В нашем Министерстве образования заявляют, что цель школы – сделать ученика успешным. Не нравственным, не образованным, не гуманным, а успешным. А ведь успешным может быть и грабитель, человек, пренебрегающий общественным долгом, вообще, безнравственный человек.
Довольно серьёзные силы хотят отстранить писателей от раздумий о смысле жизни, от социальных раздумий, отлучить слово от действительности, от учительства, присущего русской литературе.
В этом смысле обратите внимание на дискуссию, вернее, публичную порку, которую учинил мультибогач Пётр Авен писателю Захару Прилепину за его повесть «Санькя», поставившую под сомнение моральность и праведность целого ряда постулатов современной либеральной властной элиты. В обществе уже мало кто в этом сомневается, и миллионер (или миллиардер?) сам решил развенчивать бродящие в умах народов идеи справедливости, равенства, братства, нестяжательства, патриотизма, духовного служения и, наконец, христианства. Захар ему ответил: «Не собираюсь отказываться от своих убеждений». Нет, жива литература и от своей социальной функции не отказалась.
И ещё важная, может быть, важнейшая задача, которую пытается решать Союз писателей России: «Языком душа с Богом разговаривает» – гласит одна из мудрейших русских пословиц. Научиться приподнимать словом души человеческие – одно из самых высших писательских предназначений. На многих своих пленумах, встречах Союз писателей утверждал мысль о том, что сбережение русского языка, поддержка его, укрепление его позиций – одно из главных условий духовного, культурного, научного, экономического развития России, основа её национальной безопасности, единства государства, не агрессивное, гуманистическое средство влияния на мировые процессы.
В 2007 году прошла Всероссийская встреча в Белгороде, в области особого рода, где возводится самое большое количество индивидуальных домов, где добиваются высоких урожаев и надоев, где последние годы вознеслись птицекомплексы и свинокомплексы мирового уровня, где деревья, цветы и чистота – обязательная принадлежность каждого населённого пункта.
В этом году именно отсюда прозвучало обращённое ко всем слово: «Возродим ВСЕ храмы России». И ведь возродим! У себя в Белгородской области уже восстановили 214 храмов. У руководителей области, у духовных отцов, да и у всех жителей хватает сил на сбережение и защиту русского языка. Читательские конференции, смотр сочинений по языку, литературе, ежегодные литературные патриотические чтения «Прохоровское поле», вручение Всероссийских премий этого же названия, объединительная русско-украинская премия «Слобожанщина», решительная и беспощадная борьба со сквернословием, когда штрафы от словесных хулиганов идут в детские дома.
Можно и нужно считать борьбу за родной язык, за нашу общую культуру тоже главным делом, как это считает губернатор области Евгений Степанович Савченко, владыка Белгородский и Старооскольский Иоанн.
К сожалению, мы не можем порадоваться, что так дела обстоят везде в стране. Как сказал один лингвист: «Превращение образования в «рынок образовательных услуг» вызывает содрогание и отвращение». И это чувствуется, ибо мы начали терять поколение, которое не учится по-настоящему русскому языку. Да и как обучиться, если произошла катастрофа, когда под видом сложности расположения в прокрустовом ложе ЕГЭ русской литературы её вообще лишили государственного представительства и вывели из экзамена, которым определяется наш гражданин-соотечественник. Не говоря уже о русском языке. Государственно- образующие предметы не занимают внимания наших образованцев.
Ещё о сквернословии. Чиновники наши благодушно настроены к нему, и активно отбивают все атаки тех, кто борется со сквернословием. Выдающая себя за журналистов, писателей, учёных воинственная группа клакеров протаскивает сквернословие, мат в эфир, книгу, журнал. Часть учёных, активно отрабатывающих зарубежные гранты, плотиной стали на пути борцов с низостью, пошлостью и цинизмом в книге. Мы просим белгородцев, которые на законодательном уровне закрепили это, не ослаблять усилия в борьбе с этой скверной, с этой заразой, а всем остальным присоединиться в этом к нам.
Мы благодарим наших сотоварищей, которые в Эстонии, Латвии, Молдавии, на Украине, в Казахстане, Америке, Болгарии, Австрии, Германии помогают утверждаться русскому языку, расширяет его сферу. Мы благодарим МИД, министра иностранных дел Лаврова (кстати, хорошего поэта и члена нашего Союза) за то, что в своих документах они заявляют, что «задача сохранения позиций русского языка занимает приоритетное место в работе МИДа».
Кстати, положительное отношение к России сформируется ещё и от того, какой русский язык предлагается этому сообществу. Язык классической русской литературы, живой великорусский, или язык подворотни, эпатажный, который звучит в салонах некоторых литературных рыночных лавочников, выдающих себя за подлинных русских писателей.
Итак: защита русского языка, всех национальных языков – одна из главнейших задач Союза, задача долговременная, требующая высокого профессионализма, квалификации и неустанной работы души.
Хотелось сказать сегодня и об опасностях для нашей литературы – их немало, и литератор преодолевает их самостоятельно, но некоторые из них столь велики, что в одиночку с ними вряд ли можно справиться.
Тот тип поведения и социального движения, которое выбирают люди, состоит в том, что всё большие слои втягиваются в поиск и получение впечатлений, удовольствий. многие из которых на грани животной чувственности, грязи, низости.
Всё больше и больше людей привыкают к этому, соглашаются с низостью, пакостью, цинизмом, потребительским уродством.
Мы должны сказать сегодня, что вся эта «недочеловечность» – порождение бизнеса и рынка, того «дикого рынка», который желает воцариться у нас в стране.
Тревожит не только колоссальное социальное расслоение, что будет, безусловно, причиной социальных потрясений. Но то, что в области нравственности и культуры происходит столь же вопиющее разделение.
Причём следует сказать об опасном согласии многих деятелей культуры с беспутными потребностями, извращением в культуре, отказе от этики.
Они и сами приобщились к «корыту». Согласились с подменой истинной культуры на массовую, потребительскую поп-культуру, которая оказалась поистине уродливой карикатурой на культуру.
Образовался круг людей, обслуживающих эту поп-культуру. Началось выхолащивание, вытеснение национальных культур, лишение их охранительных народных традиций. Бизнес от культуры ринулся эксплуатировать всю низость человеческого бытия и характера.
Поистине великим принципом потребительского либерализма, с гордостью первооткрывателей произносимого у нас в стране в 90-е годы прошлого столетия, стал лозунг: «Можно делать всё, что не запрещено законом».
Они позволили топтать совесть и честь, достоинство и человечность, ибо эти категории не отражены в юридических кодексах. А такого рода потребительское наплевательство породило слой наживающихся на индустрии развлечений, сексо-бизнесе, развлекательном и бездумном чтиве.
Таких людей, обслуживающих самые низкие потребности в человеке и наживающихся на этом, справедливо назвали «интеллектуальное шкурьё», т.е. людишки, думающие только о собственной шкуре.
Я назвал самые главные поля, на которых действует Союз писателей России. Конечно, это не нравится некоторым безнравственным, безнациональным, державно безответственным, антинародным персонам, соединение которых являет определённую силу.
Они, нередко пользуясь своим массовым присутствием в СМИ, развязывают кампанию травли, опорочивания Союза, его позиции, его традиции. Это неизбежно, и должно с твёрдостью и стойкостью встречаться нашими друзьями.
Недавно сто писателей, деятелей культуры подписали письмо руководителям страны против рейдерской попытки захвата Дома Союза писателей России на Комсомольском, 13, принадлежащем Союзу с 1970 года – Союзу писателей, который обеспечил десант в Чечню и Якутию, выступления в Тирасполе и на Прохоровском поле, в Архангельске и Орле.
Что же касается недочётов, ошибок, недоделок, то их немало, и их с Вашей помощью мы будем исправлять.
Унывать, скулить по поводу того, что нам трудно, никто не помогает, не стоит. Уныние Богу противно. Надо работать творчески, отдавая все силы общему Делу. И тут нельзя не вспомнить слова известного русского поэта Игоря Северянина, сказанные им в 1928 году, когда после манерных салонов Петербурга, эмигрантсткого изгойства он вдруг ощутил необходимость, долг писателя-гражданина, призванного творить стихию Добра.
... увела
Тебя судьба не без причины
В края неласковой чужбины.
Что толку охать и тужить –
Россию нужно заслужить!
Уверен, Россию нам всем надо заслужить.
(обратно)Станислав Куняев “ОТСТУПАТЬ — НЕКУДА!”
На Соборной встрече "Духовная сила слова: основа единства народа" состоялась общественная дискуссия о поддержке языков народов России, о русском языке, как основном языке межнационального общения и единства, о духовном значении слова, об ответственности и нравственном долге писателя, журналиста, профессора, учителя и всех тех, кто обращается к народу, о преодолении средостения между писательским сообществом и Русской Православной Церковью, что отметил в своё время как особое достижение последних десятилетий на встрече с писателями России Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (ныне покойный).
Соборная встреча стала своеобразным продолжением Года русского языка и семьи, наметила ориентиры в серьёзной работе по отстаиванию истинных ценностей Отечественной культуры.
В этом номере – выступления на встрече Валерия Ганичева, сопредседателя Всемирного Русского Национального Собора, Станислава Куняева, редактора журнала “Современник”, и Бориса Тарасова, ректора литинститута.
В дни мрачных пророчеств о глобальном финансовом кризисе (вот оно уродливое дитя, выкидыш современной глобализации!) я хочу напомнить, что не всё в мировой культуре так безнадёжно; есть в ней остров прочного и устойчивого развития. Остров этот называется современная поэзия России.
Я хочу об этом сказать, потому что, увы, не все виды и жанры российской культуры за последнее двадцатилетие спасли свою честь.
Сколько фальшивых ролей сыграли многие наши в прошлом знаменитые киноактеры в нынешнем сериальном мыле! Сколько на подмостках некогда знаменитых театров поставлено пошлых антреприз, пьес-пустышек, ничтожных перформансов! Какая тут школа Станиславского, это скорее школа сладкой парочки Романа Виктюка и Бориса Моисеева.
Сколько убогих песен-однодневок сочинили наши композиторы и исполнили не бездарные исполнители на всякого рода конкурсах вплоть до Евровидения, песенок, переведённых с русского косноязычия на косноязычие английское, похожих на одноразовую посуду, которую уже не отмоешь – прозвучала и тут же надо выбрасывать на помойку!
Сколько глумливых, карикатурных произведений скульптуры выросло, словно урожай поганок, на российских улицах и площадях – памятник чижику-пыжику, памятник зайцу, перебежавшему дорогу Пушкину, памятник дворнику, памятник людским порокам. А вспомним бронзового Чехова в Томске, похожего на гадкого утёнка в пенсне, или "Московского Осипа Мандельштама не в образе истинного трагического поэта, а местечкового дауна: грешная мысль даже возникает – уж не антисемит ли его изваял? А Пётр Великий Шамякина? Глядишь на эту дегенеративную фигурку и понимаешь, что это – сознательное разрушение пушкинского образа. И, вообще, почти вся современная скульптура – есть надругательство над великими традициями Фальконета, Мартоса, Антокольского, Мухиной, Вучетича. Ну от кино, от эстрады, от театральной дешёвки, вылезающей из телевизора, можно избавиться одним нажатием кнопки, но на бронзовых и мраморных уродцев, вырастающих на наших площадях и улицах, ведь придётся смотреть вечно. Вот в чём ужас-то! (аплодисменты)
А вот известные русские поэты – устояли в истине. Множество стихотворений я прочитал за 20 лет своего служения в "Нашем современнике" и твёрдо могу сказать: помню стихи полные и глубокого отчаяния, и священного гнева, и угрюмой замкнутости, и поиска веры, и душевной растерянности, но не было у наших поэтов любого поколения стихов лакейских, циничных, обслуживающих растленное рыночное время.
Недавно на передаче Соловьёва "К барьеру" я видел схватку Захара Прилепина с неизвестным мне литератором и бизнесменом Минаевым. Последний, несмотря на то, что был разбит наголову, твердил, как попугай: "Да все эти писатели-совки – они же неудачники, лузеры: Что они, не приспособившиеся к рынку, оставят своим детям? Ржавую жестяную кружку?"
Ну что ж, тогда и Сергей Есенин, не приспособившийся к нэповскому рынку, писавший: "Да богат я, богат с излишком: был цилиндр, а теперь его нет, лишь осталась одна манишка с модной парой избитых штиблет", был неудачник, лузер; и Осип Мандельштам, живший "в роскошной бедности, в могучей нищете", не имевший, как Есенин, ни кола, ни двора, был тоже лузером. Такой же нищенкой была, не вписавшаяся в рыночную жизнь Запада, Марина Цветаева. Да и Ахматова ничего материального не оставила своему сыну. Да и Пушкин оставил одни долги. Неудачник.
Ну в конце концов, и Христос со своими учениками, рыбаками, апостолами, в земной жизни был нищим бессребреником, презирающим неправедное богатство... И ответить этому сопернику Прилепина можно так: "Куда достойнее оставить своим детям в наследство жестяную кружку, нежели презрение, ненависть десятков миллионов обворованного русского простонародья". (аплодисменты)
Конечно, не всё у нас ладно и справедливо в нашей поэтической иерархии. Поглядишь на столичные афиши, послушаешь "настоящее российское радио" или рекламу телевизионного эфира и почти поверишь тому, что у нас сейчас есть три богатыря, три великих поэта: Илья Резник, Гарик Губерман и Андрей Дементьев, затмивший в последние годы самого Евтушенко. (аплодисменты)
Однако, несмотря ни на что, подлинная русская поэзия, как говорил Маяковский, "существует, и ни в зуб ногой".
Не буду много говорить о поэтах рубцовского поколения: Глебе Горбовском, Владимире Кострове, Ольге Фокиной, Василии Макееве, Борисе Сиротине, Викторе Смирнове, – они сделали всё, что могли. Спасибо им.
Да, потери, которые мы понесли за первые годы III тысячелетия, невосполнимы. Нет сегодня с нами Юрия Кузнецова, Николая Дмитриева, Михаила Вишнякова, Виктора Дронникова, Николая Постнова, Ростислава Филиппова. Многих из них мы при жизни не оценили в полной мере. Но не будем опускать рук: им на смену пришло поколение, едва достигшее пятидесятилетнего возраста, возмужавшее в годы разрушительной перестройки: Светлана Сырнева (Вятка), Николай Зиновьев (Краснодар), Дмитрий Мизгулин (Ханты-Мансийск), Леонид Сафронов (Кировская обл.), Иван Переверзин (Москва), Евгений Семичев (Самара), Игорь Тюленев (Пермь) и многие другие. Я могу назвать 15-20 имён, которыми можно гордиться. Это – очень много даже для России.
А сколько у нас ещё не оцененных по-настоящему поэтов, сколько имён! Мы в последние годы не раз публиковали поэтов, живущих в республике Коми. Русских и национальных. Я пришёл в восторг, осознав истинность их творчества, глубину их стихов, честную, не примитивную гражданственность, скромное чувство собственного достоинства, естественное для русской поэзии.
А каким для журнала было открытие поэтов, живущих на томской земле! Волею судеб я в Томск залетел год назад и познакомился с ними и ещё раз увидел, как мы богаты, и ещё раз подумал: "Велика Россия, а отступать некуда – везде замечательные поэты!" Жаль только, что они отрезаны от всероссийских издательств, от ТВ, от настоящего радио, жаль, что мы можем дарить им страницы "Нашего современника", словно хлеб во время войны по карточкам.
И всё равно, прошу обратить внимание, что 70% стихотворных подборок у нас занимает творчество поэтов Великой русской провинции.
Но между тем, русская поэзия даже в лице своих великих стариков до сих пор способна подниматься до удивительных высот. Виктору Фёдоровичу Бокову в этом году исполнилось 94 года. Мы в сентябрьском номере опублико- вали его подборку, и я не могу не прочитать из неё одно крайне важное для сегодняшнего времени мировоззренческое стихотворенье:
Моё сибирское сиденье
Не совершило убиенья
Моей души, моих стихов.
За проволокой месяц ясный
Не говорил мне: "Ты несчастный!"
Он говорил мне: "Будь здоров!"
Спасибо! Сердце под бушлатом
Стучало словно автоматом,
Тянулись руки за кайлом.
Земля тверда, но крепче воля,
Бывало, на коленях стоя,
Я в землю упирался лбом.
Я в уголовном жил бараке.
Какие там случались драки,
Как попадало мне порой!
Но всё ж ворьё меня любило,
Оно меня почти не било,
И кличку я имел – "Герой".
Рассказывал я горячо им,
В барак за мною шёл Печорин,
Онегин и Жульен Сорель.
Как мне преступники внимали.
Как спящих грубо поднимали:
"Кончать храпеть! Иди скорей!"
Ах, молодость! Сибирь с бушлатом,
Меня ты часто крыла матом.
Но и жалела, Бог с тобой,
Скажи, целы ли наши вышки,
И все ли на свободу вышли,
И все ль вернулися домой?!
Если бы Боков присутствовал на нашем пленуме, я бы сказал ему с горечью: "Стоят, Виктор Фёдорович, твои вышки в Сибири, и народу русского там за проволокой не меньше, чем в твоё суровое время".
А эта баллада, написанная лагерником сталинской эпохи, полна надежды, веры в жизнь, в справедливость. Трагические строки, но одновременно высветляющие душу, они опрокидывают все бесконечно однообразные, полные злобного уныния, набитые чернухой сериалы, слепленные по сюжетам Солженицына, Шаламова, Анатолия Рыбакова, сериалы, в которых одна половина народа – начальники с вертухаями, а другая – куклы в бушлатах с номерами; в которых одна половина народа сидит, а другая половина сторожит сидельцев. Но если бросить на весы истории эти строфы Бокова, а на другую чашу детско-арбатские сериалы, то одно стихотворенье перевесит всю эту дорогостоящую кинематографическую заказную стряпню весом своей и русской народной, и советской, и христианской правды.
А что же молодая поэзия, спросите вы? Несколько лет подряд "НС" ежегодно печатает большие подборки молодых поэтов. Некоторые из них уже стали постоянными авторами журнала, и даже его лауреатами. Чтобы не рассказывать о них долго, прочитаю лишь одно стихотворенье Василия Стружа, сельского парня из Сталинградской области, у которого недавно вышла книга с моим предисловием. Стихи написаны в 90-е годы, но удачно вписываются в картину нынешних экономических потрясений, защищая, так сказать, отечественного производителя:
Нравятся мне эти пухлые мерины.
Круглые "Ауди" и "БМВ" –
Что-то гестаповское, что утеряно
Немцами в Волге, – есть в этом дерьме.
Нравится мне их боязнь бездорожия,
Как разбивает их наша братва;
Нравится мне, когда в пухлую рожу им
Ржёт "Запорожец", качая права.
Нравятся мне и "японочки" тонкие,
Что, праворуля, капоты суют
В челюсти Кразам, которые комкают
Их, как фольгу, Кразы пришлых – жуют!
На обложке "НС" – стоят слова: "журнал писателей России", а потому прошу писателей Всея Руси: выписывайте и читайте "Наш современник", не верите мне – думаете, что каждый кулик своё болото хвалит, послушайте, что пишет в письме красноярский поэт, автор журнала Александр Щербаков: "Наш современник" я выписываю и читаю лет 40. А в годы смуты, можно сказать, благодаря ему выжил, не застрелился, когда всё летело в тартарары, и все перевёртывались..."
И ещё поделюсь одной радостью – из письма в редакцию начальника департамента культуры Кемеровской области: "Рады сообщить Вам, уважаемый Станислав Юрьевич, что по поручению губернатора А.Г. Тулеева государственному учреждению культуры "Дом литераторов" выделены финансовые средства в сумме 60000 рублей на оформление подписки на Ваш журнал."
Эх, если бы почаще получать такие письма от умных чиновников из наших краёв и областей!
Но возвращаюсь к нашему юбилею и хочу выразить уверенность, что наш Дом на Комсомольском мы отстоим. Каким образом?
Помните август 1991 года? Какие-то демократические хунвейбины, назвавшие себя национальными гвардейцами, ворвались тогда в наш Дом на тогдашний наш пленум с бумажкой, подписанной префектом Музыкантским, о запрещении деятельности Союза писателей России, якобы, как союзника гэкачепистов. Многие сидящие здесь делегаты помнят, как я тогда потребовал у гвардейцев их документ, прочитал его вслух, разорвал надвое и бросил на пол.
Ежели опасность того, что подобные "светлые силы" могут прийти к нам, и в наше время реальна, то, Валерий Николаевич, звоните мне. Надо будет – разорвём и нынешнюю бумажку ещё раз. (аплодисменты)
Да здравствует Союз писателей России! (бурные аплодисменты)
От редакции: Горячая, эмоциональная речь Станислава Куняева несколько раз прерывалась аплодисментами – мы и сохранили их, как в старые добрые времена.
(обратно)Борис Тарасов ЦАРСКИЙ ИЛЬ РАБСКИЙ?
Духовная глубина и пророческая сила слова – именно эти качества отличают русскую классическую литературу и религиозную философию, чей художественный и мыслительный опыт обусловлен обострённым вниманием к "тайне человека" (Ф.М. Достоевский), к корневым противоречиям его природы: "Я царь, я раб, я червь, я Бог" (Г.Р. Державин). Кто есть человек – продукт стихийной игры слепых сил природы, "свинья естественная", как утверждает, например, Ракитин в "Братьях Карамазовых" или образ и подобие Божие? От смутно ощущаемого или ясно осознаваемого ответа на главный вопрос о собственной сущности зависит вольное или невольное предпочтение "божественных" или "червивых" ценностей, направление воли и желаний по "царскому" или "рабскому" пути, построение своей и окружающей жизни на "тёмной основе нашей природы" или на основе "положительных сил добра и света".
Размышляя над творчеством Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьёв приходил к следующему фундаментальному и вечно актуальному выводу: "Пока темная основа нашей природы, злая в своём исключительном эгоизме и безумная в своём стремлении осуществить этот эгоизм, всё отнести к себе и всё определить собою, – пока эта тёмная основа у нас налицо – не обращена – и этот первородный грех не сокрушён, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело и вопрос что делать не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей слепых, глухих, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздаётся вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаёте себя за здоровых, для вас нет исцеления… Истинное дело возможно, только если в человеке и в природе есть положительные силы добра и света; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеет".
Сосредоточенность на противоречивой природе человека и, соответственно, на неоднозначном ходе истории определяет непреходящее и в высшем смысле прагматическое значение наследия отечественной классики и философии – особенно в контексте всё более усиливающихся и все менее обсуждаемых (по крайней мере в правящем бал информационно-манипулятивном поле глобализирующегося, виртуализирующегося и театрализирующегося общества) современ- ных вызовов вечным ценностям и нравственным законам жизни. Один из самых печальных и поучительных уроков истории заключается в том, что она ничему не научает, а глубинный и потому всегда актуальный, насущный, прогностический художественный и философский опыт русских писателей и мыслителей неуклонно оттесняется на периферию нашего сознания, становящегося нечувствительным и невосприимчивым к их пророческой логике. Органически воспринятая или открыто заявленная христианская традиция позволяла им трезво оценивать любые социальные проекты или политические реформы, исторические тенденции или идеологические построения, философские методы или эстетические системы, исходя из корневого проникновения во внутренний мир человека и благодаря, так сказать, "различению духов" в нём. Другими словами, все они прекрасно понимали, что всевозможные метаморфозы и конечные результаты всяких "идей" обусловлены состоянием умов и сердец культивирующих их "людей". В конечном итоге именно духовное начало играет в истории первостепенную роль, предопределяя направление, содержание и характер творческой деятельности, цели и задачи использования тех или иных "внешних" достижений. Следовательно, "восходящее" или "нисходящее" развитие истории зависит не столько от изобретаемых общечеловеческих ценностей (при уже существующих христианских!) или изменяющихся социальных учреждений, научных открытий или промышленных революций, сколько от "внутренних" установок сознания, своеобразия нравственных принципов и мотивов поведения, влияющих по ходу жизни на рост высших "царских" свойств личности или, напротив, на их угасание и соответственно на их проекцию вовне и обустройство окружающего мира. "Внутреннее, сокровенное, духовное, – подчёркивал И.А. Ильин, – решает вопрос о достоинстве внешнего, явного, вещественного".
Обращая внимание на невидимую сращённость "идей" и "людей", на зависимость "внешнего" от "внутреннего", русские писатели и мыслители как бы приглашают и нас повернуть голову в эту сторону. Но мы всё продолжаем на свой лад воспроизводить разоблачённую ещё Ф.М. Достоевским (кстати, в перестроечное время почти один к одному повторена модель его "Бесов" уже со своей нерасторжимой взаимосвязью "чистых" западников и "нечистых" нигилистов, "прогрессивных" губернаторов и примостившихся к ним уголовников, со своими литературными и кинематографическими "кадрилями" и т.п.) схему зависимости человека от среды, уповаем на "внешние" достижения биологических или информационных революций, меняем местами главное и второстепенное, прини- маем материальные средства человеческого существования за его высшую цель, заслоняясь от "внутреннего" рассмотрения конкретного душевного содержания и реального состояния сознания современных индивидумов разговорами о формальных преимуществах тех или иных общественных учреждений и механизмов или абстрактными причитаниями о гуманизме, прогрессе, демократии, новом мышлении, рыночных отношениях, правовом государстве и т.д. и т.п. (здесь вспоминаются строки покойного поэта В.Соколова: "и зачем мне права человека, если я уже не человек").
Нынешние властители дум почти с религиозным трепетом твердят о так называемом цивилизованном мире, не замечая его не только оборотные, но и даже очевидно противоречивые стороны, отказываясь от качественного анализа душевно-духовного самочувствия личности, не задумываясь о неизбежных и естественных последствиях общего хода жизни, имеющего в своей основе не дружбу, любовь и согласие, а конкуренцию, соперничество и вражду, не пресекающего, а распаляющего и утончающего действия восьми "главных страстей", или "духов зла" (гордости, тщеславия, сребролюбия, чревоугодия, блуда, уныния, печали, гнева).
В пылу неофитского первооткрывательства и наивно-пристрастной идеализации ценностных координат современной цивилизации за бортом сознания оказываются те процессы, которые по-своему формируют и обрабатывают духовно-душевный мир человека, укореняют его волю в низших этажах сущест- вования, упрочивают и разветвляют своекорыстие как тёмную основу нашей природы в рамках денежного абсолютизма, воинствующего экономизма, юридического фетишизма и мировоззренческого сциентизма. Так называемые "эмпирики" и "прагматики" (архитекторы и прорабы как "социалистического", так и "капиталистического" Вавилона), общественно-экономические идеологи всякого времени и любой ориентации, уповающие на разум или науку, здравый смысл или хваткую хитрость, "шведскую" или "американскую" модели рынка, склонны игнорировать стратегическую зависимость не только общего хода жизни, но и их собственных тактических расчеётов от непосредственного содержания и "невидимого" влияния изначальных свойств человеческой природы ("рабских" или "царских"), от всегдашнего развития страстей, от порядка (или беспорядка) в душе, от действия (или бездействия) нравственной пружины. "Под шумным вращением общественных колёс, – заключал И.В. Киреевский, – таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит всё".
Действительно, смена идеологических теорий или обновление социальных институтов, технические успехи или законодательные усовершенствования, декларации "нового мышления" или благие призывы к мирному сосуществованию сами по себе ничего не значат и лишь запутывают умы (хотели, как лучше). В реальности всё зависит от фактического состояния "внутреннего" человека, от своеобразия его побудительных принципов и направления воли, от "рабского" влияния алчности, зависти, тщеславия, властных амбиций или капризов плоти (получается, как всегда) и от "царской" способности противостоять им (получится, как хотелось). "Ясно, – писал Ф.М. Достоевский, – что общество имеет предел своей деятельности, тот забор, о который оно наткнётся и остановится. Этот забор есть нравственное состояние общества, крепко соединённое с социальным устройством его".
Выводы Ф.М. Достоевского, И.В. Киреевского и ряда других русских писателей и мыслителей важны как в стратегическом и методологическом, так и в тактическом и практическом отношениях, поскольку позволяют хотя бы немного отвлечься от довлеющей позитивистско-экономической и социально-идеологической конъюнктуры и подумать, что стоит за ней, к какому душевно-духовному состоянию человека мы должны придти в приливе очередного в русской истории витка неозападничества.
Более того, в условиях духовного кризиса и обезличивания разных культур, повышения завистливых накопительских ожиданий во всех группах и слоях при одновременной невосполнимости источников энергии, возможного изменения климатических зон, недостатка пресной воды и удобной земли и, соответственно, новых конфликтов и войн за выживание, увеличения населения при усилении бедности в странах Третьего Мира, уже составляющих четыре пятых современного человечества и готовых предъявить ему свои требования, обеднённая и больная рассудочным прагматизмом "душа", оказавшаяся в плену у своих низших сил, забывшая о своей "высшей половине", но владеющая всё более мощными "внешними" средствами, является главным "внутренним" источником возможных мировых катастроф. Достаточно вспомнить витающую в иных цивилизованных умах "респектабельную" мальтузианскую теорию "золотого миллиарда", не говоря уже о тайных вожделениях сильных мира сего (и не сильных тоже).
О том, как сплошное обмельчение, материализация и эгоизация человеческих желаний незримо готовит драматические последствия, создаёт подспудные предпосылки для перерастания мира в войну, опять-таки проницательно писал Ф.М. Достоевский. Говорят, размышлял он, что мир родит богатство, но ведь только десятой доли людей. От излишнего скопления богатства в одних руках развивается грубость чувств, жажда капризных излишеств и ненормальностей, возбуждается сладострастие, провоцирующее одновременно жестокость и слишком трусливую заботу о самообеспечении. Болезни богатства, продолжал Ф.М. Достоевский, передаются и остальным девяти десятым, хотя и без богатства. Панический страх за себя сообщается всем слоям общества и вызывает страшную жажду накопления и приобретения денег. Утробный эгоизм и приобретательская самозащита умерщвляют духовные запросы и веру в братскую солидарность людей на христианских началах. "В результате же оказывается, что буржуазный долгий мир, всё-таки, в конце концов, всегда почти сам зарождает потребность войны, выносит её сам из себя как жалкое следствие... из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков... из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков, словом, из-за причин, не оправдываемых даже потребностью самосохранения, а, напротив, именно свидетельствующих о капризном, болезненном состоянии национального организма".
Эта "внешне" парадоксальная, а "внутренне" закономерная логическая цепочка превращения мира в войну хорошо показывает, что никакие дружественные договоры, "новые порядки" или общечеловеческие ценности не способны предотвратить катастрофу, если сохраняется "низкое" состояние человеческих душ, видимое или невидимое сопер- ничество которых порождает всё новые материальные интересы и, соответственно, множит разнообразие тайных или явных захватов. В результате мирное время промышленных и иных бескровных революций, если оно не способствует преображению эгоцентрических начал человеческой деятельности, а, напротив, создаёт для них питательную среду, само скрыто накапливает враждебный потенциал и готовит грядущие катаклизмы.
В подобной антропосфере было бы по меньшей мере крайней наивностью полагаться (как нередко случается) на юридические нормы и правовые отношения, которые по своей условной и релятивистской природе неизбежно деградируют, исполняются лишь из-за страха наказания, всё чаще начинают играть роль своеобразной пудры или дымовой завесы для осуществления корыстных и гедонистических потребностей, открывая через демагогию путь праву сильного. А уж "титан" найдёт немало способов, как упаковать беззаконие в оболочку закона и реализовать стяжательские мотивы и плутократические цели близких ему индивидов и групп.
Обозначенная логика отчётливо и выпукло показывает, что без Бога, без "положительных сил добра и света", без религиозного возрождения и без коренного преображения "тёмной основы нашей природы" движение истории неминуемо происходит вперёд-вниз. Языческий выбор в любых вариантах ("демократическом" или "тоталитарном", благообразном или неприглядном) выдвигает на авансцену "недоделанных" и "недосиженных" людей, господство которых ещё более пригнетает душу "ветхого Адама" греховными страстями и корыстными интересами. Без духовного максимализма и вышесмысловой наполненности любые гуманистические начинания и идеи (а "минимальные", "презирающие" человека и предлагающие ему дьявольский выбор между большим и меньшим злом тем более) расползаются как тесто, теряют подлинную разумность, готовы к предательскому перерождению и вымиранию.
Без освобождения из "рабского" политико-экономического плена и обретения "царского" истинно человеческого и непоколебимого благородства, благообразия и бескорыстия нравственная пружина демократии, права, науки, культуры слабеет и перестает работать. В таких условиях немыслим плодотворный поиск так называемого третьего спасительного пути между Сциллой кровавого тоталитаризма и Харибдой потреби-тельской деспотии, которые, несмотря на видимую и утверждаемую противоположность, в ситуации духовного, нравственного, психологического, экологического, демографического кризиса, всё очевиднее представляются одинаково тупиковыми и внутренне взаимозависимыми вариантами натуралистически и антропоцентрически понимаемой истории.
Одна из самых главных и заветных мыслей Ф.М. Достоевского, доверенная его герою, звучит так: "На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образ пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом". Потому-то и важно, заключал писатель, беречь "Знамя Христово", что оно помогает сохранить твёрдую почву в различении добра и зла, не позволяет слепотствующему уму питаться "тёмной основой нашей природы" и увлекаться ложными идеями, очищает сердце и оживляет в нём истинную любовь. Ту любовь и те силы подлинного благородства и истинной человечности, которые угасают за невостребованностью, но без которых нельзя одолеть нигилистический дух великого инквизитора, принимающий в истории разные обличия и дышащий везде, где земля обустраивается без небес, счастье – без свободы, жизнь – без смысла, где низшие силы человеческой души одерживают победу над высшими.
Ещё Н.В. Гоголь писал о "высшей битве" – не за временную свободу, права и привилегии, а за человеческую душу, отсутствие света и добра в которой не заменят никакие конституции и инвестиции и которой для её исцеления нужно вернуть забытые святыни. Следует круто направлять лодку вверх, не то река жизни снесёт её вниз по течению, предупреждал Л.Н. Толстой. В том же русле и совет епископа Игнатия (Брянчанинова): чтобы попасть в избранную цель на земле, следует метиться в небо.
(обратно)Прокофий Лесов НЕМЫСЛИМОСТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Николай ЗИНОВЬЕВ. Я – русский. Книга стихов. Краснодар.
АОА “Полиграф-Адыгея”. 2008
Когда идут на смерть – поют,
А перед этим можно плакать,
Ведь самый страшный час в бою –
Час ожидания атаки.
Семён Гудзенко
Ещё на подступах к поэзии Николая Зиновьева, сразу – из названия книги – читатель не случайный должен сообразить, что это не просто сборник стихов, не внушительного вида Избранное, но издание особенное: книга-вызов. Именно так – вызов во множестве граней, значений и смысловых оттенков этого простенького на первый взгляд, примелькавшегося в нашем обиходе (и не забытого в "высоком штиле") слова. Во всём диапазоне – от школьно-будничного вызова к доске до героического вызываю огонь на себя (пусть в реалиях мирного времени за этими словами подразумевается всего лишь испепе-ляющий огонь прогрессистской, по-европейски просвещённой и безжалостной литкритики – не всякий готов становиться мишенью).
Нас десятилетиями приучали к мысли о том, что нет ничего зазорного и предосудительного в намерениях когда-нибудь – при благоприятном стечении обстоятельств, если не при первом удобном случае, то в результате разумной "весёлости и находчивости" – покинуть родную страну и перебраться туда, где "жить лучше"… Мы стали полагать вполне естественным, когда наши старые знакомые с чадами и домочадцами снимались с уютно насиженных мест и устремлялись в страны весьма неблизкие… по-простому говоря: сваливали за границу. И каких-нибудь лет 20-30 назад абсолютно неприлично было бы даже вскользь помыслить о том, что к такого рода действиям вполне применимо ещё одно нелицеприятное определение: совершаемое по сути есть предательство.
Здесь будет уместно конспективное, без досадных преувеличений напоминание.
Всего-то лет 50 назад молодые да ранние аксёновские "звёздные мальчики" обозначили свои неоспоримые приоритеты (хотим всё сразу и сейчас) и установили притягательные ориентиры: "Все едут на Восток, а мы вот на Запад"…
И чуть позже, опять у Аксёнова, из уст героя, слегка "потрёпанного судьбой" (точнее, всего-то чуть-чуть по головке заботливо тронутого), скороспелое поучение: никогда не возвращайтесь туда, где вам было хорошо... Буквально так, конкретно и твёрдо: не возвращайтесь!
И вот уже почти 30 лет голосистые ленкомовские агитпроповцы льют и льют в широко открытые уши: "Возвращаться – плохая примета!" Давно уж дети выросли у тех, кто сразу "просёк": "Эт-точно, в Калифорнии – лучше!" Уже и внуки подрастают (чему удивляться?!) по разным дальним и средней дальности процветающим "забугорьям"…
(Впрочем, не будем преувеличивать роли театра в истории, просто признаем: "захаровская команда" ничего не "изобретала" и "фундаментальных" открытий не совершала – она всего лишь настойчиво занималась своим любимым (пусть и умопомрачительным, но определённо – востребованным) лицедейством. Востребованным хотя бы потому, что неповоротливая "краснорыбица" достопочтенного "развитого социализма" стала загнивать гораздо раньше, как и предусмотрено природой – с головы, с правящей вер-хушки КПСС. Незамысловатое вероотступничество начиналось с "обихода" – с симпатичных пустячков и почти безобидных привычек: к "Марльборо", ковбойским фильмам, иномаркам… В "директорских" анекдотцах вроде: "Запад разлагается – зато каков аромат!" как будто не было ещё и намёка на предательство, но польза уже была: посмеялись вместе с начальником – выпивон пошёл размашистей и веселее…)
Едва ли не случайно узнал, что около миллиона бывших граждан СССР ныне живут и работают во всемирно известной "силиконовой долине" – для процветания экономики США. Вдруг ненароком подумалось: а ведь это примерно 15 миллионов лет полновесного образования, "переуступленных" Советским Союзом, "подаренных" зарубежью, утраченных для населения страны, для всех тех, кто мог бы усовершенствоваться, выучиться лучше – во благо родной страны. Откат в недообразованность – геологический – на миллионы лет!
Зато в "национальном вопросе" мы были "опережающе политкорректны" уже тогда, когда даже самые "продвинутые" заокеанские правозащитники ещё не знали всемогущего слова "политкорректность". Мы не встрепенулись, не задумались, не возмутились и после того, как из паспортов наших загадочным, почти мистическим – но, в чём нас "авторитетно" и настойчиво уверяли, абсолютно легитимным, то бишь вроде как формально-законным, образом – вдруг исчез преткновенный "пятый пункт", мы молча признали допустимым отсутствие рядом со своей фамилией записи, утверждающей культурно-историческую принадлежность и родство: русский .
Теперь во всеуслышание нам многим – деликатным, "политкорректным", фактически родства не помнящим – поэт посчитал себя обязанным произнести определённо и чётко: я – русский. (Далее всякий читатель решает сам, спрашивать ли себя: а я?) К сожалению, стихи в книге не датированы, поэтому мы можем только гадать, когда возникло, сложилось и появилось на свет стихотворение, в котором прозву-чало это утверждение. Искушённому читателю не нужно объяснять, что эмоциональное и смысловое наполнения этого словосочетания в реалиях 1987, 1997 или 2007 годов разительно отличаются от того, что можно было бы считать естественным и банальным хотя бы четверть века назад. В свою очередь, с бытностью той "допотопной" поры не слишком строго соотносятся другие обстоятельства воображаемого диалога человека плачущего с Творцом Вселенной…
Позволю себе заметить, что жанр мужского плача издавна остаётся едва-едва "разработанным" в русской словесности (как в фольклоре, так и в литературе печатной)… На моей памяти с трудом находятся разве что один-два более-менее убедительных примера такового, и наипервейший – трагическое стихотворение Артёма Весёлого "В клещах беды", начинающееся словами: "Дикая ухмылка дикого случая – на улице средь белого дня погиб пятилетний сын"… (Пусть кто-то ещё вспомнит и пастернаковское: слагаются стихи навзрыд – опять же более похожее на исключение из правила и обычая. Или ещё Блок когда-то – скороговоркой, в длинном перечне жизненных обстоятельств, почти обмолвился: "В заколдованной области плача … – позорного нет!") Как-то "не приняты" у нас, не приживаются, не звучат во всеуслышание мужские надрывные сетования, причитания и плачи. Вот и у Николая Зиновьева в стихах – хоть и чаще обычного встречаются-попадаются те или иные словосочетания с плачем да со слезой – только опять и опять оказывается: не плач слышим, а – глас вопиющий в пустыне, к совести и состраданию взывающий, справедливости жаждущий.
Мы посетовали на то, что стихи в книге не датированы. Однако читатель многоопытный, в словах и смыслах поднаторевший, возразит: какие даты? какие приметы времени? какая вам разница? – если так повелось от века, так было всегда и остаётся одно и то же…
Далее чередой последуют примеры из книги:
– Меня учили: "Люди-братья…" (с.13);
– Здесь время уже никуда не спешит (с.16);
– Болит душа, как рана ножевая (с.18);
– Шестая часть земли уходит из-под ног (с.21);
– Бог ли всех нас позабыл? (с.25);
– Мы не властны в своих сновиденьях (с.30);
– Крепись душа! В России жизнь всегда была нелегким делом (с.32);
– Не рви цветочков синеньких (с.52) – и так далее, чуть ли не с каждой страницы!
Или это не "приметы"? – Это наши константы, наши неизменные величины, приметы "постоянного времени" (если не сказать: "непрерывного"). Это как раз то, что по-родственному, на одном дыхании воспринимается и перенимается из стихотворчества, из поэзии, из литературы письменного и печатного ряда – в речь разговорную, повседневную, живую – нам сообщающую и нас обобщающую.
Тут уже другой читатель – проницательный и умудрённый персональным глобально-историческим опытом – не сможет отмолчаться, выскажет кое-какие соображения: мол, никакое это не общее и не "постоянное" – здесь всего лишь авторский субъективный жизненный материал… индивидуальная практика с наблюдениями по части особой, горькой, перцовой и прочего горячительного и душепалительного… стихи кое-где неглубокие, даже поверхностные, да ещё и "зеркального качества", когда сплошь и рядом элементарные право-лево перепутаны…
Сначала попробуем уточнить представления о "практике" – безоговорочно ли она исключительно "индивидуального" свойства, или всё-таки мы вправе рассматривать таковую как нечто обобщённо-типическое (или даже вовсе эпическое)? За "чисто экспериментальной" проверкой отправляемся туда же – в современную поэзию… Открываем почти первую попавшую в руки книгу стихов, изданную совсем недавно достаточно известным автором примерно того же возраста, что и Николай Зиновьев… Вопреки предварительному настрою на долгие упорные поиски чего-то более-менее убедительного, результат получаем практически сразу, уже при беглом знакомстве с содержанием книги Игоря Тюленева "Засекреченный рай"… вот оно – название, сомнений не вызывающее, как говорится - исчерпывающее: "Хвала гранёному стакану"! Впрочем, а нужно ли было заниматься такого рода поисками – у нас, в родном Отечестве, где у всех от века на слуху расхожее "Бог троицу любит"? Так ведь в обиходе повелось: не столько Троицу, сколь троицу…
Теперь самое впору и мне-третьему-нелишнему подать голос в защиту поэзии, которая кому-то действительно может показаться простенькой, незамысловатой и неглубокой. Как правило, даже самые простые на первый беглый взгляд стихи Зиновьева фактически оказываются "многоярусными", предполагающими наличие достаточно устойчивой смысловой преемственности от вековых напластований русской поэзии. Вот небольшое стихотворение, абсолютно узнаваемое в реалиях современности – от быта и бытия до социального контекста:
Я гляжу на стожки, на болотину,
На курган у реки, на поскотину.
И сильнее, чем прадед и дед,
Я люблю свою малую родину…
Потому что большой уже нет.
Этот пасторально-ностальгический стих можно было бы считать самодостаточным – "сфокусированным" в точке мгновенного-настоящего и замкнутым на авторе (лирическом герое) – если бы не очевидная для всякого любителя поэзии отсылка к строкам Осипа Мандельштама из опубликованного сначала в альманахе "Ковчег" (в Феодосии, 1920 г.), а затем в "Камне" (издание 1923 г.) стихотворения, датированного 1908 годом.:
Но люблю мою бедную землю,
Оттого что иной не видал.
Впрочем, это только один из эпизодов "созвучия смыслов", ибо есть и своеобразная предыстория поэтического наследования… Назовём здесь возможный "первоисточник" – стихотворение Фёдора Сологуба (написанное в 1896 году и увидевшее свет в 1904-м), которое начинается словами: Я люблю мою тёмную землю… – и отметим "отголоски" такового в творениях Марии Шкапской и Александра Тинякова (Одинокого). Не вдаваясь в подробности, укажем, что цитируемая строка Сологуба встречается в качестве эпиграфа у Шкапской в книге стихов "Mater Dolorosa" (1921 г.), а у Тинякова – в первом разделе "Прелести земли" книги "Треугольник" (1922 г.).
Заметим разницу настроений и интонаций в стихах, разделённых исторической эпохой строительства социализма. Шкапская чувствует и мыслит соразмерно гигантским масштабам революционных преобразований, что становится очевидным с первых строк её стихотворения:
Земля моя, от Чили до Бретани
И от Плеяд до Южного Креста.
У Зиновьева предмет патриотического чувства – малая родина, с глубоким трагическим переживанием утраты: большой уже нет. Повторим за поэтом: нет большой – той самой, которая – шестая часть земли, которая в одном из стихов уже в начале книги – уходит из-под ног.
Но вернёмся к так неосторожно обозначенной нами в начале заметок "красной нити" – теме лирического и гражданского выбора и вызова .
Читатель внимательный, дотошный наверняка мне возразит – упрекнёт в торопливом прочтении и напомнит, что сказано поэтом: Я не бросаю людям вызова… (с.131) – а я с удовольствием продолжу: также нет в книге Зиновьева ничего такого, что в нашей речи определяется как "вызывающее поведение" (как правило, с подчёркнуто-неодобрительным к таковому отношением). Сам поэт, едва-едва заметив в себе некие признаки гордыни, первым себя же и предостерегает:
Да ведь ты сам не знаешь,
Что надобно тебе,
А всё грубить дерзаешь
И Богу, и судьбе.
И не столько об утешении в этом стихотворении речь, сколько об утишении, о смирении, о доверии небесам… Всегда помнит Николай Зиновьев о чувстве долга, об ответственности перед родной страной, о сострадании и многотерпении, которые необходимы для преодоления лихолетий наших, и через многие невзгоды и непомерные беды, повсеместно открывающиеся взору поэта ("Куда ни глянешь – горе, Немая стынь в груди…"), сохраняется в нём уверенность:
Только духом Бога и Отчизны
Вечно преисполнена душа.
В завершение заметок о стихах Николая Зиновьева хотелось бы привести одно из четверостиший поэта из книги "Дни, дарованные свыше" (М.: Ладога-100, 2003 г.):
Бессмертную душу ношу,
Приветствую нищего, старца.
Стихи о России пишу
Для тех, кто в России остался.
Именно так можно с достаточными основаниями говорить и о новом сборнике: это стихи для тех, кто был и остаётся здесь, кто не затрудняется сказать о себе: я – русский. А значит, написаны стихи для всех людей сочувствующих, не утративших веру в русскую душу, для великого множества настоящих знатоков и ценителей русской поэзии.
(обратно)Сергей Отставнов ГОСПОДЬ ДАРУЕТ ИСПЫТАНЬЯ
Господь дарует испытанья –
Мерило радостей и бед,
Гоненья, странствия,
страданья
И веры
чувственный рассвет.
К нему бредя
по бездорожью,
Средь дел и помыслов иных
Мы постигаем Волю Божью
Через наместников земных.
Чрез их
Божественное слово,
Духовность, силу,
кротость, стать
Крупицы таинства святого
В себя стараемся впитать.
Ушёл Святейший.
Больно, жалко,
Пред волей склонимся
Творца,
Помянем миром Патриарха –
Владыку, Брата и Отца!
Пусть под напевы
чудо-звона
Душа взойдёт на небеси
К Царю небесному
с поклоном
От нашей Матушки-Руси.
Ты шёл
стезёю благородной,
Ты жизнь прекрасную
прожил,
Любовью к русскому народу
Его любовь ты заслужил!
Из сонмов воинства святого
На чад своих
с любовью зри.
Своей молитвы
добрым словом
Утешь, согрей и озари!..
(обратно)Дмитрий Логинов РУС ЕСТЬ ДУХ
Именно таково наиболее древнее значение сего слова.
Хотя оно означает ещё, также, святость и свет. Поэтому князя русского величали в давние времена светлый. Так это записано в хартии мирного договора меж Византией и Русью княжения Вещего Олега. Всю землю же именуют ещё и по нынешние времена святая: Святая Русь.
И всё же наиболее древнее значение слова Рус – это Дух. Поэтому есть устоявшееся сочетание слов РУССКИЙ ДУХ. Гораздо реже говорят, например, "итальянский дух", "дух японский".
Память о значении слова "рус" хранят диалекты. Есть диалектное слово "подух", и означает оно то же самое, что и общеизвестное "парус".
Дошло до наших времён и слово "русалка". Сегодня мы знаем его лишь как прозвание духов рек. Но прежде на Руси никого не удивляли такие выражения, как "русалка поля", "русалка леса"… Ибо изначально слово обозначало просто душу чего-либо. Слова "русалка" и "рус" употреблялись примерно в смысле, как ныне "душа" и "дух".
Едва ли теперь кто помнит, как назывался единым словом церковный праздник Духова Дня – сошествия на апостолов Святого Духа. Именовался же он Русалия. Такое сведение сохранено "Словарем русского языка XI-XVII веков" (М.: Наука, 1997). "Первое значение слова РУСАЛИЯ, РУСАЛИИ – народное название церковного праздника Пятидесятницы (Сошествия Св. Духа), унаследованное от существовавшего ранее у славян и ряда других народов древнего весеннего праздника, сопровождавшегося обрядовыми играми и плясками".
Есть и ещё одно впечатляющее свидетельство. Боевой клич воинов, дошедший из глубины времен. "Мы русские – с нами Бог"!
Так почему же Он именно с нами, русскими? Какой-нибудь другой народ не хотел иметь такого Союзника на поле брани? Но клича, например, "мы американцы – с нами Бог!" что-то пока не слышно.
Наверное, дело в том, что боевой клич должен утверждать очевидное. Он тем ведь и берёт за душу. Только напоминание о ни для кого несомненной и окрыляющей истине даёт задор биться насмерть. Бог – это Дух (Ин, 4:24); мы – русские, то есть духовы, то есть божьи! И даже некая снисходительная жалость может появиться к противнику. Не ведали вы, против кого враждуете. "Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам"…
Русский народ и ныне оправдывает своё название. То есть живет по Духу. Не в смысле, к сожалению, что все у нас и всегда по-божески. Но всё же в смысле основополагающих установок.
Пример сему есть отношение к союзу со своими по крови. Мы не всегда готовы так быстро сбиваться в стаю, как некоторые другие нации. Для русского человека недостаточно лишь одного заклинания Маугли, о котором поведал Киплинг: "мы с тобой одной крови".
Не потому недостаточно, что кровное родство для нас, будто бы, не особенно ценно. Мы ценим его не меньше, чем другие народы. Но всё же главное наше "заклинание" – это мы с тобою одного Духа! И это есть такая же неповторимая особенность русского народа, как продолжительность его культурной истории.
Наши прямые предки, носившие имя руссов (Руса сыны), существовали на земле уже около тридцати тысячелетий назад. Последние века, правда, Русская Северная Традиция утверждала подобное "в гордом одиночестве".
Но положение вещей изменилось. Теперь и официальная отечественная наука припоминает, хоть и не без труда, свои достижения времен Михайло Васильевича Ломоносова, её основателя. Ломоносов незадолго до смерти написал: "древность нашего словенского племени – от самых давнейших времён, которых далее не простираются европейских народов благоразсудные историки".
В этой работе Михайло Васильевич подчеркнул: начало русскому роду было положено "за многие веки до разоренья Трои". Трактат именовался "Древняя российская история" и опубликован он был, почему-то, лишь в 1847 году. И не привлёк особенного внимания в результате засилья последователей пресловутой нормандской теории.
Однако в 1854 году статский советник Егор Классен, попечитель Московской Академии, дополнил и развил идеи Ломоносова в труде "Новые материалы для древнейшей истории славяно-руссов".
Ответом на его научную деятельность были благодарные письма от представителей самых разных сословий, награды от Государя. Последняя половина XIX века могла стать мощным началом восстановления знаний о древнерусской истории в полном её объёме.
Да только не за горами уже был 1917. Монархия была уничтожена и безбожные антирусские (Рус есть Дух, а значит, антирусскому и "положено" быть безбожным, атеистическим) силы захватили в России власть. Любой, кто попытался бы тогда возрождать полнообъёмное знание о нашей древней истории, рисковал быть просто расстрелянным – по обвинению в "пропаганде великодержавного шовинизма". Да, существовала в начале прошлого века такая особенная расстрельная статья.
Но никакими методами невозможно вечно скрывать от народа подлинное его прошлое. По той причине, как раз, что оно не придумано на досуге патриотическими мечтателями, а правда было. Оно прошло по Земле и оставило чёткий след.
Примером его являются, например, надписи, начертанные русскими рунами. Академиком Валерием Чудиновым, председателем Комиссии РАН по культуре древней Руси, недавно сделано было выдающееся открытие. Он полностью воссоздал древнерусский руничный строй, существовавший за многие тысячелетия до святого Кирилла.
Валерий Чудинов пишет в работе "Вселенная русской письменности до Кирилла" (М.: Альва-Первая, 2007): "Слоговыми знаками обозначались обычные русские слова, понятные и в наше время без перевода. Из этого следует, что руница была основным письмом человечества, а русский язык – основным его языком. Поэтому нет ничего удивительного, что её образцы находят повсеместно и называют письменностью срубной, трипольской, винчанской, арийской, беловодской, миадленской… В этом утверждении нет ни национализма, ни расизма, оно лишь констатирует выявленный в результате исследований научный факт. Если бы древнейшая письменность принадлежала другому народу и другой системе письма, я высказал бы это столь же определённо" (с.509). "Констатация факта существования русской письменности в палеолите открывает путь для исследования высокой культуры наших предков в течение огромного исторического времени… Когда-то Русь представляла собой единую полосу цивилизованной евразийской территории умеренных широт, где говорили и писали на едином языке, русском, и где существовала единая русская культура и единая русская религия" (с.311-312).
Увы, сколько бы Валерий Алексеевич не заявлял, что просто констатирует факт, ему всегда будут сопутствовать обвинения в тенденциозности, потому что он русский. Предвосхитив таковые, скажем: исследования зарубежных учёных позволили им прийти к выводам практически идентичным.
7 июля 2007 года в Берлине открылась выставка "Под знаком золотого грифа: царские могилы скифов". На ней были представлены экспонаты с Алтая, из Казахстана, Северного Ирана, Южного Урала, Сибири, Кубани, Украины, Румынии. Идея выставки состояла в следующем: показать обширность скифского мира, который простирался, как минимум, от Тувы до Берлина, где обнаружены самые западные захоронения скифов (руссов). Президент Немецкого археологического института Герман Парцингер прокомментировал этот факт следующим образом: "история Германии и история России – это не только славяне и германцы, есть так много фактов и элементов, которые у нас общие".
Интересно отметить, что этой выставке придаёт большое значение не только научный мир, но также и крупные политические деятели. На церемонии открытия выступили министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министр культуры страны, послы государств, на территории которых производились раскопки.
Итак, у русского народа есть две особенности:
– невероятная продолжительность культурной истории,
– выраженная духовность.
Не связаны ли они как-либо между собой? Легко видеть, что сопрягаются эти особенности как причина и следствие. Долгая череда тысячелетий цивилизации необходима, чтобы народ – при всём естественном уважении к союзу по крови – обрёл привычку почитать ещё больше союз по Духу.
И в этом нам подобен древний народ индусов – наши младшие братья. Возможно, это замечание требует пояснения. Едва ли кто сомневается в духовности народа Веданты и Бхавишья Пураны, или в исторической древности его. Но заявление нашего родства с ним и старшинства могут вызвать сомнения. Однако существует ряд проясняющих вопрос фактов, которые я привожу подробно в книге "Русская Тайна. Перерождение" (М.: Альва-Первая, 2006). Упомяну лишь один из них. Дурга Прасад Шастри, санскритолог с мировым именем, путешествуя по русской глубинке, совершил удивительное открытие. Он обнаружил, что вологодский говор представляет не что иное… как древнюю форму санскрита! И доложил об этом на конференции в Газибаде (1964). Подобного открытия следовало ожидать. Предания руссов и Велесова Книга сохраняют сведенья о великом походе князя Яруны на Индостан, который был предпринят около восьмого тысячелетия до Р.Х. Наверное, именно с этих времен Пандавы (род Белокожих) считаются древнейшей аристократией Индии.
Что именно мы понимаем под союзом по Духу? Единство мировоззрения. А точнее – бого-мировоззрения, то есть Веру. И сопричастие крови Руса воспринимаем именно как залог духовности. Свидетельство принадлежности культуре, которая прошла очень долгий цивилизационный путь. И сделала своей главной ценностью стояние души в Боге.
Мы, говоря иными словами, не склонны создавать мафию по национальному признаку. Народная воля тысячелетиями устремлена была к слаганию церкви. Поэтому благословенны народы, что пожелали в прошлые времена видеть нас учителем и главою. То был их мудрый выбор: сложить великую империю под искипищем – скипетром – царя русского. А не благословенна только неблагодарность учеников.
Итак, что это такое: сила наша в том или слабость, что основной наш союз – по Духу? Противники говорят, что слабость. Народ, не умеющий достаточно быстро сбиваться в стаю, другою стаей будет растерзан. И похваляются быстротой своего реагирования. Да, скорость реакции представляет собой, конечно же, достижение. Быстрее лучше, чем медленнее, и не мешало бы это нам, наконец, признать. Не надо только, чтобы это препятствовало помнить исконное наше ведение: наиболее прочно стоит лишь тот, который устоял – в Боге.
Последняя фраза может показаться некоторым риторикой. Потому напомним: долгая череда тысячелетий необходима, чтобы народ созрел до идеи стоянья в Боге. А именно, чтобы большинство его представителей задавалось, хоть иногда, вопросами: а для чего я живу? в чем смысл этого всего? А не только: как дотянуться прежде других до пищи?
Русский человек так ищет стоянья в Боге, что Вечные Вопросы могут быть для него злободневнее "злобы дня". И коли уж он повстречает собрата по ответам на них, то дружеское чувство к такому делается у него действительно нерушимым. Потому что Рус это Дух. И русский ценит своего друга в Духе, прежде всего. Ему важно: а побывал ли его друг в тех же самых "местах духовных", что и он сам? и видывал ли он Бога? и знает ли, куда и как идти сейчас в Духе дальше?
Конечно, это мы нарисовали высокий идеал. Таких духовных высот отношения в дружбе достигают не у всех, да и осознаётся достигнутое не всегда ясно. Но все же это именно русский тип дружбы: союз по Духу. Не по единству противника: "против кого мы будем сейчас дружить?", не по расчёту и даже не по приятельству – с кем приятнее, "комфортнее" находиться.
Словом, русская дружба напоминает собою духовный орден. А таковые представляют большую силу, как это убедительно свидетельствовала не раз история. И не случайно Тютчев сравнивал русскую дружбу со стеною боевой крепости:
Она не то, чтоб угрожала,
Но… каждый камень в ней – живой!
Духовный орден представляет собою нечто гораздо более прочное, нежели просто стая. Он зиждется на глубоком фундаменте, в отличие от временного союза, организованного поживы ради, где могут и своего, подраненного, загрызть. Предатели, конечно, могут появиться везде, и всё-таки менее всего их бывает в строю духовном. Настоящий русский никогда не предаст. Потому что для него предать друга, с которым он един в Духе, – это ведь, почти что, Самого Бога предать! Прав Гоголь, проникновенно написавший о том, "что есть на Русской земле – товарищество".
Так что духовность наша это, в конечном счете, отнюдь не слабость! Напротив, именно она представляет собой ту силу, которой тысячелетия стояла наша империя. И силу, которой она будет возрождена.
Противники русского народа всегда боялись, прежде всего, именно вот этой духовности. Поэтому они стремились привести на Русь ереси – орудия духовного раскола. Но это уже тема следующей статьи.
(обратно)Анатолий Яковенко РОДОВОЕ ГНЕЗДО
В глубокой древности все славянские языки имели одно родовое гнездо. Всякие особые говоры и наречия появились постепенно. Главной причиной для этого послужило племенное разделение, когда отдельные семейства откалывались и постоянно расселялись по разным краям. Всё это вполне подтвержда- ется и новыми названиями – словенцы, словаки, сербы, моравы, чехи, ляхи, словене новгородские. У восточных славян возникают ещё такие имена: поляне, древляне, кривичи, радимичи, вятичи. Потом все они объединяются под общим названием Русь. Не будем касаться столь спорного до сих пор вопроса – откуда же пришло это слово в самом начале, потому как здесь мнения историков сильно расходятся. Одни ссылаются на автора нашей первой летописи "Откуда есть пошла Руская земля" Нестора и приводят такие его слова: "А Словеньск язык и Руськый един есть; от Варяг прозъвашася Русию". Но именно из этого и зарождается затем целая нормандская теория. Что, мол, Русь создала своё государство лишь под скандинавским влиянием. А у вторых историков есть тоже очень убедительные доводы о южном происхождении этого слова. Что оно встречается в некоторых древних топонимах и иностранных источниках ещё задолго до того, как на севере новгородские бояре призвали к себе Рюрика. Из этого спора можно вынести всё-таки одно непреложное: что жившие вокруг Киева поляне стали первыми называть себя Русью. "Поляне, яже ныне зовомая Русь" (Нестор). И что вслед за усилением Киева это же имя распространяется и на все остальные княжества, которые входили в состав Киевского государства. А это и Новгород, и Смоленск, и Полоцк, и Волынь, и Галицк, а чуть позже и вся уже Владимиро-Суздальская земля.
Говоря же о русском языке и истории его образования, мы не можем пройти и мимо такого вот вопроса, что возникавшие отдельные говоры и наречия не несли в себе каких-то этнических изменений, а закрепляли за собой лишь чаще всего одни географические названия. На юге киевские, галицкие, на севере могилёвские, витебские, новгородские, на северо-востоке калужские, рязанские, суздальские. Но язык же по-прежнему оставался древнерусским для всех областей. Тем паче, что у нас был везде и один письменный язык. Церковно-славянский, который пришёл на Русь с принятием крещения. И все великие письменные памятники той поры созданы на этом языке. "Повесть временных лет" того же Нестора, "Слово о законе и благодати" Илариона, "Слово о полку Игореве", да и "Правда" Ярослава или "Поучение" Владимира Мономаха.
Точно также и весь наш народ носил везде одно название – русский. Изменения были иногда лишь в произношении. Руський, русины, русичи… а попытки разделить нас на три отдельные ветви (украинскую, белорусскую и российскую) начинаются лишь с создания собственных языков, когда вслед за перекройкой всей русской истории (Костомаровым, Максимовичем, Кулишом в первой половине 19 века) появляется и так называемая украинская литература – Котляревский, Квитко-Основьяненко, Тарас Шевченко, Вовчок, которые не захотели встать на сторону общего нашего дела, отказаться от слишком узкого местнического патриотизма и пойти, подобно Гоголю, на выработку единого великорусского языка. Для них некая осколочная Украина, берущая свой отсчёт лишь с казачьих времён и выбросившая знамя "самостийности", стала вдруг куда дороже всей прежней Святой Руси.
А ведь не в пример им та же, скажем, Германия не пошла на раскол. Ни Пруссия, ни Бавария, ни Саксония не стали создавать свой отдельный язык. И не делят теперь Гёте с Шиллером! А вот нынешние украинцы даже величайшего своего гения Гоголя готовы записать в изменники.
На сегодня у них в почёте лишь Иван Франко, Леся Украинка да свой же доморощенный историк Грушевский. А некоторые их же раскольники из филаретовского лагеря договариваются уже до того, что требуют запретить читать даже проповеди на "российской мове". Забывая или просто не ведая по своей малограмотности, что церковная служба-то ведётся (и слава Богу!) на церковнославянском языке. И что язык сей и всё право- славное вероисповедание пришли в Москву из Киева, а совсем не наоборот, из Москвы в Киев.
Поэтому-то "российская мова" тоже вбирает в себя издревле огромный пласт южнорусских слов. И не только общих церковно-славянских, но ещё в большей степени одинаковых разговорных. Ибо как Новгород, так и Ростов, Суздаль, Белозерье, а затем и Москва заселялись киевлянами, галичанами, черниговцами и волынцами (Пётр – Святитель и основатель Успенского собора в Кремле, а также один из главных героев Куликовской битвы Дмитрий Боброк были оба родом с Волыни), а знаменитый князь Даниил Галицкий выдал свою дочь замуж за старшего брата Александра Невского, мать же Александра Невского тоже была дочерью одного из южнорусских князей.
А если касаться летописных текстов, былин, сказок, то многие из них также пришли на север (Архангельск, Вологду) с юга и до сегодняшнего дня сохраняют всю киевскую окраску.
Во славном городе во Киеве,
Да у ласкового князя у Владимира,
Там стояли у заставы да
три богатыря:
Да й первый богатырь –
Илья Муромец,
А второй –
Добрынюшка Никитич был,
Во третей –
Олешенька Попович был.
Дальше речь идёт о том, как возле Киева объявляется некий неверный. И когда на битву с ним так и не решились выйти ни Добрыня Никитич, ни Алёша Попович, "поехал на чисто полё сам Илья Муромец".
Брал себе копьё долгомерное
И брал ещё палицу тяжёлую.
И одолевает он его в нелёгком поединке, за что и получает похвалу от великого князя Киевского Владимира Красное Солнышко, как любовно называл его весь простой тогдашний люд, а Илья Муромец тоже сыскал у него же (люда) добрую память за все свои подвиги. И недаром (хотя и был уроженцем Мурома на Оке) похоронен рядом с самыми знаменитыми князьями в Киево-Печерской Лавре.
И нам вновь необходим языковый союз… от всяких нестроений и междуусобий не один век страдала вся русская земля. Вся наша обширная Святая Русь! Но и теперь никому не удастся заставить нас забыть это имя, как бы ни старались превратить всех русских в украинцев и россиян (что в данном случае равнозначно тем же самым хохлам и кацапам).
Сейчас происходит насильственное разделение… и это надо помнить прежде всего тем, кто не хотел бы забывать своих исторических корней. Ведь изменение древнего имени превращает нас в национальных отщепенцев. Также давно уже не секрет, что и наш современный русский язык подвергается всяческому искажению. Как от внесения в него всевозможных искусственных жаргонизмов, так и множества иностранных слов. А на Украине нынешней даже таких именно русских, а не российских великих писателей, как Пушкин, Толстой и Достоевский, давно уже зачислили в разряд иностранных. Слишком, по-видимому, опасаясь не столько языковой порчи, сколько пробуждения у своих подданных исконного самосознания.
После чего те, наверняка, довольно скоро смекнут, что Пушкин и Толстой с Достоевским – отнюдь не чужаки, а близкие сродники им по крови и вере. И языку некогда общему… призванному в конце концов вернуть нас всех вновь не только к прежней литературе, но и под сень всё той же единой неделимой Святой Руси.
(обратно)Исраэль Шамир СЕМЬ ТОЩИХ КОРОВ
Пока настоящий кризис – это одни разговоры, но он ещё может прийти. Если крикнуть "Пожар!" в переполненном кинотеатре, то результат может оказаться плачевным – даже и без огня.
У всего на свете есть причины. Нам говорят, что амери-канские банкиры сдурели, надавали дешёвых кредитов, не думая о последствиях, придумали сложные финансовые инструменты, и сами их не поняли. Другие говорят, что они это сделали не по глупости, а от жадности и близорукости – мол, не учли последствий.
Но американские банкиры и финансисты – не дураки, и не близорукие тетери. Предположим, что они знали, что делают. Как правило, если события происходят, они происходят по воле деятелей, а не против их воли. Горбачев и Ельцин ликвидировали СССР потому, что они этого хотели. Гайдар и Чубайс обнулили сбережения и раздали заводы и месторождения своим друзьям потому, что они это хотели сделать. При этом они тоже говорили о кризисе, который сами создавали – для выполнения своих целей. Сейчас в эту увлекательную игру играют большие профессионалы из Нью-Йорка. Если их не остановить, то они выйдут из этого кризиса ещё богаче, ещё сильнее, а нас опустят и загонят в долговую кабалу.
Нечто похожее произошло в древнем Египте. Сначала было несколько лет изобилия и благосостояния, а потом ударил кризис, и простой народ был закабалён на века.
Вы, наверное, узнали библейскую историю Иосифа и фараона, её недавно пересказал Кудрин для тех, кто забыл. Фараону приснился сон: вышли из Нила семь тучных коров, и после них вышли из Нила семь тощих коров, и съели тощие коровы тучных коров (кн. Бытия, 41). Смысл сна был в том, что семь лет изобилия сменятся семью годами засухи и неурожая. По словам Кудрина, притча призывала запасаться впрок на тяжёлое время. Но в библейской истории были нюансы, которые Кудрин опустил, а в них весь смысл повествования.
Библейская притча совсем не о том, что нужно запасать-ся впрок на чёрный день. Министр финансов фараона Иосиф использовал народные сбережения, сделанные за семь лет изобилия, не для того, чтобы поддержать народ в годы засухи, но чтобы всех закабалить и поработить. История имеет обычай повторяться, но на новый лад. Сегодняшние финансисты использовали модель Иосифа, но улучшили её. Иосиф использовал изобилие и засуху, но они устроили и то, и другое. Сначала они открыли шлюзы кредитов и зацепили на удочку многих, а потом закрыли шлюзы и выкатили своё оружие Страшного Суда – семь тощих коров. Только цель осталась той же – поработить и закабалить народ.
Недаром главный архитектор кризиса, Ален Гринспан приносил присягу на Талмуде перед своей учительницей Айн Ранд, сатанисткой и создательницей культа Просвещённого Эгоизма. Стивен Лендман справедливо назвал его Врагом Народа № 1, а Иен Вильямс охарактеризовал роман Ранд как "кошерную беллетризацию Майн Кампфа дамским пером".
Наши талантливые друзья и единомышленники обвиняют в кризисе его технические орудия – деривативы, свопы, ABS, MBS, CDO, CLO и прочие сокращения. Они подробно объясняют, как сработали эти инструменты, как прошла секъюритизация дебиторских долгов или продажа фиктивных активов. Конечно, любопытно найти ответ на вопрос "как", но вопрос "зачем" более актуален.
Каков был генеральный план нового Иосифа и его братьев? На первой стадии они превратили США в гигантский пылесос богатства народов, запустив печатный станок. Советские деньги называли "дере-вянными", но американские деньги, доллары, даже не деревянные – они попросту бумажные. Кроме денег в прямом смысле слова, пошли в ход и облигации. Советские облигации брали через "не хочу", когда не удалось увиль-нуть, но американские – шли на ура благодаря лучше поставленному агитпропу. Русский газ, арабская нефть, японская техника, африканская руда, китайский труд, шведские машины, французское вино – всё ухнуло в чёрную дыру Америки в обмен на долговые расписки.
Так поступали профессиональные банкроты прошлого: набирали долгов, угоняли капиталы подальше и объявляли банкротство. Этот приём недавно использовали в Америке – сначала приватизировали ресурс, например, электричество, а потом привели его к банкротству – как компанию "Энрон" – и заставили народ выкупать долги. На этот раз они загнали в долговую яму массы американцев и англичан, и с помощью их долговых обязательств обобрали весь мир. Сейчас большинство американцев оказались в долгу, но счастливые избранники смогли скупить всё на свете, все земли и ресурсы, и сейчас они спокойно ждут, пока за это заплатят другие. Их планы "спасения экономики" – это продолжение их же планов создания кризиса. Несколько супербогачей разбогатеют ещё больше, а государства и обычные граждане обеднеют, потому что заплатят за всё. Потом они доведут даже самые преуспевающие государства до разорения, и будут править как новые фараоны – или как новый Иосиф от имени фараона.
С этим можно справиться так же, как можно было справиться и в древнем Египте. Египтяне могли сказать фараону и его министру финансов – все собранные урожаи, вся житница страны – наша. Спасибо, что позаботились сохранить, а сейчас сваливайте. Даже и не мечтайте, что мы пойдём в долговую кабалу, чтобы получить наше собственное добро. Но у древних египтян на это не хватило смекалки. Они не знали, как разрулить проблему, а мы знаем.
Не надо помогать богатеям. Эта помощь всегда выходит нам боком. Так, Россия помогла Америке завоевать Ирак – отказавшись от многомиллиардного долга в пользу Америки, и ничего не получила взамен. Помощь в войне Америки с террором не сдержала антирусский терроризм. Помощь пошатнувшемуся Уолл-стриту будет ещё дороже.
Идёт игра в вершки-корешки, в которую ещё играли медведь и мужик. Они говорят, что добро принадлежит им, а долги – нам, а мы скажем наоборот – все долги – это частные долги директоров и олигархов, а всё добро принадлежит народу. Они говорят – добро приватизировать, а долги национализировать. Нужно поступить наоборот: национализировать добро и приватизировать долги. Все долги, сделанные Миллером от имени Газпрома – это личные долги товарища Миллера. Пусть сам разбирается с кредиторами. А состояние Газпрома – это народное. Его не трожь. Все долги трестов, банков и компаний – это личные долги управляющих. С них и взыскивайте.
Так нужно ответить тем, кто нас запугивает: вы заработали, сейчас расплачивайтесь. Вы покупали футбольные команды, дорогих блядей и шампанское, вы надеялись, что мы заплатим по вашим долгам. Вы надеялись забрать наше добро, сейчас мы конфискуем ваше. Нужно конфисковать всё личное и частное достояние олигархов и крупных менеджеров, обнулить их банковские счета, продать с молотка их дома и движимость. Пусть каждый банкир отвечает до последней копейки за долги банка – лично. Запретить банкротство. Разобраться по всей строгости закона с Голдман-Саксом и прочими новоявленными иосифами. Отдать под суд всех, кто довёл экономику до ручки – они знали, что они делают. Вместе с ними, судить и их пропагандистов и агитаторов, наших коллег, которые давали идеологическое оформление преступникам. Повторить брежневские процессы ворюг – но на этот раз в масштабе планеты.
Можно и нужно сделать и далеко идущие выводы. Мистика монетаризма сломлена кризисом. Уже двадцать лет мировая экономика работает худо-бедно и даже стимулирует прогресс без "настоящих" денег, на пустых ничем не покрытых обязательствах и бумажных ассигнациях. Наши деньги – это фантики, но они работают!
Мир может сделать следующий шаг, и выпустить беспроцентные бескредитные деньги, на которых не будут зарабатывать банкиры. Так успешно работали советские "ненастоящие" деньги – пока номенклатура не обменяла их на американские доллары, заодно обогатившись за счёт обобранного большинства. Сейчас американская номенклатура решила применить опыт российских олигархов и обобрать и американцев, и прочее население планеты. Но мы можем теперь использовать полученное горьким опытом знание – рыночная модель победила в соревновании с социализмом, пользуясь краплёными картами. Запад проиграл экономическую войну с СССР в 73-74-м годах, но СССР, увы, отказался форсировать победу.
Не поздно переиграть результат и сейчас – в союзе с народами Америки и Европы.
(обратно)Евгений Чебалин ЗОНА
ГЛАВА ИЗ РОМАНА "СТАТУС-КВОТА"
– 1 –
Я, сын ARMENIA MAIOR (Великой Армении), пишу письмо маленькому славянину Васе Прохорову.
Я, Ашот Григорян 84-ый, потомок царя царей Тиграна II Великого, которого знали и уважали римские поэты и летописцы Юстиниан, Плутарх, Вергилий, Тибул, Сенека, Квинтилиан, которого боялись полководцы Лукулл и Гней Помпей – имею к тебе глобальную претензию. И маленькое предложение.
ПРЕТЕНЗИЯ. Клянусь проросшей из тьмы веков "армянской сливой" (prunus armeni-aca), я должен взять с тебя репарацию за геноцид. Три года сельхозаспирантуры мы жили в одной комнате. И все три года ты, на первый взгляд биогенетик, а на самом деле палач, издевался надо мной. Твой храп ночами (так может храпеть лишь племенной жеребец в апогее случки) лез в мой армянский мозг как ржавый гвоздь. Вдобавок ко всему, в спортзале за стеной ты бил ночами по боксёрской груше как кувалдой – с вульгарным гыканьем и кряхтеньем дровосека. И прыгал со скакалкой. Она визжала у тебя котом, которому прищемили яйца. Твоя биологическая злоба к мухам вгоняла меня в шок. Ты мог вскочить как бешеный орангутанг и с рёвом треснуть мухобойкой по столу или по моей руке – чтобы умертвить несчастное насекомое.
Но самым тяжким оскорблением (такое смывают только кровью) был твой ехидный шовинизм к армянскому напитку – коньяку. Я пил коньяк, наслаждаясь ароматом богов. А ты хлестал свою "Столичную" и морщил нос: "Опять клоповник за столом развёл?!"
И я, великий армянин, потомок селевкидов, аршакидов, пройдя трёхлетний ад общения с тобой, не мог дождаться окончания аспирантуры, с которым кончатся мои страдания. Но перед концом учёбы, когда мы защищали кандидатскую, у вас случился бой с Алиевым Кемаль-Оглы за звание чемпиона Юга в тяжёлом весе. Я шёл смотреть на бой с наслаждением: протурецкая горилла должна была убить тебя. Прикидывал: где будем хоронить аспиранта Васю и что я напишу на могильном венке. Азер Оглы был "заслуженный", на голову выше и на 8 килограммов тяжелее тебя. До этого он уложил нокдауном наших мастеров Гарика Аветисяна, Гургена Оганяна и покалечил Возгена Вартаняна.
Весь бой ты драпал от него и защищался – с расквашенным носом и разбитой бровью. Ты измотал гориллу своим драпом. А в третьем раунде поймал момент и весь вложился в хук снизу. Горилла грохнулась в нокаут. Я не забуду, что испытал тогда: национально-исторический оргазм. А он сильней физиологии стократно. Зал бесновался и ревел. Я впитывал в мой армянский геном, в сплетенье хромосом вожделенье от того, как дергаются и елозят по полу волосатые ляжки азертурка, как пялятся бессмысленно его бараньи глаза, как подламываются руки у этого Оглы-еда в попытках встать.
Ты бросил на пол не Алиева. Ты сокрушил двуногих гиен Абдул-Гамида II, Талаата, Джемаля и Кемаля-Ататюрка – создателей МЕЦ-ЕГЕРН (великое злодеяние) ГЕНОЦИДА, всю жизнь питавшихся трупами армян. Их утробы вместили два миллиона наших жизней. Тебя как чемпиона уносили с ринга на руках, азертурка – на носилках. Я, маленький армянин, тогда шёл сзади и, надрывая глотку, вопил, что я живу с великим Васей Прохоровым в одной комнате. И отблеск твоей славы ложился на меня. Я не писал тебе долго. Но появился повод написать: вспомнил про тот бой. В итоге ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Вася-джан, приезжай. Я не могу спать без твоего храпа. У меня дома нет мух. Но в комнате, которая уже готова для тебя, я разведу специально этих насекомых: наслаждайся убиением этой дряни. Да, наш коньяк пахнет клопами, а твоя водка не лезет в моё горло. Но дядя, мудрый армянин, подсказал, как сделать для нас общий напиток. Он купит за большие деньги партию клопов у турок (их главный экспорт) и сделает из них настойку на твоей "Столичной". Тогда мы сможем пить из одной бутылки и жизнерадостно блевать на тюркиш знамя: с портретом Ататюрка.
Я жду тебя, Вася-джан. Прилетишь на неделю, клянусь армянскою горою Арарат, – не пожалеешь. Насколько помню, у тебя 56 размер одежды и 44 обуви. Бюстгальтер-лифчик шестого размера найдём тебе здесь. Если ошибаюсь – поправь в телеграмме с датой прилёта. Лететь к нам лучше на орлане белохвостом. С теми, кто летит транзитным рейсом на аистах, потом целая морока: куда девать принесённых младенцев и где шляются их шалавы-матери?
Крепко обнимаю.
Твой Ашот
P.S. Немножко намекну, что здесь имеем: с учётом козлов вонючих, что суют свой нос в чужие письма.
1. Д.п.* T-Timopheevi с ч.хр-м** 20.
2. Уст. к м.р.*** у вышеназванн. д.п. и п. Triticum aestivuml – 3 г. Но есть возможность получить вместо них и остальных д.с.п.**** типа T.Persicum, T.Macha – их аналог с ч.хр-м 32, а главное – с уст. к м. р. и в.т.м.***** 15-20 л.
Это не бред сивой кобылы. Пишу в здравом уме и твёрдой памяти.
----------------------------------------------------
* Дикая пшеница.
** С числом хромосом.
*** Устойчивость к мучнистой росе.
**** Диких сортов пшеницы.
***** К мучнистой росе и вирусу
табачной мозаики.
« * *
Ашот, в одной связке с Василием, уже лежал метрах в пяти вверху, под каменной грядой, сливаясь в серо-буром, в пятнах, комбинезоне с валунами и россыпью камней меж ними. Свесив голову, подтягивал верёвку, наблюдал за Прохоровым. Тот одолевал крутизну, цепляясь за щели в гранитной скале, волок себя трясущимися руками. Раскрытым, опалённым ртом хватал разреженную пустоту – без кислорода. Почти что в самой глотке неистово рвалось наружу, колотилось сердце, пот заливал глаза. Сквозь сизую пелену в который раз увидел то ли мираж, то ли реальность: в полусотне метров, вознесясь над диким каменным хаосом, стояла на гранитных валунах пятнистая семейка лопоухих гиено-псов, пять особей, сбившихся в стаю. Пушистыми поленьями висели меж задних ног лисьи хвосты. Но в мощном грудном развороте, в массивных челюстях угадывалась волчья хватка, свирепая властность матёрых хищников.
Василий вытер пот, ещё раз глянул – над только что обитаемой грудой валунов пустынно высвистывал ветер.
… Добравшись до Ашота, лежавшего под разлапистым кустом, Прохоров бессильно рухнул рядом, выхрипнул осиплым голосом удавленника:
– Пи-ить… дай пить.
– Остынь. Что, трудовой мозоль мешать стал, чемпион?
– Где родимая мухобойка и обещанные мухи, садист?
– Ещё три дня…
– Через три дня, таких как сегодня, ты похоронишь меня в этих камнях.
– Вай-вай, какие нежные мы стали! Ещё полдня вперёд, два с половиной – вниз, назад.
– Тогда может выживу. А, чтоб тебя!! – Василий охнул, дёрнулся, застыл заморожено.
Скосив глаза, ползучим, медленным движением дотянулся до корявого сучка, торчавшего из куста, сломил его, стал поднимать, готовясь к хлёсткому сметающему удару. Вцепившись в рукав его комбинезона выше голой кисти, расставив рачьи клешни, башкой к нему сидело, пялилось обволосаченное чудище: гигантский скорпион длиной в два пальца. Подрагивал блёсткой синевой на задранном конце хвоста хитиновый крючок.
– Не вздумай! – шипящим гневом хлестнул по слуху Григорян. – Ты эти урбанистские замашки брось: чуть что, сразу за палку!
Он поднял ладонь. Округлой, скользящей синусоидой приблизил её к скорпиону. Нацелившись, неторопливо сомкнул пальцы на буро-чёрном горбике за головой страшилища. Поднял и перенёс его к кусту. Посадил на камень.
– Пандик-джан… ты сильно напугал большого дядю… здесь негде постирать его штаны. Иди, гуляй своей дорогой.
– Откуда в горах эта тварь? – подрагивал в изумлённом возбуждении Василий. – Они же водятся…
– Ну да, в пустыне. В Африке. Pandinus imperator, типичный африканский скорпион, но адаптированный к этому высокогорью, – с заметным удовольствием забросил в разум Прохорова уголь загадки Григорян – пусть жжётся.
Василий откинулся на спину, прикрыл глаза. Ныли, отходили от бешеной нагрузки ноги и поясница. Давненько он не насиловал свою плоть в таком нещадном спринтерском броске: переведённые ночью через границу с Турцией, почти сутки они поднимались к сакрально, сахарно блистающей вершине Арарата.
– Ашот, – не открывая глаз спросил Василий, – ты в самом деле где-то раздобыл этого монстра – донора дикоросов? 36 хромосом, почти 20-летняя устойчивость к фитопатогенам… бред сивой кобылы… в природе нет ничего подобного у эгилопсов… у самого пырея, чемпиона сорняков, пределы: 28 хромосом и 7 лет.
– Значит расшифровал письмо.
– Обижаешь, – Прохоров усмехнулся. – Сами разрабатывали скоропись для лекций. Но в наш гадюшник спецнюхачей в НИИ ты сунул головёшку. У них свернулись набекрень мозги. Ко мне за разъяснением им сунуться нельзя. И они задолбили ректора: что значат все эти: "T.Timopheevi", "с ч.хр-м и в.т.м.", где мои груди для лифчика, на каком таком орлане я полечу, и каких младенцев приносит в Армению аист. Знаешь, что он им ответил?
– Ну?
– У автора письма активная фаза вялотекущей шизофрении.
– Ай, молодец!
– У них шерсть дыбом: генетик – и шизофрения? Такого быть не может.
Ректор в ответ: у либерал-образованцев – сплошь и рядом. Поэт Кручёных всех стихоплётов как кувалдой в лоб своей "поэмой": ДЫР БУЛ ЩИЛ – и прочая абракадабра. Малевич намалевал "Чёрный квадрат", и вся холуйская обслуга визжит в экстазе: "Мировой шедевр!" И все они считались нормальными, все при деле.
– И что, после этого отлипли?
– После отмашки. Им кто-то дал отмашку.
– Мой дядя в Ереване.
– А кто он?
– Зам председателя КГБ Армении. На их запрос выдал про меня синхрон с мнением вашего ректора: вялотекущий шизофреник со сдвигом в национализм.
– Вот это новости! – Прохоров поднялся, сел, с изумлением вглядываясь в Григоряна. – Так вот откуда у нас всё: оружие, провод через границу, снаряжение и сопровождение до Арарата…
– Как на научнике на мне, само собой, давно поставлен крест. Но быть матёрым торгашом не возбраняется. Поэтому я большой торгаш в Ереване, Вася-джан. И у меня большие деньги на всякие полезные дела.
– А может… ты ещё кто… кроме торгаша?
– Много будешь знать, некрасивым станешь, – лениво потянулся всем телом Григорян.
– Я опять к твоему дикоросу…
– Я же сказал: дойдём до места – всё увидишь сам.
– Дикорос пшеницы в этих горах…
Вкрадчивый нарастающий стрёкот прервал его. Прильнув к ботинку Прохорова, подняв над ним точёную башку, покачивалось черно-блёсткое змеище – в руку толщиной.
– Не дергайся, – неторопливым шёпотом сказал Ашот. Сложил трубочкой губы, издал вибрирующий свист. Свист прервался. Набрав в грудь воздуха, пустил человек в змею воздушную струю. Стрёкот стихал. Маятниковое качание почти угасло.
– Ползи, Беггадик-джан, своей дорогой – негромко попросил Хозяин горы. Поднял ладонь, качнул ею в сторону змеи. Та опустила голову с точёной, ясно прочерченной стрелой, стала стекать в расщелину между камнями. Лаково-чёрный зигзаг её полутораметровой протяжённости истаял в каменном крошеве.
– Твою-у-у-у диви-и-изию… – выплывал и не мог выплыть из потрясения Прохоров. Настоянная на веках гипнотическая властность ползучего гада, облучавшая его, ослабевала, отпускала.
– Какого чёрта эти твари липнут ко мне?!
– Ты извини их, Вася-джан, но твой нашатырный пот поставил на уши всю фауну на этом склоне. Такой химической отравы давно сюда не заползало.
– Что это была за кикимора?
– По-африкански Беггаддер. Bitis Atropos – чёрная шумящая гадюка. Водится в горных районах и на побережье Африки. И на горе Килиманджаро.
– А здесь как оказалась?
– Как скорпион. Как кобра Каперкаппел. Как Strix flammea – сова сипуха обыкновенная, как Upupa epos – удод. И все из Африки.
– Та стая лопоухих псов или волков, что нас сопровождает…
– Дикая африканская собака. Помесь гиены с псами.
– Давно всё это здесь?
– Не очень. Веков сто с лишним.
– Ты можешь не морочить мне голову? Причем здесь Африка и Арарат?
– Скоро увидишь сам.
– Что я должен увидеть?
– Тс-с-с… тихо. Не перебивай.
– Чью-у-у пи-и-и-ить! – кокетливым фальцетом позвали сверху.
Прохоров вскинул глаза. На дальней ветке куста в полутора метрах над их головами сидела серо-бурая птица, чуть больше голубя. Лимонно-жёлтые пятна, как адмиральские эполеты, распластались на её плечах. Роскошно длинные крыла, отороченные белыми каёмками, уютно скрещивались за спиной.
– Пить-пить ци-чьють! – малиновым посвистом озвучилась крылатая гостья.
– Иди ты! – удивился Ашот. – А далеко?
– Пить ци-ци чьть-чьють! – прикинув, отозвалась птаха.
– Не врёшь?
– Цици-пью-пють!! – подпрыгнула, всплеснула крылами пришелица.
– Ну извини. Уговорила, – стал подниматься Григорян. Спросил Прохорова: – Медку с горячим чаем не желаете, ваше графуёвое высочество?
– Шутить изволим, Григорян? Я пол-Армении отдам за эту роскошь.
– Россию отдавай, вашему Хрущу не привыкать. С Арменией мы сами разберёмся. Подъём, отдавало.
Адмиральско-эполетный летун порхал впереди. Опередив на несколько шагов, он садился на валун иль куст и поджидал.
– Ашот, нас что, действительно ведут куда-то? – обескураженно спросил придавленный всей этой чертовщиной Прохоров.
– Тебе ж сказали – к мёду.
– Вот этот шибздик?
– Indicator sparmanni. Обыкновенный медовед.
– Конечно, тоже африканец.
– Само собой. Любимец суахили и всех туземных племён от Сенегала до Мыса Доброй Надежды. Там много диких пчёл.
– И этот Индикатор водит их к диким гнёздам… зачем?
– За угощением. Туземцы забирают мёд и оставляют Индикатору лакомство: соты с личинками пчёл. И этого он ждёт от нас.
… Расщелина в скале облеплена была зудящим роем пчёл. Ашот достал из рюкзака резиновые перчатки, накомарник. Обезопасив руки и лицо, залез по локоть в продольный зев пчелиного гнездища. Жужжащий вихрь клубился, лип к его рукам и голове. Василий, спрятавшись за камень, опасливо следил за экспроприацией. В двух метрах на кусте подёргивался возбуждённо, исходил нетерпеливым писком медовед.
Они оставили ему на камне сотовый ломоть, нафаршированный пчелиными личинками. Ашот нёс сотовый кус на лопухе, его янтарная благоуханность втекала в ноздри, пятнала зелень.
– Сэр Григорян, – позвал Василий, – вы смотритесь здесь махровым спикером в палате лордов. Признаться, впечатляет… но… мы же проходимцы. Здесь Турция, а мы шатаемся по ней, как по своей квартире… абсурд какой-то.
– Проходимец ты. А я – хозяин. Мы здесь хозяева три тыщи лет.
– Вы что, древней Османской империи и Англии с её палатой лордов?
– Дремучее дитя, их ещё не было в зародыше, и не существовало Рима, когда Аргишти, сын Менуа, в восьмом веке до новой эры построил Эребуни – столицу цивилизации Урарту: со своими городами, крепостями, ирригацией и клинописными сказаниями о предке, прародителе всех армян.
– О ком?
– Пра-пра-правнуке Ноя Хайке.
– Насколько помню, у Ноя были сыновья Хам, Сим и Иафет.
– Отцом Хайка был Форгом, дедом Фирас, прадедом Гомер, пра-прадедом Иафет, пра-пра-прадедом – сам Ной.
– Не тянешь ты на вялотекущего шизоида, – глянул искоса Прохоров. Горькая зависть полоснула по сердцу: сидела в армянине, соратнике по науке, глубинная этнопамять. По опыту знал: спроси практически любого русака, увенчанного докторской степенью в его НИИ, – кто из арийских предков возводил Москву иль Новгород, иль Киев, кто строил Аркаим, кто разгромил хазар на Белой Веже, где странствовал и впитывал в себя познания Иисус до тридцати лет, кем был, какую веру исповедовал Иоанн Креститель до крещения Христа, и что за письменность и мифология блистали на Руси до офанфаренных Кирилла и Мефодия, спроси – и будет пялиться на тебя остепенённый, как баран на новые ворота. Поскольку постаралась чужая антигуманоидная банда сколь можно безнаказанно обкарнать, обгадить великую историю ведической Руси и заменить её тухлой белибердятиной вечных изгоев.
– Ложись! – вдруг пригнул к земле Василия Ашот: где-то неподалеку хрипло кашлянул, взрычал матёрый зверь. Ашот сунул соты на лопухе Прохорову. Ползком стал взбираться по крутому склону, сливаясь с валунами. Застыл на острозубой гранитной перемычке, с минуту вглядывался вниз. Ударил кулаком по камню. Спина его подёрнулась. Ощутил Прохоров всей кожей – ругается Григорян калёным непечатным слогом. Ринулся Ашот вниз пятнисто-серой кошкой, снижаясь рваными зигзагами меж каменюк. Не останавливаясь, дёрнул Прохорова за руку, выцедил:
– Идём! – Лицо армянина оцепенело свирепой и гадливой маской.
… Они взбирались по зыбким, осыпающимся уступам, цепляясь за кустарник. И Прохоров в паническом изнеможении ощутил: ещё две-три минуты такой гонки и он рухнет на камни замертво. Ашот стоял вверху. Прильнув к гранитной трёхметровой громадине, он запустил руку в расщелину за валуном по самое плечо. Что-то дёрнул на себя. Упершись в округлость глыбы плечом, надавил на камень, скользя по осыпи ногами. И Прохоров впитал в раздёрганность сознания непостижимое: валун с тяжёлым хрустом стал разворачиваться вокруг своей оси.
Ашот спустил на Прохорова сверху нетерпеливый шип:
– Ты можешь порезвее шевелить своим научным задом?
Он втащил соратника за руку на площадку рядом с собой. Протиснулся в разверзшийся проход, втянул Василия. Упёрся плечом в камень. Глыба встала на место.
Во тьме вёл Григорян Василия за собой, сворачивая в стороны круто и внезапно: вздымающийся маршрут в кромешном гроте был пройден им, скорей всего, не раз.
– Ашот…
– Стоять! Здесь ничего не трогай. Вопросы потом.
Чиркнула зажигалка, выхватив из тьмы искрящуюся, будто облитую глазурью стену. В неё впаялись два бронзовых старинных трёхсвечника. Ашот зажёг их. Они стояли под двухметровым, отблескивающим слюдяными блёстками, сводом. Стена с подсвечниками ощетинилась железно-коваными штырями. На них висели автомат, винтовка с оптикой, ракетница. И арбалет с колчаном, полным стрелами. Жирно маслилась на корпусах оружия смазка.
– Ашот, ты хочешь, чтобы у меня поехала крыша?
– Василий-джан, ты можешь рот не раскрывать минут пятнадцать? – спросил Григорян.
Он вламывался в предстоящее дело с неукротимой торопливостью. Шагах в пяти от них упиралась в потолок четырёхногая стремянка. Ашот снял арбалет, извлёк тряпицу из колчана. Снял смазку с дуги арбалета и приклада. Напрягшись, натянул тетиву. Уткнул оперённый задок стрелы в неё, шагнул к стремянке. Рядом с ней свисал с потолка трубчатый цилиндр с глазками окуляров и ручками.
– Можешь подглядывать, – кивнул на окуляры Ашот. Он поднимался по стремянке. Добравшись до верха, разогнулся, упёрся головой в свод грота. Свод продавился и разъялся щелью: брезент, окрашенный под камень, зиял прорехой. Ашот просунулся в неё по пояс, втащил за собой арбалет. Прохоров двинулся к свисавшему цилиндру – по виду перископу. И ощутил в руках помеху: брусок пчелиных сот истекал янтарным соком, пятнал лопух, сочился с него нитями на пол. Василий огляделся, пристроил лакомство в гранитной нише, выдолбленной в стене. Взялся за ручки перископа, прильнул глазами к окулярам. Навстречу взору скакнул величественный вздыбленный хаос камней и скал: граниты, гнейсы, острозубое рваньё базальта в щетине низкорослого кустарника – набрякло всё рубиновым окрасом позднего заката.
В полусотне метров на узкой, едва приметной среди камней тропе дёргались двое турок с автоматами. Нетерпеливой и опасливой досадой насыщено было их топтанье: двое, истекая паникой, звали третьего.
Закинув автомат за спину, третий – молодой и резвый, метался по осыпи средь валунов. Замахивался крючковатой палкой и бил ею по камням. Какая-то невидимая Прохорову живность спасалась бегством от погони погранца. Турок, вихляясь туловом, попал-таки по цели. Остановился, бросил палку. Нагнулся, стал что-то поднимать. Поодаль, почти сливаясь с камнями, за ним наблюдала стая. У вожака, готового к броску, стояла дыбом шерсть на загривке, светились рафинадной белизной в оскале зубы.
Василий видел в перископ лицо охотника, блаженно-хищный охотничий азарт на нём. Турок разогнулся, вытянул руку. Из кулака свисало блёсткое, полутораметровое веретено змеи. Оно подёргивалось в судороге издыхания.
– Шакал… тебя ещё не научили, как вести себя на склонах Масиса!
Шипящий клёкот от Ашота канул вниз, к Василию, застрял в его ушах калёной стружкой. Младой и резвый турок, между тем, развернувшись к старшим, потрясал увесистым, уже затихшим гадом… Беггадиком?! Тем самым?
Негромко, хлёстко цокнуло над головой Василия. Оторопело выдохнув, увидел он: воткнувшись в турко-зад, торчала из него оперённая стрела. Истошный вопль пронизал рубиновый закат над Араратом, шарахнулся по скалам эхом. Оно просочилось в грот через гранитность потолка. Не смея двинуться и выронив змею, безостановочно орал охотник на гадюк.
Ашот спускался по стремянке. Точёная изящность спущенного арбалета отблескивала надменным, свершившимся возмездием. Последнее видение впиталось в память Прохорова: двое, треща игольчатыми огоньками из автоматных стволов, бежали к раскоряченному третьему. В заднице которого дрожало оперение стрелы, проросшей из тьмы веков: армянская стрела всегда торчала из задов завоевателей – Парфении и Рима, арабов и сельджуков, османов, персов, селевкидов.
– Конец кина, – Ашот с настырной мягкостью оттёр Василия плечом от телескопа. Взявшись за ручки, опустил его на метр к полу. Пояснил: – угробят пулей оптику – возни на месяц.
– И что теперь? – Прохоров подрагивал в ознобе.
– Не больше, чем всегда, – сцедил усмешливо Ашот, – пригонят вертолёт с десантом. И те прочешут весь этот участок. Для вида расстреляют пять-шесть рожков по скалам, по камням. И уберутся с мокрыми штанами.
– Так уже было?
– Много раз.
– И что, ни разу не наткнулись на этот схорон?
– На нём топтались. Гадили от страха. Но ни одна ищейка ничего не обнаружила. Здесь мы хозяева. И сделано всё по-хозяйски.
– Где… здесь?
– От армянской границы до места назначения, куда идём, ведёт запретная для них Зона трёхсотметровой ширины. Им разрешается пересекать её строго по тропам. Рысью! Сойти с тропы для турка пограничника – значит стать дичью для охоты. Они уже познали, чем всё заканчивается за пределами тропы: стрелою или пулей, укусом скорпиона или гадюки. Иль нападением собачьей стаи.
– И турки терпят это на своей территории?
– В конце 1916 года младотурки устами своего главаря Талаата сказали американскому послу Маргентау: "Армянского вопроса практически не существует!"
Потом Талаат добавил: "Но окончательно мы его решим, когда Ротшильды, Рокфеллеры, Шиффы решат руками Троцкого русский вопрос".
За пятнадцатый-шестнадцатый год кемалисты истребили полтора миллиона армян в геноциде. Пятьсот армянских монастырей, церквей, соборов было разрушено. А в двадцать первом году троцкисты примкнули к геноциду: подписали с турками договор в Карсе. По этой проститутской местечковой бумажонке Армения потеряла области Карса, Ардагана. И гору Арарат – священную для нас и человечества. К её вершине поднимались поклониться АЛТАРЮ, ПРИБЫВШЕМУ ВЫСОКОЙ ВОДОЙ, мой дед и прадед. Тогда наши вожди диаспоры сказали младотуркам: вот эта Зона была и останется нашей.
– И турки проглотили ультиматум?
– Через семь лет пришлось глотать. За это время в Зоне окачурились сто восемьдесят их погранцов, солдат, спецназовцев и президентской гвардии: они пытались утвердиться здесь. В конце концов эти бараны уяснили – в Зоне летает, ползает, кусает, жалит, рвёт клыками сама смерть. И наши стрелы с пулями. Вдобавок к ним из скал, расщелин здесь вырываются струи отравленного газа, бьют насмерть молнии при ясном небе, срыва- ются литые бомбы из застывшей лавы и не дают дышать сернистые туманы. Всё это начинает действовать на них, как только турки пересекают границу Зоны – свою деревню Донузулбулак. В итоге они панически зовут теперь Арарат Агри Даги – Гора боли.
– Вот этот грот один?
– Таких укрытий в Зоне семь – от подножия до АЛТАРЯ.
– И не один не обнаружен турками? Кто их построил?
– Тот, кто построил АЛТАРЬ – священный ковчег, прибывший с высокой водой.
– Когда?
Дрожала на лице армянина тягуче-торжествующая усмешка:
– Когда весь мир был ещё залит водой. Но Арарат стоял уже наполовину обнажённый.
– Так кто всё это сотворил?
Ашот поднялся. Пошёл к трёхсвечнику на стене.
– Иди сюда.
Василий подошёл.
– Ты видел где-нибудь такое?
В свечном сиянии стена мерцала жжёно-фиолетовым лаком. Под ним серебром отсвечивали слюдяные бляшки.
– Глазурь… зачем вскрывать стены глазурью?
– Да нет, Василий-джан, то не глазурь: это расплавленный базальт. Пещеру выжигали в скале лазерным или ему подобным лучом. Точно таким же способом в Анголе, Мозамбике на трёхсотметровой глубине сооружались шахты для добычи золота. Всё это сотворили пятнадцать тысяч лет назад. И этим же лучом на плато Наска из стратосферы выжжены рисунки цапли, скорпиона, рака и колибри – километрового размера.
Григорян снял подсвечник со стены.
– Идём.
Он зашагал в снижающуюся глубь грота. Василий двинулся за ним. Три язычка у трёх свечей, сгибаясь, трепетали. И тени Григоряна и Василия на блескучих стенах метались сумрачными зыбкими мазками. Остановились в тупике – перед тяжёлой, висевшей на металлической струне шторе-полотнище. Из неё торчала стальная спица длиной в два пальца – с ушком. Сквозь ушко была продета шёлковая нить. То была гигантская игла, скорей всего для сшивания кожи и брезента.
Григорян сдвинул штору, обнажил стену. Стена вздымалась ввысь, засасывала бездонною утробой мрака, с отчётливо узнаваемыми россыпями созвездий: Гончих Псов, Большой и Малой Медведиц, Рака, Козерога. Угадывался серп луны – рядом с зеленоватым шариком Земли. В пространство между ними летел, вторгался хвостатый планетарный сгусток.
На фоне черноты и звёздных скопищ отчётливыми резкими штрихами начерчен был рисунок в человечий рост – кипенно-белым контуром изображена ракета из трёх отчётливых фрагментов: встроенный аппарат приземления, корпус с топливом и оборудованием и модуль управления. Её сопла исторгали багряный язык пламени – из красной охры. Рядом впаялся в блёсткость черноты космический явный гуманоид – в скафандре, в шлеме. Все линии, черты панно несли в себе неукротимость времени, поистине вселенский размах мышления иной, нечеловеческой цивилизации. Художник оставил на стене свой пламенеющий, цвета закатного солнца, автограф. В него вклещились снизу вибрирующими угольными пауками те же буквы, но в перевёрнутом, зеркальном виде – AN-UNNA-KI.
– "Нетленный повелитель", – перевёл из-за спины Ашот, – то их язык, поздневековый деванагари, который перерос в санскрит.
– Откуда это здесь… кто рисовал?! – спросил Прохоров: неведомую мессианскую эманацию струила космофреска, обжигая младенческий, податливо-глиняный разум человека.
– Тот, кто создал Алтарь, эти схороны. AN-UNNA-KI.
– Кто они?
– Они – "те, кто с небес на землю сошёл". Рядом – их корабль. В пиктографах иафетитов: аккадцев, шумеров, вавилонян, персов, ариев всё это значится как DIN GIR, или "Праведники с огненных, летающих колесниц".
– А эти… кости?
Бугрился сахарной белизной под стеной холм из костей: полуметровый череп кошки с клыками в локоть, скелеты грузных летунов – гусей, размером со страуса или гигантских дроф, берцово-бедренные кости и копыта – с баскетбольный мяч.
– Остатки первобытных трапез.
– Неандертальцев?
– Кроманьольской расы XOMO SAPIENS. Она была научена здесь анунаками растить и печь хлеба, приручать диких животных, выплавлять железо, варить жидкую пищу. Изготовление горшка из глины, осёдлая варка пищи на печах – вот преимущество кроманьольцев перед кочевниками, оно их сделало хозяевами планеты, наделило оседлостью, одарило способностью рисовать, исполнять обрядовые пляски, играть на глиняных свирелях под рокот бубнов. Всё это изображено на стенах других гротов, и обнаружено в раскопках древнейшего городища кроманьольцев Чатал-Уюка. Но турки запретили там все раскопки: непостижимо высока оказалась культура древней расы кроманьольцев по сравнению с их предками кочевниками.
– Эти схороны строились для них?
– Для всех, чьей Родиной стал Арарат. В том числе и для приплывшей сюда арийско-африканской расы иафетитов.
– Приплывшей?
– Причалившей к горе. Пришельцы смешались с аборигенами. Армянское нагорье стало генетическим котлом, здесь сформировались все европейские цивилизации. Но далеко не сразу.
– Ашот, ты кто? – спросил угрюмо, настороженно Прохоров.
– Занудный армянин, который мучился с тобой в аспирантуре, – усмешлив и непроницаем был Григорян.
Но не устроил Василия его ответ, поскольку выпирал, не укладывался в него набор событий и картин, впрессованных в сегодняшний день.
– 2 –
Василий сознавал себя настырным карликом. И карлик Прохоров обязан был уконтрапупить, свергнуть голиафа Мальтуса, чугунной головою протыкавшего академические облака. Последний людоедски выцедил оттуда – из недосягаемых высот, свою идиому: о хилой истощённости пищевых ресурсов на планете, которая не в силах прокормить прожорливое, катастрофически плодящееся человечество (хотя кормила без натуги стократно большие стада животной плоти). Из Мальтуса вытекало: кому-то надо прореживать (иль истреблять) двуногих. И этот приговор был утверждён незримым, но ощутимо осязаемым синклитом всемирных кукловодов. Они отслеживали несогласных с Мальтусом, мазали их клеветнической смолой, облепляли СМИ перьями – как деревенскую курву-поблядушку. Затем оттаскивали волоком из бытия, науки и известности: как Ивана Эклебена и Овсинского, Вавилова, как Мальцева и Моргуна, Иващенко, как Сулейменова, Бараева и Прохорова-старшего.
Вот почему Василий Прохоров, усвоив намертво взаимосвязь работающего на сытость бесплужного агровоззрения – с последующими похоронами заживо, стал изощрён, сверхосторожен в своём деле и в словесах о нём.
Ещё в отрочестве, намаявшись подмастерьем в свирепо-тощем советском хлеборобстве, он ощутил однажды шок от рухнувшей на темя и придавившей мысли: А ПОЧЕМУ?! А почему их сельский луг, к зиме по-рекрутски обстриженный зубами лошадей, коров, истоптанный до чёрной голизны копытами, уйдя бессильно, замертво под хладные снега, – весною сам собой взрывается густейшей, сочной зеленью? Его не пашут и не удобряют, его не засевают и не поливают… а он кишит червями в отличие от мёртвой пахоты! Практически не знает поражений от фитопатагенов и болезней! Живёт, цветёт и КОРМИТ! Задавшись сим вопросом и не подозревал Василий, что эта мысль веками, раз за разом падала из выси в мозги лучших оратаев и начиняла их позывом к пахотному бунту: зачем все хлеборобы, которых тычут мордой в безотвалку, как нагадившую в доме кошку мордой в её дерьмо, – зачем они рвут жилы, пашут и боронят, запахивают в борозды навоз? И ПУХНУТ С ГОЛОДУ В НЕУРОЖАЯХ! И почему земля тощает?
А если… пристегнуть самородящую систему луга к зернопроизводству, скрестить одно с другим? Не пахать, не удобрять и не травить химической отравой себя и тех, кто зарождался в материнских чревах… может не насиловать, не задирать подол Природе-Матушке, к чему зовут Мичурин и прочая орда сельхозкаганов, А СЛЕДОВАТЬ ЕЁ ПОДСКАЗКЕ?
… После Тимирязевки и аспирантуры его распределили в Среднее Поволжье, в агромашинный НИИ, обязанный выдавать аграриям сравнительные результаты испытаний новой техники и вырабатывать рекомендации: как, чем пахать и сеять, какая химия в борьбе с вредителями эффективней (ядовитей!).
Ушибленный своей идеей (пепел сгинувшего в ЧК отца и пепел славянского голодомора стучал в его сердце), Василий в первую же весну отправился искать участок для воплощения её. И на опушке леса набрёл на заброшенный огрызок пашни гектаров в пять, который напрочь и свирепо оккупировал его неистребимое препохабие СОРНЯК.
Он выбрал шмат земли пять шагов на пять. И промотыжил его тяпкой. Нафаршированный остатками чёрной полусгнившей стерни и рубленым чертополохом клочок панически и встрёпанно таращился в небо пожнивной щетиной.
Набив холщовый мешок землей, Василий в институте исследовал её на балльность. Земля, истощённая пашней, была на последнем издыхании – совокупный балл бонитета её был 30, тогда как балльность многих чернозёмов – за 70.
За лето Прохоров мотыжил усыновлённый клочок пять раз. В итоге многократно прорастающий и подрезаемый сорняк практически иссох. После чего ненастным поздним октябрём Василий вручную засеял подготовленную делянку озимой пшеницей Мироновской и Безостая-1 – под рыхлый дёрн. Засеял редко, разбросом – около двухсот семян на квадратный метр, вместо шестисот, установленных академиками. Засеял, как сказала бы эта зубастая компашка, – преступно поздно.
На колхозных пашнях уже вовсю щетинились взошедшие озимые, а прохоровский отрубёнок ушёл под снег чернёно-мёртвый, без единого росточка – как уходил под зимнюю бель тот выстриженный, вытоптанный деревенский луг в отрочестве. Содравши с шеи директивно-рабское ярмо, Василий с наслаждением и яростью взорвал все тухлые каноны и табу агроорды: он не пахал, не удобрял, не боронил свой карликовый клин, хотя тот был на издыхании по плодородной балльности. Вдобавок – не позволил озимым прорости до снега. За это у колхозных вожаков, по самым мягким меркам, выдёргивали партбилет и наделяли билетом волчьим – без права возвращаться в хлеборобство.
Весной его делянка, набухшая от снежной влаги, хлебнувшая тепла, буйно всплеснулась игольчатым изумрудьем всходов. Колхозные поля с озимой пожелтевшей зеленью, истратив силы на подснежную борьбу за выживание, с бессильною истомой оцепенели в дистрофическом анабиозе. Вдобавок хлёсткие ветра и солнце свирепо, быстро высосали влагу из-под пашни и нежный корешковый кустик, ещё переводивший дух от стужи, взялись терзать суглинистые челюсти окаменевшей почвы.
У Прохорова – всё шиворот на хулиганский выворот. Вольготно угнездясь в просторном лежбище, похожим на пуховую перину из перепревших корешков, стерни и сорняков, она держала влагу – как бульдог залётного ворюгу. Зерно попёрло в буйный рост, кустами в 2-3 стебля и в две недели обогнало пахотинцев! Недели через три в подспорье сыпанул с неба дождишко. Для пахоты – как муха для отощалого барбоса. Для прохоровской бережливой почво-губки – сплошная оросительная благодать.
Колхозно-плужное изуверство над природным естеством сумело выгнать из зерна к июлю всего лишь десять хилых зёрен урожая. У Прохорова на его делянке единый зерновой зародыш, благодарно раскустившись, родил по сорок восемь и по пятьдесят тугих элитных близнецов. То был начально-первый хмельной этап победы!
Он сжал свой урожай серпом и вышелушил зёрна из колосьев. Всё, что осталось: полову, стебли, листья, он искрошил и разбросал мульчу по ежистой стерне, по млевшей в послеродовой истоме разродившейся делянке, затем промотыжил её. В лесочке накопал червей и запустил пригоршню шустрых тварей плодиться на участке. Он знал – не расползутся, ибо какому дуралею, даже если он безмозглый, захочется менять насыщенную влагой обитель на изнывавшую в безводье пашню по соседству.
За лето дважды рыхлил клок мотыгой и дал ему уйти под снег пустым, на отдых. Весной засеял яровые и осенью, собрав зерно, оторопел: тяжёлая и твёрдая пшеница тянула в пересчёте на гектар за двадцать центнеров!
Василий жил в двойном, раздирающем его измерении: испытывал плуги и сеялки, писал отчёты и доклады верхнему начальству про благо и необходимость вспашки. Но полыхал в его душе неугасимый жар эксперимента. Он выходил на новые, ещё невиданные в средней полосе урожаи: на третий год делянка выдала зерна за тридцать центнеров. Земля, этот дар Божий, который перестали терзать пыткою вспашки, которой возвращали с мульчой практически весь фосфор, кальций и азот, которую рыхлили и пронизывали порами кишевшие в ней черви (их не было ни одного в соседних пашнях!) – эта земля теперь дышала пухлой негой. Она была живой и чистой – без удобрений, пестицидов, гербицидов. Она обретала предназначение своё – КОРМИЛИЦЫ в Божественном триумвирате: земля, вода и воздух, которое дал человеку Высший разум, не подозревая в замысле своём, что этот наглый, беспардонный нахалёнок, поднявшийся на двух ногах, начнёт со временем курочить, отравлять ЕГО творенья, тщась переделать их в угоду собственной утробы.
Спустя четыре года Василий, сделав повторный анализ почвы, обомлел в блаженстве: за это время её балльность выросла с 30 до 62! Непостижимым образом она реанимировала собственную урожайность без химии и без навоза, готовая давать за сорок центнеров зерна с гектара.
… Добравшись ночью на велосипеде до кровно близкого, приросшего к душе плацдарма плодородия, Василий лёг на тёплую, дышащую покоем и негой землю на краю делянки и запустил обе руки в пшеницу. Наследным, вековым рефлексом он в этот миг копировал своих прапредков, от пращуров и до отца: все они любили припадать к своей, утаённой от хищной власти делянке, и слушать, как растёт кормящий человека, обласканный им злак. Василий сжал в ладонях стебли пшеницы. Ощутил в коже ответный ток зрелой роженицы. Над головой сиял молодой серп луны, там и сям прожигали бездонную высь звезды. Стекала с этой выси в память бессмертность строк:
Выхожу один я на дорогу,
Предо мной
кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
Сглатывая подступившие к горлу слезы, всем естеством своим приобщился к строкам: это было про него. Про них, Прохоровых, восставших против химеры недоедания…
Сбылось. Он подтвердил, выпестовал задумку юности реальностью, и вся оставшаяся жизнь должна уйти на воплощение её в бытие истерзанной врагами Родины. Пришла пора пересадить тепличный опыт в нещадность жизни, с её когтями и клыками, ревниво стерегущими владения ДРАКОНА ГОЛОДА.
Он написал, отправил в "Агровестник" дискуссионную статью – предположение: что будет, если… в зернопроизводстве практически скопировать Природу: отбросить пахоту и заменить её рыхлением и культивацией, и запустить в почву червей. А вместо удобрений мульчировать солому и сорняк, разбрасывая мульчу по стерне. Пускать озимые под снег без всходов, а нормы высева занизить втрое или хотя бы вдвое.
Он ощущал себя "солдатскою говядиной" в битве за Сытость, посланной неким Верховным в окоп передовой – чтобы подняться и идти в атаку. И, проверяя плотность обороны у врага, поднял над бруствером замызганную каску.
…На эту "каску" в "Агровестнике" обрушился остервенелый шквал огня. На бздюшную, казалось бы, статейку в задрыпано-отраслевом журнале раскрыли вдруг членкорровские пасти маститые бульдоги с политбойцовским экстерьером. Недели три стоял вселенский лай в центральной прессе: "Вреднейшая утопия", "Маниловщина недоучки", "Чем отличается Митрофановщина от Прохорятины?", "Теория с булыжником за пазухой", "Ниспровергатель из научной подворотни".
Осмелился лишь поддержать "утопию" народный академик Мальцев и полтавский хлебороб Моргун после того, как главного редактора "Агровестника" пинком спровадили на пенсию и заменили завотделом зернопроизводства.
И Прохоров каким-то шестым чувством тотально осознал: он сунул головёшку в осиное гнездо охранников Голодомора: какая, к чёрту, здесь атака, поднимешься – изрешетят, прошьют навылет и раздерут в клочки.
Он отослал в журнал смиренно-виноватое покаяние, благодарил за критику и признавал, что сознаёт вредоносность своей утопии. Теперь он был под перекрёстным наблюдением спецглаз, стал ощущать всей кожей липучие присоски слежки.
...Защиту докторской диссертации Прохорова отложили на неопределённый срок. Понизили зарплату. Во взглядах ректора, которые он стал бросать на м.н.с. Прохорова, отравленного безотвалкой, закоксовались профиспуг и затаённая надежда – а может уберёшься сам, без увольнения и скандала?
После чего Василий получил письмо Ашота Григоряна.
* * *
– Ты кто? – угрюмо, жёстко повторил Василий. Он вламывался в суть происходящего. Все туристические фейерверки кончились: Беггадик, скорпион, ватага диких псов, смышлёный индикатор-медовед, стрела, торчащая из зада турка, рисунки Анунаков на стене и даже тот валун, чья масса, неподвластная, на первый взгляд, даже бульдозеру, но вдруг уступившая плечу Ашота, – от всей этой экзотики захватывало дух.
Но он, Василий Прохоров, оторван был от ДЕЛА. Письмо Ашота было насыщено зазывом к его, необходимому всем человекам, ДЕЛУ. И только потому он здесь.
– Посредник, – ответил Григорян. Бессочным и холодным стал его голос. В ответе лопнул, обнажив изнанку, момент истины.
– Между кем посредник?
– Между тобой и ИМИ.
– И кто ОНИ? Так называемые AN-UNA-KI?
Ашот молчал.
– Тебя ко мне послали?
– Да.
– Зачем?
– Чтобы привести.
– Сюда?
– Сюда и выше.
– За что такая честь?
– Твоя статья.
– В "Агровестнике"?
– И к ней реакция канадского "Монсанто".
– Что за контора?
– Всемирный регулятор материковых и континентальных квот зерна и продовольствия.
– И я ему как в глотке кость?
– Они реагируют лишь на планетарную проблематику. Таков их статус.
– Я стал угрозой для "Монсанто"?
– Пока гипотетической. Но ты взят на контроль. Как только ими будет обнаружена твоя делянка – тебя нейтрализуют без следа. Так что пора кончать с этой самодеятельностью.
– Вам известно о моей делянке? – Осведомленность Ашота оглушила, Василий был уверен в абсолютной скрытности своего эксперимента.
– Она сделала своё дело. Время переходить к иным масштабам.
– Каким?
– ОНИ создали обширное и неприметное хозяйство. Там можно реализовать твой опыт.
– Где?
– Об этом позже. Сначала ты получишь зёрна дикоросса с устойчивостью к фитопатагенам в 15-20 лет.
– Всё-таки есть такой… его заполучили межлинейной гибридизацией? Кто мог сварганить такую работу здесь, среди скал?
– Увидишь утром.
– Ваш Арарат похлеще лампы Алладина… Ашот… сегодня самый лучший день всей жизни… подобный дикоросс… это глобальное решение проблемы!
– Первой её половины. Вторая половина – сеялка сплошного безрядкового рассева.
– Которой нет и не предвидится в Госплане.
– Она есть. В однолошадном варианте.
– Ты это серьезно? Кто её сотворил?
– Никита Прохоров. Твой отец… Я обещал чай с мёдом. Пора разжечь костёр. Здесь это можно.
– Ашот, я нашпигован дикой небывальщиной. Добавь ещё одну, авось не лопнет голова. Тот валун при входе в грот не сдвинут с места два бульдозера. А ты его – одним армянским плечиком…
– Пустую скорлупу яйца, насаженную на спицу, повернёт и муравей.
– Пустую – да
– Валун тоже пустой.
– Что-о?
– Его средина выжжена, как эта пещера. Идём чаёвничать. Выходим затемно, под утро.
* * *
– Сколько осталось? – спросил Прохоров. Он задыхался. Грудь всасывала воздух, но в нём отсутствовал кислород.
– Видишь гребень? Ещё с полсотни метров.
Они добрались до каменного гребня, когда предутренняя чаша небосвода, висевшая над скалами, набухла сочной краснотой – ткни пальцем, брызнет студёной сукровицей восхода.
В каких-то тридцати шагах от них стеной стояло, бушевало ливнем грозовое непогодье – незримая стена удерживала всю эту вакханалию на месте. Будто обрезанное гигантским тесаком ненастье просвечивалось вспышками зарниц, зигзаги молний били из этой стены в скалы, свинцовая феерия дождя секла шрапнелью низкорослый сгорбленный кустарник, размазывала по камням расхлюстанную жухлость трав. Но в нескольких шагах от грозовой вертикали – в их зоне – сияло сиреневое безмятежье раннего восхода. Василий зачаровано, оторопело впитывал в себя границу двух противоборствующих стихий. Спросил Ашота, не отводя глаз от стеклостены, непостижимо отделившей их от беснующейся химеры:
– Мы что… под колпаком? В аквариуме штиля?
– Бывает всё наоборот: здесь громы, молнии и камнепады, а там вселенский рай.
– Где и когда бывает? И отчего зависит?
– Зависит от того, где турки, а где мы, – отделался невнятицей Ашот. И круто сменил тему: – Зажмурься и ложись.
– Зачем?
– Поднимешься над гребнем – ударит по глазам.
… Ударило не по глазам. Скорее через них, в сердцевину враз воспалившегося разума.
Внизу, впаявшись в каменный хаос у озера, вздымался надо льдом надменно-чёрный корабельный нос. Махина гигантского судна угольного окраса впаялась в розовый восход. Она рвалась ввысь из ледяных объятий, из бирюзово-призрачной надскальной стыни. Окольцевали озеро неистово-изумрудные острова растительного буйства. Они светились кое-где янтарной желтизной: навис над Араратом поздний август и всё, способное плодоносить коротким приполярным летом этой высоты, – плодоносило, сменив незрелую зелёность юности на жухлое бессилье увяданья.
– Лёд в озере тает раз в десять лет, – пробился к слуху Прохорова голос Григоряна, – тогда судно всплывает и ползёт на берег на два-три шага.
– Ноев… Ковчег!! – сквозь спазм в горле выхрипнул Василий.
– Он самый.
– Длиною… за сто метров…
– Сто пятьдесят на двадцать пять и на пятнадцать. И бортовой лацпорт его – шесть метров. Размеры больше, чем у крейсера Авроры. Подобный грузовой класс судов "RO-RO", по-русски "Вкатывай-выкатывай", с таким бортовым лацпортом появился в мире года четыре назад. Но из металла. А деревянных, как этот ковчег с его размерами, – нет до сих пор. Кишка тонка у нынешней цивилизации. И по прогнозам корабелов они не могут появиться в этом веке: у нас нет технологий построения таких судов. И не растут уже такие деревья.
– Так значит… весь библейский миф – реальность: потоп, ковчег, где всякой твари по паре, Ной с тремя сынами…
– Те твари, что тебя одолевали, потомки африканской фауны, выпущенной с ковчега.
– Африканской?
– Ной, обученный ИМИ, строил это судно по ИХ чертежам на горе Килиманджаро, на высоте двух миль. Вся живность и геномо-банки были доставлены на ковчег перед потопом с предгорий и самой горы. А дерево, из коего сбит корабельный корпус, – килиманджарский олеандр, пропитанный смолою мумиё. Ной и команда лечились им во время плаванья от всех болезней. Она лечебна до сих пор и ценится дороже платины. За ней идёт охота во всем мире.
… Они переступили зияющую шестиметровую прореху в борту корабля: лацпорт ковчега. Первым вошёл Ашот, струнно натянутый, наизготовку с арбалетом, как будто ждал засаду. За ним Прохоров. Он ощутил вдруг, как его плоть, прорвав собой тысячелетние завесы времени, растворяется в чужом, не Араратском измерении. Ледяную чужеродность источало всё: надменно, отторгающе взирали на двух гномиков загоны-клети для давно истлевшего в веках зверья. Просмолённая массивность брёвен метровой толщины, семиметровой высоты, и всаженные в них кольца из тускло-жёлтого металла безмолвным инфразвуком рокотали о давящем гигантизме допотопных мастодонтов, когда-то размещённых здесь. Скорее всего, то был правид африканских слонов. Загоны чуть поменьше, литые, водонепроницаемые клети на дне трюма, тысячи отсеков, прилепленных к отвесной, вздымающейся в сумрак бревенчатой перегородке, – всё это наваливалось на сознание людей нечеловечески гигантскими масштабами работы создателей ковчега, их сверхзадачей – спасти и уберечь от живоглотно-планетарного разлива не только основные расы человека, но и как можно больше Божьих тварей. Оцепеневшим в потрясении разумом Прохоров представил: все мегатонны бывшей плоти, рогатое, копытное, пернатое, шерстистое зверьё, вся эта буйная начинка трюма орала, верещала и рычала, от тесноты и вони, от бесконечной качки и ударов волн. Она ежесекундно гадила, просила есть, билась о стены клеток, ломала ноги, рёбра, в бессильном страхе вгрызалась в просмолённые перегородки, стены клеток. За ними нужно было убирать, кормить и успокаивать, разделывать и расчленять погибших. Нечеловеческим терпением должны были обладать соратники Ноя, отобранные им в команду для этой работы… и если сохранились на земле их пранаследники, несущие в хромосомах самоотверженность и самоотречение своих пращуров, то именно они явились для Христа бесценным генофондом, на коем проросло его воззвание к потомкам: "В поте лица своего ешь хлеб свой…"
– Ной разместил всю живность в носовом нижнем отсеке трюма. На среднем ярусе, над клетями, шестьсот квадратных метров занимало хранилище кормов. И холодильники.
– Здесь… холодильники, без электричества?
Ашот чуть усмехнулся.
– Мы дикари в сравнении с НИМИ и с Ноем. Мы даже не на подступах к их биотехнологиям. Едва лишь начинаем подбираться.
– И всё-таки, чем холодить без электричества?
– Мы уже можем получать ток в океанических поселениях – на буровых. За счёт разницы температур придонных и поверхностных слоев воды. Но Ной использовал другое, что проще и надёжней, – скатов, с вживлёнными в них попарно электродами Их нужно было лишь кормить и каучуком изолировать бассейн от корабля. Резервуар для этих плавающих батарей есть на второй палубе, под каютой Ноя.
– И где она?
– В корме, на третьей палубе. И там же тысячи ячеек микросейфов для хранения геномобанка африканской и планетарной фауны. ОНИ доставили его на ковчег перед потопом.
– И что, все цело до сих пор?
– Металл практически истлел, разъеден солью. Осталось дерево: пропитанные смолой ячейки. Здесь, в этом озере, вода лежит слоёным пирогом, под пресными есть солёные океанические слои. Они не смешиваются. И в каждом слое свои обитатели. Они законсервированы со времён потопа и размножаются между собой. Гибрид от скрещивания океанических и пресноводных бесплоден, не даёт потомства.
– Как мул от лошади и осла?
– Как мул. Как гоминоид от человека с обезьяной. Чем сохранялась чистота Божественных видотворений, не допуская межвидового уродства.
– Всё, что вокруг… пока не переваривает разум. Об этом знают научные круги, политики, историки? Здесь был до нас какой-либо исследовательский десант или экспедиция?
– Армяне сюда ходят сотни лет. Каталикос Симеон Еревацици при встрече с царицей Екатериной II передал ей в дар кусок обшивки корабля, пропитанный целебным мумиё. Многие предметы с ковчега хранятся в Эчмиадзине.
– А русские здесь были?
– Ковчег увидел с самолета ваш летчик Росковицкий в шестнадцатом году. Его рапорт прочел Николай II и снарядил экспедицию. Она работала здесь почти полгода. Ковчег был полностью изучен: размеры, образцы обшивки и перегородок, особенность конструкции, кости и шерсть животных. Ковчег был сконструирован по образцу намокшего бревна иль айсберга – девять десятых под водой. Над океаном возвышались короткая мачта и вентиляционные устройства. Валы катились через палубу без сопротивления, автоматически захлопывая крышки вентиляций. Лишь потому корабль уцелел за годы плаванья.
Пока работала экспедиция Росковицкого, в России произошёл октябрьский переворот. Материалы экспедиции попали к Троцкому. И без следа исчезли. Потом стали исчезать участники экспедиции… а в 21-м Троцким и Свердловым Арарат был передан младотуркам – единокровным иудеям и подельникам троцкистов.
– Т-твою м-мать… Где Троцкий – там всегда кровавая дыра распада. А после Росковицкого здесь были?
– В 47-м сюда вломились американцы с турками и водолазами. И стали раздирать ковчег: выламывали доски, сдирали остатки сохранившихся металлов из геномосейфов, выпиливали образцы материалов из штурвала и лопастей рулей…
– С-с-скоты!.. Отбросы бандитской Европы без своей истории… Горбатого могила исправит!
– На следующий день на них обрушилась лавина камнепада, поднялась снежная буря. Из двадцати шести этих уродов издохло восемнадцать, в том числе шесть турок… и янки в панике смылись. С тех пор на каждую экспедицию рушатся лавины и камнепады. Незваных здесь жалят змеи, скорпионы, бьют молнии и ливни – как в этой стене за зоной. А на десерт – кусают и таскают продовольствие гиенные собаки…
– Ну и что турки?
– У них, наконец, хватило мозгов больше не зазывать сюда непуганых дебилов из-за океана и прочих европейских недоумков. Правительство закрыло доступ к ковчегу. Официально разрешены были его поиски по отвлекающему туристическому маршруту – к обросшей льдом скалистой глыбе, похожей на ковчег. И экспедиции теперь приходят к выводу: все слухи о ковчеге не более чем миф. Нас это вполне устраивает. Те, кому положено по статусу побывать здесь, ищут контакт с нами. Или мы сами приглашаем их.
– Нужен особый статус личности, чтобы побывать здесь?
– Она должна быть встроена в систему планетарной гармонии, в заповеди Пророков.
– И кто здесь был?
– Махатма Ганди. Старший Рерих. Далай-лама.
– А из русских?
– Серафим Саровский. Вавилов. Пржевальский. Киров.
– А Сталин?
– О встрече с ним вопрос возник, когда он распознал главную этнозаразу и болезнь России, созрел до способов лечения её. Но не успели: наступил 53-й, всё оборвалось. Готовилось приглашение Георгия Жукова. Но он прогнулся под Хруща и протолкнул его в Генсеки. После чего ОНИ отменили приглашение. Теперь здесь ты. И заповедь для всех без исключения: не разглашать того, что видел.
– Как можно перекрыть приступ болтливости даже у самых почтенных и молчаливых?
– Есть способ излечения подобных приступов.
– Киров и Вавилов… Я в неплохой компании. Ещё бы избежать кончины, которая их настигала.
– ОНИ учли недоработки охраненья.
– Как… как всё могло здесь сохраниться? По всему этому прошлись метлой тысячелетия!
– Как в Арктике, в Сибири находят мамонтов, ещё вполне пригодных в пищу? Здесь схожий климат. Ковчег засыпан снегом девять месяцев в году. И он из просмолённого, не гниющего олеандра.
– Вокруг ковчега желтизна созревших злаков. Всё вызревает за три месяца?
– Бывает меньше. За два. Как в приполярной тундре. Идём. Пора работать.
… Они стояли по пояс в желтушно-редком, клочками лезшем из земли диком злаке, уже налившем хотя и мелкий, но каменисто-твёрдый колос: то ли зернянка, полба, то ль прародительница нынешних пшениц T.Timopheevi. Смиряя ломившееся в рёбра сердце, ощупывал и тискал в неистовом благоговении Василий колючие колосья.
– Она… родимая?!.
– Та самая. С тридцатью двумя хромосомами. С глубинной корневой системой в восемь-десять метров. Предполагаемая устойчивость к мучнистой росе и вирусу табачной мозаики на равнине 15-20 лет. Перепроверил трижды в Ереване и ленинградском флороцентре.
– Откуда она тут… во льдах, лавинах, в кастрированном двухмесячном лете… среди камней и скал?
– ОНИ создали её перед прибытием ковчега. ОНИ же высеяли рядом, кроме пшеницы, и корм для молокодающих – коров и коз. Мы зовём его Galega восточная. Неистребимый многолетник, нафаршированный протеинами и сахарами. Даёт по триста центнеров уникальной кормовой массы с гектара и плодоносит без посева десять-пятнадцать лет. С ним рядом кукурузе делать нечего.
– Вон тот?
В пяти шагах от островка пшеницы размашистой и встрёпанной куделью стеной стояла из земли (по пояс!) травища с густым соцветием почти вызревших семян.
– Он самый.
– Ашот, дружище… великий армянин Ашот! Чем мне расплачиваться за царские подарки? – Пригнувшись, ладонями, щеками, всем лицом ласкал Василий драгоценный хлебный злак. – Какие, к чёрту, тут сады Семирамиды, Тадж-Махал… восьмое чудо света – вот оно! Великий дикорос… вот с ним мы продерёмся сквозь ханыг тупоголовых! Сквозь мразь членкорровского каганата – к свободной, сытой безотвалке…
– Рви колосья! – вдруг стегнул командой сквозь зубы Григорян.
Василий вздрогнул. Меловой бледностью наливалось лицо Ашота, истаивал с него загар. Подрагивал в руке низготовку взятый арбалет.
– Ты что?
– Быстрей!! – со стонущей тревогой перебил Григорян. Василий обернулся, отслеживая калёный взгляд Проводника. Шагах в пятнадцати вздымался на дыбы оскаленный косматый зверь. Он разгибался – бурый урод на фоне задранного носа Ноева ковчега: медведь в два средних человечьих роста раскачивался, свесив лапы. Торчал из плеча его, из буро-слипшегося шерстяного колтуна обломок арбалетной стрелы. Сталистым незнакомым голосом прорвало Григоряна. Надменно рубленые слова на неведомом языке чеканили угрозу: "Ты сильный, наводящий страх. Но мы сильнее разумом и натянутой тетивой. Не нападай, глупец. В ответ получишь смерть".
Василий драл колосья… нащупывал, заталкивал в карман вслепую их колючую остистость – срывал, не в силах оторвать взгляд от чудовища на задних лапах.
Ашот закончил, оборвал тираду, и Прохоров впитал каким-то шестым чувством: зверь понял сказанное! Его движения вдруг обрели холодную бойцовскую разумность. Он опустился на четыре лапы, отпрыгнул в сторону, затем ещё раз – но уже в другую. Косматая махина подскакивала, едва касаясь камней, таранила рассвет над озером рваными скачками, вперёд башкой с прижатыми ушами. Оскаленная морда держала арбалет и Григоряна в перекрестье глаз, горевших раскалёнными углями в провалах черепных глазниц. Ашот водил перед собой оружие такими же рывками, не выпуская из прицела зверя: траектория его прыжков стала пожирать пространство между ними. Зверь, приближаясь, вёл атаку с пока неуловимой для отстрела тактикой.
– Возьми и отойди! – Ашот дёрнул из ножен один из двух клинков, протянул Василию. Тот взял блистающую тяжесть лезвия за рукоятку. Стал отходить. Грудь заполнялась вязкой лавой ярости, на темени зашевелились, поднимаясь, волосы.
Швыряя тело в хаотических зигзагах, зверь приближался. Траектория его прыжков смещалась к Прохорову: исчадию пещер был нужен не Посредник – его гость. Познал это Василий предельно обострившимся чутьём, косматого стража притягивал его карман, туго набитый колосьями. Страж нападал на похитителя реликвии: хлебоценности, проросшей из веков в сиюминутность.
Ашот, не опуская арбалета, притиснул ко рту ладонь. И розовую синь над просмолённым древом корабля проткнул зазывно-волчий вой. Василий замер. Едва осело эхо от зазыва, издалека вибрирующе отозвался свирепый квинтет собачьей стаи… Медведь услышал. Будто ткнувшись в стену, замер, припавши к земле: вой стаи пронизал его куда более опасным предостереженьем, чем речь Проводника.
Отрывисто и сухо щёлкнула тетива арбалета о металл. Стрела, со змеиным шипом пронизав пространство, вонзилась и застряла в рёбрах зверя. Взревев и изогнувшись, он цапнул пастью оперённое древко, сломал его. И кинулся вперёд – к Василию.
… Василий уворачивался от хлещущих когтистых лап, отпрыгивал и перекатывался в кульбитах. Остервенело трёхметровая махина пока не успевала за увёртливым двуногим. Тот заскочил за глыбу валуна. Оскалившись, медведь раздумывал, с клыков тягуче стекала стекловидная слюна. Раскачиваясь над валуном, он собирался обогнуть его прыжком, когда под кожу, в мускул ноги, вошло и полоснуло болью лезвие ножа – сзади напал Проводник. Зверь отмахнулся, задев ударом человечье тело.
… Прихрамывая, кособокой иноходью гонял пещерный страж пшеницы вокруг гранитной глыбы человечка. Движения того заметно набухали вязкостью изнеможенья. Оно застряло в мышцах похитителя свинцовой тяжестью, и только что медвежьи когти достали человечью плоть, вспоров одежду на плече.
Зверь почти настиг людское тело, когда на каменистое ристалище ворвалась стая. Пять лопоухих гиено-псов с клокочущим рыком насели на извечного врага. Младшой в наскоках полосовал зад и ляжки зверя, хрипел, выплёвывая клочья шерсти. Вожак и самка с двумя заматеревшими переярками вели фронтальную атаку, увёртываясь от когтистых лап. Неуловимыми зигзагами мелькали перед зверем их тела, калёные нерастраченным охотничьим азартом.
Василий бросился к лежащему Ашоту, пал на колени. Тот, ёрзая спиной по каменистому крошеву, стонал. Разодранные клочья комбинезона на боку под мышкой напитывались липко-красной клейковиной. Вспухали, лопались в углах губ бруснично-рдеющие пузыри.
Был медицинский навык у Василия со времён боксёрства и учебы в сельхозвузе. При виде пузырей зашлось сердце, нутром почуял – надломленным, вдавившимся ребром повреждено у Проводника лёгкое.
Он взваливал Ашота на спину. Взвалив, поднялся. Шатаясь, зашагал. Надрывно взмыкивал над ухом Григорян – терзала боль в груди.
За спиной взъярилась, достигла апогея свара у зверья. Медведь, увидев уходящих, ринулся вслед. Но тут же был свирепо остановлен – клыкастые пасти вцепились намертво в облитые сукровицей окорока.
… Василий шёл, выстанывая в муках спуска. С шуршащим рокотом плыло, сдвигалось крошево камней под ботинками. Стучало молотком в висках: не оступиться, не упасть. Тропа уже почти не различалась, мушиный чёрный рой сгущался перед глазами, пот заливал и разъедал их. Впитав в размытость зрения зелёное пятно перед собой, он рухнул на колени, хватая воздух пересохшим ртом. Ноги тряслись. Он приходил в себя. В память вливались узнаваемые приметы их маршрута. Рядом журчал в расщелине родник (он вспомнил: утром, едва выйдя из схорона, они напились здесь). С разбойным посвистом над каменным хаосом шнырял ветрило.
Василий опустил обмякшее тело Григоряна на травянистый бархатный ковер. На меловом, бескровном лице Проводника – закрытые глаза, Ашот был без сознания. Шатаясь и рыча, Василий стал подниматься. Не получилось, подломились ноги. И он пополз к роднику. У бьющей из расщелины хрустально-ледяной струи он сдёрнул с головы промокший от пота берет. Прополоскал его, пил долго и взахлёб. Напившись, зачерпнул в берет воды, пополз обратно. Вернувшись к Григоряну и пристроив меж камней наполненный суконный ковш, он взрезал ножом задубевшее от крови рваньё комбинезона на боку Ашота. Смыл кровь и увидел то, что предполагал: сливово-чёрная полоса кожи на боку вдавилась в грудную клеть – надломленное ударом ребро вмялось в легкое.
Свистящий над скалами сквозняк сдувал в небытие минуты, а с ними – жизнь Проводника...
(обратно)Татьяна Смертина ”ПОЛЫНЬ ЛУННОЙ ГРИВОЙ МЕРЦАЕТ...”
***
Солнцем коронованы дубравы.
Стая белокурых облаков…
Ангелы купаются! В купавы
падают лучи во мглу цветов.
Маюсь, очарованная небом.
Надо скорби на земле принять:
здесь фиалки радостны – как небыль!
Каждый вздох полыни – благодать.
Крепдешин и ветер – бег изгибов…
Что ещё в наземный этот путь,
чтоб пройти по всем краям обрывов?
Лишь купаву – золотом на грудь.
***
Крестьянский крест вновь взвешивают где-то:
продать все земли, и живых, и прах?
И, удивляя иллюзорным бредом,
какой-то пляшет балаган на площадях.
Сквозь память Прошлого – иных слыхала!
Их души девственны, как свет свечи.
Но злой полынью Русь позарастала,
хоть плачь, хоть вой, или топор точи.
Зачем брожу босая по крапиве,
коль семена её – взяла земля?
Но не прикажешь сердцу в этом мире
искать иные кровные поля.
И эта истина простая вечна:
родила Родина – и здесь распят.
И молочай капелью бело-млечной
колени вяжет, и года летят…
***
Роса незыблемая, холод…
Роса, как сотни лет назад!
И снова кто-то очень молод,
и кто-то стар, всему не рад.
А я опасно научилась
жить и не в наших временах,
сквозь чистоту росы и стылость
могу туда уйти, где прах
летает в странных взломах света,
где прадед мой младенцем спит.
И так близка секунда эта,
что я её врезаю в стих.
И, окрошив росу на брови,
плечами вдруг оледенев,
пространство видя в каждом слове,
я превращаюсь в ту из дев,
что непонятно чем владеют
и непонятно как берут,
на три столетья каменеют,
потом вздохнут и вновь живут.
Моя распущена коса.
Роса. Роса.
КРЕСТ ВОИНА
Свет России печальный, туманный,
разрезающий долгую тьму.
Свет России зовущий, желанный,
что лампада в родимом дому.
Этот свет в наши души уходит
и таится в глубинах сердец,
мы его и не чувствуем вроде,
но засвищет над полем свинец,
Да шарахнет огонь, понесётся,
и пронижет нежданно плечо,
иль пунктиром зенитка метнётся –
тут и станет душе горячо.
И подымется свет этот дивный,
он берёз и кувшинок белей,
и проснётся в нас родич былинный –
станем телом и духом сильней.
Труден воина крест и опасен,
только сильный сумеет нести.
Крест есть подвиг, а подвиг прекрасен.
Долг и честь – будут вечно в чести.
И о воинах в каждом селенье
в храмах молятся – свет от свечи.
И молитву о дивном спасеньи
Богородица слышит в ночи.
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
А.П. Горячевскому,
генерал-майору медицинской службы
Эта боль и повязки кровавость,
и пылание огненных ран…
Так душа с белым телом смешалась –
виден Господа лик сквозь туман.
Где-то мама тревогой объята,
в тихом храме свеча-оберёг.
И мерещится маме палата
и раскинувший руки сынок.
Юный воин – и это сраженье,
юный воин, и это твой крест.
Мама верит в твое воскресенье,
будет радость и слава, и честь!
Исцеления тихую веру
дарит тот, кто не даст умереть:
скальпель молнией бродит по телу –
трудно молнией Божьей владеть.
Боль – зигзагами. Житель? Не житель?
И душа уж рванулась уплыть.
Но хирург – словно Ангел-хранитель –
Жизнь-свечу не даёт погасить.
***
Вновь толпа, колыхаясь, течёт,
у метро – целый рой.
Исчезает уставший народ,
словно чудь, под землёй.
"Менделеевской" шум и шары.
Гул подземный и стук.
В электричку вхожу – все правы.
И высок мой каблук.
Сжаты душами! Мчимся в тоннель.
Тыщи дум – в тот проём.
Так же в небе – толпою теней! –
мы на свет поплывём.
Все молчим. Я надменная вновь.
Стон вагонный и всхлип.
Перерезал мне чёрную бровь
чёрной шляпы изгиб.
***
Долго ночью из окна
шла лиловая луна,
снег рождался и мерцал,
фиолетово блуждал,
то ли бледен, то ли ал.
А потом из темноты
вышли бледные цветы
и, качаясь предо мной,
засияли красотой,
закричали немотой.
Из колодца у сосны
поднялись былые сны.
Стало всех ушедших жаль.
Над челом чернела шаль,
и снегов сияла сталь.
Ах, верните жизни те,
землянику в решете,
и на грядках острый лук,
и сердец родимых стук.
Но вокруг из немоты –
лишь алмазные цветы.
***
Помню явь и высоту:
я ушла в волну ночную
и небесную звезду
променяла на морскую.
Помню брызги... тёмный вал...
Дальше – в памяти провал.
Иль царицей водяной
стала, косы распустив?
Или пленницей нагой,
белизну чадрой прикрыв?
Иль бродила, словно сон,
среди рыбок тихо-млечных,
вспоминая лишь о нём,
что давно с другою венчан...
Что стою на берегу?
Трон свой вспомнить не могу...
***
Полынь лунной гривой мерцает:
что мрак поглотил – не зови.
Жестокость – врагов порождает.
Измена – лишает любви.
Купавами куполы храма
плывут по небесной реке.
И Ангел в купели тумана
крылами зовёт вдалеке.
Мелькают вокруг лжеидеи
о том, как нам быть и не быть.
Мне их бы росой в орхидеи
на тёмной заре утопить!
Гоню я гнедого вдоль века,
изломаны нимбы осок.
Надломлена тонкая ветка,
и дождь ударяет в висок.
***
Я росла средь убитой деревни
и на шкуре медвежьей спала.
Волк заглядывал в зимние сени,
иней рос из сырого угла.
Я до тонкостей знала работы
в этих вечных хлевах и полях.
Комаров оголтелые роты
висли шалью на детских плечах.
Одеваюсь в метели и травы,
пробегаю по глади реки,
упадаю в глухие отавы,
чтоб плясали вокруг мотыльки.
Я не славлю убитые сини,
истерично о Прошлом не бьюсь.
Нелюбимый ребёнок Отчизны,
за которую кротко молюсь.
НА БОЙНЕ
Скрутили верёвкой,
рванули до боли,
и в ноздри ударил
чужой запах крови.
Взревел бык и сразу
учуял, что это –
разрыв с росным лугом,
конец его света.
Он вспомнил о тёлке
хрипя и тоскуя,
когда из-под горла
ударили струи.
Потом стал покорен,
ушла в землю сила,
в тот миг человечья
печаль в нём сквозила.
Вдруг кто-то нагнулся:
"Живой ещё, вроде..."
И ломом ударил
по вскинутой морде.
НИЛЫЧ
Он был бесстрашен, славен в околотке,
копал колодцы, плотничать любил.
Он печи клал, выделывал и лодки,
и на медведя в тёмный бор ходил.
Но вот в ту ночь, когда земля застыла,
и первый снег порхал в полях слепых,
его от страха до утра знобило,
кидало в дрожь от шорохов любых.
Тому виной – медведица шальная,
чья шкура распростёрлась тихо в ночь...
Она как будто на полу вздыхала!
И мнилось в ночь, что ей лежать невмочь.
И понял он, что за избою, рядом,
медвежий и подросший бродит сын.
Что это он – дверь выломал в ограде,
собаку уложил шлепком одним...
Давно он лапой оскребает двери:
он чует шкуру, призывает мать...
И верил в это Нилыч и не верил,
и каялся в содеянном опять...
***
В бледных туманах неясность травы.
Пятна цветов расплываются в хмарь.
Тёмный стожок или тень головы?
Дуб у воды или омута царь?
Льнёт мой подол – он росою намок.
Всю окружил белоокий туман,
так заманил, затянул, заволок –
снегом растаяла, словно обман…
Вышла из белого лет через сто.
Отрок увидел, пошёл на восток.
Всем рассказал: "Там, где в ирисах луг,
молнией белой расколотый ствол,
мне водяница пригрезилась вдруг,
шла от воды, отжимая подол…"
***
Благостной осени сонные листья
светятся золотом даже во мгле.
Пишут паденьями плавно на высях,
стих-завещание зимней земле.
Эти полёты, вуали, метанья
видятся мне по речным берегам.
Волн чернооких легки изгибанья,
лодки-ресницы качаются там.
Камень прибрежный оплакан дождями,
странный и древний, как наша земля.
Сяду на лодку, мелькнёт кружевами
тёмно-багряная юбка моя.
Буду я плыть сквозь печаль и туманы,
воду взрезать одиноким веслом.
Юбка багряна, рябины багряны,
время сгорает осенним костром.
***
Еду лесом, конь буланый
так и пляшет подо мной.
Ткут осенние туманы
белый полог над травой.
Здесь доверчивые нравы,
здесь и я так хороша –
встречный путник – самый бравый! –
вскрикнул, словно от ножа.
Что же мне? Ресницы-копья
опустила и молчу.
Круто дёрнула поводья
и в глухой туман скачу…
Конь буланый очень жарок,
вихри юбок на ветрах,
мой венец из ягод ярок –
всё исчезло в сосняках!
Бедный путник, не забудешь
звонкий окрик и сквозняк!
Бедный путник, затоскуешь,
зря пошёл через сосняк…
***
Кто эти тёмные, злобные, ржущие?
Это охотники ищут невинных...
Небо закрыто наглухо тучами,
лают собаки на улицах синих.
Лают собаки, никто и не видел их!
Каждый мобильник сходит с ума.
Вас сквозь бинокли когда-нибудь видели?
Не из партера, а там, где Луна
трижды закрыта туманными глюками.
Крик воронья, гипнотический вальс...
Крестик нательный мой!
С болью и муками
тихо молюсь за Россию, за вас.
(обратно)Наталья Егорова ”НА КРАЮ МИРОВОГО ПОРЯДКА...”
***
С волчьей ягоды, с чертополоха
Для вощаных светящихся сот
Я любовь собирала по крохам,
Как пчела терпеливая – мёд.
И в великом земном разнотравье
Запах солнца захватывал дух.
Длилась песня, соловья и славья,
Лился хмель золотых медовух.
Вы – спешили, работали, ели,
Выше Господа ставя дела.
Шли к какой-то неведомой цели.
Я – любила, летела, жила.
Ты бери, мой богатый, да нищий,
Мёд, что ульи собрали мои.
Всяк обрящет, кто верит и ищет.
Вьется Паркою – пчелка Любви.
Не печалься, что много растрачу,
С златокрылою споря судьбой.
Выпью сусла за хмель и удачу
Каждым взятком делиться с тобой.
И взлетая над райскою кущей,
На двоих разломлю каравай.
Никогда не скудеет дающий.
Солнце светит и жжёт – через край!
***
Никто не косит чёрные бурьяны.
По всей округе – тленье и распад.
Глядят сквозь ночь в тягучие туманы
Глаза пустых, забытых Богом хат.
И собранный по чьей-то вышней воле
В честь жизни той, что пела и цвела,
Стоит музей в безлюдном диком поле
На улице умершего села.
О жизни той, что пела и светила,
Ржаной косой пленив пределы стран,
Горят горшицам сонные светила,
Рубахам красным пляшет сарафан.
А у светца, где в пёстром полушалке
Крестьянка-мать детей учила жить,
Соломенное чучело на прялке
Сучит судьбы таинственную нить.
Растут в бурьяне племена другие.
И на могилах родины моей
У древних хат легко зовут Россией
От чужаков родившихся детей.
А ты всё ищешь правды и исхода,
Пока, дыша в затылок тяжело,
Других миров ненужная свобода
Летит с дождём в разбитое стекло.
И не смирившись с пагубой и тленом,
Музейный зритель родины своей,
В умершей хате споришь со вселенной,
Но лучшей жизни – не находишь в ней.
***
Родителям
Кто посмеет меня обогнать-перегнать?
Я бодаюсь с великой горой!
Ах вы, санки-салазки, разбойная стать,
Острый полоз, снежок под рукой!
Мама в шубке-боярышне тропкой бежит
К папе в школу – на первый урок.
А у чёрных бараков солдат-инвалид
Сел с гармошкой на снежный порог.
Над холмами горят снегири-купола.
Льнёт к заснеженной крепости лес.
А в церквах разорённых – щебёнка и мгла,
И на фресках – глаза в пол-небес.
Бьются в заверти снежной другие миры.
Я от жути кричу: "Ух ты, ух!"
Я лечу над Россией с высокой горы –
Захватило от вечности дух!
Вслед мальчишки на гильзах немецких свистят,
Как в военных снегах соловьи.
А родители в парке у школы стоят
И кричат мне, кричат о любви!
И слагаем мы были Победы святой
Над заснеженной древней горой,
Даже в мыслях не зная отчизны другой
И не веря беде роковой.
Я в крови сохраню ту любовь и мечту,
И на смертных очнувшись санех.
…А родители ловят меня на лету –
И толкают в смеющийся снег!..
***
В черничниках – личинки и жуки.
Замшелых сосен треск вдоль косогоров.
– Ау! – кричат за рощей грибники.
В лесах красным-красно от мухоморов.
Беспечный дачник пнёт ногой – не жаль!
Да и куда их – алых и бесстыжих?
Ау, ау, опять моя печаль
Стоит с лукошком в соснах медно-рыжих.
Мне кажется, что жизнь не удалась,
Но я не знаю, как мне обозначить,
К чему я, позабыв себя, рвалась,
И что я понимаю под удачей.
И почему не светлый лес грибной
Меня влечёт – дробясь в пластах тумана,
Восходит солнце за моей спиной –
И светится поганая поляна.
***
Пар дыханья и воздух морозный.
Посвист вьюги сквозь вещие сны.
Смотрят в ночь древнерусские звёзды
Из днепровской седой глубины.
Здесь ходили поляки и шведы
Волчьей сагою смёрзшихся струн,
И кровавые стяги Победы
Пел, вмерзая в снега, Гамаюн.
А сейчас здесь ревёт автострада,
Выпив город усталый до дна,
И тяжёлые камни распада
Рушит в ночь крепостная стена.
Но и в самой решительной схватке,
В час сомненья, ступив за черту,
На руинах былого порядка
Я увижу Небес красоту.
Это весть о Вине и о Хлебе,
О терновом сиянье Венца.
Ведь сквозь трещины в дрогнувшем Небе
Только ближе дыханье Творца.
***
Сыпнёт снежок за ворот шубы тьма.
Дай рукавичку, зимушка-зима!
Пускай за всех, кто в буре одинок,
Горит червонной розою платок.
С чужих перил сметаю снежный прах.
В чужую дверь стучусь в помёрзлых тьмах.
Чужой пурге кричу: "Довольно выть!
Мне не с кем о любви поговорить!"
***
...Ты бил в те дни ракеткой воздух с гудом
И повторял какой-то длинный счёт
Своих побед. А я ждала, как чуда,
Твоей любви: она вот-вот придёт!
А впрочем... Что ты вспомнишь, шут, мальчишка,
Ловец удач и пуха с тополей?
Давно как с чем-то безусловно лишним
Управился ты с памятью своей.
...Минуют дни... Приедут гости летом
В твой старый дом. Ты выбежишь на луг
И вспомнишь за случайной сигаретой
Былую стать стареющих подруг.
Окликнешь время – седовласый мальчик,
Прошедшим, словно светом, осиян.
Но на лужайке в жёлтый одуванчик
Никто не отобьёт тебе волан.
Ты солнца ком метнёшь в зенит над лугом
И крикнешь в воздух дерзкое: "Лови!"
И зарыдаешь: "Где моя подруга?" –
Впервые в жизни вспомнив о любви.
– Лови! – Ловлю! – А время сушит веки.
– Люби! – Люблю! – А дождь дробит песок.
– Беги! – Бегу! – А ил заносит реки.
И каждый в самом главном одинок.
***
Тряхну друзьям лохматой русой гривой.
Стряхну с души смятение и лень.
Пройду вдоль дамб с улыбкою счастливой
Дразнить влюблённых, целовать сирень.
Мелькну в садах летящей юбкой алой.
– О где вы, воздыхатели мои?
Споют мне вслед смущённые гитары,
Засвищут из оврагов соловьи.
Скажи, о чём мечтать? Чему дивиться?
Куда деваться в мире от любви?
Провинция, мечты моей столица,
Швырни мне в ноги улочки свои!
***
Третья скорость. Печаль и тревога.
Быстрый промельк летящих огней.
Вновь живёшь ты, ночная дорога,
Потаённою жизнью своей.
Плавя тени и светы живые,
Спят деревни и реки обочь.
И машины – громады ночные –
Исчезают, как призраки, в ночь.
И рождаясь во мраке могучем,
На обочине бросив село,
Вся Россия, как звёздная туча,
В лобовое несётся стекло.
Запевай – о великом и вечном,
На спидометре плавя простор,
Брызни фарой растерянным встречным
И держись за баранку, шофёр!
За Гагариным к звёздам нетленным
Мы с планеты навеки ушли.
Нам мешают мечтать о вселенной
Адреса и приметы земли.
Нас пленили в пути бесконечном
Не леса и столицы вдоль трасс –
Ясно зрящая звёздами вечность,
Мир, что выше и праведней нас.
Шли КАМАЗы, сигналили ЗИЛы,
Плыли фуры – миров корабли.
Не будили мы звёздные силы,
Подражая титанам земли.
Но на чёрных разбитых дорогах,
Мчась лесами к Полярной звезде,
Ждали правды и вечного Бога,
Забывая легко о себе.
И миры различая во мраке,
Пели песни России своей,
Наплевав на дорожные знаки
В стройном космосе встречных огней.
***
Сяду в травы над алою бездной.
Свешу ноги в обрыв мировой.
Здесь прошёл экскаватор железный,
Сор и землю мешая с травой.
И в земной разорённой пучине
Как в межзвёздной колышутся тьме
Гнёзда ласточек в огненной глине,
Груды ржавого сора в траве.
Свистну в воздух по певчие души.
И тогда, если мне повезёт,
Белобрюшки и береговушки
Хлынут в синее пламя высот.
На краю мирового порядка
Что ты свищешь во тьме огневой,
Щебетунья, летунья, касатка,
Птица-ласточка над головой?
Ты поёшь, что в жестокой обиде
Мир смывает полярная мгла.
Что проснувшись, Земля на орбите,
Как касатка в гнезде, – ожила.
Что от страшной космической силы,
Затаившейся в бездне родной,
Ни крылатым певцам, ни бескрылым
Не укрыться в ковчег ледяной.
Так прощай, человечье, земное.
От грядущего знанья знобит.
Снова разуму снится иное
В диких травах межзвёздных орбит.
И становится даром небесным
Смелость жить разоренью назло,
В чёрной туче над новою бездной
Вольной птицей ложась на крыло.
И щебечет хвостатое диво
Так легко, словно здесь меня нет,
На краю мирового обрыва
У лица пролетая, как свет.
***
У леса луна в изголовье.
Чуть видится поле.
Крапивой хлестнёт, как любовью, –
Внезапно и больно.
Зелёная заросль густая
До слез, до болезни
И жжётся, и не отпускает.
Ну надо ж – залезла!
Шарахнешься в сумрак солёный.
Умолкнет кузнечик.
Весёлою, злою, зелёной
Всё хлещет и хлещет.
И белым кромешным пожаром
И ноги и руки.
Любовь? Да не стоит, пожалуй.
На что эти муки?
***
Сгоревших звёзд за снегопадом свет.
Ищу друзей, которых больше нет.
Я жить хочу – и на себя сержусь.
Скриплю снежком. Ищу былую Русь.
Чужих витрин сплетаются огни.
Чужому веку светят фонари.
Чужая ночь. Чужой любви закон.
Чужая повесть варварских времён.
Шепчу: "Держись! За льдинку в кулаке,
За тёплый снег, растаявший в руке.
За лиры мёртвых – бьющий вьюгой прах.
За лики нищих в снежных фонарях.
***
Корявые ивы! Столетние ивы!
Под сонными вётлами – света извивы.
Летучие лозы! Покой долгожданный!
Луч, в кронах сквозящий над галькой песчаной.
Мир, светом представший сквозь влажные тени.
Рок, ласкою ставший в лучах примиренья.
Прилечь, и забыться в траве у дороги,
И вытащить лодку на берег пологий,
Пусть дикие утки, поднявшись на крылья,
Бегут по стоячей воде без усилья,
И селезень плачет над ряской зелёной,
И падают в воду шуршащие кроны.
***
Два брата тягались за славу умершего брата.
Два седобородых, как два петуха оглашенных
Идут друг на друга – друг другу впились в бородищи
И ну как тузить кулаками – локтями – друг друга.
А брат под замшелым гранитом у красной ракиты
Всё видел и слышал, но всё же не мог шевельнуться –
За смертные сны, он, бессмертный, ответить не властен.
А снилось ему, будто слава, – девчонка босая –
Хохочет вовсю и поёт, и свистит хворостиной,
И гонит, как коз, его род по отлогим долинам
Сквозь чертополохи: "А ну, окаянные козы!"
А козы кричат от испуга и топчут друг друга
И от хворостины свистящей бегут врассыпную,
А солнце за холм отдалённый садится. И вечер
Знакомые тропы скрывает колючим бурьяном.
Он хочет им крикнуть: и даром что седоголовы!
Опомнитесь, братья и сёстры, опомнитесь, дети!
Ведь к славе за милю нельзя подходить безоружным!
Беритесь за руки, хватайте лопаты и колья,
Спиною к спине – и держите вокруг оборону!
Но крика не слышно. И козы бегут врассыпную.
Девчонка хохочет вовсю и свистит хворостиной.
И род его крепкий рассыпан по третье колено.
***
– Где твои дети?
– На звезде,
В дожде, в ночном бреду.
– Где твои милые?
– Как где?
Скорей всего – в аду.
– Где твоя Родина?
– Ушла
За ведовскую тьму.
Слезами боли изошла
В сожжённом терему.
И только Бог с ночных орбит
Во тьму гладит, глядит,
Глотает дождь земных обид –
И о Любви твердит.
ЧЕТЫРЕ МАТЕРИ
Крест на хлебе, крест на скатерти,
Крест на небе и земле.
Дал Господь четыре матери
От рождения тебе:
Матерь Божья чистой Девою
Для Небес тебя хранит.
Мать Россия с чистой верою
Пасть за Родину велит.
Мать Земля дарует силушки,
В глубь свою влечёт по грудь.
Мать родная тянет жилушки –
Ты её не позабудь.
(обратно)Тамара Куклина В ДЕРЕВНЕ ВСЁ ЕСТЬ
Сейчас он живёт в Москве, а корни его здесь, на вольной Важской земле, в деревне Синцовской, что в семи километрах от села Ровдино Шенкурского района Архангельской области. Ровда, Игнатец да Харагинец – два насельника здешних древних, новгородских. В Синцовской родились его отец Павел Георгиевич, прозаик и журналист, участник Великой Отечественной войны, а неподалеку, в Шевелевской, мать, Калиста Васильевна, сельская учительница.
"Дед прошел Цусиму, и царь пожаловал ему за это лес на строительство дома. Построенный в начале 20 века деревенский дом с крышей в 400 квадратных метров – это в то время жилище хозяина средней руки. Немногие подмосковные коттеджи в наше время имеют столь обширные покрытия" – с обоснованной гордостью за отчий дом пишет автор в повести "Погружение" (журнал "Двина", №№ 3-4 2001 г.).
Этот дом для писателя – символ прочности, основательности, крепости духа, неиссякаемый родник творческого вдохновения. Он неразрывно связан с тем местом, где родился и вырос. В своём очерке "Марья" автор от имени главного героя говорит как бы и о себе: "Я – крестьянская лошадка в эстрадном прикиде. Я из тех, кому хомут шею не трёт".
В своих произведениях Александр Лысков постоянно обращается к своей малой родине, землякам – однодворцам. В каждый приезд сюда он дарит в местные библиотеки свои книги "Неоткрытые острова", "История ложки", "Пределы", "Натка-демократка", "Свобода, говоришь?", "Бельфлер", "Клочки", "Далида" и другие. Он – автор более десятка книг разных жанров (романы, очерки, рассказы, повести, рок-оперы, рэп-тексты).
Тяга к творчеству проявилась рано. Это было предопределено родительскими генами. Ещё в юности, учась в Архангельском лесотехническом институте сочинял он песни для самодеятельного вокально-инструментального ансамбля, в котором самозабвенно играл на бас-гитаре. Как все молодые люди тех лет, увлекался творчеством не только отечественных исполнителей, но, и, конечно, "Битлз". Позднее эта страничка биографии нашла отражение в рассказе "Стрижка наголо" ("Двина", № 4, 2004г.).
Помимо публицистики стал писать прозу. Ради этого уехал в Заполярную нефтеразведку. В 1985 году вышла его первая книга "Целковый на счастье" – о начале цирковой судьбы северного силача-самородка Ивана Лобанова. В 1988 году был опубликован его роман "Пределы". Автор размышляет о хозяйском отношении к земле, её богатствам, об ответственности человека за порученное дело на фоне слома социально-политических отношений в нашем обществе. Вторую часть книги составили очерки "Светлые души" – о людях, добывавших рабочую славу Поморью – легендарном лесопильщике – новаторе В.С. Мусинском и трактористе В.М. Белове, лауреате премии Ленинского комсомола Николае Тургачеве и других людях – опорах государства Российского. Герои книги сродни самому автору. Александр Лысков "из тех русских землепроходцев, которые широким шагом меряют земной шар, оставляя после себя срубы, пристани и трассы ЛЭП". Так отзывается о коллеге-литераторе главный редактор журнала "Двина" ("Вольная птица", "Двина" № 2, 2007г.).
Александру Лыскову по душе люди энергичные и деятельные, не зависящие от чужого мнения. Личности. Хотя понятно, что вместе со славой и хулы им достаётся достаточно. Будучи журналистом в архангельских газетах, он горячо поддерживал идею первого северного фермера, "Архангельского мужика" Николая Семёновича Сивкова, который вознамерился быть на своей земле настоящим и полнокровным хозяином. "Как он (Сивков) в конце 80-х взбудоражил русскую деревенскую жизнь! Скольких подбил на свободное земледелие! Под действием его обаяния в Архангельскую область приехало более 500 человек из городов. Сели на заброшенные земли. Стали косить, пахать пустоши..." ("Сенокос", "Двина" №2, 2003г.).
В работе Сивков себя и семью не жалел, поэтому результаты труда и доходы были соответствующие. И хотя у него имелись неплохие перспективы, среди местных крестьян-земляков последователей оказалось немного. "Почему?" – задаёт автор вопрос себе и читателям в книге "Неоткрытые острова", где речь идёт о подобных преобразованиях в ровдинской округе. И сам отвечает в очерке "Погружение", что появился другой тип крестьянства – государственные рабочие. "Вот прийти на "развод" к восьми часам, к гаражу – это святое дело. А застолбить землю – "на хрена".
Не от лени, конечно, не от дури или пьянства. А единственно по холодному расчёту, по инстинкту выживания. Возьму землю, уйду в отруба – смерть. Ни на собственной картошке, ни на собственном молоке не заработаешь и пятой части того, что в совхозе, кооперативе. Дотаций не получишь. Налогами задушат" ("Двина" №№ 3-4 2001 г.).
Не надо современному мужику никакой собственности, хлопотно с ней. Разочарован он последними реформами по улучшению народной жизни. Усреднён стал мужик, подстрижен со всех сторон суровым двадцатым веком. "И сама деревня, шесть столетних изб, садится с каждым годом. Будто ... дубиной её в землю вгоняют. Трава кругом всепожирающая... Гляжу на эти тающие в жарком дне избы – последний из тех, кто знает о мужиках лет на 150 вглубь – по молве, по рассказам, по сидению в архивах, по догадкам. Сколько тут разных водилось" ("Народ, да не тот", "Двина" № 1 , 2008 г.).
И на четырёх страницах очерка с гордостью пишет о предках своих земляков: о деде своего деревенского соседа Вадика Скрозникова – Иване Сергеевиче Полуянове, известном местном шорнике. Вся волость знала его хомуты, шлеи, сёдла – с личным клеймом в виде трилистника. Василий Михеевич Колыбин держал мельницу, Павел Филимонович Синцов – токарню. Был свой легендарный маслодел – Александр Дмитриевич Бушихин. Маслодельный аппарат он сам (лично!) привез из Швеции на кредит крестьянского банка и на собственные накопления. Сколько жизненного азарта надо было ему иметь, чтобы преодолеть все препятствия, таможни и дерзнуть съездить за необходимой покупкой в Европу из глухой северной деревни! Зато жили сытно и вольно, ни на кого не надеясь, рассчитывая только на свои силы. Крепкого крестьянского замеса были люди. По сути, получился не очерк, а настоящий гимн трудовому человеку, хозяину своей судьбы, своей земли.
В очерке "Соло для половиц со скрипом" ("Двина", №4, 2006 г.) упоминается первый насельник Артемий Синцов, пришедший в эти места без малого 400 лет назад, по имени которого названа деревня Синцовская.
Многие здешние мужики, как и дед писателя, участвовали в русско-японской войне, например, Егор Васильевич Шестаков служил в то время на крейсере "Лена" в эскадре Рожественского.
"Я помогал Олегу больше для собственного удовольствия", – пишет в одном из очерков автор… В том и состоит особенность самобытного автора, что в его произведениях органично сочетаются историческая действительность и современность, острое сопереживание землякам и готовность личного участия.
"Внешний мир как молодая поросль, холодно обступает. А внутри тебя одновременно наслаивается былое. Нетронутое и нетленное, как кольца в срезе старого дерева. Там всё записано и оцифровано, всё переливается сочными красками жизни, омывается тёплым током от корней. Ток этот мощный и животворный" ("Соло для половиц со скрипом"). Под действием этого тока правнук цусимского матроса, Олег, в память о прадеде, взялся за ремонт родового жилища. Значит, толчок в его душе произошёл, если он настоящим наследником себя почувствовал, завет прадеда сберечь дом услышал.
Для человека с тонким душевным слухом, бесконечно любящим деревню свою деревянную, нет большего счастья, чем уловить мелодию обновления отчего дома: своего или соседей-дачников.
Автором схвачено главное, что есть на деревне: необыкновенное трудолюбие и взаимовыручка, милосердие и добросердечие, незыблемые нравственные устои. Как иллюстрация к этому – шесть невыдуманных рассказов в скромно оформленной книге "Бельфлер".
Повествование ведётся от лица местной жительницы Евстолии Власьевны из деревни Серебряницы. "Каков первый мужчина попадётся, такая у неё и судьба задастся", – народным присловием начинается рассказ "Отступница". Много парней за Олёной "ухлястывало", а она выбрала Сергея Просторо- ва. "Думала, как сама без оглядки и до смерти готова любить, так и Сергей будет". А он ей прямо сказал, что надоела. "И к мужикам на потеху пихнул. Первым откупорил да и всем дал напиться... И тело, и душу женскую по ветру пустил. А потом сам же и повторял за кобелями: "Подстилка". Сколько потом было у неё мужчин, и не помнит Олёна Дмитриевна, а умерла одиноко, зимой, на собственной печи в холодной нетопленой избе.
Рассказывая о необычной семейной жизни Анны и Ильи ("Со второго захода"), пожилая женщина, от лица которой ведётся рассказ, мудро замечает: "Любовь – любовью, а счастье терпением да угодливостью наживается. Редкая женщина с таким талантом рождается. Мужиков и того меньше. Все самолюбы да гордецы". Шестнадцать лет понадобилось Анне и Илье, чтобы понять, как они любят друг друга. Пока жили вместе, не уступали ни в чём, развелись, создали новые семьи. Через много лет судьба снова свела их, жили потом людям на заглядение. "Ну, так ведь, парень, иным и века не хватает, чтобы научиться жить в согласии, да уважать- любить друг друга до старости".
"Нет большего греха для женщины, – начинает следующий свой рассказ Евстолия Власьевна, – чем своего родного ребёнка бросить. На мужика променять. Нет таким бабам прощения... Смертный это грех для женщины... Но и в нём есть прощённые" ("Грешная мать"). Не прощённой жила Антонина Варавина, пока брошенный сын Володя дедом не стал. Он, сын-то брошенный, её и допечаловал, Антонина ещё и внуков понянчила.
Грань между действительностью и вымыслом в творчестве Александра Лыскова довольно условна. Часто под вымышленными фамилиями легко угадываются реальные люди: директор совхоза, местный фермер, рабочие пилорамы, сам автор. В каждом его произведении раскрывается новая сторона жизни, новые люди, в каждом по-новому светит солнце и звучит новая музыка.
Мелодия любви, живой, трепетной, искренней явственно ощущается в рассказе "Марья". Любви не первой, но страстной. Главный герой – с ошибками, с разочарованиями в жизни – любит яростно, ревниво, тревожно и нежно. Она отдаётся этой любви без оглядки, вся без остатка, веря и не веря в неожиданное счастье. Каждое слово повествования неподдельно, выстрадано.
Рассказы и повести писателя читаются подряд как масштабный роман, как продолжение его давнего большого произведения "Вольная птица" (журнал "Север" № 9, 1998 г. Переиздан в 2008 году под названием "Клочки"). Произведения мощного, лиричного, современного, почти автобиографического. О жизни в столице провинциального журналиста. В некоторые моменты становится страшно за судьбу главного героя романа. Выдержит ли, не согнётся, не пропадёт ли в жестоком, чванливом и грубом городе? Выдюжил. "Совесть гражданина и патриота, а прежде того праведное родительское благословение вывели его на стезю справедливости, и он выбрал для своего пера антибуржуазную газету "Завтра", в которой был одним из создателей, и где трудится уже почти 15 лет" (М. Попов, "Двина" № 2, 2007 г.)
Самые светлые страницы романа "Клочки" посвящены заповедной малой родине, куда главный герой приезжает вместе с беременной женой. Здесь рождается его наследник – без акушерок и повитух, уповая только на вековой житейский бабий опыт и милость Божью. Сцена рождения новой жизни запоминающаяся и образная, чувствуется рука большого мастера. "Я закопал плаценту под черёмухой, по поверью, навек привязав сына к этому месту на земле". В надежде, что теперь для сына эта земля будет как и для него, оберегом и неиссякаемым источником жизненной энергии, любимым местом на земле. Что здесь, в тишине, сын расслышит и запомнит музыку весеннего дождя, ветра, шуршания трав, трели лесных птиц.
Деревенская патриархальщина преследует писателя повсюду: в мыслях, ассоциациях, в вещах. Хотя его творчество не ограничивается сельской тематикой. Он остро воспринимает наше время и все то, что с нами происходит. В каждом человеке он пытается разглядеть живую душу, даже в Жанке-наркоманке ("История ложки") и в начинающем рэпере Егоре (драма в стихах "Далида"). В его произведениях запечатлена разнообразная, бесконечно изменчивая современность и яркие характеры героев.
Но тема деревни всё-таки ближе Александру Лыскову, он прекрасно знает реалии и основы деревенской жизни, её психологию. "В мире деревни – хорошо. Неохота ничего менять. Дом есть. Соседи. Друзья и недруги. Земля и небо. Свой дурачок, своя гулёна и свой бомж. Всё есть" ("Погружение", "Двина" №№ 3-4 2001 г.). Есть свои романтики, подвижники и трудяги – чистые души, которые сохранили в отношении к миру и ближним свет истинного добра и любви.
В мире деревни всё есть.
Архангельская область
(обратно)Владислав Трефилов “...ТУТ НЕ ЗАБЛУДИШЬСЯ”
Случается, что юноша из села в мечтах о литературной славе приезжает в город, получает образование и продолжает писать, привычно извлекая из памяти всё более бледные, но по-прежнему дорогие впечатления, связанные с "малой родиной". И вот он уже слывёт "певцом деревни" и сам кичится своей "исконностью", тогда как давно живёт интересами и хлопотами горожанина, выезжая в родные места лишь погостить, пыль в глаза пустить, впечатления освежить, – да и то всё реже и реже.
А между тем взглянуть на мир со старой колокольни он уже не может, и питают его творчество традиции литературы письменной, которая отличается от устного народного творчества, как магазинная сметана от деревенской. И можно с сожалением сказать о горькой этой участи словами А.Передреева: "И города из нас не получилось, и навсегда утрачено село". Хорошо, что писатель выходит из народа, да жалко, что он назад не возвращается.
Нет, интерес к народному слову, отшлифованному, как речная галька, ещё не утрачивается, более того – с годами усиливается жажда к тому, что рождено непосредственно в народной стихии, естественному, как дыхание, и точному, как восход солнца. Конечно, народ – это не только сельский житель и уже давно – чаще всего не сельский. Но по-прежнему эталоном национальной мудрости остаётся село, ведь крестьянский "лад" складывался веками и без его молчаливого "стариковского" одобрения городскому – не обойтись.
Поэзия Николая Якунина драгоценна именно своей народностью. Поэт-самоучка, он не имеет даже среднего образования, никогда не был участником литературных объединений, семинаров и совещаний.
Но нет худа без добра. Может быть, именно поэтому он долго сохранял свой жизненный уклад таким, каким получил его в наследство, и, живя среди родни и односельчан повседневными крестьянскими заботами, сам того не ведая, оставался частицей народа и выразителем его чаяний. Все эти годы он глядел вокруг глазами своих земляков, думал их думами, и было бы правильно сказать, что это народ писал его рукой. Скорее всего, судьбу его надо считать счастливой, ибо разве может быть для поэта большее счастье, чем возможность – хотя бы невольно – выразить взгляды и состояние народной души?
В стихотворениях Николая Якунина еще живёт и дышит уже ушедшая Русь с её песенностью и поэтичностью:
Перезревшие падают звёзды,
Поджигая напев на лету.
И припевки – поэзии гроздья –
Над притихшей деревней цветут, –
вспоминает он время, так странно исчезнувшее, растаявшее почти на глазах. С тех пор много воды утекло и многое изменилось, но самое главное:
Промчалась тревожно над сёлами
Последняя трель соловья,
А были когда-то весёлыми,
Певучими наши края, –
с тихой грустью недоумения сожалеет поэт об утраченной не только им радости, как ушедшей молодости. И никакого социологического исследования не надо, и никакие агитбригады уже не помогут, если поэт заметил этот тревожный факт. А ведь песня – работе не помеха, скорее, наоборот:
Как грянут бедовые бабоньки
Старинную песню – да так! –
Что острые косы да грабельки,
Как птицы, мелькают в руках.
Конечно, речь не о "молочных реках и кисельных берегах" былых лет, поэт хорошо помнит, что и тогда "жили не сытно, но весело", да не хлебом единым жив человек. А песня естественно украшала народный быт не только по праздникам, но и в будни, и уж тем более немыслимы были без неё молодые весенние ночи:
А в ночи – дождливые, вешние –
От песен светлело окрест.
По голосу парни нездешние
Своих находили невест.
Утеря деревней певучести – самая точная и самая, может быть, страшная примета перемен, произошедших в деревне в послевоенное время, и, видимо, необратимо. И вдвойне страшна эта потеря для поэта, ведь именно в той – песенной – атмосфере начиналось его творчество, как и творчество многих других – ставших или не ставших стихотворцами – людей: "Плывут мелодии, как реки, переливаясь и журча. И плещет в каждом человеке – в душе – прозрачный свет ручья". И если теперь немало ручьев затинилось, то в душах людских этих ручьёв замутилось не меньше. Заболотились родники, обезлюдели деревни.
Ах, деревушки с ликом древним, –
С тремя избушками вразброс, –
Вы, как засохшие деревья
Средь зеленеющих берез.
Кто с горькой болью, кто без боли,
Ушли от отчего гнезда,
Одни легко, по доброй воле,
Других заставила нужда.
Но нет, не стало здесь просторней…
Это неожиданное наблюдение ("не стало здесь просторней") дорогого стоит. Если не стало просторней, значит, случилось что-то неправильное, неестественное, нездоровое. И тоска одиночества ("Нахлынет слабость в этакой глуши") возникает потому, что поэт горше всех переживает замену уходящего пустотой. И даже в обыденности текущих дней, которые скрадывают, делают старение деревни, как и любое старение, незаметным, оно не ускользает от внимательного, всё понимающего, пугливо-прощального взгляда, – так глядят на неизличимо больных близких людей.
Но как бы ни было худо здесь, на земле, покинутой людьми, она сама и является для человека, вцепившегося в неё, лучшим лекарством от одиночества, тягот жизни и других печалей: "Но оглянусь: всё та же глушь и глушь – моя беда и от беды спасенье", – потому что счастье и сама жизнь без этой земли для поэта немыслимы. Так от стихотворения к стихотворению открываемый автором мир постепенно расширяется, становится узнаваемым, хотя Якунин никогда не называет своих мест по именам, "а просто лесом, полем, да рекой" (В.Соколов):
Потеснив и поля, и луга,
Подпоясалась звонкой речушкой,
И корнями берёзок вросла
В тёплый берег моя деревушка.
В назывании родного уголка деревушкой не столько уменьшительности (а уничижительности нет вовсе), сколько нежности и ласки, в этом слове чувствуется то сердечное тепло, которое называется любовью, и не случайно поэт то и дело повторяет его:
Как детей в час недуга старушка
Ожидает, к окошку клонясь,
Так моя в эти дни деревушка
Наконец-то весны дождалась.
Частые аналогии с людьми, связанными родственными отношениями (ста-рушкой, ожидающей детей, матерью и младенцем и т.д.), подчеркивают родственность всего в мире, в том числе человека и природы, природных явлений, и даже ночная гроза становится по-домашнему своей, понятной и простой:
Чудесные мгновения
творятся над селом,
Похож до удивления
на крик младенца гром.
И кстати ли, некстати ли
деревьев сонных дрожь,
На снег слезами матери
закапал первый дождь.
Слёзы матери – это "слёзы облегчения". После таких сравнений и эпитетов, когда всё вокруг по существу связывается кровной близостью, связью бесспорной, данной, как говорится, свыше, – называние земли родной звучит не голо- словно, не риторически, а вполне убедительно и органично:
Тем и живу, что твёрдо знаю:
Ни в горькой яви, ни во сне
Земля, до кустика родная,
Не бросит камень в душу мне.
Конечно, такое знание, как вера в бессмертие, может быть спасением от любой беды, потому что в краю, где ночь "звёзды на веточки нижет", где "сучья, что лося рога", а "стога, словно большие сугробы", где "падают в стороны пни" и "кто-то кидает огни в окна ночных деревенек", – в этом краю поэт дома, имя которому – "Зимняя светлая Русь":
Где он, полуночный страх?..
Плотно смежаю ресницы,
Зная, что в этих краях
Мне не дано заблудиться.
И всё-таки эта – родная до кустика – земля продолжает оставаться в его стихах безымянной. Безымянная деревушка и речкой подпоясалась безымянной:
То под лозою в холодке,
То на виду в объятьях солнца,
Она, как вена на руке,
Всю жизнь пульсирует и бьётся.
В России тысячи таких,
Которым даже нет названья…
Вероятно, деревня, вросшая в берег такой речушки, "затерянная где-то от дорог", с тёмными избушками на курьих ножках, – далека от цивилизации в прямом и переносном смысле слова, но именно она становится необходимым звеном связи между современностью и старинным, теперь уже полусказочным укладом, о котором почти и не помнится, в который почти и не верится, с его языческими приметами и суевериями, как в стихотворении "Сгинул бес, русалок нет…":
Но тогда скажите мне,
Кто в дождливый вечер
На трухлявом низком пне
Зажигает свечи?
............
В полночь кто звенит в овсе,
Да на всю округу?
Эта глушь, собственно говоря, и есть тот заповедный уголок старины, жителю которого не совсем уютно под боком у большого мира, как будто он сам становится редким экспонатом, да, похоже, и действительно им является.
Поэзия Николая Якунина, как и народная, чужда публицистичности и полемичности, образы её развиваются последовательно, закономерно, как и всё живое, органично. Кому-то она может показаться слишком созерцательной для наших дней, но иной она быть не может. И тем более его обеспокоенность за будущее очевидна. Она в вопросах, на которые нет ответа: "Как же мне сохранить для тебя свет ромашек и запах пшеницы?", "Чем мне душу твою оградить от слепого, как ночь, равнодушья?" Да и как можно говорить о созерцательности, если вся жизнь в деревне – это непрерывное, неустанное движение, действие и просто работа, а поэзия Якунина – отражение этого движения.
Из дома выведут тропинки летние,
Бегут – расходятся,
бегут – встречаются,
Как косы девичьи, переплетаются.
Пусть размечтаешься,
пусть позабудешься,
Броди и час, и день, –
тут не заблудишься.
Шагай одной из них,
что всех приметнее, –
Вернёт в своё село или соседнее.
Конечно, сельские жители "бродят" по этим тропинкам не от безделья, а все по той же вековечной хозяйственной надобности: на полевые работы или косьбу, в магазин соседнего села или в лес по дрова, по грибы или по ягоды, а то и на охоту:
Напрямик через поле по насту,
Как в шалаш, в прошлогодний омёт.
Отсыревшие звёзды погаснут,
Отвердеет на лужицах лёд.
Просочится сквозь лес на опушку
По берёзовым веткам заря.
И внезапно на алую "мушку"
Упадёт красный глаз глухаря.
Об охоте говорится спокойно, как о естественном, обычном деле. Нет здесь и охотничьей страсти, азарта, – это занятие, к которому вынуждает жизненная необходимость. И пейзажная ясность в стихотворении как бы отодвигает думы о предстоящем выстреле на задний план.
Видимо, есть смысл говорить не только об эстетическом, но также и о прикладном значении поэзии в народной среде. То есть в рамках эстетики она нередко выполняет функцию учебника, проповедуя наиболее разумный с точки зрения многовекового опыта образ жизни наиболее доступным и выразительным языком, воздействуя не только на ум, но и на чувства. Так поэтизируется повседневный быт с его яркими событиями и рядовыми заботами, в том числе, например, об огороде.
Беспомощны, как детские ладошки,
Зелёные листочки у берёз.
И только-только первые картошки
Упрятались под холмики борозд.
............
Взметнулись к солнцу прямо
перья лука
И, как штыки, росточки чеснока.
Но в ящиках гнездятся, как цыплята,
Пока что помидоры у окна.
Но этот быт, становясь предметом эстетики, помогает сформулировать поэту такие истины, которые должны быть аксиомой: "Проста, как день, крестьянская наука: хозяйский глаз да лёгкая рука".
К вопросу хозяйствования поэт возвращается нередко, потому что хозяйство – это основа основ любой жизни. И в "Стихах о топоре" ("Без топора в деревне, как без рук") Якунин снова объясняет простую крестьянскую истину: "Не держится хозяйство без пригляда". Поэтому издавна топор служил мерилом способности человека вести хозйство:
Не все они остры и хороши,
Другим – рубить крапиву не годится.
Иными хоть чинить карандаши,
А можно и при случае побриться.
Бывало, дед зайдёт к тебе во двор,
Топор осмотрит хитрыми глазами,
И ни к чему дальнейший разговор –
Каков топор – таков его хозяин.
Работа – ежедневная, ежечасная – является, как водится, средством достижения цели, а не самой целью, но при этом она не только не в тягость, а представляется удовольствием, радостью, и несчастлив тот, кто незнаком с блаженством усталости, которая свалит с ног, а потом:
Листва берёз зелеёной пеной
Плеснёт в прикрытые глаза.
И к сердцу нежному по венам
Прольются птичьи голоса.
Лежишь, как в детстве,
светлой ночью,
И словно мать в избе родной
В своём застиранном платочке
Поет, склонившись над тобой.
И всё это настолько легко, чисто и тихо, что сон усталости кажется каким-то даже неземным, небесным, и в то же время по-земному реальным, ощутимым всей внутренней сущностью как "нечаянная радость" (А.Жигулин), сладкая телу и сердцу.
В поэзии Николая Якунина почти повсеместно сближаются эти такие непохожие радости – для тела и души, потому что народная психология их тоже сливает воедино. К таким вот способам расслабления тела и отдыха души относится русская баня:
Догорает закат за сараем,
И блаженствует в баньках народ,
Не спеша в кипятке растворяя
Тяжесть нажитых за день забот.
В устном народном творчестве создан полный кодекс жизненного круга, основанный на единении с природой. И читая стихи Николая Якунина, реально представляешь себе эти народные воззрения, народные идеалы, к которым, как к совершенству, стремится народ всё время.
Над околицей тихой, над полем
Смех и песни взметнулись в зенит.
Не копила земля свои боли,
Не запомнила горьких обид.
У дворов средь просторов пахучих
Зачернел забурьяненный пласт.
Жизни мудрой природа научит
И душевность свою передаст.
Так в образе земли и природы изображается тяготение национального характера к добру и справедливости, его незлопамятность и душевность, стремление к мудрости. Об этих чертах вспоминается поэту нередко как раз весной, что всего естественнее:
Забылись зимние обиды,
И нет причин для новых ссорю
То шёпот ласковый, то вздохи
Почти у каждого крыльца.
Пересекаются дороги,
Соединяются сердца.
Миролюбие русского характера, его доброжелательность и дружелюбие основаны на уважении к другому человеку и ожидании ответного уважения, ибо для народного самосознания так важно это чувство сохранённого достоинства. "Пусть нежных слов в ответ я не услышу, но и никто мне здесь не нагрубит", – ведь на грубость надо отвечать соответственно, она в любом случае ведёт к результату, которого лучше избежать вовсе. Длительное оскорбление этого чувства ведёт издавна к пьянству, к тому "смиренью, что паче гордыни", шутовству и, наконец, когда уже дальше некуда, к прямому бунту. Однако это чувство связано не только миролюбием, но и с чувством национальной и личной гордости ("Не буду я просить, как нищий, любви у запертых дверей"), тяготеющей к независимости.
И в то же время в этом характере, когда он раскрыт, проскальзывает лёгкость нрава и простота, отсутствие высокомерия, даже какая-то дурашливость, но не от игривости, а от лукавой любознательности:
И туманно, и облачно снова,
Тускл, прохладен березовый свет.
Крикнешь в роще весёлое слово,
Не дождёшься ни звука в ответ.
Конечно, понятие национального характера неоднозначно, он многолик и многосторонен, в поэзии же Якунина развивалась и наиболее отразилась та сторона, которой более по душе мягкость, чем удальство, нежность, чем сила. И не случайно так хорошо понимает поэт женскую душу, её сущность и её боль. У него есть стихи, написанные от лица женщины, но ещё больше – ей посвящены.
В его интимной лирике, стихах о любви привлекает необыкновенность самопожертвования, он готов, примчась к любимой издалека, "дыханьем осторожно рассеять в небе облака", он мечтает коснуться её губ "робко листком берёзовым" и наперекор своей судьбе готов лечь ей под ноги "последним ярким листопадом", желая в награду лишь удивлённо брошенного на ходу: "Какая ласковая осень случилась в нынешнем году". Любовь эта по-русски жертвенна и альтруистична. Сердце поэта, становясь падающей звездой, даже ценой последней боли готово помедлить падать с высоты, чтобы любимая успела загадать желание. И в обоих случаях он соглашается, мечтает об этом без мысли последующей реабилитации своего имени, ему достаточно служить ей и радовать её – даже безымянно.
Характерно и постоянство его чувства, долгое, может, на всю жизнь – сродни верности, – ожидание любимой:
Вновь уже укрыт снегами
От крыльца к вокзалу след,
И зима стучится в рамы,
А тебя все нет… Все нет…
И, оставаясь в одиночестве, поэт всё равно сочувствует русской женщине, её "бабье долюшке", особенно – женщине одинокой, чья жизнь напоминает ему осень; он и "бабье лето", ненадёжное и прощальное, называет "вдовьим". Наверное, поэтому "Осенний этюд" – великолепная картина осенней земли – заканчивается так полновесно:
Пусть не все ещё песни допеты,
Но и клин журавлей над селом,
И последние отблески лета –
Словно вдовьи глаза перед сном.
Очевидно, чтобы это увидеть, надо обладать богатым воображением и быть психологом, чем и одарён Николай Якунин щедро от природы. И в лучших своих стихотворениях он поднимается до значительных высот психологизма, порою в них чувствуется влияние философской лирики Тютчева, даже некоторая перекличка с ней:
Есть дни в октябре и апреле,
Они – как две капли воды.
Естественно, это не реминисценция, а невольное совпадение одного и того же наблюдения, развиваемое по-разному:
Расплывчато всё и неясно,
Просторно и тихо в груди.
И молодость – то ли погасла,
А то ли ещё впереди.
Интересно, что пейзаж в поэзии Якунина кажется символичным. Весенний – эмоционален, любвиобилен, летний – полнокровен, плодоносен, щедр, осенний – философичен, мудр, а мудрость всегда немного печальна. Очевидно, в разные периоды жизни поэту нравилось разное время года; всё это говорит о неразделимой слитности души его и природы, влияние которой ощущается биологической сущностью поэта как естественное, ибо сам он является её частью. И в более поздних по времени написания стихах ему особенно удаются грустные, как последний прищур солнца, строки:
Надо мною – хоть смейся, хоть плачь,
Властно осень раскинула руки.
Но и в горьком плену неудач
Обновляются краски и звуки.
Сад усталый негромко поёт,
Бьются в зори ветра дождевые…
В каждом возрасте что-то своё
Нам дано открывать, как впервые.
Если поэзию сравнить с речкой, то большинство стихотворцев ищет и любит в ней какие-то необычные места: плёсы и перекаты, косы и отмели, водопады и горловины… Поэзия Николая Якунина напоминает в этом смысле незаметное взгляду течение по равнине в зарослях лозы и осоки, почти ничем внешне не привлекательное, тихое и спокойное, но полное смысла и глубины, а в некоторых омутах – просто бездонное:
Из мрачного, как пропасть, тупика
Не вырвутся ни стоны, ни проклятья.
Отступит день, наклонится река,
Протягивая мягкие объятья.
............
Плеснёт в песок
последний слабый круг,
Гладь омута в ознобе всколыхнётся,
И может быть,
чуть слышный этот звук
Печальным всхлипом
где-то отзовётся.
И если поэт сказал о жизни, что она "непростительно холодна" ("как в пред-зимье бесснежное поле") и "неоправданно тяжела", значит, у него были для этого причины:
Удивительно жизнь коротка,
Если глянуть из старости в детство:
Слишком мало успела рука,
Слишком многое впитано сердцем…
Стихотворение заканчивается многоточием, потому что, несмотря на отто-ченность последней фразы, ещё остаётся возможность её продолжения, а каким оно будет, "нам не дано предугадать".
(обратно)Лев Аннинский ВКУС МЁДА
Неведомо, в который из часов
Подвижничество дедов и отцов
В сомненьях и порывах повторится
И для меня…
Владимир Бояринов
Кто он по большому счёту?
Лет тридцать назад я подумал: не псевдоним ли это: Владимир Бояринов? Очень уж крут русский замес. Выверены по старинным замерам терема и двери, ворота и ставни. Сладко брашно, полны соты. Радуется Русь! Столы с закуской – на санях! Цветут рубины на кремлёвских башнях…
Однако не всякая Русь. Тут допетровская. Потому что Пётр обрубил Руси бороду, испёк новую столицу на краешке стола – захотел, чтобы мы славили его по-немецки. А вот если от этой ловкости (да и от Иоанна Грозного, клеймо гибельное поставившего на Рюриковичах) нырнуть поглубже – к богатырям, батырам и боярам, – там наше. Ольга-воительница. Садко хмельной. Боян певучий. Русь от Пресни до Урала – вечная. Рим Третий, а Четвёртому не бывать.
Чему бывать, чему не бывать в далёком будущем – о том умолчим. А пока – о ближних вехах на пути, уходящем в вечность.
Вехи... Правда, скупые. Но узнаваемые – для тех, кто помнит новейшую историю.
"Я бегу. Полки разбиты. Отступая налегке, укрываюсь от обиды на заветном чердаке". Дитя, родившееся в послевоенные годы, играет в войну. Тяжесть пережитого висит в воздухе. Но идеологическая лямка уже ослаблена: бабушкина икона не спрятана в чулан – висит!
Следующая веха. На сцене – худсамодеятельность: "Горе от ума". Родители играют, малец смотрит. "А назавтра умер Сталин. Всё забылось, как во сне". Пробудится малец – и вперёд!
Ещё веха. "Человека в космос запустили! – кричит сосед и лезет на забор… Его сынишка плачет от обиды: ликует вся весенняя земля, но даже с крыши не видать орбиты гагаринского в небе корабля". Ничего, вырастут сыны – и полетят. Вперёд и выше.
Однако ещё немного – и ни забора, ни крыльца. "Дом отцовский продаётся… Пёс кудлатый бежит за мной следом – провожает меня". Старые фотографии выцветают. Деревенская Россия 70-х годов переселяется в город.
Последняя веха: "Не я разваливал Союз".
Всё. Мне достаточно. При всей немеряной русской широте, при всём вселенском размахе – биография лирического героя выложена точно. Это то самое послевоенное поколение, которое уже не заразилось пламенной верой последних идеалистов, "шестидесятников", оно пережило младенческую гробовую бескормицу, рано осталось без вождя и учителя, в 1961 году задрало голову к звёздам и рвануло в город, но уже не застало командных вакансий, а подалось в сторожа и дворники, предоставив Системе лететь, куда сама знает.
Система и полетела. Так что и сторожить больше нечего, и дворы метут приезжие. Тут-то, на развалинах Союза нерушимого, и пришла пора вспомнить сценические вопросы классиков, горькие вопросы от большого ума: кто виноват в развале и что делать на руинах?
Хорошие вопросы достались от дедов и отцов наследникам великой мечты. Строили то ли Рим, то ли Рай. Вот он, вход в светлое будущее! Отвори ставень – за ним всё по потребностям!
"Открываешь ставень райский" – называется итоговая (на теперешний момент) книга Владимира Бояринова, и… Не пугайтесь. Настоящее испытание ещё впереди. А пока выясняется, что за ставнем – не Рай вселенский, а деревенское окошко, и там… "на бёдра руки жадные кладу…"
А звать-то её как? Ах, да: – Марья, зажги снега!
Русский человек на рандеву...
Что за Марья? Вдруг Богородица? Учитывая запредельность воображения лирического героя, – не исключено. А если Мария Магдалина? А если боярыня Морозова – та всё-таки к снегам поближе. А ясноликая кустодиевская купчиха? Эта - запросто, учитывая русскую печку, от которой автор пляшет. А вдруг там – египетская дива, из гарема Карим-паши сбежавшая, поджидает с танцем живота наготове? Свят-свят! Она ж своя! Только немного подзагорела на курорте. И любовь, подстерегающая героя, возникает не в запредельности, не во областях заочных, а меж родных осин.
Любовь, вполне поддающаяся доводам. И даже разборкам. В смысле: где была? А сам где был?
Конкретно: "Узнал крыльцо. Увидел свет из окон и дверь открыл. И смех в лицо: – Я думала, ты сокол, а ты бескрыл…"
Ах, так? " – Я прочь лечу! Ищи меня отныне меж двух веков… И по лучу скользнул, как по стремнине, и был таков!"
По лучу – это поэтично. Как и меж веков. В прозаическом отрезвлении всё проще. И горше: "…В седых летах вернулся не бескрыло в свои края.
– Зачем же так?
– А как же надо было, любимая?"
Что произошло-то? Бес в ребро. Погуляли – забыли. Поругались – помирились. Он погорячился. Она погорячилась. Он охладел. Она охладела.
"А иначе не бывает – даже солнце остывает".
Раз иначе не бывает, и жалеть вроде не о чём.
"Ты не виновата". Я не виноват. "Я верю в счастье наудачу, в любовь твою… Тебе подумалось – я плачу, а я пою!"
Ну, вот, всё объяснил и вернулся. По сю сторону райских ставен подвёл итог:
Ты зачем, отцова дочь,
У окна сидишь всю ночь?
Ты зачем под клёкот майский
Открываешь ставень райский,
Открываешь сгоряча, –
Таешь, таешь, как свеча?!
В давней советской лирике (где обходились без аналоя и свеч) такие сюжеты решались на юморе ("Уезжаю в Ленинград! – Как я рада! – Как я рад"). Но нынешнему герою, кажется, не до смеха. Это он вид делает, что ему весело, и что он поёт. Уж не плачет ли в самом деле?
Нет. Держится. Неуловима печаль. Как это на полотне у Крамского? – Неуязвима Незнакомка, "последней нежности растратчица, очарования полна. Отъедет конка – и расплачется, и разрыдается она!"
Эти невидимые миру слёзы и держат напряжение стиха. Фактура острая, ритм заражающий, слова вподхват. Глаз – зоркий, и вовсе не "сквозь слёзы", а – сквозь лихой прищур. И только неожиданный поворот стиха, неожиданно сломленное слово, неожиданный скачок мысли – из тепла любовного свидания то в жар, то в озноб – делают стих знаком исповеди.
Сожжено всё: и окно со ставнями, и крыльцо с дверью, и дом родительский. Только воет печная труба. Только сажа глаза разъедает.
Не судьба, – говорят, – не судьба.
А другой у людей не бывает".
А у страны другая судьба – бывает?
Спроецируйте "несудьбу" героя на судьбу страны – и станет понятно, почему энергия, распирающая его душу, не находит выхода.
Силушка... Начиная свою исповедь, он клянётся в верности отчизне, в чём и расписывается – "жгучей шашкой". Через пару страниц шашка сменяется на "двухсаженную дубину", от взмахов которой, как и полагается по былинному канону, супостаты ложатся направо и налево. Ещё через пару страниц – старания увенчаны, трофеи подсчитаны: "сколько сломано орясин и почёсано о жердь!" – от потешности этого подсчёта возникает (у меня) сомнение в разумности предпринятого во славу отчизны костоломства. А ещё через дюжину строк, когда к могучему Иванушке подступают товарищи и подначивают продолжить подвиги: сокрушить – медведя ли, лешего ли, а то и достать зарю (оглоблей) или пройти чрез полымя (пешком), – богатырь спрашивает: "А какая на это нужда?" – и чудесным образом выламывается из геройской дури в подозрительное благоразумие.
Вот тут-то подозрение моё и принимает форму уверенности: силушка-то бессмысленная была нам продемонстрирована с тайною (провокационной) целью обнаружить именно её бессмысленность. Чтобы попробовать вернуть ощущение цели, смысла и меры (нужды) той энергии, которая не знает, куда себя девать. Почему? Потому что повседневность подла и низка, а цели и пути сомнительны.
Цели и пути... Логично было бы при такой оглобельно-сабельной решительности видеть впереди ясный свет, а под ногами – верный путь, гарный шлях, торную дорогу. Но не свет впереди у героя, а туман. Ночь без просвета. А если день, то белёсый. Лейтмотив – морок. Бездорожье. Не путь, а след в степи, и этот след пурга заметает.
Поэтому и степь в топографический партитуре Бояринова значит едва ли не больше, чем лес. Хотя ордынцы в числе врагов и помянуты – рядом с тевтонцами, мусьяками и хазарами (и этих не забыл), однако со степняками – дело особое. Хоть и не стал наш герой скифом, и печенега по степи вдоволь погонял, а всё ж степняки – родня. Так что от Батыева Сарая до Семи Палат пролегает родное евразийское поле… точнее сказать, полигон. Чем и объясняется анкетная внятность ответа:
Он спросил: "Откуда родом?"
"Из Семи-пала-тинска!"
Ответ внятен. Вопрос непостижим: откуда вражда? Зачем?
…сошлись в ночи две равных страсти,
Как Пересвет и Челубей…
А дальше? Какая их сшибла нужда?
Я на скаку всё время
Чешу в раздумье темя:
Весь мир ополовинь –
На всё один аминь!
В финале любого раздумья (и каждого стиха) такой вот внезапный "аминь", поворот к новой загадке или безнадёжности ответа, и всегда к тому, что впереди морок, туман. Высыхает речка Непрядва, рушится Спас-на-Крови. Покатиться бы покудова "из родимого Паскудова".
Литературно говоря:
На шестом десятке лет
Грех надеяться на чудо.
Милый Афанасий Фет,
Забери меня отсюда!
Кто виноват?
В том-то и хитрость, что враги – эфемерные какие-то, дубиной их не огреешь. Что-то "сердитое и бесполое". "Цивилизованные гады". "Заправляют у кормил". Причём тобой же и прикормлены. Кастраты. Иуды. Мелкие бесы. И всё шутят, шутят.
И мы в ответ шутим: "Невозможно с нами, дураками, говорить о чём-нибудь всерьёз".
А может, не во врагах дело, а в нашем собственном состоянии? Не думаешь – в дураках ходишь. Задумаешься – дальше ехать некуда. Рок, что ли? Враги – они всегда рядом. А дело не в них, дело в нас. Вылезешь из бойлерной – вокруг ни плетня, ни дрына. Ни Союза нерушимого, ни Паскудова родимого.
Это горькое прозрение, открывающееся за богатырской удалью, сообщает стиху острую стереофонию. Срифмовать "мобильник" и "могильник" – значит уже подключить современность то ли к прошлому, то ли к будущему: там и тут могилы. Судьба!
Что делать? Литературно говоря:
Лучше прошлого не трогать
И не знать, что впереди.
Тонкий месяц – рысий коготь,
Старых ран не береди!
Почему "литературно"?
А вы посмотрите, как стихотворение названо. "Одна ночь Ивана Денисовича".
Ран хватает. Старых и новых. Соли – хоть отбавляй. Не полечиться ли по-старинному – мёдом?
Пробуем. Кругом стены (частная собственность!). Ни старой чайной, ни знакомого крылечка, ни травинки.
Полуночные метели
Замели мои следы.
И забыть меня успели.
И горчат мои меды.
А ведь с этой горечи и начинается настоящее пробуждение души к подвижничеству дедов и отцов. Им куда похуже было. Горька их правда. Горек дым отечества. Горек мёд.
Аминь.
(обратно)Мастер Вэн ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛУННОГО ЗАЙЦА
Часть восьмая
ЗАЯЦ В ГОЛУБЫХ ГОРАХ
Посвящается Юэ Ту
Лунный заяц истолок в своей агатовой ступке последний пучок лечебной травы и последние кусочки коры кассии, бессмертной лунной корицы и приготовился отдыхать в домике, который он построил для себя недалеко от Лунного Дворца, но перед отдыхом стал просматривать лунные лучики, скачущие по земле. Там на земле, его собратья, земные зайцы всех пород и всех континентов, давно уже установили дежурство, передавая своему лунному могущественному собрату все тревожные новости, сообщая ему, кто прежде всего нуждается в его лечении. Кому только ни приходилось помогать на своём веку лунному зайцу с его целебными снадобьями: и людям, и птицам, и рыбам, и самым разным зверушкам. Даже злобным крокодилам, когда уже речь зашла об их полном истреблении в Африке, приходил на помощь лунный заяц вместе со своим другом небесным псом. Сам заяц на Луне питался маленькими звёздочками, которые постоянно падали с Неба и закатывались под лунные кустики. Эти звездочки давали лунному зайцу запас беспредельной энергии для его непрекращающейся работы. От звёздочек, которыми он питался, и сиянье глаз у лунного зайца такое, что он видел, пусть и с помощью лунных лучиков, всё, что происходит на земле. Когда в полнолуние Луна сияет очень ярко, приглядитесь повнимательнее, и увидите, что это сияют заячьи глаза.
Как всегда, лечащему зайцу доводилось бывать на земле и храбрым бойцом, и хитрым политиком, наставником, педагогом. Всё чаще болезни возникали на земле не сами по себе, а вызывались злобными силами, колдовскими ли, небесными, или вызываемые не менее могущественными алчными земными дельцами. Чем больше развивалась на земле техника, чем изобретательнее становились люди, тем страшнее становились болезни, тем чаще возникали войны.
Иногда заяц принимал облик старичка с Луны, неприметного и услужливого, и проникал то в развалины разрушенного войной Цхинвала, то в афганские пещеры, то в трущобы индийского Момбея, везде спасая людей и животных. Его так и звали – "чудесный лунный доктор".
На этот раз из всех лучиков тревожно выделился лучик из казалось бы самой спокойной на земле Австралии. Его земной австралийский собрат бил тревогу. Он сообщал, что гибнут на обширных и пустынных полях красного континента сотни тысяч австралийских кроликов.
– Что с ними? – спросил лунный заяц.
Отвечал ему даже не заяц, а короткоухий и пучкохвостый заячий кенгуру, обитатель травянистых степей и саванн, быстрый прыгун, прыгающий сразу на десять метров вперёд, такой же сумчатый, как и его большие кенгуристые собратья.
Заячий кенгуру забрался на самую высокую вершину в краю популярных в Австралии Голубых гор, и оттуда слал на Луну сигналы о трагедии.
– Люди сами же завезли к нам из Европы кроликов и зайцев. Так же, как овец и верблюдов. Овцы обогатили фермеров, теперь по всему миру славится австралийская мериносная шерсть. Кроликов и зайцев хотели ради такого же стремительного обогащения превратить в дешёвую пищу для всех австралийцев.
– Ну и что, сразу всех съели?
– Нет, кролики и зайцы разбежались по всей Австралии и, как считают фермеры, съедают всю траву, предназначенную для овец. Люди решили отравить всех кроликов и зайцев сразу. По всей Австралии с вертолётов тоннами рассыпают по местам обитания моих привезённых собратьев самый ядовитый порошок. Этот порошок не едят овцы, но его едят кролики, зайцы, едят также кенгуру и коалы, ехидны и утконосы. И в течение дня умирают. Австралия превратилась в кладбище животных.
– Неужели нельзя было найти другой выход? Они же превратят Австралию в самую пустынную пустыню?
– Дорогой лунный заяц. Ты же знаешь, мы – коренные обитатели Австралии, честно говоря, недолюбливали всех привезённых из-за океанов животных, в том числе и завезённых кроликов. Мы у себя дома в Австралии для этих приезжих из Европы – чужие. Сначала они истребили наших людей, коренных аборигенов, с которыми мы всегда ладили, у каждого племени было своё тотемное животное. И было племя заячьих кенгуру, украшающих свои жилища нашим знаком. Их не осталось вовсе.
Потом они принялись и за нас. Заячьих кенгуру тоже почти совсем не осталось. Но когда им для их овечьего бизнеса помешали их же зайцы и кролики, они решили их полностью истребить. А заодно и нас. Если ты не поможешь, в Австралии останутся одни бараны.
– И где же прячутся уцелевшие животные?
– В пустыне они всем видны с вертолётов, и остатки заячьего племени, а с ними и все другие, перебрались в Голубые Горы, где их не видно, но они начинают вымирать и здесь от занесённого ветром ядовитого порошка. Спасите нас.
…Уже не первый раз отправлялся лунный заяц на землю, спасать саму её от прожорливых и ненасытных людей. Конечно, его лунный порошок бессмертия сильнее любой человеческой отравы, но, как узнать, сколько надо брать с собой этого лунного порошка, чтобы всем хватило? И где взять столько целебного лунного снадобья? Наученный горьким опытом таких же массовых бедствий, то в дальневосточной тайге, то в горах Кавказа, лунный заяц уже построил в своём домике помещение для хранения необходимого запаса его целительного порошка. Может быть, и хватит для австралийских уцелевших кроликов и зайцев. Но сумеет ли он мгновенно вылечить всех нуждающихся в спасении. Пока он будет бегать по австралийским Голубым Горам, по австралийскому бушу, так там называется лес, никаких животных не останется.
Лунный заяц послал на землю сигнал небесному псу, пусть мчится на Луну, чтобы им вместе продумать, как спасти австралийских зайцев, кроликов, коал и кенгуру.
Небесный пёс Тянь Гоу тут как тут.
– Что будем делать? Кого опалить небесным огнём? Какого злодея надо разорвать на части?
– Эх, собака ты собака, чересчур много этих злодеев, всех не уничтожишь, да и воевать с людьми нет желания. Неразумны они, деньги стали для них важнее всего на свете. Как спасти от них сразу множество ещё уцелевших австралийских кроликов, а вместе с ними и всех местных животных, собравшихся в Голубых Горах?
Думали они, думали, наконец, придумали. В целительную лунную росу, которую лунный заяц тоже давно уже собирал в своём росохранилище, они высыпали весь запас целебного порошка. Небесный пёс пару раз хорошо подул, размешал, затем опалил холодным лунным пламенем, и вся роса с растворённым в ней лечебным снадобьем превратилась в аккуратненькое лунное облачко, небесный пёс обернул это росное облачко силами небесного притяжения, взвалил на плечо, и они вместе с лунным зайцем устремились в дальнюю Австралию.
Лунный заяц не мог понять одного, сколько бы ни расплодилось кроликов в Австралии, нынешняя человеческая индустрия могла бы любое количество кроликов превратить в обыкновенное мясо, а кто же из людей не любит жареной зайчатины? И хоть было бы лунному зайцу всё равно их жалко, но побеждать людей ему никто бы из Властителей Неба не позволил. В этом мире хищников по-другому не живут, и силы добра всегда уравновешиваются силами зла. За этим равновесием добра и зла, чёрного и белого, следит даже Небесный владыка. Добрый заяц попробовал расспросить Небесного владыку, зачем он хранит столько зла на земле, но так ничего по доброте своей и не понял.
– Ты, заюшка, живёшь в добрых делах, и живи. Ты предназначен для добра и спасения. А не будет зла, само добро превратится в зло, и мир исчезнет. Даже я, Небесный владыка, не волен что-нибудь в этом мировом распорядке изменить. Я могу помочь многим, но искоренить мировое зло – не в моей власти.
…Но сейчас в этом хищном мире даже зайчатина не понадобилась. Оказывается, правили в это время Австралией люди, считавшие и кроличье и заячье мясо – нечистыми, негодными для пищи. Они всего лишь строго пользовались старыми ветхозаветными законами. Потому что сказано во Второзаконии: "Только не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом: верблюда, зайца и тушканчика, потому, что хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас…" Но там же в Псалме Давида и говорится: "каменные утёсы – убежище зайцам…"
И поэтому правители Австралии не пожелали отправлять кроликов на пищу для местных жителей, предпочитая их массовое отравление. Но и изгонять их из каменных утёсов Голубых Гор они тоже не осмелились, согласно их же законам – это святое заячье место, сакральное убежище.
Каменные утёсы в Голубых горах укрыли не только уцелевших кроликов и зайцев, но и другую древнюю австралийскую живность, все деревья облепили неуклюжие, но ужасно симпатичные крошечные мишки – коалы, вдоль гор прыгали, спасаясь от ядовитого порошка кенгуру с высовывающимися из сумок кенгурятами. Прятались везде, где можно, опоссумы, белые какаду оглашали все Голубые Горы пронзительным криком, они кричали на все голоса, кричали сразу за весь животный мир Австралии. Орали во весь голос кукобары. Здорово досталось не только кроликам, но и кенгуру, ночью в темноте они стаями перепрыгивали широкие автомобильные шоссе, их слепили фарами автомобилей и безжалостно давили. Все шоссе в окрестностях Голубых Гор были покрыты телами несчастных, раздавленных скоростными автомобилями животных. Немногим удавалось пересечь все дороги.
Голубые горы становились новым Ноевым Ковчегом, куда собирались все животные Австралии. Но и Ноев Ковчег не мог надолго укрыть зверей от ядовитого порошка. Вертолёты с ядом продолжали летать. Всех ждала неминуемая гибель…
И вдруг всё небо над Голубыми Горами затянуло огромным густым облаком. Никто не мог понять, откуда оно взялось. С утра сверху палило нещадно южное солнце, выпивая последнюю воду из немногочисленных ручьев. Спасительного южного ветра из Антарктиды не предвиделось. Будто с самого неба опустилось густое голубое облако. Над Голубыми горами обрушился ливень. Этот ливень пропитал все травы и деревья, смыл весь ядовитый порошок, омыл всех зайцев и кроликов, кенгуру и даже ленивых коал, пробующих улизнуть от спасительного дождя. Не понимая его целебность, попыталась зарыться в землю ехидна, хотел запрятаться подальше утконос, но не удалось никому – всех пропитал налетевший голубой ливень.
Он доставал абсолютно всех зверей, пропитывал все цветы, растения и могучие эвкалипты. Никто из них и не знал, что обрушившийся ливень – весь из лунной росы и бессмертного заячьего снадобья. При этом все звери и деревья почувствовали, заметили каждой своей клеточкой – пришло спасение, отрава людей стала беспомощна. И сколько бы новых вертолётов ни посыпали с неба на животных свои ядовитые смеси, перед заячьим снадобьем и собачьим голубым дождевым облаком все яды были бессильны. Звери древние и звери, завезённые с Европы и Азии, перестали чувствовать вражду друг к другу, они собрались длинной цепочкой вдоль всех Голубых Гор и запели свой общий звериный гимн. Конечно, больше всех старались белые какаду, у них песня ужаса и отчаяния заменилась песней радости перед жизнью. Даже молчаливые дикие собаки динго, давно уже не пришельцы на этой земле, но всё ещё отличающиеся от древних обитателей, завезённые в Австралию десятки тысяч лет назад, стройные, с поджарыми животами, вспомнили свою древнюю собачью пляску и закружились в стройном танце, задрав голову высоко вверх, к голубому облаку, чуя там что-то родное, собачье. А на облаке сидели лунный заяц и небесный пёс и радовались спасению всех животных. Небесный пёс что-то подпевал своим земным собратьям. Они знали, что человек не отстанет со своей охотой, но это больше не тревожило их. На охоте по праву побеждает сильнейший, силой ли, быстротой своих ног. Или же хитростью и смекалкой. Охота – это жизнь. А молчаливое массовое отравление животных они предотвратили. Не совсем, конечно. Многие ещё будут оплакивать смерть своих близких. Но уцелевшие встречают будущее во всеоружии лунного снадобья…
Лунный заяц и небесный пёс уже собирались отправляться на Луну праздновать победу, но услышали снизу, от всё того же заячьего кенгуру:
– Подождите. Здесь мы спасены, но часть отравы ушла на Тасманию, и там в тасманийских джунглях задыхаются, вымирают последние тасманийские тигры и тасманийские дьяволы. В Австралии их уже нет, но совсем рядом, на соседнем острове, где была самая страшная тасманийская каторга в Порт-Артуре, где были истреблены все до единого сначала аборигены, потом сумчатые волки, ещё живут из последних сил наши достойные собратья.
– Вовремя сказал. Уже и от росного лечебного облака почти ничего не осталось. Но если их там немного, то хватит.
Небесный пёс быстренько скоординировался, сгруппировался, добавил своей небесной мощи и ярости, забросил за спину остаток облака, схватил под мышку лунного зайку и стремительным рывком понесся к Тасмании.
В Тасмании лунному зайцу и небесному псу пришлось заняться поисками тех, кого они решили спасти. Тасманийский дьявол обнаружился ещё довольно быстро, но кто бы при его пугливости назвал всерьёз эту оскалившуюся кошку дьяволом? Он был явно недоволен своим спасением, думал, что настал и его последний час. И хотя сила его челюстей была подобна силе какого-то гигантского животного, небесный пёс небрежно взял его за загривок и грозно приказал сообщить, где ещё есть на острове тасманийский тигр.
Дьяволы знамениты своим аппетитом и огромной силой укуса. Если учесть небольшой размер животного, челюсти тасманийского дьявола сильнее челюстей любого иного зверя. Австралийцы расценивали этих тасманийских дьяволов, как реальную угрозу для овец, и охотились на них. За каждого убитого дьявола государство выплачивало награду. Когда австралийцы спохватились, живых тасманийских дьяволов осталось слишком мало, и если бы не подоспевшая помощь лунного зайца и небесного пса, исчезли бы и последние. Другому, главному австралийскому хищнику, стройному и быстроногому тасманийскому тигру повезло гораздо меньше: охота на них продолжалась, пока последний, увиденный людьми зверь не был уничтожен. Но тасманийский дьявол рассказал псу, что есть ещё и живые тигры. Только их очень трудно найти.
– Укажи, где они прячутся, а там мы и без тебя его найдём? – Небесный пёс ещё раз как следует тряхнул этого пугливого и вонючего кошкодьявола. Держа в лапах за загривок напугавшегося тасманийского хищника, небесный пёс и лунный заяц медленно полетели над Тасманией. Дьявол вдруг запищал:
– Вот он, тасманийский тигр, видите его странную походку…
И на самом деле по бушу бежала какая-то странная собака, с полосами на спине, с толстым хвостом. Бежала очень странно, как бы прыгая на бегу и при этом виляя задними лапами из стороны в сторону. Тасманийский тигр в своей затравленности и запуганности уже и забыл, что он тигр. Любой баран представлял для него смертельную опасность, за бараном всегда стоял хорошо вооружённый человек. А тут что-то с неба спускается. Тигр вжался в землю. Заяц с собакой еле его успокоили, напоили лечебным снадобьем, снабдили на будущее для всех оставшихся сородичей. Прощаясь, небесный пёс сказал тигру:
– И всё же, людям на глаза не показывайся. Пищи пока в буше хватит, прятаться есть где, овец не трогай. Станет совсем плохо, дай знать, переправим на Луну, пойдёшь в помощники к нашему небесному Белому тигру.
А про себя подумал: всё-таки индусы и китайцы подобрее тасманийских завоевателей будут, азиатские тигры и сейчас живы. Живы и африканские звери. Почему так безжалостен белый завоеватель?
И пожелал лунный зайка всем австралийским зверушкам сохраниться на земле.
(обратно)Евгений Нефёдов ВАШИМИ УСТАМИ
БУКВАРИАЦИИ
"Лежали женщины, как буквы,
на берегу уютной бухты".
"Как два листка календаря,
мы спали: ты, а рядом я".
"…Что у нас есть вечера
с вечера и до утра".
Олег РЯБОВ
– 1 –
Лежали женщины, как буквы,
И загорали в неглиже.
Одна, раскинув ноги-руки,
Была – ну вылитая "ж"!..
И до того взыграла жажда
Её прочесть, что втихаря
Я предложил: "Давайте ляжем,
Как два листка календаря.
Я тоже буквою предстану,
И мы, уж коль пойдёт игра,
Словцо приятное составим
От вечера и до утра!"
Она придвинулась сначала,
Но через миг сказала так:
"Нет, не получится, пожалуй.
Ну что за буква – мягкий знак…"
– 2 –
Заплываю как-то в бухту,
Поглядел: а в бухте – ух ты! –
Девы нежатся в тоске,
Словно буквы на песке.
Для поэта это – чудо…
Говорю: "А можно, буду
Я, пока зайдёт заря,
Вам – листком календаря?.."
Отвечают: "Нет, не надо.
Для загара лист – преграда.
Просто рядом полежи,
Что за буква ты, скажи…"
Ну, уж тут я не промазал!
"Да не видите ли сразу,
Что для вас и так, и сяк
Я сегодня – твёрдый знак!.."
(обратно)

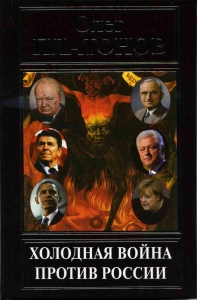
Комментарии к книге «День Литературы, 2008 № 12 (148)», Газета «День литературы»
Всего 0 комментариев