Иван Алексеевич Симонов
Охотники за сказками
Забытые тетради
В дальнем, сумеречном углу чулана — старый-старый, плетенный из очищенных ивовых прутьев походный солдатский сундук. Его плели седобородые старожилы Зеленого Дола под разливы тальянки и рекрутские припевки деревенских парней.
В ту осень провожали зеленодольцы земляка на военную службу. Были ему как прощальный подарок и суровый холст на портянки, и сбереженный по копейке полтинник соседа, и хранительная материнская ладанка на шею. В последний раз окидывал взглядом служивый родные просторы, тихую деревеньку, скрепя сердце снимал с плеч обвившие его руки старой матери. Туманились в глазах луга и рощи.
В такую минуту и поднесли старики зеленодельцы загрустившему новобранцу походный, сделанный искусными руками сундук. Веяло от свежеочищенных прутьев клязьминской речной прохладой, горьковатым, с детства знакомым запахом ивняковых зарослей над водой, словно вместе с подарком передавали мудрые деды печальному солдату частицу родного озерно-лугового края. Хмурили брови, смотря на осенние жухлые травы, на рекрутскую подводу посреди села. Торжественно-степенно, с наказом в дорогу обнимали склоненную голову служивого. «Бог весть, доведется ли снова свидеться?»
Сами помогли солдату переложить немудрые пожитки из заплечного мешка в новый вещевой сундук, прикрыли их поверху шитым ручником с каймой, захлопнули ивовой покрышкой. Старший из седобородых пожелал:
— Полям — плодородия, семье — благополучия, солдату — возвращения.
Низко поклонился солдат провожающим, обнял грустно поникшую молодую жену, и повозка, заскрипев колесами, тронулась.
С тех пор прошел зеленодольский сундук следом за солдатом большой и нелегкий путь. Путешествовал по багажным и товарным вагонам, перевалочным станциям и пересыльным пунктам, по обозным тыловым подводам, по грязным вещевым чуланам и палаткам маршевых рот и батальонов.
В долгую угодила солдатская служба. Не успел закончить срок действительной, как началась фронтовая, окопная страда первой империалистической войны.
Голодал и холодал солдат под Брест-Литовском, держал фронт по сырым траншеям над Вислой, глотал немецкие газы на реке Ипре «во имя царя и отечества», бежал и кричал «ура» во время атак и контратак, молча гонял в котелке по кругу солдатскую овсяную болтушку в час обеда. В сердцах на чванливых и бездушных правителей, на высокое командование, на свирепого фельдфебеля, ратующих за войну до победного конца, выражал протест против кровавой бойни, братаясь с немецкими солдатами. Слушал на митингах выступления большевиков против войны и однажды, подбодренный примером соседа по окопу, с размаху засадил штык в землю. «Хватит, повоевали!» После гнал с трона тем же штыком «помазанника божия и самодержца всея Руси», а вдогон за ним и временного правителя. Бил юнкеров в Петрограде. За советскую власть, за ленинские декреты о земле и о мире снова шел по фронтам войны, теперь уже гражданской.
А годы делали свое.
Уже седобородые старики, что напутствовали рекрута у околицы, один за другим давно успокоились на погосте, отказав молодым топтать и радеть эту землю, на которой веками трудились их деды и прадеды. Уже давно всем миром поделили между собой мужики наследные и покупные кулацкие пожни и наделы. Уже любопытные быстроглазые девчонки с подрезанными косичками, что, чуть пригнувшись, беззастенчиво шныряли в день проводов солдата под рекрутскую повозку и обратно, выровнялись и застепенились. Уже и в родной семье служивого время стало сглаживать память об ушедшем, от которого издавна не поступало никакой весточки. Уже оплакивала сына старая мать в одинокой печальной думе, как нежданно-негаданно, живой и невредимый, явился в отцовский дом солдат. Явился и в качестве первого свидетельства, что это именно не кто иной, как он поставил на лавку свой плетенный из ивы походный сундучок. Висела ниже замка накрепко пристегнутая шпагатом, потемневшая от времени струганая деревянная бирка на которой восемь лет назад обозначил штабной писарь полк и роту, имя и фамилию владельца.
Постарел, посерел сундук. Стал он легок и сух, как звон. По задней стенке, над самым дном, прутья пересечены и топорщатся в разные стороны.
Наклонилась старушка, мать солдата, и достала из уголка два зазубренных чугунных осколка от снаряда, по длине в ладонь без малого каждый. Пробили они ивовое плетенье, да так и остались лежать, запутавшись в самотканом белье. Рядом с осколками — пуля. Ее вынули доктора из-под ребра солдата после штурма Смольного. Вынули — вернули солдату. Так она и сохранилась.
Всплакнула мать над былой сыновней бедой. Положила памятные знаки на чайное блюдце, поставила его на видное место в посудный шкаф.
А солдатский сундук — вот он. Перекочевал из деревенского в городской чулан, стоит на низенькой дощатой подставке в дальнем, сумеречном углу, обставленный старыми помятыми ведрами, растрескавшимися чугунами, продырявленными решетами. Потому стоит в нашем чулане, что мой отец был там солдатом. Вернувшись с войны, передал он по наследству фронтовой багажник прильнувшему к скрипучим прутьям малому сыну, для которого один только этот скрип был дороже любого подарка.
Долго был радостью и утехой для малолетка фронтовой сундук. Но прокатились годы, и теперь уже только бабушка моего сына знает, что хранится под рубчатой ивовой крышкой.
— Ну-ка, старенький, печальненький, открывай свои тайны! — так сказал я, обращаясь к сундуку и посматривая на скучающего у раскрытой двери чулана первоклассника-сына. Мне было поручено в порядке домашней нагрузки навести к празднику порядок в чулане; а если вместе с сыном взяться за работу — так, думается, будет веселее.
Принялись вдвоем за дело. Выбираем и отбрасываем в одну кучку запыленные старые калоши, в другую — круглые жестяные баночки из-под карамели.
Особо — флакончики из-под одеколона и духов, сберегаемые бабушкой для внука на тот случай, если снова станут собирать школьники аптекарскую посуду.
Много в маленький сундучок вместилось всякого добра. И не терпится перевернуть его потихоньку верхом вниз, а там начать рассортировку содержимого полным ходом. И сыну не терпится своими глазами посмотреть, руками пощупать, что там, на дне сундука, упрятано.
— Ну-ка, друже!
С этими словами я приподнял сундук, совсем не подозревая, что и дно у него раскрывается теперь почти так же широко, как и крышка.
Тут и случилось непредвиденное. Сундук податливо зашевелился в руках, начал набухать книзу, хрупнул легонько прутишками. И вдруг из раскрывшегося внизу зева поскакали со стуком на пол металлические шарики от детского комнатного бильярда, с тонким звоном посыпались разноцветные блестящие бусинки, выпрыгнула пластмассовая зеленая лягушка, гуттаперчевый мальчик, блеснула радужными крыльями летящая ветряная мельница с новогодней елки и раскололась в брызги, пристукнутая тяжелой конфоркой от самовара.
Не успел еще я поставить сундук на пол, как из него тяжело шлепнулась плотно слежавшаяся пачка бумаги.
На синей тетрадной обложке бил в барабан молодой барабанщик. Под ним лесенкой, с уступами, по четыре в ряд, разместились строчки.
И будто снова послышалась, ожила в воображении и зазвенела в ушах «Песня барабанщика».
Рядом с песней крупными буквами во всю ширину страницы были написаны заключенные в жирную рамку несколько слов:
Леса и воды — краса природы.И повеяло от старательно выведенных детской рукою слов чем-то давним, забытым, но хорошо знакомым.
Подняв с пола, с волнением перебирал я слежавшиеся листы и видел перед собой нашу школу, посадки березок, первую свою учительницу Надежду Григорьевну, старого лесника деда Савела, слышал голоса своих школьных товарищей, далекий шум Ярополченского бора.
Передо мной была летопись давнего детства — забытые школьные тетради четырех друзей. Они рассказывали о том, что было тридцать с лишним лет назад.
И вспомнилось ясно…
Слушайте, молодые читатели! Слушай, мой сын! И тебе эта книга о детстве ныне поседевших, о любви к родному краю.
Дорога в лес
За деревней — ржаное зеленое море. Оно подступает к самому домику тетки Устиньи и тихо шумит. Зыбкие колосья клонятся к маленькому створчатому оконцу, шуршат неторопливо в пучках соломы, сползающих с низенькой ветхой кровли.
Шестая весна минула с той поры, когда по ленинскому декрету о земле заново перекроил Зеленый Дол луга и пашни, укоротил кулацкие наделы, расширил узкие бедняцкие паи, нарезал землю безземельным. Тогда впервые за всю жизнь и появилась в поле пахотная полоса тетки Устиньи шириной в четырнадцать лаптей. Тогда и прорубила одинокая жительница крайнего двора в старом доме новое оконце, чтобы видеть из него свое и мирское жито.
Приоткроет тетка Устинья оконце, крикнет по-хозяйски:
— Эй, пастух, не подпускай скотину близко к хлебу!
Нешироки разделенные межами крестьянские полосы, но в урожае вся надежда на сытую зиму. Зорко стерегут заречные жители ржаные полоски. Не пытайся, прохожий, незаметно пробраться через поле, все равно не удастся. Шагай себе лучше окольной дорогой. Вон она забирает на версту влево, в противоположную сторону от крайнего дома.
Только нам известна в хлебном море тропинка от задворок до дальнего луга. Пригнувшись, влетишь по ней с разбегу в самую гущу хлебов — и пропал. Никто тебя не видит, и сам ты ничего не видишь, кроме гибкого частокола тонких стеблей, на которых качаются ветру в лад, шепчутся между собой беспокойные колосья.
Разве только, переходя пустующую межу, заметишь что-нибудь вдали, или ветер приклонит ниву, и мелькнут на миг перед глазами то три дубка на Лысом пригорке, то соседняя деревушка Дегтярня, то густые камыши над озером Великим.
По этой тропинке и пустились мы, четыре зеленодольских школьника, в первый привлекающий безвестной далью поход.
Неторопливо и степенно шагаем по ней, пристроившись гуськом друг за другом.
Есть что-то таинственное в сосредоточенно-спокойном шествии четверых подростков с вещевые мешками и сумками за спиной. Молчанием мы поддерживаем эту таинственность. А от легкого ветра, от ясного солнца, оттого, что день такой лучистый и торжественный, сердце в груди поет. И все, что видишь и чувствуешь вокруг, складывается в удивительную светлую сказку, в которой ты живешь и которую сам себе создаешь легко и свободно.
И нива для меня уже не просто нива, а подводное царство. Рожь — уже не рожь, а густые морские водоросли, обступившие нас со всех сторон. Мягкая тропинка — песчаное морское дно, где по течению подводных струй извиваются впереди меня волнистые ленты краснофлотской бескозырки Леньки Зинцова.
Только по волшебному слову, что известно нам одним, расступаются покорно зеленые волны, открывают проход морские лианы, а желтый песок, легко осыпаясь, заравнивает наши следы.
Впервые мы идем в поход — в Ярополческий бор, на лесные озера. При мысли об этом ноги сами несут по тропинке, и тяжелый вещевой мешок за плечами кажется невесомым.
Все дальше уходит деревня, отступают развесистые вязы с грачиными гнездами на вершинах. Все ниже опускаются крыши домов позади. А нашу учительницу Надежду Григорьевну и совсем не видно. Проводила нас до края деревни, пожелала успеха и дружбы в походе и пошла неторопливо обратной дорогой. Должно быть, ее белую повязку ищет глазами Павка Дудочкин за широким разливом зелени. Стесняемся сказать словами, так хоть взглядом поблагодарить ее за все хорошее, чем обязаны мы Надежде Григорьевне.
Первая учительница! Ничье другое имя не произносится, пожалуй, с детства и до преклонных лет с таким уважением и благодарностью, как имя первой учительницы. С годами по-иному представляются повзрослевшему ученику его большие и малые школьные радости и печали, успехи и неудачи. Вспомнится и двойка за невыученный урок, и коротенькая записка родителям о том, что ты подрался с приятелями на перемене или выпустил в классе воробья из кармана и помешал вести занятия.
И уже самому тебе становится неловко, что навертывались когда-то на язык с виду безобидные, но, по существу, жестокие слова: «Подумаешь, какое дело — воробья пустил!» И ты, смущаясь, повинишься в своих старых «грехах», повстречавшись после нескольких лет разлуки со своей учительницей, которая уже поседела, стала ниже тебя ростом. А она вновь увидит тебя маленьким и озорным и с покровительственной, согревающей улыбкой произнесет в ответ знакомое и всепрощающее: «Все бывает!»
И навсегда останется в твоем сознании начальная школа — первый этап на большом жизненном пути — озаренной ясным солнечным светом.
И в этот раз: не поддержи нас Надежда Григорьевна, не бывать бы нам, ее воспитанникам, в лесном походе, не ходить по дальним дорогам, незнакомым местам, не гулять по Ярополческому бору.
Мы учились в суровое время. Бегали в школу с овсяными лепешками, с куском хлеба, в котором больше картофеля, чем муки, писали чернилами, сделанными из наростов на листьях дуба. Сами подвозили на санках из рощи к школе дрова, чтобы натопить печку.
На деревне иного и разговора не было, как о хлебе, о картошке, о погибших на фронте родственниках и односельчанах, о продразверстке и заменившем ее позднее продналоге.
Но даже в самые суровые зимы, когда поутру замерзали чернила в чернильницах и мы оттаивали их своим дыханием, когда вместо тетрадей писали на оберточной бумаге, когда и мечтать не смели о пшеничной белой булке и постоянном куске сахара к воскресному чаю, — даже в такую хмурую пору находила Надежда Григорьевна для своих воспитанников и бодрящее слово, и дело, которое увлекает и радует. Или книжку где-нибудь достанет. Хорошую книжку. Прочитает нам, как в труде и борьбе добывается большое, настоящее счастье, и сразу, глядишь, печальные лица за партами уже строгими стали, не отыщешь ни одного ученика, чтобы лишь о своих горестях и бедах плакался. Спрашивают учительницу, что бы им сейчас же можно было сделать полезное, да потруднее чтобы дело было.
Однажды предложила Надежда Григорьевна аллею вокруг школы вырастить, да такую, чтобы не просто ряды Деревьев стояли, а у каждого дерева чтобы свое имя и фамилия были. Обрадовались, зашумели ученики.
А на спаде весенней полой воды посадили выпускники четвертого класса первые березки под окнами школы. Оживился молодой зеленью былой пустырь. И у каждого деревца свое имя и фамилия: Николая Кузина, Ивана Грунина, Маруси Сакулиной, Николая Якимова… В ряд одну к другой посадили березки друзья-одноклассники, закрепив в них школьную дружбу, а школе навсегда оставили о себе добрую память. И поныне славится по всему Заречью зеленодольская школьная аллея, где рядом с деревьями старших товарищей растут тоненькие именные березки, тополя и клены молодого поколения.
Скоро учительница и первый в Зеленом Доле драматический кружок организовала — сначала ученический при школе, а потом и сельский при избе-читальне. Сама пьесы выбирала, сама «артистов» гримировала, сама суфлировала, а то и в роли выступала. Прямо в классе устроили мы разборную тесовую сцену. Самым первым представляли Тургенева «Бежин луг». Картошку на сцене пекли, интересные истории рассказывали.
Вся деревня собралась посмотреть. В этом спектакле я Ваней был — самым маленьким. Лежал у костра под рогожкой и вверх глядел, говорил:
— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, на божьи звездочки — что пчелки роятся!
Весной возле школы мы в горелки играли, садили цветы по грядкам, а то путешествовали вместе с учительницей. И на Калиновый исток, и в Липовскую усадьбу, и в Жайскую рощу ходили. Однажды на пароходе по Клязьме катались, от городской пристани до Марьиных холмов. Высокие холмы над рекой обрывом висят, тяжелыми глыбами с кручи в воду бухают. На венце горы гуляли и отдыхали. Где была когда-то деревянная крепость, искали древние могильники.
Там, на Марьиных холмах, впервые и познакомила нас учительница с далекой историей родного края. Так познакомила, что по-новому вдруг увидели мы всю эту землю, на которой живем.
Наш Владимир на Клязьме стоит. (А то есть еще Владимир-Волынский, на Украине. Тоже большой город, с ним не спутайте.) Оказывается, наш Владимир не просто областной центр, но и древнейший исторический город. Он был первым стольным городом на Руси после Киева.
Владимирский стольный князь Юрий Долгорукий и столицу нашей Родины Москву строить повелел. Искусные суздлальские зодчие, муромские, ростовские, новгородские каменотесы, землекопы и плотники, потайных ходов и бойцовых башен мастера возводили крепостные стены, дома и храмы, прокладывали подземные секретные ходы на случай защиты от врага.
И встал город Москва над Москвой-рекой, неподалеку от истоков Клязьмы, что несет свои воды Владимиру и дальше за Владимир — Оке и Волге.
Тихая, привольная и спокойная Клязьма-река. Мирно катит она свои воды среди равнинных лугов и полей, то тускнея в окружении подступающих к берегам рощ, то, круто изменив свой путь, снова выбивается на широкий простор. Глянуть в безоблачный летний день — вся она будто соткана из солнечного света и сумеречных теней.
Но и на тихой Клязьме бушевали великие бури. Во время нашествия Батыя сожгли татары Владимир, разорили молодую Москву, превратили в пепел многие города и селения. Тогда на смену разрушенным крепостям неприступной крепостью встали русские леса. Здесь, под охраной дремучего и бескрайного бора, собирались мужицкие рати с топорами, вилами, рогатинами, нападали на вражьи отряды, уничтожали и гнали незваных гостей с родной земли.
Обновленной и окрепшей поднялась из пепла Москва, переняла верховенство от Владимира, объединила на общее великое дело разрозненные княжества и рати, стала центром всенародной борьбы за освобождение России. И поныне славной памятной датой живет в народе день 8 сентября 1380 года — день великой битвы и победы русского оружия на поле Куликовом, где стоял в ряду русского воинства и владимирский полк.
…И любо нам слушать рассказ учительницы о героическом прошлом нашего владимирского края.
Может быть, тогда впервые и поманил нас издали, заворожил своими тайнами, древними сказаниями и легендами Ярополческий старый бор.
Вслед за первым окончен второй класс, а за ним и третий. Ушла в прошлое шершавая, рыжая и серая оберточная бумага. И теперь мы уже пишем на линованых тетрадях с портретом Ленина или с пионером-барабанщиком на лицевой стороне обложки, с указателем, по какому адресу можно выписать нужную книгу, с таблицами перевода старинных Русских мер в метрические на задней стороне.
В достатке стало для всех школьников настоящих фиолетовых чернил, которые готовит Надежда Григорьевна из чернильного порошка и разливает каждое утро по чернильницам, вделанным в парты. Оживилась, повеселела и деревня, и уже смелее можно вести разговоры о давней мечте — о походе в Ярополческий бор.
Летние каникулы — время самое подходящее. Вот и уговорились мы вчетвером пуститься в лесное путешествие. Учительница тоже пообещала помочь нам в сборах.
Есть надежда, так нечего понапрасну время терять. С самого начала летних каникул завожу я дома каждый день одно и то же: «Ма-а-мка, пусти!»
Отец нехотя скажет, что с маленькой сестренкой некому нянчиться, а то припугнет, что заблудимся и одичаем в лесу или забредем в болото и с голоду погибнем. А сам все на мать посматривает. И вижу я, что он лишь шутит, а сам не прочь бы меня в дорогу снарядить. Это матери не хочется меня отпускать. Ей я и надоедаю: «Ма-а-мка, пусти!»
А тут под вечер учительница зашла, напомнила про знакомого лесника — деда Савела. У него, мол, ребятишкам спокойно будет, ничего не случится. Ну, само собой, и нас при родителях приструнила, чтобы во всем деда слушались. Получилось так, что наш поход — дело решенное.
Накануне отец в город на базар ездил — крючков для удочки купил, десяток покрупнее взял — на жерлицы, чтобы на живцов щук ловить.
— Держи! — сказал. — Да слушай, что мать говорить будет.
Родные все о рыбе, о грибах да ягодах наставления нам дают, а Надежде Григорьевне больше всего хочется, чтобы мы сказки, пословицы, поговорки разные во время похода собирали да записывали. А Ярополческий бор, по ее словам — это огромная живая книга чудесных героических былей, народных преданий, неразведанный тайник былинной Владимиро-Суздальской земли.
Надежда Григорьевна и сама с нами пойти собиралась, да плотники задержали: пришли школу ремонтировать, новую прирубку делать. Вот и шагаем мы вчетвером, сами себе хозяева.
Косте Беленькому учительница за старшего быть поручила. На него надеется. Задумчивый Костя, мечтательный— понапрасну не разгорячится. Да и постарше нас, посерьезнее. Как ни говори, мы с Ленькой Зинцовым да Павкой Дудочкиным осенью только в четвертый класс пойдем, а Костя уже пятый кончил. Первый год был в нашей четырехлетке пятый класс. Надежда Григорьевна это придумала, по вечерам с желающими заниматься.
Учительница называет Костю не Беленьким, а Черновым. Так и сказала:
— Чернов, за старшего будешь. Всем его слушаться.
Чернов — это настоящая Костина фамилия, а Беленький просто кличка. Только он все равно не похож на Чернова. Волосы у него на голове жиденькие, почти белые. Брови такие же. И сам он хотя выше всех своих товарищей, но бледненький, худенький — настоящий белячок. И на деревне все зовут его Беленьким.
Когда стали в лес собираться, Костина мать, тетка Катерина, достала ему из укладки белую ситцевую рубашку в полоску, и в ней Костя еще больше просветлел. Домашние заплатанные штаны тоже на другие заменил, потому что, как сказала тетка Катерина, не куда-нибудь, а «на люди идете».
У Леньки Зинцова сборы были короткие. Он как вернулся из ночного, где сам вызвался вместе с пастухом коней стеречь, так в той же старой суконной гимнастерке, в тех же тяжелых суконных брюках, вызелененных о траву, и в лес отправился. Только братнину бескозырку со стены прихватил. Нравятся Леньке выцветшие черные ленты с якорями.
Павка Дудочкин, сын кузнеца, синюю сатиновую рубаху надел, заправил ее в брюки, ремнем их накрепко подтянул. Не хотел, но в угоду матери взял свою старенькую, изожженную искрами кепчонку, нахлюпил ее на рыжие упрямые вихры.
А меня отец повернул за плечи направо, налево. Прихлопнул легонько ладонью по макушке:
— Хорош! Так сойдет.
Не нова, да по сердцу ему моя розовая рубашка, в два обхвата перетянутая крученым поясом. А кисточки пояса, чтоб не болтались, в карман штанов запрятаны. Так и в пути держатся.
— Подтянись! — слышу я негромкий голос Кости. Из-за Леньки Зинцова, который идет впереди меня, не видно ни Павки, ни Кости.
Обидно признаваться, что ты ростом не дотянул до своих товарищей. Но что поделаешь, если действительно не пришлось быть самым маленьким в этом большом походе. И вся беда моя потому, что товарищи девяти лет поступили в школу, а я, чтобы не отстать от них, семи лет захотел пойти. Так и в походе — шагаю след в след за своими товарищами крайним позади.
«Старший» возглавляет нашу колонну, ведет неторопливо и ровно, приберегая силы на дальний путь.
Рожь цветет. Зеленые колосья дымятся летучей пылью. Только раз в году и увидишь их такими мягкими да размохнатившимися.
Две недели цвести, две недели наливаться, две недели созревать — невольно приходит на память простой и точный деревенский подсчет.
«Значит, мы вернемся из лесного похода еще задолго до жнитва», — прикидываю я.
С того года, как отец возвратился с гражданской войны и начал жить своим хозяйством, есть в зеленодольском поле и наша полоса — две души с четвертью. Четверть души — три лаптя с половиной в ширину загона — это я. Это на мою долю прирезано земли на две обработки с плугом. К такой же «четверти души» приравнены, конечно, и Ленька с Павкой.
Странно измеряются «души» в деревне. Зато любовью к жизни, этим нивам и озерам, лугам и полям наши души самые богатые. И, проходя полем, с волнением вспоминаю я, как отец впервые этой весной поставил меня за плуг, как лемех мягко переворачивал пласты земли, словно листал страницы книги. И отец шагал со мною рядом.
Прикидываю с тропинки: «Которая же наша полоса в этом поле?»
Но чтобы узнать ее, нужно обязательно на край поля зайти. Там, на луговине, вырублена топориком навсегда памятная мета — три косые зарубки в виде повалившегося направо печатного «и». Так помечен наш пай. Наступит время, и выйдем мы с матерью на жатву с острыми зазубренными серпами, погоним каждый свою «козу» — узкий рядок, что захватываешь в один заход.
Спина устанет — мать лечебное средство подскажет:
— Прокатись вперевертышки от того места, где жать начал, до того, где кончил, — вот спина и перестанет болеть.
Покачусь я по колючей жниве, а мать выбирает на ладонь выбившиеся из колосьев потемневшие крупные зерна спорыньи, смеется. Ей на мои старания смотреть забавно, и хлеба радуют. На урожайной полосе и работать веселее. И на нашу долю после похода в Ярополческий бор не только с серпом походить достанется, но еще и сенокос захватим.
Три недели — такой срок выпросили мы у родных для лесного похода. И не терпится скорее в Ярополческом бору очутиться.
«Хоть бы Костя прибавил шагу!» — мысленно поторапливаю я старшего.
Но Костя идет по-прежнему ровно. Как посоветовала Надежда Григорьевна, так он и делает: и нам разбежаться шибко не дает, и себя попридерживает.
А солнышко веселое, озорное — вместе с ветерком растрепавшиеся волосы на голове перебирает, рассыпчатыми прядками в лицо закидывает. Молчу, если все молчат. Стараюсь степениться, сколько могу. А так и хочется толкнуть Леньку в бок да и припуститься по узенькой тропинке наперегонки, впереди всех. «Догоняйте!»
Но Косте боязно: еще пошлет обратно домой. Он такой: ни ругать, ни спорить не будет, только скажет негромко: «Нечего озоровать, не хочешь по-хорошему в лес идти, тогда в деревню отправляйся».
Нет уж, лучше потерпеть, пока отойдем подальше, а там видно будет.
Наш путь лежит до сторожки деда Савела. Стоит она на берегу лесного озера. Ленька Зинцов прошлым летом видел ее, только как пройти туда — не запомнил.
— За грибниками я пустился. Все лесом, лесом — так и дошли до самой сторожки, — объясняет он.
Ленька вообще счастливый. Он сам себе хозяин — куда надумал, туда и пошел: никто его не задерживает. Дома и старше, и моложе его еще шесть человек остаются. Тетка Елена — мать Леньки — на него рукой махнула: «Пусть сам как знает — не маленький. И без него заботы хватает».
Ленька широко пользуется этой неограниченной свободой: то в одиночку, то со взрослыми охотниками или рыболовами по разным местам бродит. Среди мальчишек он уже числится бывалым человеком, только жалко, что запоминать дорогу к дальним местам он и не старается.
— Пойду — найду! — уверяет он.
Хороший Ленька друг, а прихвастнуть любит. Подтрунить над приятелями — тоже. А главное — спорить с ним и не берись: не переспорит, так рассердится — без ссоры не обойтись.
А в нашем походе без общего совета да без дружбы никак нельзя. Потому и был у Надежды Григорьевны с Ленькой особый разговор. А нам троим посоветовала она не обижаться особенно по всякому пустяку, стараться заодно держаться, да так, чтобы и Ленька не козырился, был со всеми наравне.
— Тогда и явится настоящая дружба, — сказала она. Может быть, и явится, но начало получилось не совсем складно.
Когда мы высыпали гурьбой из ржаного поля на широкий луг, Ленька, сразу загоревшись, по-командирски махнул рукой:
— Прямо!
Действительно, вдали, прямо перед нами, темнела широкая гряда Ярополческого бора. Но поверни голову направо или налево, перед глазами снова «прямо» будет все тот же бор. Один он шумит на три области: Ивановскую, Горьковскую, Владимирскую. Надвигается на берега Клязьмы и ее притоки густой зеленой стеной, ведет лесного путника по течению воды на Оку и Волгу. И надо нам в этом необозримом зеленом море найти малую точку — сторожку деда Савела.
Мы останавливаемся и советуемся между собой, как быть дальше, какую избрать ближнюю и верную дорогу.
— Никуда не сворачивать!.. Двинули напрямую! — не унимается Ленька.
На его цыганистом смуглом лице проступает задорный румянец, завернувшиеся в крутые кольца вихры, небрежно отброшенные со лба, упрямо лезут на бескозырку, блестящие черные глаза так и стреляют горячей искоркой то по старшему, то по Ярополческому бору. Взыграло, видно, у Леньки ретивое.
В запальчивости небрежно двинул шершавым рукавом по подбородку, И из нижней губы, растрескавшейся от ветра и солнца, проступила капелька крови. Ленька зло прикусывает и полирует губу крепкими белыми зубами, которые любит пускать в дело и при ломке ивняка на корзины, и при отчаянной схватке с более сильным противником.
Он каждую минуту хочет чего-то нового, небывалого. Поход без приключений для него все равно, что студень без горчицы — ни слезы, ни радости. Где побывал несколько раз, туда его уже и не тянет. Обычная дорога или тропинка, по которой каждый ходит, тоже не интересна. И сейчас Леньке хочется пройти именно там, где никто не ходил.
— Первые новую дорогу проложим! — задевает Ленька наши слабые струнки. Кто же откажется первым быть!
Не встречая возражений, он с победным видом озирает нас.
— Тронулись!
Призыв Леньки, в котором дерзко звучит какая-то возбуждающая отвага и отчаянная решимость, и меня будоражит. Так и тянет шагнуть за пылким другом следом по избранному им нехоженому пути.
Неторопливый на слова и действия Павка терзает в руках былинку, ожидает спокойно, что скажет старший. А Костя Беленький, моргая светлыми ресницами, негромко замечает:
— Прямо только вороны летают. Вот если бы у нас крылья были, тогда другое дело. А теперь хорошо еще, если с тропинки не собьемся.
И потому, что сказал он это мягко, как-то мечтательно, мне вдруг будто жалко стало Костю и показалось всерьез обидным, что ни у него, ни у всех нас нет крыльев.
При спокойных словах старшего разгоревшийся Ленька, не встретив поддержки, тоже потух. И снова мы выстроились гуськом вслед за Костей на луговой тропинке. В траве ее след чуть заметен. Видно, не часто бывают на этой стежке прохожие.
Смотрите на след внимательно, — просительно предупреждает Костя, нащупывая глазами направление. — Не потерять бы его. Пошли потихоньку.
Мы все шагали и шагали лугом, пока тропинка не привела к болоту. Узкое оно, длинное. По самой середине крохотный ручеек бежит, а по краям осока растет — густая, высокая. И никакого мосточка через болотину не видно.
Стали обхода искать. Налево попробовали — там озеро начинается; справа, по кустам ольховника, — топь непролазная.
Что делать?
Место глухое и незнакомое. Немножко жутко. Далеко уже мы от своей деревни ушли. Верст десять, должно быть, шаг за шагом отмерили, не меньше. И без того от долгой Дороги первый пыл уже начинает заметно остывать, а тут еще новая помеха.
Стоим, раздумывая, как быть. Ленька Зинцов по болоту кочки рассматривает, пробует их ногой. Встал на одну.
Дрожит она под ногой, но держит. На другую, подальше переступил.
— Ленька, смотри сорвешься! — подает голос Павка Дудочкин.
А Зинцов будто только и ждал этого предупреждения.
— Не твоя забота!
На третью, на четвертую кочку перешагнул. Чем дальше, тем смелее. Вот уже до самого ручейка добрался, кричит:
— За мной шагайте! Здесь струйка в ниточку — разом перепрыгнем.
Не успел договорить — бултых в грязь, по самый пояс. Бескозырка, мелькнув лентами, на другую сторону ручейка перелетела. И сам Ленька ползком, на четвереньках, на другой берег перебирается, хлюпает руками и ногами, горбатым мешком за спиной осоку раздвигает.
Добрался, выскочил у дубка на бугорок. Босыми подошвами о землю притопывает, грязь отряхивает. Черные суконные штаны от болотной ржавчины рыжими стали. Обвисают на животе, раскатавшимися загибами по земле волочатся, под самые пятки лезут. Гимнастерка ниже пояса широкой полосой точно в краске вымазана.
А Леньке и горя мало. Еще комедии разыгрывает.
— Все в порядке, товарищ старший! Переходите смело!
Только мы сначала сучьев из ольховника натаскали, переход намостили, а потом уже и перебрались потихоньку, сухие и невредимые.
Дело мастера боится
Мы стоим на бугре и зовем в три голоса:
— Лень-ка-а!.. Лень-ка-а!..
Хочется поскорее взглянуть на него, натешиться вволю, разыграть, как пыхтел он по болоту бегемотом. Мне не терпится предложить Леньке свои услуги, помочь ему веревочкой штаны подвязать, чтобы совсем не съехали от тяжести.
А Леньки нет. Стоит на бугре дубок. Под его ветвями костер горит. На нижней ветке дерева Ленькины штаны висят, шоколадной грязью в огонь шлепают, и… никого. Куда же Ленька запропастился?!
Мы переглядываемся в недоумении: мало ли разных фокусов вытворял Зинцов в деревне и школе, но не мог же он без штанов в Ярополческий бор уйти.
Павка рупором подносит ладони к губам и трубит.
— Лень-ка-а! Где ты-ы?!
— Ту-у-та! — таинственным и протяжным стоном раздается из осоки, в пяти шагах от костра.
Артист Ленька — под водяного царя играет. Помедлил минутку и снова замогильным голосом о себе знать дает:
— Когда штаны подсохнут — сюда-а бросайте!
И сразу всем становится весело оттого, что «водяному царю» понадобились сухие штаны.
Другой на месте Леньки задумался бы, куда ему теперь с такими грязными пудовыми брюками заявиться можно, чтобы людей не насмешить, какая дома взбучка будет за испорченную гимнастерку. А наш друг не унывает. Уже своим, совершенно естественным голосом деловито просит подать ему в осоку горшок с кашей.
— Там он, в сумке, около дубка… Ложку не позабудьте.
— Принимай, — протягиваю я, разглядев поднятые над осокой две руки.
Не теряя времени даром, мы тоже развязываем походные мешочки с харчами. Хлеб и вареное мясо в поле кажутся куда вкуснее, чем дома, за столом, особенно если режешь их своим складным ножичком.
Ножа нет только у Леньки. Но каша не говядина, она и деревянной ложки слушается. Поэтому «водяной царь» управляется с кашей удивительно быстро.
Потом над осокой появляются Ленькина голова, плечи. Преувеличенно старательно вытягивая книзу гимнастерку, он меленькими шажками бежит к берегу и, отыскав низкорослый кустик у края болота, прячет под него пустой горшок.
— На обратном пути захватим.
Через несколько минут в осоку летят, грузно распластавшись по воздуху, хотя и не просушенные, зато густо прокопченные на костре штаны. Ленька подхватывает их на лету и скоро появляется перед нами в полном дорожном облачении.
Он снова готов в путь, только хочет вырезать палку «на всякий дорожный случай».
Костя Беленький, как старший, показывает пример доброго товарищества. Он протягивает Леньке свой складной замечательный ножичек с коричневыми костяными щечками— подарок отца.
— Бери!
Но, скрывшись за деревьями, вместо палки Ленька вырезает на первой попавшейся ольхе:
Тонул — не утонул.
Л.З.
15. VI 192
Последняя цифра не дорезана. Когда мы подошли, на ее месте торчал глубоко загнанный в дерево кончик замечательного Костиного ножичка.
— Ну вот… я так и знал, — растерянно сказал Костя, смотря не на Леньку, а на светлую металлическую черточку в коричневом стволе ольхи.
Да он сам… понимаешь, — смутился никогда не смущающийся Ленька.
Наш старший машинально складывает и раскладывает обломок, будто от этого ножик может вырасти.
— Тебе дали как товарищу. А ты…
Нет, Костя решительно не умеет сердиться. Он и упрекает, будто печальную книжку читает.
Нас зло берет на Леньку. А Костю жалко.
Рыжий Павка усиленно морщит брови — прикидывает, нельзя ли как поправить дело.
— Да… напрочь сломил, — серьезно соглашается он с Костей, словно и без того не видно, что напрочь.
Павка тугодум, без нужды с разговорами не торопится. Привык в кузнице мехом угли в горне раздувать. Скажет отец «подуй» — подует, скажет «довольно» — перестанет. И все молча.
Но уж если требуется слово сказать, которое за него никто не скажет и за которое надо ответ держать, тогда подумает. Зато будет слово — олово, Павкой сказано — будет сделано. За такую твердость ценят и уважают Павку товарищи.
Видать, и сейчас навертывается у него какое-то «слово-олово». Не зря в усердном раздумье передвигает он с боку на бок свою кепчонку на рыжей макушке. Нам и в голову не приходит, что сломанные ножи, кочерги, косы, железные грабли — это по его кузнечной части. Тогда Павка сам напоминает о себе.
— Можно припаять! — неестественно громко заявляет он.
Мы с изумлением смотрим на молчаливого, скромного друга.
Не удержавшись, я переспрашиваю:
— Чего? Обломки к ножу можно припаять?
От смущения все лицо Павки становится краснее самых красных веснушек.
— Можно! — сдержаннее, но тверже, решительнее прежнего подтверждает он свое явно немыслимое обещание — Такой состав есть. Припаяю!
И, нащупав что-то в сумке за спиной, стягивает с плеч веревочные лямки.
— Вы идите. Я догоню. Сейчас все устрою…
— Ну вот!.. Значит, все в порядке, — моментально преображается беспечный Ленька Зинцов. — Я же говорил, что все в порядке… Павка, иду к тебе в помощники!
— Только не мешать! — поднимает Павка жесткую, мелко потрескавшуюся ладонь, ограждая себя от подобной помощи.
— Отступаюсь, отступаюсь! — задним ходом поспешно подается Ленька, пытаясь вызвать смех закругленными в испуге глазами.
И тут же в ответ на свирепые взгляды Павки с глуповатым смирением замечает:
— Дело мастера боится. Верно, что ли, слово-олово?.. Пошли, ребята!
Павка перетряхивает свою сумку, достает что-то из уголка и прячет в карман. Сгруживает и раздувает угли в костре, затем бежит к злополучной ольхе. Возле Ленькиной надписи усердно ковыряет древесину, и мы догадываемся, что он вытаскивает кончик обломанного ножа.
Костя нерешительно мнется еще минуту, раздумывая, не забрать ли у Павки то, что осталось от ножа, затем с безнадежным видом машет рукой: все равно, мол, испорчен тятькин подарок.
— Пошли.
И все мы уверены в невозможности припаять отломанное, и обидно за Павку — зачем он легковесным воробушком, впервые наверно, пустил на ветер решительное слово? Зачем пришло ему в голову так самонадеянно дать друзьям немыслимое для выполнения обещание? Даже радостное настроение как-то потускнело. Нет той непринужденной веселости, которая чувствовалась вначале.
Тихо и грустно стало не только в нашей компании. И поле будто загрустило. И Ярополческий бор заволокло какой-то неясной серой дымкой. Чего проще — завести бы разговор. И он не получается. О чем бы ни заговорили, все сломанный ножичек припоминается.
Шагаем молча. В ожидании, пока подойдет Павка, еле ноги передвигаем. И уже заранее не по себе становится при мысли, как загорится краской стыда наш друг, передавая Косте Беленькому тот же поломанный, да еще, наверно, и покореженный дополнительно ножик.
Уверенный, что именно так и будет, я стараюсь держаться в сторонке, чтобы не видеть эту неловкую сцену. Костя тоже занят своими мыслями. И Ленька Зинцов присмирел.
Позади слышен приближающийся неровный топот и тяжелое посапывание запыхавшегося Павки.
«Не оглядываться, пусть догадается присоединиться незаметно», — мелькает утешительная надежда.
Куда там! Павка, словно нарочно, старательно привлекает к себе внимание: громко отпыхивается, бренчит медяками в кармане. С разбегу подлетает прямо к Косте.
— Вот, готово!.. Никакой трещины незаметно… Блестит, как новенький!
На подобное диво нельзя не обернуться.
Вместе с Ленькой мы подскакиваем к Павке и Косте и, ошарашенные неожиданностью, только глаза таращим. В руках у Павки разложенный Костин ножик с коричневыми костяными щечками и блестящими в них желтыми пятнышками гвоздей, действительно целехонек.
— Вот это здорово! — опамятовавшись от удивления, произносит, наконец, Костя.
— Вот это да! — искренне вырывается у Леньки. — Точно: дело мастера боится!
— Бери! — с беспечностью, подобной Костиной, когда он бросал свой ножик Леньке, протягивает Павка обновленное сокровище.
Солнце тронуло узкий клинышек стали и блеснуло по лицам светлым зайчиком. Всем нам стало веселее.
Таившийся в траве перепел закричал вдруг звонко и задорно. Свежим ветром повеяло от придорожных кустов. Нелюдимый репейник и тот словно заулыбался, раскачивая малиновыми цветами в зеленых колючих чашечках. Прояснился, влечет к себе с новой силой Ярополческий старый бор.
…Оставим на время, читатель, нераскрытым Павкин секрет удивительного исцеления.
Добрый попутчик
— Раздайся, народ, Павел Дудочкин идет!
Так выражает свой восторг необыкновенным мастерством друга Ленька Зинцов. Костя Беленький вдвойне доволен, сияет от счастья: и ножик исцелен, и Павка на высоте оказался. Толковые подобрались в поход ребята, компанейские. С такими и в беде не пропадешь. От избытка чувств тихого и мечтательного старшего даже на песни потянуло.
— Заведем негромкую? — обращается он с несмелым вопросом.
— Грянем «Варяга»! — предлагает Ленька.
— «Варяга» так «Варяга», — спокойно соглашается старший.
В середину Павла, Павел — запевала! — выдвигает Зинцов Павку Дудочкина на самый вид.
Находит иногда на Леньку такая струнка, когда и говорить он начинает стихами.
— Поднимай давай! — пристраивается Зинцов сбоку Павки. — Не стесняйся, греми шибче!
От запевного выкрика Павки над ближним озером с испуганным кряком взлетает утка, шарахается в сторону и, опрокидываясь на крыло, скрывается за тростниками.
Павкин запев мы подхватываем громко, да не дружно, будто вразнобой дрова рубим. Смелости не хватает. Все думается: «Вот сейчас подфальшу, вот подкрикну некстати».
Гиблое дело, когда пойдут одолевать такие думы. В песне главное — смелость, уверенность нужна, а голос найдется — не у соседа занимать. Не верь самому себе, что ты плохо поешь, верь, что хорошо поешь: с чувством, с толком — обязательно получится.
А у нас не получается: никак не можем смелости набраться. И хотя «врагу не сдается наш гордый «Варяг»», а нам, пожалуй, придется все-таки сдаться — прекратить, нестройные, вразнобой, выкрики. И вдруг: «Тинь-тили-линь».
Откуда ни возьмись в руках у Леньки появилась старая, с потертым и осыпавшимся красным лаком губная гармошка Древнего, довоенного образца; мелко выпиленными квадратиками так и заходила с переливами в Ленькиних губах туда-сюда. И где только раскопал ее Ленька?
Неказистая с виду инструментина, а песне хорошо помогает. Пошло у нас дело на лад.
Под музыку да песни и шаг спорее.
Незаметно слепая тропинка на широкую проезжую дорогу вывела. Прохожие на пути встречаются. Незнакомое стадо пасется невдалеке.
Пастух, прислонившись к межевому столбу, слушает наши песни. Забавные телята, сердито избычась, смотрят пристальными глазами и, взбрыкнув, вприпрыжку разбегаются по сторонам. Сытые коровы, горбатясь и лениво отворачивая рога, нехотя уступают нам дорогу. И в незнакомых местах мы начинаем чувствовать себя свободно и уверенно, как на задворках родной деревни Зеленый Дол.
В пути обгоняем медлительных пешеходов, кланяемся им с почтенным и степенным видом.
— Мир дорогой!
— Добро пожаловать! — отступают они в сторону и, пропустив нас вперед, провожают одобрительными взглядами.
По пути мы собираем цветы, с березового накатника над луговым ручьем достаем Ленькиной бескозыркой холодную ключевую воду. Она чистая, как слезка, студеная до ломоты в зубах.
Вот так же, наверно, пили из родников живую и сильную воду старинные сказочные богатыри, отдыхали под развесистым дубом на берегу ключа, пустив златогривых коней гулять по широкому лугу.
И нам, лесным путешественникам и «охотникам за сказками», как в шутку назвала нас на прощанье Надежда Григорьевна, тоже не мешало бы отдохнуть у ручейка. Хотя на берегу нет могучего дуба, зато есть такая береза, из опущенных ветвей которой хоть косы заплетай.
Признаваться, что я здорово устал, нет никакой охоты. Поэтому о своем желании я даю понять старшему только намеком.
Костя Беленький, оказывается, раньше меня облюбовал здесь место для отдыха.
Мы ложимся в высокой траве, густо прошитой луговыми цветами, и слушаем, как знакомый уже нам пастух у межевого столба — владимирский рожечник — выигрывает на дудочке «В саду ягодка малинка». Его стадо от жары и оводов спустилось в озеро. Над поверхностью воды видны лишь спины да головы коров. Мокрые хвосты, рассыпая разноцветные водяные брызги, шлепают по спинам.
За ручейком, в той стороне, куда лежит наш путь, стройно тянутся в небо облитые солнцем желтые, темно-коричневые, светло-коричневые стволы сосновой рощи. Даже в такой ясный и безветренный день, как сегодня, она немолчно и ровно шумит, будто в глубине ее спешит и спешит, не останавливаясь ни на минуту, приближающийся поезд, торопится выбраться на опушку и никак не может выбраться.
Дорога на рощу густо засыпала белым, выцветшим от солнца текучим песком.
Недолго мы пробыли в пути, а все начинаем примечать понемногу, что и деревья не без разбора растут. Каждое выбирает местечко по своему вкусу. Ольха и осина — те поближе к болоту жмутся. Береза в соседстве с ними повыше и потверже почвы ищет. Дуб за черную землю любит держаться, а сосна — та старается на пески забраться. Даже вертячий, клубящийся на ветру песок ее не пугает: и в него корни пускает. И цвет ствола сосна берет от песка и солнца.
Удобно, лежа в тени под березой, перебирать неторопливо все, что на ум придет.
Высоко в небе, распластав широкие крылья, кружит одинокий коршун. Следя за его полетом, я завидую, как легко ему и привольно. Чуть шевельнул крылом — и кругами ложатся позади несчитанные версты. За один день полмира можно облететь. Вспоминаю слова Кости Беленького, и становится не только досадно, но и по-настоящему жалко, что у нас нет крыльев.
Пройденные двадцать километров дают себя знать. Подошвы ног начинают болеть. Ох, как трудно будет подняться на них после передышки!
От ног усталость расходится по всему телу. Непривычный к дневному отдыху, сейчас я с удовольствием поспал бы часок-другой.
— Подвигайся ко мне, — зовет Ленька Зинцов. — Клади голову на мешок.
Он ворошит мои волосы пятерней, спрашивает Костю Беленького:
— Как такие называются?
— Русые.
— У тебя тоже русые?
— Ну… посветлее. Выгорели.
— A y Павки вон, наоборот, от солнца только краснее становятся.
Отсюда у Леньки следует вывод:
— Надо бы к рыжим волосам красные глаза придумать… Чтобы соответствие было.
Мои карие, по мнению Леньки, тоже надо подбелить бы немножко.
Павка Дудочкин лежит вверх животом, не обращая никакого внимания на Ленькину болтовню.
Костя Беленький дремлет, прислонившись спиной к стволу березы.
Невидимая птица назойливо, с присвистом, допрашивает из укрытия: «Чьи вы?.. Чьи вы?.. Чьи вы?..»
Кричит она так близко, что, кажись, протяни руку — и поймаешь.
Павка постучал о землю пяткой — умолкла. Только протянул ногу, снова всполошилась: «Что ты! Что ты! Что ты!»
— Раздавишь, мастер! — усмехнулся Ленька. — Птенцов сиротами сделаешь.
Павка пыжится, подыскивая на шутку с подковыркой достойный ответ. Не найдя подходящего слова, серчает.
— Надоела! — говорит он недовольно.
— Тогда пошугай ее, пока мы спим, — немедленно соглашается Ленька и теснее грудит мешок под головы.
От трав и цветов веет истомой. Оводы с налету стремительно ударяются о стебли трав, падают и жужжат возле самого уха, стараясь снова подняться на воздух.
Засыпая, я мечтаю о ковре-самолете, который донесет нас до Ярополческого бора, прямо к избушке деда Савела.
Просыпаюсь от громкого оклика:
— Куда собрались, молодцы? Садитесь — подвезу, коль попутчики.
Высокий мужчина с черной густой бородой стоит возле ручья. В руках у него широкое ведро плещет через край прозрачными струйками. К воде тянется, от нетерпения потряхивая гривой и раздувая ноздри, бойкая гнедая лошадка, запряженная в крепкий деревенский рыдван.
Напоив ее, чернобородый приглашает:
— Размещайтесь, кому как нравится.
— Не без добрых душ на свете, — шепчу я Косте строчки стихотворения из учебника, забираясь на повозку.
Охапка свеженакошенной травы пригодилась очень кстати. Ее мы разровняли по всей повозке, и каждому нашлось удобное местечко.
Расторопная послухмяная лошадка везла нас мимо просяных и картофельных полосок, мимо сосновой рощи, где все шумел, ни на минуту не умолкая, все спешил и никак не мог добраться до опушки приближающийся поезд.
Нам было и хорошо и неловко сидеть и молчать. А заговорить никто не решался — так черна и устрашающа была у кучера борода. Он понял причину нашей робости и рассмеялся. Тогда сама борода вместе с ним, кажется, заулыбалась.
— Что, черноглаз, присмирел? На своей улице небось волчком, а здесь — молчком, — сразу определил он неугомонный характер Леньки Зинцова.
От его слов и нам весело. Отвечаем, как умеем. И пошла беседа, будто мы с чернобородым всю жизнь знакомы. Скоро мы уже знали, что зовут его дядя Федор. Возвращается он с базара к себе на сторожку. Что у него сынишка Боря — такой же, как и мы, озорник. А дочку у дяди Федора зовут Нина. Купил ей дядя Федор в городе сачок для ловли бабочек. Вот и поторапливается доставить покупку. Довезет он нас до крайней лесной деревни — Кокушкино.
— А от Кокушкина до сторожки деда Савела рукой подать, — сказал дядя Федор. — Давай, давай, Гнедко, повеселее ногами перебирай!
Дядя Федор подергивает вожжами, и кругленькая сытая лошадка рысцой трясет нас через деревню. Возле переулка собрался народ, как на гулянье — ставит «помочью» новый дом своему односельчанину.
За годы двух войн — одна за другой без передышки — оробела, набок посунулась домами деревня. Самое время приводить обветшалое хозяйство в порядок. У кого силы не хватает в одиночку ремонт или стройку одолеть, тому на помощь все село приходит. Вместо отдыха в воскресный день бедняку из леса срубы вывезут на своих лошадях, в другое воскресенье те же срубы на мох поставят — вот и «помочь».
И радостно видеть, как общими силами, с веселыми шутками да прибаутками на месте старого ставят крестьяне еще один новый дом.
Низенький крепкий мужичок стоит на верху сруба с веревкой в руках, соколом смотрит вниз.
— Эй, вы там — чего задремали? Пошевеливайтесь!
— Зацепили, готово! — летит снизу. И, чуть качнувшись, мужичок запевает:
— Эй, ребята, встань почаще. Если надо — слона втащим.
— Взя-али! — натягивает он веревку. Ему помогают трое.
Такая же группа орудует веревкой на другом углу сруба. Тяжелое струганое бревно, постукивая, поднимается по крутым катам.
— Клади на мох! — весело командует запевала. Женщины проворно и ровно настилают по срубу мох и паклю, готовя плотную и мягкую лежку для следующего бревна.
Новый дом растет на наших глазах. Парни показывают свою силу и сноровку в работе. Девушки запевают веселую песню. Все так радостно и необычно. И мне думается, что именно от этой деревни, от этой избы, которую миром ставят односельчане своему растерявшемуся от счастья бедному соседу, начинается тот счастливый край, где привольно живется сказкам.
Жизнь, до этого ограниченная для нас своей деревней и полем, встает перед глазами шире, наряднее и светлее. В новом месте все и выглядит по-новому, приобретает особую, манящую свежесть.
И скромненькая незнакомая деревушка словно прихорошилась, помолодела. Резные голубые наличники у дома с палисадником, хмель, густо опутавший и поддерживающй полусгнивший старый плетень, цветы герани в раскрытом окне, позеленевшая от плесени малюсенькая часовенка из дикого камня на выезде из деревни — все рисуется светло и приветно.
И шаткий деревянный мостик с упавшими в воду перилами, и одинокая кривая сосна на песчаном холме, и подступающая издали дубрава кажутся в такую минуту удивительными и необычными.
И встречные, которым едва успеваешь поклониться и уже снова прощаешься, кивают в ответ так радушно и приветливо, что жалко с ними расставаться, не сказав доброго слова. И все будто рады нам. И мы всем рады.
Костя Беленький достает карандаш и тетради, подаренные нам Надеждой Григорьевной специально для походных, записей. Под стук и поскрипывание колес он пытается за писать услышанные на постройке дома припевки. Но повозка подпрыгивает. Карандаш царапает и рвет бумагу.
— Не черкай, не забудем, — говорит Ленька.
Довольный разговорчивостью дяди Федора, Костя несмело заводит речь о нашей учительнице, о том, какое напутствие дала она нам в дорогу.
— Забавные вы ребятишки, как я погляжу, — смеется дядя Федор. — Куда же вам сказки? Солить, что ли, будете?
Я оглядываюсь на Костю, на Леньку. Мне совсем неизвестно, как солят сказки.
А дядя Федор уже совсем другим, серьезным голосом ведет речь:
— Интересную задачу вам учительница задала… Что же, сказки — дело хорошее. Как же вы их собирать станете?
Костя смущенно пожимает плечами, пытаясь выразить таким образом свою неопытность и беспомощность.
Кто знает как! Нам бы хоть немножко, чтобы с пустыми руками не вернуться. Вот вы одну расскажете, кто другой еще добавит — так и соберем.
Да ты, парень, хоть и тихонький, а, видать, хитренький, — с довольным изумлением качает головой лесник. — Нет, брат, с меня в таком деле взятки гладки. Я сказки только слушать умею. Вот дед Савел — тот другое дело. Тот мастер… Ты, увалень, чего подслушиваешь! — обрывает он плавную речь и хлопает коня вожжами. — До вечера проморить нас хочешь?
Дядя Федор не зря упомянул про вечер. От дубовой рощи впереди начинает веять прохладой. Солнце уже не наверху, над нами, а далеко сбоку. От нашей компании на повозке, от лошади, от высокой тонкой дуги бегут стороной длинные тени.
В дубраве звенит соловей.
Дядя Федор, засматривая в глубину рощи, ищет маленького певца.
— Последние дни тешится птаха, — сочувственно замечает он. — Недолго ему петь осталось.
Мы узнаем, что соловей будет петь для своей подруги на вечерней и утренней заре до того дня, пока не появятся на свет птенцы.
— А появились — и конец соловьиным трелям, — говорит дядя Федор. — Будет он мошек ловить, червяков для птенцов носить, гнездо охранять. И песенка у него будет короткая. Эх, детвора, детвора! Заботы-то о ней сколько! — задумчиво вздыхая, с каким-то особенным чувством тепла и ласки говорит чернобородый лесник. — А подросли, оперились — и полетели в разные стороны. У каждого своя песня, своя дорога.
И непонятно: то ли о соловьиных птенцах, то ли о своих детях или вообще о ребятах ведет речь наш новый знакомый из сказочного лесного края.
А дорога бежит да бежит — то рощей, то полянами. Вот и еще одна деревня вырастает перед нами за сосняком. За ней неподалеку, на развилке дорог, так же неожиданно появляется другая.
— Любуйтесь на Кокушкино, — останавливая Гнедка, говорит дядя Федор. — Приехали.
Выше бора
Семь домов в окружении жердяной изгороди — это и есть деревня Кокушкино. Дома ровным рядом построились один к другому, стоят к лесу задом, на красную сторону передом. Вечернее солнышко, разгоревшись на верхушках сосен, заревом пылает в окнах. Старый обомшелый колодец с высоким журавлем над срубом стоит одиноко посредине деревни.
На улице ни души не видно. Только мычит тоскливо теленок, привязанный на длинную веревку к колу на задворках.
В сравнении с Кокушкином наш Зеленый Дол — целый город. У нас есть и кооперация, и изба-читальня, и сельсовет, и пожарный сарай с такими широкими дверями, что в них на паре лошадей можно проехать. А здесь — ничего.
Зато вышки, подобной той, что стоит на песчаном бугре возле Кокушкина, мы никогда не видывали. Даже городская пожарная каланча — и та против нее малютка.
Все мы на такую махину удивляемся, а Зинцов с нее глаз не сводит.
Только взялись сумки разбирать — Леньку с места будто ветром сдуло. Он уже к вышке подлетел. Поспешно работая руками и ногами, забирается вверх по крутой лестнице.
— Ленька, не выдумывай! Быстрее идти надо. Запоздаем! — кричит Костя.
А Леньке и горя мало. Он уже добрался до первой площадки. Посмотрел по сторонам — и выше, ладонями по квадратным перекладинам-ступенькам звучно прихлопывает:
— Я сейчас, быстро! — отзывается он сверху.
Делать нечего — все равно Леньку дождаться надо. Захотелось и нам с высоты на Ярополческий бор взглянуть.
Старая вышка, серая. Издали смотреть — так поднимается над лесом игрушечный домик, будто на макушке высокой сосны шалаш построен. Такой видели мы вышку из своей деревни в ясный день. А вблизи как глянули — картуз с головы валится.
В землю круто четыре толстых бревна вкопаны, чуть клонятся навстречу друг другу. Земля между бревнами — точный квадрат: по каждой стороне две сажени уложишь. На нижние бревна вторые, на вторые — третьи наращены; все тоньше и тоньше, выше и выше.
Плотники прочно бревно к бревну подогнали, кузнецы железными кольцами и скобами скрепили их на стыках. Поднялась вышка острым шпилем под самые облака.
К трем площадкам — одна над другой — три лестницы. По нижней, плотно обхватывая каждую ступеньку, уже забираются Костя и Павка. Я пускаюсь за ними. Лестница зыбкая. Под двоими верхними она так раскачивается, что третьему ступеньки поймать и то не сразу удается. А быть третьим досталось на мою долю. И мне думается, что надо поотстать немного от товарищей, тогда будет удобнее.
Земля уже далеко. Снизу смотреть — совсем не то, что наверх забираться: только ступеньки перед глазами, и пусто кругом, будто весь ты висишь на воздухе, и крепкая еще лестница кажется не такой уж крепкой.
Поотстал — и снова вперед.
Стараясь не глядеть вниз, ставлю ногу на первую площадку. Настоящий пол. Отсюда и по сторонам хорошенько осмотреться можно.
Маленькое Кокушкино передо мной теперь еще меньше. Куры на насесте у крайнего двора выглядят темными комочками не больше скворушек.
Старый дед, что расчищает ток возле соломенного овина, больше походит на бородатого подростка. С высоты он представляется так близко, что до него как будто рукой подать.
Возле жердяной изгороди мычит запутавшийся на привязи рыжий теленок — прыгни и угодишь на спину.
Разворошенная копна прошлогодней соломы виднеется на гумне. Кажется, что стоит раскинуть руки — и до нее долететь можно.
Высота и пугает, и дает чувство крыльев.
Самые высокие сосны в бору вровень с моей головой. И сам я будто расплавился в шумящей лесной тишине.
— Нашу деревню видно! — кричит Ленька со второй площадки. — Флаг над сельсоветом!.. Школа!.. Озеро!..
Можно робеть, но нельзя отставать от товарищей. Такой неписаный закон существует в нашей деревне. Пройдет и год, и другой: ты вырастешь, перестанешь бояться своих детских страхов, но все, при случае, товарищи будут напоминать, как убежал ты от пойманной на крючок лягушки, струсил перейти по тонкой жердочке через кипящий весенний ручей, проскакать в ночное на резвом жеребенке, добраться по стволу старого вяза до грачиного гнезда.
И сейчас мне обязательно нужно добраться вслед за Костей и Павкой до второй площадки.
На полу спокойно, а на лестнице снова дух перехватывает.
«Только не бояться… Только вниз не смотреть», — усердно повторяю я про себя, будто твержу заклинание. Вот и Павка.
— Нет, руку не подавай… Я сам.
— Дядю Федора вижу! — сообщает ликующий Ленька Зинцов уже с третьей, самой высокой площадки.
Нам со второй виден только краешек поляны, по которой ветер укладывает поднятую повозкой дорожную пыль.
Солнце скатывается за далекую гряду бора. Рыжий теленок возле изгороди потемнел и стал черным. Белая рубашка у старика, который расчищает ток на гумне, превратилась в серую. Коньки домов, светившиеся под лучами заката, потускнели.
Приближаясь к вершинам деревьев, солнце разгорается ярким полымем, но не слепит, как днем. Оно растет, растет на наших глазах, будто кто-то невидимый, сидя на дереве, надувает огромный красный шар, от которого зарделись вокруг облака и небо. Плавно, медленно шар опускается все ниже и ниже, висит минуту, зацепившись за вершины деревьев, и осторожно сползает в чащу бора.
Тишина. Лес будто сдвинулся плотнее и замер. Без конца — вдаль — серая густота, отчеркнутая по горизонту алой полосой зари. Все говорит о близком наступлении ночной темноты.
— Ложись спать! — резко нарушая тишину, командует Ленька. — Какого вам еще ночлега нужно?!
Он, примериваясь, вытягивается на полу и сообщает:
— На верхней полке одно место свободное. Есть желающие?
— Хватит дурачиться — тебя ждем, — сдержанно и недовольно замечает старший.
— Ах, ждете? Хорошо делаете!
Не обращая внимания на замечания и упреки, Ленька неторопливо мастерит «галку» из бумаги, приноравливается, как запустить ее половчее.
— А ну, на соревнование! Кто быстрее земли коснется, — бросает он вызов.
«Галка» взмывает вверх, а Ленька, обхватив руками и ногами гладкий столб, стремглав летит книзу.
Через минуту — мы и опомниться хорошенько не успели — три пролета по столбам остались позади Леньки.
И пусть легла еще одна сальная полоса на гимнастерке, пусть лоскутком на столбе остался накладной кармашек — зато земли Зинцов коснулся первым.
Одернул гимнастерку. Зовет нас сердито, повторяя недавние Костины слова:
— Долго еще я вас дожидаться буду?! На сторожку запаздываем!
А «галка» как ударила с разворота Павке в нос, так и осталась лежать на второй площадке.
Станет подниматься на вышку лесник — удивится: «Вишь ты, куда залетела!»
Лесные были
Старший явно не в духе: не получилось, как советовала учительница. Вместо лесной сторожки деда Савела темнота застала нас в Кокушкине. Приходится на перепутье ночлега искать.
Сидим на завалинке крайнего дома, перекоряемся втихомолку, кто виноват, что на ночь на улице бездомными остались. Оказывается, что все виноваты, кроме Леньки Зинцова: он и на болоте нас не задерживал и с вышки спустился самый первый. Если не возражаем, он и сейчас готов дальше идти, ночью в незнакомом лесу сторожку разыскивать. По его разговору даже получается, что это очень хорошо — в темноте идти.
— Красота ночью! — уверяет Ленька. — А звезды над лесом — во! — по кулаку насыпаны. Так что…
— Так что надо о ночлеге задуматься, — осекает Ленькины восторги Костя Беленький.
Мне думается, что лучше всего будет сдвинуться нам потеснее да, никуда не выходя из деревни, так и сидеть на завалинке до утра. Теперь ночи короткие.
— Это верно, — соглашается Костя, — только если ночью не поспишь, и днем дрематься будет.
Он рассуждает так, что лучше всего пойти и переночевать в овине.
— Там и солома найдется. Проспим до утра за милу душу. Тебя мы в срединку положим, — обращается ко мне старший. — Потеснее да потеплее.
Я представляю себе жуткую тишину черного овина на пустынных задворках, темный лаз под него. Вспоминаю страшные сказки про ведьм и домовых, деревенские рассказы про ночные страхи в овинах и прижимаюсь к Косте.
А на улице все темней да темней делается. Хвостатая туча, похожая на трехглавого дракона, распласталась по небу. Таинственно постукивает бадья у колодца. Кто-то невидимый шарит за углом по стене дома. От воображаемых страхов по спине начинают мурашки ползать. Уши так настораживаются, что я будто слышу, как песок на завалинке пищит.
Павка соглашается с Костей.
— Конечно, переспим в овине: и тепло и мягко.
Павке где бы ни спать, только поспать, если время подоспело. Он уже давно позевывает, прикрывая рот ладонями.
— По-ойдем-те, — полусонно поднимается он с завалинки и усерднее прежнего затягивает воздух через широко открытый рот.
Вдруг позади нас окошко стук-стук. Распахнулось на обе стороны. Вздрогнул я, за Костю ухватился.
Оглянулись, а из окошка на нас бабушка смотрит. Кругом нее в раме чернота. Так и жду: засмеется бабка и превратит нас в камень или сама какой-нибудь страшный облик примет. Но бабушка не смеется и никакого облика не принимает, а говорит обыкновенным человеческим голосом:
— Что это вы на ночь глядя по овинам таскаться надумали? Идите-ка ко мне — и переночуете. Сени не заперты.
От человеческого голоса, да еще немного сердитого, на сердце будто легче стало. Приободрились мы, повеселели, Костя торопится отыскать дверь в сенях.
Избушка у бабушки маленькая, углы ветхие. Низкое крылечко набок закачнулось. Дверь скрипит и шаркает по зыбким половицам. За дверью в темноте, дышит кто-то. Вошли мы — перестал дышать.
— Коровой пахнет, — говорит Костя.
Тут и бабушка нам навстречу с коптилкой вышла.
— Сюда, сюда проходите… И без пиджачишек, знать?.. Ночью-то! Ах вы, вольница вы эдакая!
Бабушка журит и журит нас, а сама зажигает семилинейную лампу на крючке под потолком.
Садитесь к столу, нечего у дверей-то толкаться… Катюша, подай скамейку.
Ничего, бабушка, мы и так постоим, — несмело замечает Костя.
А ты не «такай», за «так» деньги не платят. Слушай, чего старшие говорят… Садись вот!
Маленькая белокурая девочка, появившись из-за перегородки, поставила к столу деревянную скамейку и снова спряталась в свой угол. Товарищи мои разговорами с бабушкой занялись, а я помалкиваю — смотрю по сторонам. Возле самой печки в перегородке есть щелка. Когда я не смотрю в ту сторону, Катя в щелку смотрит на нас. Обернусь — спрячется. Вроде игры какой получается.
— Есть, наверно, хотите? — говорит бабушка. — Подождите немного, я сейчас в погреб схожу.
При бабушке мы чувствуем себя стесненно, а без бабушки сразу становится пусто.
Спросили Катю, как ее зовут, а она сказала:
— Вы знаете.
— А бабушку как зовут?
— Бабушка.
— А еще как ее зовут?
— Еще Прасковья Ефремовна.
Бабушка принесла большое глиняное блюдо.
— Садитесь, ешьте! Как вас звать-то? Ну ладно, ладно, хватит разговоры разговаривать. Словами сыт не будешь… Так, значит, Ленька, Павка, Костя-большой и Костя-маленький? Так, что ли? Ешь, маленький, ешь, не робей — большой вырастешь. Пораньше бы пришли, тогда горячим бы накормила.
Бабушка разговаривает без умолку, нося из-за перегородки и раскладывая по столу то хлеб, то ложки с ножом, а то забудет, зачем пошла, и пустая вернется.
Глиняное блюдо на столе до краев наполнено черными мочеными ягодами. От одного погляденья на них сладко и прохладно делается, а нам еще и ложки поданы.
«Хорошо, что у бабки нет горячего, — думается мне, — а то вовек не видать бы нам такого удовольствия».
То же самое, наверно, подразумевает Ленька, когда бросает взгляды исподлобья сначала на блюдо, потом многозначительно посматривает на всех нас по очереди.
Моченые ягоды само по себе угощение редкое, а бабкина ягода к тому же и необычная. Бруснику мочат — та красная и в красном соку плавает. Черника по цвету подходит, но ей по крупноте далеко до бабушкиной ягоды. С этой разве только черная смородина может сравниться, так черную смородину не мочат. Да и по форме смородина не подходит. Бабушкина ягода не круглая, а в длину наподобие сливы повытянута.
И думаю я: «Какой это безвестной ягодой угощает нас бабушка? Узнать бы, как она называется!»
А Прасковья Ефремовна спрашивает, будто подсказывает:
— Не кисловат гонобобель-то? Подсластить бы немножко, да за песком сходить никак не соберусь… Торгует ли у вас кооператив-то?
— Нет, бабушка, не кисловат… Торгует, каждый день торгует.
— Вот и хорошо — значит, с сахаром будем… Работайте, работайте ложками-то, чтобы за ушами хрустело. Ягод не жалейте, скоро свежие поспеют.
Достать хлеб из сумок бабушка нам не разрешает.
— Вы не богатьтесь: дают — так бери, а бьют — так беги. Свой харч еще в лесу пригодится. Там пекарни для вас не будет. А нам с Катюшкой, старому да малому, много ли надо? Кувшин молока да ломоть пирога — вот и сыты. Теперь, слава богу, не голодный год — отмучились. Жизнь-то, видать, по-хорошему оборачивается.
Она притягивает к себе заупрямившуюся от смущения Катю, пускает губами ветерок по белым кудряшкам, греет их затеплившимися карими глазами.
— Верно, Катя? И поясняет нам:
— Внучка это моя. Отец с матерью в городе, а она летом со мной живет. Нравится ей у нас в деревне.
Нам у бабушки тоже нравится. Ее большой круглый каравай, испеченный из чистой просеянной муки, — вкусный и пахучий. Поджаристая корка похрустывает. И аппетит у нас после длинной дороги разыгрался, и угощенье на славу. Теперь без подбадривания хозяйки ложки беспрерывно в пути.
И с той минуты, когда произнесла Прасковья Ефремовна слово «гонобобель», знаем мы: голубика перед нами. Так зовут ее за голубой налет на черном. Впервые объяснила нам такую примету и особенность голубики наша учительница Надежда Григорьевна. Теперь мы и сами умеем эту ягоду распознавать. И обманула нас бабушкина голубика лишь потому, что в воде потеряла свой голубой налет. А что Прасковья Ефремовна гонобобелем ее называет — так это исстари в нашем краю ведется. Бабку не переучивать.
А она рассказывает:
— Чудная ягода — гонобобель! Где гуще дурманом пахнет, там она и растет. Тут куст багульника, тут гонобобель, — тычет она морщинистыми сухими пальцами в разостланную по столу клеенку. — А рядом опять багульник. Так и идут вперемежку.
И бабушка спешит поведать, как она однажды совсем обеспамятовалась, собирая гонобобель.
— Девчонка еще я тогда была, несмышленая. Собираю гонобобель, а от багульника дурманом так и несет, даже голова кружится. Тяжелый запах от багульника, удушливый. Притерпелась и будто уж не слышу запаха. А гонобобель крупный, окатистый. «За час, — думаю, — полную корзину наберу». Подружкам и голоса не подаю, совсем про них забыла. Потом закружилось-закружилось вдруг в голове, в глазах замельтешило, и ноги будто не мои — подкашиваются, как у пьяного… Не знала я тогда, что багульник так задурманить может. Сколько времени потом на ветру отсиживалась… В лес идете — не надумайте отдыхать, хуже того — спать лечь в багульнике!
Нам приятно, что бабушка о нас заботится. После того как ягоды съели да по стакану молока выпили, будто родными мы ей стали. И уже не удивляет ее, что мы по своему желанию в лес, как на прогулку, идем. Подбадривает нас.
— Хорошо теперь в лесу, душа радуется. А черника, земляника пойдут — тогда хоть и домой не уходи с утра до вечера. Мы с Катюшей полюбопытствовали на днях: ох, и густо засела ягода в этом году! Если всю собрать, на что велика Москва — и ее бы накормили.
— А медведи в бору водятся? — осмелев после обеда, подает голос Ленька.
По басовитому голосу, каким задал он свой вопрос, можно подумать, что Ленька явился сюда специально для дрессировки диких медведей и теперь интересуется: «Не можете ли вы показать нам хотя бы парочку для начала?»
Бабушка не училась в школе, а не хуже нашего старшего порядок в разговоре держать умеет: нуль внимания на Ленькино хвастовство. Отвечает по существу вопроса:
— Медведя вы, положим, не увидите. А если он вас увидит — сам в чащобу уйдет… Ложитесь-ка спать, я вам расскажу, как медведя видела. В темноте-то послушаешь, тогда… как тебя?.. Леня?.. Тогда, Леня, храбриться, пожалуй, перестанешь.
Мы ложимся на широком войлоке в одном углу, бабушка с Катей на деревянной кровати — в другом.
Бабушка, а ты живого медведя видела? — неожиданно раздается в темноте песенный голосок Кати.
Конечно, не мертвого. В лесу мертвых медведей не бывает.
А куда же мертвые медведи уходят? — не унимается Катя.
Молодец девчонка! — больно толкает меня Ленька в бок и сам, вздрагивая, беззвучно смеется.
— Ничего он вам не сделал? — боясь, что рассказ закончится одним обещанием, степенно спрашивает Костя.
— А чего он сделает? Так, один испуг. И бабушка заводит:
— Было мне тогда… дай бог память… лет… лет восемнадцать, должно быть. Собрались мы с подругой, с Маришкой, за малиной в лес. Сосед дядя Яков с нами пошел — проверить, не появились ли где тетеревиные выводки. Степенный был мужик, хозяйственный, как сейчас гляжу. Тоже кузовок с собой прихватил.
Дядя Яков пошел по лесу бродить, а мы с Маришкой сразу в малинник забрались. Тепло в малиннике. А я с утра не выспалась. Разморило меня, в сон так и клонит. Присела на сушинку да и задремала. Долго ли время прошло — не знаю. Только слышу вдруг: Маришка как закричит, ну, самым дурным голосом. Вскочила я. А прямо на меня черный, мохнатый. На дыбы встал. Стоим глаза в глаза. Потом как рявкнет, у меня аж сердце захолонуло. А он кидком на сторону, да и пошел кусты ломать. Лес затрещал, загремел весь.
Дядя Яков, слышу, кричит: «Эй, эй, бабы, держи его!» Топором по деревьям стучит.
Тут ко мне Маришка подбежала, дрожит, слова выговорить не может. И я не могу.
Спасибо, дядя Яков подоспел. Смеется. «Что, — говорит, — с гостем потолковали?»
Увидала Маришка, что дядя Яков веселый, и сама будто отошла от страха. Мне тоже легче сделалось.
«Медведь ведь был», — говорит дядя Яков.
А теперь мы и сами понимаем, что медведь.
«Ну и шуганули мы его в три голоса да с деревянным пристуком, — шутит дядя Яков. — Паранька, — говорит, — молодец кричать».
А я даже не помню, чтобы крикнула.
«Ничего, что не помнишь. Теперь наше дело сделано. Пиши косолапому заупокойную. Отходил по малину».
Подбодрил нас дядя Яков, спасибо ему.
Вот так, робятки, я медведя и видела. И, надо только подумать, с тех пор будто меньше их бояться стала. Поняла, что если мы и робеем, так у медведя к человеку еще больше страх. А дядя Яков уверял, что медведь человека никогда не тронет, только ты его не тронь.
Бабушка замолчала прислушиваясь. Она хотела проверить, спим мы или не спим.
В нашем углу было тихо. Потом Костя Беленький спросил:
— А почему дядя Яков про заупокойную сказал? Ведь он не убил медведя-то?
— Так вы не спите?
— Слушаем. Интересно очень.
— А Катюшка моя вон уснула… Спи, спи, шалунья! По легкому скрипу и шуршанию на кровати можно было без труда представить, как бабушка осторожно, чтобы не потревожить, натягивает одеяло на внучку, выравнивает под головой подушку.
Закончив шуршать, сказала негромко:
— Тоже любительница россказни слушать. Рассказывай с утра до вечера — и все ей мало… Так вы про медведя-то?.. Нет, не убил. Чем же его дядя Яков без ружья убить мог!..
А про заупокойную… не знаю, как вам сказать. Правда, серьезный он был, дядя-то Яков. Он зря не скажет. А может быть, и пошутил. Чего не бывает.
Костя никак не может понять, в чем же тут шутка. И бабушка объясняет:
— А дядя Яков сказал, что медведь ни за что не переживет такого страха. Пугливы они, медведи-то, это верно. Только не знаю… Вот у Грушки, у нее, точно, был такой случай.
Тут мы на четыре голоса начинаем упрашивать бабушку вспомнить и этот случай.
Вот-вот, и моя Катюшка точно так же! — Вздохнула бабка, все-таки рассказывает. И не торопится особенно.
С Грушкой, значит, это случилось. В девчонках подружки мы с ней были. Ну, и отчаянная она была! Ни одному парнишке, бывало, ни в чем не уступит. А отец у Грушки сердитый. Федотом звали, Федот Сердитый.
Вот и пропади у них теленок. Вечером на петровки дело было — праздник такой в деревне. Федот Сердитый ругается, ну и Грушку, конечно, упрекает, что проглядела. А она какая, Грушка-то, — огонь! Схватила хворостину — да и в лес.
В вечернюю-то пору не каждый мужик на это решится, а она пошла. Бродила-бродила, и все по-пустому: нет нигде теленка. Только послышалось ей раз, что шуршит что-то за кустом, шевелится. Пригнулась пониже: от земли лучше видно. Присмотрелась. «Так и есть, — подумала Грушка, — это он, бычишка, затаился. Развалился под кустом можжевельника и дремлет».
Взяла тут Грушку обида. «Ах ты, — говорит, — бродяга бездомный! А я-то из-за тебя мучаюсь… Пошел домой!»
Да сгоряча и хлесть бычка хворостиной по боку.
А это медведь. Взревел он, ну прямо с надрывом как-то, будто оторвалось что у него в нутре, и лесом припустился. Так что вы думаете: через три дня наши мужики нашли его мертвым. Со страха, говорят, помер…
— Бабушка, а умирать-то он убежал из леса? — раздался неожиданно тоненький голосок Кати. Видно, все думала она и никак не могла придумать, почему мертвых медведей в лесу не бывает, куда они деваются.
— Да ты разве не спишь?! — ахнула Прасковья Ефремовна.
Не сплю, — призналась Катя. — Сказку слушаю.
Еще расскажи.
Бабка ее и упрекает, и уговаривает, а Катя знай свое затвердила:
— Расскажи, а то спать не буду! — Села на кровати. — Вот так и буду сидеть!
Бабушка ей объясняет, что ночью спать надо, что посторонних мальчиков нельзя беспокоить. Катя только засмеялась. Весело засмеялась.
— Посторонние мальчики тоже любят сказки слушать, — сказала она.
Пришлось Прасковье Ефремовне подступившую дрему прогнать. Присела на кровати, плечом к ее тесовой спинке привалилась. Катя бабке на колени голову пристроила. И нам вместе с Катей послушать бабкину сказку довелось.
Письмо учительнице
Утро вставало ясное. Оно памятно мне по золотому солнечному мечу. Когда я проснулся, меч висел в воздухе, пронизав через боковое оконце всю бабушкину избушку. Бесчисленные живые знаки, извиваясь, вспыхивая и исчезая, мелькали по ослепительно сияющему острию. И сам меч, широкой полосой пересекая комнату наискосок, медленно надвигался, нависая над нашими головами, над бабушкиным пестрым покрывалом в уголке.
Таким и до сих пор вижу я начало нашего единственного утра в Кокушкине.
Ленька Зинцов спугнул мое разыгравшееся воображение, в котором уже складывалось что-то грозно-героическое о роковом таинственном мече. Он с подбросом вверх откинул ногами одеяло, шитое из разноцветных клинышков, и неведомые знаки густо завихрились, посерели, пылью притускнили блестящий солнечный меч.
Оставшись без одевки, Костя быстро встрепенулся. Щуря белесые ресницы, он старался отыскать глазами бабушку, но Прасковьи Ефремовны и след простыл. Деревянная кровать в противоположном углу была пуста.
Мы не слышали, когда встала и успела прибрать свою постель Прасковья Ефремовна, не знали, куда ушла она. Не было и Кати. Одни, за хозяев, остались мы во всем бабушкином доме.
Большое доверие оказала нам Прасковья Ефремовна, не побоялась, что наозорничаем без присмотра. И захотелось нам за все хорошее обязательно сделать для нее что-нибудь такое, чтобы не худым, а добрым словом вспоминала бабушка своих случайных гостей. Пусть знает, что не лентяи и не неряхи — заботливые, дельные и сообразительные ребята воспитываются в Зеленодольской школе.
Мигом растормошили заспавшегося Павку Дудочкина.
— Вставай! Хватит дрыхнуть!
Разыскали в сенях подвешенный на цепочке глиняный умывальник на два рожка. Ополоснулись наскоро — и за дела по хозяйству.
Никогда не доводилось нам самим задумываться, что нужно сделать с утра хозяйке, чтобы в доме был полный порядок.
Увидел Ленька пустые ведра за перегородкой у печки — и марш за водой на колодец. Павку Дудочкина старший послал хворост рубить: большая куча его накопилась за окном возле поваленного набок чурбана.
На мою долю достался березовый веник.
— Натоптали вчера, так нужно прибрать за собой, — сказал Костя.
Сам он взялся закатывать войлок, на котором мы спали. Вдвоем мы затолкали его на полати, устроенные над самой дверью. Туда же уложили одеяло и два мешка с соломой, служившие нашим изголовьем.
Шире, просторнее стала маленькая комната. И нет в ней ни одного бездельника, который бы, заложа руки в карманы, без работы туда-сюда слонялся.
Ленька Зинцов, притащив воды, укрепил в стене расшатавшиеся гвозди для вешалки. Потом решил, что, пока есть время, маленькие воротца на усадьбу укрепить надо. Сочувствует бабушке:
— Не женское это дело — с молотком да с топором возиться.
И такой он стал хозяйственный да рассудительный, что залюбуешься. За работу принялся — никто другой так картинно обставить ее и не придумает.
Портной, сидя над иголкой, бывает, негромкую песню заведет — повторяет двадцать раз одно и то же. Сапожник, зажимая деревянные гвоздики в губах, мурлыкает, не раскрывая рта. Столяр, если он веселый, и тот вслед рубанку подсвистывает. А вот как одновременно можно топором и гармошкой действовать, это я впервые на Леньке Зинцове подсмотрел.
Картина получилась такая: Павка Дудочкин в поте лица сучья на чурбане перетяпывает. Неподалеку от него, у воротечек, Ленька Зинцов с плотницкими принадлежностями расположился. Для пущей важности он вынес из дому скамейку, разложил на ней по порядку гвозди, долото, топор, молоток, клещи, старые заржавленные навески. Первым делом топор в руки и губную гармошку из кармана — в зубы. Глянет на ворота с одной стороны — топором постукает, глянет с другой — на гармошке попиликает, бескозырку набок нахлобучит. Тут, мол, еще подумать надо, какую навеску подтянуть, в какую дырку гвоздь заколачивать. Это тебе не дрова рубить!
Так постукивает да поигрывает, постукивает да поигрывает. Уж если Ленька за дело берется, сумеет его видным да завидным сделать.
Налюбовался я на Зинцова, и самому хочется, чтобы у меня работа в руках повеселела: побыстрее веник вдоль половиц пускаю.
Старший достал тетради из своей маленькой сумочки на пуговках, переписывает за столом наши вчерашние похождения, бабушкину сказку и были. Наклонился усердно, на меня внимания не обращает.
«Не может быть, что не посмотришь», — думаю я. Посвистывать начал громче, веником работать — еще быстрей.
Ох, какие тучи знаков пустил я по солнечному мечу! Пыль заклубилась так густо, что ее хоть неводом вылавливай. Но вместо одобрения Костя сказал:
— Что ты, пол подметать не умеешь? Всю пыль на воздух поднял. Раскрывай окна! Проветривай комнату!
Хотел я перед старшим хорошей работой отличиться, а получился конфуз. Хорошо еще, что бабушки с Катей дома не было, тогда бы и совсем со стыда сгореть.
Зато теперь я знаю: водой легонько спрыскивают пол, прибивают пыль дождичком, прежде чем начать веником по половицам шаркать.
До возвращения бабушки мы не только все дела переделали, но в дополнение к тому и письмо учительнице написали. Большое письмо, потому что, когда один пишет, а трое подсказывают, маленького письма не получается.
Не все наши разговоры в строчки вошли, но все-таки отчет о начале похода получился подробный. Каждое предложение в письме мы тщательно проверили. Все правила вспомнили, чтобы не послать Надежде Григорьевне письмо с ошибками.
Умолчали лишь о том, как Ленька в болоте загряз и тяжелые суконные штаны и гимнастерку в грязи отделал. Не хотелось, чтобы Надежда Григорьевна за нас тревожилась. Пусть думает, что все идет у нас по-хорошему, никаких неприятных происшествий нет. Насчет истории с ножичком, которая должна была занять важное место в письме, Павка запротестовал:
— Не надо. Может быть, Надежда Григорьевна не знает, что есть такой состав, которым ножи паяют. Не поверит еще! Подумает, что мы чепуху ей написали.
Пришлось согласиться, промолчать о кузнечных делах Павки Дудочкина возле дубка. Да и нас самих сомнение брало насчет «чудесного исцеления» ножичка.
Зато Ленькину гармошку и починенные им воротца расписали на полстраницы. И вообще, мол, Зинцов ведет себя примерно.
На этом месте Ленька смешливо стрельнул глазами, хотел задержать Костину руку, потом согласился:
— Ладно, пиши.
И старший вывел заключительные строки: «Выспались мы в Кокушкине не хуже, чем дома. До дедушкиной сторожки осталось всего пять верст пройти.
Передаст вам наше письмо Прасковья Ефремовна. Она в кооператив за сахаром собирается.
До свиданья, Надежда Григорьевна».
Подписали письмо в четыре руки по очереди: «К. Чернов, Л. Зинцов, П. Дудочкин, К. Крайнов».
С возвращением бабушки и Кати пришлось добавить:
«А эти листики черники, брусники, голубики, земляники, багульника посылает вам в подарок Катя Скворцова, которая про мертвых медведей спрашивала».
Смастерили мы конверт, заклеили его клеем с бабушкиной вишни. Подарили Кате на прощанье тетрадку с портретом Ленина.
— Вот дядя, который для всех ребятишек школы открыл, — объяснил Костя Беленький. — Ты тоже, наверно, скоро в школу пойдешь?
— Пойду, — утвердительно тряхнула кудрями Катя.
— Пойдет, пойдет, — подтвердила Прасковья Ефремовна. — Вы ей буковки покажите. А пойдете обратно — забегайте к нам молочка испить. И, как она пишет, посмотрите.
Проводили нас бабушка и Катя до дальней жердяной околицы. Стала Прасковья Ефремовна разъяснять, как отыскать дорогу к сторожке деда Савела, а Леньке не терпится. Лежать так лежать, бежать так бежать — такая у него привычка.
Пошли скорей! — зовет и торопит. — У каждого куста будем останавливаться — и сегодня не дойдем.
Счастливого пути вам! — пожелала кокушкинская бабушка.
Заколдованный круг
Снова вещевые мешки за плечами. И снова мне, как по расписанию, остается место замыкающего в нашей колонне.
Еще живо стоят перед глазами бабушка Прасковья Ефремовна и белокурая Катя Скворцова с прижатой к груди голубенькой тетрадкой, а мечты уже уносят в новые места, к новым людям.
«На сторожку, к дедушке!» — эта мысль подгоняет и радует.
С дедом Савелом мы хорошо знакомы. Не частый, но желанный гость он в нашей деревне. Устанет или припозднится, бывало, возвращаясь с городского базара к себе на сторожку, — остановится переночевать у кого-нибудь.
По всему приклязьминскому Заречью стар и мал знали и любили дедушку Савела, рады были к себе в дом пригласить.
Про молодые годы его мало что было известно. Рассказывали, кто постарше, что был он у нижегородского купца кучером, а тот купец увез у него невесту, как под венец идти. Вскоре захотел хозяин прокатиться на тройке в цыганский табор. Над Волгой табор стоял, над самой кручей.
Как получилось, никто и сообразить не успел, только со всего разгона опрокинулась коляска вместе с лошадьми, хозяином и кучером прямо в Волгу. Купца с переломанными ногами домой привезли, а Савелия с тех пор и след простыл.
Объявился он в Ярополческом бору лесным сторожем. Ни словом о своем прошлом не обмолвился. Да и местные мужики не любители пытать чужие беды. Хороший человек — и ладно.
Полвека с лишним прожил Савелий в Ярополческом бору, проводя время то в сторожевых обходах по лесу, то с удочкой на озере.
Самая большая утеха для него — ребятишки. С нами дедушка Савел никогда не скучает и никогда на нас не сердится. Если приходит в Зеленый Дол, окружим мы его всей мальчишечьей оравой и давай просить без умолку, пока не сдастся:
— Дедушка, скажи сказку.
Рассядемся в кружок на лужайке посреди деревни, слушаем.
Рассказывает дед Савел, и никак не понять, где быль кончается и где сказка начинается. Все складно, и все интересно получается.
А сказки у дедушки были такие, каких ни в одной книжке не написано: все про наш лес да про озера, про те места, которые он своими глазами видел. И звери, и птицы, и богатыри, и волшебники у него — все из нашего Ярополческого бора.
Обещал нам дедушка Савел, если придем к нему, показать такое, чего мы никогда не видывали, вместе с нами пройти по местам, про которые сказки сложены.
Костя Беленький — первый охотник до сказок. Его хлебом не корми, только дай новую сказку послушать. После сам перескажет, не собьется. И такой же неторопливый, медлительный в словах — старается дедушке подражать. Одно мне непонятно: зачем нужно Косте по-пустому огород городить — сказки слушать любит, а сам ни в наливное яблочко, ни в заколдованные клады, ни даже в папоротниковый цвет не верит.
Я если слушаю, то даже представляю себе, где именно, в каком месте клад закопан, придумываю, как до него добраться можно.
Чтобы кладом завладеть, надо смелым быть, как Ленька. Даже отчаянным немножко, потому что все может случиться. И я заранее знаю, что Костя не пойдет за цветком. А Зинцов не струсит. Он и в бор идет не за сказками, а за приключениями.
Павка Дудочкин — тот за всем помаленьку: за рыбой, за ягодами, за грибами. Он больше на съестное охотник. После сытного обеда может за компанию и диковинку послушать. А еще, наверно, его за Ленькой потянуло: ссорятся, дерутся между собой, а разлучиться никак не могут.
Да и все мы вот уже второй день чувствуем себя не просто мальчишками из одного села. Каждый по отдельности мы все те же, что и были: Павка, Ленька, два Кости. А если всех четверых в одно объединить, то, как мне нравится думать, тогда будем «охотники за сказками». И дорога у нас одна и забота тоже. Даже удивление огромным бором, к которому приближаемся, и то общее.
Лес встретил нас той особенной протяжно шумящей тишиной, какая и бывает только в лесу. Давно ждали, давно с нетерпением приближали мы эту минуту, а теперь даже жутко становится от грозной неподвижности бора. Сосны на опушке толстые, суковатые. Между ними можжевельник растет — густой, высокий, в три наших роста будет. Вымахал — стена стеной, будто отгораживает проход в лесную чащу, отделяет бор от нашего деревенского мира. И мы переходим эту границу.
Вот сосна — огромная, корявая — надвинулась на тропинку, загородила солнце. Золотистая песчаная дорожка померкла, деревья сдвинулись теснее, стали сумрачней и строже. Из чащи густо пахнуло грибной сыростью и смолистой хвоей.
Мы в бору, в незнакомом густом бору. Чем дальше, тем сосны стройнее, выше, вплотную смыкают над землей зеленый полог.
Не в пример дубу, что любит расти в шубе из подлеска, но с открытой головой, сосна, чем теснее окружают ее подруги, тем смелее тянется в высоту. В сравнении с этой высотой невольно чувствуешь себя еще меньше.
Вдруг: «Дзинь, дзинь!»
С ближней ветки со звоном взлетела синица. И сразу стало светлее, просторнее на душе.
— Вот это да-а! — словно очнувшись, выдохнул Павка, выражая свое изумление бором.
«Дзинь, дзинь!» — ответила ему совсем рядом другая синица.
Скрипнуло дерево. Стукнула и покатилась по тропинке сосновая шишка. Лес ожил, заговорил, предлагая свое зеленое гостеприимство. И лесная чаща уже шумит по-другому, становясь такой же приветливой, как и незнакомые деревни, встречавшиеся нам на пути; манит в глубину птичьими голосами, мягкими моховыми расстилами, осыпавшейся на землю рыжеватой хвоей.
Пестрый дятел, ярко вспыхивая разноцветным оперением, перелетел через тропинку, скрылся за стволом сосны, задолбил: «Тук-тук, тук-тук…»
— Еще дятел! — кричит Павка, завидев на земле, всего в нескольких шагах от нас, разноцветную красивую птицу. Протягивая руку, он бросается к ней.
Взмах крыльями — и птица взлетает, огласив лес пронзительным, резким криком, словно кошке прищемили хвост.
— Так его! — в дополнение к кошачьему визгу немедленно подкрикивает Ленька, наслаждаясь растерянностью оторопевшего от неожиданности друга.
— Ронжа, — негромко замечает Костя. Павка брезгливо передергивает плечами.
— Ф-фу! Вовек не забуду эту летающую кошку. Очумел даже.
Мы подвигаемся неторпливо, разыскивая глазами раздвоенную старую сосну и от нее тропинку направо. Так объясняла нам дорожные приметы к сторожке деда Савела кокушкинская бабушка.
Уже нетерпение донимает, а раздвоенной сосны и обещанной тропинки все нет как нет.
— Прошли, может быть, не заметили? — вяло спрашивает старшего Павка.
— Может быть, прошли, — не дожидаясь ответа Кости, в тон Дудочкину небрежно и лениво тянет Ленька Зинцов.
— А может, не дошли еще? — сомневается Павка.
— Может, и не дошли, — тая усмешку, соглашается Ленька.
— Не дал выслушать бабушку как следует, вот и «может быть»! — недовольно выговаривает Леньке старший. — Все ему бежать скорее надо.
Я внимательно смотрю направо, и каждое гладкое местечко в эту сторону начинает казаться тропинкой. Но раздвоенной сосны не видно.
— Может быть, назад вернуться, посмотреть еще раз? — твердил Павка одно и то же.
— Может быть, и вернуться надо, — повторяет Ленька и продолжает преспокойно идти вперед.
Старший недовольно хмурит белесые брови и молчит.
— Здесь тропинка, — наконец произносит Костя и забирает вправо.
Он начинает отмеривать шаги так подчеркнуто уверенно, что мы совсем не уверены, та ли это тропинка и вообще тропинка ли.
Пять минут шагаем молча. Никаких признаков тропинки уже не заметно. Костя останавливается, когда перед ним встает густая чаща можжевельника.
— Не туда идем, — оборачивается он.
— Не туда, — теперь старшего начинает разыгрывать Ленька.
Костя молчит.
Пробуем возвратиться на старое место, где свернули с тропинки, и натыкаемся на валежник.
— Снова не туда? — удивляется Ленька.
— Снова! — теряя обычное спокойствие, резко отвечает Костя.
Теперь мы не только дорогу к дедушкиной сторожке, но и вообще никакого заметного следа отыскать не можем.
— Не робеешь, Костя? — бодрясь в голосе, спрашивает меня старший.
— Что ты!
Он вспоминает про столб с номером 286, о котором рассказывала бабушка.
— Найти его — и все в порядке.
— Пр-равильно! Веревочку потерять, а иголочку отыскать… в стогу сена, — хлестко закругляет Ленька.
— Еще что?! — неожиданно вспыхнул Костя. Ленька почувствовал, что перехлестнул. Боек на язык, а промолчал.
Поищем, Костя? — встряхивая головой, участливо спрашивает меня Костя-старший.
Ясное дело! — отвечаю я, теребя запрятанные в карман кисти пояса.
По мнению старшего, потерянная тропинка теперь находится влево от нас.
— Пройдем пятьсот шагов, а там увидим.
Берем направление, но вместо тропинки выходим на незнакомую порубь. Перед глазами тысячи пней. Одни иструхлявели, другие еще держатся. Между ними пускается молодой сосняк вперемежку с кудрявыми березками: борются, кто победит.
Одинокие высоченные сосны с шапкой ветвей на самой вершине торчат разрозненно вдалеке одна от другой. А кругом четыре стены стволов, и… ни звука. Ни единого шороха. Даже перестука дятлов не слышно, словно мы очутились на необитаемой безжизненной земле.
Зябко. Неуютно.
Недавняя растерянность Леньки прошла. На смену вновь выступила приглушенная на минуту горячность.
— Дошли, товарищ старший? — насмешливо налегает он на последнее слово.
Ответа нет. Костя снимает с плеч вещевой мешок и достает из него шерстяные чулки. Тетка Катерина предупредительно положила их сыну, чтобы змея не укусила за ногу. Она слышала, что через шерсть змеи не кусают.
Костя натягивает чулки поверх узких серых штанов и прикалывает их вверху булавками. Потом так же молча достает и надевает ботинки, которые берег всю дорогу.
— Передышка? — дружелюбно спрашивает Ленька.
— Можешь отдыхать, — не поднимая головы, отвечает старший. — Вы пока перекусите немножко, — советует он мне и Павке. — А я пойду посмотрю, в какую сторону нам идти нужно. Если буду кричать — отзывайтесь.
Оставив нам на хранение вещевой мешок и не захватив с собой ни одной лепешки, старший направляется в сторону солнца. Несколько минут мы видим его шагающие длинные ноги в белых чулках, белую рубашку между зелени, потом все пропадает.
Время тянется утомительно медленно. Ленька сидит в сторонке, молчит. Мне на него и глядеть не хочется.
Напрасно мы сообщали в письме Надежде Григорьевне, что Ленька ведет себя примерно. Хвали не хвали, он все такой же непостоянный и задиристый. На час дружбы, на неделю ссоры.
Ленька тоже чувствует свою отчужденность, но из самолюбия и виду не показывает. Небрежно отламывает кусок пирога с капустой и протягивает мне:
— Коська, хочешь?
Я отрицательно мотаю головой. Так и сидим, играя в непринужденность, один да двое.
— Э-э, э-эй! — с переливами доносится издалека голос Кости.
— А-у-у-у! — встряхнувшись, громко отзывается Павка. И, повернувшись в сторону звука, мы оба вместе голосим:
— А-у-у! А-у-у-у! А-у-у-у!
Ленька лежит, закинув ногу на ногу, и пренебрежительной улыбкой одобряет наши старания.
Через каждые пять — десять минут отзываемся на крик Кости и сами время от времени даем о себе знать.
Костя прошел из-под солнца далеко вправо — оттуда подает голос.
Возвращался бы, что ли, скорее!
Следующий его сигнал долетает до нас уже с противоположной от солнца стороны. Можно было подумать, что Костя обходит нас по кругу. Но зачем?
На этот вопрос я не нахожу ответа.
Потом старшего совсем не стало слышно. Сколько мы с Павкой ни кричали — напеременку и оба вместе, нет ответа. Пропал Костя.
Десять… двадцать минут, может, полчаса прошло — молчит.
— Заблудился, — беспокоится Павка. — Надо искать идти.
Где искать?
Или знак подать.
Как подать?
Павка тугодум. Он до вечера будет сидеть, ничего не придумает. Вот если бы подсказал кто…
Павка по привычке невольно обращает взгляд на Леньку, а Ленька смотрит на сосну, неподалеку от которой мы расположились. Измеряет ее от корней до вершинки.
— Подожди…
Павка закусывает край пальца зубами, сердито бычится исподлобья и утихает. Это верный признак, что Павка думает. Он то затаит дыхание, то засопит тяжело и часто.
— Может… на сосну забраться? — неуверенно спрашивает он. — Оттуда покричать…
Решаем попробовать, если лучшего не придумали.
Я вытягиваюсь на цыпочки, подсаживаю Павку. Он карабкается по толстому стволу и снова сползает, едва я опускаю руки. То же самое получается во второй и третий раз.
Ленька нашел сухой и длинный шест, подвязывает на него белую тряпицу, в которую недавно был завернут пирог.
— Что, сиделка тяжела?.. Ну-ка! — отстраняет он вспотевшего от бесплодных усилий друга.
Бескозырку в сторону. Гимнастерку — тоже. Морщинистые рукава рубашки сами собой выше локтей держатся. Захлестнул конец шеста, тем же шнурком к боку его привязал, закрепил в три опояски на высоко поддернутых брюках.
— Наклонись, — говорит Ленька.
Я пригибаюсь, касаюсь сосны плечом. Ленька, примериваясь, пружинит у меня на спине коленкой. Потом я чувствую на плече его ступню… другую. И… сразу легче стало. Ленька зацепился за сосну. Черные гибкие ступни клещами охватывают ствол. Коленки, помогая ступням, жмут на шершавую кору. Зубы у Леньки крепко сцеплены, обнявшие сосну руки вытянуты кверху. Он одновременно подтягивается на руках и подталкивает себя ногами, то складываясь горбом, наподобие ползущей гусеницы, то вытягиваясь вдоль ствола. Выше, выше!
Поднявшись на длину шеста, Ленька отдыхает, уперев другой конец своей ноши в землю.
Впереди самое трудное: кончилась шершавая кора, начинается гладь.
Нет в наших лесах более недоступного для верхолаза дерева, как сосна-семянка. Уже после разузнали мы подробности о семянках. Вырубят широкую полосу бора, а лучшие деревья на семена оставляют. Ветер сбивает с высокой вершины спелые шишки, разносит по поруби семена, чтобы из них такие же высокие и стройные сосны вырастали, как та, по которой забирается на верхушку Ленька Зинцов.
Он уже нащупал руками и ногами темные пятнышки на стволе. Когда-то здесь были сучья. Они отмерли и исчезли, оставив только небольшие знаки в виде темных пятен на глянцевитой желтой коре. За них не уцепишься, но если умело наложить ладонь да прижать покрепче — рука не скользит.
Мастерству лазания Леньку не обучать. Он кладет ладонь очень даже умело. И… пошел, пошел, не задерживаясь, до самых сучьев, только шест с белой тряпицей на весу покачивается. Вершина для Леньки — это уже забава. Он забирается на сук и поднимает вверх белое полотнище на шесте.
Что ни говори, а молодец все-таки Ленька!
— Гу, гу, гу-у! Эй, э-эй! Сюда держи-и! — горланит он, размахивая над вершиной сосны шестом с белой тряпицей. Потом накрепко притягивает древко к стволу шнурками, стрелкой выравнивает его над сосной. — Пусть всему бору сигналит.
Ветер, не ощутимый внизу, развевает и колышет в вышине Ленькину тряпицу. Теперь в просвете деревьев или из мелколесья старший издали может увидеть этот знак, догадается, кто его поднял, и направится в нашу сторону.
Ленька, заметно, доволен. Сообщает сверху:
— Встречайте, еду.
Спуск по стволу вниз не представляет для него особого затруднения. Быстро скользнул по глади на малых тормозах. Только по шершавому пришлось руками перебирать.
Спрыгнув на землю, разрумяненный и довольный, Ленька схватился бороться с развеселившимся Павкой, а еще через две минуты подрался с ним.
Нет, с Ленькой Зинцовым дружить совершенно невозможно!
Скоро стало слышно Костю: сначала глухо, издалека, потом все ближе и ближе. Он вернулся усталый и недовольный.
— Ну и чертова карусель! — с ходу опускаясь на ближний пень, сказал он. — То отсюда крики слышу, то совсем с другой стороны. И никак до вас не доберусь. Ладно еще, тряпку с просеки увидел, — кивнул он на шест в вышине. — Она выручила.
Я внимательно слушаю рассказ старшего. Павка, упрятавшись за моей спиной, выковыривает палочкой сосновые шишки, вмятые в землю. Ленька поодаль, низко наклонившись, мусолит языком палец и трет себе щеку.
— Никакой раздвоенной сосны. И ни людей, ни жилья нигде не заметно, — продолжает рассказывать Костя. — Все равно что в заколдованный круг попали. Да что вы молчите? Уснули, что ли?! — не выдержав, наконец, громко обращается старший к Павке и Леньке. — А-а, — понимающе вытягивает он, увидев расцарапанное Ленькино лицо. — О-о! — уже значимее поднимает он голос, разглядев под глазом у Павки густой синяк.
— Кто начал? — спрашивает меня Костя.
Я пожимаю плечами, подыскивая в это время подходящий ответ.
— Я начал, — поднимаясь с обломка хворостины, говорит Ленька.
Павка, глянув оторопело, поспешно пускается в объяснения, пытаясь смягчить прямой ответ Леньки.
— Это он… Это мы…
— Понятно, — говорит Костя, невесело вздыхая. — Снова за старое.
Набравшись решимости, он продолжает хмуро:
— Вот что, Зинцов. До первой деревни любая дорога доведет. Вон там, за березами справа, широкая накатана. А нам дедушкину сторожку надо искать. Пожалуй, если раньше расстанемся, лучше будет.
Глубокое молчание наступает после этих слов.
— Что же, пошли дальше? — оборачивается Костя ко мне с Павкой.
Мы двинулись за старшим, а Ленька остался.
— Вот столб с номером двести восемьдесят шесть, — указывает Костя, дойдя с нами до края поруби.
Оказывается, что Беленький натолкнулся на него совершенно случайно, когда возвращался просекой, держа равнение на поднятый нами белый флаг.
Столб был дряблый, гнилой. По-видимому, он давно свалился и теперь лежал на земле, обрастая густой и высокой травой. Конец, что когда-то был верхним, сохранился лучше. С четырех сторон на нем были сделаны четыре затеса, и на каждом цифры — потрескавшиеся, вылинявшие от дождей, подернутые зеленой плесенью. Но «286» мы разглядели отчетливо. Вероятно, это был тот самый столб, о котором говорила нам бабушка в Кокушкине.
От столба на четыре стороны крестом расходились широкие — на телеге проехать — очищенные от леса, длинные и прямые полосы. Это были просеки, и по одной из них, куда указывало когда-то число «286», нам нужно было продолжать свой путь.
Мы стояли, раздумывая, какое направление выбрать, а Ленька, опустив голову, один все сидел на том же месте, где мы его оставили.
— Дедушкина сторожка, наверно, туда, — указал Павка, куда смотрел в это время.
— Не туда! — вдруг четко и задорно прозвенел в ответ молодой, совершенно незнакомый нам голос.
— Кто это?! — вздрогнув, машинально и неестественно громко выкрикнул Павка.
«Королева»
За окном — осенняя слякоть. Порывами налетает холодный ветер, рассыпая мелкую изморось. Сырые жухлые травы безвольно поникли под забором. Куст смородины зябко трепещет редкими уцелевшими листьями. А в разноцветных школьных тетрадях, разложенных передо мной на столе, снова солнечное лето, далекое детство. Смолистой сосной, запахами цветущих трав и земляники, свежестью июньской утренней росы веет со страниц, исписанных неровно химическим и простым карандашами, густо расплывшимися от влаги чернилами всех цветов.
В полустертых кривых каракулях, начерканных на скорую руку, я снова вижу нетерпеливого Леньку Зинцова. По старательным тяжелым строчкам, выведенным с тугим нажимом, узнаю кузнечных дел мастера — Павку Дудочкина. Рядом с ними мое писание расплывается птичьими лапками на обтаявшем снегу. И по всем страницам: где с вычеркиваниями и добавлениями на наших записях, где длинным последовательным изложением, с кавычками, восклицаниями, вопросами, с выделением прямой речи, соблюдением всех известных правил — убористый, заметно отличающийся от нашего почерк Кости Беленького.
Кроме общих есть на каждого из четверых личная дневниковая тетрадь.
В Павкиной подробно перечислены все привалы, обеды и ужины, рыболовные, грибные и ягодные места.
Ленькины трех- и пятистрочные записи, с широким авторским росчерком под каждой, посвящены необычным приключениям и удивительным событиям, в которых он, как правило, занимает первое место.
Мне больше нравится рисовать. Поэтому в моей тетради на каждом листе — тропинки, елки, дома, ручейки, озера. Под ними лишь коротенькие подписи: «Тропинка, которую мы потеряли», «Дедушкина сторожка», «Озеро Кщара», «Холм богатырей», «Лесной вяз, или околдованный Никита Сирота», «Белояр».
И в личном дневнике самые подробные записи снова у Кости Беленького. Он не только для себя, но и для Надежды Григорьевны старался, чтобы не стыдно было ей наши записки показать, когда домой вернемся. У Кости записано и происшествие возле полусгнившего квартального столба, переполошившее вначале нашу компанию.
А дальше дело было так.
— Не туда! — громче и яснее прежнего повторил голос из чащи бора.
Мы стояли как пригвожденные, не решаясь не только двинуться вперед, но даже шелохнуться, пока Костя не спросил:
— Ты кто?
— Королева! — дерзко ответил голос.
— Какая?
— Вот такая!
Из-за сосны показалась девчонка в сером платьице смуглая, простоволосая.
— Что, не верите?! — грозно спросила она, тряхнув головой, и смело глянула на нас черными как уголь глазами.
— Чудно! — сказал Костя, переводя вопросительный взгляд с незнакомой девчонки то на меня, то на Павку.
— Чудно топором воду рубить, — сердито сказала девчонка и засмеялась.
Костя тоже хотел засмеяться, но она глянула на него, и он сразу стал серьезным.
— К дедушке? — спросила она строго. Не дожидаясь ответа, властно повела рукой направо: — Сюда!
Мы послушно повернулись, куда было указано. «Королева» заняла место впереди, на почтительном расстоянии от нас, и сделала знак не приближаться. Мы поняли.
Пошарив рукой в маленьком кармашке на бедре, она неожиданно выпрямилась и метнула что-то в нашу сторону.
— Пятак на синяк! — звонко выкрикнула она и рукой указала на Павку.
У наших ног лежала медная монета. Павка поспешил выполнить приказание и старательно прижал ее к синяку под глазом.
Девчонка действительно была не такой, как все. Не спросив, она знала, куда нам нужно идти. Издали угадала Павкин синяк. Тут же явилась монета, словно она всегда была наготове. Мы, ничего не спрашивая, покорно подчинились «королеве», словно она заворожила нас.
Конечно, это была необычная девчонка. Зря смеются над лесными чудесами. Рассказать кому — не поверят, что с нами самими случилось такое «чудо».
Ни на шаг не отставая и не приближаясь к «королеве», мы шли за ней. Перепрыгивали через поваленные деревья, продирались сквозь густой можжевельник и, наконец, снова вышли на просеку.
«Королева» повела нас по вырубленной полосе. Десять… двадцать… тридцать минут. И хоть бы слово! Потом оглянулась, махнула нам рукой прямо вдоль просеки и, встряхивая на бегу растрепавшимися волосами, со смехом припустилась в чащу бора.
Мы остановились удивленные и озадаченные. Неужели мы видели лесную королеву? Но кто же иной мог бесстрашно пуститься в лесную чашу?
Окончательно отказавшись от бесполезной попытки разобраться, где мы находимся, куда держать путь, решили пойти, как указала нам «королева». Подумали так: «Если она и королева, то добрая».
Старший, заняв свое место впереди, ускоряет шаг. На ходу то и дело натыкаемся на невидимые в густой траве гнилые пни и коряги.
Костя как обулся, отправляясь на поиски дороги, так и теперь продолжает идти в ботинках. Мы с Павкой тоже решаемся, наконец, надеть сберегаемую до поры до времени в вещевых мешках обувь.
«Где-то теперь Ленька?» — с сожалением думаю я об оставшемся друге и усердно натягиваю на ступню ссохшийся ботинок, похожий на женский полусапожок. Эту обувку отец специально купил у старьевщика для моего лесного похода.
Павка выряжается в лакированные отцовские сапоги, бывшие когда-то «кобеднишними», а теперь перешедшие к сыну, чтобы он их дорвал.
«А ведь Ленька идет!» — замечаю я, оглянувшись назад.
Павка тоже видит его. Обрадованно взглядывает на меня и, улыбаясь, опускает глаза на потрескавшиеся лакированные сапоги.
Ленька идет стороной, шагах в десяти от просеки, и совсем не смотрит в нашу сторону. В руках у него большая суковатая палка. От времени до времени он ковыряет трухлявые пни, разворачивает муравейники.
Мы бегом нагоняем Костю. Шагается веселее.
Впереди блеснуло под солнцем озеро. «Не здесь ли сторожка деда Савела? — думаю я. — Может быть, правильно указала нам путь «королева»?»
При выходе на опушку старший остановился. Он тоже заметил Леньку.
—. Подходи, нечего по кустам прятаться! позвал Зинцова Костя.
Тот подошел неторопливо, виновато опустив голову.
— Ладно, — примирительно сказал старший. — Только чтобы это было в последний раз.
Ленька просиял и немедленно занял свое место впереди меня.
Вот и озеро. Мягкая трава стелется под ногами. По опушке весело летают птицы. Солнце, которое в лесу еле пробивалось сквозь густую зелень деревьев, здесь ослепительно сияет.
В ясной воде, которой нам так хочется напиться, отражаются маленький домик на берегу, старик, присевший на корточки возле самой воды. Нешибко постукивая деревянным молоточком, он конопатит перевернутый вверх днищем ботник, густо промазывая паклю тягучей смолой.
По лысине, на которой сияет солнце, по широкой белой бороде я сразу узнаю деда Савела.
«Ну и королева! Спасибо, королева, что привела нас к деду!» — благодарю я незнакомую девчонку сам про себя.
Заметив нас, дедушка кладет на ботник свои инструменты и, прищурившись, смотрит в нашу сторону. На румяном лице деда знакомая, с хитринкой, улыбка.
Мы к вам, дедушка! — набравшись смелости, говорю я негромко, обращаясь на «вы», как учила Надежда Григорьевна.
К нам? — удивленно оглядывается дедушка по сторонам. — А я один.
Он видит мое смущение и обнимает за спину.
— Эх ты, Квам!
С тех пор я и стал для дедушки Квамом. А потом и на деревне так стали звать. И я не обижался — это память о дедушке.
Дедушка Савел
— Так, так… Значит, явились, соколики? Не забыли наш уговор? Должок мой вспомнили?.. Должен, должен — не отрекаюсь.
Так говорит дедушка, маленькими шажками прохаживаясь вокруг догорающего костра, где только что варилась гороховая каша.
Сытно накормил нас дедушка с похода.
Он пошвыривает ногой в золу раскатившиеся горячие уголья, словно на морозе потирает ладони.
— Что же, поживем, половим окуньков, потопчем в лесу травушку. Верно, Квам?
Новое имя в разговоре дедушки звучит так приветливо, его рука так мягко похлопывает меня по спине, что в эту минуту я нисколько не жалею о своих малых годах по сравнению с товарищами, о слабых силенках, когда Ленька даже бороться не соглашается со мной иначе, как «на одну ручку». Я уже не раз замечал, что рядом с большими самые маленькие всегда виднее, всегда им больше внимания. Вот и дедушка — все «Квам» да «Квам» и все поближе к себе меня пристраивает.
Он садится на низенький березовый чурбан возле потухающего костра и предлагает нам «похвалиться своим снаряжением».
После обеда хлеб, картошка и другие оставшиеся у нас съестные припасы сложены в дедушкином домике на полке и под деревянными нарами. Теперь по предложению дедушки можно брать свои мешки за углы и вытряхивать на траву остальное содержимое, что мы охотно и делаем. Летят в одну кучу ботинки, сапоги, носки, портянки, узелки с запасным бельем. Дедушка откладывает узелки в сторонку.
— Это статья особая, — говорит он.
Костя Беленький для дедушки — просто Костя. Ленька Зинцов — Леня, но Павку Дудочкина дедушка почему-то называет полным именем — Павел. Должно быть, потому, что имя такое серьезное, а сам Павка, когда он с открытым ртом и немигающими глазами старательно слушает или смотрит на собеседника, почти сердитый.
Дедушка только мельком глянул, а хорошо заметил и строгое внимание Павки, и округлые, будто от недовольства надутые щеки, и темный знак под глазом.
— Сердит ты, Павел, как я погляжу, — замечает дедушка, словно просит Павку быть поласковей. И, меняя шутливый тон на деловой, предлагает: — Давай-ка, Павел Семеныч, с тебя и начнем.
Он достает из общей кучи пожитков Павкины лакированные сапоги, долго вертит их, ощупывая со всех сторон.
— Что же, обувь подходящая. Свою долю престольных праздников отгуляла… Пришей ушки и набей в носа пакли, а то, видишь, им все в небо хочется поглядеть, а мы по земле ходить будем, по пням да корягам лазить.
Мои купленные у старьевщика тупоносые полсапожки на резиновом ходу дедушка называет «замечательными щиблетами». Зато почти новые трикотажные носки, на пятках которых положено по первой суконной заплате, возвращает мне со словами:
— Заплаты отпори. Пятки заштопай.
Ботинки Кости Беленького он вообще откладывает в сторону.
— Богато тебя мать вырядила сосновые шишки топтать, — говорит он. — Для прогулки под окошком такая обувь по моде, а из лесу не пришлось бы нести ее россыпью. Дорогая штука получится.
Дедушка перетряхивает носки и портянки, спрашивает:
— А где четвертая пара?
— У меня свои крепкие, — протягивает Ленька черную поцарапанную сучьями ногу.
— А-а, вот оно что!
Уперев руки в колени, дедушка тихонько покачивается на чурбане.
— Пожаловаться не на что, ходилки важные.
Он переводит взгляд на поцарапанное лицо Леньки, присматривается к Павкиному синяку под глазом. Понимающе, с прищуром улыбаясь, замечает:
— Павел вон тоже, наверно, на ноги не жалуется. А голову не бережет. Вишь ты, как неудачно о сосну приложился. В лесу, ребятки, с такими делами надо поосторожнее… Вот так!.. Значит, договорились об этом?
Подтверждая дедушкину догадку и окончательно выдавая себя, Павка и Ленька в такт мотают головами.
— Тогда насчет обувки. Кроме свойской, другой не обзавелся, значит?
Ага, — подтверждает Ленька.
Понятно.
Дедушка Савел поднимается с чурбана и идет в свою сторожку. Оттуда возвращается с целой связкой обуви.
— Вот, подбирайте на выбор, — указывает он Косте и Леньке, бросая перед ними нанизанную на лыко вязанку новых лаптей.
— Ноги на ночь чистым дегтем помажешь, — наказывает дедушка Леньке. — А тебе, Павел, ноготки надо остричь. Вишь ты, какие отрастил!
Наши рыболовные снасти дедушка тоже тщательно осматривает.
Наслушались мы в деревне разговоров про боровых окуней, что вырастают под корягами по десяти фунтов и больше, — наплели лесок в девять, в двенадцать конских волос. Узлы затянули так, что развязывать и не берись — все равно ничего не получится. Каждая леска рассчитана на то, чтобы выдержать самую крупную рыбину. Длинные куканы, на которые мы будем рыбу насаживать, сделаны из такого шпагата, что вдвоем не оборвать.
Дедушка одобряет такую нашу предусмотрительность, но лески советует все-таки переплести заново.
— Сделайте из одной по две, вот и хорошо будет. А такими вожжами, какие вы принесли, рыбу перепугать можно.
Спорить с дедушкой не положено. Приходится резать прочно затянутые узлы, перекручивать лески на новый лад. Дед Савел проверяет нашу работу, похваливает:
— Молодцы, соколики! Кое-что вы делать умеете. Ленька стреляет во всех глазами, подергивает плечом.
Не терпится ему: «Когда же рыбу ловить?»
Мы ожидали, что, как только заявимся к деду, тут же он и начнет рассказывать нам сказки или поведет туда, куда только мы пожелаем: ловить рыбу, искать беличьи гнезда, покажет медвежьи берлоги и все те места, о которых сложены сказки, предания и легенды. Но вместо ожидаемых развлечений я сижу возле сторожки со своими носками, ножом отпарываю заплаты, а что дальше делать — не знаю.
— Иголку не захватил из дому? — спрашивает дедушка. Я смущенно мотаю головой.
— Эх, Квам, Квам!.. А еще сын солдата. Гордишься небось? А какой же из тебя солдат получится? Няньку придется с тобой в солдаты посылать.
Дедушка приносит иголку и небольшой клубок ниток.
— Давай-ка сюда носок!
Он засовывает внутрь облупившуюся от краски деревянную ложку и донышком аккуратно укладывает ее в худую пятку. Через ложку, как струны, одну за другой он протягивает нитки, подковыривая иглой края прохудившейся пятки.
Сразу видно, что дедушке это занятие не ново.
— Вот как надо, Квам. А то заплатами ты все пятки в кровь разотрешь… Берись-ка теперь, да посмелее. У тебя глаза молодые, зоркие… Вот так и клади: ниточку к ниточке. Крепко не стягивай, не сбори… Потом поперек начнешь. Через ниточку: сверху-снизу, сверху-снизу.
И дедушка показывает на руках, как нужно делать, плетет жесткими морщинистыми пальцами невидимую пятку.
— Так и пойдет, — подбадривает он.
Дома меня мальчишки на смех подняли бы, увидев за такой работой. Не положено у нас на деревне мужчинам белье стирать да носки штопать или другими бабьими делами заниматься. А дедушка все сам делает. Он смеется от души, когда видит, что Павка ушко к сапогу пришивает с наружной стороны.
— Так, так, — любуется дедушка. — Ушки к сапогам, значит, снаружи, а пуговицу к штанам с изнанки будешь пришивать?… Нехорошо, Павел, нехорошо. Это шиворот-навыворот получается… Давай-ка начнем все сызнова.
Мне не хочется, чтобы дедушка и надо мной так подтрунивал, и я стараюсь изо всех сил. «Ниточка к ниточке, да не затягивай сильно, не сбори», — повторяю я сам про себя дедушкины слова.
Плохо ли, хорошо ли, а в тот день на берегу лесного озера впервые в своей жизни я заштопал носки, и теперь спроси, как это делается, — другому покажу. И Павка Дудочкин никогда больше не будет пришивать ушки к сапогам снаружи.
— Вот, всегда бы так! — похвалил дедушка Савел, принимая от нас работу.
И мы уже не стесняемся сидеть с иголкой, а стараемся отличиться один перед другим, кто и что может делать. Забота появилась такая — хоть отбавляй. Только Ленька без дела ходит, украдкой от дедушки над нами посмеивается. Ему повезло: дедушкины лапти, дедушкины портянки — все даровое, все в порядке. Даже веревки в лапти ему дедушка сам продернул.
Но когда другие делом заняты, и Леньке, наконец, без дела тошно становится. Он стаскивает с себя суконную гимнастерку, которая уже не раз трещала за два дня похода, и начинает ее латать.
Шалаш в лесу
В лесу быть — так по-лесному жить. Захотелось нам в Ярополческом бору шалаш построить. Еще когда собирались в поход, мечтали мы о домике, построенном своими руками.
Одна была тревога — дедушка не разрешит. Будет держать нас у себя в избушке, обед варить в печке, собирать всех за стол, когда наступит время. Придется нам, как и дома, спать на войлочной или стеганой подстилке, на теплой подушке под головами, а дедушка обязательно проверит, хорошо ли мы одеялами укрылись, окна прикроет наплотно, чтобы ветер в комнату не проникал.
Но дедушка не только поддержал, даже одобрил наше предложение.
— Шалаш — это дело хорошее, — сказал он.
После таких слов и деревянная сторожка над озером стала будто приветливее и дедушка не такой, как все другие взрослые, — с ним самыми сокровенными тайнами можно поделиться. И шалаш мы оборудуем на славу. Будет он вроде летней дачи под боком у деда.
Не теряя времени даром, дружно принялись мы за дело.
Дедушка сам помог нам и местечко для шалаша выбрать. Присмотрел на краю поляны густую старую ель с выжженным над корнями большим дуплом. Широкие лапчатые ветви ели от ствола книзу клонятся.
Под солнцем жарко, а под ветвями стоит прохлада. Запах хвои такой густой, что можно представить себе, как он стекает с ветвей.
Еще не построив, мы уже видим наш дом. По сторонам— деревья, позади — лесная чащоба, перед глазами — чистая от леса приозерная полоса с высокими травами, сквозь которые просвечивает желтый песок, а сбоку — тоже на виду шалаша — дедушкина сторожка, до которой и двадцати метров не насчитаешь.
Славное местечко, добрую ель выбрал дедушка Савел! Под такими деревьями, спасаясь от дождя, охотники и рыболовы костры разводят. Снизу затянет ветви густым дымом — и дождю не пробраться.
Для случайных прохожих такого укрытия вполне достаточно. Но нам нужен не кое-какой шалаш, где можно дождь переждать или ночь переспать, а настоящий, чтобы жить можно было.
Примерили: концы нижних веток ели Костиной головы чуть касаются. Для лесного дома высота самая подходящая.
Дедушка подобрался под ветви, подчистил топором засохшие сучья на стволе, а мы тем временем площадку размели, сухие сучья и шишки по сторонам разгрудили.
— Вот и начинайте строительство, — говорит дедушка. — Крыша почти готова.
Костя Беленький принес второй топор из сторожки, вместе с дедушкой тычинник из сушняка принялся заготавливать. Мне с Павкой и Ленькой досталось тростник косить, от берега озера к ели его подтаскивать.
Тростник не луговая трава, из-под косы не выскальзывает.
Ленька Зинцов на Павку только покрикивает:
— Да размахнись ты пошире! Нажми покрепче! Коське маленькому — тому простительно, а уж ты-то немало каши ел.
Но и меня в покое не оставляет. Когда тростник из воды на берег вытаскиваю, и тут успевает:
— Побольше охапку набирай! Не бойся свою розовую замарать!
Рубашку, которая еще не порвана и в грязи не вымазана, Ленька терпеть не может. Вижу, что чешутся у него руки посадить меня в воду, да не решается. Не забыл еще невеселый разговор на просеке.
Зато упрятанные в карман длинные кисти от пояса выдернул-таки, пустил по воде. Поплыли они за витым пояском цветистыми змейками.
С тростником мы быстро управились. Напеременку одной косой большую копну его натяпали, на берег вытаскали. Обсушили немножко на ветру — вот и готов строительный материал.
Под елью четырехугольником наколотили колышков в два ряда, между ними тростником стены выложили. Поверх стен три поперечины укрепили, ветви ели шпагатом к ним притянули, чтобы не качались от ветра. Поверх веток снова тростника, лапника, травы на крышу густо набросали. Получился не просто шалаш, а замечательный дом на четыре жильца — настоящая лесная дача.
Выгоревшее дупло мы подчистили, подтесали немножко. Полочку в нем устроили, упрятали туда свое главное сокровище— школьные тетради, подаренные Надеждой Григорьевной.
Костя Беленький принес широкий, наподобие жаровни-ка, кусок коры от сухой сосны. Пристроил его к дуплу вместо дверцы. Удобный шкаф получился и места не занимает.
Над входом в шалаш дедушкин брезентовый плащ повесили. Тут тебе и окно, и дверь, и от комаров завеса. Даже самим не верится, что так ладно и аккуратно все получилось. Смотришь со стороны — будто и нет ничего: стоит на опушке леса, вблизи от озера, развесистая густая ель, под ее ветвями ничего не видно. Кто догадается, что тут построен просторный дом и живет в нем большая семья?
После хорошего трудового дня сладко было уснуть в своем шалаше на душистой хвое, покрытой свежим сеном. Уже одна мысль, что мы сами построили себе этот дом, была нам дороже дорогого.
И все думал я, засыпая, о «лесной королеве» — о девчонке в сером платьице, представлял себе, как она ходит где-нибудь поблизости, прислушивается, о чем мы разговариваем, или, приоткрыв завеску, засматривает черным глазом, хорошо ли мы устроились, спокойно ли нам спать будет.
Кщара
На следующее утро, еще не занялась заря, дед уже звонил возле нашего шалаша в какой-то глухой и странный колокол.
— Эй вы, сони! Что вы спите? — приговаривал он. Дома нас так никогда не будили. Солдатом был отец.
Германскую и гражданскую войны от начала до конца прошел, а командовать по-дедушкиному не научился.
Дома совсем по-другому получается. Сначала я слышу, как отец скрипит дверью и советуется с матерью: «Надо будить Коську».
Не скажи он этого, я так и лежал бы с открытыми глазами, смотря из-под одеяла, как мать кладет в печку дрова, разжигает на шестке смоляную лучину, по деревянному катку завозит в печное отверстие большой чугун картошки, щеткой заметает мусор в огонь. Но если сказали, что меня надо будить, сразу так хочется спать. И я закрываю глаза. Отец окликает меня негромко. Я слышу неуверенность в его голосе и молчу. Он еще несколько минут стоит у порога, прокашливаясь, потом выходит на улицу. Возвращается, когда я действительно сплю.
— Костя, вставай! — будит он несмело, словно боится разбудить. Повторяет погромче.
И я встаю лишь тогда, когда голос отца становится по-настоящему громким и сердитым.
Дедушка — другое дело: он так зазвонил, что улежать спокойно невозможно — обязательно хочется взглянуть поскорее, какую это он музыку придумал.
Мы приподнимаем край плаща у входа и вылезаем из шалаша. Дедушка сидит на чурбане перед красными угольями костра и стучит палкой по пустому чугуну.
— Живо марш на озеро! — бодро отдает он команду.
Кто посмеет ослушаться такого решительного и ясного приказа?! И мы бежим наперегонки.
Трава в холодной росе чуть тронута розовыми красками еще невидимого солнца. От утренней свежести, от зябкой росы прищуренные, заспанные глаза сами собой раскрываются шире, дрема убегает прочь. Ох, как хорошо подняться сразу, не разваливаясь лениво в постели! Какой чистый воздух, какое красивое озеро перед восходом солнца! И хочется радостно крикнуть что-то товарищу, румяной заре или просто бору, только бы подать веселому утру свой голос.
И вода, которую по утрам так скупо пускаешь из умывальника, здесь совсем не та. Закатывай выше коленок штаны, выбирай себе любое местечко, зачерпывай ее вместе с плавающим над озером туманом.
Одной рукой дедушка умываться не разрешает, говорит, что так умываются только кошки.
— Да еще разве медведь в берлоге, — добавляет он. — А настоящие охотники и рыболовы берут воду пригоршнями.
Мы, конечно, хотим умываться, как «настоящие». Рукава, ворот рубашки, окунувшиеся в воду штаны — все мокрое.
Ленька Зинцов моется в сторонке. Дедушка принес ему большой желтый кусок ядрового мыла, и он небывало старательно растирает свои цыпки на руках и ногах. От него по тихой воде медленно расплываются большие и красивые, дегтярные пятна с разноцветными переливами. Значит, он выполнил дедушкино указание, не забыл смазать на ночь заскорузлые ноги чистым дегтем.
Дедушка Савел начал с того, что повел нас на Кщару — известное на всю округу чудесное лесное озеро.
— На Санхре раки водятся. Линь на раковую шейку там хорошо берет. В Порядове — карасики по пятаку, больше не растут. На Гаравах — щука. Ей порядовских карасиков только подавай. А в Кщаре, — ведет с нами дедушка дорожный разговор, — там всех сортов рыба водится. И немудрый рыболов на Кщаре без ухи не останется.
У деда такое правило: куда идет, о тех местах больше и речь ведет. О Кщаре такую историю рассказал, что не терпится нам взглянуть поскорее на удивительное озеро.
Появилось оно, по словам деда Савела, в одночасье. Все был лес как лес — прекрасный сосновый бор. Вечером мужики здесь деревья валили, дрова пилили, а утром при-шли — ни дров, ни бревен, ни самого леса как не бывало. Раскинулось на том месте огромное озеро непомерной глубины, с островами да заводями. Обойти его кругом — добрых пятнадцать верст будет.
…Не вдавайся в обиду, дорогой читатель, что в наших записях верста с километром, аршин с метром рядышком идут. Ведь это тридцать с лишним лет тому назад было. И тебе неплохо запомнить на случай, что старая Россия сукно вершком да аршином, хлеб фунтом да пудом, а дорогу верстой да саженью мерила. На нашу долю и выпало зубрить переводы со старых мер на новые.
Из пятнадцати верст шестнадцать километров складывается.
Вот какая махина земли исчезла за одну ночь на месте нынешней Кщары!
А кто на деревне знал в старину, что такие обвалы из-за подземных вод получаются? Никто не знал.
Услышали о чуде местные попы, решили: дело выгодное. Пустили слух, что не обошлось тут без нечистой силы. И пошли на озеро с крестом да водосвятием. Деньги за молебен с мужиков собрали, «на святую церковь».
— А от слова «кщеное», крещеное значит, и получило озеро свое название — Кщара, — объяснил нам дедушка. — Там под корягами такие окуни водятся, какие вам и во сне не снились, — подогревает он наше нетерпение.
А сам шагает впереди, прямиком, без дороги, даже без признаков какой-нибудь тропинки.
— А если печная щука попадется, тут уж и самой крепкой леске несдобровать.
Про «печных» щук мы даже не слыхивали. Оказывается, это такие щуки, которые сами в печку плавают.
Была на том месте, где образовалось озеро, заброшенная избушка. Когда лес провалился, и она под воду ушла. Крыша и бревна наверх выплыли, а печка на самом дне в озерной глубине так и осталась. Вот щуки, которые подогадливее, и стали в нее плавать. Сама в печке, а голову на шесток высунет, лежит — не шевелится. Если рыба мимо плывет — щука тут как тут: раз — и проглотила. У которых и зубы выпали, и сами они будто мохом обросли, а все не попадаются в настоящую жаркую печку или на костер рыбакам.
С этой думой об удивительных щуках и закинули мы в первый раз в жизни удочки в лесное озеро.
Уже заря прошлась по воде, осветив широкий плес, густо поросшие тростником и камышами берега и заводи. В разных местах с берега висели над водяной розоватой гладью наклоненные стволы деревьев, другие нестроенными мосточками легли прямо на воду, высоко поднимая зеленые сучья.
Есть особое наслаждение забрасывать удочку в озеро с вершины дерева.
Разместились мы над Кщарой кому где нравится. Позади нас, в лесной чаще, свистит соловей: заведет, заведет и снова умолкнет. Видно, правду говорил чернобородый лесник дядя Федор, что недолго соловью петь осталось. Очень короткая стала у него песенка.
Ленька Зинцов первым выхватил из воды окуня. И тут все мы, забыв про удочки и рыбачью осторожность, попрыгали со своих мест и бросились рассматривать добычу.
Окунь на лету сорвался с крючка, ощерясь острыми колючками, отчаянно запрыгал по береговому склону, кувыркаясь через голову и отталкиваясь упругим хвостом. Его, до крови исколов руки, ухватили мы у самой воды.
Весь словно матовый, с темными широкими полосами наискосок, окунь был действительно хорош.
— Настоящий боровой! — оценил Павка Дудочкин. Прикинув на ладони, добавил — С фунт потянет.
Для подтверждения передал рыбину Косте Беленькому.
— Будет фунт?
— И поменьше — не беда, — перенял Костину руку подошедший к нам дед Савел. — Беда в том, что вы рыбу ловить не умеете, золотое время упускаете, удочки в воду побросали. Так от вас вся рыба разбежится! Вы думаете, она не слышит, как вы бегаете да спорите?! Все слышит… Таким рыбакам только в луже корзиной мальков ловить.
За первым окунем целую лекцию нам дедушка прочитал.
— Качнулся поплавок — выдергивать удочку не торопись, рыба еще только принюхивается, примеривается. Хитрости с крючком ей тоже известны. Не тащи, когда поплавок в сторону поведет, следи, когда на дно потянет, тогда и подсекай — не зевай… Это ладно еще, что ты окуня на берег выбросил, рывком за губу задел, — смотрит дед на Леньку. — А если бы окунь обратно в воду угодил?.. С оборванной-то губой? Тогда пропал запал, не будет уженья на этом месте. Вот о чем думать надо.
Дедушкина наука пошла впрок. Через два-три часа каждый из нас подсчитывал пойманных окуней десятками, и Ленькин окунь совсем затерялся среди других таких же, а то и более крупных рыб. Жалко, что дедушка не разрешал их насаживать на кукан, а пускал в ведерко с водой. Вот они поплескались бы на привязи под берегом!
— Пойманные поплескались, а непойманные подальше от этого места уплыли бы. Какому окуню интересно смотреть, как другого на бечевку посадили, самому такой же участи дожидаться? — посвящает нас дед в секреты опытных рыболовов. — Корзинка или ведерко — мило дело, — говорит он.
Тесно в ведерке — у дедушки садня есть, такая круглая корзина из ивовых прутьев и без ручки. С одной стороны маленькой дверкой закрывается, тоже из прутьев. Мы видели, как дедушка эту садню из озера вынимал, только не сразу сообразили, что это такое. А удобно. В дубчатой плетенке, через которую вода проходит и уходит, рыба неделями может жить. Дед Савел и хранит понемногу на всякий случай.
С жарой кончили клевать окуни. Можно было перейти на лов плотвы и красноперок на солнцепеке. Но мы довольны были утренним уловом, да и хотелось погулять по Ярополческому бору с надежным проводником. А за дедом Савелом мы с радостью готовы пойти куда угодно.
Мудрая азбука
С Кщары мы возвращались совсем другой дорогой.
С дедушкой совсем не страшно: можно бегать по сторонам, отставать, забегать вперед, только бы не потерять дедушку на голос. В густом лесу потерять человека из виду можно очень быстро, и в этом нет никакой опасности. А вот на голос потерять — это уже страшно. Крикнешь громко «ау!» — и вдруг никто тебе не отзовется. Тут и почувствуешь, что значит наедине с лесной тишиной очутиться.
А то и наоборот бывает: покричал — и начнут тебе отзываться голоса и спереди, и сзади, и справа, и слева. И не потому, что кругом люди, а потому, что один звук так разлетелся и обманывает, сбивает с правильного пути. Попробуй разберись тут, в какую сторону направление держать.
— Для грибников и ягодников, да и для путешественников тоже, — хитренько прищуриваясь в нашу сторону, говорит дедушка, — правильно слушать научиться — это первая буква азбуки.
— Эхо не только ребятишек, но и взрослых запутать любит. А вы перехитрить его старайтесь, внимательней прислушивайтесь: откуда первый звук долетел, туда и идти следует. Это настоящий голос эхо донесло, а потом подкрикивать, обманывать начинает.
Так узнали мы первую букву мудрой дедушкиной азбуки.
— Слух, — назвал он ее.
Вторая была — зрение.
Нам известно, что путешественники обязательно компас с собой в дорогу берут. На уроках Надежда Григорьевна показывала нам старенький школьный компас — маленькую круглую коробочку с двухцветной стрелкой посредине. Один конец стрелки темный, другой — блестящий.
Если компас работает, стрелка блестящим концом всегда на север показывает. А Надежда Григорьевна сама стрелку передвигала, потому что компас поломанный. Но главное мы поняли. И будь сейчас с нами в лесу хороший компас — без труда показали бы все страны света.
Так мы и дедушке объяснили. А он нам говорит:
— Значит, лесной компас лучше — его носить в кармане не надо, и не ломается.
— А где он есть? — спрашиваю я.
— Где понадобился, тут и есть.
— Как же это, дедушка?
— Очень просто, Квам.
И уже не одного меня, а всех нас вместе спрашивает:
— Значит, светлую стрелку от темной отличить умеете?
— Умеем, — отвечаем хором.
— А длинный сучок от короткого?
— Сумеем!
— Хорошо! — говорит дедушка. — Поверить поверим, а все-таки проверим.
И спрашивает:
— Вот на этой сосне в какую сторону сучья длиньше?.. Правильно. Молодцы!
Еще два раза по другим соснам проверил. Доволен.
— Верно. И все длинные сучья, заметьте, в одну сторону указывают. На юг, к солнышку тянутся. А северные — те короткие.
Обратил дедушка наше внимание и на то, что стволы деревьев с южной стороны светлее, чище, а северную, теневую сторону мох заволакивает.
Муравьи тоже — они к югу от ствола свои гнезда устраивают, где солнца побольше. В тени им не нравится.
Так запомнили мы вторую букву из дедушкиной азбуки. А нам, ученикам, достаточно хотя бы одну часть света знать, чтобы остальные безошибочно определить. Помните эхо: «Встань лицом к югу. Позади у тебя будет север, справа — запад, слева — восток».
Третью букву обозначил дедушка словом «наблюдательность». Трудная буква. Если две первые можно забыть на время, об этой в походе постоянно нужно помнить.
«Позабудешь — себя накажешь».
Запомнили мы это предупреждение, стараемся ни единого слова из дедушкиной беседы не пропустить.
В третьей букве и солнце, и луна, и звезды, и ветер — все движется. Даже цветы и те перемещаются. Только два места остаются неподвижными: откуда ты вышел и куда идешь.
— Взял прямую линию — с первого шага замечай, с какой стороны тебе солнце светит. Сзади — тогда перед тобой тень ляжет. На нее, Квам, и наступай, гони ее перед собой. Сбоку наискосок солнышко светит, так и чувствуй его с этого бока, — объясняет мне дедушка, словно с одним разговаривает. А все слушают. — Солнышко, оно не собьется и тебя куда надо доведет. У него шаг точный. А куда закругление идет — это вам небось лучше моего известно. По градусам, наверно, землю меряете?.. А я по градусам не умею. Видишь, Квам, как отстал от тебя дедушка? У меня вся мера на глаз… А вы, значит, по-своему, по градусам повороты примеряйте. Только не ошибитесь, в нужную сторону поворот делайте. Если уходил от солнышка — на солнышко возвращайся, чтобы на то же место попасть.
Луна для деда — ночное солнце. Звезды ей на подмогу. Ветер, если он постоянный, тоже помогает направление держать. Надо так идти, чтобы чувствовать его всегда с одной стороны.
Когда солнца нет, дед цветами руководится.
— Земляника солнце хорошо чувствует. Куда цветами показывает — там и солнышко. По лесным колокольчикам тоже замечайте… Запомните для начала — и хорошо будет.
Большую книгу раскрывали буквы дедушкиной азбуки. Не терпелось читать ее научиться.
Узнали мы в тот день и про столб за номером 286.
— Квартал это двести восемьдесят шестой, — сказал дедушка. — Вдоль верста, поперек верста. До него отсюда… да, до него отсюда еще через девять кварталов надо пройти.
И дед Савел все их перечислил, не по порядку, а по памяти. По порядку кварталы полосой вдоль всего леса идут. В новой полосе счет продолжается. Поперек бора пойдешь — путается, число от числа далеко отскакивает. Долго надо в лесу прожить, чтобы запомнить все эти полосы.
— И не запоминайте, — посоветовал дедушка. — А если запутался, иди себе просекой — на дорогу выведет.
В этот день долго и без опаски заблудиться, будто у себя по деревне, бегали мы по лесу: гоняли белок по деревьям, спугивая их с ветвей сосновыми шишками, притаившись за сосной, смотрели, как пестрый дятел достает из-под коры жуков и букашек, аукались, разбегаясь по сторонам, снова возвращались к деду, учились слушать лесное эхо. Даже Ленька Зинцов был такой хороший и предупредительный, что с Павкой за весь день ни разу не повздорил.
Возле Березового моста увидели мы змею. Она, проворно извиваясь, ползла болотистой низиной, оставляя на влажной траве отчетливый след, будто кто, балуясь, зигзагами Протащил веревку. Мы уже совсем навострились бежать. А дедушка ловко схватил змею за хвост, встряхнул ее легонько, она и повисла у него в руке, словно хлыст. Только станет голову поднимать дедушка снова встряхнет. Она и перестала извиваться.
— Залилась, — сказал дедушка.
Потом бросил змею на землю, и Павка Дудочкин гибким прутиком пересек ее пополам.
Мы чувствовали себя героями, потому что настоящую гадюку убили. Теперь попадись другая такая — справимся без дедушки. Конечно, за хвост ловить не будем — это дело опасное, одному деду Савелу привычное. А мы бы ее прутиком. Прута нет, так сучком к земле пришили бы.
Бродя по лесу, в куче прошлогоднего хвороста нашли мы совиное гнездо, живых совят в руках держали. Пищат они пронзительно, неприятно так. А голова — даже у маленьких — большая, угловатая и плоская, как расколотое полено, глаза навыкате, горбатый клюв крючком книзу загнут. Разинут рот, того и гляди в глаза клювом вцепятся.
Разозлился Ленька, хотел их «прикокнуть», а дедушка велел обратно в гнездо положить, потому что совы, говорит, мышей уничтожают, хлеб на полях оберегают. Не знали мы этого.
У Светлого озера показал нам дедушка место, куда лоси на водопой ходят. Вблизи камышей и костер развели.
Научил нас в тот день дед Савел рыбацкую уху варить. И сейчас, как вспомню, будто попахивает этой ухой с дымком от костра и зеленой луковкой, которую прихватил дедушка со своего маленького огорода.
А один бугорок, на котором сидели мы и каких немало можно встретить в Ярополческом бору, и до сих пор отличу я от всех других.
Много у нас по Заречью сложено преданий, легенд и сказок, но никогда не слышали мы такой, как рассказал об этом бугорке дедушка Савел.
Лесные братья
Мы сидим у подножья трех сосен на просторной лесной поляне, прилепившись к маленькому песчаному бугорку, опутанному редкой и худосочной травкой. По краям бугорка рассыпались зеленые ягоды брусники. Крупные темные муравьи снуют у нас под ногами, шевелят на бегу послушные иссохшие иглы опавшей хвои, то опрокидывая их на себя, то снова забираясь наверх, словно на перекладину.
Солнечная поляна густо пестрит цветами. Зеленые кусты пахучего можжевельника остроконечными копенками рассыпались по ней. Теплом и покоем веет от малого холмика.
Дедушка Савел сидит неподвижно, прислонившись спиной к сосне. Расстегнутый ворот полотняной рубахи прикрыт широкой белой бородой. Серые полусомкнутые глаза деда немигающе смотрят в чащу леса, окружившего поляну со всех сторон, густо разросшиеся пучковатые брови медленно и беспрестанно шевелятся, то сдвигаясь, то раздвигаясь.
Как перед ожиданием необычного и торжественного, с лица деда Савела сходит привычное веселое добродушие. Он становится задумчивым и почти строгим.
По сторонам немолчно и ровно шумит лес. В тон сосновому шуму задумчивый голос деда становится глухим и далеким, будто не он говорит, а сама ожидаемая нами сказка, невидимая и таинственная, по зову деда медленно идет к по лесным тропинкам, и мы, затаив дыхание, слышим и ждем ее приближения.
Горе проходит и забывается. Надость проходит и забывается, а сказка от малых лет до седых волос помнится. Деревья старятся, человек в землю уходит, а сказка живет — берет нас в плен незнакомый и далекий голос, в мерном и глуховатом гудении которого таится неведомая покоряющая сила.
Мы сидим не шевелясь, боясь даже шорохом нарушить задумчивую и торжественную речь старого лесника. Он жесткими жилистыми руками захватывает в кулаки тесемку пояса, вздыхает глубоко, словно совершил самое трудное — вызвал к жизни далекие видения. Молчит минуту, не спуская глаз с ближайшей опушки бора, и успокоенно продолжает:
— Давно это было. Так давно, что ни отцы, ни деды наши не помнят, только по рассказам своих дедов знают.
Деревень наших тогда и в помине не было, а шумел по всему Заречью сосновый бор. Хоронились в нем от наезжих врагов да от своих хозяев беглые люди. Зверя гоняли, рыбой промышляли, тем и сыты были.
И появились среди лесных людей три отважных охотника — три родных брата. В ловкости да смелости не было им равных по всему Ярополческому бору. Умели они без промаха зверя убить, умели рыбу ловить, умели и врагу не кориться. Полюбил трех братьев старик лесовик и поведал им три волшебных слова. Младшему открыл он тайну, как можно сорокой оборотиться, среднему — дубовой телегой кататься по лесу, а старшему — Егору — заповедал крылья сокола. Открыл ему лесовик и заветное слово соколиное, которому все птицы повинуются.
Поднялся сокол в небо, крикнул слово грозовое соколиное, заказал появляться возле Клязьмы-реки ловчим соколам и быстрокрылым кречетам, что на охоте князьям да боярам утехой служат.
С тех пор прекратились по берегам Клязьмы боярские охоты соколиные, а ловчие соколы, пущенные на поимку дичи, улетали в привольные степи, в голубой простор— только сокольничие их и видели.
Не стало боярам ни охоты, ни утехи. Пробовали они силой лесной народ одолеть, боровыми просторами завладеть.
Не уступили вражьей силе братья. Подняли лесных людей, дубьем да топором опрокинула рать боярскую.
Одолела богатых злоба. Не стало у них в хоромах ни шкур звериных, ни рогов лосиных, ни перин лебяжьих.
Собрались бояре да дворяне совет держать, как лесной народ одолеть, непокорных богатырей покорить. И решили они пойти с жалобой на лесных братьев к самому царю. Будь, мол, защитником нам, царь-батюшка, пошли войска прогнать из леса братьев-охотников, а с остальными мы сами справимся.
Выслушал царь и приказал своим слугам:
— Седлайте коней, гоните из леса разбойников! Взяли с собой царские слуги сто прутов зеленых да сто плетей ременных, чтобы братьев лесных по спинам хлестать. Заседлали коней и пустились вскачь.
Доскакали они до леса, видят: кружит над опушкой сорока белобокая, стрекочет беспокойно, лесной народ созывает. Хотели царевы слуги криком сороку запугать, да голоса не хватает. Хотели стрелой из лука сбить, да вместо лука ременные плети у седел болтаются.
Поспорили, пошумели и дальше поехали.
Только ступили кони на лесную землю, навстречу им откуда ни возьмись телега дубовая, железом кованная. Ни людей, ни лошадей не видно: одна по дороге катится, гремит по кореньям.
Перепугались кони, по сторонам шарахнулись: раскидали по лесу царевых слуг, обратной дорогой ко дворцу умчались. А лесной народ, охотники да рыболовы, теми плетями, что на лесных братьев были заготовлены, отстегали царевых слуг и домой из лесу прогнали.
Егора же богатыря царевы слуги ни глазом не видели, ни слыхом не слышали.
Воротились они во дворец к царю и рассказали ему о своем стыде-позоре.
Рассвирепел царь, позеленел от злости, и посылает он на расправу с лесными братьями целый полк.
— Скачите в лес, повесьте на сухой осине разбойников! Понабрали слуги веревок, чтобы братьев вязать да на осине вешать, хлестнули коней и пустились вскачь.
Издали завидели царевы слуги: кружит над опушкой сорока белобокая, крыльями трепещет, громким голосом стрекочет, лесной народ созывает. Хотели они сороку криком запугать, да голоса не хватает. Хотели стрелой из лука сбить, да вместо луков веревки У седел болтаются. Выпустили на нее ловчего сокола, а он взмыл в высокое небо и улетел за Клязьму-реку, в далекие степи, в голубой простор — только его и видели.
Поссорились, повздорили царевы слуги и поскакали в лес.
Немного верст пробежали кони по лесу: глядь, откуда ни возьмись катится навстречу телега дубовая, железом ка-ванная, ни людей, ни лошадей не видно, одна мчится, гремит по кореньям.
Кони под царевыми слугами на дыбы поднимаются, а телега их с ног сшибает, наезжих недругов оглоблями глушит, тяжелыми колесами прикатывает.
Побледнел военный начальник, приказал бревнами дорогу загородить, веревками телегу опутать. Не успел договорить, как грянул из глубины бора громовой голос:
— Бей супостата!
Только голос Егора царевы слуги и слышали, а самого его не видели.
От того крика ошалели кони, полетел военный начальник с седла долой. А лесной народ, охотники да рыболовы, скрутили его теми веревками, что на лесных братьев были заготовлены, и бросили посреди леса волкам на съедение, хищным птицам на растерзание.
Дошла весть о победе лесных братьев до царевых палат. Распалился, разъярился царь, кричит на весь дворец:
— Сам поеду на разбойников! В железной клетке привезу! Заставлю железные прутья грызть!
Велит он собирать войско со всего царства, чтобы было людей больше, чем сосен в бору. Но не идут на поимку лесных братьев лапотники и сермяжники, собираются на царский зов лишь бражники да золотокафтанники.
Прослышал о том походе лукавый монах Тихоня. «Вот где, — думает, — можно будет богатой казной поживиться».
Пробрался он во дворец к царю и говорит ему:
— Не гневись, государь, на божьего странника, что пришел к твоей милости незваный, непрошеный. За милостивый дар да боярский кафтан послужу я тебе с усердием, помогу поймать лесных разбойников. И не надобно брать их силою, с божьей помощью возьмем хитростью.
И советует он напоить братьев сонным зельем.
— То искусство, — говорит, — мне ведомо. А сонных голыми руками берите, крепкими арканами вяжите, запирайте в клеть железную.
Обрадовался царь коварному предателю. Обещает его озолотить, в боярскую парчу нарядить, если Тихоня свое злое дело сделает.
Посадили монаха на коня, а за ним следом и все войско двинулось. Издали увидал Тихоня, как над лесом белобокая сорока летает, дальнюю дорогу проверяет, говорит царю:
— Прикажи, государь, остановить войска. Наперед я потихоньку один пойду, незаметно свое дело сделаю. По моим следам с судом да расправой и войску скакать.
Надел Тихоня-скуфью да схиму монашескую, во дворце для него сшитую, перекинул через плечо суму, черствым хлебом набитую, прикинулся стариком древним и поплелся по дороге в лес. Только стал к опушке подходить — летит навстречу сорока белобокая. Опустилась на дорогу, обернулась добрым молодцем, спрашивает:
— Куда, странник божий, путь держишь? Вздыхает набожно, отвечает лукавый монах:
— Иду я, добрый молодец, в лесную обитель, поклониться святым местам.
— Не видал ли ты по дороге войска царского?
— Милостив наш царь-батюшка, за лесной народ он нынче молится, желает ему доброго здравия, — смиренно говорит монах.
Не подозревает младший брат хитрых замыслов. Пожалел он странника усталого:
— Стар ты, дедушка, тяжело тебе котомку нести. Давай я помогу.
— Спаси бог тебя, добрый молодец, — сладко выговаривает Тихоня, а сам в душе ликует, что удалось обмануть ему доверчивого богатыря.
И предлагает он:
— За доброе сердце позволь напоить тебя святой водой, что несу в своей котомке из дальних мест.
И наливает он богатырю Сороке зелья сонного.
Не усомнился богатырь в страннике, выпил сонное зелье единым духом, взвалил старикову котомку себе на плечи — пошел с ним за провожатого.
Совсем недалеко прошли они лесом — катится навстречу телега дубовая, железом кованная. Ни людей, ни лошадей не видно — одна бежит, стучит по кореньям. Остановилась перед путниками — обернулась статным молодцем.
— Куда, странник божий, путь держишь? — спрашивает богатырь безвестного монаха.
Отвечает Тихоня брату среднему:
— Иду я, добрый молодец, в лесную обитель, помолиться небесным угодникам, поклониться святым местам.
— Не видал ли ты по дороге войска царского? Кладет на себя Тихоня крестное знамение, говорит молитвенным голосом:
— Милостив наш царь-батюшка, за лесной народ он молится, желает ему здоровья и благополучия.
А сам исподтишка на богатыря посматривает, благочестием своим доверчивого обманывает. Пожалел и средний брат странника.
— Стар ты, дедушка. Тяжело тебе котомку нести. Садитесь, — говорит, — на меня вместе с моим младшим братом. Подвезу я вас.
Тут достал Тихоня свою скляночку, предлагает богатырю Телеге.
— Не хочешь ли, — говорит, — святой водицы испить, что несу я с богомолья из дальних стран? Та водица силы прибавляет, богатырский век удлиняет. За помощь и доброе сердце отблагодарю тебя.
И наливает он в стаканчик зелья сонного.
Не усмотрел доверчивый богатырь злого умысла — все до дна выпил. Обернулся он снова телегой, а младший брат в сороку превратился.
Присел Тихоня рядом с сорокой на телегу, и поехали. Сорока и телега между собой негромко переговариваются.
Закрыл глаза хитрый Тихоня, делает вид, что дремлет, а сам незаметно подсматривает, каждое слово братьев подслушивает, неосторожный разговор на примету себе берет.
— Тише, брат, на ухабинах: вылетит железный шкворень — пропадет твоя голова, — говорит младший брат среднему, а сам чувствует, одолевает его тяжелый сон.
— И ты, смотри, береги свое серебряное перышко. Выпадет оно из груди — не летать тебе больше по лесу, — отвечает младшему средний брат.
И его тоже клонит тяжелый сон. Колеса окованные еле катятся. Шепчет он, превозмогая себя:
— И старшему брату, Егору, надо сказать, чтобы не покидал он темный лес. Недаром завещал старик-лесовик, чтобы пуще всего на свете стерегся он коварных людей да лесных пустырей. Вся сила его от лесной чащи.
Слушает доверчивых богатырей Тихоня, торжествует злобно. «Не в боровой чаще, на лесной поляне смерть Егору написана. Надо его на поляну выманивать».
Катится телега по лесу, только шкворень железный впереди поблескивает. Лежит рядом с Тихоней на узелке сорока — серебряное перышко на груди сверкает.
Чем дальше, тем гуще бор.
Вдруг загудели сосны, закачали в высоте вершинами — выходит на дорогу, навстречу путникам, старший брат богатырей — Егор Слово Соколиное. Увидал он на телеге Тихоню, спрашивает:
— Куда, безвестный странник, путь держишь?
А сам с монаха строгих глаз не сводит. Руки у Тихони мягкие да белые — от мальства труда не ведали, в тугом мешке сухари не початы — видно, страннику в них нет нужды, схима черная новешенька — не в таких приходят из дальних мест.
А глаза Тихони льстивые да хитрые, от прямого взгляда прячутся.
Кланяется земно, торопится улестить коварный монах Егора словами медовыми, хочет его горькими жалобами разжалобить.
— Обошел я, добрый молодец, на старческих ногах весь крещеный мир, а такой добродетели не видывал, радушнее привета не встречивал нигде. Принес я на своих плечах из дальних мест малую склянку святой воды. Кто пьет ее, тот не старится, только силы богатырю прибавляется. И тебе желаю, славный добрый молодец, здравствовать много лет.
И хочет он налить Егору зелья сонного.
Только потемнел лицом, только глазами сверкнул Егор — и выпала из рук Тихони, раскололась о сосновые коренья склянка с зельем.
Задрожал монах под суровым взглядом Егоровым, молит богатыря слезным голосом:
— Не обидьте меня, несчастного, пожалейте меня, странника убогого, проводите до первой поляночки.
А сам все назад посматривает: не спешат ли по лесу царевы конники, не мелькают ли между сосен кафтаны пестрые боярские, жемчугами да золотом шитые.
Сел Егор на телегу со странником, доехал с ним до первой лесной поляны. Растут на ней три пушистых деревца, три малютки-сосенки.
— Уходи, старик! Негоже рядом с тобой стоять, негоже в лукавые глаза глядеть, — говорит Егор.
Поднимает свой узелок Тихоня, по сторонам глазами так и шарит. А царево войско — уже вот оно: на поляну кучей высыпает, от леса богатырей отрезает.
Спит сорока, беды не чует. И Телегу сон одолел совсем.
Улучил Тихоня минуточку и выхватил из телеги железный шкворень. Покатилась по траве вместо колес голова молодецкая.
Не успел перехватить руку предателя Егор Слово Соколиное, как выдернул Тихоня из груди сороки серебряное перышко. И остался лежать мертвым на месте птицы лесной богатырь — младший брат.
Стоном застонал Егор, то увидевши.
— Ой вы, братья мои родные, товарищи дорогие! Вместе стояли мы за лесную волю, не расстанемся и в смертный час.
Грозой-мстителем встал Егор над телами братьев. Жарким гневом распласталось лицо богатыря.
А царское войско уже окружило Егора со всех сторон. Бояре арканами машут, свою победу торжествуют. Хотят они богатыря живым связать, в железную клетку запереть, поставить ее на забаву перед окнами царева дворца.
А Егор стоит не колеблется, перед вражеской силой не клонится. Ищет он под рукой дерево рослое, чтобы разбить, разметать им силу вражью. Но растут рядом на поляне лишь три пушистые сосенки, словно дети малые. Пожалел их тронуть богатырь, а схватил он ближнего боярина, одним махом сорвал его с седла расшитого, закрутил над головой — никто к Егору подступиться не отважится, от его ударов валятся с коней замертво.
Замешалось, оробело царево войско.
А тем часом хитрый монах Тихоня сзади к богатырю подбирается. И воткнул он Егору в спину отравленный ядом нож.
Ахнул, зашатался богатырь, почуяв рану смертельную. Но сильнее смерти была ненависть к предателю коварному, что из всех врагов был подлейший и трусливый враг. Ухватил Егор Тихоню за схиму черную и метнул его выше леса дремучего. Не досталось предателю ни золото, ни обещанный царем расписной кафтан боярский. Рухнул он на сосны колючие, разодрали его сучья острые, разорвали в клочья черную схиму — личину мерзкую.
А смертельно раненный богатырь крикнул слово боевое соколиное. Пронеслось оно бурей по всему лесу. Повалил со всех сторон на тот призывный клич народ лесной. Закипела вокруг малого холма борьба великая.
Только сила Егора оставила. Опустился он на сыру землю, тяжко вымолвил слово прощальное:
— Не оставил я тебя, воля вольная! Не оставил я тебя, темный лес! Берегите и вы свою землю, люди добрые!
И умолк навек.
Схоронили Егора на той поляне, между трех малюток сосенок. По правую и левую сторону положили с ним родных братьев.
Могильный холмик над ними насыпали. А царевых слуг расклевали черные вороны, растаскали звери по диким логовам.
Лохмотья Тихониной схимы предательской разлетелись по ветру, превратились в гниль болотную, подернулись поверху густой да зазывчивой мокрецом-травой. Стоит путнику ступить на зелень обманчивую — засосет его трясина черная. И люди тех мест пуще огня чураются.
А на холме Богатырей разрослась брусника сыпучая — сочная лесная ягода.
Три малютки деревца в головах богатырей могучими соснами выросли, шумят по ветру вершинами, о далеком былом людям рассказывают.
Отдыхают на холме под приветными соснами лесные путники, добрым словом отважных богатырей вспоминают. Вот и мы сегодня пришли сюда, соколики.
…Закончил свою сказку дед Савел, поднялся с земли и долго стоял над бугорком, склоня голову и упирая в грудь широкой белой бородой.
— Говорят, что вот здесь они и похоронены, — негромко добавил дедушка.
Мы стояли рядом с ним, смотря с волнением на маленький бугорок, прозванный в народе Богатырским. От сосен, поднимающихся над ним, тремя ровными полосами тянулись тени, будто неслышными шагами шли через поляну в родную чащу лесные братья — отважные русские богатыри.
Снова живыми вставали они перед нами, и сам Ярополческий бор становился будто приветливее и краше, таинственнее и роднее.
Сторожевое гнездо
Ленька Зинцов воображает себя богатырем Егором. Он отдал Павке Дудочкину подаренные дедушкой лапти и выпросил у него взамен лакированные, потрескавшиеся от времени сапоги.
— К моим штанам они как раз подходят. А тебе в лаптях ходить легче и удобнее, — так доказывает он Павке общую пользу от обмена.
Одну штанину Ленька заправляет в сапог, делая ее напуском над голенищем, другую пускает поверх голенища, подкрутив ее снизу в три кольца, и уверяет, что так, наверно, ходил по лесу Егор Слово Соколиное.
В дополнение ко всему Ленька сделал себе дубовый лук и теперь не расстается с ним: ковыряет стрелами сосны, силится послать стрелу за озеро перед сторожкой, ищет лосиную жилу на тетиву.
Костя Беленький и Ленька Зинцов понимают сказку каждый по-своему. Наш старший до полуночи просидел в шалаше перед огарком сальной свечи, переписывая дедушкину сказку, двадцать раз переспрашивая нас, как называл дедушка бутылку с отравленной водой.
— Склянка с зельем, — нехотя отвечал Ленька, А Костя снова:
— Разбилась она или раскололась?
— Раскололась. Ну тебе не все ли равно?! Только нам засыпать, Костя снова потревожит:
— Брусника над могилой богатырей, дедушка говорил, разрослась, а болотная гниль травой-мокрецом… Как это?..
— Ну, подернулась! — сердито выкрикивает Ленька и перевертывается лицом к стенке. — Перестань! Ложись спать.
Для Кости сказка сама по себе — сокровище. А Леньке хорошую сказку хочется так повернуть, чтобы самому в ней за главного героя быть.
Но если лесных братьев представлять, должно быть трое. Именно над решением этой задачи и ломает сейчас голову Ленька, подыскивая себе достойных и отважных товарищей. К Павке он стал особенно внимателен. Старается сделать или сказать ему что-нибудь приятное.
Сам предложил на губной гармошке поиграть.
— Бери! Пока в лесу живем, ты и научишься маленько-помаленьку.
Дал пустить стрелу из лука, восхищается:
— Эх, здорово у тебя получается! И снова:
— Мне бы такую силу да кулачищи, как у тебя. У богатыря Телеги тоже, наверно, был кулак так кулак! Сорока не то, — говорит он. — Сорока полегче… Давай, Павка, Телегой! Тебе в самый раз. Ты здоровый.
А сам подмигивает мне: ничего, мол, сколько ни поупрямится, а будет Телегой.
— Учись кричать сорокой, — шепчет мне Ленька.
Но Павка на «телегу» не соглашается. Спокойно возвращает Леньке лук с новенькой стрелой и решительно говорит:
— Не буду!
И между друзьями снова начинается старое.
Сегодня с утра дедушка ушел в обход своего лесного участка. Без него Ленька придумал новую затею. Он решил построить сторожевое гнездо на сосне, чтобы издали видеть каждого прохожего и проезжего.
— Мало ли разных людей по лесу без дела шатается, вот и будем за ними присматривать, дедушке сообщать.
Костя Беленький, как обычно, только поморгал удивленно белыми ресницами, услышав о новой выдумке приятеля. Павка хотел расхохотаться и уже надул щеки, но посмотрел на старшего и передумал, только показал на Леньку пальцем, как на неисправимого чудака.
После этого Ленька с ними даже разговаривать не стал, а мне кивнул головой:
— Пошли!
Я посмотрел на Костю, чтобы узнать, как он посоветует, а старший лишь плечами пожал: мое, мол, какое дело — иди, если хочется. Я и пошел за Ленькой.
У него уже и сосна облюбована, и сучьев к ней большая куча натаскана. Это совсем недалеко от дедушкиного домика, на просеке, на которую вывела нас «королева» в памятный день.
Ленькина сосна — целый шатер. Сама стоит в сторонке, а зеленые сучья до средины просеки вынесла. Снизу по стволу отмершие сучья черными костылями в телеграфном столбе торчат. Если осторожно ставить на них ногу поближе к стволу — ни один не сломится. По ним забраться для Леньки легче легкого. Подтянулся немного и пошел, как по лестнице. В самую гущу ветвей забрался.
— Подавай мне хворост! — дружелюбно говорит он сверху.
Я для Леньки не ровня. Мое дело — слушаться. Поэтому он на меня не кричит, не спорит, спокойно разговаривает. Такого Леньку и слушать приятно.
Я стараюсь. А хворостины длинные: возьмешь за конец — качаются туда и сюда. Руки дрожат от напряжения, и никак я не могу до Леньки дотянуться.
Он, цепляясь за опору вверху одной рукой, другой тянется как можно ниже. Ухватив хворостину, забирается со своей ношей наверх, скрывается в густой хвое. Там он подолгу возится, вороша зелень и хрустя ветками. Черные непокорные волосы Леньки взъерошены, густо прошиты и склеены зелеными сосновыми иглами, с плеча свисает лоскут разорванной гимнастерки.
Ленька устал и начинает злиться, но от своего не отступает: такой уж у нашего друга характер, тем более если дело наперекор пошло. Пусть, мол, Костя с Павкой смотрят на готовенькое да удивляются. А мы звать и просить их не будем.
— Положи под дерево! — сбрасывает он разорванную гимнастерку и все подгоняет, чтобы я порасторопнее работал.
Чем дальше мы продолжаем строительство, тем короче становятся сучья. Как ни тянемся мы с Ленькой друг другу навстречу, он не может ухватиться за хворостину. Даже заплакать хочется от досады. Но известно, что даже просто мальчишкам плакать не положено, а путешественникам и тем более.
— Тише! За нами подглядывают, — шепчет Ленька и проворно забирается на верх сосны, чтобы и виду не подать, с каким трудом дается нам осуществление его затеи.
Обернувшись, я успеваю увидеть, как Павка и Костя Беленький бросаются с просеки за ближнюю елку. Потом они, сохраняя безразличный и равнодушный вид, будто наше гнездо вообще их мало интересует, подходят к нам.
Костя глазами вымеривает расстояние от земли до сучьев и деловито замечает:
— Без лестницы ничего не выйдет.
— Обойдемся как-нибудь, — неприветливо и хмуро цедит сквозь зубы Ленька.
И снова наступает неловкое молчание.
— Знаете, что я придумал? — неожиданно засветившись улыбкой, говорит добродушный Костя.
Ленька сам не промах: прикидывает в уме, нет ли тут какой каверзы, покушения на его первенство в строительстве сторожевого гнезда, и глубокомысленно молчит. А Костя, ничего не объясняя, вдруг припустился к дедушкиной сторожке. Теперь пришла Ленькина очередь раскаяться, что не спросил сразу о выдумке Кости. «Кто знает, почему он убежал обратно и вернется ли? Вот теперь и раздумывай».
Но Костя возвратился быстро. Он принес в руках большой моток веревки и предложил:
— Давайте перекинем один конец веревки через сучок, а за другой будем поднимать хворост, как по блоку.
Согласие, конечно, немедленное и общее. Но перекинуть веревку, оказывается, не так-то легко. Приходится Леньке свеситься с гнезда и оттуда через толстый сучок он перепускает нам один конец веревки.
Зато как закипела работа после этого устройства! Тем более что теперь нас уже не двое, а четверо. А когда мы все вместе, то и каждый сам по себе сильнее.
Мы опутываем огромные вязанки хвороста и с восторгом наблюдаем, как от наших присядов книзу тяжелый груз поднимается кверху.
— Раз, два — дружно! Раз, два — сильно! — громко командует за каждым перехватом Павка.
Знай мы по памяти припевки, подобные тем, что заводил мужичок на срубе в деревне, они сейчас были бы очень кстати.
Ленькина задача заметно полегчала. Теперь он с высоты только наблюдает, чтобы груз не цеплялся за сучья, и, отклоняя веревку в разные стороны, дает ему направление.
— Выше дай!.. Еще наддай!.. Нажимай на мускулы! — покрикивает он, победно озирая с высоты наши владения вокруг дедушкиной сторожки.
Работа такая увлекательная и интересная, что мы готовы перегрузить с земли на сосну все, что надо и не надо. Но Ленька, как главный строитель, понимающий в этом деле толк, предупреждает:
— Хватит, а то сучья подломятся.
Тогда на смену хворосту одну за другой мы поднимаем по воздуху две охапки сена с мхом и старый потрепанный половик, предназначенный заменять роль богатого ковра в столь высокой светлице.
И уже нет заказов с сосны на новые материалы. А расставаться, снимать Костино изобретение не хочется. И мы быстро нашли ему другое применение.
— Поднимайтесь ко мне на веревке еще один! — вдруг гаркнул Ленька, словно сделал мировое открытие и объявлял о нем во всеуслышание.
— Правильно! — даже не оглянувшись на старшего, чтобы узнать его мнение, солидно пробасил Павка и немедленно начал туго опутывать меня веревкой под мышками.
Скоро я поднялся на сосну по воздуху, легко отталкиваясь ногами от ствола и придерживаясь за веревку руками.
Это было чудесное путешествие! Сердце замирало от высоты и от радости. И страшно немножко было: вдруг да развяжется, вдруг да оборвется веревка! И я крепче впивался в нее руками.
Ленька торжественно принял меня в воздушное жилище.
— Хорошо? — спрашивал он, ожидая оценки работы.
— Хорошо! — говорил я, любуясь устройством на сосне.
Сучья в новом сооружении были уложены в виде огромного грачиного гнезда. Жесткое дно выстлано мхом и сеном. Поверху Ленька разостлал полосатый «ковер», который так долго терпел унижение быть простым половиком. На высокой стройке и он возвысился.
Ленька постарался, подогнал хворостинку к хворостинке так плотно и аккуратно, что нога сквозь настил не проваливалась. В гнезде можно было стоять в полный рост двоим, даже троим одновременно — опора надежная и прочная. Устал стоять — хватит места привольно растянуться. Можно пристроиться и сидеть на суку рядом с гнездом. Здесь даже комаров было значительно меньше, чем на земле.
Замечательно придумал Ленька!
С высоты далеко налево и направо перед нами открывалась вся просека. Между стволами деревьев проступала наша поляна, видимо было озеро, над ним дедушкина сторожка с низеньким крылечком, перевернутый вверх днищем ботник у самой воды. Дальше по просеке было еще одно озеро, и мы с удивлением увидели, что возле него ходят какие-то люди.
Грибов нет. Ягоды еще не дозрели. Да и корзин у людей возле дальнего озера не было. И перед нами сразу возникла загадка: «Кто они — эти неизвестные? Откуда появились?»
Ленька тихим голосом подал на землю знак: «Молчание!» Ухватившись за ближние ветви, наклонился вперед. Старая братнина бескозырка с редкими золотистыми пятнышками на месте былой надписи «Балтийский флот» сдвинута на глаза, и Зинцов внимательно рассматривает далеких незнакомцев.
Там, у озерка, особенно удивляет нас один. Как ни далеко расстояние, но все-таки ясно видно, что вместо головы у него на плечах качается будто снежный ком — большой, без единого темного пятнышка.
Вот какие удивительные вещи открывает перед нами сторожевое гнездо!
Значит, ходит кто-то по нашим тропам, а может быть, даже следит за нами в этом безлюдном, как мы думаем, бору.
Наше воображение разыгрывается. Мы строим самые различные догадки в отношении незнакомцев у дальнего озера. Решаем на одном: кто бы они ни были, что бы против нас не задумывали — в обиду себя не дадим. Если хитрость — мы тоже сумеем быть хитрыми. А пока Ленька хочет открыто предупредить незнакомцев, что мы их обнаружили и не боимся.
На сучке — рукой подать — висит крепкий дубовый лук. За спиной у Леньки сшитый из мешковины колчан со стрелами. Ленька молча и неторопливо накладывает стрелу, оперенную жестким галочьим пером, и, прислонившись спиной к стволу, медленно и потому, кажется, особенно грозно, натягивает тетиву. Стрела взвивается и исчезает из глаз. Ленька сурово смотрит ей вслед, и взгляд его означает: «Вызов брошен — принимайте!»
Но пока мы с Зинцовым фантазируем на высоте, Костя Беленький и Павка Дудочкин остаются обыкновенными земными и напоминают нам, что им тоже хотелось бы «при-гнездиться».
Меня снова вывешивают над ветвями и осторожно приземляют. Потом мы с Павкой поднимаем Костю. На смену ему совершает воздушный путь Павка. Кузнечных дел мастер рассматривает из гнезда наше подъемное устройство и обещает надеть на сучок железную втулку, чтобы легче было тянуть груз и меньше перетиралась веревка.
— Завтра займусь, — говорит он.
Ленька, прежде чем оставить воздушную светлицу, затягивает веревку на сучке петлей, чтобы она не упала. Один конец веревки свисает вдоль ствола, не касаясь земли на высоту человеческого роста. Такая предосторожность нужна, чтобы наше новое убежище не обнаружили незнакомцы с дальнего озера или не заметил дедушка Савел, который, вероятно, не будет нас хвалить, что взяли веревку без его разрешения.
По веревке, даже без посторонней помощи, может быстро подниматься на сосну и спускаться на землю дозорный сторожевого гнезда. Он будет видеть все, что делается на просеке и вблизи нее, и сообщать в шалаш.
В дополнение всего мы хотели протянуть от сосны до шалаша бечевку и устроить сигнальный колокольчик. Но где взять бечевку длиной не меньше двухсот метров? Решили, что дозорный для вызова команды будет кричать сорокой. На его обязанности лежало теперь предупреждать «шалаш» о появлении на просеке людей и зверей, оберегать спокойствие нашего лесного жилища.
Первым дозорным сторожевого гнезда стал Ленька Зинцов — его строитель.
Чем не сказочный лесной богатырь озирает с высоты зеленые дали?
Продолжение сказки
«…Повесть в пяти частях о монахе, превратившемся в лешего, о заколдованных кладах и папоротниковом цветке, страшные истории с привидениями и двумя ведьмами, с лесной королевой и соколиным словом, с предисловием и заключением.
Предисловие».
Вслед за этим устрашающим заглавием, сочиненным по примеру одной подвернувшейся под руку божественной книжки про чертей, помечено кратко: «потом».
Это значит, что предисловие будет написано позднее. На предназначенном для него месте расставлены длинные ряды точек. Вслед за точками значится:
«Часть первая.
Когда богатырь Егор бросил монаха на сосны, Тихоня не умер. Разорвалась только его схима, а сам он оборотился в лешего. Вместо черной скуфьи надел он на голову белую шапку с большой котел, распустил космы, чтобы людей пужать.
Разнюхал он клады с самоцветами. Готовит себе боярский кафтан. Не хватает только пуговиц. Он ищет их по всему лесу. Не находит и со злости ломает сучья, которые и ночью трещат, когда все давно уже спать легли.
Это его в белой шапке с большой котел видели мы за дальним озером из сторожевого гнезда.
Кем ни прикидывайся, злой хитрец, все равно мы тебя выследим, заберем клады…
Продолжение следует».
«Часть вторая.
Без цветка папоротника не возьмешь клады. Леший Тихоня приставил к ним двух старых ведьм, огородил страшными привидениями. Откроется клад только тому, кто знает соколиное слово. Даже дедушке Савелу оно неизвестно. Его знает одна лесная королева.
Зачем в тот раз, на просеке, отпустили мы ее, не спросили?
Возьму с собой Квама, пойдем разыскивать в лесу королеву. Мне королева может и не сказать это слово. Тогда она издали сердито на меня поглядела. А Кваму, может быть, и скажет…
Продолжение следует».
…Одну за другой я листаю забытые школьные тетради. Их подарила нам учительница в ту памятную минуту, когда проводила нас до ржаного поля.
В этих тетрадях наши большие и малые приключения, встречи и беседы, радости и горести — коротенькая, без-искусственно простая и потому особенно дорогая страница незабываемого детства.
Где вы теперь, дорогая наша учительница, что первой вместе с учебниками раскрыли перед нами былинную красу родного Владимирского края, неиссякаемые истоки благородной любви к великой и щедрой природными богатствами родной земле?! Где вы, друзья далекого детства, неизменные спутники лесного похода, с которыми связана и первая мальчишеская тайна, и первая проба на кулак, и первая торжественная клятва навечно любить эту землю?!
Ни одного нет рядом. И все-таки они снова со мной.
Листая тетради, я снова вижу своих друзей такими же, как и тридцать с лишним лет назад. Вижу, как, упрятавшись за кустом, лежа на игольчатой хвойной подстилке, пишет Ленька Зинцов свою «страшную» повесть в пяти частях, с предисловием и заключением, с обязательным указанием после нескольких строк: «Продолжение следует». Для него новая забава — на минуту, и вдоховенная фантазия — не больше чем на час. Пережил волнение сочинительства с огрызком карандаша в руке — и в сторону написанное. Уже явились другие спешные дела, другие по-своему неотложные заботы. Весь он живет новым влечением, новыми замыслами и затеями. Для него не существует «вчера», есть только «сегодня» и «завтра», когда можно и фантазировать заново и по новой фантазии действовать.
Даже деревенскую поговорку, подслушанную и записанную во время похода Костей Беленьким, Ленька применительно к случаю научился подлаживать под свои привычки: «Сегодня паши, а вчера не вспашешь. Сегодня пляши, а вчера не спляшешь».
Начатую повесть Ленька «не допахал». Она кончается на третьей части словами:
«— Королева, ты знаешь соколиное слово?! — крикнул я настал натягивать лук».
Обещанное продолжение не следует.
Упрятал Ленька тетрадь в карман — и забыл. С глаз долой — из сердца вон.
И до сих пор темные перекрестные полосы на рыжей обложке, расползающиеся дыры на сгибах напоминают красноречиво о бывшем карманном употреблении тетради.
За долгие годы, что пролежала в плетеном солдатском сундуке, тетрадь выпрямилась, выровнялась. Обмякшие листы плотно прилепились один к другому и нехотя, готовые расползтись на половинки, раскрывают свои страницы.
И вспоминается, что вот так же осторожно, как приходится сегодня расклеивать эти страницы, в свое время втроем уговаривали мы Леньку Зинцова не сердиться понапрасну, не рвать на клочки, как он намеревался, своего сочинения.
Надежды Григорьевны тетради, — напоминал Костя Беленький.
— Ну и что из этого?! — с пренебрежением отвечал Зинцов, и руки, искривляя тетрадь на сгибе, уже намечали место первого разрыва.
— Тогда делай, как знаешь.
— Чепуха написана! — резко говорил Ленька. Но уже слышались в его голосе какие-то неуверенные нотки.
Очень обиделся Ленька, что его творение прочитали мы без разрешения.
— Чепуха! — решительно повторил он.
— Интересно, — сказал я. Ленька улыбнулся.
— Замечательно написано! — подхватил Павка Дудочкин.
Ленька нахмурился.
— Только конца нет, — сказал, будто вслух подумал, Костя Беленький. — Дописать бы…
Ленька пыхнул ноздрями.
— Еще чего не хочешь ли?
И, небрежно сунув тетрадь в карман, наглухо заколол его булавкой: попробуйте, мол, теперь почитайте!
Ленькина повесть казалась нам особенно выдающейся.
Самое главное для нас было не в том, что написано, а в том, кем написано. Ведь это не просто кто-нибудь — наш друг Ленька Зинцов такую занимательную историю сочинил.
С Ленькой мы и новую приманку для рыбы придумываем, с ним же на одном чурбане картошку чистим и все вместе одну белку никак приручить не можем. Ему же, автору повести в пяти частях, если начнет в постели локтями толкаться, можно и сдачу дать.
С ним вместе пришлось нам вскоре и горе горевать.
Тревожная ночь
«Без деда — без обеда». Эти слова вынесены на новую страницу Ленькиной тетради.
Они живо напомнили, что последовало за строительством сторожевого гнезда и как печально закончился радостно начавшийся день.
Бывают подобные перемены в настроении не только в бору, но и дома.
Вспомним хотя бы такое. Мать ушла на работу. Обещала вернуться к обеду. И всего-то наказала тебе к ее приходу суп разогреть да не забыть курам овса посыпать.
А ты раззаботился и дополнительно к этому стекла в окнах протер, горшочки с цветами на подоконнике розовой бумагой обернул, темную цепочку и гирьку под часами-ходиками до блеска начистил. Во всем полный порядок навел.
И ждешь не дождешься, когда мама вернется, своими глазами на все это посмотрит. А она не возвращается.
Так примерно и у нас получилось. А готовили мы в этот день к приходу дедушки не просто картофельный суп, но и свежей рыбы в него положили и пшена немножко добавили. Только приходи, дедушка, удивляйся, какое блюдо мы состряпали!
Но к полднику дед Савел не вернулся.
Тогда и записал Ленька свое знаменитое: «Без деда — без обеда».
Если чистосердечно признаться, у нас в то время даже и аппетит пропал.
Не вернулся дедушка и к вечеру. Трое часовых, сменяясь, поднимались и опускались из сторожевого гнезда, и каждый мечтал о том, как он поднимет на весь лес сорочий гвалт, увидев издали шагающего по просеке деда. Но на просеке было пустынно.
Белка, которую мы настойчиво старались приручить, прыгала с ветки на ветку возле сторожевого гнезда, цокала забавно и сердито, тараща из сосновых колючек блестящие черные глаза и настороженно подрагивая острой мордочкой. Но стоило лишь чуть шевельнуться часовому в гнезде, как она стремглав припускалась вверх по стволу и исчезала в вершинах деревьев.
Последним, уже в сумерках, на сосну поднялся Костя Беленький. Мы втроем сидели у шалаша и ждали, не позовет ли, не обрадует ли?..
Костя молчал.
Прошел целый длинный день. Пичужки, с утра до вечера без умолку щебетавшие в ветвях деревьев, умолкли и убрались в свои гнезда. Лес притих и насторожился. К потемневшему небу приклеился белый, точно вырезанный из бумаги, тонкий серпик месяца. Мы знаем, что завтра он будет еще тоньше. Узнавать это научила нас Надежда Григорьевна.
Мысленно мы проводим через рога месяца прямую линию. Если получится буква «р», значит месяц растет, и завтра его серпик будет шире, чем сегодня. А если получится «р» наоборот, кружком в обратную сторону, значит месяц идет на ущерб, завтра будет уже, чем сегодня, а потом и совсем исчезнет, пока не начнет нарождаться снова.
Позднее мы переделали объяснение учительницы немножко по-своему, чтобы легче было запомнить. «Р» — понятно, растет, в нем не ошибешься. Но «р» с кружочком в обратную сторону не бывает. Поэтому мы придумали проводить полосу только возле нижнего рога месяца, и не сверху вниз, а немножко наискосок. Получается «у», какие любит писать на плакатах и лозунгах в избе-читальне сама Надежда Григорьевна, а мы ей помогаем. От этой выдумки месяц стал нашим хорошим подсказчиком: «р» — рождается, растет, «у» — умирает, убывает.
Над озером задымился туман. Неясные тени медленно поползли по опушке. Над водой зашуршал камыш. Кто-то уркает глухо под дальним берегом. Шишки с деревьев шлепаются о землю так гулко, что невольно вздрагиваешь.
Когда дедушка с нами, эти звуки ночного леса приятны, как музыка. Под них и сучья для костра собирать веселее и спать в шалаше приятнее.
Без дедушки звуки словно переменились. Что-то предостерегающее слышится в урчании на озере, тревожное — в шорохах камыша и бора. Комары, надоедавшие и днем, теперь, будто почуяв наше одиночество, налетели гуще, пищат и жалят злее.
Даже «лесной королевы», которую еще совсем недавно снова хотелось увидеть, в ночной темноте я почему-то бояться начал. Оглядываюсь беспокойно: не следит ли она за нами?
Негромко переговариваясь между собой, мы то и дело оборачиваем глаза на месяц. Светлое пятно все-таки успокоение.
А за дедушку тревожно. Где он? Что с ним случилось?
Дополнительно к этому у Павки другая тревога. Оказывается, буква «у», что мысленно подрисовываем мы к месяцу, напоминает ему про ужин. В тон урчанию на озере у нашего друга начинает разговаривать желудок. Ленька бросает на приятеля негодующий взгляд, но Павка только виновато морщится и пожимает плечами.
— Что я с ним сделаю? Просит, — поджимает он обеими руками неугомонный живот.
Ленька доволен таким смирением друга. Он бодрится, прокашливается неторопливо и берет на себя роль покровителя и командующего.
— Ну, ужинать так ужинать! — как снисхождение на просьбу друга, решительно объявляет Ленька.
— Квам, разжигай костер! — дает он мне задание, а сам берет ведерко и бодрым шагом направляется в сторону потемневшего озера, где шуршат, не переставая, таинственно шепчутся над водой камыши.
Пример товарища — приказ: взялся один, и другой найди себе дело.
Павка немедленно отправляется на поиски сучьев, а я сгребаю руками сухие палочки и завитки бересты и развожу костер.
Оставив бесполезные в темноте наблюдения за просекой, к огоньку подходит Костя. Он клонится над костром и потирает руки.
— Свежо сегодня на сосновой вышке.
Костя жмурится от тепла и яркого света, бледное лицо чуть-чуть румянится.
— Люблю у огонька погреться, — говорит Костя.
От этого руки на морозе будут зябнуть, — замечает Павка и тут же рассказывает про своего соседа Степана Максимова, у которого руки никогда не зябнут, потому что он их никогда на огне не греет.
— Точно! — громко подтверждает возвратившийся с озера Ленька.
Он неторопливо входит в круг света, хозяйски заглядывает в котелок, в котором разогревается обеденный суп, и вешает рядом с ним на перекладину ведерко с водой.
— Озяб? — спрашивает он Костю и советует — Чаю погорячей выпей на ночь, согреет.
Перед тем как садиться ужинать, Ленька направляется в лес и приносит охапку мха; зеленой травы, сырых еловых веток. Свою ношу он складывает возле костра и понемногу подбрасывает в огонь. Густой дым поднимается столбом и, колеблемый тихим ветром, стелется по поляне.
Комары, не оставлявшие нас в покое даже возле костра, спешат побыстрее убраться от дымовой завесы. Их нестройное гудение приближается лишь в то время, когда ослабевает дым. Тогда Ленька подбрасывает в костер новую горсть травы, и снова комариный хоровод отступает.
— Волка гони огнем, а комара — дымом, — замечает Ленька, поправляя рассыпающиеся от костра огнистые головни.
Поближе к дымовой полосе мы и пристраиваемся на ужин.
Ни обычных шуток, ни смеха не слышно на поляне в этот вечер. Потеснее сдвинувшись вокруг котелка, мы молча гоняем ложки. Так же молча Костя Беленький нарезает и раскладывает хлеб, взяв на себя эту постоянную заботу деда.
Ни спора, ни вздоров нет и в помине. Какая-то особенная заботливость и предупредительность у всех по отношению друг к другу чувствуется за столом, если можно назвать столом подложенный под котелок кусок сосновой коры.
Разговоры ведутся только деловые. Все мысли вращаются вокруг отсутствующего дедушки. На смену надуманным ребяческим страхам приходит настоящая тревога. Что могло случиться со старым лесником? Что задержало его? Не мог же он заблудиться в лесу или забыть, что мы его дожидаемся?
Такое предположение Костя Беленький решительно отвергает.
— Конечно, не мог. Тут какая-то другая причина.
Но сколько мы ни ломали головы в догадках, подходящей причины отыскать не могли. Возможность нападения на дедушку волков и медведей отпадала. Насчет того, что дедушка не мог попасть в охотничий капкан, мы тоже не сомневались.
Единственное, на чем мы остановились, — это опасение, не забрел ли он в болото.
— И это не то, — помотал головой после некоторого раздумья Костя Беленький. — Если деду каждое дерево известно, не может он и болота не знать… Не то!
Леньке пришла в голову мысль о незнакомце со снежной головой, которого видели мы с вышки за дальним озером.
— Чего он здесь высматривает? Не он ли помеха дедушкиному возвращению?
Так сидели и гадали мы, забыв о сгущающейся темноте, о таинственных шорохах леса, о глухом урчании на озере. Было ясно, что с лесником случилось какое-то несчастье, и нужно было идти ему на выручку. Мы задали себе вопрос, как поступила бы в подобном случае наша учительница Надежда Григорьевна.
Где бы мы ни были, что ни делали, всегда она хоть издали, а будто напутствовала нас. В трудный момент тем более. Вспоминали, как учила нас Надежда Григорьевна про себя забывать, а товарища из беды выручать. Только тот, мол, настоящий друг, кто и в беде не оставит и в горе поддержит.
— Хорошие слова, — позевывая со скучным видом, на весь класс сказал тогда Ленька Зинцов. Потом подмигнул приятелям лукаво: «вот, мол, как по-нашему отвечать надо… Хороши, да только слова».
Больше он не подмигивал. И сейчас, когда зашла беседа, посмотрел на меня строго.
— Помнишь, как учительница из озера тебя вытаскивала?
— Еще бы не помнить!
Я представляю себе, как мы гурьбой бежим по замерзшему озеру в школу. Тонкий осенний лед потрескивает и гнется под ногами, а впереди вода выгибает его пологим бугорком. И мы бежим все быстрее, чтоб сильнее качалась «зыбка». От школы навстречу нам спешит учительница: простоволосая, в одной шерстяной фуфаечке поверх ситцевого платья. Издали машет рукой, чтобы уходили со льда.
«Чего она за нас беспокоится? — подумал я тогда. — Хоть и учительница, а все девчонка. Вот мы, мальчишки, то ли дело — бесстрашный народ!»
Вырвавшись вперед, чтобы быть на виду у Надежды Григорьевны, я думал, что сейчас от восторга взлечу на воздух, но в это самое время с треском рухнул в воду. Все мои приятели, минуту тому назад отчаянные храбрецы, среди которых был и Ленька (он, конечно, тоже не забыл об этом), разбежались кто куда, оставив меня одного висеть на скользком льду в ледяной воде.
А Надежда Григорьевна не побоялась. Ползком подобралась к полынье и вытащила меня из воды на рукаве своей голубенькой фуфаечки.
Об этом я никогда не забуду. И Ленька, конечно, не забыл.
— Надежда Григорьевна наверняка пошла бы на поиски, — уверенно говорит он.
— Ночью? — задает вопрос Костя.
Заметно, что Леньке не терпится ответить резко. Но он сдерживает себя. Сегодня особенный вечер, и дело не шуточное — нельзя петушиться. И он, пересиливая себя, говорит спокойно и веско:
— Может быть, и ночью. Хворостины зажгли, фонарь «летучую мышь» прихватили бы… Как ты думаешь, Павка?
А Павка уже дремлет. После ужина его обязательно клонит ко сну. Он протирает рукой глаза и ждет объяснения, что именно от него требуется.
.— Чтобы нас самих разыскивать не пришлось, давайте отложим-те лучше до рассвета, — говорит Костя. — Может быть, еще и придет дедушка.
В эту ночь, покинув насиженный шалаш, мы перебрались на ночлег в дедушкину сторожку. Костя Беленький сказал, что в шалаше хорошо, а за деревянными стенами все-таки спокойнее.
И, лежа в постели, мы все ожидали, не послышится ли знакомый голос, не стукнет ли дедушка в сенцах.
На поиски деда
Я проснулся, когда в сторожке было уже совсем светло. Дед Савел не вернулся.
Не желая знать о наших волнениях, утро встало веселое. Солнечные зайчики прыгали по стенам, стремительно перелетая из одного угла в другой, подрагивали светлыми пятнышками на гладко выструганных бревнах и снова вспархивали.
Откуда они, эти зайчики? Почему их так много?
За окном под лучами солнца играет озеро. Оно качается плавно, переливаясь яркими блестками. Временами по зыбкой глади припустится вдруг застоявшийся ветер, ослепит глаза закипевшей рябью, словно золотой чешуей. Тогда и по стенке, на которой я веду охоту за зайчиками, стараясь прихлопнуть их ладонью, залетают стремительно сотни неуловимых золотобоких прыгунков.
«Так вот откуда скачут они к нам в комнату!» — догадываюсь я, довольный своим открытием.
Мои друзья еще спят, несмотря на то, что дали себе слово подняться чуть свет. Верный обещанию, что будит тот, кто проснется первым, я поднимаю их.
У всех у нас сегодня первый взгляд к двери: не лежит ли в сторонке от порога маленький дедушкин топорик, не висит ли на гвозде у косяка его легонькая полотняная куртка?
— Не приходил? — отбрасывая одеяло, спрашивает Ленька Зинцов.
Я отрицательно качаю головой.
— Значит, надо идти на поиски, — возбужденно встряхивается он.
Но по заведенному строгому правилу все мы бежим сначала на озеро умываться, потом уже и за дело.
Утром Ленька увереннее, чем было вечером, заводит излюбленную тему о таинственном незнакомце со снежной головой.
— Не отвел ли он дедушку с правильной дороги? Не затуманил ли ему глаза?.. Бывает такое!
Подобные разговоры Ленька клонит к тому, чтобы мы отправились за ним на дальнее озеро, а оттуда пустились на поиски Белоголового.
— Не его нам нужно искать, а дедушку, — замечает Костя.
— Там и дедушка, — следует ответ.
Вообще насчет решительных и горячих слов у Зинцова недостатка не бывает. И произносятся они с таким вдохновенным убеждением, что нас с Павкой даже дрожь пронимает. Но Костя необычайно равнодушно слушает красноречивую фантазию друга. В отсутствие дедушки старший — снова старший. Ему принадлежит решающее слово. И он чувствует на себе эту ответственность.
Чем Ленька Зинцов горячее, тем Костя Беленький сдержанней. Эти две крайности помогают устанавливать хорошее равновесие, будто идут они с противоположных концов к одному и тому же месту и останавливаются на правильной середине.
Старший догадывается, что Зинцову, как любителю приключений, пользуясь подходящим случаем, просто хочется устроить забавную игру с поисками «таинственного незнакомца». Ради этого Ленька не побоится пробраться через любую трясину, готов проникнуть в медвежью берлогу, не пожалеет растрепать окончательно Павкины лакированные сапоги и расстрелять по «неуловимому лешему» весь свой колчан со стрелами.
По существу — это продолжение той же неоконченной Ленькиной страшной повести в пяти частях, только хочет он перенести действие из тетради в жизнь.
Старшего беспокоит, в каком глухом урочище провел дедушка сегодняшнюю ночь. Не заболел ли, не выбился ли из сил старик? Он вспоминает, что вчера утром дедушка никуда уходить не собирался, а спокойно чинил возле сторожки старую порванную сеть и, по-видимому, готовился показать нам, как ловят рыбу этой снастью.
— Кто видел, когда ушел дедушка? — спрашивает старший.
— Я рядом с ним сидел, — отзывается Павка Дудочкин.
Костю интересует, в какую сторону направился дед Савел.
— Туда, — указывает Павка направо вдоль берега озера.
— И ничего не сказал?
— Ничего… Нет, сказал. Сеть велел бросить в клетушку.
Выясняется, что дедушка собрался неожиданно и пошел торопливо. Всегда аккуратный, на этот раз он не убрал даже рыбацкую деревянную иглицу и поличку, с которыми работал над порванной сетью. Оставил в траве размотавшийся клубок пряжи.
— Еды не брал? — продолжает Костя свои расспросы. Видно, что у него есть какая-то мысль, которую он и хочет выяснить до конца.
— Дедушка и в сторожку не заходил. Взял только топорик из-за двери.
Внимательно всматриваясь в выражение лица старшего, Павка неожиданно добавляет:
— …И ружье.
— Ружье?..
Спокойный Костя Беленький быстро оборачивается к Павке.
— Дедушка с ружьем пошел?! Дудочкин утвердительно кивает.
— С двустволкой.
Жиденькие белесые брови Кости стягиваются к переносью, красноватые, прозрачные на свету ресницы учащенно мигают, словно ему попало что-то в глаза и он никак не может хорошенько рассмотреть Павку. Зато черные глаза Леньки, в которых всегда таится готовая вспыхнуть искорка, ширятся и блестят. Поставив ногу на табуретку, он выбивает о коленку запыленную бескозырку, торопливо чистит ногтем присохшие земляные пятна.
— Ясно!.. Белоголового пугнуть пошел.
До сих пор мы не только не видывали дедушку с двустволкой, но и не подозревали о ее существовании в лесной сторожке. По-видимому, дедушка прибрал ее от нас подальше, чтобы не смущала любопытства. Упоминание о ружье Ленька воспринял как решительный сигнал к атаке на неизвестного.
— Поспешим, поможем деду!
Но старший остается глух и к этому пламенному призыву.
— Слушай, Зинцов, — говорит он. Когда дело близилось к настоящему спору, старший всегда называл Леньку по фамилии. — Слушай… Какая делу польза, если мы будем попусту бегать туда и сюда?
— Значит, в сторожке сидеть полезнее?!
При таком крутом повороте и старший не сразу находится, что ответить.
Он присаживается возле освободившегося стола… Разглаживая ладонью помятую тетрадь, ведет свои рассуждения. По его твердому убеждению, дед Савел не мог уйти дальше охраняемого им участка.
— Значит, на этом участке его и нужно искать, — делает он заключение.
Положив другую тетрадку вместо линейки, Костя обводит на листе квадрат. Затем прямыми линиями разделяет этот квадрат на двенадцать равных полос. Следующие одиннадцать линий, опущенных сверху вниз, делают квадрат похожим на шахматную доску с маленькими клетками.
— Зачем это? — спрашивает заинтересованный Костиным черчением Павка.
Я вместе с табуреткой тоже перебираюсь к столу. Меня занимает, как быстро под рукой Кости десяток линий ряд за рядом превращается в клетки.
Оставив в покое бескозырку, Ленька тоже наблюдает за происходящими на листе переменами.
По рассказам деда Савела мы приблизительно представляем себе охраняемый им лесной участок. Он расходится во все стороны от сторожки примерно от шести до восьми километров. Этот участок, как мы его предполагаем, старший и начертил на листе бумаги.
Каждая клеточка представляет собой версту в длину и версту в ширину. Тонкие линии карандашом — лесные просеки.
Таким образом смутный в представлении лесной обход деда Савела становится для нас ясным.
Костя отсчитывает седьмую сверху и шестую справа клетку. Ставит в ней точку и говорит:
— Здесь сторожка.
Маленьким кружком, подходящим к линии-просеке, обводит озеро.
— Здесь мы гоняем от берега до берега дедушкин ботник, — не дожидаясь старшего, даю я объяснение Павке.
Перехватив карандаш пониже Костиной руки, ставлю вторую точку:
— Шалаш!
Старший с левой руки дает мне щелчок в лоб и продолжает работу заметно веселее.
Он опускает карандаш еще на три квадрата вниз, отводит на один вправо и ставит на скрещивании линий число «286». Оно хорошо нам понятно, это число. О двести восемьдесят шестом квартале рассказывала нам в Кокушкине бабушка Прасковья Ефремовна. От столба, помеченного этим номером, выводила нас к сторожке деда «лесная королева». Там, на поруби, в одиночестве со своими мыслями горевал пять минут оставленный за провинность Ленька Зинцов.
Несколько дней тому назад и сам столбик с номером 286 был для нас не больше, чем затерявшаяся в лесу и трудная для отыскания точка, от которой расходился во все стороны тот же безвестный путь наугад. А сегодня, помеченная в тетради, она уже служит для Кости Беленького началом отсчета длинных километров.
Левая сторона от знакомого нам столбика идет к западу, и Костя Беленький по нисходящей помечает лесные кварталы: 285, 284, 283… Конечное число в эту сторону — 279. Вправо от столба, в восточную сторону, порядковый счет кварталов доходит до 290.
Расширенными глазами я смотрю на Костю: получается, что нам известны двенадцать кварталов, большинства из которых мы даже и не видели. Как же это замечательно: сидеть в комнате и ясно видеть бор на огромную ширину!
— Подожди, подожди!.. — увлеченный изучением бора по листу бумаги, припоминаю я. — Дедушкина сторожка стоит в четыреста пятом.
— Ох, ты! Верно! — спохватывается Костя. — Чего же ты молчал до сих пор? Подсказывай.
В кружке озера он отчетливо вырисовывает «405». От этого числа заполняет всю серединную полосу большого квадрата. Теперь нам известно расположение кварталов от 399 — го до 410-го.
Удалось начало — хочется и дальше так же успешно продвигаться.
— Ленька, Павка, — приглашает обрадованный старший. — Давайте все вместе заполнять.
А Ленька Зинцов с начальственным видом стоит на противоположной стороне, протягивает мне через стол что-то зажатое между ладонями.
— Дарю за сообразительность, — передает он свое секретное из руки в руку.
Я смущенно подставляю ладонь.
— Ой!..
Рак. Большой черный рак, больно стригнув клешнями, висит у меня на пальце.
Ленька, запрокинув голову, хохочет. Костя, продолжая выводить цифры, улыбается в тетрадку, а Павка недовольно ворчит:
— Без фокусов и тут не обойдется!
Старательный, деловитый Павка любит, чтобы все было хорошо, спокойно. Хотя двенадцать на двенадцать легко подсчитать при помощи простого умножения, Дудочкин, чтобы не случилось ошибки, пересчитывает в чертеже каждый квадратик по отдельности. Пока делал замечание Леньке, держал палец на очередной клеточке.
С тем же старанием он выслушивает мнение старшего. Костя предлагает идти на поиски деда двумя отдельными группами.
— Как разделимся? — спрашивает он. Арифметически четыре на два делится без затруднения.
Но сегодня у всех единиц особые качества. Павку с Ленькой, например, без третьего отпускать никак нельзя. Ленька немедленно почувствует себя командиром, начнет крутить направо и налево, а Павка Ленькины приказы выполнять не особенно расположен. Одно деление исключается.
Костя знает также, что Леньке особенно не нравится «ходить по пятам за старшим», поэтому именно его нужно бы взять с собой.
Подобную предусмотрительность и Надежда Григорьевна— будь она с нами — одобрила бы. Но в этом случае Павка Дудочкин остается без командира и без поводыря. А ему больше нравится идти по следу и по указке. Не отстанет, точно выполнит все, что потребуется, но передовым чувствует себя неуверенно. Для меня роль ведущего в лесу тоже не подходит.
«То ли дело Ленька! — думаю я. — Это настоящий заводила!»
Одно беспокойно — завести он заведет, а вот насчет вывести — не знаю. И все-таки идти с ним интереснее, чем шагать безмолвно за скучным и рассудительным Костей Беленьким.
Насчет Леньки есть у меня и другие соображения. Думаю, что, если пойду с ним на пару, в обиде не буду.
Старший раздумывает, прикидывая, как бы не ошибиться при разделе. Он внимательно смотрит на меня и, словно угадав мои мысли, решает:
— Зинцов пойдет с Костей Крайневым, а мы — с Павлом. Согласны так?
— Все в порядке! — подмигивает мне Ленька и ползет на четвереньках под деревянные дедушкины нары, где упрятаны лук и колчан со стрелами.
Костя достает в углу на полке пудовичок с сушеной рыбой, десяток печеных картошек; раскладывает все это ровными кучками.
— Разбирайте питание на дорогу!
Сушеные окуньки и картошка у каждого в кармане. Туда же убирается ломоть хлеба. Костя прицепляет к ремешку свою сумку на пуговках и аккуратно укладывает в нее листок с квадратами.
Замечаем время по дедушкиным ходикам на стене. Закрываем сторожку на замок и, спрятав ключ в условленном месте, выходим на просеку.
Вырубленная светлая полоса для нас сегодня словно таинственный камень на распутье для сказочного витязя: отсюда наши пути расходятся в разные стороны. И никто не скажет, какие беды подстерегают или удача ждет нас в пути.
Костя задался целью все помеченные на чертеже кварталы кругом обойти, а деда Савела отыскать.
План старшего такой: каждая группа своей просекой пойдет, по кварталу в обе стороны будет прокрикивать.
— Прокрикнем?
— Прокрикнем, — поддерживает Павка Дудочкин. И дорога по прямым просекам и само словцо «прокрикнем» ему нравятся.
Путь по Костиному плану делится на две равные части. Никто не в обиде.
С места старший предлагает одной группе податься на квартал влево, другой — на столько же вправо.
— Там снова будут просеки, — говорит старший, указывая их карандашом на чертеже. — По ним пойдем в ту же сторону, куда сейчас смотрим.
— На север, — замечает Павка.
— Точно, на север. Пять кварталов — пять верст. Дальнюю верстовую полосу участка Костя снова оставляет на прокрикивание.
Затем группы расходятся еще шире. Каждая подается в сторону на четыре версты. Отсюда обе группы поворачивают на юг, охватывая таким образом весь участок, оставляя лишь самые края на прокрикивание.
— Не спутаемся?
— Не спутаемся.
Каждому видно, что пойдем мы в одну сторону, только будет между нами лесная полоса в десять верст. Идти этими просеками надо тоже десять, до южного конца участка.
И снова следует правым направо, а левым налево, чтобы сойтись вместе на просеке и всей компанией к дедушкиной сторожке возвращаться.
Мне очень нравится такой точный расчет. Даже среди леса мы себе встречу назначаем. Уверены, что именно по этому плану и должно все получиться.
Подсчитываем, сколько же каждой группе пройти нужно. Один да пять, к ним еще четыре — десять. Десять к югу и пять до встречи — еще пятнадцать. До дедушкиной сторожки — пять. В общей сложности получается тридцать верст.
Прибрасываем на болота, которые могут встретиться на пути и придется обход делать, прикидываем время на еду и отдых. Уверены, что еще засветло каждый свою половину большого квадрата одолеет.
Ленька поднимает ветку из-под ног, отвернувшись в сторону, ломает от нее две палочки и зажимает в кулаке.
— Длинная — направо, короткая — налево, — предлагает он Косте тянуть жребий.
Но старший предоставляет нам выбор без жребия.
В какую сторону, Квам, у тебя душа лежит? Кивком головы Ленька подсказывает мне.
— Направо, — говорю я.
— Кто поедет направо — коня потеряет, поедет налево — головы лишится, — изрекает Ленька, как ему запомнилось, надпись на камне перед сказочным витязем.
Павка, готовясь к расставанью, протирает ладонь о штанину.
— До свиданья, — смущаясь своей чувствительности, протягивает он руку Леньке.
Зинцов только виду не показывает, что и он взволнован таким расставаньем. Небрежно сдвинул бескозырку на затылок.
— До свиданья, Павлуша!.. Не отставай! — говорит он мне, забирая вправо, на новую просеку. А еще через три десятка шагов шепчет: — По солнышку!
В чаще леса
Так вот зачем понадобилась Леньке правая сторона! Прямая дорога просекой кажется ему легкой и скучной. Хочется потруднее да повеселее. Так раздумываю я, шагая следом за Зинцовым между стволами деревьев.
— Может, и на дальнее озеро завернем? — оборачивается он ко мне. — Для нас верста не велик крюк.
— И тридцати хватит, — говорю я.
— Пожалуй, не стоит, — соглашается Ленька. И я зачисляю себе первую победу.
По перекрестным просекам отсчитываем кварталы.
— Один… два… три… четыре…
На пятом Ленька во всю прыть припускается в чащу леса.
— Ау-у-у! — звенит из-за сосен в тишину бора. Состязаться с Ленькой в беге не только бесполезно, но и опасно. Только дай понять, что ты гонишься, не хочешь отстать от него — скроется, и не дозовешься. Поэтому я виду не подаю, что и мне хочется припуститься, ныряя между стволами, качая молодые сосенки, встряхивая густые ветви елей. Как ни хорошо знаю я Леньку, но такая игра в лесу не годится.
Разочарованный своим спутником, он дожидается меня У молодой елки.
— А зачем тебе сумку нужно таскать? — удивляется он.
— У меня карманы худые.
— Тяжелая? — спрашивает Ленька, снимая с моих плеч вещевой мешок.
— Печеная картошка там. И рыба.
— Устал?
— Ничего, — отвечаю я негромко. — Только бы дедушку найти.
— Найдем, обязательно найдем! — подбадривает Ленька.
Такой разговор мне нравится. Хорошо, если бы до конца пути не мне пришлось уговаривать Леньку, а ему приноравливаться ко мне.
Сумка, конечно, попервоначалу мне не в тягость, но если пожелал Ленька — я передаю спокойно, не выражая ни радости, ни сожаления. Знаю, что ему приятно чувствовать свое превосходство в силе и выносливости, быть моим покровителем и защитником.
Перевесив мою сумку к себе на плечи, Ленька в то же время, как равному, вручает мне взамен свой дубовый лук и колчан со стрелами.
— Береги.
…Напрасно среднерусский сосновый бор рисуют порой непролазной чащей. Ольха, березняк, осинник, по которым почти всегда густо идет молодой подлесок, — такие рощи и перелески действительно заставляют гнуться к самой земле. Продираясь молодым березняком, постоянно рискуешь на ленты располосовать рубашку. А рослый сосновый бор, прикрытый лишь высоко вверху зеленым пологом, понизу открывает широкую дорогу в любую страну. Шагай себе в полный рост.
Иногда, заглядевшись в сторону, влетишь неожиданно в можжевельник. Красивый на полянах и опушках, в глубине бора он совсем не тот: длинными крючковатыми прутьями топорщится по сторонам, заслоняя путь, цепляясь за одежду. Если не остерегаться, нетрудно оборвать подошвы и о корни сосен, налететь на дерево. Поэтому мы решаем, что нужно смотреть не по сторонам, а вперед, на солнце, которое мы с Ленькой избрали на сегодня своим путеводителем.
За двенадцать часов солнце опишет дугу вокруг Ярополческого бора. Следуя за ним, дугу поменьше сделаем мы вокруг сторожки и надеемся, что к концу пути точно выйдем на просеку.
— Выйдем, — уверенно говорит Ленька. — Не зря нас дедушка лесным правилам обучал. Беленький пусть по-своему, а мы по-другому научимся дорогу находить. Сегодня по солнышку, а там и по звездам попробуем.
Согласиться с Ленькой можно, но хвалить его лучше подождать. В ответ на похвалу обязательно новая «идея» появится, не успеешь отговаривать. А станешь поступаться — совсем в полон возьмет. Хуже того — и слушать перестанет. Зинцов лишь на час-другой послушного ценит, а потом ни дружбы, ни уважения от него не ожидай. Так что лучше сначала держаться, чем в конце на свою податливость плакаться.
— Если по солнышку — чтобы точно по солнышку, — говорю я.
— Конечно! А то как же еще?! Без дороги идти — это не шутка!
Серьезность Леньки меня успокаивает.
«Заблудиться и ему не хочется, — думаю я. — А сделаем, как наметили, тогда все по плану и получится».
Мы аукаем в пути и прислушиваемся, не подаст ли голос дедушка. Слушаем, как пролетают лесом и, медленно растворяясь, утихают вдали протяжные звуки. Только дробный перестук неутомимых дятлов доносится ответом на наш призыв. В любом, даже самом глухом и пустынном, уголке леса он всегда будет сопровождать тебя — этот четкий, бодрящий звук.
Удары между собой чередуются то размеренно редко, то сольются в одну скрипучую трель. Знай бы дятел азбуку Морзе — быть ему чемпионом по скоростной передаче на телеграфе.
Чего не придет на ум, если ноги шагают машинально, а голове и рукам нет настоящей заботы и дела!
Кукушка включается в лесную музыку с дятлом на пару. Пусть уверяют, кто не слушал ее на лесном бездорожье, что кричит кукушка монотонно и тоскливо. Но какая другая птица подаст вам вблизи так доверчиво голос, начнет отмеривать ровно и плавно свои несчетные и немножко печальные «ку-ку»?
Под кукушкину грусть мне представилась наша деревня. Затененный ивами пруд на одном конце, высокий противопожарный чан с нетронутой водой — на другом. Под окнами дома на переулке — моя старая бабушка, Анна Васильевна. Она сидит на завалинке, смотрит в сторону бора. «Как-то там наши бесталанные?»
Проводив непоседу, заскучала бабушка, что никто ее не беспокоит. Нет рядом того непослушного, что проденет замусоленную на конце нитку в иголку.
Издалека на короткую минуту увидел я добрые знакомые морщинки на дорогом лице, и снова расплываются они в солнечных лучах.
Сосновые шишки, прошелестев в вершинах, мягко шлепаются о землю. Реденький пырей окружил отживающий можжевельный куст. Одинокая рябина, забравшись в хвойную чащу неизвестно откуда, кудрявится рядом с обомшелым пеньком.
Из низинки в стороне повеяло грибной сыростью. Слабые запахи лесных цветов и трав растворяются в густом смолистом запахе бора.
Шагается легко, дышится привольно.
Только в лесу достойно оценил я свои башмаки на резиновой подметке. Кожаная скользила бы по песку, резиновая припечатывается и не так идет в глубину — держит на поверхности, облегчая шаг. Но каблуки мешают: подвертываются на корнях и шишках. Для леса обувь без каблука способнее.
В этом отношении Ленька Зинцов снова оказался в выигрыше. Павкины лакированные сапоги надоели. Надел он лыковые лапти, высоко перекрестил бечевками холщовые портянки.
Широкая и гибкая ступня лаптя на корнях не скользит, а шишки в песок вдавливает. Не приходится беспокоиться, что и подошву оторвешь, — лапоть кругом цельный. В нем нога чувствует себя свободно, как дома. Шаг спорый, уверенный.
Впереди — путеводное светило мелькает среди стволов. На смену деревьям в пути открываются перед нами поляны и поруби. На опушках полян хвойный молодняк тянет кверху прозрачно-восковые соцветия — похоже, маленькие свечи тают под солнцем на ветках сосенок.
Травянистые поляны пестрят лютиками, лесной ромашкой. Высоко поднимают головы темно-голубые колокольчики. Желтые цветы одуванчика, не успевшие превратиться в белые шары, пробиваются из травы.
Красива цветистая лесная поляна, да идти по ней несподручно. Полусгнившие пни, прикрытые зеленью сучья подстерегают на каждом шагу. И Ленька, шагая впереди, предупреждает меня:
— Осторожно — коряга.
В густом урочище, где сосна перемешана с елью и от земли веет влагой, встречаем черничник. Перед нами огромная ягодная плантация, какой мог бы позавидовать не один садовод. Низкорослые кустики со светло-зелеными листьями сплошь прикрыли моховую подстилку, на добрый километр с прибавкой осыпали ягодами приютившую их низину. Если собрать сюда сотню, даже целую тысячу деревенских ягодниц, то каждая вернулась бы домой с полной большой корзиной.
Нам жалко топтать черничную россыпь, да ногу помимо нее поставить некуда. И осторожно я шагаю за Ленькой след в след, как по ягодной грядке.
Вот где полакомиться бы всласть первыми ягодами! Ради такого удовольствия мы не пожалели бы ни губ, ни времени, но ягоды зеленые.
На кусты голубики мы и внимания не обращаем. Она еще зеленее. И то ли потому, что мы вспомнили рассказ бабушки Прасковьи Ефремовны, то ли на самом деле дурманящие кусты поблизости, будто пахнет багульником.
Лишь на одной поруби, щедро залитой солнцем, порадовала наш аппетит на ягоду зарумянившаяся земляника. Не подскажи тетерева — и ее не заметили бы.
Земляника — ягода хитрая. Она так ловко прячется под листьями, что высматривать ее нужно, пригибаясь к земле. Тетеревам способнее. В траве они от охотника прячутся и одновременно ягоду ищут. А присноровились как! Укоротил шею — и ягода, вот она, перед самым клювом висит. Вытянул чуть — и земляника уже на языке тает. Любит тетерев землянику. И брови у него красные, земляничные. Поднимает косач черную голову из-за черного пня, ни за что его не заметишь. Только и видны брови-ягодки.
До половины поруби и нас тетерева, словно глупеньких, обманывали. Мы с Ленькой даже и думать не думали, что вокруг нас всего в нескольких шагах разгуливает такое прекрасное жаркое.
Знай я об этом — вовремя приготовил бы переданный мне дубовый лук со стрелами.
Тетерева врасплох нас застали. Задумался я о чем-то. Вдруг среди удивительной тишины с громким хлопаньем крыльев вырвалась из травы, у самых Ленькиных ног, большая черная птица. Рядом с ней вспорхнула другая… третья…
Прежде чем пришли мы в себя от удивления, еще десяток птиц поднялся из травы.
Какой горькой досадой сменился наш первый внезапный испуг, когда тетеревиная стая, спокойно пролетев над нашими головами, мирно расселась по деревьям на опушке поруби!
Растерявшийся в первый миг Ленька теперь решил их перехитрить. Чтобы не тратить времени даром, он предложил устроить на поляне полдник, не сомневаясь, что, пока мы сидим, птицы снова спустятся на землю.
Мой друг не ошибся. Скоро тетерева снова опустились и пропали в траве, в какой-нибудь сотне шагов от нас. Ленька дал им успокоиться, забыть о нашем присутствии и тогда, отложив в сторону сушеного окуня, низко пригибаясь, направился к месту посадки птиц. Каково же было его удивление, когда он прошел и сто, и двести, и триста шагов и не встретил ни одной птицы, хотя они не улетали! Подался вправо — нет ничего. Осторожно двинулся влево— пусто. Тогда, забыв всякую осторожность, Ленька начал кружить по всей поруби. Оставив сумку возле пенька, я тоже к нему присоединился. Мы громко кричали, размахивали хворостинами по траве, стучали о землю, стараясь выпугнуть птиц. Напрасно!
Коварные хитрецы! Тетерева дружно взлетают в тот момент, когда мы уже потеряли надежду их найти. С досадой я швыряю хворостинку вслед стае. Распушенные хвосты даже не дрогнули. Птицы спокойно удаляются и рассаживаются на деревьях.
Ругая меня, что упустил такой замечательный случай, Ленька спешит к месту происшествия и спугивает вторую стаю. Ошалело глядит ей вслед и с силой пускает вдогонку стрелу. Не сдержавшись, швыряет и лук.
— Подними, — указывает мне Ленька.
Охотничий пыл моментально остывает, и мы принимаемся за землянику.
В успокоении приходит рассудительность.
— Тяжело с земли поднимаются, — говорит Ленька, кивая в сторону опушки.
Мне понятно, о чем идет речь.
— Глухарь тяжелее, — отвечаю я. — Его под кустом руками можно сцапать.
Леньке нравится, как чирок летает.
— Тот пулей, со свистом.
— Чирку над озером свободнее, — говорю я. — В лесу при таком полете сразу о дерево можно расшибиться.
И мы, выискивая ягоды, перебираем по памяти всех птиц, примеривая, которая как летает.
Получается, что жаворонок над полем летит вверх всех круче. Летит и поет. С неба в ржаное поле он камнем падает, даже коршуну не угнаться.
— Только не поет, — говорю я.
— Должно, дух захватывает, — высказывает свою догадку Ленька.
У коршуна главное — он дольше любой птицы летит, не махая крыльями. Одно не можем разгадать: легко это ему или трудно, на вытянутых крыльях в воздухе держаться.
— Легко, — решает Ленька. — С разгона отдыхает.
— А почему тетерев так не может?.. Кукушка?..
На боровых птиц мы достаточно нагляделись. Ни одна из них не летает, как стриж или ласточка.
— Крылья не такие, — подумав, отвечает Ленька. Действительно, у боровых птиц крылья не такие.
У стрижа и ласточки — длинные, узкие, кривым ножом изогнутые. Так и режут воздух.
Лесная птица в длину крыло не тянет, шириной берет. «Тупое крыло», — как выразился Ленька Зинцов.
Спелых ягод на поруби было не так много, чтобы нас быстро накормить, поэтому новое «почему» мы еще полчаса решали. Пришли к такому выводу, что с длинными крыльями тетереву или глухарю между сосен размахнуться бы тесно было. По той же причине у сороки и дятла крыло короткое. Для полета в ветвях оно удобнее.
Кому доведется быть в Ярополческом бору — присмотритесь, сами проверьте, правильно ли тогда мы с Ленькой решили. И не обязательно в Ярополческом. Я о нем говорю лишь по той причине, что он наш — зареченский. Такой или похожий на него найдется, может быть, и в вашей стороне, мой читатель. Меньше или больше будет, светлее или тенистее — не от того печаль. Главное, что он вам такой же родной, как для нашей округи Ярополческий. Есть в нем и солнечные поляны, и уголок дебрей при желании отыщется. Если жалость берет, что тигр или пантера тебе на пути не встретятся, то на волка или медведя можно все-таки рассчитывать. О зубрах, известных по картинкам да по рассказам о Беловежской пуще, и мы не мечтали, зато на лосей в Ярополческом бору можно насмотреться вдоволь. Удавов не видывали, обыкновенную змею гадюку встречали часто.
Вообще страхов особенных в лесу не ожидай. Они больше в сказках существуют, а пойдешь — и не отыщешь.
Может быть, тебе доводилось бывать в походах более дальних, в местах более интересных? Тогда и я радуюсь вместе с тобой. Рад, если ты и уставал, да помалкивал, не надоедал друзьям своими жалобами. Рад, если ты и робел, но не струсил в походе, и пусть не проявил себя героем, зато был хорошим товарищем, которого можно уважать и которому можно верить. Рад, если вы крепче подружились во время похода. Рад, если ты научился варить рыбацкую уху на костре и сам пришивать пуговицы к гимнастерке. Рад, если во время похода ты ближе узнал и крепче полюбил родной свой край и, может быть, мысленно или торжественно и громко, вместе с друзьями, в волнующую минуту дал себе слово своим трудом помочь сделать его еще «привлекательней, еще красивей.
Хорошие слова о боре были тогда и у нас в беседе с Ленькой, за земляникой. Мы так разговорились, что от одной темы до другой и минутной передышки не было. За беседой не заметили даже, как наш путеводитель — солнышко, забравшись с востока на самую вершину своей горки, потихоньку на запад с нее покатилось.
На той же поруби мы и вещевую сумку с ломтем хлеба и недоеденной печеной картошкой потеряли. Разве отыщешь второпях, под каким пеньком она положена!
Но Зинцов особого внимания на потерю не обратил.
— Ладно! Пускай тетерева хоть раз картошки с хлебом поедят.
Стали мы поторапливаться, чтобы потерянное время наверстать. Прикинули: срединные часы дня на поруби прогуляли — значит, к югу от сторожки меньше подались, чем вначале задумали.
Только начали быстрым шагом время нагонять — ручей на пути встретился. Глубокий ручей.
Когда нет нужды торопиться — и помехи будто в сторонку отступают. А когда времени в обрез — обязательно что-нибудь помешает. Так точно и тут.
Пришлось раздеваться. Переправа голышом не заняла много времени. На одеванье больше ушло.
А солнце, не принимая во внимание наших задержек, все катилось да катилось книзу. И даже на глаз стало заметно — уклон под ним пошел круче. Высоту светила над бором мы уже измеряли в пять, потом в четыре, потом в три сосны.
Теперь мы спешили, спешили, не прислушиваясь ни к дятлам, ни к кукушкам. Нам надо было выйти на просеку, где договаривались встретиться с Костей и Павкой. А где была она, эта просека, мы даже представления не имели. Лишь случайно мог вывести на нее маршрут «по солнышку».
«Куда мы идем? Куда выйдем?» — думал я, вопросительно посматривая на своего проводника.
Ленька молчал. Мы даже перестали аукать, потеряв надежду, что кто-нибудь отзовется. И птицы смолкали, и солнце таяло в дальних соснах.
Будь мы только деревенскими, в какое пришли бы отчаяние, как навредили бы себе, начав метаться в поисках жилища! Но мы были уже немножко лесными.
Не только Ленька, но и я твердо был уверен, что дедушкина сторожка находилась теперь к северу от нас. Мы могли отыскать и нужную просеку. Для этого требовались лишь время и солнечный свет.
В ожидании утра нам предстояло просидеть в лесу ночь. Она пугала не волками, не медведями — знакомому с шалашом и сон под кустом не страшен. Тревожно было за товарищей, которые будут ждать, беспокоиться о нас.
Впереди обозначилась не то просека, не то дорога. В это время до нас докатился неясный гул, словно ветер пролетел по вершинам деревьев. Но ни одна ветка вблизи не шелохнулась— так тихо опускался июньский погожий вечер.
Этот гул взбудоражил Леньку. Он круто повернулся и, крикнув: «За мной!», — припустился на звук.
Битюги
Проводник мой мчался сломя голову. Я больше слышал хруст сучьев, чем видел мелькавшую между деревьями фигуру Леньки. Зинцов всегда был стремителен и ловок в горячем беге, но в этот раз он превосходил самого себя. Лук за спиной и колчан со стрелами на боку не только не мешали, но словно подхлестывали Леньку при его прыжках через ветви можжевельника или свалившиеся деревья. Вот он, чуть коснувшись ствола руками, перемахнул через сосну, которую давняя буря вырвала с корнем. С головы Леньки слетела бескозырка.
Насколько хватило сил, я ускорил бег, надеясь подоспеть, пока он поднимает ее.
Не тут-то было!
Ленька на лету подхватил бескозырку и, не надевая ее па голову, припустился дальше. Побрякивание лука о колчан со стрелами и мелькание лаптей с белыми холщовыми портянками были мне сигнальными приметами. По ним направлял я бег.
«Что взбрело Леньке на ум устраивать гонки в лесу, когда и без того устали? Когда же он остановится?» — думал я, чувствуя, как часто колотится сердце.
Ноги у меня начали заплетаться. Длинные кисти пояса то и дело выбивались из кармана и задевали за каждый куст. Каблуки подвертывались на корнях деревьев, оборванная подошва хлопала и мешала бежать.
Неужели Ленька не понимает, что я выбился из сил?! Нет, он прекрасно понимает! Он все понимает! Просто ему хочется испытать меня, заставить испугаться, чтобы потом потешиться надо мной.
Мне хотелось крикнуть другу, чтобы он остановился. Но мысль, что Ленька, наверно, только и ждет этой просьбы, упрямо сжимала губы.
Ни за что!.. Буду бежать, насколько хватит сил, и упаду молча… Нет, ему не придется торжествовать, что напугал меня, а потом улыбаться снисходительно, жалеть и гладить меня, как маленького. Пусть останусь один в лесу, а звать не буду.
Так решил я, распалившись на друга. Неожиданно при налете на можжевеловый куст само собой крикнулось: — Ленька!
Зинцов только на миг приостановился и издали погрозил кулаком.
«Тише!» — так понял я этот жест.
Нет, он не от меня убегает. Тут есть какая-то другая причина.
Не раздумывая, что будет дальше, махнул приятелю рукой: «Беги!» Поднимаясь с куста, я услышал стук дятла.
Почему так поздно? Ведь он же не ночная птица?
Чем дальше бежал я за Ленькой, тем явственнее становился звук. Но он все меньше походил на стук дятла: удары редкие и не такие четкие. Они сопровождались потрескиванием ветвей. И, наконец, стал ясно различим стук топора.
«Так вот куда мчался Ленька! У запоздалого лесоруба он хочет спросить дорогу к дедушкиной сторожке», — подумал я.
И ноги легче понесли через коряги и кочки, и на сердце стало веселее.
Ленька, все еще сжимая в кулаке бескозырку, дожидался меня у выхода на порубь. Прислонившись плечом к стволу сосны, он словно прятался от кого-то.
— Что, упарился? — И он пятерней взъерошил волосы на моей голове.
Пододвинув меня под свое плечо, спросил:
— Видишь? — и пальцем показал в дальний конец поруби.
В той стороне, куда указывал Ленька, неподалеку одна от другой, стояли две лошади, запряженные в длинные роспуски. Отбивая густо поднявшихся к вечеру комаров, они беспокойно раскачивались в оглоблях, норовисто пятясь из хомутов, трясли головами, нервно били копытами землю и вздрагивали всем телом. Осекающиеся мочалистые хвосты хлестали беспрестанно направо и налево. Подскакивали тяжелые цветастые дуги, тускло поблескивали наколотые по сбруе медные бляшки, звякали отпущенные удила.
— Нэпманы! — прошептал я.
Ленька поморщился, словно чего кислого проглотил.
— Они самые, — подтвердил он.
Лошади просили ходу. Это были крупные, сильные кони, недавно появившиеся в наших местах, воронежские битюги. Их заводили нэпманы, как звали на деревне мужиков, которые после окончания гражданской войны начали вдруг неожиданно и быстро богатеть.
Во всяком случае, для нас, мальчишек, слово «нэпман» означало то же самое, что богатый, и вдобавок, как правило, сердитый мужик. С половины августа такие и дома не спят, а, зарядив ружье горохом или солью, с вечера укладываются в своем саду под яблоней, чтобы ребятишки за яблоками не лазили.
Богатели нэпманы, снимая подряды на извозные работы, арендовали рыболовные озера и водяные мельницы, снимали на укос луговые угодья, заводили крупорушки и маслобойни, ездили по деревням с веялками и сортировками, получая за пуд пропущенного зерна по три фунта пшеницы; предлагали безлошадным своих лошадей вспахать полоску и брали за это втридорога.
Нэпманы не стеснялись ни жульничества, ни прямого обмана, готовы были кольями один другого покалечить, чтобы не перебивал доходы.
Недобрая слава шла о них по деревне. Даже соседи старались своими силами со всеми делами управиться да подальше от таких людей держаться.
Лишь позднее, когда мы повзрослели, пришло к нам объяснение слова «нэпман». Было оно как клеймо жадному до наживы дельцу, что набивал сундук червонцами в годы новой экономической политики, а короче того — в годы нэпа, пришедшие на смену военному коммунизму.
Вот и довелось нам с Ленькой вечерней порой в глухом лесу с такими людьми встретиться.
Двое их было возле коней на поруби. У старшего — черная с сединой борода, стриженная широким полукругом, как у многих заречных мужиков. Глаза под насупленными густыми бровями хмуро-карие, до того внимательные и пронзительные, что смотреть в них тяжело и отвернуться смелости не хватает.
По глазам, по широкому носу с горбинкой и по всему другому обличью младший тоже был похож на него, только бороды недоставало и усы чуть-чуть пробивались.
Фуражка, придавившая стриженные в кружок волосы старшего, и кепка блином на голове младшего были такие же, как и у многих людей нашей местности. Застегнутая на все пуговицы у старшего и распахнутая настежь у младшего ватные телогрейки, постоптанные у обоих кожаные сапоги — все это было для нас давно примелькавшееся и обычное. Но будь они даже в самом бедняцком облачении, все равно бы мы точно определили, кто они. Была у них с первого взгляда заметная, отличительная от других мужиков примета.
Конь — главная отличка нэпмана, промышляющего лесными делами. А ближний Ярополческий бор для него — самая лакомая приманка.
— Подойдем? — нетвердо сказал я.
— Конечно, подойдем! Не бояться же их! — услышав робость в моем голосе, мужественно произнес Ленька.
И мы неторопливо направились к запоздалым лесорубам.
На гнедого битюга воз уже был подготовлен. Неохватной толщины и шагов пятнадцать в длину бревно лежало на разведенном роспуске. Такое же готовилось для чалого. Когда мы подходили, парень дотюкивал на нем последние сучья. Бородатый, сняв роспуск с передков, за уздцы осаживал коня.
— Подай назад! — сипел он приглушенно и сердито, выравнивая передки под комель. — Санька, выкатим комелек на подкладину. Да поживее поворачивайся! — подгонял младшего старший, берясь за стяг, вытесанный из крепкой березки.
— Сейчас, тятя!
— Хорош, Санька, нижняк для сруба будет. На купца бы такой сруб! Сто сот стоит!
— Да меру картошки, — добавляет Санька, ухмыльнувшись.
— И меру возьмем… Поддержи, я перехвачу… Держи, оболтус! Али стягом по хребтине захотел?
Санька весь напружинился. Положенное на подкладину бревно свободно пропустило под себя передки. Вершину закатывали через колесо.
— Привязывай. Клади клеймо, — отдавал распоряжения старший.
Санька залычил пенек, теснул топором по комлю уложенного на роспуск бревна.
— Поживее! Что ты, как связанный, еле шевелишься! — торопил бородатый, забирая в руки вожжи гнедого коня.
Санька сунул руку под распахнутый пиджак и вытянул откуда-то из подкладки тупоносый с обеих сторон большой молоток на черенке.
Мы подошли незамеченными.
— Здравствуйте, — сказал Ленька Зинцов. Старший быстро обернулся, молодой прикрыл молоток полой пиджака.
— Что вам здесь понадобилось? — не отвечая на приветствие и не опуская вожжей, спросил старший.
— Заблудились, дяденька. Дорогу потеряли, — откровенно признался Ленька.
— Откуда будете?
— Из Зеленого Дола. — И Ленька назвал наши фамилии.
— А-а! Солдатов сын, значит? — внимательно поглядел на меня старший. — За дичиной, что ли, охотились? — мотнул он головой на лук у Леньки за плечами.
— Ага, за дичиной, — не моргнув глазом соврал Ленька.
— И то промысел.
Хмурые глаза старшего повеселели. Он вздохнул свободно и с улыбкой глянул на Саньку.
— Вот у них учись, сынок, как надо хлеб промышлять… Ладно, хлопай.
Сбивая полотняной рукавицей комаров с крупа лошади и ни к кому не обращаясь, успокоительно добавил:
— Глупыши.
Санька стукнул молотком сначала по затесу на пеньке, потом по бревну на роспуске.
— Ну, трогай с богом, — сказал старший. — За мной держи.
— А дорогу не укажете, дяденька? — спросил я в тревоге.
— Рад бы, брат солдат, да у нас в другую сторону дорога. Вашей не знаем. Вон хоть Саньку спроси… Верно, Санька?
Что-то хитрое было, по-видимому, в этих словах. И Санька улыбнулся.
— Я не знаю.
— А вы с охотой-то поосторожнее, — внушительно и особенно серьезно посоветовал бородатый. И я понял, что он потешается над нами. — Смотрите, за какую-нибудь сороку в милицию не заграчили бы. Теперь это быстро делается.
И отец из-под насупленных бровей снова подмигнул сыну.
— Ну, ни пуха ни пера вам, охотнички.
Битюги, легко сняв с места тяжелую кладь, покачивая широкими расписными дугами, тронулись. Мы с Ленькой остались одни на поруби.
Загубленная семянка
— Что теперь будем делать? Куда идти? — упавшим голосом спросил я Леньку, когда подводы скрылись в густых сумерках бора.
— Посидим немножко да и домой пойдем, — беспечно отвечал мне Ленька.
— Перестань дурачиться, — пробовал я урезонить друга. — Где ночевать будем?
— В дедушкиной сторожке. Где же нам еще ночевать! Смиренное спокойствие Леньки в такую минуту был больше чем возмутительным. Оно было вызывающим.
Уже ночь висела над лесом. Вблизи — ни единого звука, между деревьями — ни огонька, никаких признаков жилья и человека. Надежды мои на лесоруба, который смог бы указать нам дорогу, рассеялись как дым. Мало того, мы потеряли, наверно, добрый час дорогого времени. Теперь в темноте нельзя было надеяться хотя бы на то, чтобы отыскать копну сена, в которой можно бы проспать до утра. А у нас с собой нет ни плаща, чтобы накрыться, ни спичек, чтобы развести костер.
А тут еще Ленька причудами занимается: унылый вид изображает и на меня тоску наводит. Если в другое время— пусть себе ломается! А сейчас, когда каждая минута дорога, тут уж не до фокусов.
Все это, накипевшее в душе, я залпом и выложил Леньке.
— Что, и ты будешь прикидываться на разные манеры, как хитрый нэпман?
Ленька стоял, не шевелясь, на одном месте, как-то непривычно грустно задумавшись и почти не слушая меня.
— Подожди, посидим немного, — помолчав, предложил он.
И это в то время, когда не только сидеть, простоять хотя бы минуту никакой охоты не было. Идти, бежать снова, только не оставаться на этом месте, которое стало казаться вдруг самым неуютным во всем бору.
— Костю с Павкой бы теперь сюда — поглядели бы, — задумчиво странным, печальным голосом сказал Ленька.
— Ну что ты причитаешь?! Чего размяк, как тряпка?! Тоже мне проводник! — не понимая и не пытаясь отыскивать причину странного поведения Зинцова, кипятился я.
В том, что произойдет дальше, я не сомневался: сейчас-то Ленька вспылит! Сейчас он покажет свою энергию!
«Ну, держись, Коська», — мысленно подбадривал я самого себя.
К великому моему удивлению, Ленька не вспылил. Он так же неторопливо и тихо спросил меня:
— Видишь ли, сосна-то какая?
— Что сосна?! Какая сосна?!
Ленька, не отвечая, медленно наклонился и из-под обломков сучьев и мелких веток осторожно вытащил изорванную в клочья белую тряпицу на раздробленной хворостине.
— Узнаешь? — тряхнул он дырявым лоскутом перед моими глазами.
Я глянул оторопело.
— Неужели это… она?..
И сразу отступили куда-то и страшившая недавно ночная темнота и проникающая сквозь рубашку неприятно зябкая сырость.
Я огляделся по сторонам. Да, несомненно, это была она. Как же я не заметил сразу? Как можно забыть эту порубь?
Ленька стоял позади меня. Головой я ощущал его шершавую гимнастерку. Теплое плечо друга согревало и поддерживало меня. Прижимаясь к притихшему Леньке, я чувствовал, что оба мы думаем сейчас об одном и том же.
Вот с той стороны, узнавал я темную полосу, где особенно густо столпились деревья, мы вышли на порубь. В противоположную сторону, навстречу яркому и высокому солнцу, уходил от нас на поиски дороги Костя Беленький. Возле того бугорка…
Небольшое, еле различимое сквозь туман и сумрак возвышение с разворошенной по нему кучей хвороста напоминает мне о Павкиных синяках и красных ссадинах на лице Леньки, о загадочной «лесной королеве», что метнула под ноги Павке «пятак на синяк», вывела нас из «заколдованного круга» и скрылась неведомо куда.
Теперь мы не беспокоились о ночлеге. Темнота не пугала нас. Какой-то новой, доверчивой и душевной близостью объединяли нас и минувший тревожный день, и этот полный неожиданностей вечер, и памятно знакомая порубь. Она была все та же, как и в первый день нашего скитания по лесу. Даже тряпица, поднятая на высоту и послужившая сигнальным флагом для старшего, снова лежала у наших ног. Не было лишь сосны, на вершину которой забирался Ленька. На ее месте круглым желтым пятном с проступившими светлыми капельками виднелся в сумраке широкий пень свежей валки.
— Увезли, — сказал Ленька, посмотрев в сторону, куда скрылись битюги с тяжелыми возами.
После долгого молчания это было первое слово.
— Увезли нашу сосну, — повторил он.
На прощанье Ленька воткнул обломок хворостины изорванной белой тряпицей возле свежего пня и пошел задумчиво и неторопливо, как уходят с вокзала, надолго расставшись с близким и дорогим сердцу человеком.
От желтого пня до свалившегося квартального столб от столба наискосок через верстовую полосу леса, по кот рой вела нас однажды «королева», от просеки до дедушки ной сторожки дорога была известна.
Мы не спешили.
Тихо шумели сосны. Трава, разросшаяся на поруби широкими пучками, шуршала под ногами. Над головами, над лесом звездилось высокое небо. Вместо солнца незнакомая и ясная звезда на западе, созвездие Большой Медведицы справа показывали нам путь через лесную полосу до просеки. На этот раз мы не отвлекались никакими посторонними забавами и рассуждениями. Через просветы между деревьями неотрывно наблюдали за светлой звездой в высокой синеве. И она не обманула нас — вывела на правильный путь.
С выходом на просеку кончались наши испытания и тревоги. Нужно было лишь время, чтобы добраться до дедушкиной сторожки.
Задумчивые и молчаливые, шагали мы вырубленной знакомой полосой. И представлялась мне высокая и стройная сосна — семянка с шапкой зеленых ветвей на макушке, с самодельным флажком, развевающимся над ее вершиной.
…Точно такой же, как тридцать с лишним лет назад, увидел я ее снова, перебирая старые школьные тетради.
«Неужели Пищулин?»
Трудно рассказывать о том, чего сам не испытал или не видел своими глазами.
Как завершили свой маршрут по просекам Костя Беленький и Павка Дудочкин, мне напоминает разлинованный Костей листок, похожий на шахматную доску в 144 клетки. В каждой клеточке мелко выписаны цифры, обозначающие номера кварталов. Они подсказывают, что поиски деда наш старший заботливо соединил с изучением бора.
Теперь, готовясь во время летних каникул к походу по родному краю, каждый школьник — краевед ли он, юный натуралист, любитель природы или просто любитель приключений вроде Леньки Зинцова — заранее старается обзавестись и компасом, и ручными часами, хотя бы одними на целую группу, и схемой маршрута, крупно вычерченной с административной карты области или с колхозного земельного плана.
Желающий раньше других почувствовать себя путешественником даже посох вырежет из старой бамбуковой удочки и начнет отстукивать им дорогу от города в лес.
Любо идти так лугами, полями, перелесками в удобной и прочной обуви на ногах, в свободных и легких шароварах, в ситцевой клетчатой рубашке, вместе с товарищами выверять свой маршрут по чертежу и компасу, по часам определять большие и малые привалы, где разгорится огонек костpa и под тихое урчание закипающей воды в котелке сама собой родится песня.
В послевоенные двадцатые годы, когда всюду еще сказывались следы разрухи, когда еще только оживали фабрики и заводы, не приходилось рассчитывать на многое из того, чем сейчас свободно пользуются и бывалые туристы и юные путешественники. И Костя Беленький не по готовым картам копировал, а сам на месте выверял и заполнял свой клетчатый лесной чертеж. Не так красива, зато до мельчайших деталей точна получилась Костина карта.
Вот из квадратов выведена на узенькое поле листа кривая линия. Она показывает встретившийся на пути ручей. Позднее выяснилось, что именно через него переходили мы с Ленькой в десяти верстах от наших приятелей. И кривая, разрастаясь шире, прошла через все квадраты, конец линии помечен стрелкой-указателем: «Впадает в Клязьму».
В другом месте через линию-просеку выведен извилистый круг и обозначено: «Болото. Обход вправо полкилометра».
Павка Дудочкин тоже приложил руку к Костиному чертежу. Это его тяжелыми буквами сделана приписка: «Болото моховое, клюквенное». В другом месте, черкнув стрелку, он пометил: «Грибное место». Две просеки на один квадрат выведены кверху, к северу. В клетке обозначена маленькая петушиная голова с высоким гребнем. Припоминаю, что это и моя работа, как дополнение к записям Кости и Павки. Любил я рисовать петуха с высоким гребнем. По какой причине занимает он целый лесной квартал да еще с прибавкой на волнистый гребень, объясняет одна из Костиных записей, сделанных на следующем листе:
«За дальним озером видим группу людей. С ними Белоголовый… За перекрестной просекой большой новый дом с красными петухами на крыше. За оградой лает собака».
Из чертежа Кости Беленького мы такой вывод сделали: если бы уместить весь Ярополческий бор на одном большом листе, то все кварталы слева направо пойдут по порядку, как буквы в книге. Первая строчка с первого номера и начинается. Кончился лес в ширину — строчкой ниже идет продолжение. Приравнивай его к переносу в книге и снова с левой стороны начинай читать. Только не бери чертеж югом кверху, как не читают книжку вверх ногами.
Вот какое открытие помогла нам сделать нежданно-негаданно Костина запись кварталов по клеточкам.
Вероятно, такой же книгой идет счет и в вашем бору, дорогой читатель. И у вас каждый квартальный столбик на скрещивании просек имеет четыре числа. Два из них, идущие в обычном числовом порядке, относятся к верхней, два других — к нижней строке. Вспомни номер нужного квартала, восстанови в памяти правило лесных чисел — и найдешь кратчайший путь к цели. Здесь тебе помогут держать направление и светила, и сучья деревьев, и муравьиные гнезда, и другие верные приметы.
Только не путай с ними, ни в грош не ставь приметы, подобные той, что заяц перебежал дорогу или встретилась ягодница с пустым ведерком. Из всех лесных встреч лишь одна и единственный раз заставила нас сознательно отклониться от своего пути. Но был это не безобидный заяц и не пустое ведерко. Неизвестно откуда появившийся огромный рыжий пес с оскаленными клыками и дико взъерошенной шерстью заставил нас, схватившись за руки, податься в сторону. Зато во второй раз, когда с нашей компанией был и дедушка, тот же пес, хотя рвал и метал на цепи, все-таки отшатнулся с нашей дороги. При третьей встрече, которая снова произошла в лесу, он налетел на Бурана инженера Туманова.
Вы еще не знаете ни старика Пищулина, ни инженера Туманова, ни его Бурана.
Они появились в наших записях, когда в тихом Ярополческом бору въявь обнаружилось, что не так-то здесь все спокойно, как нам казалось. Встреча с нэпманами возле срезанной сосны-семянки была для нас началом участия в больших событиях. И в центре этих событий встал дом с красными петухами, его обитатели и посетители. Записи помогают восстановить и последовательность событий. И я иду вслед за ними.
…Деда Савела никто не отыскал. Он раньше Кости и Павки вернулся в сторожку.
Когда мы с Ленькой переступили порог, старенькие ходики на стене показывали одиннадцать. Над столом висела зажженная семилинейная лампа с зеленоватым стеклянным пузырем для керосина. Сверху в отверстие лампового стекла был вложен уголек, чтобы пламя в лампе держалось ровнее и меньше было копоти.
Керосин в пузыре выгорел наполовину. Это значило, что нас ожидали давно. В летнее время дедушка редко зажигал лампу. Ситцевые занавески на окнах были отдернуты. И мы с Ленькой поняли, что это нам светили окна в разные стороны бора.
Костя и Павка сидели за столом, заканчивая и приводя в порядок свои дневные записи в тетрадях. Они просияли, увидев нас в растворе двери, но не встали навстречу, не зашумели с расспросами, только потеснились на лавке, давая нам место.
Дедушка на низенькой скамейке сидел в сторонке, поблизости печки, и ковырял кочедыком расхудившийся лапоть. Он тоже поднял голову нам навстречу, хотел сказать что-то и снова углубился в свою работу. Кочедык срывался и ковырял в руку, подрезанное и заостренное на конце лыко гнулось и плохо проходило в ячейки. Заметно, что дед Савел был не в духе.
Негромко, чтобы не отвлекать старого лесника от его работы, Ленька рассказывал о нашем походе, о лесорубах, из-за которых будто бы сбились мы с просеки, о срезанных соснах на поруби, о выходе по звездам на знакомую полосу.
— Где вы, говорите, деревья срезаны? — старательно продергивая лыко в новую клеточку на лапте, поинтересовался дедушка.
— Возле просеки, в двести восемьдесят шестом, — поспешил с ответом Ленька, гордый тем, что научился разбираться в лесных кварталах.
— Там же порубь, — по-прежнему не поднимая головы, заметил дед Савел.
— Вот на поруби это и есть. Всего там несколько сосен осталось. Ох, какие сосны! — выразил Ленька свое восхищение.
— Подожди, подожди!..
При этих словах дедушка отложил в сторону кочедык и лапоть и поднялся со скамейки.
— Как же, ты говоришь, на поруби? Туда конного и проезда нет.
— Точно, дедушка. Точно на поруби. Мы же сами своими глазами видели. Вот Костя рядом — не даст соврать… Верно, Квам?
Я подтвердил слова Зинцова. И Ленька начал подробно описывать и место, и сосну, на которую он когда-то забирался, и порванный флажок под ветвями.
И чем убедительнее доказывал Зинцов правоту своих слов, тем большая тревога отражалась на лице старого лесника. Он уже не возражал. Он только спросил нас обоих:
— Не прошиблись ненароком? Может, в другом месте свежие пеньки смотрели?
— Не только пеньки, мы видели, как и деревья увозили, — сказал я.
— Так что же вы?! — словно зацапав нэпманов в кулаки, тряхнул руками дед Савел.
Впервые видели мы его таким возбужденным и расстроенным.
— Что же вы их!.. — повторил движение взбудораженный лесник и замолчал, глянув в наши удивленные лица.
Несколько минут, неслышно ступая по полу мягкими лаптями, перетаптывался он туда-сюда, от стола к печке, от печки и до стола, то перекладывая кочедык со скамейки на шесток, то снова возвращая его с шестка на скамейку.
Делая вид, что успокоился, подсел ко мне сбоку, сказал:
— Эх, Квам, Квам! Каких ты жуликов-то упустил! Шутейно и весело хотел сказать. А не получилось.
— Ну ладно, — произнес он со вздохом. — Рассказывай подробно, как дело было.
Серьезные разговоры с шутливым видом дедушка часто с меня начинал, а потом и постарше товарищей в беседу заводил. Проще и легче строгого опроса такая беседа получалась.
Рассказал я дедушке про битюгов — гнедого и чалого, про ременную сбрую с блестками, про колеса на железном ходу, про горбоносого Саньку и про его отца, у которого борода с бровями срослась.
— Санькой, значит, сына зовут?
— Санькой отец его кричал.
А отец ли?
Отец… Похожие.
— В какую сторону они поехали? Мне трудно было объяснить.
— На восток взяли и к северу немножко, — помог мне Ленька.
— Так, — ободрил Леньку дедушка.
— Про дорогу мы старшего спросили, — вспомнил Зинцов. — Сказал, что в другую сторону у них дорога, нашей не знают.
— Это он или следы путал, или совсем про другую дорогу намекал. С беднотой ему не по пути, должно быть.
— А Костиного отца, — указал на меня Ленька, — знает. «Солдатов сын», сказал.
— Отца знает — тогда наверняка и дорогу знает, — сделал вывод дед Савел.
— Еще что видели и слышали? — опираясь ладонями на стол, чтобы подняться, спросил дедушка.
— Все, — сказал Ленька.
При этом слове и Костя Беленький и Павка Дудочкин, напряженно и встревоженно слушавшие наш отчет перед старым лесником, облегченно вздохнули. Ленька, локтями отодвинувшись от стола, шевельнулся на лавке, словно гора с плеч свалилась.
— Еще молоток, — сказал я.
И снова все замерли в ожидании, вопросительно смотря на деда.
— Какой молоток?..
Дед Савел, развернувшись на лавке, уставился на меня в упор. Глаза его расширились, словно я произнес что-то страшное, непозволительное.
— Какой молоток?! — переспросил он сорвавшимся глухим голосом, от которого у меня перехватило в горле.
— Молоток… Большой молоток, — выговорил я. — Тупоносый.
— Ну!..
Дед Савел придвинул ко мне лицо.
Я чувствовал на себе осуждающие взгляды товарищей, которые говорили: «Все кончилось хорошо. Все кончилось. Зачем тебе еще нужно было!».
Слова в голове не вязались между собой. Растерянно глядя деду в глаза, словно прося извинения за ошибку, которой не понимаю, я выпалил в отчаянии:
— Стукнул по пню… а потом по дереву…
Дедушка обмяк и осел на скамейке, словно опустился в подтаявший снег.
Это была долгая, неизмеримо долгая тишина.
— Неужели Пищулин с жуликами заодно действует? — произнес, наконец, дедушка в раздумье.
Мы молчали.
Дед Савел поднял голову и выпрямился.
— Ничего, Квам, ничего! — кивнул он, обратив внимание на мой удрученный вид. И уже совсем бодро добавил:
— Все перемелется — мука будет… Верно, Павел?
— А ты что же это, брат, про молоток-то забыл? — через меня дотянулся дед Савел до Зинцова и провел ему по волосам «встречь шерсти». -Не видал, может быть?
Но и за шутливым тоном лесника слышались нескрываемое волнение и тревога, причины которых мы не могли разгадать. С нетерпением, какого мы не замечали за дедом до сих пор, ждал он ответа на свой вопрос.
— Видел, — уверенно отозвался Ленька.
— Стукнули, значит, по пеньку?
— Стукнули.
Мы настороженно наблюдали, как подействует на дедушку такой ответ. В течение нескольких минут никто из нас не обронил ни слова.
— Вот что, соколики, — вдруг сказал дедушка твердо, приняв, по-видимому, важное решение. — Уважьте-ка лоскуток бумажки.
Костя Беленький, отделив свои записи, перевернул тетрадь на чистый лист и подал ее.
— Ну, а вам — по шалашам, — стараясь казаться веселым, посоветовал наш добрый покровитель. — Теперь все в сборе.
Стараясь не шуметь, мы потихоньку вышли из сторожки. Дед Савел остался в опустевшем доме наедине со своими думами.
Четвероногий почтальон
Взволнованные многочисленными событиями дня, непонятной тревогой дедушки, долго не засыпали мы в эту ночь. Над шалашом гудели комары, звенели в чистом ночном воздухе отчаянно и тонко, пробиваясь к нам через щели. Под дальним берегом озера гулко ухала выпь, дико хохотало ночное пугало — угрюмый филин. Впросонках подавали голоса другие, должно быть кем-то потревоженные, птицы. Невидимый зверек хлопотливо бегал вокруг шалаша маленькими торопливыми шажками, с робкой осторожностью царапал кору деревьев, шуршал тростником, будто устраивал себе постель за чуткой стенкой, по соседству с нами.
Полюбили мы свой лесной шалаш.
Каждую ночь, лежа в нем, странно было думать, что неподалеку от тебя спят или разгуливают преспокойно разные зверушки, неслышно пролетают ночные птицы; может быть, голодная лиса гонит зайца, колючий еж захоронился в траве под стенкой, выслеживая глупого мышонка, или огромный сохатый, вскинув тяжелые рога и настороженно прислушиваясь к каждому звуку, беззаботно проходит мимо нашего зеленого жилища.
Возвратившись от дедушки в шалаш, мы и о звездах переговорили и всех лесных зверей перебрали.
Лежа в постели, Костя Беленький любит вести такие беседы, а мне больше нравится слушать их.
Прикрывая глаза, я внимательно прислушивался к разговору товарищей и наблюдал за одинокой полоской света под окном сторожки. Щелка в шалаше была маленькая, полоска под окном — узенькая. Глядя на нее, глаза у меня тоже суживались. Так, казалось мне, лучше думается, скорее можно догадаться, что делает оставшийся в одиночестве дед Савел.
За ленивой разгадкой этого и явилось полное успокоение от всяких дум.
А загадка раскрылась самым быстрым и неожиданным для нас образом. Уже наутро следующего дня все мы знали, что так озаботило и расстроило деда Савела.
И до сих пор хранится вложенная в тетрадь Кости Беленького записка, которую писал дедушка в эту ночь.
Узкие, худощавые буквы экономно и старательно прилажены одна к другой. Они вытянулись прямо, словно тычинник в частоколе; по тетради в одну линейку занимают весь пробел от нижней до верхней полоски.
Это письмо с незнакомыми для нас ятями, фитой и ижицей, с твердым знаком после твердых согласных на конце слов помогло нам раскрыть и тревоги деда Савела.
С трудом разбирая слова и разглядывая незнакомые буквы, прочитали мы поутру на отдельном листочке в тетради, возвращенной дедушкой Косте:
«Фома Онучин опять зачастил в наш бор навещаться. Нонче в сумерках такое сотворил, что просто умопомрачение. Веришь, нет, две семянки подвалил и увез. Ребятишки мои на месте его застигли. Только молоды и доверчивы они на людей, хочется все в добром виде себе представить. Потому и про Онучина дурного не заметили, а сказать им правду язык мой не ворочается. Жалко малых ребятишек в такую грязь окунать.
А от меня Фома уходит, словно по духу чует. В другой раз в новом месте появляется. Один ли он орудует или в сговоре с кем, понять не могу. Только он будто заранее мою отлучку угадывает, тогда и появляется. А след свой, вражина, так заметает, что и веры нет изобличить его.
Про Пищулина тоже сумление берет: не он ли Фоме потворствует? И верится и не верится, да есть намек.
Вот какие дела, дорогой мой, здесь творятся. От них и ноги служить отказывают, и голова вкруг идет.
Сделай великую услугу, улучи часок забежать ко мне, присоветуй, как тут быть. Одному мне, чую, не справиться.
Передай низкий поклон мой Василисе Федоровне и Ефиму Максимовичу. Буду ждать тебя всенепременно».
Кому готовил дедушка свое послание указано не было. По написанному много слов перечеркнуто: видно, старался лесник, чтобы все хорошо и правильно получилось.
Ясно было, что в Костиной тетради сохранилась лишь черновая записка. Сделанную набело дед Савел у себя оставил.
Прочли мы письмо, и всем захотелось какую бы то ни было услугу дедушке оказать. Больше всего занимало нас, на какую почту и с каким почтальоном дед Савел письмо свое отправит.
Костя Беленький немедленно сумку на пуговицах к поясу прицепил, чтобы тетради под рукой находились. Сразу видно, что дедушкиного поручения ожидал. Тогда он и дорожные приметы записал бы и тропинку по листу прочертил, чтобы весь путь на бумаге был виден.
Павка Дудочкин тоже серьезности и степенности поприбавил: ремешок подтянул, сапоги пучком травы протер. На лице — сама готовность и исполнительность.
А Ленька Зинцов, наблюдая парадный вид приятелей, выдернул кисти пояса у меня из кармана, «нечаянно» грязным лаптем прошелся по Павкиному начищенному сапогу и выкатился из шалаша на солнышко. «Вот, мол, он — я! Прошу любить и жаловать, какой есть».
Только ни парадный, ни бравый вид дедушке не понадобился.
Дедушка вышел на крыльцо со старой и помятой медной трубой. «Ту-ту-у, ту-ту-у, ту-ту-у», — громко затрубил он на весь лес. А глаза смотрели строго и повелительно.
На минутку опустил трубу и снова: «Сю-да-а, сю-да-а, сю-да-а!»
Потом таким же образом просигналил третий раз и, не сказав ни слова, вернулся к себе в сторожку.
Несколько минут мы ждали необычного. Потом стали высказываться догадки, кому трубил дед Савел, откуда в лесниковой сторожке труба появилась: то ли в бору нашел ее дед Савел и просто решил испробовать, то ли она для дела хранится.
Темное пятно промелькнуло между деревьями на противоположной стороне озера. Какой-то зверь, огибая водный полукруг, стремительными прыжками мчался в нашу сторону. Мы присмирели.
Не обращая внимания на наше присутствие, он вихрем пролетел мимо. После мы узнали, что у него и кличка была вихревая — Буран.
Еще качались на следу потревоженные травы, а Буран с разбегу уже залетел на крыльцо сторожки. Поднявшись на дыбы, ударил лапами в дверь, и она со стуком распахнулась.
На звук вышел дедушка.
— Что, устал, устал? — погладил лесник доверчиво положенную ему на грудь лобастую голову. — Запыхался, жарко, — повторил дедушка, приминая ладонью послушно обмякшие острые уши собаки.
Мы наблюдали издали с любопытством и робостью.
Буран, переступив из раствора на крылечко, молча глядел в нашу сторону. Закруглившиеся большие глаза ни разу не моргнули.
Мы не решились приблизиться. На такую собаку лучше издали смотреть, чем боязливо поблизости стоять.
Шерсть на нем черная, короткая, чуть шевелится на загривке. Ростом Буран не так страшен, зато лапы — волчьим под стать, тяжелые. Грудь широкая. И по самой серединке груди узенькая белая полоска сверху вниз бежит.
— Свои, Буран, свои, — указал дедушка собаке в нашу сторону и увел ее в сени. — Отдохни в тени, отдохни, — слышали мы голос деда.
Скоро довелось нам увидеть и то, как дедушка почту отправляет. На крыльце последние сборы были.
Нащупал лесник на шее Бурана ошейник. К нему маленький кармашек пришит. Вложил туда свое письмо, застегнул на пуговицу.
— Домой, Буран, домой, — требовательно, но негромко приказал дедушка.
— Домой, домой! — не стерпев, что дело обходится без его участия, прикрикнул Ленька Зинцов.
Короткая шерсть на загривке собаки мгновенно заходила волнами, лобастая голова круто повернулась в сторону крикуна. Дедушка, глянув на Леньку, неодобрительно покачал головой и снова негромко повторил Бурану свое приказание: — Домой, домой, — и помахал рукой в сторону, откуда прибежала собака.
Четвероногий почтальон вопросительно посмотрел на деда, затем одним прыжком соскочил с крыльца и, не обращая внимания на испуганно притихшего в стороне Леньку, широкими бросками пошел по своему недавнему следу.
Три слова
Ни гармонь меня не радует, Ни бор не веселит…
Ленька Зинцов забрался в шалаш и валяется там один на сене, закинув ногу на ногу. Двадцатый раз, наверное, свое «не радует» да «не веселит», как нищий под окошком, тянет — тоску наводит.
— Чего ты воешь? — приподняв занавеску, хмуро выговорил Павка Дудочкин.
— Лень, — отвернувшись к тростниковой стенке, ответил Зинцов.
— Чего лень?
— На тебя глядеть лень!
Павка попридержал занавеску, пока одумался, и запахнул сердито.
— Не больно и просят!..
Ленька выдержал паузу и опять затянул:
— Ни гармонь меня не радует. Ни бор не веселит…
На губной гармошке подпиликнул и снова выжидает.
Павка выдержал характер. Если друг насмешки строит, так и он не уважит. Потоптался около шалаша и пошел к сторожевому гнезду.
— Втулку буду устраивать, — сказал он мне. Костин чудесно исцеленный ножичек показал.
— Все будет в порядке.
Нравится Дудочкину этот ножик. А сегодня удобный случай выпал: дедушка, проводив Бурана, с пилой в лес отправился, Костя Беленький вызвался сопровождать его. Павка и попросил:
— Ножичка бы надо хорошего. Подъемник на сосну оборудовать возьмусь.
Старший Дудочкину никогда не отказывает. Павка совестливый и бережливый, что взял у друга — возвратит честь честью. Сам протрет, в порядок приведет: принимай, как было.
Получил Павка Костин ножичек, занялся возле сторожевого гнезда: тешет, постукивает тихонько. Ленька Зинцов на тихие постуки подвывает из шалаша, затвердил свою заунывную.
А мне от нечего делать пришло в голову корабль смастерить. Большой задумал корабль: с рулевым веслом, с двумя мачтами, с трехэтажными парусами. Разноцветных бумажек на паруса и флаги заготовил, выстругиваю днище из толстой сосновой коры. «Красиво, — думаю, — пойдет мой корабль по озеру!»
Чтобы скуку разогнать, и с кораблем позабавиться не худо: все не безделье.
Тоскливо одному, когда друзья вразброд пошли. Каждый развлекает себя как умеет.
Оснастил я кораблик, подобрал на озере местечко поудобнее, где на широкую воду проход свободный, и примериваюсь, какую судну первоначальную скорость придать да так подтолкнуть, чтобы не опрокинуть его вместе с парусами. Вдруг слышу голос Леньки:
— Это еще что такое?!
«Ну, — думаю, — заметил. Придется мне со своей забавой распрощаться. Сейчас начнет Ленька мой кораблик на свой манер перекраивать. А мне останется только палочки подавать да новые бумажки вырезывать».
«Дудки, товарищ Зинцов, — решаю я про себя. — Кто строил, тот его и в плавание пошлет».
А Ленька приближается и грозный тон выше поднимает:
— Что это такое, я спрашиваю?!
Мне и оглянуться некогда, впору на вопрос ответить.
— Это?.. Это, — говорю, — кораблик. А это, — указываю на паруса, — оснасточка.
Спокойно объясняю, чтобы не дать Леньке повода к дальнейшему раздражению. А то еще кричать начнет.
— А это, — говорю, — он в плавание пошел.
И пустил игрушечное суденышко гулять по озеру.
Ох, как закрылил мой кораблик парусами, почувствовав дохнувший за тростниками ветерок! Развернулся на месте, чуть дрогнул и взял полный ход. Только узенькую ленточку глади пустил, убегая, за кормовым веслом. Выскользнул на разводину, полную солнышка, — заштопорил сразу. Покачивается у нас на виду.
— Теперь разглядел, что это? — обращаюсь я к Леньке, довольный, что все обошлось так благополучно.
— Не про то говорят, — пренебрежительно отмахивается Зинцов, — а вот про это.
В руках у Леньки узенькая полоска бумаги. Тон, каким Ленька ведет разговор, мне не нравится. Поэтому я очень равнодушно говорю:
— А-а!.. Я думал, ты про то, — указываю на кораблик. — А ты про это, — перевожу взгляд на бумажку.
— Кто подсунул?.. Кто это писал?! — допрашивает Ленька и машет бумажкой у меня перед глазами.
— Так ничего не разберешь, — говорю я, не проявляя особенного интереса к написанному.
— Ну, читай. Сам читай. — Недовольный моим равнодушием к записке, Ленька небрежно передает лоскуток в мои руки и следит исподлобья.
— Кому написано? — спрашиваю я.
— Мне подсунули. Понимаешь, вот сейчас только в шалаш подсунули!
— Значит, не мне, а тебе пишут, — говорю я. И, посматривая то в бумажку, то на Леньку, выразительно, но по складам читаю:
«Ра-бо-тал бы, ло-дырь!»
С обратной стороны полоска чистая.
— Все, — изображая недоумение, смотрю я на Зинцова и почтительно возвращаю записку. — Интересно… Убери куда-нибудь на память.
Зинцов смотрит на меня подозрительно.
— Слушай, Коська! — неожиданно выпаливает он. — Ты написал?
— Зачем мне нужно? Мы и так наговоримся.
— Твои это буковки тоненько выведены, — настойчиво утверждает Зинцов.
Я пожимаю плечами:
— Буквы как буквы, перо тоненькое.
— Ну, извини-подвинься! Павка и тоненьким нажмет, как оглоблей пропишет. Так что, кроме тебя, некому… Ну-ка, доставай карандаш!
Я без возражений выполняю указания друга и под первой строчкой с превеликим удовольствием приписываю под его диктовку вторую: «Работал бы, лодырь».
— Восклицательный знак тоже поставить?
— Ставь.
Ленька сравнивает строчки между собой, внимательно всматривается в каждую букву.
— «Рэ»… «бэ»… «дэ»… — шепчет он, чуть шевеля губами, и старательно водит пальцем с верхней строки на нижнюю, с нижней на верхнюю.
— Чего вымеривать! Скажи, что я написал, — и весь вопрос, — говорю я не без обиды.
Зинцов будто не слышит. Он еще глубже погружается в расследование тайны письма и смело приходит к решению:
— Не то!.. Похоже, не то!.. Павку еще испробовать?..
— Пава! — оборачиваясь к сторожевому гнезду, ласково зовет он Дудочкина. — Подойди на минутку… Сейчас мы и его заставим написать, — подмаргивает Ленька.
Павка приближается нехотя.
— Зачем я понадобился?
— Павел, как ты думаешь: надо записать про собаку, пока не забыли?
— Ну и записывай. Кто тебе мешает?
— Понимаешь, руку вывихнул.
— Лежа-то?
— Вон с ним баловались, — сослался на меня находчивый Ленька.
Поворчав, что зря от дела оторвали и втулка у подъемника на сосне осталась неприлаженной, Павка все-таки поступился на дружелюбный уговор.
— Ладно, говори, чего писать, — соглашается он, пристраиваясь к березовому чурбану у кострища.
— Вот, — кладет перед ним Ленька карандаш и ту же полоску бумаги чистой стороной кверху. — Пока наскоро.
И Зинцов пустился выдумывать, что Буран в этот раз работал за почтальона очень хорошо, но что он лодырь и ему надо бы чаще к нам прибегать.
— Нескладуха какая-то, — прекращает запись Пав::а и отодвигает бумажку.
— Действительно, чепуха получилась, — соглашается Зинцов. — Давай сюда. Вечером получше запишем.
А три нужных слова для него уже есть. Рассмотрев полоску и так и этак, Ленька снова говорит:
— Не то!
Для Павки подобное замечание означает, что написано плохо, а для меня — что не Павка записку в шалаш подложил. Ловок Ленька: умеет одним словом двоим на разные вопросы ответить.
А все-таки, как ни ловчи, тот, кто записку Леньке подсунул, ловчее. Никак мы его обнаружить не можем. А где-то тут он, с нами — каждый наш шаг замечает.
— Пусть следит — прятаться не будем, — угрюмо говорит Ленька. И, выказывая пренебрежение к скрывающемуся от нас незнакомцу, громко предлагает — Пошли по лесу гулять.
— А что ходить без дела? Сучья бы хоть, что ли, собирать, — с оговорками склоняется на предложение Леньки Павка Дудочкин.
— Сучья так сучья, — не возражает Зинцов. — Выберем местечко, наведем такой порядочек, что только приходи, дедушка, любоваться!
— А где найдешь такое место?
— Сейчас подумаем. Квам, — с деловитым видом говорит он мне, — готовь топоры.
Всего на минуту зашли в сторожку, а над озером перемены: легонький ботничок, который только что вверх дном на берегу лежал, теперь на днище перевернут, на воду спущен. У кормы два весла наготове.
— Кто это постарался? — спрашивает Ленька. Мы с Павкой только плечами пожимаем.
— Никто из сторожки не выходил, — говорю я.
— А может, ботник так и стоял на воду спущенный?
— Н-нет… Я отсюда кораблик запускал — видел. Ботник перевернут был, на берегу лежал.
Объясняю, а сам не понимаю, почему все это происходит. Какие-то чудеса творятся на наших глазах.
Ленька, если надо на своем поставить, и чудесам значения не придаст.
— Нам кто бы ни перевернул — все равно. Берем ботник.
— Квам, подай весло!
Ботником управлять нам уменья не занимать. В нашем заречном крае, где весенний разлив прямо под окна домов подходит, каждый шестилетний мальчишка ботником и веслом владеет.
Леньке я подаю кормовое голубое весло. Крепкое оно — из дубовой доски вытесано, чтобы на любом ветру и стрежне можно было с силой быстро ботник развернуть. Любят у нас, чтобы кормовое было издали приметное. Поэтому и окрашивают в голубой цвет. Павке досталось сосновое, некрашеное, поуже. А на мою долю выпало на тагунке сидеть— распорка такая в ботнике, — по сторонам смотреть.
Под двумя веслами хорошо пошел дедушкин ботничок-челночок. По одному борту Павка узеньким веслом часто и усердно загребает, а Ленька на широкое кормовое как наляжет— сразу почувствуешь, как вперед подались. Вода под носом ботника журкнет, а за кормой выкатится. Возле кораблика на полном ходу зигзаг описали — только бумажные паруса над волной закачались.
Послушен на поворотах и ходок дедушкин ботник. С разгона на два шага на противоположный берег его вогнали, осевшей кормой воды хватили.
— Выскакивай на берег! Берись за топоры! — молодцом-удальцом покрикивает Ленька.
Нашли мы делянку, сучьев в ней — завал. А у нас у всех такое настроение вдруг явилось — только дела подавай.
В одной сказке, помнится, богатырь реки очищал, стволы и коряги со дна выволакивал, а мы втроем дали себе задачу делянку очистить. Сами валежник рубим, вершинник стаскиваем и ровняем в ряды, сами хворост в высокие кучи укладываем. Недавнюю тоскливую песенку Ленька Зинцов на новую, веселую заменил:
— Сам топор вот так и ходит, Так и тычет долото…
Под бодрый настрой и у нас с Павкой дело веселее спорится.
— Про топор у тебя хорошо получается. А почему, Леня, еще про долото? Долота у нас нет.
— Потому, Пава, — с той же любезностью отвечает Ленька, — что я это стихотворение не писал. А у нас и под «долото» не плохо дело идет. Точно?!
— Точно, — с радостью признается Павка.
Ох, и поработали крепко мы в этот день! До вечера на делянке двадцать пять куч хвороста нагрузили. Устали здорово. И Ленька, хотя и пытался скрыть усталость, все-таки под вечер про топор с долотом не так звонко, как в начале работы, пел.
При обратной переправе новая неожиданность. Вода, которую мы немножко хватили кормой, оказалась вычерпанной. На дне ботника лежала баночка, а под тагуном зажата записка. В ней значилось:
«Выражаю благодарность за работу. Лодырю тоже».
Тут хочешь смейся, хочешь плачь: стережет нас кто-то, да и только, по пятам за нами ходит. Хорошо еще, беды не делает, добром обходится.
И главная досада — никак не можем мы обнаружить нашего преследователя.
Задумавшись, Зинцов долго сидел неподвижно на корме ботника, осматривая исподлобья лес, камыши над озером, ближние кусты ракитника. Потом медленно протянул руку, так же не спеша взял записку и положил ее в карман, где лежало первое таинственное послание.
— Придет время — поквитаемся, — выговорил он. Потом, словно отбрасывая раздумья, тряхнул головой. — Ну-ка, Пава, ударим веслами подружнее.
И повел ботник через озеро.
Русалка Светлого ручья
Дед Савел и Костя Беленький трижды приносили в этот день к сторожке широкие деревянные круги.
Не толсты они, по ободу всего вершок, а возьмешь на плечо — книзу крепко гнут. Тяжела такая ноша для дедушки. Вытряхнув ее из мешка, дед Савел подолгу сидит на скамейке возле сторожки, спину распрямляет. Только о своей усталости дедушка помалкивает, больше за Костю беспокоится.
— Отдохни, — скажет, — немножко, я один схожу.
— Я-то не устал, — ответит Костя. — Тебе труднее. Так поговорят они между собой и снова вместе отправляются.
На следующее утро все четверо вышли на помощь старому леснику.
Появился дедушка на крыльце сторожки, а мы уже наготове— ждем его. Пилу взяли, пустой мешок каждый себе через плечо перебросил. Стоим, что называется, в полном снаряжении. «Давай работы!»
— Вот это армия! — сказал дедушка. — А ну-ка, постройтесь в ряд!
Построились.
Дед Савел и говорит:
— Сегодня в вашем распоряжении два подпуска, четыре жерлицы и три удочки. Лопату, червей копать, в клетушке сами найдете. А мне в провожатые одного хватит.
Объяснил так дедушка и не по-командирски командует:
— Кто добровольно от рыбалки отказывается и хочет со мной в лесу скучать — шаг вперед!
Мы все шагнули.
Дед Савел снова растолковал, что в провожатые ему одного человека вполне достаточно, а другие пусть рыбалкой развлекаются, и еще раз повторил свою команду.
И снова мы всей шеренгой шагнули, вплотную к нему придвинулись.
— Что же это: неужели вы все скучать хотите?
— Все скучать! — ответили мы хором. Дедушка даже руками развел:
— Неужели, Квам, и ты скучать захотел?
— И я скучать.
— Хорошо… хорошо… Спокойненько! — попридерживает нашу горячность дедушка и предупреждает — Держитесь, соколики! Сами вызвались, сами на себя и пеняйте. Сейчас я вас в такую работу запрягу, что долго помнить будете… Может, передумали?.. На рыбалку останетесь?..
— С тобой пойдем!
— А рыбалка-то, гляньте-ка, какая будет, — смущает нас дедушка. — Солнышко краешком светло выходит. На воде не шумаркнет. Сейчас окуни в развед пошли, язи на песочке пасутся, лини скоро двинутся ватагами, начнут тростники потряхивать… Остаетесь? Со мной пойдете?.. Тогда слушайте…
И дед Савел отдает распоряжения:
— Павел, сумку картошки!.. Зинцов, топоры и котелок! Пилу сюда подавай! Квам, чашки-ложки готовь. Соли не забудь. Костя, прими пилу… Ну, работники, всех загрузил? А я, брат, с вами налегке пошагаю.
Приободрился, легонько тряхнул плечами, сунул за пояс свой маленький топорик — и марш мяконьким скорым шагом. И мы не отстаем. Рады, что после вчерашнего устатка сегодня с нами дедушке полегче будет. А уж мы-то постараемся, не дадим старому тяжелый груз носить. Вчетвером, будь здоров, выдюжим!
Работа оказалась хотя и не легкая, но интересная.
Дедушка нам только показывал:
— Этот пенек окоротить… И с этого кружок срезать.
— А зачем, дедушка, нужны эти круги? — не утерпел я с вопросом.
И хотя всегда на все вопросы нам дед Савел подробный ответ давал, а тут так сказал:
— Не спешите, соколики, вперед забегать. Срок наступит— все узнаете. А пока… пока давайте пилой работать.
До полудня пилили мы круги со свежих пней, в мешках на плечах носили или катком катили их до сторожки. По пути на делянках сучья в кучи собирали, порядок и чистоту в лесу наводили. А сторожку научились находить так быстро, словно она на большой дороге стоит.
Большой крюк сделали мы по лесу. Упарились в ходьбе и работе. Зато и отдых у нас был такой, которого не знает тот, кто не уставал.
В лесу мы и картошку пекли и суп варили. А потом и новую сказку с собой в шалаш принесли, пополнили записи в тетрадях, подаренных Надеждой Григорьевной.
Есть в Ярополческом бору такое место, что без дремучей тени прохладой путника привораживает.
Пробиваясь из лесной чащи, на зеленую поляну выбегает веселый ручеек. Не широк и не глубок он, а говорлив да ясен. Глянешь с берега — и весь он до самого дна перед тобой раскрывается. Серебристые рыбки плавают шустрыми стайками: махни с берега рукой — разбегутся в разные стороны. Гибкие длинные водоросли, распластавшись по течению, чуть шевелят сочными зелеными листьями.
Песчаное дно вздыхает и колеблется, словно живое: то бьют из-под земли, поднимая легкий речной песок, крошечные, без числа и счета родники. Они булькают, выбиваясь капельками на поверхность, и весь ручей пузырится, словно под крупным летним дождем.
Ключи забрались даже на самый берег и струятся к ручейку, извиваясь по желтому песку или переливаясь блестящими капельками по сочной траве, по мелким голубым лепесткам прильнувших к земле незабудок.
Сюда, на зеленый берег лесного ручья, и вышли мы с дедушкой, закончив катать круги. Сверху солнце печет, а мы опустили с берега ноги в студеную воду — всему телу прохладно.
Дедушка Савел рядом с нами на песке сидит. Он и легонького пиджачка не снимает, и ног не мочит. Говорит: «Молодому жарко, а старому в самый аккурат».
Картуз свой на колени положил, греет разрумянившуюся под солнцем лысину. Любит он так вот, простоволосым, лесную тишину слушать, чуткие ветерки ловить. Где в этот час его думы — никто не знает, и сам дедушка, пожалуй, сказать не может.
Спросим мы, над чем дедушка задумался, а он ответит: «Обо всем мечтается».
— Дедушка, а как этот ручей называется? — тихо спросил Костя Беленький.
— Этот-то?.. Светлым зовут его, соколики. Светлый ручей. Вон вода-то в нем, как слезка, прозрачная. А то, бывает, Русалкин ручей кто скажет. И так зовут.
— Почему Русалкин, дедушка?
— Русалкин-то?.. Это история длинная.
— Расскажи, дедушка!
Дед Савел ото лба до затылка лысину рукой потрогал, пояснил:
— Боюсь, не испеклись бы. Жарко будет.
Потом наклонился в сторону, нарвал большой пучок травы, растряс его рыхленько в фуражку.
— Так про ручей рассказать вам?.. Что же, я у вас в долгу как в шелку. Сегодня вы, можно сказать, сказку трудом заработали… Про ручей помню…
Я пристроился рядом с дедушкой и помалкиваю. Он фуражку с травой себе на голову вверх тульей положил: и лысина от солнцепека прикрыта, и голова дышит. Травинки из картуза по сторонам свисают. А дедушка нас к сказке подготавливает:
— Слушайте.
От старых людей идет молва, что не зря зовут Русалкиным этот ручей. Только Светлым Назвался он в давнее время. Новое имя дали, когда русалка в нем поселилась.
Поздним вечером, чуть начнет подниматься туман над водой, или ранним утром, когда дымятся травы, появляется она на берегу, словно легкое облачко, прозрачная. Сядет над ручейком, волосы свои зеленые отжимает, капельками на воду струит, сама чуть слышно песни поет. А песни у нее грустные-прегрустные.
Была русалка любимой девушкой Егора, лесного богатыря. Единственной дочкой росла она у старого лесника, жила вместе с отцом в маленьком лесном домике. Там и встретилась с Егором и полюбила его всей душой. А когда услышала о гибели любимого, прибежала к лесному ручью, где раньше на бережку вместе сиживали, о вольной жизни лесных людей разговор вели, опустилась на холодное дно и стала лесной русалкой.
Долго боялись люди по берегу ручья ходить: как бы не защекотала, не обвела ворожбой русалка да не заманила к себе на дно. Только русалка Светлого ручья зла никому не делала, сама от посторонних глаз уходила.
От людей укрывалась, а думать о них не забывала. Увидит она издали прохожего, отойдет под берег и запоет печально, сама слезы льет, несчастную любовь оплакивает. А в те дни у кого своего горя не было! Послушают ее люди— сами наплачутся, на душе будто легче станет.
Забыли про боязнь и стали заречные жители в горе да беде к Светлому ручью ходить, песни лесной русалки слушать. Старому в них одинокая печаль слышится, а молодому — светлая радость. Пытались даже молодые поближе к русалке подойти, в лицо ее увидеть, тихую песню яснее услышать. Но уходила русалка в родной ручей или расплывалась по берегу голубым туманом.
Один только был человек, которому довелось русалку Светлого ручья вблизи увидеть, сердце с сердцем сокровенными думами поделиться.
Жил в ближней отсюда деревушке паренек-сирота. Все богатство его было — руки золотые, работящие да свирелька берестяная. Вышел он однажды поздним вечером за деревню, сел возле ручейка на бережок, опустил русые кудри над водой и не сам плачет, свирелька за него слезами заливается, о сердечной печали лесам да полям рассказывает.
Полюбил парень девушку из соседнего села, черноглазую Настеньку. Была она стройна и красива, скромна да уважительна. На работу выйдет — всякое дело у ней спорится. Люди глядят на нее — не нарадуются. А как заведет Настя песню под свирельку любимого — темный лес заслушается, умолкают соловьи по березнику.
Так жили они, счастливые, и людей своим счастьем радовали. Оба молодые да красивые. И кто видел их любовь да дружбу, будто сам становился краше.
Только недолго пришлось им счастьем наслаждаться. Ожидала их горькая разлука.
Увидал однажды Настю заезжий боярин. Приглянулась ему красавица. Приказал он слугам схватить ее и отвезти к себе во дворец.
Горько плакала, слезами молила девушка отпустить ее. Не послушал боярин горьких девичьих слез. Связали ее боярские слуги и увезли — куда? — неведомо.
Закручинился парень с той поры. На людях скрывал он злое горе, не хотел своей болью другие сердца тревожить, только ночами над ручейком свирелька горькую сиротскую долю оплакивала. Пошел бы он на поиски любимой за тридевять земель, да дороги к боярским палатам неведомы. Отомстил бы злому разлучнику, да не знает, как разыскать его.
Вот сидит он однажды вечером на берегу ручья, а свирелька поет, о сердечной тоске рассказывает. Слушают его молчаливые травы да темный лес.
И вдруг слышит парень: то ли капелька легонько на лицо ему упала, то ли ветром пахнуло или коснулся кто его лица. Поднял голову — смотрит.
Луна поднялась над лесом, осветила деревья, ручей и поляну задумчивым тихим сиянием. И в лунном свете стоит перед ним девушка. Косы зеленые ниже пояса распущены, лицо бледное, печальное. Из глаз горючие слезы катятся.
Вздрогнул парень, опустил свою свирельку. А девушка тихо так, словно тростинка на ветру запела, говорит ему, по имени называет: «Знаю я твое горе, Егорушка! Помогу тебе любовь найти!»
А в голосе девушки такая грусть. И слова звучат, как у Настеньки: только одна она с ним так нежно говорить умела.
И вспомнил парень русалку Светлого ручья. Должно быть, так же, как и его сейчас, звала она когда-то своего любимого.
А печальная девушка посмотрела на него пристально, кивнула головой, словно за собой позвала, повернулась и тихонько пошла вдоль ручья.
Поднялся Егор и как завороженный пошел за ней следом по росистому лугу. А в груди у него и грустно и радостно, теплей и светлей будто стало.
Русалка впереди идет, точно по воздуху плывет, и, не оборачиваясь, тихо говорит ему, дорогу к Настеньке показывает. Ловит Егор воздушные слова, а что не расслышит— сердце ему досказывает.
— Пойдем мы по Светлому ручью до Клязьмы-реки, — говорит ему русалка. — Вернусь я оттуда к родному ручью, потому что слово дала никогда не оставлять этот лес, где мой любимый погиб. А ты иди вниз по Клязьме до Оки-реки и дальше вдоль той реки иди берегом. Увидишь ты над Окой хоромы боярские — там твой разлучник живет и невесту твою в плену держит. По-прежнему любит, по-прежнему ждет она тебя и вместе плачет, когда плачешь ты над Светлым ручьем.
Повесил боярин на дубовых дверях тяжелые замки, только не нашел такого, которым можно любовь запереть. Прибежала бы к тебе Настенька, да охрана боярская стережет светлицу, складывает у дверей подарки боярские, а самому боярину туда хода нет.
Придешь ко дворцу и играй ту песню, что здесь над ручьем играл. Пропустит тебя в воротах стража боярская, откроет перед тобой двери охрана дворцовая.
Много будет тебе искушений и хитростей, только помни каждую минуту любовь свою. Стерегись коварного боярина, у которого вся дума — погубить тебя.
Будет говорить он красные слова — не верь ему, станет угощать — не садись за стол. Помни: вся сила твоя, пока поет свирель.
Сказала это русалка и растаяла, будто вовсе ее и не было. И не заметил парень, как, слушая ее, дошел до Клязьмы-реки.
Сделал он все, как учила русалка Светлого ручья, и через много дней пути увидел на берегу Оки-реки большой дворец. Запела, заплакала у него в руках свирель. Никогда возле боярских хором такой музыки не слыхано. Подняли головы, присмирели на цепях у ограды злые сторожевые псы. Старый воин, в железо закованный, забылся от той песни и пропустил юношу в широкие ворота. Не остановила его стража дворцовая, и раскрыл Егор расписные двери хором боярских.
Тут и сам боярин навстречу парню выбежал. Догадался он, какой гость в его палаты заявился, спешит он от незванного избавиться. Только видит боярин в глазах слуг себе неодобрение, а деревенскому парню сочувствие.
Стал он действовать хитростью. Для отвода глаз доброжелательно свои богатства показывает, расписные двери по комнатам раскрывает, жемчугами да золотом удивляет. Но не слушает Егор боярина, не смотрит на золото и жемчуга— заливается, поет у него в руках берестяная свирель, о несчастной любви рассказывает.
Стал его боярин за стол звать, вина и яства предлагать. Но не манит юношу богатый стол. Спешит он к дальней комнате, белым мрамором отделанной. Боярская стража дорогу ему показывает.
Подошел он к дальней горенке, сердцем близко любовь свою почувствовал. В лице зарумянился, печальные глаза засветились ясным светом. Тревожно и призывно запела в руках плакучая свирель.
Тогда из-за высоких мраморных стен зазвенел в ответ ей голос Настеньки. Казалось, стены дворца качнулись и раскололися, не сдержав той песни, что шла от глубины сердца. Слушая ее, забыли слуги о господских плетях, о железных цепях, о жестокой расправе за непокорность.
Старый ключник уже отпирал замки на горенке, выпускал из-под запоров черноглазую невольницу.
Схватился тут за меч боярин и ударил старого слугу поперек груди.
Сорвалась в голосе, замерла свирель… и метнула вдруг звук неслыханный, взбудоражила кровь в сердцах. Под тот призывный звук вскинулась рука сурового воина, и со звоном ударил меч в самое сердце боярина.
Покачнулся, рухнул замертво злой властитель хором и остался лежать посреди своего дворца.
А Егор с Настенькой уже уходили в лес. Оставляли расписные хоромы слуги боярские. Высокое пламя пошло гулять по стенам палат, по глухим тайникам с упрятанными в них богатствами.
По Оке-реке до Клязьмы-реки, с Клязьмы-реки на Светлый ручей вернулись Егор и Настенька, принесли с собой молодую радость, новые песни.
Такая об этом ручье молва идет, соколики. Потому и прозвали его Русалкиным…
Досказал дед Савел свою сказку и задумался, будто прислушивался к звуку далекой чудесной свирели, и, не мигая, все смотрел на ручей, откуда выходила на берег к русоволосому пареньку добрая лесная русалка, помогла ему любовь найти. Потом добавил негромко и торжественно:
— Много лет прожили они здесь, в лесной деревушке, над Светлым ручьем. От них и пошли по Заречью русоволосые песельники да рожечники. Где еще сыграют на рожке так вольно да раздольно, как в нашем Владимирском крае?
Мы сидели затаив дыхание, а в Светлом ручье все булькали и булькали пузыри, и видно было с берега, как вились по течению длинные зеленые водоросли, словно качались в прозрачной воде распущенные косы доброй лесной русалки.
Неожиданный гость
На обратном пути к сторожке всю дорогу спорили мы о русалке Светлого ручья: была она или не была на самом деле. Мне хотелось думать, что была.
— Дедушка сказкой назвал? — спросил меня Ленька Зинцов.
— Сказкой.
— Значит, выдумка.
Павка, подумав, с обычной своей серьезностью тоже подтвердил:
— Выдумка.
Нехотя, но пришлось согласиться. Очень уж хорошая и добрая была русалка. С ней и лесной ручей казался необыкновенным, а без нее — просто красивый, и больше ничего.
Только решили, что русалок, леших и всяких домовых на свете не бывает, а непонятные чудеса лишь в сказках происходят, как вдруг увидели, что из трубы сторожки идет дымок.
Дед Савел и Костя Беленький отстали от нас троих. Они идут, не торопясь, присаживаясь по пути отдохнуть, и старый лесник посвящает своего мечтательного спутника в тайны Ярополческого бора.
С утра до вечера готов слушать Костя деда Савела. А нам не терпится: в лес так в лес, домой так домой. И мы втроем всегда впереди.
Хорошо знаем, что, уходя из сторожки, мы заперли ее на замок, а ключ спрятали. Войти в дедушкин домик без нас никто не мог. И вдруг дымок: отчетливый, ясно видимый. Чуть заметно выпорхнет сначала из трубы, протянется узкой синеватой лентой и вдруг завьется серыми клубами. Огонь из печки отсвечивает в маленькое оконце. Нет никакого сомнения, что кто-то, несмотря на запоры, проник в дедушкину сторожку и свободно там хозяйничает.
«Как же могло это случиться, если чудес на свете не бывает?» — возвращаются ко мне сомнения.
Дудочкин тоже огорошен такой неожиданностью. Как тут не задуматься?
Мы останавливаемся. Ленька в нерешительности оглядывается на Павку, будто спрашивает его глазами: «Что делать? Идти вперед или дожидаться деда?»
Павка молчит, угрюмо посматривая в сторону сторожки, и, наконец, решает:
— Пошли!
На этот раз первенство в смелом решении принадлежит Павке. Ленька, чтобы не ударить в грязь лицом, тоже должен отличиться. Такое негласное соревнование между друзьями идет давно и беспрерывно.
Вот и сейчас: если Павка опередил словом, Ленька хочет опередить своего друга ногами. Дудочкин еще на месте переминается, а Ленька уже вперед рванулся. Размочаленные дедушкины лапти переброшены через плечо, и он во всю прыть частит голыми подошвами по тропинке вокруг озера. Мы с Павкой — следом. Теперь уже не робость, а другая тревога беспокоит нас: успеем ли застать в сторожке необычное, не исчезли бы таинственным образом загадочный дым над трубой и огонь в печи.
Но дым не исчезает. Мало того — за углом сторожки, на нашем постоянном месте, тоже пылает костер; и кто-то одинокий ходит вокруг него, совсем не думая ни убегать при нашем приближении, ни расплываться над озером, как делала русалка Светлого ручья, голубым туманом.
— Не замечает нас, — на бегу говорит Павка.
— Не замечает, — соглашаюсь я.
— Прибавим ходу!
Мы убыстряем бег, но топать стараемся потише. Человека возле костра уже хорошо видно. Клонясь над чурбаном, он преспокойно чистит наловленную нами рыбу, укладывает ее рядами на широкую жестяную жаровню, будто ему до нас никакого и дела нет.
От крыльца сторожки до шалаша под елью протянута длинная бечевка. На ней тоже нанизана очищенная и выпотрошенная рыба. Дедушкин плетенный из ивовых прутьев садок, который одни только мы знаем, в каком месте озера он опускает, пустой валяется возле ботника на берегу.
Значит, и здесь незнакомец уже хозяйничал.
Откуда известны ему все наши секреты?
Ленька опережает нас и первым достигает сторожки. Он останавливается в пяти шагах от костра и, подождав, пока приблизимся мы с Павкой, дерзко спрашивает незваного посетителя:
— Ты кто такой?!
Отложив недочищенную рыбину, тот поднимает загорелое, с румянцем лицо. Звонкий мальчишеский голос звучит в ответ на вопрос Зинцова:
— Я?.. Я Боря.
Ни в облике мальчишки, ни в его имени и голосе нет ничего таинственного. Поэтому Ленька, к которому и мы подошли вплотную, наступает смелее:
— А кто тебе разрешил здесь хозяйничать?! Что тебе тут надо?!
Мальчишка молчит в недоумении. А Ленька, принимая молчание за робость, решительно наступает:
— А ну, убирайся отсюда, пока цел!
Странный гость молчит, но «убираться», заметно, не собирается.
— Слышишь, что тебе говорят?!
И Зинцов угрожающе делает шаг вперед.
Мальчишка стоит не шевелясь, то посматривая в нашу сторону, то переводя глаза на показавшихся за озером дедушку и Костю. Потом он говорит совершенно спокойно:
— А я думал, что ты умнее!
Эти слова и тон, каким они произнесены, задевают Леньку за живое. Он придвигается к мальчишке еще на шаг и,^ готовый сцепиться с ним, кричит запальчиво:
— Марш отсюда, говорят тебе!.. Улепетывай, пока не попало!
Тогда мальчишка, ни чуточки не смущаясь, поднимает обеими руками за края жестянку с рыбой и неторопливо спрашивает:
— А тебя жаровней по голове никогда не били? Уверенное спокойствие и ловкие ответы незнакомого черноголового мальчишки, который стоит один против троих, нам с Павкой очень нравятся.
Ленька оглядывается и видит, что мы совсем не одобряем его поведения. Но отступать, а тем более сдаться он совсем не намерен. Свое первое приказание он переворачивает совсем в другую сторону:
— Сиди — и ни с места! Пока дедушка не подойдет, чтобы никуда ни шагу!.. А там мы с тобой поговорим!
— Вот и хорошо! Давно бы так, — мирно соглашается удивительный гость. — Тогда подсаживайтесь ближе.
В его голосе послышалось вдруг такое дружелюбие, что нам совсем не хотелось продолжать затеянную Ленькой ссору.
Пока подошли дедушка и Костя, мы с незнакомым мальчишкой не только познакомились, но и дружелюбно разговор завели.
Смуглый черноволосый Боря оказался сыном того самого лесника, дяди Федора, что довез нас на Гнедке до деревни Кокушкино.
Боря знал от отца, что у деда Савела поселились деревенские ребята. Ему давно хотелось повстречаться с нами. А дорогу он знает. С дедушкой они, можно сказать, соседи: между сторожками всего десять верст.
У дедушки Боря постоянный посетитель. Он помогает старому леснику прибираться по дому, сушить и вялить рыбу, иногда приносит с собой газету или книжку и читает ему. Вместе с дедом они по лесу путешествуют, грибы и ягоды собирают, на рыбалку ходят. В отсутствие дедушки Боря — второй хозяин на его сторожке.
— Что же долго не приходил? — дружелюбно спросил Ленька.
— Нинка закапризничала. Она в эти дни, как нарочно, убежит с утра и пропадает до вечера. А обоих нас мама не отпускает, чтобы кто-нибудь при ней оставался. Я сегодня пораньше встал. Теперь Нинке придется дома сидеть.
— А кто она?
— Сестренка. Хорошая она, только спорить сердитая… С тобой она обязательно подралась бы, — сказал Боря Леньке и засмеялся. — Ох, и царапка!
Зинцов такое замечание промеж ушей пропустил. А Боря пожалел:
— Скучно нынче ей одной будет.
Так беседовали мы душевно со своим новым знакомым. И ясно становилось, каким образом появился огонь в печке запертого дома, дым над кровлей дедушкиной сторожки И не нужно было Боре никаких чудесных превращений, чтобы войти в сторожку, потому что и он знает под каким камешком хранит дедушка ключ от замка.
Белые лебеди
Говорят, чтобы человека узнать, а тем более дружбу свести, надо вместе с ним по крайней мере пуд соли съесть.
В тетради у Кости Беленького даже пословица такая записана. Спросили мы для верности деда Савела. Он тоже сказал, что это народная мудрость. Но меня утешает мысль, что эту мудрость придумали взрослые. Они, наверно, для себя подсчитывали, а нам, мальчишкам, надо меньше соли, чтобы подружиться по-настоящему.
Мы с Борей за одним столом не сидели, вместе соли не пробовали, только сообща рыбу дочистили, а друзьями стали. Зинцов первым ссору затевал, первым и мировую предложил:
— Давай дружиться!
Через жаровню, которой обещал Боря огреть Леньку по голове, и руки пожали.
— Стукнул бы? — не удержавшись, спросил Ленька и кивнул на жаровню.
— А то как же!
— Ох, загремело бы здорово! Рыба из железки в стороны! — живо обрисовал Ленька картину, словно пожалел, что этого не произошло. Нагнувшись, шутливо боднул Бориса в плечо. — Ладно!
В знак дружбы мы с Борей тоже за руки подержались, потом купаться на озеро пошли. Дед Савел посмотрел на нас от крылечка, улыбнулся в бороду и взялся, примостившись на ступеньке, пилу точить.
После купанья мы с Борисом и в шалаше посидели, и в сторожевое гнездо забирались, и сказки, записанные Костей ' Беленьким, все вместе читали. Для нашей дружбы, если секретами поделиться, — это важнее, чем вместе пуд соли съесть.
— У бабушки Васены вам бы побывать, — сказал Боря. — Вот она бы сказок вам добавила. Много разных разностей знает бабушка.
Костя Беленький сразу за совет нашего нового приятеля ухватился: начал про бабку расспрашивать, где она живет, да что делает, да как ее разыскать можно.
Павка Дудочкин все пытался завести разговор про втулку, которую надо устроить у подъемника сторожевого гнезда. Мне хотелось расспросить Борю про его сестренку, а Зинцов торопился разузнать, где можно достать лосиную жилу на тетиву.
От всеобщего внимания, бесконечных рассказов и расспросов наш гость даже растерялся. Не успевая слушать и отвечать, он засмущался и покраснел.
Не сразу мы поняли, что чересчур говорливое гостеприимство, как и молчаливое любопытство, тоже не в сладость. — Заговорили мы Борю так, что ему дух перевести и то времени нет. Оказывается, что и в радушии, как и в равнодушии, тоже надо меру знать, а мы от усердия обратить на себя внимание гостя потеряли такую меру. И не кто-нибудь другой — Ленька Зинцов первым это заметил, дал понять.
Сколько раз между нами было говорено, что он дружбы чувствовать не умеет, в компании одного себя понимает. А вот смущение Бориса сразу понял, из трудности незаметно выручил.
— Хватит, успееем наговориться, — сказал он громко. — Пошли из лука стрелять!
Тут и у Бориса от сердца отлегло, вздохнул свободнее, наравне со всеми себя почувствовал.
Ленька раскопал под сеном в нашей постели и выволок на поляну все свое вооружение.
— Расставляй мишени!
Целый час долбили мы стрелами ближние сосны и развешанные по сучьям кепки. Расстреляем запасы из колчана— собирать припустимся. И снова на переменках из лука палим. Под конец на соревнование пошли. Каждому — отдельная мишень на суку и три стрелы в руку. Шаги отмеряли, черту под ногами провели.
— Не переступать, — предупредил Ленька, взявший на себя роль главного судьи соревнований. — Начинай! — и отступил в сторонку, чтобы не было стрелку помехи.
Павка Дудочкин дважды выстрелил, и оба раза мимо. На третий рассердился — так долбанул мою кепку-шестиклинку, что она на сучке ходуном заходила.
Костя беленький перед каждым выстрелом и глаза для ясности протирал, стоя и с колена примеривался: так ему цель поразить хотелось. Бесполезные старания! Наравне со мной трижды промазал. Полетели наши стрелы сосны пересчитывать.
Ленька Зинцов меньше стараний приложил, а еще две дыры в Павкиной изожженной искрами кепке прибавил. Борису, который без фуражки к нам явился, свою бескозырку повесил.
— Действуй!
На возражение, что лучше бы старенькую, сказал:
— Военная!.. Пусть в бою побывает!
Боря спорить не стал и взялся за лук. Кожаные сапоги у него невысокие, брюки в голенища аккуратно заправлены, голубая сатиновая рубашка с высоким воротником узеньким ремешком перехвачена. Повел плечами кверху — высвободил ее немножко из-под ремня.
За Борисом мы внимательно наблюдаем. Сын лесника все-таки. Не хочется, чтобы ему пришлось краснеть после промаха. Не терпится и первый выстрел посмотреть.
А Боря не торопится. Придвинулся к самой черте, потом правой ногой назад отступил. Прочно на оба каблука встал.
Я затем это подробно рассказываю, что позднее и мы точно так же стрелять учились.
Начал Боря уверенно, а кончил подготовку к выстрелу, как мы оценили, совершенно не по правилам. И Павка, и Ленька, и Костя Беленький, когда стреляют, левой рукой лук неподвижно держат, а тетиву правой рукой натягивают. Чтобы иначе кто стрелял, мы никогда не видывали.
У Бори наоборот получалось: тетиву с наложенной на нее стрелой он как зажал, нацелившись, в правой руке, так и не шевельнул ее, а левой рукой начал лук дальше от себя оттягивать. Подсказать бы — да под руку нельзя, только помеха выйдет.
«Пусть сам как знает — все равно промах», — подумал я.
Тетива тенькнула… Стрела торчала в бескозырке.
Точно таким же манером к ней прибавилась вторая. Насчет третьей мы уже и не сомневались.
— Эх, здорово прошил! — восторгался Ленька, рассматривая в бесскозырке три пробоины, одна возле другой.
— Вот и в бою побывала, — сказал Боря. Продырявленную бескозырку Зинцов прилаживал на голове торжественно, как обнову. С этой минуты Ленька не дал Борису покоя, пока не узнал, где он так стрелять из лука научился.
— Охотника одного знаю. Он и белок из лука стреляет. А если из ружья — только одной дробиной бьет. В глаз метит.
— И лук у него такой же?
— Не совсем. Но и этот хороший, — одобрительно отозвался Боря про Ленькин дубовый.
— И стрелы такие?
— Только с наконечниками. Удар сильнее.
— Такие? — дознавался Ленька, примчав из шалаша новый пучок стрел.
К каждой из них был прилажен железный наконечник: в одну вделана сапожная толстая игла, другие оснащены отточенными железными гвоздями, заостренными железками.
Ленька лишь теперь признался, что сделал их сразу после нашей погони за тетеревами на поляне, но с тех пор ни подходящей птицы, ни зверька ему не попадалось.
— Вот бы у того охотника поучиться, — сказал Ленька.
— Приходи по снежку, — пригласил Борис. — Летом на белку не охотятся. А зимой встанем на лыжи — везде нам дорога. Где заяц проскакал, белка пробежала, лиса хвостом промела — все увидим.
Мы думали, что в лесу хорошо только летом.
А Зинцов уже начал жалеть, что теперь не зима.
— А в школу как? — спросил Костя Беленький.
— Тоже на лыжах. Мы с Нинкой везде на лыжах. По дороге одиннадцать, а прямиком нам всего восемь верст.
— Сестренка тоже учится?
— В третий пойдет. А я в четвертый.
— Далеко ходить, — посочувствовал Костя.
— На Белояре новую школу строят — ближе будет… А на шестах ходить вы умеете? — неожиданно спросил Боря..
— Это на ходулях? — переспросил Павка.
— Зачем на ходулях!.. На шестах! На шестах ходить мы не умели.
— Научитесь быстро, — оживился Боря. — Давайте сейчас попробуем.
Он немедленно отыскал шестики возле сторожки.
— Подчистить немножко сучья — и будут в самый раз. Пока подчищали, Борис успел тростинку срезать, манок из нее сделал. Незатейливая с виду штука и по величине — всю ее в кулак упрячешь, а говорливая. Хочешь — рябчику голос подавай, хочешь — уткой-кряквой селезня подманивай или перепелом из травы кричи.
Ленькина губная гармошка перед Бориной самоделкой сразу былую цену в наших глазах потеряла. Про нее даже и помина нет.
А Борис подкинул манок к стенке, где мы сидели, шестики очищали, и сказал:
— Берите кому нравится.
Костя Беленький из солидности торопливость придержал. Мне тоже неудобно было перед старшими свое мальчишеское нетерпение показывать. Зинцов старательно шестик выстругивал. Один Павка Дудочкин достаточной выдержки не проявил. На этот раз, не раздумывая, он поспешно захватил манок в ладонь:
— Мне нравится!
А сын лесника тут же, не выходя из тростника, другой манок для себя состряпал.
Удивительно быстро умеет находить Боря под рукой все, что нужно. У нас так не получается.
Ленькин лук, шалаш, сторожевое гнездо — все это давно устроено и, пожалуй, надоедать начинает. А у Бориса новинки каждую минуту сами собой являются. Из того же тростника смастерил дудку в три лада.
— Играйте.
Захотелось Леньке воды напиться — и тут без выдумки Бориса не обошлось.
— Сейчас черпак сделаем.
Надрезал он на березке полосу, снял бересту и скрутил ее трубочкой — получился стаканчик. Защемил его в расщепленную лучину — стал черпак с рукояткой. Все мы из него воды попробовали. На берегу и положили, чтобы каждый, кто захочет, мог из берестяного стаканчика воды напиться.
На что, кажись, березовый лист пригоден — и тот на губах нашего нового друга песни играет.
Нет, в лесу Борису скучать некогда! И нам с ним не приходится задумываться, над какими забавами скоротать день до сумерек.
Солнышко еще высоко. По тени от сторожки Боря прикидывает, что до захода остается не меньше пяти часов.
— Отпросимся у дедушки на Большое болото, — предлагает он. — Там лебедей увидим.
Хотя Боря на сторожке второй хозяин, но самовольно уходить далеко не решается.
— Не надо, чтобы дедушка сердился и беспокоился. Дед Савел нашей просьбе не препятствует, и мы, не теряя времени, отправляемся.
У каждого в руках длинная, в два роста, палица. Шаг спокойный, медлительный, будто не мальчишки идут, а древние мудрые старцы вдохновенно держат путь в неведомую обетованную землю.
Отойдя подальше от сторожки, Боря кричит:
— Пошли на шестах!
Разбежавшись, он выбрасывает шест концом вперед и, держась обеими руками за другой конец, подпрыгивает и, опираясь на шест, летит по воздуху.
— Раз… два!.. Раз… два! Быстрее!.. Выше!.. — возбужденно зовет он вслед за собой, то резбегаясь, то снова взлетая.
Павка Дудочкин и рад бы быстрее, да рубашка мешает.
На первом скаку он завис на конце шеста и располосовал ее надвое.
Пришлось Боре возвратиться к отставшим. Павка не знает, то ли ему сердиться, то ли смеяться на самого себя, что не сумел прыгнуть.
Хорошая рубашка… Мама заругает, — горюет он, укладывая лоскутки по голому животу.
Эх, ты! Мама заругает! Надо бы рубаху в штаны заправить! — упрекает Ленька Зинцов своего приятеля. — Давай затянем под ремень.
Хватит, а то пряжка не выдержит, — покорно принимая услуги Зинцова, отдувается Павка.
Я помалкиваю, что наткнулся животом на шест, и тихонько растираю ушибленное место.
— Вперед! — стараясь опередить команду Бориса, зовет Ленька.
И мы снова припускаемся, прыгая на шестах кто как умеет. Скачка и передышка, скачка и передышка — так чередуется наша дорога.
— Подождите, — останавливает в одном месте Боря. — Здесь белка. Видите?
На земле, куда он указывает, валяются вышелушенные сосновые шишки.
— Тихо! — шепотом предупреждает он. Засматривая вперед. Боря начинает проворно работать языком и губами. Слышится частое цокотанье. Скоро в ответ точно такое же раздается сверху.
Рыженькая белочка выскакивает из дупла на сучок и моментально скрывается в ветвях.
Мы стоим, чуть слышно переговариваясь между собой, и любопытный зверек появляется снова. Сначала сквозь ветки осторожно просовывается маленькая острая мордочка, потом появляются передние лапки с острыми коготками. И вот уже белка вся на виду. Она свешивает голову с сучка и внимательно рассматривает нас блестящими черными глазами.
Шевельнулись — вскинула на спину пушистый хвост трубой, перепрыгнула на другой сучок и зацокотала громче.
— Сердится, недовольна, что ее побеспокоили, — пояснил Борис. И сам зацокотал — только тихо, успокоительно. Удивительный это был разговор на беличьем языке, который мы сами слышали и видели, что белка его тоже понимает.
— Щелкнуть? — нерешительно спросил Ленька, дотягиваясь рукой до лука за плечом.
Боря энергично и отрицательно потряс головой.
— Летом нельзя. — И, кивая в сторону белки, шепнул Леньке на ухо: — Нинкина белка!
— Нинкину не тронем.
И, дружелюбно настроенный, Зинцов привычным движением опытного охотника засунул стрелу обратно в свой колчан.
Еще раз припустившись вскачь на шестах, мы быстро домчались до Большого болота. Сначала вдали завиднелся широкий и ясный просвет. Высокие деревья сразу кончились, и на смену им выступили сосенки, которые иначе, как карликовыми, и назвать нельзя. Кора на них старая, потрескавшаяся, а подойди, вытяни руку кверху, и поднимется ладонь выше вершины такого старого дерева.
Сосенки-карлики широко разместились по огромному, кругу, а середина его совершенно пустая, будто они собрались «каравай» водить, а кому «караваем» быть, еще не выбрали.
Желтый с прозеленью мох ровным мягким ковром застилал всю середину болота на добрую версту с лишним в окружности.
Сейчас здесь было пустынно. Но мы легко могли представить себе, как оживится этот пустырь, когда стукнет сентябрь. Сотни ягодниц с мешками и корзинами выйдут тогда на широкую круговину, предназначенную для «каравая». Одни на смену другим до самого снега будут собирать они густо рассыпанную по моховому болоту клюкву, которая чем дальше в осень, тем сочнее и слаще становится.
А ранней весной потянутся ягодницы за журавликой.
Журавлика — уже в самом этом названии слышится запах весенней свежести. Оно сразу напоминает оживающие после зимы просторы, привольный разлив Клязьмы, которая распахивается вдруг полой водой на десятки верст в ширину, от высоких холмов правобережья до самого Ярополческого бора. Под приветное курлыканье весенних журавлей, косяками пролетающих в вышине с юга на север, и выходят заречные жители на сбор журавлики. Та же клюква, пролежавшая зиму под снегом, становится еще вкуснее, будто это совсем другая ягода. И название у нее уже другое: летят журавли — значит, журавлика.
И рады мы, что узнали, откуда приходит в кисель эта ягода. Дружно меряем шагами Большое болото. Мох мягко приминается под ногами и снова пышно выравнивается на следу, лишь стоит отделить ступню. Почва немножко зыбнет и покачивается. И Ленька предлагает устроить «зыбку», как устраиваем мы по первому льду у себя на озере. На болоте и летом такая зыбка получится лучше, чем по ледку на озере. Но Боря предупреждает, что на Большом болоте такие забавы не годятся.
— Нас только корни держат, а внизу трясина.
— Глубокая? — спрашивает Костя Беленький.
— Лошади тонули.
И Боря советует осматриваться внимательно, чтобы не оступиться в такую полынью.
— Держите шестики под руками, поперек груди, — говорит он. — Если мох под ногами прорвется, на шесте можно удержаться.
Предупреждение действует. Мы берем шесты, как советует Боря, и стараемся идти спокойно, отделившись один от другого.
На желтом с прозеленью мху зеленые ягоды клюквы почти незаметны, хотя по всему болоту их насыпано видимо-невидимо. Они робко начнут краснеть и покажут себя только в августе, потому что из всех поздних ягод клюква самая поздняя.
На противоположном краю болота Боря приостанавливается.
— Тихо! — шепчет он. — Лебеди близко.
За полосой сосенок-карликов снова поднимаются великаны деревья. Между ними шуршат камыши. Беспорядочно переплетаются узкие протоки, виднеются просторные разводья, по которым густо рассеяны желтые и белые кувшинки. Еще дальше просвечивает широкое озеро.
К одному из разводий мы и пробираемся осторожно вслед за Борисом.
Боря заранее подготовился к встрече с лебедями. Укрывшись в камышах, он бросает на воду горох, пшено, хлебные крошки и тихо отходит подальше от берега.
Начинается томительное ожидание. Проходит пять… десять минут. Никакого признака лебедей не угадывается. А Боря, засматривая через камыши вдаль, все показывает рукой: «Тихо, тихо, — словно хочет сказать: — Мы их не видим, а они нас видят и слышат».
Терпению Леньки Зинцова, который вообще не может похвалиться умением сдерживать себя, приходит конец. Он вытаскивает из кармана Павки Дудочкина тростниковый манок и показывает Борису: «Подманить?»
Боря мотает головой и улыбается. Подобравшись к нам ближе, шепчет:
— На лебедя нет манка. Лебедь — молчальник. Помнишь «лебединую песню»? Только перед смертью он поет.
Костя Беленький раскрывает сумочку с тетрадями и записывает слова Бори. А Зинцов, насупившись, разворачивает палочкой подвернувшееся под руку муравьиное гнездо. Стройная пирамида, искусно сложенная из сухой хвои и пересыпанная песком, рушится и медленно оседает. Тысячи муравьев высыпают наружу из многочисленных ходов.
Ленька наблюдает, как они суетливо и упрямо пробиваются через завалы, таща перед собой белые крупные личинки, похожие на рисовые зерна. Сколько бы ни встречалось на пути преград, а ношу не оставляют. Так работают, навер-^ но, спасательные команды во время землетрясения. Зинцов читал об этом в какой-то книжке. И Леньке становится жалко бесцельно растревоженных маленьких самоотверженных тружеников. Он прекращает «землетрясение» и старательно выравнивает пострадавший муравейник. Но что же делать дальше? Чем. заняться? «Сидеть у моря и ждать погоды» Ленька не желает. Он хочет сам себе погоду строить.
Ожидание наскучило. Зинцов уже собирается свистнуть в четыре пальца, чтобы прекратить эту «игру в молчанку», когда Боря насторожился и предупредительно поднял руку: «Внимание!»
Камыши в дальнем углу разводья шевельнулись. Плавно огибая заросли желтых кувшинок, на открытую воду выплывала пара лебедей. Впервые мы видели их живыми, а не на картинке, и не где-нибудь в зоопарке, а на цветистых и извилистых лесных протоках.
Лебеди плыли в нашу сторону. Они скользили легко и свободно, и тихая вода морщинками струилась, расходясь в стороны от птиц.
Ближе, ближе… Лебеди всего уже в нескольких шагах от нашего укрытия; огромными белыми кувшинками разворачиваются плавно на застывшей глади. Тонкие, красиво изогнутые шеи вытягиваются и клонятся над водой, блестящие желтые клювы проходят по ней бороздками.
Птицы ищут и находят корм. Видно, что не первый раз прикармливает их здесь Боря.
Мы сидим безмолвно, любуясь пышным белоснежным оперением лебедей, их горделивыми плавными движениями.
Неожиданно птицы насторожились. Тревожно вытянув гибкие тонкие шеи, замерли на секунду и в одно мгновение стремительно и беззвучно исчезли в камышах.
— Почему они скрылись? — шепчет Павка.
Боря старательно, чтобы все мы заметили, трясет головой: «Молчи».
Послышался приглушенный расстоянием и нарастающий стремительно топот тяжелых ног, хруст ломающихся веток. И, промелькнув темным пятном в полосе низкорослых сосенок, на открытую круговину мохового болота вырвался огромный зверь.
Мы не сразу его распознали. По рассказам старших лоси представлялись нам тихими и безобидными животными, которые мирно гуляют по лесным полянам, спокойно заходят в пасущиеся по лугам крестьянские стада.
Но лось, вырвавшийся из бора на Большое болото, был страшен. Его вспененная на губах горбоносая морда под огромным венцом тяжелых рогов свирепо вытянулась вперед. Сильные, с широкими копытами ноги почти плашмя ложились по болоту. Топь вздрагивала, ходуном ходила вокруг него. Клочья вырванного мха, перемешиваясь с брызгами, летели из-под копыт лесного великана.
По сторонам, стараясь подброситься к мясистой шее сохатого, бешеным скоком неслись три волка.
Лось мчался в нашу сторону. Прижимаясь к деревьям, онемевшие от страха и любопытства, мы не могли оторвать глаз от лося и его преследователей.
Гибель сохатого казалась неизбежной. И тут произошло то, чего мы никак не ожидали.
Прыжок. Передний волк с разгона метнулся на шею лося, но сохатый резким ударом копыта оборвал прыжок хищника на лету, и волк, взвыв от боли и скаля клыки, кубарем покатился по болоту. В тот же момент два других хищника набросились на лося с разных сторон.
— Га! — вдруг громко выкрикнул Боря, и слышно было, как тенькнула тетива.
Я не знаю охотника, который любил стрелять белок из лука, но думаю, что на этот раз сын лесника не уступил бы ему.
Одновременно со звоном тетивы второй волк кувыркнулся по болоту и впился себе в бок зубами.
А сохатый, метнув на спину огромные рога, стремительно пролетел узкую лесную полосу, птицей перемахнул через протоку и, треща сучьями, скрылся в сосновой чаще.
Волки уходили в сторону. Лишь один из них, которому угодил удар копыта, все волочился по болоту, то отбегая, то снова припадая на мох, и за ним стлался окрашенный кровью след.
Когда, переждав минут десять, мы подошли к месту недавней схватки, там лежала перекушенная стрела, по одной половине которой Ленька Зинцов сразу определил, что второй волк унес в себе сапожную иглу.
Большая мечта
Зинцов в восторге от сохатого:
— Силен горбоносый! Ураганом пролетел!
— Силен! — подтвердил Павка.
— Как думаешь, карачун волку? Не выживет после лосиного копыта? — оборачиваясь к Борису, как к человеку более сведущему в лесных делах, спрашивает Ленька.
— Выправится, если стая не разорвет, — отвечает сын лесника. — Они живучие.
— Своего-то как же они разорвут? Волки волка?
— Ничего удивительного! На то они и волки.
— За то, что промах по лосю дал?
— За это ли — не знаю. А за то, что кровью от него попахивает и защититься не может, — разорвут. Подранка прикончить — это у них любимое дело.
Беседа о лосях да о волках растянулась у нас с малыми перерывами на весь обратный путь от Большого болота до сторожки. Наговорились вволю.
Происшествию на лесном болоте каждый из нас в своих тетрадях местечко уделил. По четырем записям «охотников за сказками» и составил я разговор, которым эта главка начинается.
По пути из леса Костя Беленький все о лосе беспокоился: где он да что с ним теперь будет. А мне дума об ушибленном волке покоя не давала.
«Добавить бы, — прикидывал я, — ему в бочину пару стрел с наконечниками — и наш».
Представляю, как бы мы притащили сначала на сторожку, а потом перевезли и в деревню волчью тушу с оскаленными клыками. Вот был бы праздник для всех мальчишек, и мы на этом празднике — именинники!
С этой мечтой и шагаю неторопливо, потихоньку переставляя шестик через каждую пару шагов. Чуть впереди и сбоку — Павка. С другой стороны — Боря, которого поджимает ко мне шагающий краем тропинки Ленька Зинцов. Случай на Большом болоте напоминает Боре другое, более печально кончившееся происшествие. И сын лесника рассказывает:
— Понимаете, охотник лосиху подстрелил. А она с теленком ходила. Маленький еще теленок, беспомощный. Ножонки тоненькие, а копытца скользят.
— Ты его видел? — спросил Павка и посмотрел на Борю умиленными глазами.
— Подожди, не забегай… Тятя тогда обход по участку делал. Пало у него подозрение, что тут что-то неладное, он и заторопился на выстрел. Охотник убежал. А лосиха поднимется, поднимется на передние ноги и опять на бок валится. Тятя — скорее домой. Запряг Гнедка да сообщать поехал. А мы с Нинкой к лосихе побежали.
— Нашли?
— Нашли. Подбегаем, а возле нее теленочек. Рыженький, худенький. Припал на колени, тычется в нее мордочкой. А лосиха уж мертвая.
— Я говорю тихонько Нинке: «Беги за молоком». А сам остался, подманиваю теленочка. Хотелось мне его погладить. А он пугается: отбежит и снова, гляжу, показывается из-за кустиков. А я не шевелюсь и к лосихе не подхожу. Он опять к ней прокрадется осторожненько и начнет обнюхивать. Принесла Нинка молока в подойнике. — Мы потихоньку поближе к лосихе его и поставили. Спрятались за деревьями…
— Ну, а потом что?.. Рассказывай скорее, — заторопил Ленька Зинцов.
— Ох, и нетерпеливый ты! Мы полчаса ждали, а ты и минутки подождать не можешь.
— Ладно, помолчу.
— Подошел теленок. К лосихе подошел и подойник с молоком унюхал.
— Молоко пил?! — снова, не удержавшись, вклинился в рассказ Зинцов.
— Пил, да пролил. Нинка еще раз бегала, и второй раз пил.
После этих слов Бори все мы вздохнули свободнее. Жалко было теленочка. А тут даже радостно стало.
Боря послушал, как мы между собой все это возбужденно перетолковывали, и сказал:
— Это еще не конец.
— А что же под конец было?
— Конца совсем не было.
— Почему не было?
— Потому, что жив лосенок.
— Жив?! — выкрикнули мы почти одновременно.'— Где же он? Покажи.
Боря глянул на нас удивленно и рассмеялся так весело, что и мы не удержались: тоже рассмеялись, сами не зная чему.
А Боря, замедляя шаг и придерживая шестик на весу, чтобы не стучал и не мешал разговору, в ответ на просьбу и нам вопрос задал:
— Как же я его покажу? Теперь ему… — Он быстро сообразил что-то в уме и досказал: — Теперь ему три года. Рогач. По лесу гуляет… А Нинку помнит.
— Почему ты так думаешь? — заинтересовался Костя Беленький.
— Не думаю, а знаю, — ответил Боря. — Она лосенка еще не раз молоком поила. Украдочкой от меня в лес ходила… Нинка хи-итрая! — растягивая и делая ударение на «и», не с упреком, а с каким-то особенным одобрением, с улыбкой на лице и в глазах произнес он. — Все старалась к дому его приучить.
— Не приучила? — до тонкости старался выяснить Костя так заинтересовавшую всех нас историю.
— Как тебе сказать… — замялся с ответом Боря. — Приучила немножко.
И объяснил:
— Зимой, когда метель метет и есть нечего, он сам к нашему забору приходит. Нинка сена ему выносит. Пока несет— он в сторонку отойдет. Нина домой, а он сено ест.
Такой конец рассказа каждому по душе пришелся. Рады мы за лосенка.
— Значит, каждого лося приручить можно, — решительно высказался Ленька. И начал дальние планы строить. Дельно, серьезно заговорил. На нас сердится, если кто на деловитые разговоры улыбнется невзначай.
По Ленькиному замыслу всех лосей нужно взять на учет, приручить и кормить, когда им голодно. Для кормления лосей зимой летом надо заготовлять в бору сено. На истребление волков, которые нападают на лосей, надо направить охотников.
Ленька, конечно, на этом бы не остановился и с жаром продолжал бы свои предложения и дальше. Но тут Боря спросил:
— А как быть с охотниками, которые вместо волков лосих с телятами стреляют?
Ленька сначала опешил немножко, сбитый этим непредусмотренным обстоятельством с мысли. Только не бывает для него затруднений, из которых бы он не вышел с успехом.
— Вот тебе, как сыну лесника, — заметил он Боре, — и доверить наблюдение и охрану порядка в лесу.
Чтобы охотник пошел волка гнать, а волк не смел бы лося драть? — в виде вопроса безобидно добавил я, чуточку переиначив сказку про козу с орехами.
Ленька мое замечание между ушей пропустил. И пока шли мы до сторожки, в разговорах весь Ярополческий бор в лосиный питомник превратили, в каждом квартале по пол-сотне лосей на откорм гулять пустили. Лосиным мясом не только свою округу снабжали, но и в Москву и в Ленинград отправляли.
Нинку, которую мы совсем не знали, но заглазно сто раз упоминали, мы объездчицей лесных стад назначили. В каждом стаде у нее свои прирученные лоси. Позовет она — и лось бежит ей навстречу, быстрее ветра мчит свою хозяйку до нового стада, где ждет объездчицу другой прирученный сохатый. А тот, которого она первым приручила и которому сегодня три года, стал уже старым, потому что мысленно мы далеко вперед заглянули. Его Нинка только погладит и снова гулять отпускает.
По пути она наблюдает, привольны ли корма для животных, не затаился ли где ушедший из облавы серый хищник, не подстерегает ли лося или оберегаемого глухаря падкий на легкую поживу вороватый охотник, не пришел ли на лесное озеро тот рыболов, что заявлялся сюда с бутылкой негашеной извести и с отравленной приманкой для рыбы.
Широкими полномочиями облекли мы в своих разговорах и планах необычную лесную объездчицу. Но и фантазируя, определяли ей круг самых обычных земных забот, которые успешно осуществляются ныне молодым поколением.
Теперь появились и множатся всюду друзья леса, друзья природы, просто хорошие друзья своего края. А в первые годы после гражданской войны, после многолетней разрухи и голода к красотам родной природы люди будто заново приобщались.
Не хотелось бы вспоминать, но и не вспомнить нельзя, что и сейчас еще ведутся, а в дни нашего детства было еще больше «друзей природы» совсем иного порядка — таких, о которых в народе говорят, что «у них брюхо болит, где что плохо лежит». На бор они смотрели не иначе, как на ожидающие ночного топора срубы, в озере усматривали только невареную уху. Прикидывали в уме рубли от пойманной и проданной рыбы. И правдами и неправдами изощрялись, как бы погреться потеплее около природного дарового богатства.
Старый знакомый
Буран доставил дедушкину записку точно по назначению, и вечером у нас был новый гость.
В черновом наброске письма, сохранившемся в Костиной тетради, не обозначено ни имени, ни фамилии того, кому записка предназначена. Новый гость подсказал нам и то и другое. Со времени его появления каждый из нас смело мог сказать, что дедушкина ночная записка готовилась для лесного инженера Василия Петровича Туманова.
Подтверждением нашей догадки было и то, что вместе с лесным инженером на сторожку снова прибежал и Буран.
Василия Петровича мы уже знали. Летом верхом, а зимой в легонькой кошевке, обитой фанерой, Туманов не раз приезжал в Зеленый Дол. А то полем в другие деревни проскачет.
Конного среди ровного поля далеко видно. А верховую посадку Василия Петровича сразу узнаешь. Если он едет верхом, то не в охлопку, как привыкли у нас по Заречью, а на лошадь высокое седло накладывает. Конек у него вороной, высокий, легкий на ногу, и кличка такая хорошая — Грачик. Его мальчишки всегда травой из рук кормили, если Василий Петрович уходил по своим делам в сельсовет, а Грачика под окном у ветлы привязывал.
Тогда мы и седло рассматривали, примеривались, нельзя ли самим похожее сделать. Обзавелись ножницами, большими хомутовыми иглами. Из суровых ниток дратвы наделали.
Упрятавшись подальше от посторонних глаз, целыми днями шилом работали, стараясь седло соорудить.
Много шуму от этой затеи на деревне получилось. Матери от нас мешки и половики стали прятать, потому что мы начали на седла их перекраивать: в серединку льна или ваты набьем — мягко. Васек Бодягин даже подушки на это дело пустил, а старый кожаный чересседельник на подпругу сгодился. Ваську как раз чересседельником от отца и попало.
На том и поутихли наши кавалерийские увлечения. Остался всяк при сбруе, которую заблаговременно изготовил, а больше на мешки и чересседельники без спроса не покушался.
Еще была у Василия Петровича бурка. Ох, какая бурка! Никто из нас ничего похожего не придумал. Вся она будто из войлока сделана — цельная, нигде не сшитая. И без рукавов, без пуговиц. А спереди открытая, чтобы руками свободно можно было работать.
Пустит Туманов Грачика во весь опор по полю, сам низко к седлу пригнется, только бурка над ним широкими крыльями развевается.
По деревням Туманов ездил рабочих набирать. Новое дело в лесу началось — подсочка. О ней мы раньше не слыхивали. И на этой работе Василий Петрович за главного. В деревне звали его кто просто инженером, а кто лесным инженером.
К нам в школу Василий Петрович тоже заезжал. Когда березки сажали, он показывал нам, на какую глубину можно ямы копать, сколько удобрения туда положить.
Прошлый год Костя Беленький ему на глаза и попался. Тоже яму копал. Туманов подошел к нему и спрашивает:
— Это для игры какой-нибудь ямка готовится? А Костя отвечает:
— Нет, березку сажать буду.
— Деревья сажать — дело хорошее, — говорит Василий Петрович.
И поинтересовался, есть ли у Кости мерка, чтобы глубину ямы проверить.
— Мы на глазок, без мерки.
Василий Петрович посочувствовал, что без мерки и ошибиться можно. Постоял в раздумье и будто вспомнил:
— Подожди, — говорит, — сейчас мы мерку отыщем. Тут же достал из кармана складной метр: сначала по длине, затем по ширине яму определил.
— Вот теперь, — говорит, — будет без ошибки. Точно метр двадцать на восемьдесят сантиметров. А на глубину больше полметра не бери, только внизу проковыряй землю лопаткой… А на глазок действительно трудно, — все припоминал он. — Вот я тебе пока и метр оставлю — глубину проверить.
И пошел вдоль рядков, где другие ребята березки сажали.
Пришлось Косте яму еще раза в четыре больше расширить да в глубину на лопату увеличить. Так же и другие ребята начали делать. Василий Петрович только посмотрит да скажет:
— Правильно, хорошо дело знаете!
А к Косте вернулся и помог его березку до конца «по-инженерски» посадить. В середину ямы небольшой бугоро-' чек земли насыпал. На него березку поставил. Корни сами по бугорку и расправились. Инженер поддерживал, а Костя присыпал березку землей вперемешку с навозом.
— Выше корневой шейки не нужно. Выровняй ее с почвой, и довольно, — подсказывал Василий Петрович.
А когда Костя полил березку и подвязал ее к колышку, Василий Петрович сказал:
— Теперь пожелаем, чтобы росла большая, — и ладонью обхватил белый тонкий ствол, словно руку пожал.
Растет березка. Мы ее называем когда Кости Беленького, а когда «инженерской» или «тумановской» назовем.
Василий Петрович и на репетициях драмкружка бывал. Спектакли готовить нам помогал. Подсказывал, как говорить, как ходить по сцене надо: где по-мальчишески, где по-стариковски. Усы и бороды артистам наклеивал, а однажды в День Красной Армии доклад в избе-читальне делал. Про Чапаева рассказывал. В войну Василий Петрович у Чапаева служил.
С расспросами про войну мы ему здорово надоедали И про атаки, и про пулеметные тачанки, и как Чапаев погиб— обо всем расспросим.
Рассказывает Туманов, а мы слушаем да рубец у него на щеке разглядываем. Большой багровый рубец у Василия Петровича вдоль скулы. И про него спросим.
Туманов стеснялся почему-то этого вопроса, особенно при Надежде Григорьевне. Обернется в сторону учительницы и покраснеет. Только и скажет скороговоркой: мол, беляки, рубали, да высоко взяли. И скорее на другое разговор переводит.
Он, наверно, годов на пять старше нашей учительницы, а робеет перед ней вроде маленького.
Лесного инженера мы всегда с радостью встречаем. А с этой весны и тревожиться начали при его появлении, потому что Васек Бодягин сам слышал, как Туманов уговаривал Надежду Григорьевну перейти от нас в новую лесную школу учительствовать.
Чудно! Краснеет перед ней, а в свой лесной поселок Приглашает.
…Вот я все и рассказал, что знал про Василия Петровича. И удивительно и радостно было нам совершенно неожиданно в лесу знакомого человека встретить.
Туманов с дедушкой над озером по бережку ходили. И Буран за ними следом. Собака первая нас заметила. За своих не признала, а гавкнула — дала знать хозяину о приближении посторонних.
Василий Петрович с ходу над нами подшутил. Не успели мы шестики на старое место поставить, как вдруг позади громко раздалось:
— Здорово, орлы!
От неожиданности я шестик из руки выпустил. Он скользнул по стенке сторожки и другие, приставленные, уронил. Застучали вразнобой. Так же вразнобой мы ответили:
— Здрас… здравствуйте!.. Здравствуйте, Василий Петрович!
А хотелось бы хорошо ответить, дружно, как учительнице в классе на приветствие отвечаем. Василий Петрович смеется:
— Что, растерялись?
За инженером поотставший от него дедушка Савел подходит, тоже над нами подтрунивает. Оба веселые. А Туманов будто снова в Чапаевскую дивизию собрался — с ног до головы военный.
На стройной и легкой фигуре бывалый френч защитного цвета на все пуговки застегнут. Кавалерийские галифе, прошитые в шагу до колена желтым хромом, проутюжены. На темно-русых, коротко стриженных волосах выгоревшая от солнца форменная фуражка по всем правилам надета.
Быть бы Василию Петровичу командиром, если не пошел бы он после войны в лесные инженеры. Рядом с дедушкой гражданский Туманов по росту — плечо в плечо. А командир Туманов каблуками сапог прищелкнет, плечами шевельнет— сразу на вершок против деда Савела вырастает. И весь в струночку, только между коленками «кавалерийский просвет» узкой прорезью прописан.
В отсутствие Надежды Григорьевны Туманов заметно храбрее и голос у него звонче.
— Как, седельце боевое мама не отобрала? — спросил он, подавая руку Леньке Зинцову.
— Упрятано, не найдет.
Василий Петрович с каждым из нас за руку поздоровался и всех по имени назвал. Не думали мы, что он нас так хорошо знает. В школе учеников полсотни с лишним — попробуй тут каждого запомнить! А Василий Петрович все-таки запомнил нас.
С Борей они, заметно, совсем на дружеской ноге. Лесной инженер даже по отчеству, Федоровичем, его повеличал, заставив Борю смутиться.
Потом Василий Петрович поинтересовался, благополучно ли мы через ржаное поле перебрались, когда из деревни в Ярополческий бор путь держали: не увидала ли нас из маленького оконца крайней избушки тетка Устинья, не отчитала ли за помятые колоски?
И откуда только ему известно, как мы поле переходили? Об этом, кроме нас да Надежды Григорьевны, никто не знает.
В разговоре Туманов охотниками нас назвал, спросил, сколько сказок «настреляли». А «охотников» мы тоже в секрете держим, только между собой это слово упоминаем.
«По глазам, что ли, он читает?» — переглядываюсь я с товарищами. А Василий Петрович наши переглядки тоже замечает и дальше удивлять продолжает.
— Хотите, — говорит, — даже день назову, когда вы домой вернуться родным обещали?
Назвал — и снова тютелька в тютельку угодил. Павка Дудочкин аж губы приоткрыл от изумления. А лесной инженер совершенно равнодушен.
— Это, — говорит, — только вам дивно, а для меня ничего особенного нет. Рядом со мной в поселке бабка Васена живет. Она в стакан с водой глядит и все кругом на сто верст видит.
Вместе с нами дед Савел Туманова слушает и только головой покачивает да улыбнется порой, если мы очень уж удивляться начнем.
— А теперь, — говорит Василий Петрович, — меня наслушались, давайте и сами что-нибудь расскажите. Ну… хоть про лесоруба с молоточком… Присядем на завалинке, — приглашает он.
Ленька и принялся припоминать нашу ночную встречу с лесорубами на битюгах.
Туманову все до тонкости хочется довести, а у Леньки на прибавку к коротенькому рассказу ничего не остается. Были ли у лесорубов какие буквы на молотке, он не знает. В облегчение себе и посоветовал:
— Лучше бы, — говорит, — поглядела бабка Васена в стакан с водой. Там все видно будет.
Лесной инженер при этом совете только пальцем под фуражкой по стриженому виску поцарапал, а у дедушки смешинки в глазах веселее пошли.
— Ладно, в стакане доглядим! — решил Туманов и пришлепнул ладонью себе по коленке. — А пока давайте мыться, бриться, в порядок после дороги приводиться.
И мы понимаем, что теперь лесной инженер хочет наедине с дедом Савелом поговорить.
О чем беседуют взрослые, всегда любопытно послушать. Но мы порядок знаем, умеем любопытство пересилить. Поэтому быстро находим каждый себе дело: Костя Беленький пошел в шалаш, чтобы сено на постели перетряхнуть, мы с Павкой Дудочкиным взялись сучья для костра заготовлять, а Ленька Зинцов с Борей под берегом с удочками пристроились. Они и слышали разговор Туманова с дедушкой.
— Из какого стакана секреты тебе известны? — спросил дед Савел и засмеялся.
— Вот из этого, — так же весело ответил Туманов и достал из нагрудного кармана френча письмо в голубом конверте.
— Ого! — оживился дедушка. — Значит, пишет Зеленый Дол? Может быть, к нам на жительство собирается?
— Тебе привет и пожелание здоровья. А насчет переезда на Белояр, как всегда, молчок.
— Да!.. — вздохнул дедушка. — Деревня, мала она или велика, все деревня, люди. И до города рукой подать. А лес — он все лес: сосны да ели. Кому охота в такую глушь забираться! Сороки — и те только летом в лесу любят жить, а на зиму все к деревне поближе летят… Да-а!.. А молодому человеку, само собой понятно, и тем более на людях быть охота… Да-а!..
Всего несколько минут тому назад веселый и разговорчивый Туманов сидел рядом с дедушкой задумчивый и безмолвный.
Ленька, выскакивая из-под берега за пойманной рыбой, видел, как он курил папиросу за папиросой. Буран, упрятав голову между лапами, лежал спокойно. Один дедушка говорил негромко, находя новые зацепы к продолжению речи, будто специально старался перебороть тишину, не дать ей силу взять.
— А у меня полвека тут прокатилось… Да-а… И никуда меня отсюда не вытянешь. Привык. Сам говорю, сам себя слушаю. И то порой бывает… Уныло одному, если дела не находишь. Ребятишки вон пришли — с ними скучать некогда. Сказки бы им рассказывать с утра до вечера, а тут эта история… Да-а… Слышишь ли, Петрович?
— Ага!
— А ты не горюнься очень-то. Может, того… И соловей в другое место перелетает, если первое гнездо его подруге не нравится. И это бывает. Может… уж если такое дело…
— Получается, что мне надо в другое место перелетать, повеселее жизни искать, — крепко затянувшись и далеко от себя отбросив папиросу, сказал инженер. — Не нравится мне это. Дурно такой поступок называется.
— Не в слове дело, — сказал дедушка.
— И в слове тоже… Ну, Савелий Григорьевич, допустим, посочувствует и скажет: «Переехал». А другой скажет: «Сбежал!» И правильно скажет! Это то слово!
На «то» Василий Петрович так шлепнул себя ладонью по коленке, что Буран вздрогнул и поднял голову. А Туманов — письмо в карман, френч одернул и такие глаза сделал, словно сам на себя рассердился.
— У Чапаева, — говорит, — даже слова «отступление» не существовало. «Нет, — говорит, — у нас в армии такого слова. Забыть про него». Ну, а если кто робел в атаке и бежал…
И Туманов лицом и приподнятой для энергичной отмашки рукой так изобразил свое отношение к недосказанному, что ясно было — это хуже, чем просто не жить.
— Ладно! — сдержал он себя. — Об этом хватит. Не за тем меня целых два года по лесному делу школили, чтобы еще через два в число сбежавших записывать. Мы еще и в бору повоюем!
Обернулся к деду и спросил весело:
— Повоюем, Савелий Григорьевич! И дедушка прояснился:
— А то как же!
— Всех короедов повыведем и жуликам бой дадим!
— Обязательно дадим!
Дальше тише разговор повели. Да и Зинцова рыбацкий азарт так разобрал, что ему не до посторонних разговоров: только успевай червяков насаживать да рыбу подсекать. Замечательный клев начался на вечерней зорьке.
Так и занимались мы каждый своим делом, пока дедушка не позвал:
— А ну-ка, соколики, собирайтесь! Давайте чашки-ложки на поляну!
Под звездами и поужинали. И Василий Петрович с нами.
После пшенной каши дед Савел спросил:
— Преподать, что ли, маленькую на сон грядущий? Мы-то разве откажемся! Знаем, что о сказке речь.
— Преподать!
Туманов, словно в незнакомый класс на урок явился, позволения попросил:
— Разрешите присутствовать?!
Дедушка подкашлянул тихонько, в нашу сторону глаз прищурил:
— Как, товарищи, разрешим? Мы-то, конечно, с удовольствием.
И Туманов, опершись локтями на траву, прилег между нами. Мы — вокруг дедушки. А дедушка — на чурбанчике.
Атаман Воркун
— Про Емельяна Пугачева слыхали? — спросил дед Савел, когда мы, потолкавшись немного вокруг него и расположившись поудобнее, приутихли.
А нам подобные события как не знать: учительница и про Ермака Тимофеевича, и про Степана Разина, и про Пугачева рассказывала.
— Хорошо! — похвалой отозвался дедушка на дружный ответ. — Может быть, и про атамана Воркуна вам известно?
Мы и тут не прочь бы показать, что не зря школьниками называемся, да чего не знаем так Не знаем. Промолчали, снизу вверх засматриваем на дедушку. На березовом чурбане он немного выше всей нашей компании, и голос сверху идет. В синих сумерках лица деда Савела не разобрать, только белая борода потихоньку туда-сюда шевелится.
— Емельян Пугачев, — слышим мы, — это первая голова. А Воркун-атаман правой рукой у Емельяна был. Схватили бояре Пугачева, отрубили ему голову при всем честном народе. А атаман Воркун в живых остался. Собрал он дружину пугачевскую, крестьянскую, и пошел с ней города и села брать. Бедные дома сторонкой обходит, а помещичьи да боярские на ветер огнем пускает. И дружина у него с каждым днем растет. Царские войска налетают, а осилить ее не могут.
Забирает он города и села, а спать ложится в поле под кустиком. Прознали о том бояре, и подстерегли атамана спящего. Оковали его цепями и посадили в глубокий подвал.
На боярское злое коварство и атаман пошел хитростью. И была у него сила чародейная. Спросил он водицы испить. Подали ему ковш, а Воркун только руки в воду опустил — цепи сами и рассыпались. Расплеснул Воркун воду по полу, и раскинулось перед ним большое озеро. По озеру корабль плывет. На том корабле и уплыл атаман, снова собрал своих дружинников.
Поселился Воркун в Ярополческом бору.
Выбрал он себе поляну, которая и даль приближает и врага к себе не подпускает. Надо боярскую тройку на пути остановить — сама поляна тут как тут появляется. Выезжает царево войско на поимку атамана — она в глубь леса уходит. И назвали люди ту поляну Гулливой.
Много добра взял атаман у богатых и передал бедным. У бояр прослыл он за разбойника, а у бедных — за защитника.
Случится ли на деревне пожар, умер ли кто в дому — глядь, и летит Воркунова тройка, колокольчик под дугой звенит, кони вихрем по земле стелются. В которой избе плач слышится, туда атаман и заворачивает. Он и несчастную утешит и погорелому дом построит.
Куда пропал атаман — неизвестно. Только перед тем как покинуть Ярополческий бор, закопал он те драгоценности на Гулливой поляне, опустил жемчуга и самоцветы в провальные озера, положил на них заговор.
И сейчас — видели люди — выплывают в темные летние ночи из лесных озер Воркуновы бочки с жемчугами и брильянтами, потом снова уходят на серебряных цепях в водяную глубь.
Немало было охотников на Воркуновы клады, на даровое богатство, да не дается оно в руки.
Только тот попадал на Гулливую поляну, кто зашел сюда случайно, без умысла. Кто похитрее, на возвратном пути лычками да затесами на деревьях метки ставил. А пойдут на другой день — снова пропали метки, будто их никогда и не было.
А если удавалось кому с заступом на поляне очутиться— едва начнут землю копать, глядь, опять ушла из-под ног Гулливая поляна, а вместо нее видна на том месте топь непролазная или чащоба непроходимая.
Скрывается поляна от недобрых и завистливых людей, которые на богатую поживу зарятся. Лишь перед человеком в большом горе да с чистой душой раскрывает Гулливая поляна свои сокровища.
Был на ней, своими глазами видел несметные богатства лишь один человек — пастух Горюнок.
В те поры умерла у него жена, четверых детей малыми сиротами оставила. Затосковал бедняк, не знает, что ему делать, как малых детей без матери прокормить, вырастить.
Однажды утром выгнал он стадо в лес. Коровы гуляют, траву щиплют, а Горюнок поблизости от них ходит, свою грустную думу думает.
Вдруг расступился лес, и раскрылась перед ним поляна красоты неописуемой. Двадцать лет он пас по лесам мирские стада и никогда той поляны не видывал. Среди ярких цветов блестят жемчуга и золото, сияют каменья самоцветные.
Удивился Горюнок. Наклонился он, чтобы нежданный клад рукой потрогать. И вдруг пропала поляна. Остался у него в руках один золотой, который поднял пастух.
С тех пор каждое утро стала открываться перед ним Гулливая поляна, дарить ему то золотые монеты, то серебряные. И вырастил пастух добрых сыновей: на богатство не завистливых, к чужому горю отзывчивых, умных да работящих. Умели они землю пахать, умели траву косить, не робели в трудный час и за правду мирскую встать.
А пещеры в лесу и сейчас сохранились. Жил в них атаман со своими дружинниками или другие какие люди ютились — трудно сказать. Только есть пещеры.
— А клады? — спросил Костя Беленький, поняв, что сказка кончилась.
— Клады? — переспросил дедушка. — Раз говорят люди — должно быть, есть. Понапрасну говорить не будут.
Ночной поход
Кочующая по всему бору таинственная Гулливая поляна и упрятанные в земле Воркуновы сокровища не дают нам покоя.
Не может быть, чтобы целая поляна исчезла и отыскать нельзя, — волнуется Ленька Зинцов.
Ну, увидишь, а она опять уйдет, какой из этого толк? — не спеша рассуждает Павка Дудочкин. — Никакого толку не получается.
Василию Петровичу — и тому, видать, жалко, что пропадает в земле бесполезно такое богатство. Дослушал он дедушку до конца — нашими разговорами заинтересовался.
У Туманова насчет Гулливой поляны свои соображения. Встал он, налипший на ладони песок рука об руку отряхнул, по коленкам галифе шаркнул.
— Эх, — говорит, — пустить бы на окружение этой поляны эскадрон кавалерии да верстовую цепочку пехоты — никуда не упряталась бы! От пехоты ускользнет — на кавалерию наскочит.
— Как же кавалерию, Василий Петрович! А если кони в топь забухаются?
Это Боря голос подал.
— Почему обязательно через топь ей нужно скакать?! Лучше по сухому объехать, — рассудил Туманов.
— Лучше, если бы объехать можно было.
— А почему нельзя?!
— Разное там… — начал Боря и запнулся смутившись. Дедушка дотянулся до него рукой и похлопал по плечу.
— Не волнуйся, соколик. Мы с тобой шажком-пешком дальше кавалерии ускачем.
И чувствуем мы из этого замечания с намеком, что Борису с дедушкой больше нашего про Гулливую поляну известно.
При Туманове промолчали, будто никакого внимания на эти слова не обратили. Побоялись, что еще смеяться над нами станет. А когда всей пятеркой в шалаше спать укладывались, Борю подробно расспросили. Он прямо сказал:
— Гулливая поляна, наверное, есть. Про нее и мама знает и тятя мне рассказывал. Мальчишкой он сам видел, как старики с лопатами тайком от людей ее разыскивали, хотели клады раскопать. Которые на коленках через лес ползли. Слух такой прошел, что если на коленках через лес проползти да полынное семя на зубу держать, то Гулливая поляна не скроется.
Уже в постели Боря сообщил шепотом:
— Дедушка давно показать мне ее обещается. Давайте вместе просить, чтобы всем поглядеть.
— Конечно, вместе! — вдохновился Ленька. Лежавший спокойно Костя Беленький и тот при восклицании Зинцова оживился.
Предложение насчет Гулливой поляны всем по душе пришлось. С утра и приступили к осуществлению задуманного.
Дед Савел сначала хотел наши просьбы на шутку перевернуть: посмеивается, отговаривается, но нерешительно. От этого у нас смелости прибавилось.
Туманов, проспав ночь в дедушкиной сторожке, в Гулливую поляну тоже, видать, по-настоящему поверил: нас поддерживает.
— Может, — говорит он, — попробовать на счастье, Савелий Григорьевич, если они на Воркуново наследство так раззавидовались?
Дедушка недовольно глазами на лесного инженера вскинул и спрашивает:
— А дело как?! — и на деревянные кружки возле сторожки показывает.
— Не помешает. К сроку все на своем месте будет. Ведь я клады раскапывать не пойду!
Старый лесник насупил брови, губами шевелит — смекает. А Туманов подсказывает:
— В отлучку-то, пожалуй, лучше даже будет, спокойнее. А то заслышат шум — пойдут пускать концы в воду. Тогда ищи-свищи ветра в поле.
Из этого разговора мы мало что понимаем. А Туманову, видать, и не особенно хочется, чтобы мы вникали. В таком случае надо делать вид, что мы и не прислушиваемся и внимания не обращаем.
Понятно одно, что дедушка с лесным инженером соглашаться начинает.
— Решай, — говорит, — как лучше. Тебе виднее.
Туманов и решил.
— Тогда, — говорит, — так и сделаем: вам Воркуновы клады искать, а мне начатое дело продолжать.
— Успеха тебе! — негромко, но с чувством произносит дедушка. И вместе с пожеланием в его словах звучит глубокая благодарность.
Закончив разговор с Тумановым, он обращается к нам:
— Значит, Гулливую поляну хотите отыскать?
Он прикидывает что-то в уме. Скрывая лукавинку в глазах, хмурит брови и, не дождавшись ответа, снова спрашивает:
— Какое нынче у нас число?
Я внимательно слежу за выражением лица деда Савела, стараясь угадать, куда ведут его вопросы. Почему именно сейчас дедушке потребовалось узнать день месяца.
По лицу угадываю я и настроение деда.
Нет, он не в обиде на нашу просьбу. А что старается казаться сердитым, так это только для вида.
— Смотрите, поиски долгие и путь не ближний, — предупреждает дедушка.
— Нам теперь привычно, дойдем, — за всех отвечает Костя.
— А не перепугаетесь, если леший огаркает или в трущобу заведет?
— Нет, не испугаемся! Нас много.
— А ты не боишься, Квам?
Если с друзьями договорились, разве можно отказываться, идти на попятный. И я даже смелее Кости отвечаю:
— Нет, не сробею!
На всякий случай добавляю:
— Я за тебя буду держаться.
Ленька перемигивается с Павкой. Ишь, мол, какой оборотистый!
— Ну, если все вы такие храбрые, — соглашается дедушка, — тогда ладно, попробуем. Готовьтесь сегодня в ночь. И запомните: пока не отыщем Гулливую поляну, не бывать вам в своем шалаше. Договорились?!
Мы на все согласны. Ни одним вопросом больше ни дедушку, ни Василия Петровича от их занятий не отвлекали. Спать нам в этот день пришлось лечь засветло.
— Вставать, как позову, — такое предупреждение получили мы от деда перед отправкой в шалаш.
Наверно, от этого предупреждения и лежали так долго. напрасно призывая сон. По приказу и просьбе много разных дел исполняется, а сон ни приказу не подчиняется, ни просьбы не понимает. Разве заставишь себя заснуть, когда знаешь, что скоро на Гулливую поляну идти?
Мы слышим, как лесник и Василий Петрович ведут разговор про неизвестного нам Максимыча. Затем Костя Беленький, который лежит крайним у входа, сообщает, что инженер подозвал Бурана и, как однажды дедушка, вложил ему в ошейник записку. Слышали, как промчался Буран мимо нашего шалаша.
Лежать давно надоело, а сон не берет.
Вот старшие принялись разжигать костер: потрескивают на огне сухие еловые шишки. Даже с закрытыми глазами видно, как огненной метелью взлетают при этом искры и, блеснув на мгновение, серым пеплом оседают на открытую голову деда и военную фуражку Туманова.
— Сначала надо воду вскипятить…
— За рыбу пора приниматься, — доносятся до нас сдержанные голоса и отрывочные фразы.
— Вот на дощечке. Удобно будет.
По тому, как хрустит и брызжет чешуя и порой срывается со звоном гибкий ножик, нельзя не догадаться, что на уху отобрана крупная рыба. Сегодня нас ждет настоящая рыбацкая уха, которую обещал дедушка приготовить к походу.
— Окуней не чисти, — замечает он Туманову. — Уха будет слаще. А уварятся — чешуя сама чулком слезет… Прогуляйся немножко, я тут доделаю.
Заварив уху, дедушка мягкими шагами прохаживается возле костра, прислушиваясь, не шепчемся ли мы в шалаше, и по привычке сам с собой негромко разговаривает.
А в нашем домике под елью тише, чем во время ночного сна: никто не пошевелится, не всхрапнет, не забормочет спросонок.
«Кто не будет спать, тот останется дома», — так предупредил нас дедушка. Поэтому мы стараемся «спать» почти не дыша. Кому же интересно оставаться возле сторожки, когда товарищи пойдут на Гулливую поляну!
Звякнет ли опущенное на землю ведерко, скрипнет ли осторожно приоткрытая дверь в маленьких сенцах, все думается нам, что вот сейчас приподнимет дедушка Савел край брезентового плаща у входа в наше жилище и позовет: «Поднимайтесь, соколики, собираться пора!»
Но, оказывается, что еще совсем не пора. Дед поднимает нас, когда мы и взаправду не то спим, не то засыпаем.
На поляне темно. Один за другим выползаем мы из шалаша на свет костра. Обувь, носки, портянки — все наготове. Но прежде нужно добежать до озера, ополоснуться свежей водой.
За костром темь такая — хоть в глаз коли. Вода в озере густая и черная.
Дедушка обещал новолуние. Еще недавно мы наблюдали, как «умирает» месяц. Новолуние в моем воображении — это ясная, светлая ночь, когда сияет в небе молодая «новая» луна, широко освещая кругом леса, поля, озера.
А луны сегодня вопреки ожиданию совсем не видно. И дедушка объясняет, что это и есть самое новолуние, когда «одна луна» кончилась, а «другая» еще не успела народиться, и в небе вообще нет никакой луны.
— В такие вот ночи и ищут люди упрятанные по лесам клады, — говорит он.
Уха «доходит» на малом огне. Вывертываются снизу и снова ныряют в глубину котелка рыбьи хвосты и головы. Кружатся, всплывая и вновь исчезая, лавровые листья и перья зеленого лука. Для рыбацкой ухи не надо никакой другой приправы. Лучшая приправа ей — дымок от костра.
Походила волнисто, поморщилась уха под крутым наваром на малом огне — и на круг.
— Сдвигайтесь потеснее, — приглашает дедушка.
Уха такая пахучая и вкусная, что шесть ложек кладоискателей работают не уставая. Сбоку костерок подсвечивает, и лица товарищей передо мной то прозрачно-синими просветят, то розовыми, то багровыми зардеются.
За ночной ухой недостает одного Туманова.
«Неужели домой ушел?» — думаю я, и при мысли об одиноком путнике среди бора становится зябко.
За костром настороженно молчит лес. И чем ближе дно котелка, тем гуще кажется темнота, и все чаще приходит на ум: «Чем-то встретит нас Ярополческий бор в такую ночь?»
И на Гулливую поляну хочется, и жуть закрадывается. А ложки уже о дно котелка позвякивают.
— Боря, не забывай, — указывает дедушка на костер.
Борис раз и другой бежит к озеру и тщательно заливает огонь. Последние угольки шипят, опрыснутые из ведерка, и — темнота.
— Приглядитесь, — советует дедушка.
Слышно, как, одеваясь, он шумит парусиновым пиджаком.
— Сначала на небо, потом на землю смотрите. После костра так лучше, — говорит Боря.
А небо тоже темное. Потом начинает проясняться, становится синим.
Под ним бор обозначился. Сторожку стало видно.
— Бечевку не забыл? — еще раз проверяет дедушка, прежде чем пуститься в дорогу.
— Здесь, — отвечает Боря, пристукнув по карману.
— А лопату? — спохватываюсь я.
— Зачем? — спрашивает дедушка.
— Если клад попадется…
— А-а-а! Вон ты куда целишься! Ладно! Держись за мой пиджак, — говорит он. — Отыщи-ка Большую Медведицу.
Я запрокидываю голову и повожу глазами. Разглядев над лесом большой опрокинувшийся ковш из семи звезд — указываю.
Первым делом Большая Медведица время нам подсказывает, опрокинулся ковш — значит, полночь. Затем она помогает нам найти в небе Полярную звезду, которая, как блестящая стрелка компаса, всегда север показывает.
На Полярную звезду и берет дедушка направление.
В лесу безлунная ночь чернее, чем на поляне. Тишина такая, что каждый хруст подвернувшегося под ноги сучка, каждый неожиданный шорох в ветвях заставляет вздрагивать. Сердце занимается в груди, и я с трудом перевожу дыхание, чтобы его не услышали, не догадались о моем волнении идущие позади товарищи.
Дедушка шагает уверенно, не обращая внимания на ночные шорохи и звуки. Крепкая палка у него в руках постукивает глухо и размеренно.
Я держусь за пиджак деда Савела. За мной вплотную, то и дело наступая на пятки, короткими шажками торопится Павка. К нему пристроился Ленька Зинцов. За Ленькой приноравливает шаг Костя Беленький. И все мы торопимся, боясь потерять на ощупь идущего впереди товарища, теснимся один к другому.
Только Боря заметно не разделяет нашей тревоги. Он то идет позади, то поравняется с дедушкой — разговаривает с ним преспокойно, не снижая голоса, будто так и надо.
— Сухая дорога, хорошая, — скажет Боря.
— Всякой будет довольно, — ответит дедушка.
Чем дальше мы идем, тем гуще сплетаются ветки деревьев. Корявые сучья, сухой валежник громоздятся под ногами, перегораживая путь. Ветви елей тянутся цепкими лапами, обшаривают нас в темноте.
Приглушенное шуршание, таинственные глухие перестуки следуют рядом с нами по всему пути.
Тонкий свист слышится в ветвях над нашими головами. Хрипло крикнула спросонок какая-то птица. Павка споткнулся и громко затрещал ломающимися сучьями.
— Тише, осторожнее, — слышу я шепот Кости Беленького.
И вдруг дикий громкий хохот прорвался из ветвей. Сердце захолонуло.
— Филин! — торопится успокоить нас Боря.
А дедушка, не прибавляя и не уменьшая шага, продолжает идти и идти, нащупывая дорогу своей суковатой палкой. И я уже не знаю, где мы теперь находимся, куда забрели.
«Скорее бы поляна», — проносится в голове.
На память приходят прочитанные книжки, страшные деревенские рассказы. Пытаюсь представить себе, в каком виде явится нам клад: то ли вспыхнет огоньком среди ночи, то ли с жутким мычанием выступит из-за куста коровой, а может, кинется нам под ноги рассвирепевшей собакой с оскаленными клыками. Тогда дедушка с известным ему заклинанием ударит палкой, и собака рассыплется перед нами кучей золота и самоцветных каменьев.
Куда мы их будем класть и что потом с ними делать?
…Вместо валежника и сучьев что-то мягкое шуршит под ногами и с каждым шагом все выше, выше поднимается — до плеч дотягивается.
Мы уже не идем, а бредем, словно по воде, в какой-то густой травяной заросли.
Густо пахнет папоротником.
Так вот какие это заросли!
Невольно вспоминается забытый рассказ о случайном путнике, что заблудился летней ночью в лесной глуши. А ночь была та самая, когда сказочным чудодейственным цветком на миг расцветает папоротник. Берегут этот цвет лесные силы, хитростью отводя и страхами отпугивая от него человека.
Не заметил путник, как упал папоротниковый цвет ему за голенище. Тут бы любой клад в руки бери, любое желание загадывай — исполнится. А он идет себе, о папоротниковом цветке и знать ничего не знает. И единственное у него желание — поскорее на дорогу выбраться.
Разом открылся в непроездной глуши просторный путь. Только тут заметил прохожий: светит что-то непонятное у него из-за голенища. А ногу словно огнем палит.
По дороге с перезвоном колокольчиков тройка мчится, нагоняет усталого пешехода.
— Садись — подвезу! — кричит ямщик. — Разувайся, чтоб было свободнее.
Только снял прохожий сапог — вылетел из него папоротниковый цветок, поднялся высоко в воздух, осветил все вокруг ярким пламенем и опустился медленно в дальней чаще бора. В тот же миг ни ямщика, ни тройки как не бывало. Остался путник сидеть у дороги с растертой до крови ногой и сапогом в руках.
Одновременно с воспоминанием этой таинственной, любимой деревенскими стариками, жуткой и потому особенно привлекательной истории тихо, но настойчиво звучат слова Надежды Григорьевны: «Никогда не цветет папоротник. Нет у него ни малых, ни больших цветов».
Знаю: верны слова учительницы. Только в необычном походе и хочется необычного. Сейчас и в цвет папоротника, кажется, поверить можно. И увидеть его хочется, и думать об этом страшно. Что делать, если зацветет он вдруг огненными цветами? А если в карман попадет?..
Но папоротник шуршит, густо качаясь по сторонам, и сколько ни вглядывайся — не видно кругом не только огненного цветка, но даже ни одной заметной в темноте светлой крапинки.
Зато впереди…
Сердце заколотилось в груди, и захватило дыхание. Обеими руками что было сил ухватился я за парусиновую куртку деда, боясь, что она вот-вот выскользнет из рук.
Это было не воображение. Впереди отчетливо виднелись трепетные блуждающие разноцветные огни. Они то появлялись, то снова исчезали за стволами деревьев, перебегали и вспыхивали в новом месте. Сколько их, где кончаются — ни сосчитать, ни разглядеть невозможно. И дедушка, не сбавляя шага, шел прямо на них.
Я слышал дыхание кучей сгрудившихся товарищей.
И хотелось, чтобы они толпились еще тесней, тесней, а мне очутиться бы в самой середине.
Огоньки приближались. А дед Савел все стучал и стучал посошком, не удлиняя и не укорачивая шага. И ни слова.
Вот он повернул налево. Пошарил по сторонам палкой — и дальше. Теперь огоньки бежали у нас по правой стороне. Держась за дедушку, я не спускал с них глаз, каждую минуту ожидая необыкновенного, которое чувствовалось совсем близко и казалось неизбежным.
Хорошо издали мечтать о страшной сказке и жутко близко и наяву ощутить приближение этих страхов, которым нет объяснения. И по всему было заметно, что не у одного меня исчезает недавняя храбрость. Хотелось в эту минуту снова очутиться возле спокойной и тихой лесной сторожки, в своем шалаше, на мягком и душистом сене.
Только данное деду обещание не давало смалодушничать, удерживало навертывавшуюся на язык просьбу остановиться или даже совсем повернуть в обратный путь.
«Хоть бы скорее солнышко всходило!» — как надежды на спасение от страхов, мысленно пожелал я.
Но дедушка рассчитал точно: не было еще никаких признаков близкого восхода. Крепко держалась темнота в вершинах сосен, лишь по черноте угадывалась земля под ногами.
Смутно различая обломки сучьев, остатки полусгнивших бревен, мы перебирались через зыбучую топь. Потом огибали зигзагами еле заметный глазу узкий и темный ручей, и призрачные огоньки, забегая с разных сторон, мерцали то прямо перед нами, то бежали слева и справа, то подступали сзади. Казалось, что сам дедушка Савел закружился, не в силах выбраться из этой огненной толчеи. Слышу, как он, нащупывая сухое место, пробует палкой тряскую зыбку направо, налево, ведет нас за собой по суши и топи.
— Осторожно! — раздается в тишине его голос.
Это было первое слово, произнесенное после долгого молчания. Оно прозвучало глухо и странно, и было похоже, что это мрачно предупреждала нас сама трясина.
— Тяни по сучьям бечевку, — тем же голосом произнес дедушка и тронул Борю за плечо.
У наших ног лежало, топорщась сучьями, сваленное через ручей дерево. Боря, нащупывая ногами опору, закрепил бечевку на первом суку и потянул ее дальше над черным ручьем. Получилось жиденькое перильце вдоль всего бревна, не то чтобы прочная, но все-таки опора и указатель направления. Так по бревну да по бечевке и перебрались мы вслед за Борей и дедушкой на другой берег ручья.
Дальше, взявшись друг с другом за руки, чтобы не оступиться, шагали по тонким и хрупким хворостинкам, продвигались через низкорослые и гибкие кусты, совершенно потеряв представление о времени и пройденном пути и всецело доверившись деду Савелу. Казалось, что не будет конца нашему слепому блужданию.
И вдруг совсем молодо, по-праздничному светло и торжественно дедушка произнес:
— Вот она, Гулливая поляна!
Широко раздвинув руками куст ивняка, он придержал снова готовую сомкнуться густую зелень и отступил в сторонку, словно распахнул перед нами дверь сезама.
…Вечерняя заря над переливистой рябью озера, утренний луг в блестящей росе, взбурлившая радугой вода под мельничным колесом — ничто не могло сравниться с картиной, которая живописной сказкой раскинулась перед нами.
В широком полукружье призрачных, колеблющихся и перебегающих огней рассыпались бирюзовые, красные, с отливом, синие, малиновые, огнисто искрящиеся самоцветы. Вся поляна лежала перед нами сплошной россыпью драгоценных камней.
Проступившие над поляной звезды в небе померкли перед этим разноцветным сиянием, которое колебало, поднимало темноту своим светом, не давая мраку коснуться океана сокровищ. И низкий край ночи вздрагивал, касаясь обжигающих огнями самоцветов. И темнота была не в силах погасить разгоревшееся сияние.
— Не шевелитесь, не притрагивайтесь, — расширяя руки за спину, сдерживает дедушка охвативший нас порыв. — Наглядывайтесь да помните: не многим доводилось видеть Гулливую поляну в такую ночь.
Опираясь на свою суковатую палку, он медленно опускается на подогнутые ветки куста и долго сидит безмолвно, не шевелясь.
Мы смотрели на поляну словно завороженные. То, что довелось нам увидеть и пережить в эту полную неожиданностей мрачную и ослепительно засверкавшую на исходе ночь, никогда Не забудется!
Мы видели, как рассеивались, исчезали, словно под землю уходили, сокровища, как бледнели, расплывались огни, сливаясь с первыми проблесками утренней зари. А когда перед восходом солнца засветилась на востоке звезда зарянка — потускнели и с первыми лучами нового дня совсем исчезли брильянтовые и жемчужные россыпи.
Перед нами лежала обыкновенная, даже неуютная, окруженная со всех сторон непроходимыми топями поляна, и на ней трепетали листьями редкие кустики осин, да в дальнем краю, чуть тронутые первым румянцем, виднелись гроздья костяники.
Мы щупали трухлявые древесные пни, которые еще недавно горели перед нами в темноте чудесными огоньками. Забывая ночные страхи, хлюпали по болотной топи, тоже погасившей на рассвете язычки пламени. И уже ничто не напоминало нам призрачно-красивых факелов леса.
Илино озеро
Осиновые светящиеся в темноте гнилушки, набитые по нашим карманам, — с Гулливой поляны. Очищенная белая тросточка в руках у Леньки Зинцова — с Гулливой поляны. Гроздья синей костяники на сатиновой рубашке Павки Ду-дочкина и над козырьком моей кепки, новая дудочка-жалейка у Бори — все с Гулливой поляны.
Понабрали мы себе разных вещичек и знаков из сказочного уголка Ярополческого бора. Живет в них воспоминание о чудесном ночном походе с таинственными приключениями, а мальчишкам на деревне будет у нас по возвращении вещественное доказательство о существовании удивительной поляны.
Для Надежды Григорьевны приготовил я особый подарок — нарисовал в тетради куст гулливополянской калины.
Не так важно само изображение, как значительно то, где был сделан рисунок. Выводил я веточки и листья с натуры, лежа на животе на Гулливой поляне. Не беда, что гроздья калины не подрумянены, а вместо зеленых листьев намечены лишь черные обводы. Вернемся в деревню — и доделаю я рисунок цветными карандашами.
Гордимся и бережем мы гулливополянские «сокровища». Один дедушка никакими памятками похода не отметил: как уходил от сторожки с суковатой палкой в руках да маленьким топориком за поясом, с тем и возвращается.
Этот день посвятил дед Савел хождению с нами по даль-. ним лесным урочищам.
По-настоящему попробовали мы и земляники, и первые грибы-колосники собирали с увлечением, наполняя ими фуражки и пересыпая затем в Борину рубаху с перевязанными рукавами и воротом.
Толстоногие боровики еще медлят из земли пробиваться, раньше положенного срока на люди показываться. Эти важные, с чувством достоинства своего времени ждут, чтобы в торжественный час солидным начальником перед меньшей хлопотливой братией явиться. А маслята, опята, сыроежки— те всегда торопятся: первыми ворохнули опавшую хвою, выглянули на свет. Ваньки, дуньки, свинухи, чернухи — не в счет. По Заречью они и за гриб не почитаются, а вроде сорняка в огороде. Их ожидает та же участь, что и кичливого, наряднейшего из всех грибов — ядовитого мухомора: сковыриваем и растаптываем ногами, чтобы место даром не занимали, деловым грибам его освободили.
Сыроежки так себе — серединка на половинке: как на безрыбье рак — рыба, так на безгрибье и сыроежка — жаркое. А тоже модницы: красные, зеленые и другие, приятные глазу шляпы во всю ширину развернули, разместились парочками и тройками.
Мало других грибов попадается, тогда и сыроежкам находится место в фуражке. Берем для счета и те, что парами, и те, что в одиночку на отскочке стоят, нарядно вырядившись.
Маслятам почтение особое. Вот неприхотливый, компанейский народ! Где заметил одного — шарь поблизости: обязательно целая ватага сидит.
Хорошо берутся на нож маслята. Острие через корешок не чутко, будто через сливочное масло проходит.
Весело их брать, да грустно драть. Ох, как наскучило нам снимать со шляп «компанейских ребят» масляные околыши! А задумали грибной суп варить — так надо.
Привал устроили мы на луговине возле незнакомого озера. Чудесное озеро! А луговина по берегу и того краше. Поверх густой травы вся она усеяна голубыми цветами колокольчиков, мохнатой желтой дремой, ярко-красными лютиками. Поднимали из травы зарыжелые головы в белых венках вездесущие ромашки.
Трудно было подыскать лучшее место для отдыха. Тут мы и пристроились.
Молча выбрал дедушка круговину для костра. Так же молча и неторопливо вытесал рогульчатые сошки. Ленька с Павкой тем временем сучья собирали и подтаскивали, а Боре с Костей Беленьким, да я к ним на придачу — досталось маслят чистить, модные шляпы сыроежек лепестками снимать.
На противоположном берегу озера, широко раскинув могучие ветви над самой водой, шумел одиноко старый вяз, и густая листва трепетала на ветру, изменяясь в окраске от ярко-зеленой до серебристой.
— Свежить начинает, — не обращаясь ни к кому в отдельности и для всех говорил дедушка. — Видно, новый месяц дождичком обмоет.
У старого лесника были насчет погоды свои, никем не писанные, но верные приметы. И теперь нарождения нового месяца дедушка ожидал как перемены погоды, дождей на смену длительному засушью.
— Пора, давно пора промочить ее, матушку, как следует, — уверенно, будто у него на руках было расписание погоды, говорил лесник, загоняя колышки в сухую твердую землю. И все поторапливал нас. — Попроворнее, попроворнее, соколики, ножичками шаркайте. Пошире полоски со шляп снимайте.
Скоро над озером запылал костер.
В высоком небе проплывали легкие кучевые облака. Свежий ветер, налетая порывами, гнал по озеру мелкую водяную рябь, на поляне пригибал волнами цветы и травы.
Птица иволга вылетела с ближней опушки, с протяжным криком «акружилась над водой. Печаль и тревога слышались в крике птицы.
Пока варились грибы, и рассказал нам дедушка, почему, заслышав ветер, становится такой беспокойный тихая и печальная иволга: залетает вдруг торопливо, заголосит в тревоге.
— В старые годы, — повел он речь, — озера этого и в помине не было. Стояла тогда на поляне одинокая избушка в три окна: на восток, на юг и на запад. Жили в ней в добром ладу и здоровье для брата-охотника — Иван да Герасим — со своей младшей сестрой Илей. Была девушка скромна да красива, умна да дельна — другой такой по всей округе поискать.
Утром, чуть свет, братья поднимутся, студеной водой умоются и в лес на промысел отправляются. Накормит, напоит их девушка, за порог проводит, удачливой охоты пожелает. Постоит, поглядит им вслед, пока братья в лесу не скроются, тогда и за свои дела принимается: в доме приберет, под окнами разметет, шитьем или рукодельем займется.
Крепко любили братья свою младшую сестру, души в ней не чаяли.
А еще больше любил ее молодой кузнец Никита Сирота.
Никто не умел быстрее Никиты сошники точить, никто не умел лучше его надежные мечи ковать, на работе голосисто задушевные песни петь.
Был Никита верным другом и первым гостем в дому у братьев, делил с ними невзгоды и радость. По душе было ему тихий Илин голос слышать, застенчивую улыбку смотреть.
Так жили они, беды не ведая, пока не появился в лесу старый злой колдун. Стал он черным вороном с железным клювом над лесом летать, на беззащитных нападать, мор и болезни в народе сеять.
Приуныли веселые, притихли слабые и робкие. Весь Ярополческий бор запечалился. Помрачнели, суровей стали и братья Илины: все чаще недобрым взглядом посматривают они в тот край, где завел колдун свое логово. Но нет на сердце у них ни страха, ни робости. И Никита мечи кует — песни поет. Только стали песни суровее да тревожнее, а дружба братьев с Никитой Сиротой еще теснее. Крепит и радует ее любовь Илина.
Не может терпеть дружбы сильных и смелых людей коварный и злой колдун. И замыслил он разбить дружбу, посеять тоску и раздор между родными братьями и Никитой Сиротой.
Раз сидит Иля в своем домике, распахнула окно навстречу солнышку, поясок плетет, сама песни поет, поджидает из лесу братьев-охотников.
Вдруг слышит она: зашумел, закачался дремучий бор, тревожно зазвенели за окном цветы-колокольчики.
Глянула Иля в окно восточное — колдун летит, по верхушкам сосен тучей стелется. Накрепко окно она захлопнула, изнутри дубовым ставнем заставила, закрепила запорами железными.
Подбежала она к окну южному, а колдун уже приближается. И нет рядом с Илей ее братьев и защитников, не дозваться на помощь Никиту Сироту. Торопливо окно она захлопнула, заложила ставнями дубовыми.
Не успела подбежать к окну западному, как влетел в него злой колдун.
Закружил Илю черный вихрь, подхватил ее и унес за трясучие болота в колдовской дворец, где ни солнца нет, ни радости, а в подземельях колдуна стонут пленники.
Возвратились братья с охоты, видят — нет сестры. Ни голоса ее не слышно, ни обеденный стол не накрыт.
Глянули они в раскрытое окно и увидели, как из мрачной тучи на западе мелькнул белый Илин шарф — памятный подарок отца меньшой и любимой дочери. Поняли они тогда, что случилось с любимой родной сестрой. Взялись братья думу думать, как сестру от колдуна вызволить, от ненавистного ворога народ избавить.
Посмотрел на младшего старший брат Иван и говорит ему:
— Не сумел я отцовского завета выполнить, не сумел родную сестру сберечь — мне и выручать ее.
Потом глянул он на тяжелый кистень, что висел на ремне между двух окон, и вспомнил прощальный наказ родительский:
«Береги, старший брат, брата меньшого, береги родную сестру, береги добрым делом память родительскую, а пуще того береги славу родной земли: для нас всех она — родная мать. Будь удачлив в работе и не ведай страха перед врагом в бою. Не бери ты оружие до времени, а возьми его только в грозный час».
Вот и наступил он, тяжелый и грозный час.
Снял Иван со стены кистень родительский, попрощался со своим младшим братом и пошел выручать родную сестру из чужой неволи. Держит он путь через леса и поля, переплывает реки и озера — идет прямо в царство злого ворона, где и днем стоит ночная тьма, где не видно солнца красного, лишь мерцают во мгле звезды тусклые.
Долго шел Иван, пока не добрался до большой поляны. За поляной болота лежат непроходимые, прикрытые сверху обман-травой. За болотами этими виднеется вдали колдовское проклятое логово: ни прохода к нему, ни проезда нет.
Только хотел Иван на обманную траву ступить, под которой гибельная трясина кроется, как зазвенели тревожно цветы-колокольчики: «Не шагай туда, добрый молодец! Притаилась на болоте гибель неминучая!»
«Берегись, богатырь, колдун летит!» — тихим голосом шелестят ему ромашки белолистые. Деревья густыми ветвями укрыть богатыря стараются.
Но не слушает старший Илин брат о чем звенят цветы, не знает, от какой беды остерегают его деревья высокие. Кипит в груди его ненависть великая, хочет он в открытом бою поразить врага лютого.
Завидел Иван в туче злого ворона — взмахнул отцовским кистенем тяжелым. Увернулся колдун, взвился под облака, окутал ясный день непроглядной тьмой.
Ударил богатырь наугад сквозь тучу мрачную — царапнул по крылу злобного ворона. Посыпались из облака на землю перья черные. И на том месте, где упали они, выросли кусты косматые — волчье лыко с ягодами ядовитыми.
Упал на тряское болото кистень богатыря и рассыпался. Из осколков его холмики, словно кучи муравьиные, повы-росли, к колдовскому логову узкой цепкой протянулися.
Лютой дрожью задрожал колдун, те опоры по болоту увидевши. Каркнул он заклинание зловещее, и превратился Иван в лесного лося с рогами широкими.
Долго ждал Герасим брата старшего — не дождался, сам в дорогу собираться стал. Снял он со стены отцовский тяжелый меч, надел кольчугу железную и пустился в путь, на выручку сестры и брата.
Проходил он через луга цветистые, переплывал реки и озера, миновал дремучий лес — и увидел перед собой поляну широкую. Лежат за той поляной болота непроходимые, обман-травой поверх прикрытые. Далеко за болотами проступает из мрака колдовское проклятое логово: ни прохода к нему, ни проезда нет.
Только смотрит богатырь: грядой легли по болоту малые холмики. То старший брат Иван проложил кистенем тропинку через топь. Ведет она к черному жилищу колдуна.
Перебежал по холмикам богатырь болото первое, видит: ходит по лужайке могучий лось с рогами тяжелыми, широкими, зорко и понятливо смотрит на Герасима, будто хочет что-то сказать ему.
Угадал в нем богатырь брата кровного. Обнял его за шею Герасим крепче крепкого.
А лось перед братом шею клонит, на спину богатыря сажает, недобрым взглядом глядит на колдовское проклятое логово.
Помчал он Герасима по болотной гати, бьет обман-траву широкими копытами, только зыбь позади него колышется.
Долетел до высокой стены каменной. За стеной мраморной дворец стоит, а железные ворота закрыты наглухо.
Хочет Герасим через каменную стену перебраться, а кругом тьма висит непроглядная. Поднимают ядовитые головы из болота, шипят злобно гады ползучие.
«Берегись, богатырь, колдун летит!» — зазвенели цветы-колокольчики.
«Укройся под нашими ветвями в густой тени», — ветровым голосом зашумели сосны.
Но не слышит Герасим малые цветы и травы, не понимает ветрового голоса вековых деревьев. Только видит он: вьется, выбиваясь сквозь железную решетку, белый Илин шарф — родителя прощальный подарочек. Стоны пленников из подвалов колдуна до ушей доносятся.
Гневно рубит Герасим запоры железные, во все стороны огневые искры сыплются, меч богатыря сверкает молнией.
Тут метнулась в небо туча черная. Налетел колдун на Герасима.
Размахнулся, ударил богатырь мечом — пробил ворону грудь железную, достал его черной крови. Упали из-под облаков на землю три капли грязные, и пошла от них расти ворожейная, с удушьем, одолень-трава.
Каркнул ворон заклинание зловещее — и остался стоять Герасим в ярком огненном сиянии, пламенным мечом из мрака на колдовской замок указывая.
Ждал не дождался братьев Никита Сирота. Сам решил идти друзьям на выручку, вызволять из жестокого полона любовь свою.
Жарким пламенем раскалил Никита кузнечный горн. Девять дней, девять ночей, не зная устали, ковал он меч-кладенец на месть врагу.
Налетал колдун бурей с вихорем погасить огонь — опалил себе крылья черные. Силился троеклятым заклинанием превратить кузнеца в недвижный камень, да слепит глаза пламя нестерпимое, не видать Никиты в том пламени.
Отковал, огнем и гневом закалил меч Никита Сирота. Окунул его в воды Клязьмы — родной реки, и засверкал булат ярче солнышка.
Умылся кузнец речной водой — и силы у него сразу удвоились. Посмотрел на осиротелый Илин дом — гнев в груди его усилился. Глянул на села, злодеем опустошенные, — сама рука к мечу богатырскому потянулась.
Взял он с поляны перед домом братьев-охотников дрему-цветок, чтобы в тихий час добрый отдых знать. Еще взял с собой колокольчик-цветок, чтоб будил его при опасности. Еще взял Никита цветок верности — незабудку простую голубенькую, драгоценную память Илину — и пустился в путь.
Долго шел Никита лесными тропами. Баюкал его, усталого, дрема-цветок. Колокольчик лесной его сон стерег. Ветви зелени распускались над ним непроглядным куполом. Незабудка-цветок встречал его пробуждение, напоминал тихим шелестом о вечной верности, любви и дружбе.
Подбирались к Никите гады ползучие — их рубил кузнец. Встречались в колдовских лесах птицы пленные — на свободу их отпускал богатырь. И пошла о нем добрая молва на все четыре стороны.
Слышит колдун по деревням и селам, по лесам и полям отважному кузнецу одобрение. Не дает ему покоя злоба лютая. Ищет он богатыря бесстрашного, измышляет, как погубить его.
Вышел Никита на широкое болото, обман-травой прикрытое. Виднеется вдали колдовское проклятое логово. Малые холмики по болоту путь к нему указывают. Ярким пламенем горит над мрачной стеной меч Герасима.
Отдохнул Никита перед боем под сосенкой, убаюканный цветком-дремою. Разбудили его цветы-колокольчики: «Берегись, богатырь, колдун летит!»
Встал Никита под деревом в полный рост, распушились над ним ветви зеленые. Черной тучей мимо пролетел колдун.
Завел тут Никита песню вполголоса. Подхватили ее люди по деревням, птицы по лесам, полевые цветы и луговые травы. Зеленые сосны в лад богатырю вторят. И полетела вольная песня из края в край. Где конец, где начало ей не может отыскать колдун.
А богатырь тем временем по холмикам пробежал болото первое. Встретил его могучий лось с рогами тяжелыми, широкими. Посадил он Никиту на спину, птицей понес его по зыбкой трясине, рвет широкими копытами обман-траву, только зыбкая топь позади него от бега колышется.
Домчал он кузнеца до высокой каменной стены. Прорезая тьму, жгучей молнией сияет меч Герасима, огневые искры от него во все стороны сыплются.
Оперся богатырь на широкие лосиные рога, поднялся на стену каменную и увидел сквозь железную решетку белый Илин шарф, услышал из глухих подвалов призывные голоса колдуновых пленников.
Сбивает он мечом запоры тяжелые, выпускает на свободу невольников. Добрался до оконца темницы Илиной, ударил по решетке со всего маха — и рассыпалась от богатырского удара витая сталь.
Услыхал ворон громовые удары богатырские — летит назад. А Никита Сирота уже на свободу Илю выпустил. Мчит их лось обратно через болото зыбучее, несет верного друга и любимую сестру в родимый край. Развевается по ветру белый Илин шарф.
Опустил их лось на поляне родного бора. А колдун уже над ним вьется, черным вороном под облаком кружит, метит в богатыря железным клювом. Налетел стремглав.
Выхватил Никита меч-кладенец, на лету перехватил колдовской удар, пробил ворону грудь железную, насквозь пронизал сердце злобное.
От того удара земля дрогнула, вековые деревья закачалися. Поднялся над бором жгучий вихрь и унес в высокое небо белый Илин шарф.
Страшным криком закричал смертельно раненный злодей, и упало на землю из железных когтей кольцо заколдованное. В том кольце таились колдовские чары.
Покатилось оно по траве, и там, где опрокинулось, образовался бездонный провал, глубокое лесное озеро.
Упал на землю ворон и превратился в сухое обгорелое дерево, перебитое жаркой молнией.
В тот же миг спали колдовские чары с Ивана и Герасима. Снова встали они перед сестрой и другом неразлучными братьями-охотниками.
Разрушили бури, заметали пески колдовской дворец. Облегли его бурьяны непроходимые, заволокли туманы непроглядные. Лишь всполохи беспокойно вспыхивают с той стороны по ночам — то блестит над гиблым местом меч Герасима.
Легкий Илин шарф ясной дорожкой распластался в высоком небе — висит, не падает, весь покрылся мелкими звездами. И называют его люди — Млечный Путь.
Полюбили Никита с Илею сидеть летним вечером над тихим озером, встречать и провожать розовые зори, смотреть на распластавшийся по небу легкий звездный шарф. И цвела рядом с ними по берегу убаюкивающая дрема с голубыми незабудками, перезванивались в тишине говорливые колокольчики.
Под разговор цветов и замечтали однажды кузнец с Илею: «Навсегда бы остаться над этим озером».
Как замечтали, так оно и сделалось. Встал Никита Сирота на берегу высоким вязом, а красавица Иля превратилась в птицу иволгу.
Тихо в лесу — и она спокойна, чуть слышно подает любимому из уютного гнезда печальный и нежный голос. Но лишь надвинутся тучи — и снова видится ей приближение злого колдуна. Вылетает она навстречу ветру, беспокойно кружит над озером, касаясь легким крылом кудрей любимого. Кричит тревожно.
По крику иволги угадывают люди приближение бури, ветровой погоды с дождями. А над этим озером и иволга необычная, и само озеро названо Илиным.
Вот какие дела происходили в далекую старину, соколики…
Умолк дед Савел. Над костром пыхтел и вздрагивал походный котелок. Облака над лесом ускоряли бег, и птица иволга все кружилась над озером, то взмывая кверху, то стремительно бросаясь вниз.
Тревожным голосом верная подруга предупреждала любимого о новой грозе.
Снова «Королева»
В сторону думы об играх и забавах, об уженье рыбы и занимательных лесных походах. Даже дневниковые записи в тетрадях прекратились. Не до того было, когда в тихом бору одно за другим разыгрались события, поднявшие на ноги не только ближних лесников и их семьи, но и окрестные селения.
Сторожка дедушки Савела и дом с петухами были в центре этих событий. И нам, временным жителям Яро-полческого бора, пришлось быть в них не посторонними наблюдателями, а первыми и активными участниками.
Наша компания, еще не сознавая того и лишь позднее разобравшись в происшедшем, первой способствовала быстрому приближению и крутому развороту событий.
И пусть в завершение нам пришлось оставить на время и насиженный шалаш под елью, и опечаленного старого лесника, и нашего нового друга — Борю, все же рядом с грустью жила в душе радость, что и мы не сробели, не растерялись в трудную минуту.
Большие перемены произошли в нашей лесной жизни за два дня, которые совершенно не обозначены в тетрадях. Но я должен рассказать и об этих днях, и о вечере накануне событий, нарушивших тихую жизнь бора и заставивших нас сменить уютную и гостеприимную дедушкину сторожку на новую лесную квартиру.
…Беспредельно счастливые, что побывали на Гулливой поляне, услышали над Илиным озером новую сказку, угостились вволю первыми грибами и ягодами, бодро и весело возвращались мы на родное гнездовье.
Одно было жалко: что не ходил с нами, не испытывал всего этого Василий Петрович. Скучал, наверно, одиноко в дедушкиной сторожке.
И придумали мы на радостях «угостить» его самодеятельным концертом.
Есть у нас губная гармошка, у Павки Дудочкина крикливый манок в кармане. Боря свою тростниковую жалейку на три лада Косте Беленькому передал, для меня из лесного дягеля басовитую дудку сделал, а себе сорвал березовый листочек по дороге — поднес к губам:
— Начинаем!
И грянул на подходе к сторожке разноголосый духовой оркестр: «Выходи, Василий Петрович, любоваться новоявленными музыкантами!»
А посреди поляны, глядим, гривастый вихревой конек Пегашка на длинной привязи скачет. Заслышал нашу музыку— на дыбы поднимается: вот-вот на воздух взовьется.
Как для такого случая не постараться! Поднажали мы на свои дудки и свиристелки, на полную мощность грянули.
Взвился Пегашка. Веревка, на которой он был привязан, лопнула. Припустился перепуганный Пегашка вскачь от нашего оркестра.
— Что вы наделали! Убежит… Ловите скорее! — кричит Василий Петрович из окошка.
И, побросав свои инструменты, все «музыканты» кинулись вдогон за вихревым коньком.
Хорошо еще, что оборвавшаяся веревка коню бежать мешала, — под копыта попадала, а то не видать бы нам больше Пегашки как своих ушей.
После его поимки на большой концерт мы уже не отваживались, лишь тихонько попискивали на гармошке и на дудочках, собравшись возле сторожевого гнезда. И Пегашка, снова привязанный гулять на травке, постепенно привыкал к этим звукам.
Скоро мы про него и совсем позабыли. Заинтересовало другое: в ответ на тоненькие переливы Ленькиной гармошки из глубины леса долетел не то волчий, не то собачий заливистый вой.
Это не был голос Бурана. Собака Туманова была у нас на виду и ходила по пятам за своим хозяином.
Из глубины леса давал о себе знать какой-то другой зверь.
— Интересно, почему собаки воют, когда музыка играет? Поют они или сердятся? — рассуждал Костя Беленький.
— Поют, — коротко и резонно заявил Ленька Зинцов. — Люди под гармошку поют, и собаки привыкли.
— А почему в деревне их гонят от гармошки, палками бросают, а они отбегут и все равно воют? Какая тут песня! — высказал сомнение Павка Дудочкин.
— На задор поют, чтобы палками не бросали. Ты тоже, чуть затронь, на кулаки лезешь. Не верно, что ли?!
Павка спорить после этого перестал, но насчет собачьих песен с Зинцовым все-таки не согласился. А Костя Беленький сказал:
— Сердятся собаки или от удовольствия под музыку поют — нам все равно. А вот чья собака в лесу воет, если только это собака, и как она сюда попала, узнать интересно.
— Должно быть, Пищулина, объездчика, — высказывает мнение Боря.
— Так! — насмешливым девчоночьим голосом соглашается кто-то в ответ на догадку.
Костя Беленький с упреком смотрит на нас, пытаясь угадать, кто это мог сказать, и недовольно пожимает узкими плечами. Боря разглаживает ладошкой моховой купырь под ногами и делает вид, что ничего не слышал.
— Только дом Пищулина далеко, — прикидывает он в раздумье. — Отсюда, пожалуй, собаку не услышишь.
— Дурак! — на манер попугая звякает все тот же язвительный голос, и крепкая еловая шишка ударяет Борю в затылок.
— Это еще что такое?! — вскидывается на Леньку Костя Беленький, уверенный, что никто, кроме Зинцова, подобной выходки допустить не может да и не посмеет так вести себя с новым товарищем.
Но Ленька спокойно сидит как ни в чем не бывало. Он удивленно разводит руками: знать, мол, ничего не знаю!
— Ладно! Увидим! — И старший не прекращая разговора, начинает внимательно наблюдать за Ленькой.
— Чего ты еще хотел сказать, Боря? — участливо спрашивает он.
— Узнать бы у дедушки с инженером — может быть, какое-нибудь дело есть, — стараясь не замечать общей неловкости, говорит сын лесника.
— Так!
И Костя не успел заметить, дрогнули у Зинцова губы или не дрогнули, он или кто другой это дурачится.
Все совещаются о чем-то тихонько между собой, — засматривая в сторону сторожки, говорит Боря. — Разве пойти послушать?
— Дурак! — И новая шишка стучит сыну лесника в затылок.
— Нинка! — Боря быстро вскакивает и озирается по сторонам.
— Так!
— Королева! — во всю мочь кричит Ленька. — Вон она где!.. На сосну, ребята! — воинственно призывает он, указывая на склонившуюся из сторожевого гнезда девчонку — ту самую, что бросила когда-то Павке «пятак на синяк» и указала нам просеку к дедушкиной сторожке.
— Доставай ее!.. Снимай на землю! — подлетает Зинцов к веревке, свесившейся вдоль ствола дерева.
— Попробуй достань! — предупредительно и вызывающе дерзко отвечает девчонка.
Одной рукой она дергает веревку кверху, а другой, почти не целясь, мечет шишку и ставит чувствительную точку на голове Зинцова.
— А-ай, а-ай, какая я нехорошая! Бескозырку помяла! — сожалеет она, качая головой.
— Обходи кругом!.. Атакуй! — крутится под деревом Ленька.
Но «атака» принесла только новые вмятины на бескозырке и пятна на Ленькиной гимнастерке. Испытали, как звякают по голове еловые шишки, и другие «атакующие». А «осажденная» пообещала сучьями из сторожевого гнезда постучать по нашим спинам, если кто попытается к ней добраться.
— Понятно?!
— Ясно! — лучше других понимает Боря. — Зачем туда забралась?
— А я тут давно живу. За сказочниками наблюдаю, лодырям записки пишу — работать заставляю. Ну… и еще кое-что делаю.
— Ты записку в шалаш подсунула?! — кричит Ленька.
— Где лодырем тебя величают?.. Я!.. Собственноручно стенку распотрошила. Не заделали еще?..
— Ас мамой дома кто остался? — вспомнил Боря.
— С мамой?.. Она тебя дожидается. Знает, что ты послушненький — явишься. А у меня здесь дело есть.
— Какое дело?
— Настоящее. Только не вам его знать.
— А зачем шишками кидалась? — спрашивает Боря.
— Ты что, только опомнился?!. За глупости в затылок стукала.
Тонкими загорелыми руками она ухватывается за верхний сучок и клонит голову вниз.
— Слушай… Что это собака Пищулина воет, я сказала: «так». Правильно?
— Ну и что?
— Не торопи, и до шишек дело дойдет. А когда ты сказал, что ее отсюда не услышишь, я по-другому ответила. Помнишь как?.. Если забыл — могу повторить, — и она пощупала рукой заготовленные в сторожевом гнезде еловые шишки. — Это я напомнила, что собака не пень, по всему лесу может бегать. А Пищулин ее теперь и ночью и днем с цепи спускает. Это я точно знаю… Понятно?!
— Ну!..
— Не нукай, не на лошади едешь! Затвердил одно и то же… Про вторую шишку хочешь узнать? Она пристукнула, чтобы ты к деду с Василием Петровичем без зова не ходил. Непрошеный — не гость. Все ясно? — закончила Нинка, насмешливо глядя на брата.
— Ладно, слезай, — потирая кепку, согласился Боря. Тут же о землю стукнулись связанные стебельками трав кожаные полсапожки. За ними полетели выбившаяся из косы лента с узелками, желтый сачок для ловли бабочек, который мы видели еще на рыдване дяди Федора, когда ехали от ручья до Кокушкина.
— Точно, королева, — шепнул мне Ленька. Девчонка скользнула из сторожевого гнезда вниз по веревке и встала перед Борей, похожая на него как две капли воды, только плечи под серым платьицем острее — торчат уголками — да растрепанные волосы по плечам путаются.
Нина, оказывается, с утра успела обежать три поруби и две поляны. Наговорилась с лесным инженером, передала ему наловленных жуков и бабочек, получила какое-то «секретное и особо важное» задание и по просьбе Туманова взялась за его выполнение. Слова «по просьбе» она особо выделила, дала понять: «По просьбе сделаю, по приказу — никогда!»
Леньке понравилось, что «королева» сторожевое гнездо похвалила.
— Прочно сделано, — сказала она. — Теперь я в него каждый раз забираюсь, когда сюда прихожу. Меня не видно, а я все вижу.
Разговорившись, Нина для всех нас понятнее и проще стала. Теперь мы и имя знаем, и брат ее вместе с нами, и все-таки есть в ней что-то необычное, немножко «королевское». Мы слушаем разговор сестры с братом, а сами не вмешиваемся.
— Пять часов на сосне просидела — есть хочу-у! — изображает девчонка на лице страдание и энергично трясет головой на вытянутой тонкой шее.
Она ставит Борю в известность, что домой сегодня не пойдет, а на сторожке деда Савела останется, потому что инженер Туманов что-то важное задумал.
— Не ловчие пояски на деревья плести. Не то! Он сегодня даже моих бабочек, которых для коллекции просил, в кармане измял. Все краски с крылышек облетели… Нет, не то!
Нина придвигается ближе к брату и шепчет ему:
— Понимаешь, он не жучков, не гусениц — г он совсем других вредителей в лесу нашел. Понимаешь?!
— Выдумывай? — недоверчиво смотрит на сестру Боря.
— Это кто, я выдумываю?! Сестра негодующе смотрит на брата.
— Вот увидишь! Сам увидишь, куда завтра утром пойдем!
Не дала Боре и слова выговорить в ответ — заспешила:
— К Туманову побегу.
— А почему тебя королевой зовут? — осмелев и загораживая путь, подступил ближе к девчонке Ленька.
Она отскочила проворно и, укрывшись за стволом сосны, так занесла сачок, будто Ленькина голова — большая бабочка и по ней следует прихлопнуть как следует.
— А тебе любопытно? — спросила она.
— Конечно, — стараясь не замечать сачка, миролюбиво сказал Ленька.
— Ах, какой ты тихонький, — насмешливо пропела Нина. И, резко меняя тон, сказала: — Ошибку в фамилии сделала! Вот и «королева»! Ошибку!.. Понимаешь?!
Она глянула на Леньку вызывающе и, выпрямившись во весь свой невеликий рост, победительницей проследовала мимо него.
— Ко-ро-лё-ва! Не «е», а «ё» надо было написать, точки поставить. Понимаешь — «ё»?
И, закинув растрепанные волосы за плечи, Нина Королева припустилась к дедушкиной сторожке.
Дом с петухами
Напрасно гордилась девчонка, забывшая поставить в своей фамилии точки над «е», посвящением в тайны инженера Туманова. Напрасно она прыгала и ликовала вечером, закидывая камушки в наш огород насчет завтрашнего утра, о котором ей все известно, а нам, — ничего.
Ох, эти девчонки! Уж лучше помалкивала бы! А то без нужды болтает, а станешь спрашивать — убегает. Битых три часа пытались мы правдами и неправдами выведать у нее секрет, с разных сторон подходы делали: не проговорится ли?
Куда там! Что ни заговори с ней — в ответ одно и то же:
— Не скажу, не скажу. Вот убейте — не скажу.
И все поодаль держится, бежать вострится. Чуть кто шагнет в ее сторону — сейчас же к лесу подается.
— Ну и пусть не говорит, — отмахнулся Ленька Зинцов. — Не надо! Без нее узнаем.
А получилось так, что «королева» с вечера поторжест-вовала, а наутро и приумолкла. Зато мы приободрились.
Пусть она знала, куда предстоит дорога, а мы не знали. Зато мы пошли, а она только вслед нам поглядела.
— Домой, домой надо, Нина, показаться, — посоветовал ей дедушка голосом, не допускающим возражения. — А то оба с братом убежали и родных забыли. Отец, наверно, разыскивает вас по всему лесу… Давай-ка припускайся по самому быстрому, чтобы одна нога здесь, другая — дома.
Только Нинка ни быстро, ни медленно не побежала. Метнула на Борю самыми рассердитыми глазами, губу прикусила и пошла потихоньку, нога за ногу. И хоть бы слово вымолвила. Как воды в рот набрала.
Я уже совсем решил, что она злая. А Нинка с дороги обернулась и язык нам показала. Какая же это злая! Никакая она не злая, а очень даже хорошая. Но ничего не поделаешь: если дедушка домой вернуться заставил — надо подчиняться.
«Королева» шагает тихонечко, а мы Пегашку в повозку запрягаем, помогаем Туманову с дедушкой деревянные круги от сторожки подкатывать да укладывать. Задорно работаем: чувствуем — необычное дело готовится.
Леньке Зинцову все хочется Бориса опередить.
— Берегись — на сапоги наеду!
Дедушка упарился, едва успевает нам нужные круги отбирать. А подшутить не забывает. Василий Петрович «кругом — бегом!» командует, а дед Савел, ему подмаргивая, старую пословицу вспоминает: «Кому на час, а мы и днем повернем». А сам потинки со лба тыльной стороной ладони отмахивает. Буран, положив голову на лапы, из-под тесовой стенки крыльца за нашей беготней наблюдает.
— Руки береги! — громко предостерегает Туманов, когда мы вдвоем с Зинцовым с маху закидываем круги на повозку.
— Беленький-Чернов, — сдваивает он фамилию старшего, — рубашкой к пиленому не прикладывайся. Прилипнет — не отдерешь. Будешь деревянный круг, как медаль, на груди носить.
— Павел, забирайся на повозку — построим их в ряды! — покрикивает лесной инженер. — Пять… десять… пятнадцать… двадцать, — подсчитывает Василий Петрович, укладывая на повозке круги рядами. — Хватит, а то тяжело будет — Пегашка обидится, — останавливает он конвейер, катящийся от сторожки к повозке.
— Добавим главные, — говорит дедушка, выбирая из оставшихся возле стенки кругов еще пару.
— А-а!.. При свидетелях порубанные. Давай их наверх… Прикрывый рогожкой… Савелий Григорьич, назначай сопровождающих! У дедушки заранее все продумано. Нам, четверым, дается задание налегке идти просекой, пока не встретится дом с железными петухами на крыше. Боре дед Савел вручает вожжи.
— Туда же будем путь держать. Только в объезд, по дороге отправимся. Веселее Пегашку подгоняй — нам их опередить надо, — растолковывает дедушка Боре, кивая в нашу сторону. — А ты как, Петрович, не проводишь нас? До конца бы уж…
— Белояр ждет, Савелий Григорьич! Боюсь, работа хромать начнет. И без того два дня на участке не появлялся.
— Конечно, дело — оно не ждет, — соглашается дедушка. — Упустишь — и не наверстаешь.
— Ничего!.. Максимыч — мужик надежный, работу знает. Два дня и за двоих подюжит. А дальше, сам понимаешь…
— Как не понять, — задумываясь, говорит дедушка. — Ладно, может, обойдемся как-нибудь.
И сожалеет:
— Все бы хорошо, да взрослых нам недостает.
— Бабку Васену попрошу, — кося глазом в нашу сторону, обещает Туманов, — поворожит, может, кто и подойдет к сроку.
Дед Савел, похоже, и этой шуткой доволен.
— Хорошо бы! Никак нам не обойтись без взрослых. Форма требует.
Мы слушаем и не понимаем, о чем речь. А инженер, протирая пучком травы клейкие от сосновых кругов ладони, серьезно подтверждает:
— Будут взрослые… Должны быть… Ну, счастливо вам!
— Буран! — подзывает он притихшую в тени под крыльцом собаку. — Домой!
И вся наша группа рассыпается. Туманов с Бураном направляются в одну сторону. Дедушка с Борей, забравшись на повозку, разворачивают Пегашку в другую. А мы вчетвером идем вокруг озера, направляясь к указанной просеке. Оглядываемся.
«Королева», добравшись до опушки, идет-нейдет: шарит желтым сачком по кустикам, равнодушно на макушки сосен засматривает.
— Нам завидует, — говорит Ленька.
И мы начинаем гадать, что будем делать возле дома с петухами.
Предположений сотня, а точно ничего не известно. Сходимся лишь на одном, что дедушкино письмо Василию Петровичу прямое отношение к сегодняшним нашим делам имеет.
«Почему так долго раздумывал дед Савел? Почему спрашивал он совета лесного инженера, прежде чем к дому с петухами отправиться?»
Обо всем, что пока не дано нам знать, ведем мы в дороге нескончаемые разговоры.
— Обгоняют, — заслышав в стороне стук колес и посвист Бори, сказал Костя Беленький. — Прибавим шагу.
И мы нисколько не отстали бы от повозки, если бы неожиданно не появилась на нашем пути собака. Рыжая, огромная, она неожиданно выскочила из леса и встала на пути посреди просеки. Шерсть взъерошена, зубы ощерены: вот-вот набросится.
И знаем мы, что бежать от собаки никак нельзя. Если перед глазами рычит да к прыжку нацеливается, то стоит только пятки показать, как она на спину сядет.
Оробели, но не отступили. Ленька Зинцов до хворостины дотянулся — вооружился на случай нападения, а в наступление идти все-таки не решается.
Переждали, пока собаке надоест зубы скалить. Сама нам дорогу уступила, с просеки в сторону метнулась. Только скоро пришлось с ней снова встретиться.
Стороной обошли мы дальнее озеро, которое впервые увидели из сторожевого гнезда.
Снова взяли направление вдоль просеки. Прибавили шагу и через несколько минут разглядели впереди чуть отодвинувшийся с просеки большой новый дом. Чем ближе подходим, тем больше будто он становится. Приостановившись, мы внимательно рассматриваем его.
— Эх, хоромина! — восхищается Ленька.
На высокой железной кровле, выкрашенной зеленой краской, два красных жестяных петуха с распущенными веером хвостами. Смотрят с крутого конька в разные стороны, будто за прохожими день и ночь неусыпно наблюдение ведут. Высоченные гребни на головах волнами вырезаны, тонкие, в острых перьях шеи вперед вытянуты — вот-вот закричат, предупреждая хозяев: «Ки-ри-ку-ку! Идут! Идут!»
В стороне от дома другая просторная постройка поставлена: тоже новая и тоже под железом. Рядом с ней третья — пониже — острием кровли виднеется.
Огромный двор вокруг обнесен плотным тесовым забором. Высокие ворота с калиткой по боку закрыты наглухо. И думается почему-то, что за такими глухими стенами живут, наверно, разбойники. Поэтому даже нарядные и пышные петухи на кровле кажутся зловещими.
К деревьям неподалеку от забора в разных местах лошади привязаны: гладкие, раскормленные — самые разбойничьи. Храпят, позвякивают подковами, будто только и ждут сигнала: «Пошел грабить!»
За забором, слышно, гармонь наяривает. В доме пьяные мужские голоса на перекрик песню горланят, как таракан проел Дуне сарафан. У калитки собака цепью гремит, захлебывается лаем, хрипит с подвывом. Не верится даже, что это в тихом Ярополческом бору такой гвалт идет.
Пегашка подоспел к месту раньше нас.
Не обращая внимания на хриплый с остервенением собачий лай за забором, дедушка шагнул к калитке. Едва распахнул ее, как огромный рыжий пес, тот самый, что недавно щерился на нас в лесу, метнулся в конуру, обдирая о стенки лаза клочья шерсти. Вместо хриплого лая раздался отчаянный визг, словно на разъяренную собаку налетел неожиданно другой, более сильный и страшный зверь.
Удивленные и озадаченные, с вопросительным недоумением смотрели мы на деда. А он, распахнув ворота, без опаски встал спиной к собачьему домику и махнул Боре:
— Проезжай во двор. Рогожку с воза пока не сбрасывай.
Тут и мы подоспели.
— Проходите все, — пригласил дедушка.
И пока он стоял у воротного столба, собака не переставала визжать.
Что бы это значило?
«Вот и верь разговорам, что не бывает никаких таинственных заклинаний и наговорных слов, — думал я. — Разве не ясно, что дедушка знает слово против собак? Вон какую зверюгу и то дрожать заставил».
— Кого еще там бог или черт несет? — долетел до нас раздраженный голос.
— Пищулин, — успел шепнуть Боря. — Объездчик.
Двустворчатая, нарядно крашеная дверь распахнулась, и на резное крылечко ступил нетвердыми босыми ногами сухощавый длинный дядя с жиденькой седеющей козлиной бородкой. Черные брюки на его тонких ногах задирались кверху, распахнутая во всю грудь синяя рубаха без опояски обвисала с худого плеча. Морщинистые, дряблые щеки Пищулина подрагивали. Опираясь о поручни, с недовольным видом хозяин дома разглядывал красными слезящимися глазами приближающегося к нему дедушку.
Неожиданно он растопырил руки.
— Савел Григорьич! Какими ветрами занесло?! Вот к разу! Пошли, дорогой мой, отметим встречу! Зачерпнешь черпак зелена вина.
И объездчик все пытался обхватить за плечи отклоняющегося в сторону от объятий деда Савела.
— Дружки собрались, — кивнул он на комнаты. — Гармонист под руку подвернулся. Заходи! Споем под музыку веселенькую.
А приятели Пищулина, слышно, вразброд кто веселую, кто слезливую сам себе заводит, стараются друг друга перекричать.
— Будний вроде сегодня день-то, — замечает дедушка. — Не с чего бы хоры водить.
— А мы и будни на праздник поворачиваем. У нас с тобой, Григорьич, на каждом сучке по поллитровочке висит. И гости едут — своего везут. Заходи, первачка-самогоночки попробуешь. Горит, как свечечка. Пошли, пока без нас всю не высосали.
— Дело есть, — приостанавливая красноречие Пищулина, говорит дедушка.
— Плюнь на все, береги свое здоровье. А то с делами и про выпивку забудешь, — изрекает козлиная бородка. — Что это ты захмурел? Раньше с объездчиком-то был почтительнее, не упрямился.
— Как же! — невесело усмехается дедушка. — Зайца, если по ушам щелкать, и тот кланяться научится.
— Ха-ха-ха! — хватаясь за поручни, хохочет Пищулин.
Обвислые, дряблые щеки трясутся и багровеют, студенистые глаза с красными прожилками обмываются чувственной слезой.
— Шутник ты, Григорьич! Ой шутник!.. Зайца, если по ушам щелкать… За зайца немедленно штрафного! — кричит он. — Полный ковш! И до своего не охотник, а чужое совсем не пью, — тихо, но внушительно говорит дедушка.
— А ты не скромничай. Если я разрешаю да приглашаю — значит, можно. Объездчик приглашает — пляши на пару. За работу не беспокойся: будет дружба — будет и порядок. В нашем деле рука руку моет — обе чистенькие.
Пищулин покровительственно хлопает деда по плечу.
— Видал, какую хоромину отхлопал? — показывает он на дом. — Хочешь — и тебе такую поставим! В лесу лесу на наш век хватит… Будем оба за одну вожжу тянуть — все пойдет чин чинариком. Я объездчик, ты сторож…
— Лесник! — поправляет дедушка.
— Ну, по-новому, лесник. Пусть лесник будет. Те же портки, только выворочены. Ну, ты лесник. У тебя на участке непорядок. На тебя какой-то писака жалобу строчит… Кому придет жалоба?.. Мне придет, объездчику. А я, брат, тебя в обиду не дам… За что отвечать?.. За елочки-сосеночки? Они, брат, теперь обчест-вен-ные… Слышишь, Григорьич, об-чест-вен-ные!..
И козлиная борода снова хитро хохочет.
— Значит, и наша доля там есть. И мы свое с лихвой возьмем — не упустим… Пошли за стол — дотолкуемся.
— Кто это новые срубы заводит? — отстраняясь от обнимки, спрашивает дед, указывая в дальний угол двора.
— Не наше дело… Фома хозяйничает.
— Посмотреть надо. Пищулин заметно трезвеет:
— Сам каждое дерево видел — клейменые.
— А может, вместо клейма только обушком топора пристукнуты, угольком подмазаны? — выражает сомнение дедушка.
Начав серьезный разговор, дедушка от своего не отступает. Он во что бы то ни стало хочет посмотреть срубы и бревна, накатанные в дальнем углу усадьбы.
И хотя хозяин дома утверждает, что все это добро Фомы Онучина, и что выписка леса оформлена по всем правилам, все-таки заметно — что-то беспокоит пьяного объездчика. Чем дальше, тем больше он трезвеет.
— Старуха, — кричит он в дверь, — подай сапоги!.. Да тише там!..
При этом оклике в доме с петухами умолкает звон стаканов, перестает пилить гармошка, утихает песенный разгул.
Пищулин, опустившись на ступеньку, торопливо и неловко натягивает на босые ноги брошенные ему из-за двери сапоги.
— Все в чины лезут! Все в начальники хотят! — бормочет он.
Приминая задники, пристукивает каблуками сапог о землю и торопится впереди деда Савела в дальний угол усадьбы.
— Проверяй! Проверяй! — с угрозой повторяет он. Неожиданно повернувшись, шипит в лицо деду:
— Фигу с маслом ты выслужишь!
Две женщины, пробравшись мимо собаки, снова разъярившейся возле ворот, нагнали Пищулина.
— Касатик, когда же нам деревья заклеймишь? Третий день к тебе ходим.
— Всего-то на двух пятнадцать сосен надо. Крыши починить, — говорит худенькая старшая. — Вот записка от исполкома.
— Завтра, завтра придете, — отмахивается Пищулин. — Некогда мне с вами заниматься. Идите!
Дедушка кивает им головой. Не говорит, а без слов понятно: «Подождите немножко».
Пищулин стучит толстой палкой по бревну, показывает деду:
— Клеймо видишь?
— Вижу.
— Законное?
— Законное.
— И здесь… и здесь… Видишь? — тычет палкой объездчик.
Дед Савел утвердительно кивает головой и спрашивает:
— У Онучина сколько деревьев выписано? Пищулин настораживается.
— Каждого не упомнишь. Кому сколько выписано, столько и заклеймено, — говорит он.
— Двадцать у него выписано. Сосчитать бы, здесь сколько.
И дедушка, не ожидая согласия объездчика, обращается к женщинам, которые продолжают ждать Пищулина.
— Анна Павловна, Ольга Васильевна, будьте за свидетелей, чтобы ошибки не получилось.
Лесник считает каждое бревно и аккуратно записывает в форменный лист.
— Двенадцатиметровых кряжей — сорок восемь, девятиметровых — двадцать три. Срубы пятистенные, десять на восемь метров, шестнадцать венцов, — перечисляет он.
Пищулин беспокойно наблюдает записи деда.
— Брось ты эту затею, Григорьич, ни к чему, — увещевает он, и недавно уверенный голос объездчика заметно срывается.
Дедушка сдергивает с повозки рогожку. Теперь возьмем на поверку. Павел, Боря, снимайте верхний круг.
— Только этого недоставало, чтобы сторож объездчика контролировал!.. Хватит! — кричит Пищулин. — Хватит!
— Онучина проверяю, — говорит дедушка.
Вместе с Павкой и Борей он прикладывает круг к срезу одного, другого дерева. Возле третьего задерживается.
— Смотри, — обращается он к объездчику. — Может быть, скажешь, что случайно совпало, как приросло? Тогда давай по годам на кряже и на кругу дополнительно проверим.
И лесник, положив круг перед собой, начинает отсчитывать ногтем коричневатые по желтому срезу смоляные кольца-годовики.
— По семьдесят два на том и на другом, — подводит он итог. — Может быть, думаешь, что и это совпадение? — спрашивает дедушка.
— Клейменая! Клеймо смотри! Нечего свои премудрости показывать, я сам их знаю! — выкрикивает Пищулин, и обвислые, дряблые щеки беспрерывно подрагивают.
— Да это же семянка! Кто мог заклеймить ее на порубку, участок без осеменения оставить?! — не поддается дедушка.
— Звон! Пустой звон! Кто тебе поверит, что семянка? — шумит Пищулин.
— Живые свидетели есть. Сами видели, как ее рубили и увозили, — показывает дед Савел рукой в нашу сторону.
И Ленька Зинцов немедленно выступает:
— Сами видели. Онучин спилил.
— Легок на помине, — хмуро глядит дедушка на раскрывшиеся вновь тесовые ворота, через которые один следом за другим въезжают знакомые нам чалый и гнедой битюги. На длинных роспусках с железными осями они везут еще два бревна.
— Что за шум?! — бодро и громко спрашивает Фома Онучин, выравнивая передние колеса роспуска с комлями бревен.
На возу лежит только сейчас подваленное и затесанное — смола проступить не успела — ровноты корабельной мачты бревно. По свежему лычку такое же свежее — еще краска не подсохла — виднеется клеймо, на котором ниже герба с серпом и молотом четко значились буквы «ДО», означающие, как мы после узнали, «денежный отпуск».
И это свежее лычко и безукоризненной четкости знак, по выражению лица заметно, не обрадовали деда Савела.
— Когда клеймежка была? — продолжая сохранять спокойствие, спрашивает он Фому.
— Наше дело кучерское, — небрежно и нехотя отзывается Онучин. — Записей не ведем. Дадут лесу — возим, не дадут — просим.
— Санька, подай стяжок! — кричит он сыну.
— За своими сорванцами побольше бы приглядывал, — ободренный появлением Онучина, начальнически замечает деду объездчик. — А то день и ночь костры в лесу палят. Того и гляди пожара наделают. Тебе быть в ответе… Запомни, при свидетелях предупреждаю!
И мьг догадываемся, что о нас идет речь.
Что-то зловещее слышится в этих словах Пищулина.
Дедушкин разговор козлиная борода всеми мерами старается на другое свернуть. Бумажку с записями предлагает порвать и выбросить.
Все равно никто не подпишет! А дед Савел свое продолжает:
— Не давал ты, — говорит, — клеймо Онучину?
— Ты что — с ума спятил?! — разъярился Пищулин. — Не понимаю я, что значит кому бы то ни было клеймо доверить? Да как ты смеешь такое?!
— А я вижу! — прозвучал вдруг тоненький голос, и сразу все умолкли.
Смуглая худощавая девчонка в сером платьице с желтеньким сачком для ловли бабочек встала перед гневным Пищулиным и почти весело, нараспев повторила:
— А я вижу!..
Я даже открыл рот от удивления. Это была она, «королева».
И объездчик сбился с тона:
— Чего видишь?!
— Клеймо вижу, — беззаботно отвечала она. И, неожиданно отбросив сачок, метнулась к задней лошади. — Вот оно!.. Сюда смотрите! — И «королева» выхватила из передков тот самый молоток, что видели мы с Ленькой у Ону-чиных возле семянки на поруби.
Это и было клеймо, которое много дней не давало дедушке покоя.
Теперь отпадали все сомнения. Пищулин за водку и пай от барышей помогал нэпманам расхищать лес — народное богатство.
И дедушка приписал в своей бумаге, что клеймо было обнаружено у Онучина.
— Анна! Ольга Васильевна, подпишите протокол, — обратился к женщинам, не обращая никакого внимания ни на Пищулина, ни на Фому с Санькой, которые со стягами в руках стояли возле чалого битюга.
Мы тоже подписались один за другим ниже двух букв и трех крестиков Анны Павловны. Вывела свою фамилию и Нина Королева. Вывела — оглянулась на Леньку и поставила точки над «е».
— Дедушка, — подпрыгнула она и коснулась губами бороды старого лесника, — теперь домой бегу… Борька, завтра твоя смена дома сидеть!.. Запомни!
Забежала за кучу бревен — и пропала.
Боре снова пришлось взяться за вожжи. Мы вместе с дедушкой возвращались старым путем под бешеный лай и вой спущенной с цепи собаки.
— Хватай, Пират!.. Хватай!.. — натравливал собаку Пищулин.
— На-ка, сцапай! — говорил дедушка всякий раз, когда разъяренный пес приближался к нам.
И страшная собака с щенячьим визгом кидалась обратно.
— Чего это у тебя в бумажке, дедушка? — не удержался я от любопытства.
— Так, острастка на всякий случай для кусачей скотины, — отшутился дед. — Посмотреть хочешь?
Нет, не заговорное чудодейное слово отгоняло рыжего пищулинского цепняка. Кусок медвежьего сала, завернутый в бумажку, нес дед Савел в кармане.
— Специально для этой твари захватил! — говорил он, приостанавливаясь и снова заставляя остервенелого пса опрометью мчаться к дому с петухами.
Лесной пожар
— Вот мы и дома, соколики!
С этими словами дедушка глянул вокруг прояснившимися глазами и вздохнул полной грудью, будто долго шел через глухое и душное ущелье и только сейчас выбрался, наконец, на чистый воздух.
После угрюмо-настороженного пищулинского дома, притаившегося за глухим забором, маленькая дедушкина сторожка, открытая всем ветрам, кажется особенно приветливой. Здесь и лес шумит привольнее и голоса звучат бодрее. Даже травы на поляне шелестят по-особенному дружелюбно и радостно.
Неразлучно с дедом провели мы этот день до вечера, помогая ему управиться со всеми хозяйственными и служебными делами. Боря получил задание и пустился отгонять Пегашку в известный ему лесной поселок.
— Вручи лошадь самому Туманову. Передай ему о Пи-щулине все, как было. Постарайся ничего не позабыть, — наказывал дедушка, провожая в дорогу своего первого помощника.
— Не забуду. Все расскажу.
Боря пришлепнул вожжами по расписной спине Пегаш-ки. Конек крутнул головой и потрусил неторопливой рысцой.
— Дожидайтесь, вернусь через денек! — прокричал Боря издалека.
— Дожидаемся!.. Возвращайся скорее!
Вечером, когда сидели мы на своем излюбленном местечке неподалеку от шалаша, дед Савел, посмотрев на всех внимательно, спросил:
— Кто же из вас, соколики, и где костры разводил?
И слышим мы, что это продолжение разговора, на который так старательно пытался свернуть Пищулин. Тогда дедушка не стал в сторону от главного уклоняться, а сейчас вспомнил:
— Что задумались?.. Признавайтесь. Здесь стесняться некого.
Пришлось нам немножечко рассказать о костерке над озером, который завели мы, когда всю делянку от сучьев очищали.
— Под берегом, в стороне от леса — не беда. На поляне тоже нет опасности. Припомните, еще где не заводили ли?
— Пищулин вон какие страхи наговорил, что вы день и ночь костры палите, — выяснял все подробно дед Савел.
— Выдумывает он, дедушка! Мы всю правду сказали.
— Значит, только и было, что над озером?.. Как, Павел? Точно все?..
— Точно, — подумав и не торопясь, со всей серьезностью подтверждает Павка. — Без тебя только один раз, над озером.
Что со мной, то не в счет. На меня Пищулин не жаловался, — похоже, удовлетворенный нашим откровенным признанием, переходит дедушка на шутливый тон.
И все-таки что-то недоговоренное, похожее на затаенную тревогу сквозит в этом разговоре.
Чувствуется, что гнетет старого лесника какая-то неотвязная дума, которую, как мы ни стараемся, не можем рассеять.
Сумрачно было в небе, тоскливо в приутихшей мальчишеской компании в первый вечер после посещения дома с петухами. На следующий день небо прояснилось, но по-прежнему тихо и немножко грустно было на поляне возле сторожки. Как-то снова не являлось к нам непринужденное веселье.
После полудня зашла Анна Павловна, что подписалась свидетельницей под дедушкиным протоколом.
— Ну и дела, — сказала она. — Опять с Ольгой к объездчику ходили. Он не только лес клеймить — и к дому близко нас не подпустил.
— Отлеживается, наверно, после вчерашней гульбы, — заметил дедушка.
— Куда там отлеживается! Пьянствует, снова пьянствует. Еще больше с ним компания собралась. А тебя ругают, — прикрыла глаза и сокрушенно покачала головой Анна Павловна. — Так ругают, что и выговорить язык не поворотится.
— Фома Онучин покупателя на срубы привел. Вместе с сыном бревна куда-то увозят с усадьбы.
— Ох, Савелий Григорьич, замышляют они что-то против тебя. Поверь мне, старухе, недоброе замышляют!.. Если бы вчера Туманов к объездчику нас не послал, ничего бы мы и не знали. А теперь увидели, что творится, даже страшно стало. Берегись ты их, Савелий Григорьич! Ох, берегись!
С тем и распрощалась.
Отчетливо представляется вечер этого дня.
Тихие сумерки мягко опустились на поляну. Тоненький светлый месяц золотенькой скобкой из грамматики висит над бором. Приклеить к его рогам бумажную полоску — и получится «р». Значит, рождается новая луна.
Под робким рассеянно-зыбким сиянием трава пошла сизыми переливами. Сучья сосен с опушки сплетают над ней колеблющуюся лунную сетку, и кажется, вся поляна, воздушно-невесомая, тихо раскачивается. Привычно неподвижные предметы беспрерывно шевелятся, изгибаются, причудливо изменяя текучие очертания. Впечатление такое, будто мы очутились в средине огромного гамака, натянутого через всю поляну среди бора, и раскачиваемся в нем туда-сюда, не в состоянии приостановить движения.
Только вода застыла неподвижно, не принимая участия в беспокойной и призрачной световой игре. На гладкой поверхности озера густыми волнистыми завитками свивается, катится рыхлый туман. Неподвижно тугая влага под ним проступает отшлифованным темным мрамором — не качнется, не зарябит, положенная от берега до берега сплошной плитой.
Тишина, лесная говорящая тишина кругом.
Нельзя полюбить лес накрепко большой и постоянной любовью, не научившись любить эту густую могучую тишину. Она идет к тебе, как дальняя и тихая музыка, как монотонное постукивание маятника стенных часов, которого ты не замечаешь и которое, внезапно смолкнув, прервет неожиданно твои раздумья.
В этот вечер мы слушали лесную тишину вместе с дедушкой, расположившись на нашем излюбленном местечке возле кострища.
Боря как уехал на Пегашке в лесной поселок, так и не возвращался, направившись, по-видимому, «на смену», как предупредила его «королева». Нина тоже не появлялась, а может быть, и таилась где-нибудь поблизости, пользуясь излюбленным приемом присутствия в качестве невидимки.
Дедушка хотя и старался делать вид, что ничего особенного не случилось, но мы чувствовали его тревогу.
Проводив Анну Павловну, он тщательно прочистил свою старую двустволку. Достал из чуланчика четыре заржавленные лопаты. Проверил, крепко ли держатся черенки. Дал нам покопать землю, чтобы очистить лопаты от ржавчины. Наточил пилу и топоры и уложил все в порядке, чтобы в любую минуту были под рукой.
Заметно, дедушка ожидал чего-то неприятного и готовился к нему.
Даже в отношении нашего сна он стал не так строг и разрешал посидеть вечером дольше обычного, словно наше присутствие приносило ему хотя бы некоторое успокоение.
Так же тихо, перекидываясь редкими и незначительными словами, сидели мы и в этот вечер.
— Ты шел бы спать, маленький, — нетвердо посоветовал мне дед Савел.
— Не хочется. Я посижу еще немножко, дедушка.
И снова тихо.
Так мы сидим без сказок, без разговоров, прислушиваясь только к немолчной тишине леса.
К полуночи, когда Большая Медведица опрокинула ручку ковша книзу, дедушка отправил нас спать в шалаш, а сам один остался сидеть на своем чурбанчике перед темным кострищем.
Уже сквозь сон я услышал встревоженный голос деда:
— Ребятки, вставайте!.. Одевайтесь, ребятки! Маленький, ты лучше остался бы…
Костя Беленький откинул край плаща над входом — и зажмурился. Яркая струя света ослепила заспанные глаза.
— Смотрите, смотрите! Дедушка, что это?! — оторопев, спрашивал он.
— Пожар, ребятки!.. Лес горит, ребятки!.. — сдавленным голосом шептал дедушка.
— Бежим! — моментально вскакивая, крикнул Ленька.
— Лопаты, лопаты захватите! Землей… окапывайте!.. Засыпайте…
Это не была команда. Но никакая команда не могла бы воодушевить нас сильнее этих с трудом произнесенных слов. В них передал старый лесник и свое отчаяние и надежду на нас. В них звучали просьба и доверие почувствовавшего свою старческую слабость человека, который вверял нам судьбу леса и свою судьбу.
Мы бежали, не рассчитывая и не жалея сил, пока несут ноги. Впереди, со злостью закусив губу и разметывая широкими штанами опавшие шишки и хвою, мчался Ленька Зинцов, за которым не могли угнаться ни долговязый Костя Беленький, ни тем более мы с Павкой.
— Не отставай! — тяжело дыша, торопил меня Павка, помогая перелезать через стволы старого бурелома.
— Быстрее!.. Нагибайся ниже! — в другом месте протаскивал я его за руку под кустами ели.
Огонь впереди, то прорвавшись, взвивался вверх широкими выхлестами, то падал в глубину, освещая и заслепляя нам путь.
Горело над озером, в той самой делянке, где мы недавно собирали сучья. Огромные кучи хвороста занимались одна за другой, и между ними тянулись дымно-огневые полосы. Тлеет, расползается серым пеплом сухая хвоя. Белесые огоньки широкими полосами расходятся по жухлой прошлогодней траве, жарко занимаются под смоляными пеньками, трещат в кустах можжевельника.
С какой стороны подступиться?! Какой огонь гасить?!
Ленька с ходу перепрыгивает через низкие огнистые полосы, торопливо отаптывает вокруг себя дымящуюся траву и хвою и с силой втыкает лопату в землю. Куча хвороста пылает перед ним огромным смоляным факелом, высоко взметая искры и обдавая жаром.
Лопату за лопатой швыряет Ленька рыхлую землю в самую гущу огня, не обращая внимания, как языки пламени подбираются, окружают его со всех сторон.
Мы с Павкой в две лопаты пытаемся погасить вторую кучу хвороста.
Костя Беленький россыпью сеет землю с лопаты по стелющимся красным змейкам.
— Выходите из круга!.. В ширину не пускайте!.. — слышим мы голос далеко отставшего от нас дедушки.
То и дело спотыкаясь и цепляясь за ветви, чтобы не упасть, он спешит на огонь.
— Выходите… На край выходите! — кричит он издали и размахивает рукой с болтающимся на ней разорванным рукавом.
Значение этих слов мы поняли лишь тогда, когда огонь уже замыкал выход из круга, облегая нас, очутившихся в середине пожара, разрастающейся широкой полосой.
Мы бежали из окружения огня, прокладывая впереди себя тропинку земляной россыпью. Избежав опасность, снова наступали на огонь.
— Верх держите!.. Верхом пошел! — подбегая, выкрикнул дедушка.
Высокая смолянистая ель вдруг начала плавиться, обтекая на землю горящим крупным дождем. Вверх по смолистым струям побежали шипучие и стремительные огни.
«Держите верх!» — эти слова заставили забыть на время всякие другие опасения.
Внизу мы можем засыпать огонь землей и песком, копать канавы, преграждая ему путь. Но что делать с пожаром, идущим поверху?
Сбить!.. Не пустить!.. Не дать добраться до вершины!
Смоляная ель — главная опасность. По ее стволу огонь моментально может перекинуться от корней к вершине.
Вместе с подоспевшим дедушкой мы бросаем вверх лопатами землю, сбивая огонь со ствола. Ель шипит и чадит удушливым едким дымом.
От жары свертывается и загорается хвоя на лапчатых, широко раскинутых ветвях.
— Еще!.. Еще! — повторяет дедушка, из последних сил стараясь работать лопатой как можно быстрее. Ему даже некогда сбросить двустволку, которая болтается на ремне за плечами. — Выше!.. Выше!..
И когда, казалось, огонь вот-вот будет сбит, впервые дал знать о своем близком присутствии Пищулин. Из леса выскочил пищулинский рыжий пес. И сразу все лопаты повернулись в его сторону.
Этого короткого времени было достаточно, чтобы ослабевший пожар полыхнул в ветвях с новой силой. Верховой огонь вырывался из наших рук.
— Прячешься, тайком действуешь, подлый!.. Дьявола на пожар выпустил! — Дедушка, наклоняясь, тащил за ремень надетую через голову двустволку.
Он не успел снять ее. Рыжая собака, внезапно зарычав, ощетинившись всей шерстью, яростно метнулась к берегу озера. Мы повернули головы. Что-то черное промелькнуло над стелющимся кустом можжевельника. В следующий момент мы узнали Бурана.
Уперев в землю лапами, он резко оборвал бег. Обращенные в сторону огня глаза его блестели.
Пищулинский пес был выше Бурана. Ярость придавала ему дерзости. Он остервенело налетел на застывшего Бурана, целя в загривок.
Буран отскочил. Слышно было, как щелкнули челюсти рыжего, сорвавшись с гладкой, лоснящейся шерсти Бурана.
И снова прыжок.
Ленька не выдержал. Забывая о недавней робости перед собакой Туманова, он громко и повелительно выкрикнул: — Буран, взять!
Это был короткий и резкий сигнал к атаке. И Буран принял его, впервые отозвавшись на Ленькин голос.
Одновременно обе собаки взвились на дыбы и сцепились яростно, глухо рыча и ляская клыками. Замерли на мгновение и, опрокинувшись, клубком покатились по земле.
— Пират, Пират! — приглушенно раздавался голос из леса.
Но страшная рыжая собака уже не могла явиться на этот зов. Она лежала, опрокинутая на спину, и клыки Бурана намертво сцепились у нее на горле.
— Верх держи! Верх держи!..
— Убирай сучья из-под ветра!..
— Заводи канаву!..
Лес наполняется топотом и голосами. В темноте скачут верховые. Позвякивая лопатами, спешно приближаются пешие. Над местом пожара высоким заревом розовеет воздух.
— Кокушкинские, с пилами — обводи огонь просекой! — слышим мы голос Туманова. — Уходите от ели! Уходите от ели!.. Теперь удержим, — раздается ближе.
И Грачик, вороной тонконогий Грачик Василия Петровича, переплясывая и кося глазами на огонь, выносит лесного инженера в полосу света.
— Молодцы, орлы! Выдюжили! — кричит Туманов. — Павел, поберегись — смолой ошпарит! Савелий Григорьич, отходите поглубже!
Никаких подробных указаний инженер не дает. С нами дедушка — он знает, что нужно делать.
…Визжит пила, ухают деревья. Круговина пожара обкладывается сплошной канавой вперемежку с вырубкой. И, чувствуя помощь подошедших и поспешающих со всех сторон людей, мы еще усердней работаем лопатами.
Пал идет только низом. Люди побеждают огонь. Пробегая мимо, переговариваются с нами, дружелюбно кивают головами.
В ту минуту мы были не просто довольны — мы были счастливы. Пусть, может быть, не так велика заслуга: более опытные, возможно, сумели бы сразу потушить пожар. Радовало сознание, что мы честно сделали то, что могли.
Усталый, еле ноги волоча, дедушка подошел ко мне и погладил по голове:
— Вырастай лесником, старому на смену.
Белоголовый стучит в окно
Тут Боря подбежал. Запыхался. Говорит, а голос обрывается:
— Дедушка, Пищулин рядом… Он поджигал… тятя дробовика просит.
Аккуратный, всегда подтянутый, сейчас Боря стоит перед нами весь прокопченный, в пыли, с выбившейся из-под ремня рубашкой. По лицу размазаны гарь и пепел. Только глаза и зубы поблескивают.
Наша четверка выглядит, пожалуй, и того краше. Рукавом или кепкой утираемся — еще больше черноту размазываем.
— А Нинка где? — спрашивает Зинцов.
— Тут же!.. Разве найдешь!
Боря помогает дедушке снять из-за спины ружье и исчезает с ним в темноте.
— Смотрите, осторожнее! — кричит дедушка вдогонку сыну лесника и сурово сдвигает брови. — Он, подлец, не с оружием ли на поджог вышел!
Это о Пищулине. Даже его фамилию, как что-то мерзкое, липко-гадкое и оскорбительное для человека, дедушка не решается произносить.
— На такое пошел — у него и на любое преступление рука не дрогнет, — как бы продолжает старый лесник свое наставление Боре, хотя его уже и след простыл.
Огонь еще ходит по кругу, жарко облизывая кусты, забираясь в кучи хвороста. Но главная опасность миновала, и теперь от прорытых канав и расчищенных просек люди наступают на него смелее, сжимают кольцо к середине.
— Хватит, отдыхать пора, — говорит дедушка и отбирает у нас лопаты. — Кончайте, и без того ночь не спали. — Костя, — передает он лопаты нашему старшему, — клади все на плечо, и отправляйтесь… Без возражений, сейчас же отправляйтесь. Умоетесь, приведете себя в порядок — и спать: хотите — в шалаше, хотите — в сторожке, где больше нравится.
— А ты как же, дедушка?
— Мне рано. Мне надо еще здесь побыть. Обезоруженные, мы потихоньку плетемся вслед за старшим по берегу озера к нашей сторожке.
Можно умыться, привести себя в порядок. Но разве можно уснуть в такую пору?!
На рассвете в сенях загромыхало. Свалив по пути приставленные нами к стене лопаты, кто-то шарил вдоль по бревнам, медленно перетаптывая тяжелыми каблуками.
— Дверь откройте! — сдержанно прогудел за стеной дремучий бас.
Прикорнувший над столом старший вскочил и поспешил на зов.
— Кого надо?
— Постель бы где в уголке набросить, — гулко заходило под низеньким потолком дедушкиной сторожки.
— Вот этого и не надо!
Поддерживаемый под руку сзади мужчиной огромного роста, через порог перешагнул Василий Петрович. Наклоном проводя голову из-под косяка вперед, за ним двигался сопровождающий.
— Огоньку бы засветить, — смущенно приглушивая непокорный зычный голос, на самых низких нотах рокотал провожатый Туманова.
— Без того светло, — возражал Туманов.
За окнами бледно кропился ленивый рассвет.
— Не горюй, Максимыч, теперь мы дома. Сейчас приглядимся, чем тут молодые хозяева занимаются… Да отпусти руку немножко, а то вывернешь!.. Не бойся, не убегу, — шутит Василий Петрович, освобождаясь от поддержки.
Неловко оттопыривая локти, он проходит к дедушкиным нарам и со вздохом облегчения опускается на край.
— Вот и припаялся. Крепче, чем в седле… Максимыч, пригляни, как там наши лошади.
Провожатый, оглядываясь на Василия Петровича, нерешительно переминается на одном месте и клонится к двери.
— Только ты… это… сиди спокойно, — басом громовержца просит он.
— Слыхали такой граммофон? — кивая на закрывшуюся за Максимычем дверь, смеется, нарушая наше молчаливое удивление, Василий Петрович. — Вот это тру…
Внезапно на полуслове голос Туманова осекается. Готовые опуститься локти вздергиваются. И, до скрипа сцепляя зубы, лесной инженер замирает на мгновение в странно неуклюжей позе.
Отпуская дыхание, тише, стараясь не шевельнуться, заканчивает:
— Вот это… труба!
— Где горит?! — неожиданно встряхивается разоспавшийся на столе Павка.
— Ха-ха-ха! — оживляемся мы на разные лады.
И лесной инженер, встряхивая разведенными локтями, смеется вместе с нами.
Защитного цвета френч Василия Петровича кажется серым. По бокам его заметны большие темные пятна. И сидит Василий Петрович как-то неудобно, ссутулившись.
Совсем другим видели мы его при тушении пожара несколько часов назад.
— Василий Петрович, ушиблись? — сочувственно спрашивает Костя Беленький.
— Погорел!.. Как швед под Полтавой погорел. Аж шкура шелушится!.. — Левой рукой он осторожно дотягивается до кармана френча и встряхивает его.
— Полюбуйтесь!.. Жадный мужик в ложке щей захлебнулся, а я умудрился на можжухе себя испечь… Эх, вояка! — насмехается сам над собой лесной инженер. Будь возможность, он, кажется, еще и поколотил бы себя.
Темные пятна френча осыпаются на пол гарью.
— Василий Петрович, посмотреть надо! Наверно, до тела достало, — моментально соображает Ленька Зинцов.
— И без того знаю, что достало…
— Так как же?
— А вот сейчас узнаем. Кажется, главный врач бежит — пропишет лекарство, — не переставая досадовать на себя, говорит Туманов, прислушиваясь к торопливому шарканью ног за дверью. — Всем заботы дал!.. Улеглось ли там? — нетерпеливым вопросом встречает он появившегося в двери дедушку.
Не беспокойся, все приглушено. Кокушкинские настороже стоят, каждую искорку замечают… Ты-то как?.. Ну-ка, снимай одежину!.. Э-э-э!
Дедушка внимательно смотрит на Туманова. Замечает его оттопыренные локти, обгорелые черные пятна на рукавах и на груди пиджака.
— Нет, нет, снимать не надо. Срезать надо… Подвинув Павку на скамейке, дедушка вытягивает за скобку выдвижной ящик стола и достает оттуда ножницы.
— Хочешь не хочешь, а прощайся со своим военным, — говорит он Василию Петровичу.
Лесной инженер ни слова. Он покорно повинуется старому леснику: не шевелясь, сидит на нарах, а дедушка орудует ножницами по френчу. Раскроил вдоль, отрезал и отбросил правый рукав.
— С телом спеклось, — неодобрительно качает он головой и строчит ножницами разрезы вверх и вниз.
Костя Беленький помогает дедушке снять с Василия Петровича его разрезанный пиджак.
— Рубашку пока оставим, — говорит дедушка. — Только вокруг обожженного надо обрезать, чтобы больное не бередила… Серьезное дело, — внушительно и почти строго замечает он. — В больницу надо… И немедленно. Павел, подай там, из сундука, простынку, — отдает распоряжения дед Савел. — Поедешь — прикрыться надо хоть легонько, — объясняет он Василию Петровичу. — Ведь одеваться-то тебе нельзя!
Мы с Ленькой, вдвоем оставшиеся за столом без дела, молча наблюдаем происходящее, готовые в любой момент предложить свои услуги.
Ленька то облокотится на стол, то потрется спиной о стенку или начнет валиться на меня плечом. Не может он и пяти минут просидеть спокойно, если никакого дела нет.
За окнами заметно светлеет. По краю поляны напротив сторожки видны две лошади под седлами. Одна из них — Грачик Василия Петровича. Другую — серую в темных яблоках— мы видим впервые.
Ленька кладет руки на стол и, подвертывая голову, словно устраивается спать, шепчет мне:
— Вот бы прокатиться!
Неподалеку от сосны, к которой привязан Грачик, лежит Буран. Он косит глазом то на одну, то на другую лошадь и беспрерывно лижет лапу. Ее во время схватки на пожаре прокусил пищулинский Пират.
Появляется Максимыч с большой охапкой свежей травы. Половину он отделяет серому коню, другую половину кучкой растряхивает перед Грачиком.
— Ну-ну, не баловать! — хлопает ладонью взыгравшего коня Максимыча, и его громовой бас проникает к нам сквозь стекло.
— Простыню не достал еще? — оглядывается дедушка на замешкавшегося возле сундука Павку. — Сверху она лежит.
Наш друг усердствует прилежно в углу около двери и никак не может справиться с простой накладкой сундука: руки как крюки.
— Что это тебя пальцы не слушаются? — заинтересовавшись, внимательнее вглядывается дедушка. — Давай-ка поближе к свету, — помогает он Павке подняться с колен и подводит его к окну. — Так и есть!.. Еще одна оказия!
Нам с Ленькой со своего места заметна припухлая краснота на вытянутых к свету Павкиных руках и белые водянистые волдыри по ней.
— Горячим немножко капнуло. Это когда ель тушили, — поясняет и оправдывается Павка.
— А почему молчал, сразу не сказал?
— Не хотелось с пожара в сторожку уходить. Нас и так мало было… А это пройдет. В кузнице я и сильнее обжигал.
— Ох, беда с вами!
Оставив Василия Петровича сидеть на нарах в продырявленной огнем и ножницами рубахе, дедушка ведет Павку за печку, к умывальнику. Оттуда наш друг появляется с густо намыленными от кистей до локтей руками. Несет их перед собой осторожно, словно драгоценную вазу между растопыренными пальцами держит.
И глядеть смешно, и смеяться грешно.
Дед Савел, надрезав край только что вынутой Павкой из сундука простыни, располосовал ее во всю длину.
— Устраивайся на скамейке, — придвигает он Павке сиденье.
— Сухопарого бы зацапать, — высказывает Василий Петрович свою думу.
— За Черной гатью, видать, скрыться хочет, — отвечает ему дед Савел. — Каких дел, подлый выродок, натворил.
— Обязательно ловить надо, пока новых бед не наделал. Разоблачили — теперь на отчаянность пойдет… Может, Бурана на след навести? Максимыч сумеет.
— Хромает Буран. На трех лапах скачет, — жалеет Ленька собаку.
— Может, мужики и настигнут… вдогон пошли. Они места знают… Только и ему каждая нора известна, — путая длинные ленты на руках Павки, говорит лесник.
Утро, не успев как следует просветлеть, снова начинает задергиваться сумерками.
В комнате душно, и Ленька по просьбе Василия Петровича распахивает окно. За окном сухая хмарь и настороженное молчание бора.
Ни одна ветка на деревьях не шелохнется. Не слышно ранних птиц, привыкших веселым щебетанием предупреждать восход зари. Обмякшие безросные травы на поляне поникли безвольно.
Видно, не зря еще над Илиным озером предсказывал дедушка дождик на новую луну. Так марить с рассвета может только перед грозой.
Сквозь неясную дымку заметно, как в высоте громоздятся, лениво движутся тяжелые тучи. Максимыч уводит лошадей с опушки в глубину бора.
— Скажите инженеру, — гудит он, оборачиваясь, — что я за повозкой на Белояр послал. Теперь в седле ему не годится.
Порыв ветра налетел и захлопнул раму. Качнулись и пошли шуметь вершинами сосны. Первый отдаленный рокот грома докатился до сторожки.
— С дальнего прицела начинает, — придвигаясь по нарам ближе к окну, оживляется Василий Петрович. — На луга бы теперь, ветер руками ловить!
— А если молния ударит? — замечает осторожно Костя Беленький.
— Хватай на лету! — загораются глаза лесного инженера по-мальчишески озорно.
Костя сразу дает почувствовать, что умеет отличить шутку от серьезного разговора, и понятливо усмехается: «Схватишь, пожалуй! Она так схватит, что и без рук останешься».
— Шучу, шучу! — произносит Василий Петрович. И, интересуясь мнением дедушки, спрашивает — Как думаешь, Григорьич, ветром пожара не раздует?
— Сейчас наглухо все зальет.
Туманов успокаивается и с наслаждением наблюдает из окна, как густо, наползая одна на другую, громоздятся тучи. Вспоминает и рассказывает:
— А я мальчишкой грозы не боялся. Раньше, в деревне, как увижу, что надвигается вот такая, — кивнул он за окно головой, — сейчас свои штаны на печку. Надеваю самые старенькие. Рубашонку разыщу, которая вся в заплатах, — и в луга. Ищи меня на дальних пожнях!
Вот где простор!.. Бурьян придорожный гнется. Травы так и ходят под ветром, рвутся куда-то. Кусты на пути трепещут, а над головой громадные черные тучи разворачиваются — вот-вот на землю рухнут. Хочется, чтобы разом обвалились — посмотреть, какая еще буря из них вырвется… Совсем немножко не хватает, чтобы на воздух подняться.
Разброшу руки в стороны — и полетел вместе с ветром, ноги едва земли касаются. И хочется с разбегу до туч подпрыгнуть, цапнуть их в охапку.
Слушаю я и уже не замечаю в комнате никого, кроме рассказчика. И приятели мои замерли. Тоже, видать, летят следом за Тумановым по грозовому лугу, прорезая и обтекая тучи.
Пригнувшись и вытягивая голову вперед, обгорелый и в обгорелой рубашке Василий Петрович неуклюже разведенными руками и сейчас будто нацеливается цапнуть ту, былую, ворохнувшую сердце тучу.
— Натешишься, прохлещет тебя дождем, и так на тишину и на сон потянет, что первая копушка сена — желанная постель. Заберешься в нее поглубже и не заметишь, как уснешь. Пока спишь — и рубашка, глядишь, просохла, и домой лугами идти — одно удовольствие…
Лесной инженер не закончил своего рассказа. Тучи, грудившиеся над бором, вдруг лопнули, завихрились летучим дымом. Сосны дрогнули. Поляна за окном, наша сторожка и все, что было в ней, озарилось ослепительно ярким светом. Неистовая молния рванулась из черноты и, с треском ломаясь огненными сучьями, пошла хлестать по угрюмым тучам.
— Начало ядреное! — передернул Василий Петрович плечами.
Новый удар грома, треснувший одновременно с молнией, тряхнул сторожку, широко раскатился по вершинам бора.
— И продолжение недурно!..
Бодрые замечания Туманова и нам придают смелости. И я в душе желаю, чтобы гром громыхал во всю ивановскую.
Только дедушка не разделяет подобного восторга: сидит спокойно на маленькой скамейке, прислушивается внимательно.
— О-оть, оть, оть! Близко бьет, голубушка, — замечает он. — Не зацепила бы ненароком… Окна поплотнее прихлопните.
А сам, поднявшись со скамейки, прикрывает задвижкой печную трубу.
— А то, чего доброго, и к нам через дымоход пожалует. Мало одной печали, как бы другую черти не накачали. По открытым дверям да по трубам молния хорошо стреляет. Вот это другое дело. Давно бы так: без буйства да без грохоту, — прислушиваясь, успокоительно замечает дед, когда вслед за тяжелым громовым раскатом густо зашумел крупный и частый дождь.
У старого лесника он вызывает совсем другие думы, чем у лесного инженера. И речь у деда совсем иная: ровная, спокойная, под стать монотонному гудению дождя.
— Тихого бы теперь да тепленького часика на два, на три. Мужики в деревне, наверно, глядят да радуются на такую благодать. Пойдут после дождя в поле хлебами любоваться. Начнут землю пальцами ковырять, чтобы узнать, глубоко ли промочило.
Расчувствовался дедушка, будто тронул кто-то у него старую, давно забытую струну и она гудит задумчиво и протяжно.
— Грибы тоже после хорошего дождичка дружнее пойдут. Ягоды сочнее нальются. Лесные дороги и те светлее да мягче станут. И тебе с Павлом, — обращается дедушка к Туманову, — удобнее будет в город ехать. Тряски меньше.
Василий Петрович давно, видать, ожидал возвращения к этому разговору. Ответ у него наготове.
— Сначала Максимыч донимал, теперь еще добавка. Что вы, уговорились, что ли, из леса меня выпроводить? Вот не думал! — пытается весело рассмеяться Туманов и морщится, неловко повернувшись. — Ожог-то пустяковый!
— Его мне лучше видно, — говорит дедушка. — Пока это еще цветочки! А что будет, когда ягодки пойдут?.. Он даст себя знать! Так что…
— Так что нельзя мне сейчас из лесу уезжать, — подхватывает и продолжает слова деда Савела Туманов. — Сам понимаешь, нельзя!
— И нельзя, да надо, — не отступает от своего лесник. — С такими делами не шутят.
— Павлу-то разве захочется со своими товарищами расставаться? — отвлекает лесной инженер от себя главное внимание. — Трое в бору останутся, четвертый — в город.
— Конечно, какой интерес, — вмешивается Павка, чувствуя поддержку Туманова.
Дудочкину не только в больницу ехать, ему вообще хочется, чтобы до поры до времени, пока руки не заживут, об ожоге никто, кроме нас, не знал.
— В кузнице не так обжигал, и то ничего, — знай свое повторяет он.
И странно получается: когда Туманову нужно ответить, дедушка без особого труда с этим справляется, а в ответ на неловкие и сбивчивые замечания Павки почему-то не находит нужных слов, сбивается с решительного тона.
— Ведь долго проболит, Павел!.. — просительно объясняет он.
— Так что! И раньше, когда в кузнице обжигался, тоже болело.
— Волдыри прорываться будут. Болячки пойдут.
— Сковырну. Какая беда?
— Зачем сковыривать? Пусть сами отсохнут, — немедленно поправляет ошибку Павки Василий Петрович.
— А что мне: если не надо сковыривать, я и не буду, — соглашается Павка.
Простосердечность и добродушие Павки совершенно обезоруживают деда Савела. Прислушиваясь к утихающим раскатам грома и нарастающему шуму дождя, он возражает все реже, а Василий Петрович вместо слова «доктор» все чаще упоминает имя бабки Васены, которая «весь Белояр лечит».
— А ожоги до порубы лечить — на это она первая мастерица. Так что все в порядке будет. И Павлу с друзьями не расставаться. Переедем поближе к бабке и будем у нее вместе лечиться, — раскрывает Туманов свой план.
С Павкой и нам расставаться неохота. Как он будет один, без нас? Павка поедет — и нам надо ехать. Дедушка кряхтит, но поддается.
— Опять ты по-своему все поворачиваешь, — укоризненно качает он головой, глядя на Туманова.
А Туманов в утешение деду предупреждает Павку:
— Только чтобы бабушку слушаться, аккуратно все ее указания выполнять.
— А мои выполнять не будете?!
С этими словами, громыхнув дверью так, что она заходила ходуном, на пороге появилась «королева».
Пусть знаем мы теперь, что зовут ее Нина, сами видели, как она ставила точки над «е», и все-таки больше нравится ошибочное первоначальное «королева».
— Не будете? — вопросительно и строго повторяет она, посматривая на всех нас по очереди и на лесного инженера особенно внимательно в отдельности.
Под пристальным взглядом «королевы» Костя Беленький на скамейке в струнку вытянулся, мы с Ленькой перестали перешептываться возле окна, а Павка Дудочкин, забыв про осторожность, приподнятыми руками в тряпичной кисее по столу брякнул — сам себя напугал.
Нинка, довольная произведенным впечатлением и немым повиновением, уже скручивает жгутом растрепавшиеся волосы, приседая, выжимает потоки воды из серенького, прилипшего к телу платья.
— Где тряпица?
Она выдергивает из печурки старую дедушкину портянку и растирает по полу расплывающуюся от порога лужу.
— Грозой три сосны на Муравьихе повалило. К Ону-чину милиционер приехал. Пищулин за Черную гать ушел, — развешивая тряпку по краю печи, докладывает она. — Чай пили? Так и знала, что не догадаетесь.
Возмущенная нашим бездельем и беспечностью, Нинка тащит из сеней маленький медный самоварчик, наливает его водой и достает растопку из-за печной трубы.
— Эй, охотник, — мотает она головой на Леньку, — углей в самовар наложить умеешь?
Зинцов непривычно смущается, оглядывается на всех растерянно и неторопливо поднимается с лавки.
— Еще дольше бы собирался! — сердито отстраняет его «королева» и сама пригоршнями сыплет в самовар угли через конфорку.
Через несколько минут на столе появляются четыре стакана, кружка, стеклянная сахарница на высокой ножке и глубокая тарелка. Из маленького висячего комода «королева» достает сахар, белый хлеб, ножик, четыре сухие баранки, оплывший кусочек сливочного масла. Аккуратно раскладывает на бумажке, положенной на край стола.
— Принеси самовар! — вторично обращается она к Леньке.
И теперь Зинцов уже не медлит.
Подвинем стол поближе к койке, — указывает она на дедушкины нары, откуда молча наблюдает за новоявленной хозяйкой Василий Петрович.
Садитесь! — одно за другим отдает распоряжение Нина.
— Из этой вам будет пить удобнее, — подвигает она тарелку Василию Петровичу.
Синенькую эмалированную кружку ставит перед дедушкой. Стеклянная сахарница достается Косте Беленькому. Остальным — стаканы. Для Павки даже с блюдцем.
За маленьким столиком такая теснота, что не повернуться. Но заботливая хозяйка умеет блюсти порядок. Она сама разливает и подает чай, широкими ломтями режет при-черствевший хлеб, тоненько приглаживает каждый кусочек сливочным маслом с таким расчетом, чтобы его на всех хватило, да еще и дедушке на завтра осталось.
Василий Петрович, неторопливо отхлебывая из тарелки горячий чай, интересуется:
— Совсем потеряли след этого… сбежавшего, или еще есть надежда?
— Тятя с ружьем остался сторожить тропу через болото. Двое мужиков из Сосновки в обход пошли, — уверенно, без запинки отвечает проворная на язык девчонка.
— Коротко и почти что ясно, — подводит итог Туманов. С «королевы» он переводит глаза на Павку, которому сегодня особое внимание. Нашему другу с кисейными рукавами досталось место в самом конце стола. Насчет хлеба и чая хозяйка его не позабыла, а придвинуть поближе сахар, чтобы Павка свободно мог достать, не догадалась. Стесняясь попросить, Павка особенно громко и усердно дует на блюдце, но чай от этого не становится слаще. А старания нашего застенчивого друга обратить таким образом на себя внимание замечает лишь Василий Петрович.
— Выпей еще стаканчик, — предлагает Туманов, видя, как неохотно отодвигает Павка посудину.
— Хватит, — говорит Павка. — Без сахару я и дома больше стакана не пью.
При этих словах принявшая на себя роль хозяйки «королева» вспыхивает румянцем.
— Чтобы скрыть свою неловкость, поспешно и строго выговаривает Павке:
— Кашлянул бы! Не знаешь, как надо…Павка кашлянул перед третьим стаканом.
После чая под диктовку Туманова и с дополнениями дедушки Костя Беленький писал подробное донесение о пожаре. Верхом на Грачике его взялся доставить по назначению Максимыч. Сунул ногу в стремя, перекинул через седло другую.
— До свидания!
«Королева» занялась наведением порядка в сторожке. Павка, оберегая руки, уткнулся в стол и сидит неподвижно. А нам с Ленькой чего делать? То и дело выбегаем на поляну посмотреть, не приближается ли повозка. А ее нет и нет.
Дождь давно перестал. Под яркими лучами солнца пропотевшая земля дышит испариной. По траве, словно звезды рассыпаны, блестят, переливаются разноцветными огнями дрожащие дождевые капли.
А комары, комары!.. И откуда их столько берется?! После дождя так и клубятся тучами.
Ленька их и рукой и бескозыркой отгоняет — ничего не помогает.
Пришлось в сторожку вернуться.
Тогда и раздался стук в окошко. Ленька глянул и откачнулся за простенок.
— Смотрите, смотрите, кто там стоит! — прошептал он. — Белоголовый пришел.
Набрался храбрости, глянул еще раз, а за окном вместо одного уже трое. Пищулин в серединке.
— Дедушка!.. Василий Петрович! — зовет Ленька. Дедушка с инженером понять ничего толком не успели, а белоголовый уже входит в дверь.
— Здравствуйте!
Ни глаз, ни рта — ничего нет. А голос идет.
— Зверя поймали. Сюда, что ли, вести?.. Давай! — машет рукой в окошко белоголовый.
— Ну и комарья по лесу! Дохнуть не дают, — досадует он сердито.
Потом руками снимает голову с плеч. А под ней другая — совсем человеческая.
Трое, которых видел Ленька под окном, тоже входят в сторожку. И Пищулин с ними. Он глядит себе под ноги и не поднимает головы.
Один из мужиков защелкивает позади себя дверь на крючок.
— Так вернее будет. Всю дорогу бежать порывался, — объясняет он, кивая на Пищулина.
— Где поймали? — не поднимаясь с места, спокойно спрашивает Василий Петрович.
— От них убегал — на нас напоролся, — отвечает снявший с себя белую голову.
— Вот тебе и белоголовый! — шепчу я Леньке.
Белая голова сложилась на проволочных кольцах плоским кругом и висит на груди ее обладателя.
Это же марля! Обыкновенная белая марля. Из нее любую голову смастерить можно. А лицо, освобожденное из-под марли, молодое, румяное. Черные глаза так и поблескивают. Веселый, видать, парень прячется под глубокой белой шапкой.
— Так где, в каком месте перехватили вы его, Дима? — по имени называет белоголового Туманов.
— Узенькую полоску лесом прорубали. Ну, визирку по-нашему. Пробу торфа мы сейчас на Черной гати берем. А тут он и лезет, — искоса кивнул белоголовый на Пищулина. — Видать, в старые землянки пробраться целился, да мы раньше его к проходу подоспели.
Пищулин шевельнул головой, и серые студенистые глаза зло глянули на говорящего.
— Оружия не было? Сопротивления не оказывал? — интересовался Туманов.
— Нам-то?!
Дима легонько шевельнул плечами и улыбнулся чуть заметно, искоса глянув на Пищулина.
— Не стоило!.. Объездчик — мужик ученый, сообразил, что вместо пользы один вред от сопротивления получится. Ну, я пойду, а то прямо с визирки подался. Ребята, наверно, дожидаются… Милиционер от Онучина должен сюда заехать…
Привычным движением он зацепил пальцами верхний круг из проволоки и, опрокидывая его через голову назад, потянул другие. Белый марлевый мешок раздался и закрыл голову Димы до самых плеч.
— Теперь не страшно и с комарами воевать, — раздалось из мешка.
Белояр
Многолюдно, но тихо, до жуткого тихо в сторожке. Сидит на сундуке неподалеку от двери Пищулин, бирюком глядит себе под ноги, головы не повернет.
В другом углу сторожки дедушка с Василием Петровичем. Тоже молчаливые. На Пищулина и не смотрят, будто и нет его. Только мы исподтишка с боязливым любопытством на него поглядываем, чтобы запомнить, какие с виду бывают преступники.
Не было такого подозрения, но теперь и я начинаю догадываться, почему именно там, где мы недавно сучья собирали, Пищулин пожар устроил. Хотел обвинить, что это мы сделали. Тогда и дедушка вместе с нами был бы виновником. И составленный на усадьбе объездчика протокол забудет, и все преступления Пищулина сами собой прикроются. Затем торопился он с Онучиным срубы и бревна убрать, чтобы и следа не осталось.
С этими думами при взгляде на Пищулина даже дрожь пронимает. Что-то зловещее представляется мне в костлявой фигуре с козлиной бородой.
Рядом с Пищулиным по двум сторонам оба мужика стоят, ни на шаг не отходят. Тоже, видать, опасаются, как бы еще чего не устроил преступный и злой старик. От его присутствия и в комнате будто сумрачно, и лица у всех хмурые, настороженные.
А за окном солнышко сияет. Птицы на опушке после дождя веселый концерт устроили. Самое время с удочкой бы между камышами засесть. Да куда там!
Так и сидели мы до приезда милиционера. Только когда он Пищулина в повозку с собой усадил — вздохнули свободно. И дедушка полотняный пиджачок одернул, словно пыль отряхнул, и Василий Петрович занемевшими руками для разминки покачал, и мужики, сторожившие Пищулина, освободившись от обузы, оживились:
— Гора с плеч!.. Счастливо оставаться! Да сообщайте, если что случится. Разом явимся.
— Костенька! — тихонько назвал мое имя и глазами позвал Туманов. — Там в кармане письмо лежит, — сказал он, когда я подошел, и указал на изрезанный френч. — Достань его.
Очень я обрадовался такому доверительному поручению Василия Петровича. И по голосу Туманова узнаю, что письмо секретное, никому его нельзя показывать, только мне разрешено взять. Несу его бережно, обеими руками перед собой держу. Конверт голубой, чистенький, только в одном месте огнем тронуло — почернел. И по голубому буковка к буковке адрес выведен. Вот бы так писать научиться!
— Как наша учительница написала, — похвалил я несмело.
Василий Петрович вдруг зарумянился, и рубец на щеке побагровел. Я уж и испугаться готов, а он засмеялся на меня.
— Ладно, — говорит, — клади сюда.
Я и положил письмо в галифе инженера.
Все мы, не торопясь, собираться стали. Что было в шалаше, в сторожку перенесли. Маленькую сумку с тетрадями Костя Беленький на пояс прицепил. Ее с собой берем.
Тут же, оставив несколько чистых страничек на записи о событиях двух минувших дней, старший снова взялся за продолжение дневника.
«Едем на Белояр», — это первые слова после пропуска. А чистые странички так и остались незаполненными. В пору было успеть рассказать о том, где нам еще довелось побывать, что нового удалось узнать, услышать и увидеть.
…На повозке приехал Боря. Ему, как знатоку здешних мест и легкому на ногу парнишке, взрослые без раздумья важные и маловажные дела поручают, особенно если пробежать куда-нибудь требуется. И Максимыча во время лесного пожара тоже Борю выбрал, чтобы за лошадью послать.
Старший Королев и бором пробежал, и коня в повозку заложил, и уже к сторожке подкатывает. А младшая Королева из окна глядит.
Ленька за версту заслышал приятеля, побежал поделиться с ним новостями. Оба настроены воинственно.
— Едем! — кричит Боря, разворачиваясь под окном сторожки.
— Едем, да не все, — замечает сестра брату.
— Кто не поедет?
— Кто кричит, тот и не поедет. И поставила на своем.
— Дедушка, ему на Белояре делать нечего.
— Нина Федоровна, — урезонивает дедушка, — ну зачем тебе понадобилось его задерживать?
— Мне к бабушке Васене надо ехать, а он пусть здесь остается — тебе помогает… А Пегашку я и сама сумею подхлестнуть.
Боря слушает да помалкивает. Никак у него не хватает духу младшей сестренке наперекор пойти.
— Хватит, покатался! — выскакивает она из сторожки и перенимает из рук брата вожжи.
— Рассаживайтесь по местам! — командует «королева».
— Белая рубашка, — обращается она к Косте. — Перетряси хорошенько сено в повозке… За сестру милосердия будешь. За больными в дороге присматривай.
Павку и Василия Петровича «королева» весьма усердно и по возможности удобно размещает в задке повозки и так старательно их упаковывает, что поверх воткнутого со всех сторон сена видны только головы, немножко плечи да высвобожденные из-под сенного навала руки.
Определенный в качестве «сестры», Костя Беленький исполняет свои обязанности ревностно и заботливо. Он закалывает булавкой края простыни, наброшенной на плечи Василия Петровича, поплотнее надвигает фуражку ему на голову, чтобы во время поездки не стрясло или не сбило ветром, кучкой подгружает сено под Павкины кисейные рукава.
Дедушка тоже вокруг повозки хлопочет и все напоминает лесному инженеру:
— Постарайся, Петрович, чтобы все хорошо обошлось. И на работу тебе раньше, чем Васена разрешит, чтобы не выходить. Павла устройте поспокойнее. Ребятишкам тоже большой воли не давай: пусть около бабки побольше находятся.
Боря помогает «королеве» распутать закрутившиеся вожжи, а я сижу и жду, когда тронемся.
— Все готовы? — оглядывает «королева» свою «свиту». — Ты, охотник, — небрежно бросает она Леньке, — занимай свое место!
— А Визиря-то мне для верховых прогулок, что ли, оставите? — спрашивает дедушка.
В горячей спешке про лошадь Максимыча мы и позабыли.
— Где он? — оглядывается Нинка.
— Сейчас приведу!
Ленька моментально соскакивает с повозки, мчится на опушку и возвращается сияющий, ведя в поводу серого в яблоках коня Максимыча под высоким седлом. Следом за лошадью на трех лапах неуклюже скачет Буран.
— Я верхом, — вызывается Ленька.
— Подожди! — сдерживает охвативший Зинцова пыл младшая Королева.
Только тут она спохватилась и заметно жалеет, что сплоховала в выборе и недурно бы поменять повозку Пегашки на седло Визиря. Но для такой перемены подходящий предлог нужен, а его «королева» не находит.
— Привязывай позади повозки, — недовольно говорит она Леньке.
Боря ковыряет носком сапога землю и чуть приметно качает головой. «Так не годится», — выражает он молчаливо свое мнение.
— Ладно, поезжай верхом, — дает Леньке свое согласие «королева».
Легким прыжком она подскакивает и садится на край повозки.
— Пошел, Пегаш! До свиданья, дедушка!.. Борька, до свиданья!..
И расставанье печалит, и дорога впереди веселая — и не понять, какое чувство перебарывает.
Буран не желает прыгать в повозку и хромает сбоку вровень с мордой лошади. Хоть на трех лапах, да на своих.
Ленька, пустив Визиря рысью, сбивается то и дело набок, виснет на поводьях, цепляется за луку седла.
Стремена подними, — не оборачиваясь, подсказывает Василий Петрович.
Эх ты, наездник! — небрежно бросает Нинка и нахлопывает Пегашку вожжами. — Догоняй!
Зинцов соскакивает с седла, долго возится со стременами. Далеко отстал. И вдруг налетает во весь опор. Распаленный Визирь головой над повозкой так и носит, коленками по задку стучит — ходу просит.
Ленька разворачивает его вправо, влево. То пригибаясь под ветвями, то отклоняясь в стороны, гарцует картинно на сером коне в высоком седле. Ленты бескозырки в воздухе так и трепыхаются.
Буран, размявшись на ногу, веселее впереди Пегашки пошел. Принюхивается к следам в стороне от дороги, гавкает.
«Вот какая охрана, — приходит мне на ум, — сопровождает королеву со свитой».
Повозка катится быстро, но и потряхивает крепко. Заметно, как морщится при толчках и сцепляет зубы Василий Петрович, в такт при прыжке колес приподнимает и бережно опускает руки в тряпичной кисее Павка Дудочкин.
Из-под колес ни пылинки. Дождик хорошо промочил и утоптал дорогу. Еще не успевшие испариться редкие капельки рдяными вишнями подрагивают под лучами солнца среди зеленой хвои. Мелькают, мелькают, бегут нам навстречу деревья. И «королева», накручивая по воздуху вожжами, торопит бег гривастого конька.
На подъезде к Белояру она степенится, охолаживает ладонями разгоревшиеся щеки, приводит в порядок растрепавшиеся волосы.
В лесной поселок мы въезжаем чинно, благородно, как и подобает серьезным, взрослым людям.
Приглядываемся. Как ни мала деревня Кокушкино, в ней и то семь домов, а здесь всего три. В сторонке еще два дома строятся.
Смотрю на них и думаю: «Зачем в лесу такие громадины размахнули?»
Чудно мне это кажется. Отец, помню, рассказывал, что в лесу только и бывают берлоги, шалаши да пещеры. Ну, на крайний случай землянку для жилья лесорубы выкопают. Если деревянная сторожка или дом объездчика, так это что-то вроде дворца в лесу считается. А чтобы про поселок какой в Ярополческом бору, об этом никогда и помину не было. А я своими глазами вижу, что он строится.
— А кто тут живет? Что они делать будут? — спрашиваю я Василия Петровича.
— Не только «делать будут», а уже делают, — говорит Василий Петрович. — И делают, да всего не успевают… Кто живет, тебе узнать хочется?.. Максимыч, например, с семьей живет. Знаком с ним?
— Видел.
— Он десятником на подсочке работает… Слыхал что-нибудь про подсочку?
На первый раз и признаться не стыдно, что не слыхал. Смело говорю «нет», чтобы лесной инженер видел, какой я в правде решительный.
— С ним вздымщики живут, — продолжает Туманов. — Трое одну комнату занимают… Вздымщиков на работе видал?.. Не видал… Увидишь, — пообещал Василий Петрович.
В числе жителей второго дома Туманов торфмейстера и сборщиков живицы назвал. И все спрашивает, знаком ли я с тем, что они делают. Приходится без конца повторять «нет». Даже на себя досадно.
— А с этого краю, — говорит Василий Петрович, кивая на крайний дом, — будет наша хата. Здесь я живу, здесь и вам пожить придется.
— А бабка Васена где? — спрашивает Костя.
— Не беспокойтесь, бабка нас отыщет.
У крыльца дома, на который указывал Туманов, Нина останавливает Пегашку. Забывая, что Костя Беленький — «сестра милосердия», она отстраняет его и сама помогает Василию Петровичу войти в дом. Павка, бережно придерживая руки на весу, шагает за ними. Мы втроем замыкаем шествие.
Сдернув с железной койки белое покрывало, «королева» усаживает на нее Василия Петровича.
— Простыня-то чистая, а галифе-то у меня пожарные, — замечает Туманов.
— Не будешь слушаться — дедушке напишу, — показывает свою строгость «королева». — Тут сиди!
Павке она определяет место на табурете.
— К стенке приклонись! И чтобы спокойно. Я сейчас за бабушкой схожу.
Пока Нина пропадает в поисках бабушки, мы присматриваемся к нашему новому жилищу, где придется провести неизвестно сколько дней, потому что Василий Петрович не собирается отпустить нас раньше, чем бабушка Васена вылечит руки нашего друга.
В комнате тихо, чисто, но, кажется нам, чего-то не хватает, а чего именно — понять не можем. От желтых, словно воском натертых, бревенчатых стен пахнет смолью. На выбеленных широких подоконниках, как и у нас в деревне, стоят цветы в горшочках. Но большой и громоздкий стол возле окна совсем не похож на наши деревенские. Вместо ножек под него по обеим сторонам поставлены будто ящики с дверками. Попробовали: дверки открываются и закрываются. Их можно даже запирать на ключ. Под широкой крышкой стола устроены еще — три ящика. За светлые висячие скобки они выдвигаются и задвигаются.
Чего-чего только нет в столе Василия Петровича! Тут и изглоданная жуками, словно расписанная дорожками, сосновая кора, кружки и кусочки дерева разных сортов и фасонов, узловатые корневища, сосновые и еловые шишки, пузырьки с разноцветными жидкостями и много всего такого, что нам хотелось бы не только посмотреть, но и переложить все по-другому, по-своему: деревяшки подтесать ножичком; пузатенькие пузырьки для красы расставить по подоконникам рядом с цветами, а из жестких наростов, снятых с деревьев, вырезать «чертиков».
Туманов не мешает нам любопытствовать. Он сидит на койке, прикрыв глаза, и мы, чтобы не потревожить его, переговариваемся шепотом, ходим на цыпочках. Леньку интересует белое покрывало на стене, которое ни окна, ни вешалок с одежкой нё прикрывает.
Зинцов заглянул под него и позвал нас шепотом:
— Идите сюда!.. Посмотрите, что тут есть!..
На стене под занавеской огромная стая бабочек. Они сидят неподвижно, забравшись под стекло в широкую рамку. Крылья у всех распущены, словно напоказ. Тут и маленькие, неказистые с виду, каких мы сотни раз сами ловили, и на редкость огромные, каких, пожалуй, даже и не видывали. Белые, красные, бархатисто-темные, прозрачно-желтые, пепельного цвета, розовые, пестрые — все так и лепятся крыльями одна к другой.
А между бабочками гусеницы разные вытянулись: жирные, волосатые, с виду неприятные. На них даже смотреть не хочется. В другой рамке — жуки: серые, рыжие, зеленые, коричневые. Тут крупные и мелкие, шершавые и гладкие, в полоску и в крапинку. У некоторых усы больше самого жука во много раз, да еще и с кисточками на концах.
Костя, как старший и более нас с Ленькой соображающий в науках, объясняет, что все эти бабочки и жуки неживые, не сами залетели, а Туманов ловит и прикалывает их сюда.
— И «королева» ему тоже ловит. Помните, у сторожевого гнезда говорила. Туманов их сушит и сюда булавочками прикалывает. Тут и вредные и полезные, которые — все на виду. Если попросить, Туманов про каждого жука и бабочку может подробно рассказать.
Спросить бы, но Туманова беспокоить мы не решаемся. Он, кажется, заснул, сидя в ожидании бабушки.
А у нас такое нетерпение поскорее все разузнать и увидеть на новом месте, что и присесть времени нет.
Задернув занавеской жучков и бабочек, к окошку передвигаемся. Подъезжали к дому, даже не заметили, а теперь из окна речку видим. Она бежит всего в двадцати шагах от нашего нового жилища. Берега крутые, обрывистые. Подмытые водой сосны над ними клонятся. На узкой полоске воды, видимой нами из окна, солнце играет.
— Не знаешь, как речка называется? — тихонько спрашиваю я Костю.
— Белояр, — говорит Туманов.
Лесной инженер, оказывается, и не думал засыпать, а просто приумолк на койке, чтобы нашему любопытству и разговорам не мешать. Понадобилось — объясняет:
— По имени этой речки и поселок назвали мы Белояром. Весной она особенно хороша. До самых краев водой нальется, бурлит, воронками воду закручивает! В половодье по ней пароходы ходят, сплавщики в Клязьму плоты гонят. Белояр их только пошвыривает от берега к берегу, а то на стремнине и на попа поставит и вверх тормашками перевернет, если плотовщик зазевается.
Леньку рассказ о разворотах да перевертах плотов за живое задевает. Он, пожалуй, и в сплавщики не прочь бы пойти. Неуверенно, но высказывает такое желание.
— За чем же дело стало? Подрастай, да и сюда, — говорит Туманов. — К тому времени мы широко поселок развернем. На выбор любую комнату в общежитии дадим.
— А недостроенные — это общежития?
— Будут общежитиями.
— И школа будет?
— Школа есть уже.
— Где же она?
— Налево смотрите… Подальше, подальше… Зеленая крыша среди зелени. До того места и поселок дойдет. Школа на краю будет.
— А бабушка Васена где живет?
Всех вопросов разрешить мы не успели. В сопровождении «королевы» вошла бабка, та самая, которая в стакан с водой глядит и на сто верст кругом видит.
Травы бабушки Васены
Лесная бабушка маленькая, худенькая. Лицо у нее тоже маленькое, темное и морщинистое, как печеное яблоко. На одной щеке у бабки Васены бородавка с кудрявыми серебряными волосками. Годы гнут старушку, а она еще бодрится, голову прямо держит, только солнышко, видать, уже плохо ее согревает, потому и летом бабушка в теплый полушалок повязана.
Ступила через порог, комнату внимательными серыми глазами окинула. Потом перекрестилась в передний угол без икон и только после этого сказала:
— Здравствуйте, добрые люди!
Голос у бабки Васены не в пример другим старухам по-молодому звонкий. Шажки маленькие торопливые, и вся она такая остренькая да юркая, как молодая щучка в озере. Мы ожидали увидеть совсем другую: молчаливую да строгую, к которой со словом и не подступишься. Бывают такие, что только и знают шептать: «Одолень-трава, одолей болесть», а дальше уже и не разберешь ничего.
Никакую одолень-траву бабушка Васена на помощь себе не зовет, мрачными нашептываниями головы не морочит. Совершенно отчетливо и ясно говорит:
— Больные пусть здесь останутся, а остальным погулять можно.
Так и дальше пошло. Всякий раз, как приходит бабушка Васена, нам подолгу гулять приходится.
Нинка сначала убегала от нас. А потом, видать, скучно стало в одиночку по лесу бродить, сама предложила:
— Пошли опоку искать!
Мы с Костей Беленьким сразу согласились, а Ленька сначала поморщился. Не нравится ему, когда девчонка верховодство берет.
Не очень торопливо, все-таки пошли мы за Нинкой на берег Белояра. А ей наша с Костиной степенность и Ленькина угрюмость только веселья прибавляют.
Нинка то ящерку на песке заметит — ловить ее примется, то за бабочкой припустится. Швыряет с берега в воду сухие комья. Любо ей, как они булькают, вскидывая кверху брызги. И все над нами посмеивается.
— А где опока? — спрашиваю я.
— Под берегом.
— А как туда сойти?
— Прыгай.
А обрыв высотой в два моих роста, и сразу под ним вода, может быть глубокая.
— Что, струсил? — смеется и подзадоривает Нинка. — Смотри, как надо!..
Она разбегается и вдруг затормаживает над самым обрывом.
— Стоп!
По глазам видно, что у нее явилась другая мысль.
— Чего на ходу дремлете? Не выспались? — кричит она отставшим Беленькому и Зинцову. — Сюда идите… Ужа под берегом видите?
— Никакого ужа не вижу, — недовольно говорит Ленька.
— С самой кручи смотрите. Ниже наклоняйтесь…
И вдруг Нинка с припрыгу притопывает обеими ногами, и мы вместе с глыбой обвалившейся земли съезжаем «кучкой-невеличкой» прямо в Белояр.
Старший немного сконфужен, и Нинке это особенно по душе.
— Так вам и надо. А то неделю будете искать, где к берегу сойти.
У воды под обрывом проступает узенькая полоска влажного песку. По ней гуськом и пускаемся мы, с опаской посматривая наверх, откуда можно ожидать нового обвала.
Вдоль обрыва, словно кто разрисовал его, тянутся белые, зеленоватые, светло-шоколадные, оранжевые полосы. Ровными лентами они уходят далеко вперед и назад, теряясь за крутыми изгибами маленькой, но беспокойной и своенравной речки, что проложила себе сквозь чащу бора эту необычную дорогу с расписной оградой по краям.
Упрятанные высоким берегом от леса и посторонних взглядов, ничего не видя перед собой, кроме воды и полосатых стен, мы вполне можем представить, что попали в древнюю пустынную пещеру и осторожно пробираемся по ней, цепляясь за камни и выступы, чтобы не соскользнуть в бурлящую под ногами подземную реку.
С Костей Беленьким мы не раз впечатлениями от прочитанных книг и мечтами делились. Побывали в подземном и подводном царствах, на Солнечной горе и в заколдованном лесу, вслед за Али-Бабой спускались в разбойничьи пещеры. Если завести с Костей разговор, о чем я сейчас думаю, он сразу поймет и смеяться над выдумкой не будет. А Нинка, хотя она и числится в сказочных лесных королевах, еще неизвестно, как посмотрит.
Намекнул, что под берегом Белояра мы как в пещере, и тут же пожалел.
Точно не поняла. Удивленно плечами передернула и сразу всю мою фантазию разбила.
— Какая же, — говорит, — это пещера, когда небо над головой? Если бы глубоко, да темнота кругом, да ходы запутанные, из которых неделю не выбраться, — тогда бы да! В пещерах глыбы с расщелинами, гранит! А это что? Трухляк. Песок да глина.
Она достает со дна Белояра большую раковину и ковыряет берег.
— Видишь — и посыпался.
Через минуту той же раковиной Нина ковыряет берег в другом месте. Следом за рассыпавшимся песком оттуда выкатывается плоский камешек. Он такой мягкий, что прекрасно пишет на белой Костиной рубашке, и нам хочется набрать писучих камешков как можно больше.
Теперь Нина, шагая впереди, только показывает нам!
— Вот один… Вот еще один.
Разыскивать опоки дело нетрудное, только надо научиться быстро оттенки разных цветов различать, чтобы сразу видеть, где зеленая плесень, где ржавчина или обыкновенный камешек, а где опока. Помаленьку разбираться начинаем. Набиваем карманы мягкими кругляшками. Ими без цветных карандашей можно любую картину нарисовать.
Зинцов особенно старается. Наполнив карманы, он начинает совать камушки за пазуху. Никогда раньше Ленька не был такой захватистый.
Возвращаемся на свою новую квартиру обладателями огромных сокровищ. Зинцов еще с улицы заглядывает в окошко дома.
— Павлуша, ты не спишь?
Для Павки Дудочкина в комнате лесного инженера поставлена вторая, маленькая койка. Нас втроем бабушка Васена в комнатушку рядом поселила. Ночью Павка в отдельности от нас спит. Даже днем бабка не дает нам особенно долго гостить у него. Боится, как бы повязки не растрепали, руки не повредили.
На этот раз бабушки в комнате не было, а Василий Петрович никого не упрекал за посещение друга. И сейчас он подал голос со своей койки:
— Соскучились? Ладно, идите. Только чтобы тихо.
Коридором мы бегом, а через порог комнаты на цыпочках. Возле Панкиной койки Зинцов выдергивает гимнастерку из-под брюк, и на пол густо сыплются писучие камешки. Павка глядит обрадованно, благодарит Леньку глазами, а руки вытянуть из-под одеяла не решается. Бабка Васена строго наказала, чтобы руками ничего не брать. Да если и не запретила бы — все равно они марлей до концов пальцев укручены.
Дудочкин только на локоть оперся, чтобы рассмотреть получше рассыпавшиеся по всему полу разноцветные опоки.
— Где это взяли?
— Тебе принес.
— Так много?
— Над речкой их видимо-невидимо!
И Ленька в дополнение сыплет горстями камешки из карманов.
— А куда мне их положить?
— Под подушку спрячем. Давай я спрячу. Когда нет бабки Васены — глядеть будешь… Знаешь, как они пишут замечательно! — и Ленька в доказательство проводит длинную желтую полосу по своим черным штанам.
— Хочешь, мы тебе струганую доску принесем? На ней хорошо получаться будет.
— Доску не надо, — говорит Павка. — За доску бабушка и меня и тебя ругать будет. Гулять дольше не пустит.
— Ладно, тогда не принесем. А то можно бы… А цветов нарвать не надо?
До приезда на Белояр мы видели только, как Ленька задирать да подтрунивать над друзьями умеет. Павке больше всех от него доставалось. А уложили друга в постель — Зинцов совсем переменился, готов у Дудочкина хоть на посылках служить, только бы он скорее выздоравливал.
Не зря, видно, говорила Надежда Григорьевна, что не надо только Зинцова чураться да придираться по каждому пустяку — дружба незаметно явится. Может быть, это и есть дружба, что Ленька о своем приятеле так заботится?
А он пригоршнями начинает перегружать писучие камешки с пола под подушку Павки.
— Себе оставь, — говорит Павка.
Здесь еще хватит, — явно преувеличивая скромные остатки, хлопает Ленька по своим отощавшим карманам. — Долго тебя бабушка под замком держать думает?
Через недельку, сказала, гулять пустит, если руки беречь буду.
Ты осторожнее. Поддержись пока. А там мы свое наверстаем, — многозначительно подмигивает Ленька, и грустный Дудочкин улыбается.
— Поддержусь как-нибудь.
Трудно Павке. Распухли у него руки, и теперь он совсем как без рук. А Василию Петровичу и того труднее. Лежит как пласт. Даже когда разговаривает — только губами шевелит, а сам не повернется.
— Бабушка идет, — предупреждает он, поведя глазами на окно.
И все мы отодвигаемся от койки немного в сторонку.
Бабушка входит и садится у постели Туманова. Сухонькой и подвижной, по-детски маленькой рукой она щупает разгоряченный лоб больного, мягко отводит в сторону прядки волос.
Василий Петрович лежит на спине, прикрытый поверху только легонькой простынкой. Голова повернута так, чтобы видеть комнату. Щеки зарумянились, и на одной из них густо проступает багровый рубец — память, что «беляки рубали, да высоко взяли». Отяжелевшие веки беспокойно и часто вздрагивают.
К вечеру у Туманова начался бред.
— Опять загорелся, — слышим мы из соседней комнаты беспокойные бабушкины слова.
Она принесла с собой свежей мяты и укладывает к изголовью больного, чтобы ему дышалось глубже.
— Ничего, ничего, хворь пройдет, здоровье останется. Выдыхай из себя жар, — успокоительно советует она Василию Петровичу.
Но Туманов, кажется, не слышит этих слов.
— Нина, голубушка, — зовет бабка Васена «королеву», — будь умницей, сбегай в мою хибару. Принеси настой крапивы-жегалки. В черной бутылке он. Да достань еще из-под пола огурца соленого.
Дальше следует бабушкино поручение своей молодой помощнице:
— Крапивная настойка от обжигу хороша; соленый огурец жар от головы оттягивает. В разрез ядрами огурцом лоб вкладывают. Волосатый овощ жажду тушит… Беги, голубушка. Беги побыстрее!
Серенькое платье мелькает мимо окон, а через несколько минут «королева» уже возвращается с граненой черной посудиной и солеными огурцами в маленьком глиняном блюдце.
Несмотря на целебное питье и старанья бабушки Васены утишить жар, ночью Василий Петрович бредил. Лежа на широком соломенном матрасе в своей комнате, мы слышали, как он громко звал деда Савела, кричал, чтобы ловили поджигателя, и скрипел койкой, порываясь соскочить с постели.
А бабка и ночью не покидала больного: шептала ему что-то в темноте, уговаривала успокоиться.
На рассвете Василию Петровичу стало легче. Когда мы заглянули в комнату, он мирно спал. Рядом на табуретке сидела утомленная ночными заботами лекарша и, опираясь маленькими ладошками о колени, тоже спала, клоня книзу голову в темном шерстяном полушалке. Но стоило чуть скрипнуть половицей, как бабка подняла голову, посмотрела на нас светлыми, совсем не заспанными глазами и предупредительно погрозила пальцем: «Тихо! Чтобы не шума рк ну ть!»
Поправила легонько белую простыню и снова опустила голову.
В тот день мы не ходили к Белояру собирать писучие камешки. Не ходили и на следующий день.
— Тебе самой надо отдохнуть, — уговаривала Нина старушку, и голос «лесной королевы» был таким тихим и нежным, какого мы от нее не слыхивали и не ожидали услышать. — Иди поспи, а я посижу с больными. Что скажешь, все в точности исполню.
И бабушка, поддаваясь на уговоры, предупреждала, что Василия Петровича одеялом покрывать не следует. Держать его нужно под легонькой простынкой и смотреть, чтобы не тревожил обожженных мест.
— Если жар снова начнется, обязательно разбуди меня, — наказывала она. — Крушь в голове будет — дикого чесноку майорана дай понюхать. Вот он на столе лежит. Майоран в память приводит и мозг крепит.
Много разных наставлений бабушка «королеве» начитала, прежде чем в свою хибару отдыхать отправиться. Нам с Костей она доверила за Павкой приглядывать, не давать ему скучать особенно.
— А тебе, — сказала она, остановившись перед Ленькой, — чтобы все камешки у него из-под подушки выбрать. — И указала на Павкину постель. Сделав шаг, задержалась. — Выбери и на табуретку у его постели положи. Ладно, пусть глядит. А в руки не давай.
За полдень бабушка снова к нам зашла. Перед вечером еще раз заглянула.
Василию Петровичу полегчало, но лекарство он пьет, не отказывается. Бледный. Рукой пошевелит — морщится от боли, а шуточки снова к нему возвращаются.
— Поднимаю, — говорит, — Василиса Федоровна, этот тост за здоровье девясил-травы. — И выпьет налитую емурюмку.
В другой раз растительную смолку или желтый ирис вспомнит — за них выпьет. Так и пошли день за днем. У нашего друга боль в руках прекратилась.
— Только зудят очень, почесать хочется, — признавался он.
А чесать бабушка Васена строго-настрого запретила. Шесть дней безвыходно продержала она Павку в комнате, а на седьмой Костя Беленький записал в дневнике: «Идем собирать лекарственные травы для бабки Васены. Павка Дудочкин тоже с нами. Нина Королева будет цветы и травы показывать, которые брать нужно».
Перед выходом бабка Васена руки Павке заново перевязала, ладони высвободила. Всем такой наказ дала:
— Станете травы собирать, белену, дурман руками трогать, тогда ни к глазам, ни к губам пальцами не прикасайтесь — лекарственные растения ядовитые. И про ягоды забудьте — в рот такими руками класть ничего нельзя.
Собираемся мы, а Василий Петрович спрашивает:
— Может, и меня с ними отпустишь на часок, товарищ доктор?
— На участок небось пойти нацелился, — сердито отвечает ему старенькая лекарша. — Максимыч вон и без того каждое утро начал беспокоить. Один он, такой верзила, с делами будто и не управится. Обязательно ему инженера надо!
И уже ласковее говорит:
— А ты не тревожь себя понапрасну, не спеши раньше времени. На поправку пошло. Через недельку без тревоги можешь к делу вернуться.
Слово коротенькое, а неделя длинная, — говорит Василий Петрович. — Нина, забеги на участок, посмотри, что там делается. Скажи Максимычу, что доктор сердитый, хочет до холодов взаперти меня продержать, — просит он «королеву» и поглядывает на бабку Васену.
Бабушка с упреком в глазах слушает сетования Туманова, качает головой.
— Так, может быть, тебя сейчас по лесу гулять пустить? Прикрыть простынкой вместо рубахи? Забавно поглядеть будет.
— Лежу, лежу! — сдается Василий Петрович. — До зимы могу лодыря гонять. Теперь у меня помощников хватит. Отосплюсь за недосланное и вперед за целый год… Бегите, помощники!.. — И лесной инженер покорно закрывает глаза.
Сколько нового мы в тот день узнали!
— Ну-ка, беритесь за скобели! — такими словами ветретил нас Максимыч, едва мы появились на участке. И от зычного голоса бригадира проснулось лесное эхо.
Сосны кругом стоят высокие, стройные. «Кремлевые» — называют их в нашем краю. Когда-то из таких деревьев первый Московский Кремль строили.
Максимыч принес полотняную сумку, достал из нее инструменты: изогнутые острые железки с деревянными ручками на концах. Это и есть скобели.
— Берите, — по одной вручает нам Максимыч. — Посмотрел на Павкины перевязанные руки, сказал — А тебя, брат, обидеть придется.
— Ничего, их только чесать нельзя, а за скобель держаться можно. — И Павка покачал руками туда-сюда: смотри, мол, как работают.
Доказал свое, убедил Максимыча.
— Взялись, так не дремать — начинайте сосны подрумянивать. Подрумяним — дальше обрабатывать их легче будет.
Мы знаем, как дерево с корня валить, как раскряжевать его или на дрова разрезать, но сосны подрумянивать — для нас это дело новое.
— Познакомитесь сейчас, не велика мудрость, — гудит Максимыч. — Сюда смотрите.
Он заносит скобель над головой и острой железкой счищает шершавую кору с сосны. Рядом с первой кладет вторую, третью полосы.
— Видите, как она румянится?
А нам уже не глядеть, а самим поскорее точно так же сделать хочется. Костя Беленький вытягивается кверху во всю длину и с силой шаркает скобелью. Не очень гладкая — с заковырками, но получилась полоса. Потом глаже пошли.
«Королева» покороче полоски делает да руками проворнее работает. У нее тоже получается. У Павки с Ленькой и тем более. А у меня никак дело не идет: скобель ковыряет сосновую кору в глубину, вырывается из рук. Полчаса, наверно, одну сосну подрумянивал да по гладкому снова переглаживал.
— Привыкнешь — пойдет дело. Тут не сила нужна, а сноровка, — сказал Максимыч, оценивая мою работу. — Теперь за хаки беритесь.
Бригадир заранее знает, что насчет хаков у нас сведений столько же, сколько и насчет «румянца» на сосне. В том и заключается простая хитрость Максимыча, что он о неизвестном для нас, чтобы удивить побольше, так свободно разговор ведет. И недоумевает, посматривая сверху вниз:
— Неужели и хака не знаете?
А откуда нам знать, если не видывали.
— Как мужик заставил барина дрова рубить — тоже не знаете? Вот это плохо.
И Максимыч так отчетливо изображает на широком круглом лице досаду, что сразу видно — в самом деле ее ни капельки нет. И не столько обязательно нам про мужика знать, сколько хочется десятнику на подсочке широту своих познаний показать: вы, мол, не глядите, что я в лесу живу да небритый вышел: борода к делу не относится. Лучше послушайте, что я говорить буду.
И стал рассказывать:
— Мужик-то, значит, неглупый был. Рубил он в лесу дрова. Рубит и хакает, чтобы сподручнее дело шло. Ударит топором по полену — «ха!». Еще раз ударит— и снова «ха!». Проезжал мимо барин — увидал мужика. Сердобольный барин был. «Неспособно, — говорит, — тебе, мужичок, одному сразу два дела делать». Это, значит, рубить и хакать, — пояснил Максимыч. — «Давай, — говорит, — я тебе помогу. Только мне что полегче».
А мужик-то, конечно, ловкий был. «Рубить, — говорит, — это пустяки. Хакать, барин, — вот что трудно».
Барин, конечно, что полегче для себя выбрал. Взялся он за топор, начал дрова рубить. А мужик стоит рядом да только «ха» за каждым ударом подкрикивает, сам про барина думает: «Так тебя, дурака, и надо учить». До полусмерти барина замучил.
Вот какой умный мужик-то был!
Увлекся Максимыч рассказом и забыл, по какой надобности его завел. Смотрит на нас, будто спрашивает: «А зачем я вам это рассказывал?» Потом сообразил:
— Так вот. А нам самим и рубить и хакать надо. Тот барин топором работал, а для вздымщиков специальный инструмент сделан. Хаком и называется. Вот посмотрите-ка.
Хак — острый клинышек стали на длинном черенке. Наметил Максимыч клинышек по самой середине подрумяненной сосны и — «ха!». Снизу вверх пропахал во всю длину «румянца» метровую полосу. Коричневую кору насквозь прорезал, желтый надрез под корой перед нами открыл.
— Глядите, — говорит, — как в зеркало, да не забывайте, что у вздымщиков и называется это зеркало… А теперь усы к нему приделаем.
Зашел сбоку дерева и прицелился хаком к верхушке «зеркала». Раз от него глубокую полосу в одну сторону. Раз от того же места в другую сторону. Действительно, похоже на усы получилось: тоненькие да длинные.
Понятно, как надо?
Понятно.
— Это мы, значит, кару завели. И румянец на сосне, и зеркало по нему, и усы по сторонам — все это в целом, — поднимаясь на носки и приседая затем, крутит Максимыч широко разлапистыми ладонями, — все это в целом «кара» называется. А сейчас воронки увидите.
Добродушный да славный попался нам учитель, только очень уж торопится. Забывая о своем солидном возрасте, припустился бегом за воронками. Тащит напоказ нам полный ящик жестяных банок, вложенных одна в другую и похожих на маленькие остроконечные колпаки. Поверх воронок в ящике тоненькие лучинки с заостренными концами набросаны.
— Кару заводить, значит, научились. Теперь смотрите, как нужно воронки ставить. — Максимыч берет в толстые пальцы щепочку. — Это подставочки у нас называются.
Стук-стук ее в кору пониже «зеркала». Рядом другую заколотил.
— Гвоздики бы способнее, да нельзя: от гвоздя живое дерево портится.
Между щепочками воронку острым концом вниз установил. Взял из ящика щепочку пошире.
— Это сточным желобком называется. Подстукнул ее в сосну наклоном над воронкой.
— Вот и вся работа. Теперь с усов в зеркало, по зеркалу до желобка, а по желобку в воронку живица сама пойдет. Мало одних усов — другие проведем, побыстрее ее погоним.
Горячо рассказывает Максимыч о прелестях работы в лесу и кончает свой наглядный урок практическим предложением:
— Школу кончите — и сюда давайте. Дела всем хватит… А мы вас в первую голову примем. Вас-то уж мы знаем— вместе пожар тушили… Руки-то как заживают? — кладет Максимыч на голову Павки свою огромную ладонь. — Заживут, ты не горюй особенно. Приходи к нам, будем живицу добывать… Живица — ценная штука!.. Петрович-то не обещает сюда прийти? — спрашивает он.
— Бабка Васена не пускает.
— Вредная старуха! Она ни за что не отпустит. Выспросив нас подробно, как чувствует себя Туманов, и узнав, что ему лучше, Максимыч без раздумья меняет свое мнение:
— Молодец старуха!.. Она вылечит… Она в науке дохтуру не уступит… Ну, говорите ему, что здесь все в порядке. Про участок чтобы и думать забыл. Живица, скажите, ходом идет. При нас, мол, бочата закупоривали… Так ему и скажите… А теперь идите, идите по своим делам. Трав бабушке побольше наберите… Корзиночку-то одну только захватили?.. Побольше бы надо…
— А можно сюда работать приходить? Чтобы на целый день? — спрашивает Павка.
— Это пожалуйста, в любое время. Отказа не будет. «Королева» взмахивает корзиной, подавая нам сигнал:
«За дело!»
Потайные лесные тропинки, глухие урочища, опасные топи и цветистые поляны она знает не хуже Бори.
— Это вороний глаз, — срывает Нина стройный цветок всего с одной ягодкой на самой макушке. — Его берите.
По песчаникам цветет очиток. Над маленьким ручейком собираем густо разросшийся, ломкий на стебле пустырник. Тут же, в низине, встречается целая россыпь мать-и-мачехи с лапушистыми удивительными листьями, которые блестят под солнцем изумрудной зеленью, а перевернешь лист — будто серебряные.
«Королева» обходит мать-и-мачеху сторонкой. Она не притрагивается и к стеблям одуванчика, хотя даже нам известно, что одуванчик — лекарственный.
— Бабушке нужно, чтобы в цвету или с ягодкой. Поняли? А эти отцвели.
И мы наполняем корзину синюхой в запоздалом цвету, багровой растительной смолкой, которую Нинка называет «драконова кровь», иван-чаем, жгучей ясноткой, таволгой и донником. Обламываем хрупкие ветви цветущей крушины и жалеем, что захватили с собою только одну корзину. Мы могли бы набрать и две и три такие.
— Давайте я понесу, — берет Костя наполненную цветами и травами корзину.
Нина довольна.
— Не возражаем. Там нам будет свободнее.
Она снова направляется на участок, где работают вздымщики. Мы все шагаем за ней неторопливо, любуемся, как ловко орудуют рабочие скобелями и хаками. Простоволосые, кто засучив рукава легкой рубашки по самые плечи, кто в безрукавке, они стараются шире открыть себя солнцу и пахучему лесному ветру. Сами забронзовели близко к цвету сосновой коры.
Вздымщики работают — не хакают. Подрумяненное дерево легко уступает рабочей сноровке и острому резцу.
Веселей усы подкручивай!
По зеркалам не заглядывайся! — звучат голоса. Внизу подспорьем в труде веселая перекличка рабочих идет, а в вершинах деревьев птицы снуют: подсвистывают, подбадривают. Радостно и весело, как на празднике. Так и хочется взять в руки скобель или хак да почувствовать себя не гостем на часок, а пойти со старшими наравне «усы накручивать», пускать по стволам живицу.
Прозрачные капельки набухают, просвечивая желтизной сосны, золотистыми горошинками перекатываются медленно по узким надрезам и капают, капают в воронки, застывая в них белым сахаром.
Черную смолу, черный деготь добывали в старые годы из сосны смолокуры. Пришли в Ярополческий бор новые люди — вздымщики, — дала сосна белую живицу.
Мы не спешим уходить с участка. Привлекла нас и взволновала новая жизнь в старом бору.
Зорянка
Утром шел дождь — тихий, теплый, безветренный. Редкие капельки барабанили в окно и, расплющиваясь, растекались по стеклу. Порой лениво, как гул отдаленного выстрела, по небу катился гром. Из-за тесовой перегородки слышался голос бабушки Васены, которая, переплетая быль с небылью, рассказывала Василию Петровичу о чудесных свойствах багровой смолки, о девясил-траве, что от грудных болезней врачует, о разрыв-траве, которую, если в Иванову ночь косить — коса обламывается. Говорит бабушка Васена песенно, словно убаюкивает лесного инженера.
— Ш-ш-ш, — предостерегающе грозится она пальцем, когда я осторожно вхожу в комнату лесного инженера.
Василий Петрович спит. Зато Павка проснулся и широко раскрытыми глазами смотрит на меня с койки из противоположного угла.
— Пойдемте в мою хибару, будем травы разбирать. Оставим его одного, — поводит бабка рукой в сторону Василия Петровича. — Пусть хорошенько выспится. Сон — лекарство хорошее. А под дождичек сладко спится. Одевайтесь да выходите потихоньку.
Павке тоже одному оставаться нет никакой охоты. И он вместе с нами к бабушке собирается. Ленька помогает ему одеться и идет с ним в паре позади меня и Кости Беленького. Перешептываются между собой.
Здорово Зинцов и Дудочкин сдружились. За всю неделю, что находимся мы на Белояре, ни разу не поссорились. Даже секреты завели.
Пробежались мы под дождичком — и снова под крышу.
До этой минуты знали мы на Белояре всего три жилых дома. Бабушка четвертый показала.
— Вот мое жилище.
Стоит избушка бабки Васены на отскочке от нового поселка. В чаще сосен ее и не видно. Даже тропинка в ту сторону не указывает. Незнакомый человек в десяти шагах от бабушкиного жилья пройдет — не заметит.
Хозяйка и ее хибара очень друг на друга похожи: обе темненькие, маленькие. Бревна домика ветхие, растрескавшиеся. Два маленьких оконца в просветы между сосен глядятся, и вся избушка кажется какой-то необычной, игрушечной. Поставить бы ее, как в сказке, на курьи ножки, и она, наверно, могла бы по желанию поворачиваться к бору задом, а к путникам передом.
При входе дверь со щеколдочкой, и уже в узеньком коридорном проходе сухим травяным теплом пахнет.
Там находит хозяйка другую дверь. Раскрывает ее с тихим шелестом и пропускает к нам серую полоску света.
— Через порожек не запнитесь! — предупреждает она. И мы поднимаем выше ноги.
В домике хотя тесно, зато уютно. Бабушка, заметно, даже соскучилась по этой тесноте: присела на лавку с таким вздохом, будто из дальнего путешествия, наконец, домой вернулась.
— Всю жизнь, — говорит, — вот так прожила. Никак не могу к просторным домам привыкнуть. У меня в хате все на виду, все рядышком. А в большом доме сидишь и думаешь: и рядом комната пустая, и на кухне никого нет, и в прихожей никого нет, и тесноты никакой не чувствуется, и под руками ничего не мешается. А свету в большие окна столько, что вся ты на виду, как девка на смотринах. От неудобства и повернуться не знаешь в какую сторону. Холодно даже становится от такого простора. В своей маленькой потеснее, да потеплее.
Никакой стесненности не замечали мы у бабки Васены и в комнате Василия Петровича, а теперь видим, что среди сухих цветов и трав чувствует она себя куда вольготнее. Серебряные волоски на бородавке будто ярче поблескивают.
Села в простенке между маленькими окнами, словно всегда тут и была, никуда не выходила. Пучки сухих цветов и трав, привязанные на ниточки, с потолка ей на голову свешиваются, шуршат по шерстяному полушалку. По стенам, по полкам тоже цветы и травы. Из них просвечивают желтые, огнистые, голубые, синие лепестки.
Корзину со свежими цветами бабка Васена у своих ног поставила. Разбирает их неторопливо, раскладывает по обе стороны от себя, на лавке.
Серый старый кот, заслышав хозяйку, мягко спрыгнул с печки, пристроился по правую руку старушки на брошенном фартуке. Свернулся, лежит себе спокойно, ни на кого внимания не обращает. Нехотя один глаз приоткроет, подрожит ленивым веком, поглядывая на цветы и травы, на незнакомых пришельцев, и опять жмурится блаженно.
Кому чего, а бабушке смирный старый кот да пахучие травы в маленькой избушке всего дороже.
— Зачем тебе, бабушка, так много трав нужно?
— Трав-то?.. А как же без них? Без трав и иродову сестру — лихоманку не прогонишь. А их сорок сестер, сорок бед несут. От всех надо оборониться. Кто травы разумеет, того все болезни слушаются.
— А то есть лекари, которые в воду глядят, — издалека наводит Костя Беленький разговор на стакан с водой, через который на сто верст кругом видно. В замысле держит: «Есть у бабки такой стакан или шутку разыграл над нами Туманов, когда про это диво говорил?».
А белоярская лекарка, не задумываясь, уверенно отвечает:
— В воду ведуны глядят. Гадать не гадают, а мороку в глаза пускают.
Вот как думает бабушка про гадателей. И нет у нее никакого волшебного стакана с водой, а лечит она цветами и травами. В свое лекарство крепко верит.
— Цветок, — говорит, — от земного сока растет. Ему солнышко свой жар придает. В цветах и травах земляная и огневая сила. Из цветов мудрый человек другого человека создает.
— А как же это, бабушка?
— Как говорю, вот так и есть.
— Почему же нет людей из цветов?
— Были. Зорянка была. Ее старик лесовик создал.
— А где эта Зорянка?
— Рассыпалась. Сама себя беречь позабыла — и рассыпалась.
— Как же это случилось?
— Так и случилось. Расскажу, коль хотите.
И бабка Васена с обычной разговорной речи переходит на сказочный, напевный лад.
— Сколько лет живет старик лесовик, того никто не знает и сосчитать не может. И сам он счет годам потерял. Весной, когда зеленеют цветы и травы, молодеет с ними и старик лесовик. Осенью, когда светлеет вода по озерам, а с деревьев сыплются листья, становится он старым и печальным. Бледнеет и слабеет от осенней грусти, и борода становится реденькой, и всего его насквозь будто воздухом просвечивает.
Невесело старику встречать осень. Нелегко одному проводить зиму, когда нет в лесу зеленого шума, не слышно птичьего голоса и нет поблизости живого человека. Даже ребятишки и те побегают летом за грибами да ягодами, посидят с удочками над лесными озерами и до новых теплых дней с ними прощаются.
Один, как перст, остается лесовик до весны. Сидит уныло в притихшем лесном дворце, пока снова не зашумят деревья свежей зеленью, пустятся в рост молодые травы, огласится лес песнями, смехом да ауканьем. Пьет лесовик целебные соки зеленой чащи, яснеют его глаза, уверенней становится поступь, набирается он новых сил.
И задумал мудрый старик вырастить девочку из цветов и трав, которая была бы ему постоянным утешением, никогда бы с ним не разлучалась, зеленой весной и печальной осенью была рядом.
Давно изучил он голоса зверей и птиц, умеет тихий шепот деревьев слушать, понимает речь цветов и трап, знает скрытые в них чудесные свойства.
Только каждый цветок распускается в положенный срок, другого цветка не дожидается. Вот и надо искать время, чтобы в полной силе взять один цветок, сохранить его до той поры, когда другие подоспеют.
Только и это не главное. Труднее соединить один цветок с другим, чтобы жили они и дышали вместе. Не по силе эта задача ленивому, не решить ее нетерпеливому, и для мудрого да упорного дело нелегкое.
Много лет прошло, много зим пролетело. Молодые состариться успели, пока собирал лесовик цветы и травы, сберегал их в ключевой живой воде.
И явился однажды лесовик в свой зеленый дворец с девушкой, по имени Зорянка. От зари взял старик для нее имя.
Стала жить у лесовика Зорянка за родную дочь: по сосновому бору вместе с ним гуляет, сама обед ему готовит, зеленый дворец прибирает, бережет лесное богатство. Вокруг девушки пчелы роями летают, золотым венком над головой сплетаются. Не нарадуется старик на свою Зорян-ку. Лишь одно горе— молчит девушка, не знает человечьих слов. Ни говорящие пески, ни соловьиные ручьи, куда ходил с ней лесовик, не дали человеческого голоса — молчит Зорянка. Расцветет, засмеется лицом навстречу утреннему солнышку, просияет вся, а сама молчит.
Так жила она и год и два. С полевыми цветами дружила, на солнечных полянах играла, слушала шепот камыша над тихим озером.
И минуло Зорянке восемнадцать лет.
Вот и увидал однажды девушку над берегом озера молодой рыбак. Рослик звали его в деревне.
Увидал ее Рослик и, забыв обо всем на свете, уронил сети в озеро — так красива была Зорянка.
Подогнал он лодку к берегу. Хочется Рослику завести разговор с Зорянкой. А она испугалась и убежала в лесной дворец. На другое утро раньше зари снова плавал Рослик по озеру и снова увидел на берегу Зорянку. Только хотел ей слово сказать — испугалась девушка и убежала. Скрылась она не в лесном дворце, а спряталась на лесной опушке и все смотрела между веток, как сидит на берегу и молчаливо вздыхает юноша. И было от этого Зорянке радостно и грустно, а почему — сама не знает.
Тихой и задумчивой была в этот вечер Зорянка. И заметил старик лесовик, как грустно она вздыхала, словно сказать что-то хотела. А девушка помнила, что так вздыхал над берегом Рослик.
На третий день она не убежала, когда лодка молодого рыбака причалила к берегу. Молча сидели на склоне Зорянка и Рослик и смотрели на озеро, где качалась вода, цвели кувшинки и шумел тростник. Горела, переливаясь под солнцем, приколотая к груди девушки янтарная булавка — драгоценный подарок старика лесовика, и было Зорянке тепло и приятно от этой тишины и света.
Так каждое утро стали встречаться они на берегу. Выходил к ним из бора старик лесовик. И научился Рослик узнавать его тихую поступь, понимать таинственный голос, улавливать неясные черты лица.
Смотрел старик на Зорянку, когда, молчаливая и сияющая, сидела она на берегу, и все ждал, все казалось ему, что вот-вот заговорит она.
Случилось это осенью. В тот день в первый и последний раз в своей жизни заговорила Зорянка.
Вот как это было.
Смотрела Зорянка на солнышко, и было от него в груди холодно, а от юноши согревало теплом.
— Скоро замерзнет озеро, негде будет нам встречаться, — сказал Рослик.
Она посмотрела на него печально васильковыми глазами. В каждом из них блестела, наливаясь слезами, искристая черная ягодка. Вздохнула тихо, и в этом вздохе будто услышал Рослик: «Грустно будет одной на берегу сидеть».
— Теперь не встретимся, должно быть, до новой весны, — сказал он.
И девушка согласно и печально кивнула головой: «До новой весны».
На опушке леса стоял старик лесовик, ожидая озябшую на осеннем ветру Зорянку, чтобы проводить ее в зеленый лесной дворец, укрытый среди вечнозеленых сосен. Хотел он позвать ее — и не решался: все казалось, что вот-вот заговорит девушка, расставаясь с Росликом.
А Зорянка смотрела печально, слушала Рослика и беззвучными губами повторяла его слова.
Тогда вынул юноша гребешок из кармана, приколол его в густые косы девушки, где по-весеннему молодо цвели, не блекли цветы-вьюнки, и сказал чуть слышно:
— Весной я снова буду ждать тебя здесь. Это тебе до весны — на память!
Зарделась Зорянка ярче пахучих роз и положила руку на янтарную булавочку — подарок дедушкин. Дарил ей старик лесовик и сказал тогда, что все счастье Зорянки в этой булавочке, остерегал никогда ее не выкалывать, чтобы счастье свое сберечь.
А сейчас Зорянке захотелось подарить счастье Рослику. Зажмурила она васильковые глаза, склонилась к Рослику и переколола заветную булавочку из своей груди ему на грудь.
«На память!» — прозвучало тихим шелестом. И в тот же миг рассыпалась Зорянка луговыми цветами по берегу.
— Собери, оживи ее! — с мольбами кинулся Рослик к древнему лесовику.
Долго стоял старый над рассыпавшимися по берегу цветами. Поредевшая борода его дрожала, из поблеклых глаз катились слезы, и сквозь него просвечивал осенний притихший лес.
Заговорил он с Росликом глухим и далеким голосом:
— Чтобы собрать ее из цветов и заставить жить человеческой жизнью, я потратил многие годы и отдал лучшие силы. Оживить ее не в моей власти. Только молодые и смелые, сильные любовью к человеку и природе могут дать миру новое чудо. Слышишь, юноша! Молодым дана эта сила. У тебя в руках ее сердце, пусть оно тебе подскажет, что делать. Ты спроси его — оно подскажет.
Посмотрел еще раз печально на осыпанный цветами берег, посмотрел задумчиво на Рослика и рассеялся, вместе с прозрачным осенним воздухом расплылся по лесу старик лесовик. Там засветятся его добрые задумчивые глаза, там бородой лесовика тряхнется под ветром молодой кустик, там мелькнут потускневшие полы зеленого кафтана — и все пропало. Навсегда ушел от юноши мудрый и таинственный, опечаленный лесовик.
Осталась у Рослика булавка с янтарной головочкой — сердце цветочной девушки. И она это сердце ему подарила.
Приколол он янтарь к стволу высокой сосны, у которой стояла, прощаясь, девушка, где сказала свое первое и последнее в жизни слово.
Приколол и пустился в безвестный край разведывать тайны живых цветов.
А янтарь затеплился на стволе золотой смолой. Затеплился и весной расплавился. В нем сердце Зорянки светится. Может быть, все печалится, все ждет оно, что явится тот, кто ушел за разгадкой сокровенной тайны цветов и трав, оживит былую Зорянку.
Помолчала бабушка.
Тогда Костя спросил:
— На берегу какого озера это было, бабушка?
— На том берегу, где всех краше цветы растут.
— А в какой сосне ее булавочка?
— В той сосне, которая по весне янтарем играет.
И, разговаривая с нами, бабка Васена беспрерывно шуршала стебельками цветов, перебирая их на коленях. И старый серый кот, свернувшись на фартуке, медлительно приоткрывал нацеленный на цветы ленивый глаз, будто здесь надеялся увидеть новое цветочное чудо, и снова закрывал, разочарованный. В маленьких сухоньких руках хозяйки был все тот же иван-чай, горицвет и наперстянка, которые помнил он с тех пор, когда еще был котенком.
Маленький художник
Говорят, что летние дни самые длинные во всем году. А для нас они такими коротенькими кажутся. Так и летят один за другим.
Только утром проснешься, позавтракаешь с Василием Петровичем и не успеешь еще по Белояру набегаться, желтоголовых ящериц на песке наловить, насмотреться вдоволь, как ужи по воде, плавают, подследить, где они прячутся от нас под берегом, как уже обедать пора. Потом к Максимычу на участок пробежимся: вооружившись скобелями и хаками, новые кары заводим, живицу собираем, переливая ее из маленьких воронок в большие ведра.
Павке Дудочкину профессия вздымщика особенно по нраву пришлась. Вот где нашел свое призвание наш неторопливый на слово, трудолюбивый и скромный друг. Еще руки от кистей по локти марлей укручены, еще бабка Васена его каждый день предупреждает, чтобы берегся, а Павка уже со всем своим старанием «румянец» по соснам наводит, «зеркала» и усы острым хаком прописывает.
— Подождал бы, когда руки заживут, — скажет ему Костя Беленький.
— Тогда нам здесь делать будет нечего. Если выздоровел, что понапрасну время терять. К дедушке пойдем, он, наверно, уж беспокоится.
Максимыч слушает и одобрительно покряхтывает. Нравится ему трудолюбие и хозяйственная рассудительность Дудочкина.
— Будь моя воля, зачислил бы тебя в штат, — гудит десятник и сетует — Охрана труда мешает. Раньше мы с десяти годов в работу, как в хомут, впрягались. Не захирели — выросли. Работа никогда не во вред.
Громогласный бас Максимыча при этих словах становится гуще, будто он хочет сказать: смотрите, мол, на меня — не дорос, что ли, или здоровьем слаб?
— Сколько тебе до шестнадцати-то осталось? — спрашивает он Павку.
— Три года бы еще. А месяцы неважно.
— Месяцы — пустяк, — соглашается десятник на подсочке. — Если бы года до шестнадцати не хватало, и то принял бы тебя на работу.
Зинцов слышит, и его досада берет, что про Павку так похвально разговаривают, а на него и внимания не обращают.
— Давай соревноваться! — вызывает он Дудочкина.
— Мне все равно: хоть соревноваться, хоть просто так работать, — отвечает Павка, не торопясь да споро управляясь с хаком.
Тогда начинаем?
Ладно.
Мы с Костей Беленьким беремся наблюдать за качеством. Зинцов всю свою энергию в ход пустил. От дерева к дереву вперебежку действует. Обгоняет Павку в работе. А горячего запалу только на полчаса хватило.
— Кончаем! — кричит он другу.
А Павка продолжает себе, как заправский вздымщик, уверенно и сноровисто обрабатывать сосну за сосной.
— На раз горазд, пыхнул — и погас, — изрек Максимыч свою оценку зинцовской хватке.
Костя слова десятника в тетрадку внес. А вечером под этой поговоркой новую сказку бабки Васены записал.
После первого посещения бабушкиного домика она сама нас пригласила.
— Заходите, когда надумаете.
А мы не привыкли себя ждать заставлять.
Василий Петрович в этот день просмотром разных бумаг занялся, взялся записки писать. Нина Королева и помогает ему, как инженеру, и, как за больным, присматривает. А мы — к бабке Васене. Шевельнули щеколдочку при вХОДе — и снова расселись по насиженным местам.
Бабка Васена цветы перебирает, а мы от нечего делать за писучие камешки принялись: подтачиваем их, обмениваемся друг с другом, чтобы у каждого всех цветов опоки были. Слово за слово со старушкой переговариваемся. Костя Беленький под бабушкину диктовку взялся названия лекарственных цветов переписывать. Потом бабка про свою бабушку стала рассказывать, как она у барина при крепостном праве жила. От этого разговора и до сказки дошла. В наших тетрадях она так начинается:
«Было это, беззаботные вы мои, когда еще людей, как лошадей, покупали и продавали. В крепостное время это было. Над всеми большими и малыми был тогда хозяин — помещик. Барином каждого помещика величали. Волен он был взять дите от матери, волен был над крепостным суд творить и без суда людей пытать и мучить. Волен был в животе и смерти…»
Прислонилась бабушка к простенку поплотнее. Цветы только для виду руками перешевеливает. Так ей рассказывать способнее.
— Тогда и жил, — говорит, — в деревне маленький и несчастный мальчик Федя. Худенький он был, слабенький и больше всего на свете сызмалетства рисовать любил.
В школе он не учился, да и школы на селе не было. А купила ему мать у проезжего товарника книжку с картинками. С ней и не расставался Федя. Стал с нее разные картинки срисовывать, деревья, людей и зверей изображать. Найдет или выпросит где-нибудь листочек бумаги, уголек у матери с шестка возьмет — сядет за стол и рисует. Ничего не свете ему больше не надо, все горести-печали позабудет.
Сначала отец радовался: такие интересные картинки у мальчонки на бумаге получаются, что залюбуешься. А когда увидал, что у Феди только и думы, что про уголек да про бумагу, сердиться стал.
— Не мужицкое, — говорит, — это дело — пустяками забавляться. Надо приучаться хлеб себе зарабатывать.
Собрал он все бумажки и выбросил. Федюшкины угольки во дворе ногами потоптал, а книжку с картинками в короб с разным тряпьем запрятал. А картинки мальчонка все равно забыть не может. И во сне и наяву ему представляются. За какое бы дело ни взялся — нарядные картинки у него на уме.
Лоскутки бумаги Федюшка возле помещичьего дома стал собирать, а угольки у матери на шестке находит каждый день новые. А чтобы отец с матерью не ругали, стал уходить мальчонка в лес. Неподалеку от леса деревня стояла.
Наберет Федя углей в карманы и пропадет на целый день. В лесу птицы поют, деревья шумят, рыба в озере плещется, и так хорошо ему, что никогда не возвращался бы в деревню.
И придумал мальчонка новую затею. Выберет он пенек поглаже, пристроится к нему на коленках и рисует черным по белому. Налюбуется на свою картинку — размажет ее и опять рисует белым по черному.
— Еще задолго до вас, — примечает бабка Васена, — нашел он камешки, что опокой да еще мергелями прозываются. Вот и стал ими рисовать. На одном пеньке кончит — к другому перейдет. И так с утра до вечера, пока темно и страшно в лесу не станет. Тогда и домой, в деревню, возвращается.
Однажды и застал Федюшку за таким занятием в лесу барин — помещик значит. А лес-то был его же, помещика. Подумал он, что мальчишка хворост собирает, к себе домой таскает, и решил так проучить, чтобы и другим неповадно было.
А Федюшка над пеньком наклонился, на картинку любуется, ничего не замечает. Подкрался к нему помещик да и хвать мальчонку за ухо.
— Ты что это, — говорит, — неумытый оборвыш, в барском лесу делаешь?
Перепугался мальчонка, ноги у него со страха подкашиваются, а сам бледный, как беленый холст. На коленях молит он помещика отпустить его домой, клятвой клянется, что никогда больше не заглянет в этот лес.
Рядом с помещиком управляющий стоит, в руках тугой ременный кнут держит. От этого кнута в глазах у Федюшки потемнело. Сразу вспомнил он бородатого Никиту, которого в прошлом году на барском дворе до смерти запороли. Дрожит мальчишка как осиновый лист на ветру.
А помещик посмотрел на один пенек — там по белому черным одна картинка намалевана. Поглядел на другой — по черному разноцветными опоками совсем непохожая на нее расписана.
— Забавные штуки парнишка выписывает. А плетями проучить, тогда и совсем хорошо получится.
Посмеялся так над беспомощным несмышленышем, посадил Федю в коляску и увез к себе в дом.
— Будешь, — говорит, — моих ребят своими картинками потешать.
Дали Феде краски, бумаги. И стал он для помещичьих детей, на забаву им, картинки рисовать. Довольны ребятишки — посмеются, похвалят Федю, недовольны — раскапризничаются, велят его плетями вздуть.
А чтобы не придумал парнишка домой бегать или родители к нему под окно ходить, сослал помещик Федюшкиных отца с матерью в дальнюю деревню, чтобы и сын о них и они о сыне и думать забыли.
Только разве можно забыть отца с матерью!
Живет Федя в помещичьем доме и год, и два, и больше. Сдружился он со старым конюхом. Был Семен в молодости художником. Картины его в Москву показывать возили, барина за те картины деньгами и медалями награждали, а самого художника и знать никто не знал.
И задумал Семен откупиться от помещика, отдать ему все, что было дорогого и заветного, только чтобы самому свободным человеком стать. Но вместо освобождения послали Семена на конюшню, чтобы там под плетями забыл он свою холопскую гордость, до старости лет дрожал и гнулся перед барином.
Жалел и любил Федюшку старый художник. И стал он обучать мальчика всему, что сам умел. Любознательный и понятливый получился из Федюшки ученик. Научил его Семен такие картины рисовать, что приезжие гости барина стали на них заглядываться. И все рисует он леса да поля, озерные заводи да луга зеленые. А у самого из головы дума не выходит, как бы убежать к отцу с матерью.
Вот раз перед большим летним праздником, когда к помещику должны были его именитые гости съехаться, приходит хозяин к мальчику злой-презлой.
— Ты что, — говорит, — это, оборвыш бездомный, моими красками рисуешь да мужикам на стены ляпаешь?!
Узнал он, видно, что нарисовал Федюшка одну картину да и бросил ее из окна деревенскому мальчику, своему товарищу. И залютовал помещик.
— Ты, — говорит, — нарисуй мне такую картину, чтобы гости, которые ко мне съедутся, поглядели и диву дались. Изобрази мой бор так, чтобы деревья ветвями шумели, чтобы от них смолой пахло и чтобы в тот лес можно было гулять пойти. Сделаешь — отпущу к отцу с матерью, а не сделаешь — плетями засеку, собаками затравлю. Так и запомни.
Только насчет отца с матерью обещания Федя уже не раз слышал. А чем больше старается, чем лучше картины делает, тем крепче держит его помещик. Даже на улицу из дому выпускать перестал.
— А теперь, — говорит хозяин, — засажу я тебя одного в комнате, и никто, кроме меня, к тебе ходить не будет, пока ту картину не сделаешь. Так старайся, чтобы люди, глянув на нее, от удивления ахнули.
Заперли Федю на замок, а в окна железную решетку вделали и оставили одного. А чтобы не умер с голоду, в двери окошко проделали, через него есть Федюшке в каморку подавали.
Рисует он на холсте зеленый луг. Рисует лес, который сквозь решетку издали виднеется. Нет возле него ни одного человека, с кем бы словом можно бы перемолвиться. Только заходит порой страшный барин с витой плетью в руке — проверить, не бездельничает ли мальчишка, посмотреть, как работа поддается, да припугнуть его покрепче. А ночью за решеткой возле окна старый конюх Семен появляется, шепчет что-то Федюшке, подсказывает, что и как нужно сделать, чтобы помочь ему от беды уйти.
Потом и сам мальчишка заперся изнутри, не пускает к себе барина.
— Не мешайте, — говорит, — мне: работа полным ходом идет. — Будет, мол, точно к сроку такая картина, каких не было. Мол, приказ ваш я строго выполню: глянете на нее— и ахнете.
Сказал так и снова за работу принялся. Только пилку маленькую железо резать попросил.
— Потому нужна, — сказал, — что необычная картина будет.
В званый день чуть свет стали съезжаться гости на двор к помещику. А ему не терпится новую картину показать. А нет картины, тогда у всех на глазах запорет он мальчишку— для гостей это тоже утеха. Собрались они у двери с окошечком, а оно изнутри забито наглухо. И раз и два постучали в дверь — не отпирает Федюшка и голосу не подает.
Озверел помещик. Приказал он дверь топорами выломать. Впереди гостей с хлыстом в руке кинулся он в пролом да и оторопел: будто не в Федюшкину темную каморку попал, а на прогулку на рассвете с гостями вышел.
Открылся перед ним широкий луг в утренней росе. Розовая заря по траве тонкий свет раскинула. Вдали сосновый бор шумит, густо свежей смолой и земляникой пахнет. Лучше, чем заказывал помещик, нарисовал Федюшка картину.
Только туда-сюда, а художника нигде не видно. Проложен по луговой росе узенький след, будто только сейчас прошел по траве босиком мальчишка и скрылся в сосновой чаще.
Забыл помещик, где он находится. Закричал, затопал ногами:
— В лес убежал, разбойник! Догнать его! Затравить собаками!
И кинулся разъяренный на мальчишеский узкий след по лугу. Налетел он грудью на перепиленные и выгнутые прутья железной решетки, на вделанные в них пучками острые стальные иглы. Тут, как и обещал маленький художник, ахнул барин и повалился на пол весь в крови.
С того дня пропали из барского дома и Федюшка и старый конюх Семен. Где они — никто не знает. Но и сейчас показывают в музеях картину, где словно живой раскинулся окрашенный зарей широкий росистый луг и ведет по нему одинокий узкий мальчишеский след к дальнему сосновому бору.
Кем написана картина, как она здесь появилась — ни один человек сказать не может. Называют ее картиной неизвестного художника. Но кто знает Федюшкину историю — и картину его сразу узнает. Все ветки на соснах в той картине зеленые, лишь одна порыжела — от крови помещика.
— Вот какую память оставил о себе маленький художник, — заключила бабушка Васена.
Посмотрела на наши исписанные опоками рубашки и в назидание добавила:
— А рубашку свою он берег, опоками ее не разрисовывал. И вы до другого случая свои камешки приберегите.
Надежда Григорьевна
Павка выдержал испытание на терпеливость: как ни зудели руки, как ни хотелось царапнуть их сквозь повязки ногтями, он ни разу тайком от бабки Васены не заглянул под марлю, не сковырнул ни одной болячки. И, как достойная награда за примерное терпение, освобождение от повязок пришло раньше, чем ожидала сама лесная докторша.
Перед нашим уходом из избушки она посмотрела Павки-ны руки и сказала:
— Больше перевязывать не будем. Пусть вольным воздухом подышат.
— И спать вместе с ними можно? — оживился Павка.
— С руками-то?.. А то как же! Обязательно с ними. Руки не отвинчиваются.
— Нет, я говорю: с ними, — просиял ободренный веселым настроением бабушки Павка и обернулся в нашу сторону: — Вот с ними.
— Спать можно, а воевать — подождать. Нину сюда присылайте, загостилась она у Василия Петровича.
«Королева» за день всюду побывать успевает, а на ночлег всегда к бабушке отправляется. А мы поскорее в свою маленькую комнатку: рады, что все четверо вместе. Было даже немножко на торжество похоже, что с отдельной койки наш друг в общий круг вернулся. Ему поначалу и лучшее местечко в серединке.
Зинцов, конечно, к Павке под бок: целую неделю под одним одеялом не спали. Я в таком случае уже не за маленького иду, а наравне со старшим другой край постели замыкаю.
— Костя, не боишься, что домовой первого тебя с краю потащит? — через двоих серединных обращается ко мне Костя Беленький.
— На что ему такой маленький, он кого подлиннее выберет.
Если с краю спать, можно и посмелее стать и себя от шуточки с намеком оборонить. Чувствую, как взрослею я, впервые уложенный с краю.
Уже взрослый, читаю эту пометку в дневнике Кости Беленького и подсмеиваюсь над собой, маленьким. И все-таки я согласен с тем — маленьким — Костей Крайневым: не только в труде и в бою мужает человек. Вырастает он перед товарищами и перед самим собой, когда совсем малютке оставленную в грязи калошу достанет, шибче других в четыре пальца свистнет, за одно опускание на дно озера пять раковин соберет и над водой поднимет. В дни нашего детства мы даже от новой рубахи заметно взрослели, а от смелой сдачи на тумак и на слово — тем более.
Припоминается пробуждение после ночи, впервые проведенной не в середине, а на краю широкой постели.
…Ясное солнечное утро над Белояром. Голубое высокое небо с белыми барашками облаков в верхнем переплете окна. Тесно сдвинувшись, мы лежим на тюфяке, набитом соломой. По гладкому сухому стеклу летает большая зеленая муха и громко жужжит. Ленька до половины выползает из-под одеяла и, вытягивая руку, целится прихлопнуть ее.
В это время раздается стук в дверь.
— Товарища Туманова можно увидеть? — слышится нерешительный женский голос.
Появление нового человека для Белояра событие небезынтересное. Нам тоже любопытно узнать, кто бы это мог быть.
А Ленька втягивается обратно под одеяло и солидным басом отвечает:
— Нельзя! Мы спим еще.
Несколько минут за дверью длится молчание, потом тот же голос неуверенно спрашивает:
— А товарищ Туманов здесь живет?
— Помолчи ты, — заметив новое недовольное шевеление Зинцова, цыкает Костя Беленький и накрывает лицо Леньки подушкой.
В голосе за дверью слышится что-то знакомое. Костя дожидается, не повторится ли вопрос, и, не дождавшись, отвечает:
— Здесь. Сейчас открою.
Прыгая на одной ноге, он торопливо натягивает на себя узенькие штаны. Запутавшись в рыхлом тюфяке, шлепается руками на пол. В дополнение стукается о табуретку и босиком бежит к двери.
Павка спит, ничего не слышит. А мы с Ленькой, перевозя за собой подушки, перемещаемся головами в другую сторону и с любопытством ожидаем появления ранней посетительницы.
Костя негромко щелкает откинутым из петли железным крючком, дверь медленно раскрывается и…
Мы с Ленькой растерянно и глупо таращим глаза: через порог переступает наша учительница.
Привыкли мы при встрече всякий раз ее громко приветствовать. Но не крикнешь же из постели: «Здравствуйте, Надежда Григорьевна!» Это курам на смех.
Молчим затаив дыхание. И одно желание: хорошо, если бы она нас не заметила.
Нам неловко как-то, а Косте Беленькому и того больше не по себе. В сбившейся набок измятой нижней рубашке, непричесанный, неумытый, нелепо расставив длинные ноги, он непонимающе глядит перед собой, беспрестанно моргая белыми ресницами. У него даже не хватило сообразительности отнять руку от крючка и отступить в сторону, шевельнуть кверху костлявым плечом, чтобы поддержать съезжающую с него рубашку.
Надежда Григорьевна, не ожидавшая такой необычной встречи, тоже вначале смутилась, но быстро нашлась.
— Что, не выспался? — улыбнувшись, сказала она, смотря мимо Кости.
— Василий Петрович у себя в комнате, — сказал наш старший чужим, деревянным голосом.
— Кто там? Входите сюда! — весело прокричал из своей комнаты Туманов.
Надежда Григорьевна оглянулась на входную дверь, потом на противоположную, ведущую в комнату Туманова. Качнула маленьким чемоданчиком в руке и сказала Косте:
— Лекарства принесла.
Одернула без нужды серый пиджачок, словно выигрывала время на раздумье: что же делать дальше? Шагнула несмело один раз, затем, четко пристукивая каблуками по звонкому полу, уверенно и быстро пошла на голос, предоставив Косте возможность одуматься и окончательно прийти в себя.
Мы с Ленькой уткнулись в подушки.
А через час вся наша компания уже сидела в просторной и светлой комнате Туманова вокруг письменного стола, который Надежда Григорьевна и подоспевшая к случаю бабушка Васена быстро превратили в обеденный.
Пока мы прибирались в своей комнате, умывались, смачивали волосы, подрезали ногти, с помощью явившейся вместе с бабкой «королевы» приводили в возможный порядок свои довольно-таки потрепанные во время похода костюмы, комната Василия Петровича будто преобразилась.
Вдоль широких сосновых половиц к раскрытому окну, д которого веяло утренней свежестью, пролегла полосатая домотканая дорожка. Рамки с бабочками, жуками и гусеницами были задернуты другим, гладко проутюженным покрывалом. На лакированную полочку перед большим зеркалом легла вышитая голубенькими незабудками полотняная дорожка, и на ней стоял, широко раскрыв желтый клюв, фарфоровый черный грач, изо рта которого торчал окурок папиросы.
Отсыревшие горшочки под цветами были протерты насухо и снизу завернуты до половины в чистую белую бумагу с полукруглыми каемками по краям. На мелких листьях словно помолодевшей комнатной березки, на разноцветных шершавых геранях искрились, переливаясь, живые капельки воды. Ярко сияли красные лепестки огонька и пламенные крапинки «ваньки мокрого». Запах борового смолистого воздуха перемешивался с мягкими запахами цветов.
Теплее, уютнее обрядилась комната лесного инженера.
«Так вот чего недоставало в ней», — припомнился мне холодок, который чувствовался все время, когда впервые рассматривали мы жуков и бабочек под стеклом, деревянные чурочки в ящиках письменного стола, мерили взглядом голые широкие половицы.
Теперь та же комната выглядела совсем по-иному.
— Павлуша, — вместо привычного в школе «Дудоч-кин» позвала учительница, — подойди сюда.
Придвинувшись ближе к свету, она рассматривала внимательно Павкины руки с засученными выше локтей рукавами. По темному проступали розоватые пятнышки в виде монет, подернутые тоненькими легкими морщинками.
— Больно? — спрашивала Надежда Григорьевна.
— Теперь не больно.
— Как же ты не уберегся?
— Так уж получилось, Надежда Григорьевна. Пожар ведь был.
И заметил я, как при этих словах она хотела погладить Павку и снова опустила руку.
— Какой большой ты здесь вырос! — сказала она.
И, оборачиваясь к Косте Беленькому, уже строже спросила:
— А почему не сообщили? Если бы не письмо Савелия Григорьевича, я до сих пор ничего бы не знала.
Мы переглядываемся с Ленькой.
«Вот откуда, значит, дошли до учительницы вести! Из-за нас поспешила она в Ярополческий бор».
О том, хорошо ли мы дружим между собой, не ссоримся ли, Надежда Григорьевна даже словом не обмолвилась. Без вопросов, видно, поняла.
Вместе с бабкой Васеной она накрывает стол расписанной в кубики клеенкой, расставляет посуду. «Королева» усердно помогает им.
— А хозяину дома можно вставать? Стул для него поставить? — спрашивает Надежда Григорьевна бабку Васену.
Василий Петрович, покруче подвернув подушку, посматривает на оживленное многолюдье и слушает, как без него о нем вопрос решают.
— Нет уж, пусть на меня обижается, а чай ему придется все-таки на табуретке подать, — говорит бабушка. — А вы что же, как паны — руки в карманы. Давайте самовар на стол, — совсем по-свойски подшугивает нас лесная лекарша.
Ленька Зинцов устремился на кухню и притащил пофыркивающий паром, начищенный до блеска медный полуведерный самовар.
И учительница — сама учительница, по одному слову которой мы умолкали за партами, переставали рассматривать картинки на стенах, закрывали тетрадь с недорисованным конем, — сама Надежда Григорьевна, по-девчоночьи смеясь на нашу застенчивость, за плечи подталкивает нас ближе к столу. Ее подрезанные, завернувшиеся внизу колечками белокурые волосы подрагивают.
— Рассаживайтесь, рассаживайтесь подружнее. Вот у Нины порядку учитесь, — указывает она на «королеву», которая, не ожидая особого приглашения, чинно и спокойно заняла свое место за столом.
Привыкшая отвечать смехом на похвалу, на этот раз Нина не фыркнула. Даже стул немножко отодвинула, давая Леньке Зинцову местечко рядом.
Памятное это было чаеванье.
На большой цветастой тарелке дымилось еще тепленькое, появившееся неизвестно откуда рассыпчатое домашнее печенье со сдобой. На других лежали нарезанные широкими ломтями сыр и колбаса, поднимались горкой вареньГе яйца. И для всех нас, каждому в отдельности, были поставлены маленькие, с золотыми ободочками тарелки с прилоценными по краям вилками. И на семерых — три длинных блестящих ножа с костяными черенками.
От хлопот или просто от горячего самовара под боком только бабка Васена на этот раз про свою зябкость позабыла- сняла темный шерстяной полушалок и осталась в одном легоньком чепчике, какие в нашей стороне кокуями прозываются.
— Первый бокал хозяину, — сказала она и наполнила чаем большую фарфоровую кружку Туманова.
Надежда Григорьевна взяла ее и вместе с тарелкой мелко нарезанной ветчины отнесла к постели Василия Петровича.
— Кушайте, — негромко сказала она.
Былой лихой кавалерист Чапаевской дивизии заалел стыдливой барышней, и ярко проступившая полоса на щеке снова напомнила нам, как его «беляки рубали, да высоко взяли».
— Спасибо, — сказал он. И добавил: — Надюша. Очень взволнован чем-то был Василий Петрович. Наша учительница при благодарности инженера тоже зарумянилась и, поправив подушку Туманова, поспешила вернуться к столу.
— Жарко, — сказала она и, отводя выбившуюся прядку волос, провела ладонью по лбу.
А мы, глядя на сыр, ветчину и колбасу посредине стола, сидели перед пустыми маленькими тарелками и не знали, что делать.
— Вы что, кушать не хотите? — заметила она строго, глянув на наши постные лица.
Если бы слышал кто со стороны, наверняка подумал бы, что только в этом и дело. А Надежда Григорьевна, сказав одно, поняла другое.
Зацепив вилкой большой кусок ветчины, она шлепнула его из большой на маленькую Костину тарелку и, разрезав одну полоску, сказала:
— Сам управляйся. Чтобы все скушать. Сообразительная «королева» не моргнув даже глазом последовала примеру учительницы и проявила заботу о Леньке.
С каким изумительным спокойствием в лице несла она Дрожащий на вилке ломтик! Как степенно переложила со своей на Ленькину тарелку длинный ножик!
Зинцов, на секунду закусив губу, вдруг, решившись, нацелил вилку в середину большой тарелки и отблагодарил соседку за внимание куском тройной величины.
Нина улыбнулась чуть заметно и не рассердилась.
Они угощали друг друга, а мы с Павкой, определив назначение больших и малых тарелок, не ожидая помощи со стороны, заботливо угощали сами себя.
И когда принялись за чашки с чаем, Павке не нужно было кашлять насчет сахару. На столе так все расположилось, что и сахар и конфеты были под рукой.
После чая мы показывали Надежде Григорьевне свои записи.
— Мало сказок, — говорил Костя Беленький, отыскивая для учительницы нужные страницы.
А она пробегала по строчкам глазами и повторяла:
— Вот это хорошо!.. Это совершенно новое… Напрасно вы горюете, что мало. Одна, две — и то богатство!
Тогда мы не знали, что оказались очень счастливыми «охотниками».
Надежда Григорьевна не делала никаких замечаний, не обращала внимания на ошибки. Только сказала:
— Осенью вы эти тетради обязательно в школу принесите, прочитайте своим товарищам. А на будущее лето снова в Ярополческий бор собирайтесь.
Видать, и Надежде Григорьевне он полюбился.
Мы сказали учительнице, что станем читать и собьемся — лучше бы она взяла себе наши тетради. А Надежда Григорьевна будто не расслышала: достала из ящика стола у Василия Петровича лист бумаги и завернула в него исписанные тетради.
— Берегите, — говорит, — хорошенько. Это на всю жизнь дорогая память. И не переписывайте в другие тетради начисто. Оставьте все как есть: и с ошибками и с помарками. Красивее написать можно, а так просто и душевно уже не напишите. Вырастете большими — в час досуга заглянете в тетради и снова маленькими себя вспомните. Жизнь другая пойдет, а у вас в тетрадях и сказки, и страничка прошлого.
Загадывает Надежда Григорьевна на такой долгий срок, будто осенью мы с ней и не встретимся. Глядит на нас внимательно и даже печально немножко.
Потом раскрыла свой чемоданчик, достала из него газету и говорит:
— Вот чего вы, ребята, не видели. Здесь сейчас торфяные болота исследуют. Заметка об этом напечатана. Вот она. Сходим посмотреть?
Прочитали мы заметку — и на болото.
А исследует-то, оказывается, кто? Белоголовый, которому Ленька Зинцов, как вызов, из сторожевого гнезда стрелу посылал. Тот самый, что Пищулина в дедушкину сторожку привел.
Вот и снова довелось встретиться. Только знаем мы теперь, что вся таинственность его в белом накомарнике. И зовут его просто Дима. Так он и Надежде Григорьевне назвался, когда нашли мы его за Черной гатью.
— А отчество? — спросила учительница.
— Если повеличать хотите, то Михайлович. А фамилии не верьте: Слепов фамилия, а я на три сажени в землю вижу. Марлей глаза укутываю, чтобы насквозь нашу планету не просверлить. Не верите?..
— Почему не верю? Очень даже верю. С ребятами вот специально пришли, чтобы научиться на такую глубину смотреть. Надеюсь, не откажете в науке, Дмитрий Михайлович?
— Этим ребятам?.. Этим не откажу. А другим откажу… Улыбнулся добродушно.
Дмитрий Слепов стоит возле маленькой черной трубки со стеклышками по обоим концам, а трубка привинчена к деревянным ножкам, которые держат ее под землей выше моего плеча. Ножки так устроены, что выдвигаются и задвигаются. Хочешь, полметра или метр, а то и полтора метра вытягивай. С таким устройством интересно позаниматься.
Слепов откидывает на голову свое белое покрывало на кольцах и припадает к трубке. Заглядывая в маленькое стеклышко, он крутит винтики по сторонам трубки; приподняв руку над головой, плавно поводит ладонью и передает на расстояние:
— Вправо подвинуть… Еще вправо… Влево чуть…
Замирает неподвижно возле маленького стеклышка, потом неторопливо разворачивает и закругляет ладонь сверху вниз.
— Так поставить!
Следя за направлением трубки, впереди Дмитрия Слепо-па мы видим еще троих. Двое, с топорами и пилой, ушли далеко вперед. Они срубают встречающиеся на пути кусты, спиливают деревья. Третий, который ближе к нам, стоит с длинной палкой в руках и наблюдает за движением ладони над черной трубкой. По ее мановению он переносит палку то вправо, то влево и, наконец, накрепко втыкает в зыбкую болотину.
Дмитрий Михайлович, вы бы сняли накомарник. День-то, смотрите, какой! Сегодня в лесу птиц больше, чем комаров.
Нельзя, без накомарника перестаю себя геодезистом чувствовать. А теперь в нем и еще одно удобство: чего не сумею хорошенько объяснить — сквозь марлю не будет видно, что стыдно, — отшучивается он от Надежды Григорьевны. И обращается к нам:
— Вторая смена к работе готова?
— Готова, — оглядываясь на учительницу, отвечает Костя Беленький.
Геодезист делает запись в маленьком блокнотике и подает вперед громкий голос:
— Кончай работу! Инструменты передать второй смене. Ну-ка, кто подюжее? — отбирает он работников. — Раз… два.
Выбор падает на Костю и Павку.
— Принимайте у товарищей топоры и пилу, — указывает он на идущих. — Становитесь на прорубку визирки.
— Тебе, быстроглазая, — указывает он на Нину, — провес визирки делать… Гриша, принимай помощницу! — кричит он парню с длинными палками в руке. — Пробу почвы возьмете.
Нам с Ленькой достается «резерв».
— А что это такое? — спрашиваем мы.
А это самая главная работа, — объясняет болотный учитель. — При мне на посылках будете. Для начала тебе нивелир на плечо, — складывает он треногую подставку с прикрепленной к ней трубкой и передает Леньке. — А тебе… ладно, так и быть — тебе накомарник доверю. — Он снимает свою белую марлевую шапку, чтобы меня не обездолить.
В этот день я и на груди, ее откинувши, носил и белоголовым был.
А Нинка Королева!.. Вот где смех… На переменках с Ленькой глядим мы на нее через стеклышко нивелира, а она перед нами вверх ногами ходит. Ноги от земли вниз куда-то отрываются, потом опять прилипают. И что удивительно: голова вниз торчит, а волосы через нее не опрокидываются, кверху на плечи тянутся.
Костя с Павкой и того забавнее: на полусогнутых ногах повисли в пропасть и вот топорами себе под ноги размахивают, а деревья, вместо того чтобы вниз падать, вверх взлетают.
Похохотали мы и над Павкой, и над Костей, и над «королевой». А местами поменялись — они над нами смеялись.
И не только смеялись. Научились мы в этот день визирку лесом вести. Научились вешки выверять и ставить, чтобы одна за другой словно по струнке вытягивались. Длинный железный зонд из разборных колен на пять, на восемь метров в болото загоняли, из глубины земли в закрывающемся желобке пробы почв вынимали. Не только Дмитрий Слепов, и мы видели в этот день землю «на три сажени в глубину» и даже дальше. Где торф кончается и серый песок начинается, узнавали; говоря словами геодезиста — почву зондировали.
До конца дня мы с визировщиками и болотным учителем не расставались. И Надежда Григорьевна, шагая вместе с нами по хлюпкой топи, все расспрашивала Слепова, где находятся землянки, которые он видел и о которых только лесным жителям известно. Давно ли эти землянки существуют, какими ходами между собой сообщаются и как к ним пробраться можно.
И угадывали мы в расспросах учительницы замысел на новый поход. Жалели, что времени мало остается.
Уже близились к концу три недели — срок, который нам дали родные. Пора было деду Савелу после Павкиной болезни показаться, да и домой возвращаться.
«На муромской дорожке»
Что, кажись, тут особенного: встретились, расстались — и продолжай каждый идти своей дорогой. И все-таки, чувствуем, грустно нам расставаться с Тумановым, с Максимы-чем, с бабкой Васеной — со всем лесным поселком. Хотелось перед уходом с Белояра и школу посмотреть, в которой будут учиться Нина и Боря Королевы.
С пробежки от дома лесного инженера до нового здания школы и началось утро следующего дня.
«Королева» не побежала. Она шагом пошла следом за нами вместе с Надеждой Григорьевной, и мы первыми распахнули новенькую, покрашенную желтой краской дверь в коридор.
Я первым догадался пробежать вдоль всего коридора от двери до широкого переплетчатого окна на противоположном конце.
— Нинка, мы обновили вашу школу! — забывая, что вместе с ней идет и Надежда Григорьевна, крикнул я, лишь «королева» приотворила дверь.
Учительница, заметив, что я и сам уже спохватился, на этот раз оставила без замечания мое «неуважительное обращение к девочке».
Школа была точно такая же, как и наша — зеленодольская, только новенькая. Две высокие двери направо — это классы. Не заглядывая в них, можно увидеть, что в каждом сложена печка, потому что кирпичная кладка вровень со стенкой выведена. Налево три двери поменьше — это кухня, комната для «технички» и квартира учительницы.
В коридоре нет еще ни часов, ни плакатов, но я представляю все в точности, как это расположено в нашей школе. Вот здесь, думается, будут висеть часы с двумя большими гирьками на медных цепочках. Здесь плакат: «Ученье — свет, неученье — тьма». Здесь впервые накануне праздника повесят красное полотнище: «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!» Потом на нем, немножно полинявшем, будет написано: «Да здравствует 1 Мая!» Здесь в рамочке за стеклом будут выписаны фамилии первых учеников школы и среди них наших друзей — двоих Королевых.
Приятно так думать.
В классах — географические карты и картины. Черные, покрытые лаком парты расставлены в три ряда. Интересно, за которыми будут сидеть Боря и Нина? У меня — рядом с печкой, третья в первом ряду.
«Обязательно нужно сказать Боре, чтобы он нам написал все подробно, когда начнется учеба», — думаю я.
— Хорошая школа, — говорит Костя Беленький.
— Замечательная! — подхватывает Ленька.
— Теперь вам только учительницу, чтобы хорошо учила, — высказываю я свое пожелание Нине и смотрю на Надежду Григорьевну.
Она поглядела на меня такими добрыми глазами, что мне захотелось обязательно поближе к ней придвинуться. А Надежда Григорьевна положила мне руку на голову и сказала:
— И учиться тоже хорошо надо.
Задумчиво так сказала, и обратно от школы шла тоже задумчивая.
Василия Петровича дома мы не застали. Воспользовавшись тем, что остался один, он впервые нарушил предписанный бабкой Васеной постельный режим.
Нашли мы лесного инженера на берегу Белояра. Сидит Василий Петрович, опершись на трухлявый замшелый пень, глядит мечтательно на противоположный берег, в тот край, где должна быть наша деревня.
— Скучно, надоело в комнате, — сказал он несмело, будто попросил: «Вы уж меня не ругайте, дайте здесь посидеть немножко».
Надежда Григорьевна вскинула глазами, покачала головой и, ничего не сказав, тоже присела неподалеку от Туманова.
— Рассаживайтесь на травке, — обратилась она к нам. Не знаю почему, но только слегка показалось мне, что Надежде Григорьевне хочется так вот, тихо чтобы, подольше с нами побыть. Редко бывала наша учительница такой вот задумчивой. А сейчас, похоже, ей даже грустно было немножко.
Спокойно, без толкотни, разместились мы на траве вокруг учительницы. И никто ни слова.
В наступившей тишине, сам не знаю почему, вдруг отчетливо встал передо мной другой день, когда провожали мы старшего брата учиться в город, в семилетку. Отец пригладил волосы, поправил выбившуюся из-под пояса рубашку, внушительно и спокойно сказал: «Садитесь».
Так же тихо присела вся семья. И я не дышал, глядя на старшего брата, который вдруг будто вырос в моих глазах.
— Ну, счастливо! — сказал отец.
Так прощался я с братом, расставаясь с ним на небывалый еще в нашей жизни долгий срок.
Что-то подобное торжественности той минуты почувствовал я и сейчас, неторопливо присаживаясь на траву. По этому сравнению невольно явилась и мысль: «С кем же из родных или близких сегодня расстаемся?»
Я смотрел на Надежду Григорьевну с каким-то особенным, непонятным волнением. Должно быть, так же в тот памятный день мой старший брат глядел на притихшую, молчаливую мать, напутствующую его на большое и доброе дело.
— Так вот вы где? От меня не спрячетесь! — густым басом громыхнуло позади, заставив всех нас вздрогнуть от неожиданности.
Мы оглянулись. За спиной лесного инженера, расплываясь в широченной улыбке от удовольствия, что удалось подойти незаметно и так ловко «встряхнуть» нас, стоял Максимыч. Но какой Максимыч!
Он был совсем не похож на того, лесного, что с мальчишеской ухваткой и медвежьей силой таскал тяжелые ящики с жестяными воронками.
Сейчас пройди Максимыч, не оглядываясь и не давая о себе знать, поблизости от нас — ни за что не признать бы знакомого бригадира. Рыжей колючей бороды как не бывало. Вместо старого засаленного пиджака на нем был совершенно новенький, с морщинками от долгого лежанья в сундуке серый костюм в полоску, который и на могучей коренастой фигуре бригадира держался немножко свободно. Видно, добрый, старинной русской закваски работал над ним портной: больше всего боялся, как бы не обузить, не окоротить дорогую вещь. И получилась одежина, как говорится, «дорого, да мило». Максимыч чувствует себя в нем свободно, как в шубе. Только клетчатый галстук под белым воротником рубашки связывает широкие и непринужденные движения бригадира, туго затянутым узлом напоминает о праздничном костюме.
— Что присмирели? Припекло на солнышке? — гудит он, выискивая местечко поудобнее. — Песню бы, что ли, грянули. Ну-ка, поднимай «На муромской дорожке»!
Уже присаживаясь, он замечает Надежду Григорьевну и умолкает стыдливо, как школьник, который расшумелся, раскричался во время перемены и вдруг увидел рядом с собой учителя.
Школьник в этом случае немедленно утихает и старается затеряться среди товарищей. А Максимычу среди нас затеряться невозможно, потому он смущенно, громко говорит:
— Здравствуйте!
Здравствуйте! — отвечает наша учительница и протягивает Максимычу свою маленькую руку. — Хорошая это песня, «На муромской дорожке», старинная. Вы знаете ее?
А кто ее не знает? — удивляется Максимыч, оглядываясь на Туманова. — Раньше в деревне как запоют под гармошку, не только девки и парни — ребятишки и те подтягивали.
— Спойте, пожалуйста, — просит Надежда Григорьевна.
Максимыч заметно колеблется. Теперь он и сам не рад, что так неосмотрительно и неловко, с бухты-барахты, себя в песельники произвел. Вот теперь и расхлебывай: и гостью обидеть неудобно, и запеть смелости не наберется.
— Разве все вместе, — нехотя поддается он.
— Давайте вместе, — соглашается Надежда Григорьевна.
Она обнимает меня за шею и подсаживает поближе к себе. С другой стороны к учительнице клонится «королева».
Максимыч Павку избрал себе за опору. Облокотился ему на плечо, раскачивается тихонько.
Туманов от пекька в их сторону, на другой бок переваливается. Костя Беленький с Ленькой Зинцовым устраиваются в серединке.
Когда люди теснее, это все равно что дружнее. Так и песня лучше поется.
И Максимыч робко заводит приглушенным печальным басом:
На муромской дорожке Стояли три сосны…Много поют на деревне песен, старых и новых, грустных и веселых: и лад держат и голоса — хоть со сцены выступай, но такого пестрого и согласного хора с той поры я не слыхивал. Поют парни отдельно, поют девки сами по себе. Соединятся посреди деревни — вместе песню поведут. Старые песельницы на завалинке, заручившись парой седобородых басов, «В саду ягодка-малинка» плавно за волной волну выводят, двумя ручейками о судьбе Ваньки-ключника печалятся. И все взрослые, все ровные — голоса уверенные, устоявшиеся.
В нашем пестром хоре вся песенная речка на мелкие ручейки раздроблена. Бас Максимыча широко и ровно густой гладью стелет, чуть из глубины колышется. По нему Туманов волнистой полосой помягче голос накладывает. Надежда Григорьевна звонкой струйкой в волну вплетается, скользит по ней светлой полоской от берега к берегу. «Королева», подладившись, по той полоске золотыми ниточками плетет. А тут разудалый Ленька Зинцов: вырвется, ни на кого не оглядываясь, никого не спрашивая, словно острым лезвием прорежет бас Максимыча до самой глубины. И летит эта струя, сверкая, дальше, дальше, ускользая незаметно от новой нарастающей волны. Когда Ленькина струйка блекнет — и мне остается местечко прописать искоркой по глухому Костиному голосу. Павки не слышно. Павка только рот открывает, а поет ли — неизвестно.
Слушателей никого. Может быть, потому ладно и песня удается, что никто не слушает, никто не смущает вниманием: поем мы сами для себя, слушаем сами себя и живем этой песней, отдавая ей свой голос и душу.
Хорошая прощальная песня была у нас над Белояром, возле старого замшелого пня и склонившейся над водой ивы с подмытыми корнями. Но лесного инженера навела она на грустные размышления.
— Жалко, что на муромской дорожке три сосны стояли, — все еще под впечатлением песни заметил Василий Петрович, делая особое ударение на последнем слове. — В прошлом времени глагол употреблен: «стояли». — И он оглядывается на Надежду Григорьевну, будто спрашивает, проверяя себя: «Верно ли запомнил я грамматику русского языка?»
Учительница только улыбнулась и промолчала. Перебирает растрепавшиеся волосы «королевы», заплетает их в косу.
И снова говорит лесной инженер, которого так растревожили и взволновали песенные три сосны.
— Стояли, а теперь не стоят. Когда-то там и муромские леса стояли. Знаменитые леса! Помните это? — обращается он к Максимычу и легонько наводит на мотив:
Едут с товарами в путь из Касимова Муромским лесом купцы.— Одно воспоминание осталось от тех лесов. Разве только в песнях и услышишь да в книгах прочитаешь. Не досталось нам этого богатства. Вырубили муромские леса, начисто вырубили. Вокруг всего Мурома хоть шаром покати. Ока — какая красавица, и ту всем ветрам открыли. Голая стоит. Вода туманом, а берега песком дымятся. Постарались купцы: где были хорошие дороги, там все леса повырубили, а новые выращивать нам оставили. Обеднела хорошими лесами наша среднерусская полоса, — с горечью признает Туманов.
— А Ярополческий бор? — вскидывает голову Ленька.
— Ярополческий-то?
В вопросе Зинцова явно слышался молодой азарт. Почему, мол, все муромские да муромские? А наш, Ярополческий, чем хуже?!
Для нас такая горячность друга тем более изумительна Когда в бор шли, так и чувствовалось по всем разговорам и выходкам Леньки, что ему все нипочем и поход для него не больше чем интересное времяпровождение, когда без помехи со стороны взрослых можно делать все по своему желанию.
И вот пробудилась у Леньки какая-то новая, неведомая по крайней мере незаметная до сих пор струнка гордости за свой край.
Глядя на него, и Надежда Григорьевна одобрительно улыбается, и Масимыч веселее поднял голову, встретив в лице Леньки горячего единомышленника. От удовольствия руки потирает — тоже ждет ответа от инженера. Что, мол отмалчиваешься? Отвечай парню.
Василий Петрович теребит сухую былинку. Прищуривая один глаз, думает.
— Ярополческий-то? — повторяет он. Видно, прикидывает, как бы ответить поладнее, чтобы и Леньку равнодушием к Ярополческому бору не обидеть и от правды не отступить.
— Младший брат тому Ярополческий. Тот отшумел свое время. Хотя и сейчас по старой привычке говорят порой: «Как Муром зеленый», а Муром уже давно не зеленый. Далеко отступили от него леса. А наш Ярополческий пошумит еще… Конечно, если беречь его.
И рассказывает Василий Петрович. О простом говорит, а нам удивительное рисуется. В лесу сидим, а пустыню себе представляем. Кругом песок сыпучий. Ветер его по равнине волнами гонит, все на своем пути заметает. Только в одном месте среди песков светлый ручеек пробивается. Вокруг него зеленые пальмы растут, берегут от песчаной пыли, не пускают ее в свой тесный круг.
Так говорит Туманов. И хочется нам, чтобы от тех пальм пошли расти большие зеленые деревья во все стороны. А между ними тропинки песчаные, гладкие. Беги по ним через всю пустыню хоть на край света, к какому-нибудь синему морю.
Когда легко мечтается — хорошо и верится. Даже сомнения нет, что именно так, и только так, должно случиться в той пустыне. И, может быть, мысленно мы уже идем по ней, мечтая о чудесном синем море. Но Василий Петрович рассказ свой кончает печально:
— Вечерней порой пришел к ручейку под пальмами усталый караван. Не подумали люди, что следом за ними пойдут другие и для них будет ручеек в тени отдыхом и спасением от жары и жажды. Напились путники вдоволь холодной воды, с собой в кожаные бурдюки про запас набрали, а деревья на костер порубили. Засыпало тот ручей песком, и следа от него не осталось.
— Будете дальше учиться — в книжках об этом прочитаете, — говорит Василий Петрович.
А Леньке не до книжки. Его зло разбирает, почему люди деревья порубили.
— Бывает так иногда. Печально, но бывает, — объясняет Леньке Туманов. — В пустыне — там каждое деревце на счету, сразу заметно, если уничтожили. А здесь, смотрите: вон кто-то елочку у самого обрыва сломил. Ее никто и не замечает.
Ленька поеживается зябко и молчит: это его вчерашняя работа.
А инженер рассказывает, сколько вот так, безрассудно, в лесу, в городе или в деревне деревьев губят.
— Под вязом или под сосенкой посидеть, в роще грибы и ягоды собирать или липовой аллеей с песнями пройтись мы все любим. Но бывают и такие, что любят из молодой липы свистки делать. На свисток дерево режут, которому бы сто лет расти да красоваться. Другие на палку сосенку попрямее выбирают, сучок полукругом в рукоятку врежут и форсят. Из сосны бы в свое время хорошая мачта на корабле стояла, а человек вырезал палочку для забавы, а через час бросил ее. Много еще и таких любителей. Поменяют вот так двадцать человек свои палочки всего по три раза — j и кто-то дома лишается. Хорошего дома! Понимаете, ведь I шестьдесят палочек — это дом.
Мы вздыхаем сочувственно и переглядываемся при словах Туманова: насчет палочек за нами тоже грешки водились, особенно когда появится в руках отточенный ножичек. Как не попробовать, как не проверить в этом случае — перережет он кустик с одного раза или не перережет? Ни о чем другом мы тогда не задумывались, просто хотелось испы> тать, остер ли ножик. Хвалились перед товарищами, у кого лучше тешет. А теперь и в кармане его приходится в кулак зажимать, чтобы не выдал, а глаза в землю опускать.
Но Василий Петрович ни словом, ни намеком о нас не поминает, будто то, что другие делают по незнанию, к нам, Путешественникам по Ярополческому бору, никакого отношения не имеет. За это мы благодарны ему.
В это время, как сейчас помню, дал я себе в душе чисто-сердечную клятву никогда в жизни не резать, не ломать и не гнуть деревья и кустики, если нет на то настоящей надобности.
Максимыч на слово тоже чувствителен: послушал рассказ о засыпанном ручейке в пустыне и грустно замечает:
— Белояр тоже мелеет. Когда я в ваши годы был, — обращается к нам десятник, — тогда по Белояру и летом катера ходили. Беленький один мне здорово нравился. Пронырливый, легкий, как перышко. Встречь стержня так и режет. Загудит-загудит: «Ждите! Встречайте!» А ночью разноцветными огнями нарядится — так и мелькают между деревьями… Почему, инженер, река мелеет?
— Лес редеет, — отвечает Василий Петрович. — Без защиты и не такие водоемы, как Белояр, песком засыпает и солнцем сушит. Лес и вода — вечные друзья. Где вода, там и зелень.
— Как же лес не рубить? Он для того и растет, чтобы рубили. Вот мы подсаживаем сосны, а потом их тоже пилить будут.
— Обязательно. Сок взяли — значит, и дерево надо на дело пустить, а то на корню посохнет. И человеку пользы не даст, а лесу вред принесет.
— Как же это, Василий Петрович, и беречь надо, и пилить надо? — спрашивает Костя Беленький.
— В том-то и дело: надо так дерево взять, чтобы оно больше пользы давало, тогда и рубить меньше придется. Да расчет держать, чтобы сколько срубил, столько и вновь подрастало на смену. Не изучали, сколько лет нужно, чтобы сосне до полной спелости дойти?
— Не помню, — отвечает Костя.
— А ты так запомни, что сам себе сосну не вырастишь: жизни не хватит. За восемьдесят лет сосна растет и больше сотни прошуметь может. Вот и надо делить бор на такие доли, чтобы каждому году своя норма была да молодняк на смену выходил.
И слышится в словах Туманова тревога за судьбу Ярополческого бора.
— За счет этого бора, — говорит он, — до революции сколько купцов нажилось. В гражданскую войну ему тоже не легко приходилось. А сейчас новое строительство в деревнях и в городах началось. Откуда строительный материал? Тот же лес. Ведь Россия-то до революции на девяносто процентов была деревянная, а в деревне на сто домов и одного каменного не насчитаешь. И сейчас еще, по старой привычке, мы иногда смотрим на лесные массивы как на привычное, даровое, вечно обновляющееся богатство. А приберегать да пополнять его забываем. Сами себя обедняем. Вот какая, Костя, печаль у Ярополческого бора. Есть, конечно, и другие в такой же печали. Лесам средней полосы России особенно трудно досталось. Сократились и поредели они.
— Как же теперь дело поправить? — растерялся наш старший.
— Как-нибудь надо, — улыбнулся Василий Петрович. — Беречь надо сохранившиеся старые леса. И новые садить надо. Вот Максимыч — он бережет, а садить — тут и на вашу долю достанется.
— А Максимыч разве бережет? — усомнился Ленька Зинцов.
— Безусловно. Теперь к тому дело идет, чтобы пилить на разные постройки только те деревья, которые вздымщики хаками пометят. Сначала сок из них возьмут, а потом и в срубы пустят.
— А зачем сок брать?
— Чтобы бесполезно не пропадал. Расскажи-ка им, Максимыч, поподробнее, что теперь еще мы стали от сосны и ели получать.
И Максимыч начинает перечислять, а Костя Беленький записывает.
— И еще запиши, — громыхает вдруг Максимыч. — Так запиши: «Леса и воды — краса природы». Поговорка это. Вот как народ про леса и воды сказал!
Позднее мы эти слова и на обложку первой тетради вынесли, каемками обвели. И живут неразлучно с этой записью и старинная песня о трех соснах на муромской дорожке, и громогласный Максимыч, и опирающийся на замшелый пенек лесной инженер Туманов, и призадумавшаяся у плеча Надежды Григорьевны «королева», и памятное прощанье. Оно и было не в доме Туманова, а там же, над речкой Белояром.
Мы спешили вернуться в сторожку к дедушке. Пришла попрощаться и бабка Васена. Каждого обняла, каждому в карман по вареному яичку положила. Кончиком полушалка глаза утирает. И мы расчувствовались.
Максимыч из-за пазухи широкого пиджака кулек конфет достал, передал нам от имени всей бригады вздымщиков и сборщиков живицы.
— Спасибо ни к чему. Это вы на подсочке сами заработали, — сказал он и крепко нам руки пожал. — Не забывайте. Наведывайтесь. Всегда будем рады.
Василий Петрович вручил нам по грамоте с благодарностью за тушение лесного пожара.
Трудно еще Туманову с земли подниматься. Надежда Григорьевна под руку его поддержала. На замечание Кости Беленького сказала:
— Ничего, поправится. Мы с Ниной пока здесь останемся, присмотрим за ним. Верно, Нина?
И «королева», довольная, утвердительно кивнула головой.
Учительница последней с нами попрощалась. Хорошую книжку с картинками подарила.
— Это, — говорит, — от нас обоих, — и на Василия Петровича взглянула. — На память о лесном походе.
И радостно и грустно стало нам от большого внимания и добрых пожеланий. Идти бы скорее, да из-за «королевы» задерживаемся. Стоит она в сторонке: не смеет ни обнять нас, как бабушка Васена, ни руки пожать, как Максимыч. Чудно она прощалась. И пяти шагов отойти мы не успели — налетела сзади на Леньку, забарабанила кулаками в спину.
— На дорожку дам горошку. — И — была да нет.
От такого прощанья сразу веселее стало. С каждым шагом рассеивается печаль. И хочется скорее к дедушке, к Боре. Как-то они там?
Сорок сосенок
— Ах вы, бездельники! Лодыри вы царя небесного! Что вы, не знаете, что грибы пошли? — такими словами встретил нас дед Савел. — Павел, Квам, беритесь за ножи. Боря, тащи сковородку! — по-молодому бодро покрикивает дедушка, хлопочет, словно клушка возле молодого и беспокойного выводка.
Шипит и потрескивает, расплываясь в сковородке на Угольях, душистое сливочное масло. Пузырятся соком, выпариваются и темнеют, все ниже и плотнее прилегая к сковородке, молодые белые грибы. Павка, не ожидая, когда они поспеют, уже готовит крошево для второй сковородки: ватага собралась большая, у каждого на вкусное блюдо зуб горит.
— Как дела на Белояре? Как Василий Петрович себя чувствует? — интересуется дедушка. — Вставать стал или все еще в постели лежит?
— Провожал нас сегодня. Вместе с Надеждой Григорьевной тебе поклон передать велели.
— Подождите, подождите! О какой это вы Надежде Григорьевне?
— Учительница наша на Белояр приехала. Лекарства Василию Петровичу привезла.
— Так-так-так, — настораживается дедушка, словно стоит у берега с удочкой в руке и у него поклевка началась. — А где же сейчас Надежда Григорьевна?
— Она на поселке осталась.
— Хорошо, хорошо! — весело покашливает и передергивает он плечами. — Значит, и мое письмецо не пропало даром. Ничего, ничего, Надежда Григорьевна: мне, старику, и пожурить не грех. А то, гляди, так и не собралась бы… — разговаривает дедушка, будто наша учительница стоит с ним рядом. — Как, соколики, одни грибы съедим— за другими, что ли, двинемся? Или устали, отдохнуть надо?
Но мы уже не хотим терять даром времени, откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
— Сейчас пойдем!
— Правильно, соколики, дремать некогда. Гриб, он ждать не любит: появился — бери, прошел — гуляй по лесу с пустой корзинкой.
У дедушки к нашему приходу уже все приготовлено. Легонькие белые корзины из чищеных ивовых прутьев стоят рядком вдоль задней стены сторожки. С такими по лесу пройтись одно удовольствие. Шагаем тесной кучкой, ждем команды, когда на поиски грибов можно будет по одиночке рассыпаться.
В сосняке, перемешанном с молодым ельником, куда привел нас дедушка, грибы совсем не нужно было искать: они со всех сторон сами в руки просились, только успевай подрезать да в корзину класть. Один хорош срезал, а рядом стоит тройка и того лучше.
Тут боровики густо обложили широкий пень, там, на по\яне, в реденькой траве, маслята табуном рассыпались.
Наши Ефимьевскую рощу, Перелет или Горожанку с грибными местами в Ярополческом бору и сравнивать нельзя. Там, в маленьких перелесках, пока гриб ищешь, все глаза проглядишь, руками десятки кустов и пней кругом обшаришь. А здесь только успевай ножом работать.
Без ножа к грибу прикасаться у дедушки — ни-ни! Он внимательно наблюдает за порядком, грозится пальцем:
— Грибницу не разрушать. И на будущий год грибы еще нужны будут.
В деревне мы так привыкли: сначала гриб из земли целиком выдернем, а потом ножом корешок подчищать начнем. От земли подрезать несподручно как-то. А потребовал дедушка— приспособились, даже быстрее получается. Шаркнул один раз ножом — гриб чистенький, в корзине ему место.
Только у Павки, если попался боровик с толстой ножкой, почему-то с одного раза не снимается — дважды и трижды прорезать приходится. Присматриваюсь и вижу, а ножик у Павки обломанный. Новенький, блестит острием, а обломанный. Когда только Павка успел его сломать? Интересно мне это выяснить.
Увлекся Дудочкин сбором грибов, на меня и внимания не обращает. А я на него посматриваю, и уже какая-то догадка в уме у меня шевельнулась. Уловил момент, когда положил Павка ножик в корзину, — цап его. Ножик стальной, ручка костяная, коричневая, просвечивает немножко, и сквозь нее желтые блестящие гвоздики пропущены. Кончик у ножа обломанный.
— Павка, где сломал? — спрашиваю я.
Выкатывая глаза, Дудочкин глядит оторопело, не понимая, что мне от него нужно. Потом хватает меня за руку:
— Отдай ножик!
— Не отдам! Скажи, почему он сломанный?
Ленька Зинцов, тот моментально сотню объяснений нашел бы, а Павка ничего не находит.
— Ладно, молчи. Никому не говори!
А мне все равно допытаться хочется, о чем же нужно молчать. Начистоту все выяснить.
И узнаю я, что перехитрил нас, обвел вокруг пальца, как самых недогадливых простаков, наш скромный и степенный Друг. Никогда и не думал он, что сломанный ножик Кости Беленького спаять можно. А был у Павки свой, в точности такой же. Отцы Беленького и Дудочкина вместе их в кооперативе покупали.
— Тогда, у первого болота, — подмигивает мне Павка, — я Косте свой отдал, а его, сломанный, в карман спрятал. Помалкивай, никто не догадался.
Вот, значит, какую тайну от нас Павка хранил! Вот почему ножичек Кости Беленького ему особенно нравится!
— Павка, бери мой. У меня корзина почти полная.
— Ага! — оживленно мотает Дудочкин головой. — На-переменки будем.
Теперь Павкина тайна и моя тайна, которую ни Косте Беленькому, ни Леньке Зинцову не разгадать. Но тебе, дорогой читатель, должно быть, ясен стал Павкин «секрет чудесного исцеления ножичка». Понятно, какую жертву принес Дудочкин под дубком у болота ради сохранения дружбы.
Учила нас Надежда Григорьевна с друзьями всегда правдивыми быть, но, думаю, за кривду у дубка Павку не осудила бы. Мне она и в неправде очень правильной показалась.
До вечера собирали и носили мы грибы к сторожке. Сам домик деда и площадка вокруг него превратились в сплошное сушильное производство. Вокруг костра на поляне, где недавно сидели мы возле сковородки с жареными грибами, выросла наскоро сложенная печка в один кирпич. На нитках, протянутых от сторожки до шалаша, тоже сушились грибы. Ими была загружена и печка в сторожке. Длинными гирляндами грибы свешивались на нитках из чердачного маленького окошка.
— Теперь нанизывайте на палочки! — командовал дедушка. — Только не на сосновые. От сосны горечью отдает. Вот на такие нанизывайте.
И положил перед нами пучок тонких березовых лучинок.
— Одним концом лучинки сюда втыкайте, — пододвигал он наполненную сухим желтым песком жестяную жаровню.
Мы втыкали лучинки с нанизанными на них грибами, и в жаровне вырастал грибной лес из полсотни и больше лучинок. Эти жаровни мы помогали дедушке завозить в печку на смену высушенным грибам.
— Надо, чтобы ни один гриб не подгорел, чтобы вода выпарилась, а сок сохранился. В этом вкус гриба, — учил дед Савел.
Так узнали мы дедушкин способ сушки грибов. То-то удивятся дома, когда я подскажу матери, которая раскладывает грибы на жаровню: «А их не так надо сушить». И, насыпав песку, стану устанавливать в жаровне березовые лучинки с нанизанными на них грибами: «Вот как надо по-настоящему грибы сушить!»
Утром следующего дня мы снова взялись за корзины, подались вслед за дедом в другую сторону. Незаметно дошли до поруби, где Фома Онучин семянку срезал. Сбегали посмотреть на то место.
По широкому пню крупными каплями густо проступали желтые, прозрачные и клейкие капельки. И так пустынно и голо было вокруг одинокого пня, что даже печально стало.
Вспомнили мы песню «На муромской дорожке», вспомнили недавний рассказ Василия Петровича о бедах Яропол-ческого бора, и так захотелось хоть чем-нибудь порадовать этот бор.
— Дедушка, а если сейчас молодые сосенки возле семянки посадить — не погибнут они?
— Весной и осенью деревья сажают, соколики, когда сок в них без движения. Тогда и повредишь немножко — не беда.
— А если аккуратно, чтобы совсем не повредить?
— Корни у них длинные, шире веточек разрастаются.
— А если выкопать их шире веточек? С землей перенести?
— С землей — беды не будет. Со своей землей неповрежденный кустик и летом на новом месте приживается.
Ждать нам некогда. А желание оставить о себе в бору хоть маленькую память — очень большое. Если сегодня не заняться посадкой, завтра уже будет некогда.
— Вечерком, на заходе солнца, — говорит нам дедушка, — когда попрохладнее станет.
И вернулись мы к вечеру на многопамятное место, к спиленной семянке, с лопатами, ведрами, носилками.
Дедушка показывает, какие сосенки среди молодой поросли можно брать, на новое место их переселять, а мы лопатами работаем.
И малюсенькую сосенку не легко выкопать, чтобы корней не затронуть. Она всего-то с лисий хвост над землей распушилась, а за почву крепко взялась.
На четырех лопатах вместе с землей поднимаем мы зеленые хвостики на носилки, вчетвером опускаем в ямы, заготовленные возле загубленной семянки. На каждую сосенку льем ведро воды, бегая за ней к лесному ручью. Чтобы в первые дни солнышко не опалило, осыпаем пушистые ветки свежей травой.
— А там трава высохнет, сама от ветерка по сторонам разлетится, — успокаивает дедушка нашу тревогу, что под травой сосенкам будет неудобно.
За вечер сорок сосенок мы перенесли и посадили. И дедушка доволен, что останется в этих деревьях долгая память о нашем лесном походе.
Он стирает клейкие капельки с широкого пня, застилает его поверху подсохшими моховыми купырями и задумчиво говорит:
— Когда приду, хорошо здесь посидеть будет. Погляжу на сосенки — будто снова со всеми с вами повстречаюсь.
Старикова яблоня
Пожелал дедушка на прощанье показать нам еще одно местечко.
Пошли мы за лесником ниже по ручью, из которого воду брали. И привел нас дед Савел к яблоне. Стоит она на небольшой круговине одинокая. По сторонам сумрачные ели вперемежку с соснами кверху тянутся, и в окружении боровых игольчатых деревьев — густая, кудрявая яблоня. Яблоки на ней уже румянцем занимаются. И не маленькие да горькие, как бывают обычно на диких яблонях, а крупные, на вкус сладкие, с кислинкой.
Под яблоней про ту же яблоню и последняя сказка была. Удивились мы, откуда такая яблоня в лесу могла появиться.
— Человек вырастил. Трудолюбивый и добрый человек, — сказал негромко дедушка.
И подумалось нам, что старый лесник знает того человека.
— Только по тому, что оставил он после себя, знаю. Человеческий срок известен, а после люди по делам о нем вспоминают.
От деда Савела и мы узнали историю яблони. Тихо и неторопливо он рассказывал:
— Жил в нашем лесу древний старик. Заботливый трудолюбивый был человек. И надумал он посадить в лес) садовую яблоню, чтобы память о себе детям и внукам оста вить. Взял он лопату и принялся за дело.
В это время проезжал мимо царь со свитой.
— Зачем, — говорит, — старик, сажаешь ты яблоню? Все равно тебе не придется яблок с нее попробовать. Поднял старик голову и отвечает царю:
— Кто сладкого одному себе желает, о том горько вспоминается. Не нами жизнь кончается. Не хочется уходить с земли, добра по себе не оставив. Посажу я кустик, вырастет из него яблоня. Будут мои дети и внуки яблоки собирать — и меня вспомянут.
— Когда на ней яблоки будут? — спрашивает царь.
— Кто делом занят, не заметит, как вырастут. «Скоро, значит», — подумал царь.
Жадный он был и завистливый. Решил присвоить старикову яблоню.
— Моя будет, — сказал он. И уехал. Вернулся царь через год, а яблок на деревце нет.
На следующий год снова приехал. А яблонька бурьяном зарастает.
На третий год за бурьяном ее и совсем не видно стало. Яблок и в помине нет.
— И не будет, видно, — решил царь. И оставил деревце.
Уехал он, про яблоньку и думать забыл. А старик перекопал, разрыхлил землю — зацвела по весне молодая яблонька розовым цветом. К осени плоды принесла крупные да сочные.
…Давно умер старик, а память о нем и поныне в яблоньке живет. Хорошая, добрая память…
Возвращались мы к сторожке молчаливые. Думал я о добром трудолюбивом старике, и представлялся он мне старым лесником — седобородым дедом Савелом.
Отзвуки уходящего бора
Заботливая хозяйка не просыпается раньше, чем мы поднялись в это утро.
Дедушка еще не показывался на крыльце сторожки, а шалаш уже загомонил негромко. Откинут брезентовый плащ над входом.
Первая мысль о сосенках: «Как-то они себя чувствуют?
Осторожно, чтобы не оступиться и не стукнуть невзначай, не звякнуть перевяслом (пусть дедушка думает, что мы спим), выносим из чулана порожние ведра.
Боря Королев бежит к себе в сторожку, чтобы ко времени успеть подогнать повозку. Мы спешим к месту, где вчера посадили сосенки. Нам уже нет нужды выверять свой путь просеками: направление известное. Сокращая расстояние, идем по прямой.
Лес шевельнулся, свежо прошелестел вершинами, будто признал нас и, как старых знакомых, приветствует с добрым утром. И «здравствуй» и «прощай» без слов отвечаем мы ему.
Рассаженные на поруби сосенки сегодня кажутся нам еще меньше, чем были вчера. Трава на ветках за ночь повяла, поблекла, но пушистые метелки сосенок проглядывают из нее такие же сочные, зеленые, с легким налетом голубизны. Какие же они хорошие!
Поливаем с вершины, чтобы влага освежила веточки, а потом дошла и до корней.
«Кто-то о вас завтра утром позаботится?» — думаю я.
На обратном пути прошли мимо сторожевого гнезда, сняли веревку, по которой на вершину сосны поднимались. Помечтали о том, что, если снова доведется побывать на сторожке у деда, обязательно устроим все лучше, чем сделали в этот раз, и Павка непрерменно железную втулку на подъемнике устроит.
Ленька Зинцов поднял и положил в карман две еловые шишки, которыми так недавно палила в нас из сторожевого гнезда «королева». И недавно и уже давно будто. И жалко, что не повторится больше такое «сражение».
Солнышко, выравниваясь с бором, лучит тепло. Дед Савел на крылечке перенизывает сушеные грибы с палочек на нитки.
— Что это вы сегодня так рано потревожились?
— Спать не хочется.
Возле шалаша неторопливо раскладываем по сумкам свои пожитки, освобождаем уютный домик под елью. Ленька задумчиво глядит за озеро, где темным пятном обозначилось место пожарища. Павка Дудочкин снимает дедушкин плащ у входа в шалаш, аккуратно складывает его, перегибая несколько раз, и так же неторопливо несет в дедушкину сторожку. Костя Беленький, сняв сосновый заслон с елового дупла, выбирает из него тетради.
Наше обжитое лесное жилище приобретает вид осиротелого дома.
— Приберем немножко, приведем в порядок, — предлагает Ленька. — Может быть, кому-нибудь еще и пригодится.
И мы заботливо, старательнее, чем в первый раз постель готовили, перетряхиваем и разравниваем сено, представляя себе, как зайдет сюда и отдохнет с дороги усталый путник или дедушка заглянет, присядет на краешек бывшей нашей постели и пожалеет, что некому рассказать сказку.
В лесу громыхает повозка. Оживляемся: Боря едет.
— Подкатывай к парадному! — указывает дедушка место остановки. — А ну-ка, соколики, кто из вас силой храбрился? Выходи на погрузку!
Он раскрывает низенькую дверцу под сторожкой и пропускает нас. Мы таскаем и укладываем на телегу большие корзины-долгуши со свежими грибами. Позади них дедушка прикладывает сушеные — в сумочках и мешочках. Тут же находят место две лубяные корзины: одна — с черникой, другая — с земляникой. Прямо в садке, только что вытянутом из озера, старый лесник тащит рыбу. Прыгают, хлобыщут хвостами по ивовому переплету сердитые щуки, трепещутся разъершившиеся окуни.
Открывая крышку, дед бросает в садок траву и крапиву.
— С зеленью рыба свежее будет, дольше проживет.
Воз набрался богатый. О такой поклаже мы даже и думать не думали. К нашим грибам и рыбе дед Савел свою большую добавку сделал. И когда только он успел ягодами и рыбой заняться?
«Теперь, — думаем мы, — без стеснения можно и второй раз в Ярополческий бор у родных попроситься. Не даром время потеряно, не с пустыми руками возвращаемся».
А Боря прилаживает на верхней корзине с грибами чучело тетерева — чудесного лирохвостого косача с огненными бровями.
— Это я для вашей школы приготовил. Сам набил. Такого удивительного подарка мы совсем не ожидали.
Растерялись, смотрим сочувственно на нашего лесного друга. «Жалко ведь, наверно?»
— Я себе другого сделаю, — угадывая наши мысли, отвечает он на немой вопрос. И такая досада, такая досада, что нечем нам отблагодарить Борю!
Прежде чем тронуться от сторожки, идем на берег озера. По очереди пьем из Бориного берестяного стаканчика озерную лесную воду и кладем его на виду, чтобы каждый путник, проходя берегом, мог напиться из берестяного стаканчика зовущей к себе лесной воды.
И пора, пора оставлять этот уголок, в котором все стало таким родным и близким, где проведено столько хороших, незабываемых дней.
Боря берется за вожжи и понукает Гнедка, а я вспоминаю тех, кого уже нет рядом с нами. Придется ли снова встретиться с добродушным богатырем Максимычем? Удастся ли послушать рассказы Туманова на берегу Белояра? Пойдем ли когда-нибудь вместе с «королевой» собирать травы для бабушки Васены? Что-то делает сейчас и когда вернется в Зеленый Дол Надежда Григорьевна?
Тогда мы не знали, что на берегу Белояра расставались со своей учительницей навсегда. Надежда Григорьевна не вернулась из Ярополческого бора. Вместо Зеленодольской стала она учительницей Белоярской школы, а Боря и Нина Королевы — ее учениками. И вместо Морозовой стала Надежда Григорьевна Тумановой.
Эту перемену предвидел заранее только дедушка Савел, но и он промолчал в тот день, провожая нас до опушки бора.
Вижу, как он шагает вместе с нами следом за повозкой, простоволосый, в новых лаптях, в полотняной рубашке, подпоясанной узкой тесемкой, и все наказывает, кому в деревне передать приветы и поклоны.
Дедушка говорит спокойно и тихо, и все кладет руку на голову то одному из нас, то другому. В задумчивом голосе, в выцветших серых глазах под насупленными бровями — затаенная грусть. И я шепчу Боре, чтобы он с сестренкой не забывал навещать дедушку.
Перед поляной, за которой уже виднелась деревня Кокушкино, дед нахмурился, будто забыл что-то важное и никак не может припомнить.
А Гнедко идет себе, не зная горя: что ему до нашего расставанья с дедом.
— Да!.. Запамятовал, — приостанавливается дедушка. — Грузди пойдут — обязательно собирайтесь. Ждать буду. Местечко подберу — залюбуетесь, — пытается весело улыбнуться дедушка и кладет руку на мое плечо, будто хочет еще немножко задержать шаг, отсрочить печальную минуту.
И я чувствую, как рука старого лесника слабо дрожит на моем плече.
— Прибежишь, Квам?
Мне хочется сказать, что обязательно прибегу, и чувствую, что голос пропал. Если попробую ответить, вместо слов вырвется жалкий писк.
Растерянно смотрю в глаза деду и ничего не могу ответить. Много раз встряхиваю головой в подтверждение того, что прибегу.
— А ты как, Павел?
У Павки еще хватает духу выговорить:
— Обязательно.
Так и остался в моей памяти дед Савел: стоит посреди дороги на краю поляны, машет нам рукой, чтобы шли, не останавливались. Нелегко, видно, и деду с нами разговаривать, неудобно перед маленькими свою страческую слабость показать.
А мы, без конца оглядываясь и вновь нагоняя повозку, уходим все дальше и дальше.
В узкой лесной прорубке видим перешедших на обследование новых мест визировщиков. Поймав солнечный луч, ослепительно поблескивает глазок нивелира.
— Смотрите, тетерев с повозки улетит! — кричит Дмитрий Слепов, приподнимая край накомарника. И снова нацеливает зонд, чтобы заглянуть в землю «на три сажени в глубину». Он все тот же белоголовый, как и в Ленькиной страшной повести в пяти частях, только не древний хранитель старых кладов, а молодой искатель еще не открытых богатств. Вместе с новыми людьми неведомых раньше профессий входит В Ярополческий бор новая, еще не написанная сказка.
Поля будто шире, рощи зеленее, озера светлее, луга красивее и приветливее раскрываются, когда узнал и увидел в них что-то новое. И так рады мы, что живем в этом краю, и хочется сделать для него что-нибудь хорошее, чтобы и про нас сложили люди сказку.
---
На этом и заканчиваются записи «охотников за сказками», пробудившие память далекого детства.
Солнечные терема
Терема за туманами
Мое лесное жилище не похоже на деревенский дом. Вместо струганого гладкого потолка поставлены коньком над головой расколотые надвое сосновые плахи, вместо дощатых ступенек на высокое крыльцо — земляная ступенька вниз. Шагнул с нее — такой же земляной пол, присыпанный желтым песочком.
Забралась наша земляная хата в самую глубину бора. Нет в тот край ни проезжих дорог, ни хожалых тропинок, нет белесых топорных залычин по красным сосновым стволам. И там, где следом за дедушкой Дружковым неторопливо и осторожно прошли мы вчера на закате, снова выпрямились на следу кудрявые мхи, непримятыми бугорками вздулись губчатые седые лишайники, потревоженными на гнезде наседками растопырились остроиглые ели.
Усталому в сумерках некогда было по сторонам озираться, не терпелось поскорее тяжелую ношу с плеч стряхнуть. Много верст прошел, а увидел мало. В темноте заброшенное лесное убежище для первого ночлега в порядок приводили, лежачие места под бревенчатым коньком на семерых делили. Утром — еще рассвет не промигался — новая забота подоспела: каждому из семерых отрезал я по ломтю соленой свинины, круглый каравай хлеба на толстые куски распахал. В малом котле наскоро морковный чай вскипятил, черничных листьев для запаха в него подбросил, в семь кружек по большому куску сахару положил. Поэтому и зовут меня все, кроме Леньки Зинцова, «кормилец наш». Ленька над такими словами только хмыкает в нос, а вслух засмеяться не решается. Пусть себе, а тряпичка с сахаром все равно у меня бережется.
Порученное дело я сам без посторонней помощи выполняю, но что и как сделать нужно — тут дедушка Никифор мне науку преподает. По его совету все припасы у меня в порядок приведены. Присоленная баранина в студеный тайничок упрятана, тяжелыми поленьями приложена. Горох в пудовичке и картошка россыпью под жердяными нарами в землянке уложены, печеный хлеб, чтобы плесенью не тронуло, на чистый воздух вынесен, в широких мешках к еловым веткам подвязан. После ухода лесорубов на делянку одна главная забота мне осталась: к старому ведерному котлу проволочную рукоятку прикрепить, а там и гороховую кашу можно заваривать.
Любят пильщики в лесу гороховую кашу с постным маслом, ни на какую другую не променяют! А старый котел я с песочком прочистил, отобранный горох в трех водах промыл, в четвертую варить засыпал. Хочется в ответ на Ленькины усмешки такой обед состряпать, чтобы пильщики только похваливали.
С интересом за работу принялся. Не тороплюсь, не суматошусь попусту, подлаживаюсь из каждой минуты на час вперед глядеть, как дедушка подсказывал. Из сырой ольхи надежные сошки вытесал, гладкий шестик на перекладину приготовил, сухого хвороста про запас натаскал. А спички у кашевара всегда в кармане. От маленькой бересточки хороший костер запалил. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Остается время и по сторонам осмотреться. Вечером не довелось, так утром самая пора с новыми местами ознакомиться, прикинуть на глаз, в какую нетронутую глушь мы забрели. Кто знает, сколько еще дней, а может, и недель здесь прожить придется?
Кашеваром быть — не праздно по лесу ходить: тут дело заботы требует. Вспоминаю недавний наш мальчишеский поход в бор за сказками, улыбаюсь снисходительно: «Эх, деточки-малолеточки!» Перебираю в памяти дорожные события и лесные происшествия: «Еще бы разок со старыми друзьями в тот край пуститься!»
И с новыми местами знакомство завести не терпится. «Откуда эта островерхая башенка явилась?»
Легко, словно меня ветром поднимает, взбегаю на песчаный островерхий бугорок. Кругом высоченные сосны шершавыми столбами понаставлены, на макушке зеленые султаны под белым облаком качаются. Где-то хворост под неслышными шагами потрескивает. Жутковато одинокому в лесу, да не в первой. И хорошо тоже, что никто не мешает каждый шорох слышать.
Смотрю с бугорка на пройденные вчера трудные версты, в просветы между деревьями разглядываю окружные чащобы. Известен мне Ярополческий бор, да места вокруг землянки незнакомые. Где вчера по редколесью обозначали мы тропу, там стеной заслонили солнце деревья. Молчат недружелюбно, оберегая зеленую глубину. Только и видно с бугорка: качаются внизу, подо мной, густые заросли обмякшего под осень папоротника, шуршат пыльными метелками пожухлые лесные травы. Сумеречно мелькают загадочные тени. Тоскливо, неприветливо…
А мне вспоминаются жемчужные россыпи Гулливой поляны, куда ходили мы, зеленодольские охотники за сказками, в неприглядно-темную ночь, направляя шаг за старым лесником, дедом Савелом, держась за его брезентовый пиджак. Словно живая встает перед глазами цветочная девушка Зорянка из волшебной сказки, что рассказывала нам белоярская бабушка Васена в своей двухоконной избушке на курьих ножках. Видится и затерявшееся в боровой глуши таинственное Илино озеро в цветисто-травяных берегах, и могучий над озером вяз, и воздушный Илин шарф, распластавшийся по вечернему звездному небу извилистой светлой дорожкой. Оживили воображение удивительные волшебные картины, затаенной сказкой отозвался на них и песчаный лесной бугорок. То ли набежавший ветер прошумел вдруг по высоким вершинам? То ли принялись деревья друг с другом перешептываться? Только послышались мне в гудении бора предупреждающие слова: «Зачем пришел?» Тростник над ближним озером зашелестел и повторил: «Зачем пришел?» Песок с бугорка шипучими струйками начал осыпаться, зашептал по склону: «Зачем пришел?»
Что-то опасливое, настороженное угадывалось в этом многократно повторенном вопросе. И в укромном зеленом уголке, облюбованном под стоянку дедушкой Дружковым. стало вдруг зябко пришельцу от холодного лесного недружелюбия.
Большая черная нора, будто сейчас лишь на свет появившись, смотрит на меня из глубины невидящими глазами. Упавшая в озеро старая сосна раскачивается на воде с глуховатым плеском, будто кто-то шевелит ее, забравшись втихомолку под корявые сухие ветви, поднимает и опускает беспрестанно. Кучка осыпавшейся хвои качнулась вдруг, растекается по сторонам ползучими рыжими искорками. Кто-то беспрестанно перебегает с места на место за моей спиной, дышит тяжело и сипло. Загадочные перестуки раздаются негромко тут и там. Всеми страхами боровая глушь любопытного гостя отпугивает.
Еще долго бы настораживался, прислушивался я к таинственным перестукам и шорохам, приглядывался к стволистой пасмурной чаще, тревожа разыгравшееся воображение необычными картинами, но тут пролетел над бугорком воробей. Испугался шевельнувшегося человека, чирикнул звонко — и на сосну. Испугались воробьиного голоса — разбежались тревоги и страхи. И сам я под воробьиное чириканье веселее по сторонам смотрю, бодрее себя чувствую. Все не один на глухом безлюдье, а будто бы двое нас.
Где-то рухнуло тяжелое дерево, всколыхнув дремотную тишину. Где-то, слышу, заговорила малиновка. А тут, осилив надвинувшийся сумрак, проглянуло солнце сквозь облако. Под его лучами и хмурый лес по-новому раскрылся, и озеро засветилось приветливей. Наша низенькая землянка будто золотым песком по коньку осыпана. Дымком от костра приятно попахивает.
И рождается в звенящей тишине бора, звучит в просветлевшем воздухе задумчивой тихой мелодией какая-то удивительная, близко памятная и неуловимая серебряная строка. Где-то раньше слышал я эти стройные звуки в мечтательный тихий час; увлекательные, воздушной чистоты и сказочной красоты слова сами в песню складывались. И блестела в них разноцветными переливами утренняя роса, обогретая ранним солнцем.
Хорошо всегда иметь у себя про запас мечтательное, во-рожейное слово. С ним и в дружной компании веселее, и в одиночестве легче скуку рассеивать. С голубой мечтой и видится кругом светлее, и дышится привольнее.
Замечаю, как унылый лесной уголок на моих глазах оживает. Пониклые папоротники распрямляют зубчатые листья, на бронзовых соснах проступают пахучие капли золотой смолы, разноцветными искрами вспыхивает зеленая хвоя. И сами собой вдруг приходят из неизвестности затерянные слова.
«На тычинке на каждой — жемчужинка».
И знакомо, и будто ново. Лишь сейчас спохватился, что много раз, незаметно для себя и бессознательно, повторяю я эту строку. Следом за ней легко и плавно нижутся другие, такие же заманчиво-сказочные, по-солнечному нарядные, по-печальному певучие.
«Говорят, в старину люди добрые Знали путь к теремам солнца красного, Да забыт теперь заговор солнечный — Залегла та дорога туманами, Заросла вся колючим репейником: Не пройти, не проехать и конному».И верится: коль такие строчки заговорили — значит, красной стороной оборачивается ко мне неприветливая глушь. И взрослому тоскливо в одиночестве время коротать, а малолетнему кашевару без мечты или без друга и минуты пробыть нельзя. Потому и красивая неправда про тычинки с жемчужинками, про солнечные терема — за счастливый вымысел безмерно дорога. Впереди еще длинный день, и делами, и бездельем наполненный.
Весело перед темной землянкой золотой костер разводить, да невесело в большом котле крутую кашу варить. Лишь поглядывай да помешивай — никакой другой заботы нет. Надоедает и острые палочки тесать, и сосновые шишки по сторонам бросать. Вот и перебираю по порядку сорок раз певучие строчки с жемчужинками, рисую в воображении неприступные солнечные терема за туманами. И сдается мне, что тот человек, который стихи написал, может, сам в теремах побывал. Одному удалось — и другим, значит, можно до них добраться.
Одно досадно: наши деды заветную дорогу знали, а нам, внукам своим, секретного заговора не сказали. Хотя бы одно словцо шепнули, по которому в солнечные дома расписные ворота сами собой открываются. Приходи туда вместе с товарищами, гуляй сколько душе желается!
Придумываю: «В какой стороне искать, по каким приметам его угадать — позабытый сказочный путь?» Не от деревни же, наверно, начинается, где каждому пешеходу любая тропинка известна? Скорее, из этого бездорожного, глухого леса свое начало берет.
Переставляю ноги на самую остринку холма: вытягиваюсь на носках кверху, сколько могу — приглядываюсь, прислушиваюсь. В густой зелени — по голосу узнаю — кривоносая пищуха пищит, птицы корольки оживленный разговор ведут, словно в маленькие колокольчики тонко звякают.
Проредил сентябрь говорливое птичье царство, но маленького королька близкими холодами не испугал. Нежным голосом отвечает ему длиннохвостая пеночка, перебравшаяся из деревни на зимнюю лесную квартиру. Черная глухарка, тяжело хлопая широкими крыльями, взлетает из-под куста можжевельника. Домовитый поползень, прицепившись к сосне, молча и деловито осматривается по сторонам. Он не увлекается певчими делами, а увлекается жуками, червями, хитро затаившимися в древесной коре. Потащил себя цепкими лапами вверх по стволу — оглянулся, вниз головой перевернулся — самому дятлу по акробатике два очка вперед задает.
Славные бывают в осеннем лесу оперы и арии! И цирковые представления славные! И в будничные дни, и по праздникам вход на концерты бесплатный.
А бугорок, необычный на ровном месте, новые дали открывать мне помогает. Шевельнулся влево — вот она! — и загадочная дорога обозначилась. В противоположную от солнца сторону пролегает между сосен затемненный, подернутый расплывчатым туманом след, петляет среди бора крутыми извилинами. Глаза прогляди — конца ему не увидишь. Кто же, недогадливый, не признает сразу ту дорогу, что густыми туманами залегла, вся колючим репейником заросла! То-то Ленька моему открытию позавидует!
Довольный первым успехом, проворно сбегаю с песчаного бугорка. Дорога — дорогой, а дело — делом. Пильщики с работы вернутся — каши запросят.
И снова только удивляться приходится. «Кто был? Зачем приходил?» Новенькая пятипалая мутовка сброшена с пенька на землю, рассыпчатой золой и налипшими иглами обросла. Костер под чугунным котлом с неуварившейся кашей догорел и погас, подернувшись серым пеплом.
Мутовку я старательно вытираю холщовой тряпицей. Из пепла выдуваю пламя, ловлю его на скрученную в трубочку бересту.
Солнце еще высоко над землей стоит: лесорубы с делянки не скоро вернутся. До их прихода три костра можно пропалить, три обеда сготовить. Будет пильщикам гороховая каша с пылу, с жару. Будет чем по секрету и с другом Поделиться. Расскажу я Леньке про солнечные терема, про туманную дорогу, которую в лесу разглядел, а там сам пусть решает, как знает.
Что ни говори, а пошел я в лес не за жирной похлебкой с бараниной, которой прельщали меня бывалые пильщики, не за гороховой сытной кашей, густо политой постным маслом. Конечно, баранина — она силу дает, и гороховая каша полезная. Дедушка Дружков разговор о них поведет — пальчики оближешь. Только я, когда на лесные хлеба собирался, больше всего о нехоженых местах, о невиданных птицах, о неслышанных сказках думал. В дни моего детства и юности привольнее всего жилось волшебным сказкам в глухом бору, с лесорубами, у жаркого костра под суковатой сосной или в сумерках низенькой землянки. Они и поманили. Привели любопытного на берег Лосьего озера.
Знаете ли вы, какие окуни в Лосьем озере водятся? Видели ли хоть раз плавучие острова на крутых волнах? Слышали ли когда-нибудь певучую Балайкину скрипку?
И сторожиху на Лосьем — бабку Ненилу, и Васька Козонка, и сосновую скамейку у серой березы позабыть нельзя. И новые кожаные голицы, и дверь в подземелье, окованная тяжелым железом, и делянка, где первую в своей жизни березу с корня свалил, — все припоминается…
Расскажу по порядку.
Бабье лето
Бывают в деревне такие осени, когда вслед за августом вместо серенькой тоскливой хмури установится вдруг прочно и надолго золотая погода. Дымком пылится укатанный проселок под колесами сноповой телеги, липнут на лицо, на коня, на высокие била тонкие летучие паутинки. Придорожные ветлы по лугам словно сахарной кисеей окутаны. Синее небо просветлело, вылиняло до белизны, будто его много раз в большом чугуне прощелочили, с ядровым мылом усердно простирали. Умиротворенное солнце дышит ровным теплом на землю, мягко плавит рассыпчатые барашки облаков. Густолистые рощи, путая календарь, встречают осень в зеленом наряде. И называют тогда ведренные недели сентября в дополнение к августу бабьим летом.
Для уборки и обмолота хлебов лучшего времени и желать не следует, зато свежим посевам озимых затяжное бездождье бедой грозит. Лежит сухое зерно в затверделой земле. Нет ему влаги, чтобы живительных сил набраться, тонкой стрелкой на свет пробиться. А колхоз в деревне еще не организован, а пахотной земли в каждом хозяйстве — кот наплакал.
Тут и начинают старшие на семейном совете и на деревенском сходе судить да рядить, какой недоброй стороной к хлебосеям может будущий год обернуться. Примеривают, прикидывают, где бы на стороне подходящее дело отыскать, по одному, по два человека из семьи на подсобные заработки отрядить. В нашем малоземельном заречном краю даже в хорошее, урожайное слетье про такую статью дохода не забывают, а если неурожай грозит, тогда, само собой разумеется, без заработка на стороне никак не обойтись.
А рожь уже обмолочена. И мне довелось ореховым цепом с дубовым гуськом по ней стучать: сначала по собственному желанию взялся, а когда надоело — по отцовскому приказанию добавить пришлось. «Поучился, наловчился, — сказал он, — теперь по-настоящему в хомут впрягайся».
Сотню снопов, чтобы солому не помять, пришлось колосьями через жердь хлыстать. Уложил ее концами на двое козел — обеими руками с полного замаха давай зерно выбивать. Широко оно по гладкому току разлетается, и по голым ногам изрядно хлещет. Принесу охлыстанную вязанку домой — выберет из нее мать самый лучший сноп, положит, не снимая перевясла, возле низенького крыльца, чтобы в грязных лаптях и навозных сапогах мимо него в избу не проходили, на соломе грязь очищали. Другую, такую же прямую, будет она до нового урожая приберегать, перед воскресными днями, перед сельскими праздниками крыльцо застилать. Золотым-полевым станет наше обветшалое крыльцо перед тем, как по нему желанным друзьям и званым гостям проходить.
Затаив давнишнее желание, уже мечтал я про себя о том близком дне, когда овес и пшеницу начнем молотить. Тут всей моей работы — беззаботно побегивай, да погромче посвистывай, да тяжелые снопы с высокого скирда на расчищенный ток веселее побрасывай. Такое занятие и мальцу не в тягость, а больше того в удовольствие. Главное же торжество — каждый день, пусть и на короткий час, будут в полном моем распоряжении четыре лошади, и среди них серый, в темных яблоках, конь. Не дают мне покоя эти яблоки! Бодрый зеленодольского мельника — Николая Кускова всем деревенским лошадям — лошадь! И ростом взяла, и шерсть гладкая, и шея крутым коромыслом выгибается, и густая грива-развал. А ногами так уносиста, что быстрей по всему заречью поискать!
Бодрый шагом пойдет — за ним надо труском поспевать, на рыси начнет копытами выщелкивать — тут и совсем не угнаться. На такого коня издали поглядеть — и то на месте не усидеть: все подойти да потрогать хочется.
Много мальчишек на Бодрого с завидкой поглядывает! Но одному Леньке Зинцову удалось пастуха уговорить, верхом на Бодром минутку посидеть. А мне, как видится, в эту осень и пролететь с ветерком на мельницком коне не раз доведется. Только бы поскорей овсяные рыхлые круги на току наводили!
…Теперь хлеб молотить — это в зубастый барабан снопы задавать, или намолоченное зерно в сторону граблями отгружать, или солому от молотилки убирать, или с высоты комбайна, что пшеничным полем катится, голосисто покрикивать: «Хорошо вымолачивает!»
В то время, о котором я речь веду, появись неожиданно в нашей деревне комбайн — от него не только лошади, но и бывалые землеробы, привыкшие к зубреному серпу да к ореховому цепу, и те бы на версту в сторону шарахались. Первый избач тогда еще первый радиорепродуктор в избе-читальне на стенку приколачивал, а первый будущий комбайнер с клещами и напильником в кармане к богачу Тельнову босиком ходил, единственную на всю стодомовую деревню зингерскую швейную машину ремонтировал.
Заглядываю издалека чуткой памятью в незабываемое бабье лето. Там желание мое неотступно возле серого, в темных яблоках, Мельницкого коня кружится.
Начнется молотьба яровых — буду я по утрам на плече четыре оброти носить, в табуне над озером Великим четырех лошадей ловить. Хоть семеро тогда отговаривай, все равно до деревни на Бодром верхом поеду, трех других лошадей за собой в поводу пущу: рыжую Стрелку Сергея Зу-банова, чалого Копчика Петра Афонина да нашего гнедого Мальчика. При случае подшучивают веселые мужики над старым, безгодовым конем, у которого и сбереглась одна только кличка от той поры, когда в табуне игривым стриганком побегивал. «Вашему Мальчику в обед сто лет исполнится, пора его Дедушкой величать».
Я соседские шутки слушаю, а сам давным-давно желанного часа жду.
Любо утром по мягкой тропинке шагать, ногами по следу росу сбивать. А еще того веселее — обратно верхом на красивом коне возвращаться. Он под тобой и головой сердито мотает, и ушами в разные стороны стреляет, и с мягкой холки, игриво вскидываясь, стряхнуть норовит. Как тут можно от соблазна удержаться, не вытянуть из-за пазухи ременную витую плеть, заранее тишком от отца приготовленную!
И такое утро улыбнулось заждавшемуся юнцу. Единственное из всех желанных, а все-таки оно было. Пастух сам помогал обработать гривача. «Поезжай на все четыре стороны».
Ногу в повод, рукой за гриву — и покачиваюсь, умостившись верхом на шажистом коне. Три понурые лошади позади плетутся, не дают налегке раскататься босоногому верховому. А Бодрого на резвость испытать — с ним с одним только в пору управиться.
Завязываю тугим узелком три повода, оставляю ленивых траву щипать. Огрел яблочного ременной плетью по крутому боку — на полный скок пустил. «Лети — звени!»
Глухая земля зыбко вздрагивает, пролетают стога, мелькают кусты, накрытые копытами, гуляет под рубашкой зябкий ветер. «Еще наддай!» Благо в раннюю пору никто не видит, а увидит — тоже не осудит: и старики молодыми были, тоже за лошадьми в табун ходили — понимают, какими мечтами внуки живы. За Мельникова коня и подавно осуду нет. Богатый мужик нового купит.
«А ну, гривастый, вихорем пластайся!»
По второму кругу начал скачку, привстав на коленки, по третьему — на конской холке стоя, джигитовку опробовал. Много мы в то утро канав одолели, много бурьяна потоптали, и жару немало пустил через ноздри крутыми витками быстроногий Бодрый. Не беда, до деревни отдышаться успеет.
Оставленная тройка дожидается меня у тропинки, мирно хрупает скупую отаву. Пустив на поводу серого, пересаживаюсь на гнедого Мальчика. Хотя и безгодовый конь, а все своя лошадь. Именно на ней, всегда и неизменно на своей, как издавна в деревне повелось, полагается верхом сидеть, а соседских в поводу пускать.
Отец поджидает меня на подъезде к гуменному плетню и — на расстоянии угадываю — заранее всю мою незатейливую хитрость насквозь проник. Пусть вся моя разномастная четверня дышит ровно, пусть шагает она спокойно, и все-таки, оглянувшись предварительно на Мельникову усадьбу, он старательно протирает бока и хребет яблочного коня пучком соломы, гасит проступившие по шерсти бисеринки.
— Заводи на круг!
Руки отца работают проворно. Поводом за хвост, поводом за хвост. Стрелку он привязывает к Копчику, Мальчику определяет место позади Стрелки. Серого тем же манером пристегивает к нашему гнедому и закругляет растянувшуюся цепочку, пристегнув ленивого Копчика к хвосту Бодрого. Получается просторный — шестнадцатикопытный, шестнадцатицеповый хоровод. Каждое копыто на молотьбе овса — тот же цеп.
Отец, помахивая в воздухе ивняковым гибким хлыстом, встает в середину круга.
— Подайся, подайся… еще подайся! — поджимает он вращающийся лошадиный хоровод к рыхлому навалу метельчатого овса. Лошади принюхиваются к спелой соломе, шагают неторопливо и осторожно, высоко поднимая ноги, словно мелководную речку переходят. Овсяные стебли топорщатся, опадают, притиснутые тяжелыми копытами. Из старого прокопченного овина густо наносит жилым теплом и сушеным хлебом.
— Ходи, вытанцовывай! — покрикивает отец. — Веселее ногами пошевеливай!
Ивняковый хлыст в его руке размеренно поднимается и опускается, никого не задевая, только мягким дрожанием попугивая. Неторопливый хоровод кружится и кружится без останова, выбивая из желтых метелок тугое зерно, переминая солому, которая пригодится в зиму скоту на месиво.
Вслед за нами, дождавшись своей очереди, вытянутой по жребию, будут нести обмолот Сергей Зубанов, Николай Кусков, дядя Петя Афонин. И снова наш черед подойдет. Четыре лошади переходя с тока на ток, обмолачивают четыре хозяйства. Потому и хожу я в табун к озеру Великому с четырьмя обротями.
Под вечер на току Николая Кустова погремливала новенькая, только что из города привезенная, зеленая молотилка. Низкорослый, рыжеватый мельник с припухшим лицом, в высокой суконной фуражке с лакированным козырьком, в скрипучих кожаных сапогах и коротенькой душегрейке, сам крутил колесо веялки, оставив жене, Матрене, другие хлопоты. Он то клонился вперед, налегая обеими руками на гладкую ручку веялки, то откидывался назад, успевая глянуть самодовольно на притихших односельчан, удивленных новинкой.
Будь зеленая веялка у дяди Пети, или пусть у Сергея Зубанова, я тоже к ней побежал бы, попросил бы ручку покрутить. А мельник, хотя он и свой деревенский, на нашего брата только ладошкой помахивает. «Отправляйся, откуда пришел».
Отец, надеясь провеять намолоченный ворох деревянной лопатой, уже десять раз поднимал руку над головой, пытаясь ладонью уловить движение воздуха. Но ветра и в помине не было, и подброшенное на лопате зерно падало с высоты на ток вместе с неотсеявшейся половой.
По лицу заметно: вновь заныла у отца старая рана, полученная в семнадцатом, при штурме Смольного; она всегда ныла, когда становилось ему не по себе или подступало ненастье. И жалко было отца, до злости досадно на глухое безветрие, на новую Мельникову веялку, что безотказно провеивала зерно в любую погоду. «Никогда, — приходила мысль, — не обзавестись нам, беднякам, такой доброй машиной!»
Возвращаясь домой, без постороннего приказа и указа вешаю себе за спину большую колосяную корзину с мякиной для кур, которую всегда носил отец. Он смотрит на сыновнее старание взволнованно и, похоже, немножко растерянно.
— Веревку повыше подтяни, — говорит глуховатым голосом и негромко покашливает и, подрагивая заскорузлыми пальцами, на ощупь выбирает из бороды застрявшие в ней соломинки. Усталые глаза теплеют ласково. Чудно мне видеть, как из-за малого дела — из-за того, что малолетний сын взялся корзину с половой домой отнести, — взрослый человек расчувствовался.
За молчаливым ужином, когда болтливых говорунов ложкой по лбу щелкают, отец неожиданно спросил:
— Как, Костя, справишься за кашевара, если тебя с лесорубами в лес отправить? Ну, при случае и за пилу подержаться придется — тоже беда не велика.
На рассудительные, серьезные слова и сам я становлюсь рассудительным. Что ни говори, а когда отец с тобой советуется, тут и мальчишке легкомысленным быть нельзя. От деловой мужской беседы я словно вырос на целый вершок, повзрослел года на два. Самому удивительно, какие толковые мысли на ум приходят.
Знаю, что надо нам когда-нибудь корову покупать, не век же в бескоровниках значиться. А с маленькими ребятишками по улице шалтай-болтай слоняться мне давно надоело. Насчет кашеварства можно не беспокоиться — не раз вместо матери мне печку топить доводилось. А картошку чистить или костер разводить — все не безделье: не напрасно пальтишко рвешь да обувку бьешь. Приработок мой тоже будет в семье подспорьем. Купить бы зимой корову!
Толковые рассуждения в серьезную минуту приходят, когда с тобой разговаривают по-хорошему. Их и выкладываю я неторопливо, как взрослому говорить положено.
Отец слушает, согласно головой покачивает: признает во мне не праздного бездельника, а настоящего, заботливого помощника. Мать, доставая из печки горшок со щами, тоже головой покачивает, только не по-отцовскому примеру, а на свою стать: с боку на бок ее перекладывает, вздыхает осудительно и громко, чтобы за столом было слышно. «Говоруны вы, говоруны неуемные. Чего на длинный час пустые разговоры затеяли?! Шугнул бы, старый, мальчонку хорошенько — и весь тут сказ!»
Пусть промолчала, обидного слова не обронила, а мне-то все равно понятно, что зазря почитает с малолетком про серьезные дела толковать, бесполезно время терять. Моего желания она никогда не спрашивает, второпях даже как зовут меня забывает. «Ну-ка, беги побыстрей, принеси воды с колодца!», «Возьми косарь в запечье, нащепай смолья на растопку!», «С приятелями в городки играть не собирайся, дома посиди». И все вздыхает да хмурится, да чугунками сердито постукивает.
На этот раз отец вздохам и охам и осудительным намекам от печки никакой цены не дает, свою струну до конца ведет:
— Костю Беленького, — объясняет мне спокойно, — мать в городскую школу на учебу определила. Павел Дудочкин вместе с артелью на поденную работу отправляется: будут старые баржи из Клязьмы на берег вытаскивать, на дрова их распиливать. Заработок-полтинник на день.
Грустно слушать и думать о том, как друзья мои, с которыми вместе в школе учились, в перелесках грибы собирали, на всех поровну одну маленькую лепешку делили, один за другим разлетаются из Зеленого Дола по разным местам. Вот и младшему походная сума готовится. Редкими будут встречи у неразлучных школьных товарищей. А игру в лапту или в горелки, наверно, уж никогда не заведем.
— И Зинцов на поденную?
Отец выхлебывает из ложки горячие щи и с ответом не торопится.
— А-а, этот… кучерявый-то?.. Тоже вместе с братом в лес собирается.
Ленька?! — забывая солидную степенность, срываюсь в голосе. «О, вместе с Ленькой можно хоть на край света!»
В лесу, когда свободное время будет, и клюквы можно набрать, — умеряю свой пыл, побаиваясь, как бы отец не передумал насчет кашеварства. — Верно, мама? — стараюсь заручиться поддержкой и с другой стороны.
Смотрите, чтобы свалку-перепалку между собой не заводить, «происшествия» не устраивать. Сами не маленькие: понимать должны, что на работе не до балушек, — звучат нестрого наставительные слова, из которых мне лишь одно понятно— задержки не получится.
Коли так, перетакивать не будем, — окончательно решает отец, поднимаясь из-за стола. — А мы с матерью одни постараемся здесь управиться. Вот только за лошадьми в табун ходить… Ну, да ладно — обойдемся как-нибудь. Не возражаешь, мать? — вскидывает он голову и словно молодеет, разглаживая жесткими пальцами рыжеватые обникшие усы. — Пусть в артели пообдержится, понюхает, какими цветами в землянке пахнет.
Мать и не одобряет, и не возражает, и вообще на вопрос не отвечает. Она принесла из-за двери и усердно разглаживает ладонями на скамейке брезентовые сморщенные бахилы, бывшие когда-то новыми, защитно-зелеными; подоспело время младшего на работу собирать — стали пегими. Зато желтые кожаные голицы, вынутые из деревянной укладки, совершенно новенькие. Вскоре появляются на свет и ложатся рядом с бахилами две пары лаптей, еще не обношенные (по кислому запаху чутко) колючие шерстяные онучи. Добавить сюда мой старый ватный пиджак да серую, на казака, должно быть, когда-то шитую, вязенковую облезлую папаху с матерчатым заломом «поперек деревни» — и все тут лесное обмундирование.
Не жалей, молодой читатель, что на твою молодость липовых лыковых лаптей не осталось, что нашему переросту донашивать и хоронить их досталось. Липовая мода в воспоминаниях лишь тем и хороша, что была да сплыла, никогда больше не воротится.
Приноравливаюсь, завладев низенькой скамейкой, как сподручнее колючие онучи навертывать, чтобы мозоли на походе не набить, пегие бахилы примериваю. Мать, не ожидавшая такой скорости, и посуду со стола убрать забыла, и строгие приказы растеряла.
— К утру, — обещает ласково, — я тебе лепешек на сахаре изготовлю. Молотого солоду из ларя достану — солоделыши испеку. Сладенькое-то, оно никогда не лишнее.
Глаза у матери большие, теплые. Удивленно меня осматривают.
«Вырос Коська. С артелью уходит Коська». Узнав про мои сборы, младший Зинцов не утерпел — примчался.
— Кашевар, ура-а! Вместе будем похлебку навертывать! — завелся от порога, еще не прихлопнув дверь.
С ходу крутанул меня за плечи, в щеку губами ткнулся и — извольте радоваться! — свои зубы на ней так и отпечатал. Не задерживаясь, выскочил из избы, кричит уже в окно:
— Смотри, не проспи! Раньше петухов по дороге лаптями зашаркаем.
Так прощались мы с деревенским бабьим летом, отправляясь досматривать его в Ярополческий бор.
Серая береза
Чего-чего, а уж березовые рощи нам не расписывай! Столько в них гулять доводилось, что и сейчас — стоит немножко призакрыть глаза — можно и в Озерных Белянах побывать, и на Перелете грачиные гнезда посмотреть, и по Лукашихе с грибным лукошком пробежаться. Если разные приключения в этих рощах тебе рассказать — день слушай, не переслушаешь. Стану главные березы по порядку перебирать — снова длинная лестница получается. Тут береза кудрявая, там береза говорливая. Над Студеным Морцом— суковатая, в Стародольской заводи — плакучая. И как хочешь ее называй — все мелькает по белому зеленое, будто май по декабрю гуляет. А дедушка Дружков в дороге то и знай повторял:
— Доберемся до серой березы — там и лапти кверху… Кто это по всему лесу пареным солодом навонял?
А мои солоделыши и лепешки на сахаре из тряпки по-вытряхнулись, размялись между хлебными караваями — такой дух пустили, будто рядом с нами пекарня работает. Отмалчиваюсь, краснея за солоделыши, подгоняю шаг. Приятно за бородатым Никифором Дружковым широкими шагами след в след ступать, да тяжелая ноша назад оттягивает. Веревочные лямки от заплечного мешка без пилы мой ватный пиджак пилят, до живого добираются. Под левую лямку на ходу свою вязенковую шапку приспособил, под правую старший Зинцов помогает голицы подложить.
— Ничего, выдюжим! — подбадривает он, встряхивая баранью тушу у себя за спиной. — Ты подумай про себя, что идти сто верст, тогда десять коротенькими покажутся… Пыхтишь, молодой боевой? — кивает он шагающему в ряд со мной Леньке, и прищуривает черный глаз.
Ленька только упрямо губу прикусил и помалкивает. Угнув книзу голову в островерхой буденовке, он с показной бодростью проходит мимо нас. И не пыхтит.
— Здоровенный, чертило! — веселит Сергея упрямая независимость младшего брата. — Держи его! — шагнул вперед пошире.
Ленька старшего даже взглядом не удостоил. По-большому серьезничает. Нравятся мне братья Зинцовы. Оба черные, будто из мореного дуба точеные. И скучать не дадут, и характер держать умеют. Разница в десять лет не мешает Леньке чувствовать себя на равной ноге со старшим братом. А коль обоим за одну пилу держаться, тут деление по возрастам и совсем забывается.
В одном лишь у Леньки перед Сергеем есть заметная слабинка: долбленый из осины ботничок моего приятеля дальше заречных озер никуда не плавал, а Сергей в военном флоте служил, на таком корабле Балтийское море бороздил, что если влететь на нем с полного разгона в наше знаменитое по заречью озеро Великое, то вся вода из него на берег выплеснется; ходи себе по сухому дну, собирай в корзину килограммовых лещей и застарелых окуней, которые на удочку ни под каким обманом не даются.
Не сам я такие выдумки в дороге сочиняю, моряк мне про быстроходные корабли с тяжелыми пушками по бортам интересно рассказывает. Сергею Зинцову можно верить. Он и без ленточек на бескозырке, которые в лесу совершенно не нужны, все равно для меня боевой краснофлотец: и брюки у него широкие, флотские, и походка увесистая, и коротенький пиджак со светлыми пуговицами бушлатом зовут.
— Эй, три пары с козном, чего по лесу растерялись! Сдвигайся погруднее. Дадим еще напылочку верст пяток, а там и наш шесток, — поторапливает отстающих дедушка Никифор.
Три пары — это пильщики. Они постоянно парами считаются. Кашевар в одиночку — козон. Вот и вся наша артель наперечет.
«Долго ли еще до стоянки добираться? Не забухаться бы к ночи в болотину!»
А дедушка Дружков, хотя и без дороги дальний след намечал, все же правильную линию взял. Через час пути по гнилому коряжнику приметался пальцем между деревьями:
— Вот оно, зарябило под вечерок, наше Лосье озеро. Вон над ним и серая береза корячится.
Переглянулись мы с Ленькой: правда, серая. Такой с вечера показалась, такой и на утро осталась. А дедушка сказал, что когда у него и бороды не было, она так же разъеро-шенной совой глядела. Похоже на сову!
Серая береза, по-мальчишески считать, давно уже и не береза, а лишь воспоминание о ней. То ли ветры, буйно разгулявшись, на одряхлевшую налетели, то ли молнии над Лосьим озером сверкали — начисто с березы высокую вершину сняли. Стоит поблизости от воды обтянутый серой берестой обломанный пень высотой в три человеческих роста, толщиной в два добрых охвата, с совиными глазами на месте опавших сучьев.
В лесу побывать, любопытно понаблюдать — и увидишь на свежий глаз, что каждое дерево по-своему живет, по-своему и умирает. Сосна, не в пример дубу, что и мертвый долго держит растрескавшуюся броню-кору, совершенно по-иному о своей старости заявляет. На вершине еще сочные иглы под солнцем играют, а она снизу уже раздеваться начинает, ломкую кору себе под ноги бросает. Так и стоит, зябнет на ветру, верхушкой живая, от корня мертвая, словно предупреждает человека, что нечего больше ждать — пора наточенную пилу брать, древесину в дело пускать, пока не про-синела она до плесени.
Осина — та изнутри трухлявеет, и когда выбрасывает вместо обычных звонких и зеленых маленькие и клейкие розоватые листочки, тогда уж во всей в ней, как говорится, живого места не отыщешь. Нагонит скуку бездельное время— бери завалявшийся топоришко или просто-напросто заостренный кол, ковыряй, не унывай, податливую мякоть, клади пухлые и легковесные чурочки дома в запечье: будут они светиться из темного угла разноцветными огоньками. Другого употребления трухлявой осине не отыщется.
На странные раздумья навело меня лесное одиночество и таинственная серая береза. И я на нее от костра с опаской поглядываю, и она меня с расстояния совиными глазами прощупывает. На месте давнего перелома висит, в пастушью дудочку свернувшись, почернелый берестяный свисток, негромко по стволу постукивает.
Гороховая каша, распарившись на жару, лепетать начинает, из глубины котла густой пар пускает. Помешал ее пятипалой сосновой мутовкой — и к березе. Добрался по стволу до самой маковки, подтянулся на руках вровень с расщепом — ух ты! — до самого дна она пустая, хоть в шубе туда полезай. Не про нее ли удивительную сказку читал? Не из этого ли дупла чудесное огниво солдат доставал?
Объявись к случаю нужная веревка — глазом» не моргнул, и я спустился в темную нору. И самое высоко, и самое глубоко; и солнечные терема, и подземные дома — все удивительное обязательно мне нужно знать.
Вишу на узеньком краешке ствола, перевалившись головой вниз, болтаю в воздухе пегими бахилами, а Степан Гуляев, бросив у костра тонко звякнувшую пилу, сердитым голосом зовет к обеденному столу запропавшего кашевара.
Артельный закон
А гороховую-то кашу, оказывается, всегда так надо варить — раньше времени от нее уходить, оставив котел над малым огнем пузырями шепелявить.
— Ишь разомлела! — вслух нахваливает мое изготовление дедушка Дружков, проворачивая ложкой разваристую крутую гущу. — Присаживайся к столу, ребятишки!
У Никифора Даниловича все мы, без исключения, «ребятишки». Наравне с подростками и сорокалетний Степан Гуляев — «ребятенок», и бородатый напарник его — Степан Осипов — того же звания, и Сергей Зинцов, само собой разумеется, тоже «ребятенок».
Прежде чем к котлу приваливаться, старший Зинцов, разметая широким клешем щербатые сосновые шишки и осыпавшуюся хвою, неторопливо, по-моряцки, в сторону озера направление берет. За ним так же уверенно и деловито, загребая растоптанными лаптями мелкий мусор, молодой Зинцов по пятам следует.
Старший с ходу — бушлат на землю, младший — махом пиджак на сучок. Старший рукав выше локтя закатывает, младший через голову рубашку с себя сдергивает, мне с Вовкой Дружковым полосатую тельняшку показывает.
Наплескались под берегом вволю, и для остальных лесорубов ведерко озерной воды прихватили. Каждый в нем ладони себе помочил, сырыми пальцами немножко лицо помазал. Всемером размещаемся тесным кругом вокруг котла: ноги на отлете, правые руки к каше поближе.
Дедушка Дружков бумажную затычку из бутылки вытаскивает, заводит легкие круги над парным котлом. А масло из бутылки не льется. Подобный фокус я и в деревне не раз видел: бабушка моя, Анна Васильевна, показывать его большая мастерица: горлышко аптечного пузырька пальцем заткнет — долго над постными щами осторожные зигзаги выписывает, а больше трех капель в блюдо не перепадет.
Знает бабушка цену льняному маслу.
Подумал про дедушку на бабушкин пример — и ахнул:
— Льется!
Масло не капельками от стекла отрывается, а желтой лентой от бутылки до котла тянется. Дедушка и в середину котла струю пустил, и края окропил, и в подставленную Ленькой Зинцовым ложку масло угодило. Внутрь каши не идет — поверху расплывается.
— Господи, благослови! Ложку не сломи. Сердечко, радуйся, — помолился по-забавному длинновязый Степан Гуляев.
И пошла вокруг котла работа.
По сторонам сосновые шишки, осыпаясь, постукивают, ущербный месяц сквозь деревья проглядывает, с другого боку размигавшийся костер неярко светит — и вся тут вечерняя картина запоздалого обеда лесорубов.
— Под чужой край со своим неводом не заезжай, — замечает дедушка Дружков, углядев, как Ленька Зинцов ложкой по кругу гладит.
А масло в густую кашу глубоко не идет, по низинкам пятнами расплывается. Ленька его и вылавливает, пуская ложку по всему котлу.
Дедушка старую поговорку еще разок напомнил. Дополнительно прибавил:
— Придется, видно, по давнишнему образцу к гороховой каше приучать.
Ленька тихим дедушкиным словам никакой веры не дает, исподтишка мне хитрым глазом подмаргивает. «Мы, мол, знаем, какой кусок выбираем. Мимо уха не пронесем!»
Подчистили ложками котел на ладонь глубины, Никифор Данилович еще раз богато над ним бутылкой поводил.
— Чтобы пила, как по маслу, в дерево шла, — пожелал привычно.
Остальные ни гугу. И Сергей Зинцов младшему ни словечка. Одному старшему в артели быть положено, ему и порядок наблюдать доверено. А Ленька без посторонних замечаний и совсем лафа: хозяйничает в общем котле, будто в своей тарелке. Друг, друг, а и меня обида берет: где проступило масло, туда он и ложку тянет.
Зато была потом наука, без которой и храбрые в артели на отшибе себя чувствуют.
Положив ложку в котелок, дедушка в две щепотки, с обеих сторон, распушил бороду веером. Поднялся с насиженного места — переместился на пенек поблизости.
— Подбеги-ка сюда, кудрявый, — поманил Леньку скрюченным пальцем.
— А чего такое?
— Опять не к месту сердитая погудка. Не спрашивай, когда зовут. Нагни-ка строптивую голову, — советует спокойно, поджидая, когда Ленька «чегокать» перестанет. Сам раскачивается на пеньке легонько, гладит жесткими ладонями ватные стеганые штаны.
— Али шея не поворачивается? — спрашивает подступившего Леньку.
— А зачем?
— Скажу, скажу. Нагибайся пониже.
Ленькина кучерявая голова нехотя клонится вперед, а дедушкина рука, оставив разглаживать штаны, прочно берется всей пятерней за тугие черные вихры.
— Не так гороховую кашу едят, — не поднимаясь с пенька, медленно заводит дедушка вытянутую руку по кругу, изображая путешествие Ленькиной ложки по артельному котлу. За повинной головой, которой Никифор Данилович умело управляет, и бойкий друг мой, забыв про важность и вальяжность, проворно поспешает, семенит на полусогнутых.
— Так гороховую кашу едят, — прерывая на секунду смущенный бег, толкает дедушка крутой затылок поближе к ногам. — На глубину берут. Спрашивал, так сказываю.
Пятеро со стороны наблюдают забавную сцену, которая одному Леньке не по душе приходится. Степан Гуляев, переламываясь надвое от накатившегося на него смеха, старается объяснить, что и его когда-то парнишкой «вот так… ха-ха-ха… так же… ох-хо-хо-хо… за во… за во… о-ххи-хи… за воло… о…» и никак договорить не может, что за волосы таскали, тоже гороховую кашу есть учили.
Сергей Зинцов, приоткрыв сочные, цвета спелой ежевики, губы, с одобрением наблюдает за строгим лицом деда, за братниной мелкой побежкой.
— Красиво ногами работает, — отмечает безусловный факт. И повинная голова, не замедляя движения, ухитряется осудительно глянуть из-под ведущей руки.
«Самому бы тебе так побегать!»
— Не так гороховую кашу едят, — напоминает дедушка по второму кругу. — Так гороховую кашу едят, — повторяет низкий кивок головы.
За третьим разом, полностью совершив свой долг, распустил обмякшие пальцы, внимательно глянув в черные Ленькины глаза, по-дружески посоветовал:
— Не забывай науку! В артели надо артельным быть.
— Ложки перемой. Котел от копоти оботри, на ночь в землянку его убери.
Эти указания уже ко мне относятся. Выполняю их с горячим усердием.
В сгущающейся темноте подживил костер сухими сосновыми ветками. Светлые зайчики пустились выплясывать по темным стволам. От веселого огня и на сердце веселее.
А Ленька, мужественно признав артельную правоту, забыв недавнее смущение и всякую обидчивость, уже сказку у дедушки Дружкова выпрашивает.
Хоть маленькую какую, чтобы ночью хороший сон пригрезился. Коське, вон, тоже послушать хочется. Чего молчишь? — достает растоптанным лаптем по моим бахилам.
Орел ты, парень, как я на тебя погляжу! — усмехается в бороду повеселевший Никифор Данилович. — Право, орел! Высоко полетишь, если в лужу не сядешь. Ладно, будь по-твоему, — соглашается с Ленькиной просьбой. — За хорошую тряску можно и сказку рассказать.
Три охотника
Старшие впятером на низеньких нарах, выложенных тонкими сосновыми жердями, вповалку улеглись; мне с Ленькой на земляном полу ночь коротать досталось.
В лесу жить — догадливым надо быть, уметь не только деревья с корня валить да сучья рубить, но и о себе самом позаботиться. Там никто тебе пружинный матрац не принесет, белую простынку по нему не расстелет.
Видал я таких молодцов, которые и про путешествия книжки читают, и по гимнастике пятерки получают, но постель за собой в порядок привести почитают за оскорбление. В лесу некогда разбирать, кому очередь пол застилать. Живо с Ленькой елового лапника нарубили, зеленым мохом колючие ветки присыпали — хорошая перина в дальнем углу землянки получилась. Расположились на ней валети-ком — головами в разные стороны, ноги вместе.
Тут и сказка дедушки Дружкова начинается.
«Ходили по лесу три охотника, три родные брата. Все одной матери сыновья, а руки и думы у каждого свои.
Старший брат не то чтобы из сил выбился, а просто тоска его обуяла. Ни дичины крылатой стороной не видать, ни зверь на пути не встречается. А над бором темень сгущается, ночь охотников настигает. Приходится с пустыми животами на ночлег укладываться.
Развели они жаркий костер на малой поляне. На живой огонек мохнатые лешие собираются, за деревьями тайком хоронятся, к негромким речам прислушиваются.
Старший брат и говорит:
— Теперь бы нам хату теплую, да обед сытный, да постель мягкую — всю ночь бы такие сказки стал рассказывать, что и лешие их заслушаются.
А лешие до сказок первые охотники. Мотнул головой седой леший ближнему рыжему, волосатая лешачиха непонятные слова зашептала — появилась рядом с братьями расписная избушка на курьих ножках.
— Недурной ночлег для бездомных получается, — говорит, ободрившись, усталый старший, и заходит хозяином в избушку.
На просторном столе, на белой скатерти, перед ним стоят щи мясные, только что из печки вынутые, в длинной плошке каша пшенная с коровьим маслом. На другом краю — большой ковш парного молока, вровень с ним голубое яблоко катается, величина — с человечью голову. В углу мягкая постель дожидается, расписным одеялом накрытая.
Без долгих хлопот, без труда и забот желание старшего брата исполнилось. Остался он в лесной избушке сытный пир пировать, темную ночь ночевать. А младшие ждать не стали, темным лесом дальше пустились. Родные братья — родная кровь, но у каждого руки и думы свои. Только молвил на прощанье старшему младший брат:
— Не ешь голубое яблоко с человечью голову. Не к добру оно здесь положено.
А дорога впереди трудная, а небо над головой черное. Приуныл, затомился и средний брат. Не то, чтобы из сил выбился, просто робость его обуяла. На сыром болоте сказал:
— Здесь и будем рассвета ждать. Больше шага вперед не сделаю.
Младший низенькую сосенку на болоте сломил, костерок в ночи разложил. На огонь серые ведьмы из кустов выползают, синие болотные кикиморы сбегаются. Затаились поодаль: приглядываются, прислушиваются.
— Теперь бы нам бугорок сухой, да светлый дом с высоким коньком, да обед сытный, да постель мягкую, — высказывает свое желание средний брат. — Всю ночь бы, до рассвета, пили-ели, такие раздольные песни пели, что и ведьмам, и кикиморам на удивление.
А болотные жительницы до песен большие охотницы. Подтолкнула набольшая меньшую ведьму, та схватила синюю кикимору — зашептали вместе заговорные слова. Тем же часом очутились братья на сухом бугорке. Стоит перед ними просторный новый дом с высоким коньком.
— Недурной ночлег получается, — забывая о робости, оживился усталый брат. И проходит в двери хозяином.
Перед ним во всю стену широкий стол. Наварена уха окуневая. В пестром блюде лежат раки вареные, на другое румяные блины с белыми снетками положены. Тут и вина дорогие понаставлены, и зеленый кувшин с медовой брагой. Катается по столу из конца в конец синяя водяная груша с человечью голову. А в углу пуховая перина приготовлена, яркотравным одеялом прикрытая.
Без долгих хлопот, без труда и забот исполнилось желание и среднего брата.
Умостился он за широкий стол, а младший, не дожидаясь, дальше пошел. Родные братья — родная кровь, но у каждого руки и думы свои. Только молвил он на прощанье среднему брату:
— Не ешь ты синюю водяную грушу с человечью голову. Не к добру она здесь положена.
Только птица вскрикнула, только елка скрипнула ему вслед.
А ночь в лесу темная, а лес в ночи черный, а путь впереди безвестный. И нет рядом друга-попутчика, с кем бы теплым словом перемолвиться.
Тяжелое испытание — человеку одному остаться: тут и сильный ослабеет, и веселый загрустит, оробелый да несмелый растеряется.
Бегал младший пареньком русоволосым — его братья Алешей звали, подравнялся статным юношей — стали кликать «Лехо». Вырос он отважным охотником, на чужую беду отзывчивым.
Достает Лехо из-за плеча дубовый лук, тугой тетивой звенит, со старшим братом говорит, кленовые стрелы перебирает— среднего вспоминает.
А темень гуще путь застилает, лесная чаща теснее сдвигается. Крутые корни за ноги цепляются, колючие ветви путника царапают.
Тут из дальнего далека теплом повеяло. Откачнулся Лехо от темноты, к самой земле головой пригнулся — углядел среди ночи розовую струю. На нее проворно направился. До полуночи шел, приминая кусты, раздвигая сухой валежник, обивая мохнатые коряги. Тугие лапти в мочало растоптал, лосевые бахилы разодрал, о колючие сучья руки в' кровь расцарапал.
Остановился на краю глубокой ямы. Горит под ногами огромный костер, висит на' упорах сорокаведерный котел — густой пар из ямы выбивается. У костра чудной человек сидит: голова маленькая, рот большой, на тоненьких ножках живот горой. Огромной ложкой варево мешает, хриплым голосом недовольно спрашивает:
— Чего, молодой, по нехоженому лесу рыщешь? Кого невиданного упрямо ищешь? Аль в котел Кедриле попасть захотел?!
Лехо страшного обжору не пугается, отвечает одичалому как надобно:
— Вот охоты в нехоженом лесу искал, в темноте на невиданное чудо напал.
Сам внимательно на широкий котел глядит: и зверь, и птица в него с высоты летит. Ни глухарь огня не перепор-хивает, ни лиса его не перескакивает.
— На какую семью котел кипятишь? Для большой ли оравы обед варишь? — удивляясь, пытает Лехо.
Чудной человек чудное отвечает, будто хриплую песню запевает:
— Жил да был мужик Кедрил, Сам себя всю жизнь кормил. Съел печь перепечь, Да костер пирогов, Да корову без рогов, Да быка-'ретьяка, Жеребенка-стригана, Овцу-яловицу, Свинью-пакостницу, Во!И сухонькой рукой по обвислому животу похлопал, от удовольствия огромный рот до ушей раздвинул.
— А какими путями ты, Кедрило, в провальную яму попал? — дознается Лехо.
— Сто лет тому дело было. Брат Орлан осерчал — сюда опустил. И спокойно в яме, и сытно, да солнышка на небе не видать.
Раскачал Лехо огромную сосну, опрокинул ее в яму вверх корнями. Кедриле прокричал:
— Хочешь солнышко посмотреть — по стволу наверх выбирайся!
— В добрый час за услугу услугой заплачу, — прохрипел Кедрило вслед охотнику.
А отважный Лехо провал обходит, легкий шаг проворнее торопит, будто кто-то его дожидается. Тетивой звенит — со старшим братом говорит, кленовые стрелы перебирает — другого брата вспоминает.
Час ли, два ли прошло, может, три минуло — на восходе солнца завиднелась широкая река, обвалистые берега. На высоком крутояре простоволосая женщина навзрыд рыдает, горькими словами причитает:
— Юр, юр, — замутилася вода с песком, Где купался Иванушка? Середи реки, у камушка. Где сушился Иванушка? У куста на полянушке. С ним и серенький воробушек дружит, И синичка с ним весь день говорит. А сорока-то стрекочет, Есть калачика не хочет. Ей Иванушка медок Клал по ложечке в роток. Юр, юр, — замутилася вода с песком.Угадал Лехо по тоскливому голосу: не от малого горя женщина рассудок потеряла. А по речке, мимо гладкого камушка, пузыри плывут. Утонул кто-то неосторожный в лесной реке.
Человека спасать — некогда минуту терять. Прыгнул Лехо во всем, как был, с крутого обрыва в текучую воду. Достал с глубокого дна Иванушку — белоголового паренька с темными ресницами. Выносит его на зеленую лужайку, кладет бережно под ракитовый куст. А Иванушка темные ресницы раздвигает, голубые глаза раскрывает: веселым голосом — будто ничего с ним не случилось — крылатых друзей зовет:
— Прилетай ко мне из леса, серый братик-воробушек! Прилетай ко мне из ложбинки, звонкоголосая синица-сестрица! Прилетай ко мне из перелеска, белобокая советница — говорливая сорока расторопная.
Сыплет Иванушка серому братику хлебные крошки, достает синице-сестрице кусок белой лепешки, а сороку белобокую, говорливую советницу, диким медом пчелиным угощает.
А на солнечный лес чернота надвигается, вихревые ветры поднимаются: деревья вокруг гнутся и ломятся.
— Хоронитесь от злого ворога! — заслонила мать беспечного Иванушку. — В черном облаке черный змей летит!
Тут ударил из тучи тяжелый гром, засверкала над лесом молния. И увидел Лехо: к нему светлая девушка бежит, за ней вихрем черный дракон летит. Обхватил свою жертву когтистыми лапами, унес ее неведомо куда. Только и услышал смелый охотник, как несчастная девушка помощь зовет.
Порешил он в ночи не спать, в жаркий полдень не отдыхать, пока горькую невольницу от плена не освободит. С ним Иванушка в дорогу собирается.
— Вот какую игрушку водяной мне дал, когда я в реку упал, — показывает охотнику невиданный орех.
По скорлупке живые ключи текут, огневые фонтаны брызгами бьют, длинноногие пауки серебряную паутину тянут. Одна половинка раскрывается — из нее вода пробивается, другая раскрывается — в ней палящая искра загора-5 ется. В ореховой серединке лежат серебряные паутинки. Чуть откроешь — в тучи поднимаются, в глубокое подземелье опускаются.
Упрятал паренек дорогой подарок под рубаху, дает своим птицам такой наказ:
— Лети, сорока, показывай дорогу! Ты, воробей, отпугивай зверей! Ты, синица-сестрица, нам грустить не давай!
Заспешили быстрым шагом драконово логово отыскивать.
День да ночь — сутки прочь. День да ночь — сутки прочь. В третью полночь озарилось все кругом красным заревом, огласилось перекатным грохотом.
Воробей говорит:
— Чую, чую — чаща чадом чадит. Чай, лешак в ночи с огнем чудит, в буреломной чаще ельником трещит:
И синичка, навострившись, говорит:
— Дзинь, дзинь — это звень звенит. Там Кедрило большой ложкой по котлу стучит, высоченный костер палит.
А сорока белобокая, расторопная разведчица, головой беспокойно повертела, осторожным глазом поглядела — с высоты сосны затараторила:
— На семи дубах крылатый дракон храпит. Гр-ромким хр-рапом хр-рапит. Кр-репко спит. Кр-репко спит. Р-рот раскрыт. Пламя валит. Р-рядом девушка печальная сидит.
Стали путники зорче посматривать, легкий шаг проворней поторапливать. Самое время, пока чудище спит, из неволи несчастную освободить.
А крылатый дракон просыпается, над гнездом пастистой мордой поднимается, чешуйчатым хвостом по веткам бьет. Шевелится на горбатой шее тяжелый обруч.
Грустная пленница из высокого гнезда слезы роняет, смелых путников остерегает.
— Отступите в непроглядную листву, Не топчите говорливую траву, Лучше Ясинке одной вовек страдать, Чем двоим от лютой смерти погибать.А хвостатое чудище крылья расправляет, налетевшего воробья отгоняет.
Укрылся Лехо за березовый куст, натягивает дубовый лук. С ним Иванушка расписной орех открывает, палящей искрой дракона ослепляет. Белобокая сорока торопливый совет охотнику дает:
— Не пускай стрелу и непробойную голову. Ты ударь по заколдованному обручу.
Не успел дракон в кольца собраться, не успел над лесом подняться. Тугая тетива зазвенела, богатырская стрела полетела — заговорный обруч вдребезги расколола.
Повалилось чудище с высоких дерев, разодрали его семь дубовых стволов.
А Иванушкины птицы к светлой Ясинке подлетают, бережно на траву ее опускают. Так нежна, и так красива печальная девушка была, что смелый Лехо ее увидал — все слова, какие знал, в счастливую минуту растерял.
Тихо Ясинка избавителей просит, старших сестер из неволи выручить торопит.
Нашу Гостинку горный дух подстерег, из родных полей в гранитные скалы унес. Стерегут ее вершинные орлы, охраняют полосатые шмели.
Самой старшей доля выпала в подземелье дни коротать, у подземного царя горькой пленницей страдать. Не разбить ей семь окованных дверей, не уйти от ста чугунных сторожей. Под землей растит дочку Улыбинку, избавителя дожидается.
Приоткрыла Ясинка потайную дверь, отыскала под дубом драконов меч — подала его Лехе-охотнику. А Иванушка птиц созывает, за сорокой шаг направляет.
Дальнему не видать, беспамятному не сосчитать, сколько дней и ночей идут они. Завиднелась над большой водой гранитная скала, распластались в небе три седых орла. Иванушкины птицы под облака порхают, за собой орлов увлекают. Смелый Лехо гранитную скалу мечом дробит.
И открылся в тесном камне просторный ход. Из глубины послосатые шмели вылетают, сердитой стаей на охотника нападают.
Из ореховой серединки пустил Иванушка серебряные паутинки — все мохнатые шмели в них позапутались.
Тут и Гостинка на волю выбегает, родную Ясинку обнимает, спасителей своих дальше-дальше от гранитной темницы ведет. Сторонами ручьи звенят, впереди деревья шумят — овевают усталых путников.
За зеленым холмом темноликая ночь встречается, звездным пологом прикрывается, тихий мир на земле бережет.
Спать в коряжник волчица ушла, под туманом трава полегла: кто торопится — тому прилечь некогда.
В пятый ли закат, в десятый ли рассвет — послышался невдали протяжный голос. Доносится он из глухой земли, из пустой глубины — и тревожит сердце, и жалобит.
Приумолкли, замерли путники. И синичка на березе не звенит, и воробушек нахохлившись сидит, лишь сорока белобокая печали не знает — с куста на куст перелетает, с, крыла на крыло кувыркается. С высоты сосны затараторила:
— На земле кора. Под корой нора. Ступеньки крутые. Цепи литые. Дверь кованая.
Расчистил Иванушка сосновую кору — открылся просторный ход в подземелье. Вниз широкие ступени опускаются, все литыми цепями позавешены. За цепями стоит кованая дверь, у раствора сто чугунных сторожей.
Рубит Лехо тяжелые цепи, расчищает широкие ступени. На подмогу ему Иванушка из ореховой скорлупы быстрый ручей пускает. В подземелье вода разливается: кованые двери раскрываются, чугунные сторожа ко дну идут.
— Выбегай из подземелья поскорей, Проплывай над головами сторожей, — пролетает, замирает над волнами тревожный голос. По разливистой струе, по текучей воде к сестрам ласковая Добринка плывет, запоздалую Улыбинку громко зовет. Сидит девочка в верхней горенке, не доходит до нее голос матери. Маленькие кузнецы перед ней певучими молоточками бьют, серебряные струны куют, маленькие пряхи красивое платье прядут, подружки-игрушки зазывными песнями привораживают:
— Молоточки оставь кузнецам, Побежим по подземным лесам. Раскачаем сердитую ель — Пусть шумит, пусть кружится метель. За песками хрустальный дворец, В нем хранится певучий ларец. Слушать песни звенящих пружин Побежим, побежим, побежим!Только пестрая сорока увидала, как Улыбинка с подружками в дальние пещеры пробежала. Не дозваться ее, не догнать; не приветить ее, не обнять.
А темный лес сердитыми ветвями шелохнулся, высокими вершинами до земли пригнулся — возвращается к подземелью подземный царь. Перед ним вода расступилась, за ним кованые двери закрылись, чугунные сторожа во весь рост поднялись. Осталась веселая Улыбинка в подземной глубине.
И синица загрустила, не звенит, и воробушек нахохлившись сидит, лишь сорока белобокая трещит, не унывает — опечаленным надежду обещает:
К подземелью счастливый придет — за собой Улыбинку уведет. Удачливый придет— за руку уведет. Тепло впереди, светло впереди. На старой дороге завелись тревоги.
И в обратный путь поворачивает, пятерым дорогу указывает. Добрались до глубокого провала, где сто лет Кедрило неугасимый костер палил, день и ночь для себя обед варил. Лежит на дне ямы опрокинутым пустой котел, угасает большой костер — черные уголья серым пеплом подернулись.
Куда, голодный Кедрило, скрылся? В какой стороне запропастился? — громким голосом Лехо спрашивает.
Я под солнышком сижу, я на солнышко гляжу, — близко голос Кедрила слышится. — За большую сосну тебе спасибо. Я ногами в кору упирался, я руками за сучья держался — потихоньку из ямы выбрался.
Сам на рыжем корневище сидит, под ногами траву ворошит — красную бруснику в большой рот кладет. Живот у Кедрила совсем обмяк, и он сам на корневище еле держится.
— Поесть бы мне, — просит жалобно.
— В гости к среднему брату пойдем, там хороший обед заведем, — обещает Лехо.
Поднялся Кедрило, оживился, впереди других заторопился. Тоненькие ножки ходко идут, налегке опустелый живот несут. Там, где дом стоял, подогнулись, лутошками по сырой моховинке протянулись.
«Куда же братнин ночлег девался?» — озирается по сторонам удивленный Лехо.
А сорока белобокая с высоты сосны тараторит:
— На сухой бугор не дивись, на болотную трясину оборотись!
Там на зыбкой кочке простоволосая ведьма сидит, растрепанные космы ворошит. Рядом с ней синяя кикимора хихикает.
— Кого ищешь, того не увидишь, — говорит сердито серая ведьма.
— Сорок дней он в нашем доме жил, за столом нашим и ел, и пил, голосистые песни нам петь сулил. Наедался, напивался, на высокой постели валялся — свое слово держать позабыл. Тому хорошо не бывает, кто обещанное слово держать забывает.
Тут кикимора погромче захихикала, на нее ведьма затопала, зафыркала — так последние слова договаривает:
— В сорок первый без еды посидел — нашу болотную грушу съел, за нее нам продал свою голову. Из болота теперь ему не выбраться.
Кедрило на ведьму широкий рот разевает, а Ясинка голосистую песню запевает, в голос ей выводят Гостинка и Добринка.
По трясине из-за кочек, из-под елочек набежали тотчас ведьмы и кикиморы — никогда они таких ладных песен не слышали. И ногами притопывают, и глазами прихлопывают, и губами посинелыми подергивают.
— Коли долг за хвастливого платили, вот вам и наш возврат, — подняла набольшая среднего брата из болотной топи. С головы до ног он зеленой тиной опутан. — Во второй раз нашу грушу возьмет — никогда обратно не придет.
Сердитыми губами зашептала, растрепанными космами замотала — моментально болотное племя попряталось кто куда.
Без заботы на перепутье стоять — только время бездельно терять. Может, ждет где-то младшего старший брат. К нему Лехо с друзьями быстрым шагом спешит, а Кедрило проворно на болото бежит.
— Буду ждать вас здесь! Тут есть, что поесть! — кричит уходящим вдогонку.
А синичка далеко звенит. Воробей на зверей во весь рот кричит. Расторопная сорока веселую полянку увидала, путникам тропинку показала. Появились из леса все шестеро.
Растет на поляне нехоженая трава, лежат на кострище обугленные дрова, только нет нигде избушки на курьих ножках.
Меж деревьев мохнатые спины мелькают: лешаки от безделья в чехарду играют, выше леса с разбега подпрыгивают.
Бросил Лехо на землю тяжелый лук, свистнул громко лешачьим посвистом.
Приутихнул осторожно беспокойный гвалт. Лешаки в тревоге отряхиваются, на лешачий громкий посвист собираются. Побитый из леса пешком хромает, большой на малом верхом подъезжает.
— Где у вас, верховые и пешие, мохноногие лешие, старший брат мой упрятан? — строЛ спрашивает охотник. — Здесь садился он столовать, здесь остался он ночевать. Вам за гостя ответ держать.
Старый леший косматую бороду ворошит, так охотнику говорит:
— Сорок дней он в нашем доме жил, за столом нашим и ел, и пил, хорошие сказки рассказывать сулил. Наедался, напивался, на высокой постели валялся — свое слово держать позабыл. В сорок первый день без еды посидел — колдовское яблоко съел. Положил в залог свою голову. Тому хорошо не бывает, кто обещенное слово забывает. Зато нам на потеху достался.
Лехо крепкой рукой меч сжимает, привести к нему брата посылает.
Нагнул старый косматую голову, зашептал громко в седую бороду — появился из леса старший охотник. Рубашонка на нем рваная, шапчонка драная, весь в густых синяках и царапинах. Видно, крепко им лешие играли, по колючим сучьям катали. Выручать оробелого время приспело.
Белоголовый Иванушка в тесный круг идет, лешим сказку— диво дивное — ведет. Такие чудеса лесной паренек знает, что лешие слушают — от восторга тают. Пока слушали — вее растаяли, никакого следа не оставили.
Родные братья — родная кровь, но у каждого руки и думы свои. Старший младшему поклон земной кладет, с собой ласковую Добринку зовет. Средний брат земной поклон ему кладет, тихо Гостинку в отцовский край зовет. Только Лехо молчал перед Ясинкой, когда руки друг другу подали.
А по ельнику синица звенит, воробей друзей счастливых веселит. Белобокая сорока старается, одним разом за три свадьбы кувыркается.
Попрощались — старший с Добринкой идет, средний Гостинку в отцовский край ведет, а Иванушка с верными птицами к старой матушке наведаться торопится.
В лесу, на поляне, там, где стояли, Лехо новый, сосновый дом построил. С ними мудрая сова, с ушами голова, на высоком чердаке поселилась.
Много лет с той поры прошло, сто морей по реке протекло. В детстве паренька Алешей звали, выровнялся — стали кликать Лехо, а теперь зовут его Эхо. Кто в лесу в недобрый час заплутается — каждому на голос отзывается. Позови — и тебе ответит. Вместе с верным своим охотником всюду ходит светлая Ясинка. Навсегда они подружились, навсегда в родном лесу остались.
В их костре зола перетлела, далеко сова улетела, от ветров избушка распалась, только сказка о них осталась.
— Так-то вот, други любезные! — другим голосом подчеркнул конец сказки дедушка. И, предупреждая долгие расспросы, положил конец разговорам, с головой укрывшись заплатанным чалым кафтаном.
Дверь в подземелье
Если бывают по-настоящему голубые вечера, то в памяти моей этой первый, увиденный из тесной лесной землянки, был самый голубой. Он голубой от леса, от неба, от тонкого месяца, от затаившейся тишины, от пахучего дымка угасающего костра. Сколько разных красок, земных и лунных, светлых и туманных, слилось, расплылось, перемешалось между собой, чтобы создать невесомое голубое, прорисовать в нем желтые и коричневые стволы сосен воздушно-сиреневым, мягко колеблющимся.
В землянке густо пахнет махорочным едким дымом, кислыми сырыми онучами, немножко — застоявшейся плесенью, чуть побольше — хвойной свежинкой. На жердяных нарах, присыпанных жесткой травой враструску, так спокойно и тихо, что можно быть совершенно уверенным — никто не спит. В ночь — за полночь, никогда не бывает в усталой артели такой обдуманной, такой старательной тишины. В сонном забытьи один Осипов Степан начнет перекатного храпака задавать — хоть на тройке по булыжнику, да с подпрыгом колесами дребезжи, все равно такого треска не получится. Другой Степан, подвалившись боком к напарнику, в носовую свистульку старается, на разные лады трели пускает. Вовка Дружков, с запинками, при каждом выходе словно бутылки с ядреным квасом откупоривает.
Заведенная с вечера, эта «музыка» умолкает только перед рассветом, когда снова подступает время надоедливые бахилы одевать, захолодевшую пилу в руки брать — и на делянку.
Потому и удивительна неожиданная тишина в нашем тесном земляном убежище. Видно, не только затаившихся молодых, но и хозяйственных пожилых потревожила, улыбнулась глазами далекого детства задумчивая сказка дедушки Дружкова. Не от нее ли пахнуло вдруг в сырой землянке домашним теплым уютом, прояснился сумеречный вечер, шевельнулось в открытом проходе заманчивое голубое? Оно ширится, надвигаясь из лесной тишины, просвечивает затуманенные кусты; расплывается по низкой земляной ступеньке, заглядывая в глубину. Тронулась текучей струей, заголубела островерхая Ленькина буденовка, прилаженная у стены на рогатку, просветлели лапти, бахилы, портянки и онучи, развешенные тут и там по сучкам и колышкам. Голубыми стали длинные ноги Степана Гуляева, до колен перевесившиеся через жердяной настил. Голая рука Леньки Зинцова, сбоку охватившая изголовье, истаивает в сером углу весенней ледышкой, подрагивает легонько беспокойными пальцами. Потертое, засаленное одеяло, шитое из разноцветных клинышков — и то в голубой ночи по-новому, по-нарядному запестрело.
Непривычно деревенскому жителю располагаться на ночь в земляной квартире без дверей. На еловой постели какая-то оторопь берет. И приятно в то же время лесорубом себя чувствовать, со стороны даже малого внимания не обращать, как осторожная ящерица в дедушкину голичку заползает.
На новом месте и придумали мы с Ленькой все по-новому: не кое-как под ватное одеяло забрались, а игральным валетиком устроились — головами в разные стороны легли. Шебаршит Ленька неторопливо, гладит жесткими пятками по моему боку, словно шершавым напильником работает. «Ничего, привыкну — пятки у Леньки теплые!»
Одна остается загвоздка — не можем ватное покрывало в длину вытянуть, чтобы каждому досталось, засыпая, в мягкий краешек носом приткнуться. Коротко одеяльце! Ленька усиливается втихомолку, к своему подбородку его прилаживает, а я с другого края о себе в две руки забочусь. И приятелям хочется иногда неприятелями побыть.
«Тяни крепче! — два получится».
Черная голова и виду не подает, что сердится. А я догадываюсь, да помалкиваю. Не задался Леньке этот вечер. Из двух лежачих мест он первый выбрал уголок возле входа, а туда голубое и не заглядывает. Досталось пильщику в глухую заднюю стенку смотреть, а кашевару весь лес проглядывать.
Позади голубого причудливо серые тени свиваются. Там широкая борода шевельнулась… показалась косматая грива… замелькали крылатые, хвостатые, осторожные серые призраки. Беспрестанно и таинственно они шепчутся о чем-то между собой, пластаются по воздуху извилистыми гибкими руками, ближе-ближе подступая к молчаливой землянке.
И заманчиво, и робкая жуть прохватывает, и глаза отвести не могу. Из всех ночлежников я один лишь вижу странные ночные тени, потому и в людской тесноте чувствую себя одиноким.
«Хоть ворохнулся бы кто ни есть на жердяных скрипучих нарах!»
Охлаждая разыгравшееся воображение, толкаю Леньку пяткой в живот. Ответ получаю коленкой в спину. «Бот и славно!»
Веселее стало при мысли, что усталый друг мой тоже не спит, лишь от скуки спящим притворяется. А тут Степан Осипов раскатился дремучим храпом на весь земляной шалаш, дал знать о своем присутствии. Пошла гудеть с переливами свистулька Степана Гуляева.
Ожила, в полный голос заговорила землянка, приутихшая на время после дедушкиной сказки. Вновь запахло самосадом и онучами. Снова хочется, откинув робкие страхи, ловить глазами, дорисовывать воображением странные расплывчатые тени.
Небо, сколько вмещает дверной проем, сплошь забрызгано яркими крапинками. Не знаю, в какой стороне, на какой высокой горе могучий кузнец раскаленное железо ковал — голубую высоту горячими искрами опалил. Тонкий месяц плавит низкое облако, увязнув в нем дымящимся острием. Тихий шум, певуче разрастаясь, катится по вершинам деревьев. Сиреневые сосны качаются, размыкая ветвистый полог, открывая лунную дорогу между стволами.
И видится мне: легким шагом проходят по ней двое. Остановились на поляне в тени ветвей, смотрят грустными глазами на потухающий костер, вдыхают запахи уединенного лесного жилья. Молчат, потупясь, словно вспоминают о чем-то, давно забытом.
Различаю охотничий наряд, тугой лук за плечами высокого. По легким шагам, по рассыпчатым волосам в другом путнике девушку угадываю.
И тревожно сердцу, и радостно. И верится мне, что навестили нас в голубую ночь неразлучные Лехо с Ясинкой. Точно такими, как сейчас на поляне явились, их в дедушкиной сказке я увидел, замечтал о счастливой встрече.
«Здравствуй, Ясинка!» — желаю ей добра.
И она будто слышит беззвучный шепот, робкое желание угадывает. Легким шагом к землянке приближается, низко клонится над земляной ступенькой, чуть заметно губами шевелит. Только мне одному, чтоб другим не послышалось, заветное слово назначено. Тихо-тихо, как шуршание травы, произносит она имя, которым меня зовут:
— Костя! Костя Крайнов! Посмотри сюда. Для тебя я подарок принесла. Возьми его. Береги его! Слышишь, Костя Крайнов? — береги его!
Приклонилась до самой земли, положила у ступеньки блестящее засветившееся вдруг под тонким месяцем. «Береги его!»
И пропала вместе с охотником, будто вовсе ее и не было, лишь во сне все это мне привиделось. Но от сна следов не остается, а подарок Ясинки — вот он, возле темной ступеньки лежит, разноцветными огнями переливается. Его и Ленька Зинцов уже успел заметить: зацапал в кулак — упрятал себе под изголовье.
«Не хватай — не тебе положено! — думаю. — Как теперь я могу уберечь, чего взять не сумел?»
Досадно мне на свою нерасторопность, и на Ленькину торопливость досадно. Обдумываю, как дело поправить. А думы в голове плохо держатся, в разные стороны разбегаются. Бестолково шарю рукой по утоптанному полу, будто ищу потерянное, которого здесь нет. Под пальцами шевелится-, позвякивает сдержанно и глухо широкий железный лист, плотно втоптанный в землю. Пытаюсь припомнить, видел ли его днем, откуда он мог появиться, — не могу ни понять, ни припомнить.
Странный заслон, появившийся загадочно нивесть откуда, и без моего прикосновения начинает подрагивать с тихим звоном, словно кто-то осторожный прячется под ним, легонько постукивает снизу проворным ногтем: тук-тук, тук-тук, тук-тук…
Размеренное и негромкое постукивание из глубины заглушает другие звуки, обволакивает голубое сияние туманной пеленой. Серая густота заполняет землянку. А под черным листом желтый свет загорается, пробивается из глубины сквозь узкие щели.
— Т-ш-ш, — доносится снизу остерегающее предупреждение. — Черная, расступись! Железная, отворись! — строгим шепотом звучит заклинание.
И железный лист приподнимается. Снизу круглыми фонарями светят желтые, быстро вращающиеся глаза. Серая ушастая сова поднимается по маленьким ступенькам.
— Т-ш-ш, спать! Т-ш-ш, — щелкает она горбатым клювом, веет по землянке распущенным серым крылом.
— Ключ, ключ. Где ключ? — спрашивает, оборотившись в мою сторону. — Никогда я не думал, что совы так хорошо говорить умеют. Только никакого ключа у меня нет. Ничего не знаю я о ключе.
Оглядевшись, она спешит проворно к изголовью Леньки Зинцова, перебирает по мягкому полу маленькими птичьими шажками.
— Т-ш-ш, спать! — повела усыпительным крылом над кудрявой черной головой и достает клювом упрятанное под изголовьем блестящее. Второй раз я вижу его, и теперь уже не от Ясинки — от ушастой совы в свои руки получаю. Зажимаю крепко в холодной ладони горячий, переливающий разноцветными огнями, чудесный ключик с тремя зубчиками.
— Ты не боишься меня? — человечьим понятным голосом тихо спрашивает ночная гостья.
— А я, кажется, действительно, бояться ее позабыл, лишь сейчас об этом вспомнил.
— Нет, не боюсь, — отвечаю спокойно, удивляясь на самого себя.
— Ключ, ключ береги! — трясет нахохленной головой, предупреждает серая птица. — С ним пройдешь куда тебе хочется. Обувайся, одевайся проворнее!
А бахилы у меня до того старые и пегие, что и показывать их нет желания. Пиджачишка ватный тоже здорово расхудился.
Угадала сова, отчего я прихит и задумался. Тут же крыльями легонько хлопнула — показался на низкой лесенке маленький человек. Из расписной веселой коробочки он вынимает и кладет передо мной маленький бушлатик со светлыми пуговицами, как у Сергеея Зинцова, черные брюки клеш, полосатую тельняшку новенькую, широкий ремень с начищенной медной бляхой, тупоносые ботинки с черными шнурками. Что ни надену на себя — все в точности по росту приходится.
— Теперь за мной ступай, — подсказывает сова. Теми же маленькими шажками, как наверх поднималась, она книзу начинает по лесенке опускаться. Железная дверь над головами сама затворилась. Темно стало в подземелье. Только и заметно впереди, как желтые круги от совиных глаз расходятся. Тороплюсь, чтобы не отстать. Гадаю, высоко ли над нами трава растет, глубоко ли подземные пещеры скрываются. Никакого другого раздумья нет.
А сова чем дальше — осторожнее. Она слышит, как песок пищит, где вода сквозь камень пробивается.
— Куда мы идем? — не выдержал я молчаливого испытания.
— Т-ш-ш, — еле отозвалась сова, припадая головой к земле, перегораживая мне путь растопыренными крыльями.
Так стояли мы долго, не шевелясь, окутанные подземным мраком.
Крот просверлил впереди земляную стенку, прилег на край, вынюхивая тишину острой мордочкой. Успокоился, хрюкнул негромко и снова заработал широкими лапами, прокладывая в подземелье ходы и смотровые оконца.
— Зачем ненужное говорил? Зачем слепого крота потревожил? — упрекнула серая проводница, когда отошли далеко от опасного места. — Слепой крот зеленую змейку разбудит. Зеленая змейка… Т-ш-ш!
В подземелье пробился неяркий свет. За поворотом бурная река преградила нам дорогу. Волны катятся синие-синие, будто их старательно школьным карандашом нарисовали, белые барашки по крутым изгибам пустили. Берега подземной реки гладко выложены желтым мрамором. Тут и там растут изумительные, никогда раньше мною невиданные, с огромными лепестками цветы. Высокая упругая трава, раскачиваясь зелеными метелками, тонко позванивает в цветочные чашечки.
С другого берега пригибают красные листья к зеленой воде мягкие, гирляндами перевитые, диковинные деревья. Выпрямляясь, они снова уходят за реку, подпирая вершинами белое облако. Пестрые пичужки с маленькими крылышками летают над волнами, над лесом, звенят серебряными голосами. Так и хочется за ними погнаться.
— Т-ш-ш!.. Зеленая змейка! — торопливо шепнула сова. Желтые глаза ее сердито округлились, серые перья взъерошились, кривой клюв часто-часто защелкал.
И видно мне, как над мохнатым камнем, укрытым среди цветов, поднимается, трепещет раздвоенным языком пузырчатая голова, слышится тонкий змеиный посвист. В ответ на него раздается сердитое шипение. Тряхнулись, зашелестели потревоженные цветы и травы. Припадая к земле, извиваясь по синей воде, ползет, подплывает, подбирается к нам с разных сторон змеиная злая стая. И нет рядом защитного гибкого прутика, нет по берегу сыпучего песка, на котором змея спотыкается.
А ушастая сова на крыло поднимается, над травой быстрым летом стелется, клювом бьет в гадючьи головы.
— Гибкое, приклонись! Высокое, задержись! — гудит над водой совиное заклинание.
Высокое дерево послушно пригнулось над рекой, положило красные листья к моим ногам.
— Беги, не оглядывайся! — оберегает, торопит меня серая защитница.
И зеленая сторожевая змейка не дремлет на высоком камне. Быстрой пружинкой развернулась, мелькнула над цветами шипящей лентой, отрезая путь. На лету ударило ее совиное крыло, в жесткую траву с размаха опрокинуло.
— Беги быстрее!
Подо мной гнутся синие волны, кружатся над головой быстрокрылые птицы, под ногами мнется странное дерево, перевитое нарядными гирляндами. Змеи с берега пустились в погоню — плывут, нацелив стрелками землистые головы. А ушастая сова на безопасный берег меня выводит.
— Здесь подожди, — говорит она строго. — Единого слова не оборони. Малой веточки не сломи.
Взвилась над вершинами качающихся деревьев, перекувырнулась в воздухе три раза — подлетает к ней белый филин. Переговариваются торопливо и громко на своем, на птичьем, непонятном мне языке. Пропали с глаз.
А в красном лесу над синей рекой такие дива открываются, что от одного погляденья жарко становится. С калиновых кустов, где известная мне ягода растет, кисти сочного винограда низко свешиваются. С другой стороны спелые сливы покачиваются, сизым налетом по лиловому подернулись. Расписные орехи, переплетенные золотой соломкой, зеленые^ стручки с шоколадными ядрышками, малина рассыпчатая, наливистые яблоки и много всего другого, разного, от чего глаза разгораются, понавешано тут и там.
Под кустами густой папоротник зубчатые листья развернул. К каждому зубчику прозрачные леденцы приклеены, сладким маком посыпаны. В кудрявой траве сахарные грибы прячутся, шоколадными зонтиками прикрываются. От вкусного соблазна недавний наказ ушастой совы будто ветром из памяти выдуло. Хочется сахарный гриб, вприкуску с зонтиком, на зубу попробовать.
— Слепого крота припомни! — прозвучало над лесом, едва рука в траву потянулась.
— Голубую змейку не забывай! — повторился голос, когда, не удержавшись, нацелился я на расписной орех, перевитый золотыми соломками.
Впервые, наверно, в тот раз я перед сладким богатством покорно глаза потупил. С той поры и в деревенских садах чужие яблоки не трогаю, хотя очень мне они нравятся.
Скоро и сова от белого филина вернулась, хорошими глазами на меня поглядела.
— Белый филин белую дверь стережет, — доверила мне совиный секрет. — Скоро он в теплое дупло спать уйдет, нас в дороге останавливать не станет. Т-ш-ш, т-ш-ш, язык затвори! Не стучи по лесу громкими ботинками!
Повела меня через качающийся лес на белую землю. И под ногами мягкий белый камень, и сторонами — белый камень, и впереди каменная стена белеет.
Блестящий ключик у меня в руке шевелится. Сам находит узкую щель, отпирает тяжелую дверь.
Тут открылась просторная комната. Нет в ней ни окон широких, ни переплетов решетчатых, а светло, как в солнечный день на улице. Стены в комнате белым изразцом обложены, высокий потолок голубым светит. По четырем углам четыре печки жарким огнем пылают. На каменном полу сердитая старуха сидит, длинной кочергой горячие поленья ворошит — густой дым из подземелья кверху тянется.
«Так вот почему, — приходит догадка, — поля и луга за нашим селом, озера и перелески сквозь прохладную росу начинают вдруг густым дымом куриться. То подземные печи топятся».
От жары старуха совсем разомлела, а дело свое не бросает: длинная кочерга от печки к печке так и летает, нам дорогу перегораживает.
Повеяла сова ленивым крылом, опахнула старую свежим воздухом — задремала она, как сидела. Длинная кочерга вдоль стенки легла.
— Спи, не просыпайся! На обратном пути не встречайся! Т-ш-ш, т-ш-ш, — шепчет сова.
А чудесный ключик мою руку сам направляет, потайную дверь открывает, помогает пробраться через узкие норы, через темные коридоры, выводит к серебряной площадке, за которой стоит золотая дверь. На литом серебре чугунные сторожа стоят, тяжелые копья в руках держат.
— Слушай, слушай! Здесь Улыбинка живет, — шепчет издали притихшая сова. — В золотую дверь один, один пойдет, кто волшебный ключик Ясинки несет. Подходи смелей к затворенным дверям, покажи его чугунным сторожам.
— Здесь моя дорога кончается, здесь твоя забота начинается.
Сказала-пропала, а напутственное слово мне оставила.
Под ногами литое серебро звенит, тонкий ключик подземную стражу слепит. Чугунные сторожа расступаются, золотая дверь открывается.
Ох, какое под землей великолепие! На гранитных подпорах огромный зал весь зеркальным хрусталем блестит, разукрашен драгоценными каменьями. Под мраморным сводом рубиновые звезды горят, тонкий месяц над ними по кругу ходит. Маленькие кузнецы по веселым наковаленкам бойкими молоточками бьют, певучие струны куют. Дверей в большом зале перечесть нельзя.
По плитчатому полу живые куклы бегают, красными каблуками звонко постукивают.
— Улыбинка! Где ты прячешься, Улыбинка? — закричали дружно, обрадовавшись маленькому бушлатику со светлыми пуговицами. — Сюда беги скорее! К нам новая игрушка пришла.
И выходит на зов золотокудрая девочка, в голубое одетая. Настоящая девочка, какие на земле живут. Ласковая она, и немножко печальная.
— Правду подружки мои говорят, что ты новая игрушка? — тихо спрашивает Улыбинка.
А я и в самом деле словно заводная игрушка стал: ничего ей не отвечаю, только согласно головой покачиваю. Черный бушлатик без меня моими руками управляет — опускает их и поднимает.
— Игрушка, игрушка! — наперебой кричат развеселившиеся куклы.
— Давай с нами в кораблики играть.
— Давайте в кораблики играть, — согласилась Улыбинка. — По воде будем плавать.
Маленькой рукой гладкую плиту подняла — быстрая река под высокими сводами вспенилась. По волнам две легкие лодки плывут, белыми парусами покачивают. И представляется мне, что я — это уже не я, а бывалый матрос с большого корабля. Знаю, как нужно крепкие узлы вязать, умею летучим парусом управлять.
Хорошо идет наша лодочка. Довольна Улыбинка, что умею я руль держать, с волны на волну перескакивать. Приотставшим подружкам платком помахивает.
— Нет, ты не игрушка, — говорит мне задумчиво. — Игрушки всегда смеются. Игрушки такими не бывают. Ты человек с красивой земли. На земле живет моя матушка. Там зовут ее Добринкой. Унеси меня к моей матушке!
Лишь сказала — подул в подземелье ветер, замерцали под сводом рубиновые звезды, тонкий месяц над ними быстрее заходил по кругу: распахнул высокие двери сердитый подземный царь.
— Где ты бегаешь, Улыбинка? — грохочет он громким голосом. — С каким гостем там разговариваешь?
— У нас новая игрушка! К нам новая игрушка пришла! — отзываются быстро живые куклы. — Мы в корабликах по воде плаваем.
— К берегу приставайте! Сюда проворно бегите! — ветром дышит на волны подземный царь.
Паруса гнутся и выпрямляются. Ускользает наша лодка дальше-дальше, правит к двери по сверкающей струе.
Распахнулась на миг золотая дверь, тут же накрепко со звоном захлопнулась. Над чугунной стражей, над серебряными ступенями мелькнула наша лодка — упала в темноту.
От погони бежали — ушастая сова нас крыльями заслоняла, желтыми фонарями путь освещала, пока не звякнул в землянке широкий железный лист.
Далеко осталось подземное царство, быстроходная лодка там осталась, и я уже снова не бывалый моряк, а просто Костя Крайнов из Зеленого Дола, которому жалко с Улы-бинкой расставаться. Стоит она посреди землянки, вся голубая, светло и грустно со м, ной прощается:
— Я на волю, к матушке побегу. Мы с тобой, не огорчайся, еще встретимся.
Не останься наяву приметного следа удивительного ночного приключения — может быть, сомневался, может быть, раздумывал бы я: не во сне ли мне все это привиделось? Но с рассветом Ленька Зинцов каждому пильщику маленькую подковку показывал.
— Вот здесь она, у самого приступка лежала. Шипами в землю так и врезалась.
Степан Осипов ничего не сказал, только засохшую портянку через колено с нажимом перепустил, а дедушка Дружков плечами пожал — усомнился:
— Как же раньше мы ее не заметили?
Одному мне известно, что раньше ее здесь и не было. Пусть громом меня пристукнет, если против правды скажу: не простая это подкова. Пожелает в нужный час Ясинка — превратятся три подковных шипа в три маленьких зубчика на чудесном ключе: открывай им любые волшебные двери, за которые тебе проникнуть хочется!
И другая примета укрепляет меня в своей правоте: морская форма старшего Зинцова в точности по тому образцу изготовлена, который ушастая сова давным-давно для подземных моряков придумала.
Ранним часом
Длинному Степану Гуляеву подниматься с короткой постели всех сподручнее. Стоит ему, повернувшись с боку на спину, ноги поперек землянки вытянуть — они сами маленькую голову вывешивают. Очень маленькая, не по росту, голова у Степана Гуляева. Плечи костистые, угловатые.
Прижимая руки под грудь, он долго и страшно кашляет, перегибаясь в три погибели, хватая воздух раскрытым ртом. Раскачавшиеся кости хрустят и потрескивают — вот-вот Гуляев по частям рассыплется.
— Курнуть… разок… Отляжет, — задыхаясь и перебарывая кашель, рассыпая толченую махорку из скрюченной ладони, торопится он начинить «козью ногу». Глотнув еду-чего дыма, крючится ниже, исходит мокротой и кашлем, раскачивая зыбкие нары.
— Эх, Степа, Степа! Степан Иванович! — осудительно мотает головой дедушка Дружков. — Отстегать бы тебя ремнем хорошим, да некому. Дерьмо-то глотать тоже надо меру знать. Ишь, ты! Не успел от постели отвалиться — и соску в рот! Любуйся, как харкотину расплевывает, да сам казнись, — сбочку поглядывает дедушка на Леньку, который в своем углу усердно морщит губы, стараясь затолкнуть ногу в бахилу.
Леньке полезно насчет кашля лекцию послушать. Он от скуки тоже забавляется иногда «козьими ножками». Без табаку, конечно. Пока про табак он и речи не заводит, лишь для пущей важности прикладывает к губам тоненький газетный мундштучок, отпыхивается картинно. Но газетный лоскуток в кармане всегда имеет и на дымящиеся окурки поглядывает вопросительно.
— Смолоду… привык, — выдавливает Гуляев. — Отец… выпьет: «Кури, Степка, пока я жив!» Курю… сам пьяный… от табаку. К-ха… к-ха… Теперь уж нет… теперь не кончишь.
— И ты, отец, — хмурит Никифор Данилович кустистые, сросшиеся на переносье брови, натягивая на плечи чалый кафтан. — Смолоду ребенка отравить — всю жизнь ему испортить. Вырастут, в свой ум войдут — там сами как знают.
Насчет курева дедушка и покруче мог бы словцо сказать, да у самого у него в кармане кисет с самосадом. Дедушку он не портит, но строгое слово, чтобы оно крепко прозвучало, сказать мешает. У дедушки и с курцовскими делами свой, неписаный порядок заведен: «сигаркой» он только после сытного обеда хлеб-соль «на место провожает», на работе за день разок-другой коротенький перекур устроит, спину выпрямит, а в другое время в кисет не заглядывает. Сергей Зинцов того же лада придерживается. Только два Степана ни в еде, ни в куреве сытости не знают.
— Еще маленькую, пока с голодку, — отбросив одну, другую закручивает Гуляев. — Сейчас… кх, кх… рассосется, — мнет пальцами адамово яблоко, растирает под ложечкой.
— Кончай тоску наводить! — раздражается Степан Осипов. — На тебя поглядеть, так умрешь — до смерти не доживешь.
Не надевая ватного пиджака, приспособленного на ночь вместо одеяла, он в одной ситцевой синей рубахе выходит из землянки и на чистом воздухе, пропитанном запахами смолы и хвои, усердно заряжается такой крепкой и такой вонючей махоркой, что от нее даже дым кверху не поднимается, а зелеными волнами стелется по земле, обжигая тугие, блестящие листья черничника.
— Мо… мо… могилу бесплатно вырою, — задыхаясь и булькая мокротой, услужливо обещает Гуляев вдогонку своему напарнику.
Дедушка хочет сказать что-то, усовестить за бездумные слова, и безнадежно машет рукой.
— Двадцать лет ума нет, и не будет.
— Сорок лет денег нет — то же самое, — подтверждает, оживляясь, Гуляев.
— Вовка, чего развалялся! — будит Никифор Данилович заспавшегося внука. — Вставай, вставай, пока петух в маковку не клюнул. Смотри, без завтрака останешься!
Братья Зинцовы уже возле озера. Младший за старшим так по пятам и ходит, во всем ему подражает. Сначала Сергей из широкого ведра поливает Ленькину загорелую спину, потом они меняются местами.
Туман, оторвавшись от берега, сгрудился на середине Лосьего озера. Он стелется, дымится по краям белыми ленивыми завитками, вздрагивает зябко, растекаясь медленно по тяжелой, неподвижной воде. Прибрежные сосны роняют с высоты редкие, мягко шлепающие капли. Чуткие камыши застыли безмолвно, клонясь на воду осекающимися коричнево-темными головками.
Какая-то птица — не разобрать за туманом — стремительно и прямо, словно по протянутой бечевке, пересекает дальнюю заводь, пуская на две стороны расходящиеся переливчатые каемки. Стайка плотичьей молоди стремительно брызнула от камышей, сыпанула по тусклому серебряными искорками.
— Ого! Щука проснулась, — встрепенулся Ленька, клонясь над камышами, и позабыл натягивать полосатую тельняшку, жгутом завернувшуюся на сырых лопатках.
Видно, вновь изменила пильщику деловая серьезность, уступив место азартному рыболову. Ему ли не знать, когда щука под туманом просыпается, на какую приманку окунь идет, по которой стремнинке язи на добычу пускаются! Давно ли, кажись, забрасывали мы березовые, можжевеловые, ореховые удочки в Кщару, Долгое, Удольское и десятки других озер, на двадцать верст, раскиданных по окружности! Плотву и красноперку в жаркий полдень под лопухами кувшинок искали, окуню за глубокие камыши насадку подбрасывали, толстолобых язей на ярах, под кручей, на быстрой струе засекали. Насадками и приманками все карманы забиты! Окуней навозными червями кормили, для плотвы белых ручейников из плавучих трубок доставали, язя на хлебные шарики подманивали. Давно ли бегали с корзинами и лукошками по грибным заречным перелескам! Давно ли не за рублями, а за волшебными сказками ходили в Ярополческий старый бор!
Отгулял, мальчик, свое время! Довелось — без остатка взял, что отпущено было на твое детство. Знаешь, как под ветром рябина шумит, сколько дней на разливе вода держится, под какого Егорья ленивая соха выезжает в поле. Умеешь за бороной шагать, умеешь топор в руках держать— начинай, да не забывай, что и хлебное поле не ради красы волнуется, что и туча с громом не напрасно разговаривает.
В том, двадцать шестом, новая деревня еще старой меркой детство меряла: было — в десять лет в тяжелую работу запрягали, было — до двенадцати поблажку давали. А Леньке уже четырнадцать. Через два года и мне будет столько же. А взрослым рабочим людям, к которым и мы себя причисляем, не до мальчишеских балушек.
«Кто стреляет да удит, у того век ничего не будет» — эта старая поговорка и подростков смущала. Бросай липовый кузовок в темный угол чулана, передавай береженые крючки, витые лески и удочки тем быстроногим, кому еще топор не под силу, пила тяжела, и коса из рук вырывается. Им и звание — малыши, а мы с Ленькой уже лесорубы. И такое у нас желание и старание по всем статьям со взрослыми поравняться, что иногда и старшие на деловитость самых младших удивляются.
— Дедушка, можно и мне с вами на делянку? — спрашиваю, чтобы самовольством не заниматься.
— А кто кашеварить будет?
— Я на часок. Я раньше вас оттуда прибегу — успею приготовить.
Степан Осипов подобную вольность встречает неодобрительно, Сергей Зинцов вообще никакой заинтересованности не показывает, а дедушка говорит:
— Ладно, поверим. Только сначала в порядок здесь все произведи.
Ох, как я в это утро старался! И ложки начисто перемыл, и чайные кружки на самодельной полочке в длинный ряд уложил, и тропинку от землянки до озера еловым веником размел. Куда скука девалась! Откуда расторопность взялась!
Старой мерой
Сухая осень — большие дороги. Прибитые сапогами и колесами, грязные просеки становятся проезжими, от затяжного бездождья опадают глубокие озера, обсыхают топкие болота, по которым, может быть, десять лет никто ходить не отваживался.
Лесным рабочим погожий сентябрь по всем статьям улыбается. И на делянке тепло, и день для работы не короток, и ноги от сырости не преют, и комары не кусают. А к жердяным нарам лесорубам не привыкать: когда крепко устанешь, то и на поленьях спится куда слаще, чем на мягкой перине. Эту истину я вечером узнал, а утром вся дума — поскорее бы на делянку попасть.
Дома не раз доводилось мне с отцом разные колышки, завалявшиеся трухлявые доски пилить, но с корня рослое дерево валить — тут еще покумекаешь, с какой стороны к нему подступиться, каким манером по стоячему дереву пилу пускать. И верится и не верится, что сладишь с такой задачей. Потому, наверно, и не терпится попробовать. А коль браться, тут уж на попятный двор проситься некогда. Какой же после этого ты работник! Кто-то промолчит снисходительно, кто-то улыбнется легонько, кто-то скажет «мало каши ел», а Ленька — завсегдашний друг мой Ленька, тот и в глаза может посмеяться, если Сергей не остановит, и мальчишкам на деревне расскажет, что из меня такой же пильщик получился, как оглобля из кнутовища. На придумки Ленька великий мастер.
Кривая, еле заметная между деревьями, пересыпанная песком, отмеченная пожухлыми травами и сухим лишайником, виляет туда-сюда тропинка. Сколько их с той поры исхожено! — луговых, полевых, пореченских, а та, давняя боровая, с поломанным в низинах папоротником, с темными пятнами растоптанной на следу голубики, с густым запахом багульника, до сих пор отчетливо вспоминается.
«Лесом частым и дремучим, По тропинкам и по мхам…»сами собой рождаются в памяти строчки вынесенного из школы стихотворения. От них и моя тропинка становится такая же дикая, как сказал поэт, и стволистая чаща надвигается глуше, и растревоженные мысли бегут быстрее.
— Гу-у-ук, — обрываются строчки перекатистым гулом тяжелого падения. Земля под ногами вздрагивает, качаются вершины деревьев.
— Гу-у-ук!
Это уже совсем близко. Слышен треск ломающихся сучьев. В просветы между желтых стволов проглядывают белые березы. Одна… другая… третья. Целый берестяной островок замаячил перед моими глазами. Хвоя потеснилась, расступилась по сторонам, уступив белому хороводу просторную круговину.
Весела в однотонном бору береза, да не к месту. Среди сосен, укрепившихся на сыпучих песках, ее редко встретишь, а чтобы на большом пространстве хороводы водить — тут что-то и совсем не так. Бывает, что по берегам лесного озера или вдоль ручья пойдут березы выстраиваться в ряд одна к одной, иногда вперемешку с хрусткой ольхой, иногда с малорослыми ракитами. Но в самой чаще бора?!
…Хочешь, не тогда, мальчишкой, когда самому за диво показалось, а сейчас, через много лет, расскажу я тебе, почему так бывает?
Очень любознательным, больше нас в наши годы сведущим, до всего дотошным вижу я тебя, молодой любитель природы, живых и сказочных приключений, походного костра и шоколадного мороженого. Сидя за столом над книжкой, или отправляясь в колхоз на выборку картошки, или примеривая на плечи рюкзак для очередного похода по родному краю, представь себе такого размаха бор: прямо пойдешь — беглым шагом двое суток через него шагать, направо— за три дня еле одолеешь, а налево — и за четыре не управишься. И нет во всем бору ни одной березки.
Дальше представь, хочешь — старую, двухручную, хочешь — новую, с бензиновым моторчиком пилу, а то и добрый пяток электропил на лесосеке. Появились они в бору — загудели, зашаркали, проложили широкие полосы, словно стригальной машинкой тут и там прошлись. А лесничий нерасторопный был: поленился на свежих порубях молодые посадки сделать. «Бор бором и зарастет», — подумал он. — «Овца жеребятами не ягнится, и от сосны только сосна получится», — решил сам про себя, и поехал докладывать главному, что у него на участке по всем статьям порядок: сосны спилены, бревна увезены, на свежей порубке дружно зеленая молодь пустилась.
А главный тоже неторопливый был, голубые очки носил. И в бумагах у него тишь да гладь, да божья благодать. Докладывает подчиненный — приятно, приглашает на лесосеку посмотреть — значит, все в порядке. Будь что не так — и не вздумал бы приглашать, на свою голову беду накликивать.
Так он и рассудил, как здесь написано. В перегородку локтем постучал — дал помощнику указание, как свежими материалами старый доклад подновить.
Узнали об этом березы — распушили крапчатые сережки, потихоньку с ветром сговорились: «Подуй, ветер, на тот лес. Да посильнее!»
А он и рад стараться: полетел, зашумел. Куда тебе за четыре дня не дошагать, там он часом успел, где двое суток по дороге топать — получасом управился. Засыпал сосновую порубь березовыми чешуйками.
За вертячие пески береза не удержится, но там, где сосна побывала, рыжие иголки растеряла, кустистой травой обросла — там березовому семечку самое приволье. Быстро гибкий росток дает. Оглянуться не успеешь — вся порубка зелеными листьями подернулась. С густым березняком и упрямой елке спорить не под силу, а хрупким сосновым хвостикам из-под зеленой крыши и совсем на свет не выбраться. И пойдут по красному бору разрастаться белые хороводы.
Хороша кудрявая береза и глазу приятна. И в хозяйстве ей почет немалый. Она не то, что осина, которая «не горит без керосина». Береза и на стул хороша, и туесок берестяный плечи не ломит. Из витой березы мужик добрые оси к телеге вытесывает, и в печи она жарко горит — одному лишь дубу уступает, и красивые песни про березу поют, а дома все-таки из сосны рубят. Первейший строительный материал в наших лесах — сосна. Потому заботливый лесник тщательно красный бор оберегает, березе площадь не уступает…
Наши пильщики тоже, оказывается, белоствольными в низинке занялись, тремя парами по большому хороводу разместились.
Обхожу сторонкой ближних ко мне двух Степанов, держу равнение на дедушку Дружкова с внуком. Для меня эта пара более привлекательна. Возле нее, да еще рядом с Зинцовыми, чувствую я себя уверенней, чем в соседстве с двумя Степанами.
Очутившись за кустом можжевельника, прячу под него свои желтые кожаные голицы. Хороши они, да слишком приметливы. По осенней ярмарке в таких гулять сподручно, а дрова пилить и постарее годятся. Нравились, когда дома примеривал, а в решительную минуту застеснялся.
— Не мотай пилой! Пускай ее от ручки до ручки свободнее, — прислушиваюсь к наставлениям Никифора Даниловича, которым и он внука подбадривает.
Зря говорят, что у пильщика лишь бы силенка была. И сноровка, видать, тоже требуется.
— Не зажимай пилу, как в жимах! Легче ее пускай. Проворнее назад бери, — всякий раз повторяет Никифор Данилович, когда новое полено, клонясь, вот-вот готово отскочить от плахи.
Серая, рубашка деда, свободно перехваченная тонкой тесьмой, на плечах так и ходит, мелькают туда-сюда широкие рукава, присыпанные свежими опилками, подрагивают стриженные «в кружок» густые, прошитые сединой темно-русые волосы. Обтрепанная шапка-ушанка вороньим гнездом прилегла на комлистый пень, весь усыпанный бугорчатыми каплями сладкого сока. Прохладное солнце не блестит в них, зажигая алмазные огоньки, а тихо, сочувственно, по-стариковски оглаживает со всех сторон рассеивающимся мягким светом.
Вдоль дружковской полосы из конца в конец рассыпаны звеньями тяжелой цепи березовые кругляши, заведен «обал», как говорят в нашем заречном краю лесорубы. А у двух Степанов белая цепочка уже бугорком вырастает, подсказывает, что хотя и торопился я вслед за артелью на делянку попасть, а не так-то уж быстро собрался. «Может, лучше было бы совсем не приходить?»
Долго стоял я за можжевеловым кустом, над спрятанными красивыми голицами, порываясь и не решаясь оставить свое убежище. На делянке кашеваров не бывает: явился — покажи себя работником, докажи, что и у тебя «руки— не крюки», не лыком к плечам привязаны. Докажешь — тогда и улыбнуться можно, не сдюжишь — печально будет на других улыбающихся смотреть. На смену недавней смелости явилась непрошеная робость, непонятная стесненность и растерянность.
Так бывает порой с нетерпеливым учеником в ответственный момент экзаменов: стоит он за дверью экзаменационной комнаты, подгоняя время, когда можно будет перед экзаменаторами уверенный отчет в своих знаниях толково развернуть. И теряется вдруг, сбивает шаг без уважительной причины, услышав громко произнесенную свою фамилию. И затвержденные формулы из головы улетучиваются, и дверь в кабинет не в ту сторону открывается, и правая рука непонятно зачем двадцать раз застегивает и растегивает подвернувшуюся к случаю пуговицу на новом костюме.
На делянке экзаменационных билетов не бывает, вызов по списку не производится. До поры до времени никто твоего волнения не знает, в пильщики производить не собирается. Зато назвался груздем — тут тебе и кузов: вся артель соберется первую пробу посмотреть. От подобного внимания заранее поджилки подрагивают.
И прикидываю я, стоя за кустом, что есть еще время так же незаметно, как сюда заявился, и в обратную сторону податься. Вот она — лукавая тропинка: вперед зовет — сердце поет, к березняку приткнулась — оробеть заставила. Очень подошло бы к такому случаю изречение нашей бабушки: и хочется, и колется, и брюшень болит.
Перебираю в уме разные разности, можжевеловые ягоды тихонько ощипываю, а дедушка с делянки громко спрашивает:
— Кто там за кустом шебаршит? Подходи, не стесняйся!
И объявляет, измерив глазом высоту солнца:
— Перекур с дремотой. Отдыхай, Вовка, смена явилась! Гуляев уже на ходу лоскуток газеты на палец накручивает, сияет от удовольствия.
— Садись, Степан Петрович! — ногой подкатывает напарнику шершавый комелек. А когда Осипов нацеливается присесть — с той же веселой беспечностью его откатывает.
Степан Петрович припечатывает задом пустое место, махорка из просторного кисета подпрыгивает ему в лицо, осыпает густо жиденькую белесую бороду.
— Дура чертова! — отпыхивается краснощекий Степан Осипов, поднимаясь раскорячкой.
А Степан-победитель, развеселившись от удачи, заводит навстречу приближающимся братьям Зинцовым:
— Жили-были два брательничка, Хлебосея-аккурательничка, Накосили они возок сенца, Уложили посередь польца. Ла-а-потки-то кругом верста, А рубашка из того же холста… Не сказать ли нам опять с конца?— Бубен бы тебе в руки, да в балагане выступать, — отводит душу осерчавший Осипов.
Если Степан «сдобный», как величают под веселую руку Осипова, недовольство показал, Гуляев ему наперекор и того усерднее взыграл, откуда прыть взялась. Согнулся, переломившись в коленках, заколотил разлапистыми ладонями по брезентовым бахилам, словно хороший плясун по голенищам хромовых сапог.
— На полатях стог метали. На печи колья тесали, Огорожи городили, Чтобы мыши не бродили, Тараканы не скакали, Даром сена не таскали. Ла-а-апотки-то кругом верста, А рубашка из того холста…— Хватит, пожалуй. Поиграл дерьмом, да и за щеку, — спокойно высказал свое мнение дедушка.
А наша сгрудившаяся мальчишеская компания не прочь бы и еще гуляевские присказки послушать. По-ярмарочному забавно у длинного Степана получается, и песенка про «брательничков-аккурательничков» забавная. Будь с нами на делянке Костя Беленький — обязательно в тетрадку бы ее записал.
Часто друзья хорошей памятью вспоминаются, когда нет их рядом. Учится былой «охотник за сказками» в городской школе. Может, учителем куда-нибудь уедет, а может быть, снова в Зеленый Дол вернется. А Надежда Григорьевна уже не вернется. Научила нас читать, писать, считать, попрощалась над речкой Белояром — и нет ее.
В тихих разговорах (чтобы взрослые не слышали) мы с Ленькой Зинцовым снова по знакомым местам в Ярополческом бору гуляем, знаменитое «сторожевое гнездо» на сосне устраиваем, сажаем молодые сосенки на поруби, разыскиваем в ночной темноте таинственную Гулливую поляну, слушаем неписаные лесные сказки дедушки Савела. И лес, помогая свежей памяти, шумит над нашими головами похоже, как тогда, в июньские дни мальчишеского похода, и дятел вдали выбивает знакомо негромкую дробь, и проворная ящерка шныряет в траве, шелестя пожухлыми лепестками. Только переспелая черника на пружинистых стебельках, ставшая водянистой и невкусной, напоминает, что тот июнь давно миновал — сухое бабье лето стоит в бору. Только распиленные березовые стволы, осыпавшиеся ветви, на которых еще не успела завянуть огрубелая листва, говорят молчаливо, что сегодня мы не праздные гости в Яро-полческом бору.
Притихший над самокруткой Гуляев веселее прежнего оживился, когда Никифор Данилович, вооружившись пилой, кивнул в мою сторону:
— Ну, что ж, кашевар, давай попробуем!
Березу облюбовал — надо бы корявее, да не отыщешь. Вершина завалилась на сторону, по витому комлю береста потрескалась, затвердела косыми ребрами.
— Дурную одолеешь, после нее хорошая сама тебе в ножки поклонится. Давай-ка топор! Вот так делай, — обкалывает он по кругу загрубевшие ребра. — Пилу поберегать надо. На таком железе сразу зуб собьешь, — наставляет он на будущее.
Новое от старого начиналось. Зеленодольскому ли. деду в ту пору было знать, что скоро запоют на лесных делянках самоходные электропилы, в одиночку будет валить вековые сосны тихий Вовка, внук Никифора Даниловича. С такой техникой не зевай, нажимай, веселее в резу пошевеливай — любую костяную, не поперхнувшись, стальными зубами сгложет!
Наша молодость со старой двухручной канионки начинала. Здорово она молодого да неопытного мучит, зато хорошо и учит. В книжке про валку леса прочитал — ты еще не узнал, на какой минуте руки от напряжения немеют, до какой мокроты спины потеют.
— Держись за другую ручку, чтобы не вырвалась, — подает мне дедушка изгибистую, до блеска начищенную, каждым зубчиком сверкающую пилу. — А голицы где?
Пилу настоящие пильщики всегда на полный мах пускают, чтобы на всю длину работала, ручками о дерево пристукивала: в голицах руки легонько пришибает, а гольем и синяки на чиколотках можно набить, и до крови суставы разназить.
— Там оставил, — отвечаю смущенно и не совсем понятно, боясь указать на можжевеловый куст. Очень уж нарядными наградила меня мамка голицами, разве только самому бывалому лесовику они к лицу, а мне совсем некстати.
— Возьми пока эти, — подбрасывает Сергей Зинцов обшитые холстом мягкие Вовкины варежки.
— Ноги пошире расставь, а к дереву поближе придвинься, — присматривается, подсказывает дедушка.
— Пилу крепче держи, а то на шею бросится! — пугает оробевшего Степан Осипов.
— Спину покруче изогни, руками до песков дотягивайся, — не обращает внимания дедушка на смешливые выкрики. — Заводи легонько.
С первым же махом Степан Гуляев, раскачиваясь туда-сюда, протяжно заприговаривал:
— Ты пили, пили, пила. Ты отточена и зла, Да покорствуй силушке Пильщика Вавилушки!Есть у меня горячее желание немедленно доказать, что «Вавилушка» тут совсем ни к чему, а пилу, как нарочно, в стволе зажало — не протащишь.
— Вырубай, пока к березе не приросла! — допекает длинновязый.
— Это тебе не в лапту шариком стрелять, — подсыпает сдобный.
Креплюсь, помалкиваю. У Вовки Дружкова глаза навыкате, слезы по щекам ползут серенькими букашками. Растирает их грязным кулаком, смотрит на меня жалобно. «Вот уж, думаю, ни за что не заплачу! Хоть сто самых обидных прибауток выдумывай!»
— Заторопили пилу, наперекос пошла, — не сердится, спокойно объясняет дедушка. — Придется другой раз заново начинать. Пилу не нажимай, легко и ровно пускай. Она сама возьмет, сколько следует.
Перенимаю науку. Легко ручку в сторону Никифора Даниловича пускаю, ровно и плавно ее на себя беру.
— Так, так! Не торопись, всему свое время.
Похоже на то, что дело на лад пошло. Пила не дребезжит, а посвистывает, заныривает блестящим полотном в крутую древесину. И руки, чувствую, дрожать перестали.
— Теперь нажмем!
Дедушка вдруг бойким молодчиком встрепенулся. И я на добрый зов горячим усердием отвечаю. Веселее запела, заиграла, застукала проворными ручками по березе остро наточенная, на полный мах разлетавшаяся пила. Желтые опилки на землю, на траву, на бахилы светлыми струйками так и брызжут.
Ленька Зинцов, загоревшись, подскочил на подмогу.
— Давай, давай, не задерживайся — я сам подрублю! Пошел топором работать. С одной стороны пила березу, не задерживаясь, точит, с другой — приятель мой усердно и сочно тяпает. Дохнула, зашевелила береза густолистой вершиной: раскачивается тихонько, то отпустит пилу, то, назад отклоняясь, прижмет ее. Тут на силу не надейся, момент лови! Прислушиваюсь, когда дедушка ручку пошевелит, без слов его команду угадываю.
— Пошла, пошла! — на весь лес загорланил Ленька, отскакивая в сторону.
Как ей не хотелось! Она еще раз выпрямилась перед тем, как упасть. Вздрогнула, качнулась легонько и, набирая скорость, с шумом и треском рухнула всей громадой, взметнув кверху осыпавшиеся сосновые иглы, комья земли, расшвыряв подвернувшиеся под ствол поленья.
Это я такую огромную, такую сувилую уронил! Даже не верится.
А дедушка хлопнул сзади ладонью по плечу, кашлянул:
— В нашем полку прибыло. Не робей, кашевар, из тебя выйдет толк!
— А бестолочь останется, — не удержался, ввернул-таки насмешливое словцо Степан Гуляев.
Ленька, отправляясь на свою полосу, подрягал над головой пальцами.
— Пильщик, не роняй нашу марку!
Работать на пару с Никифором Даниловичем было не так чтобы очень легко, но все-таки приятно. Роняя деревья, он так всем пластом их укладывал, что и без козел, поддерживаемые поленьями и перекладинами, они всегда на весу держались, пилу не зажимали.
И было у дедушки такое словцо, от которого и обмякшие руки сразу крепчали.
— Веселей! — крикнет неожиданно, когда тяжелое полено начнет клониться, готовое отскочить от длинной плахи. Тогда уже совсем не уследить, с какой быстротой пила мелькает, одно «тук-тук» беспрерывно в ушах раздается.
Любил дедушка, чтобы полено от плахи чистенькое, без малой защепины отлетало. Тонкие обломки на концах, которые у нас лычами называются, терпеть не мог. «Не пильщики, — скажет, — здесь работали. Пильщики такого сраму не допустят». И когда пила не успевала лыч отмахнуть, он всегда сердито лаптем его отбивал. И у меня интерес явился, чтобы без лыча полешки на землю пускать. И рубашка вдоль спины давно сырая, и в глазах серые кружочки мельтешат, а все стараюсь быстрее пилу руками подталкивать.
— В одну залогу без малого сажень накатали, — присаживаясь «прохолодиться» на ветру, прикинул дедушка на глаз дровяную россыпь. К погонным метрам, к непонятным кубометрам он привыкнуть никак не может и, затвердив накрепко сажени и аршины, прикидывает всю работу на старую мерку.
За переводчика у деда Сергей Зинцов. Так подсчитывает:
— Погонная сажень, это, примерно, три и семь десятых кубометра получится.
— По рублю без гривенника?
— Девяносто копеек за кубометр.
Дальнейшие подсчеты Никифор Данилович самостоятельно продолжает.
— Три по девяносто, это будет… это будет, — прикусывая и отпуская бороду, вслух решает он задачку на устный счет. — Это будет два семьдесят. А десятые как?
— Десятые всего шестьдесят три копейки стоят.
Денежные дела нас, младших, мало интересовали. Считай не считай, тебе в карман больше гривенника на семечки не перепадет.
— Три тридцать три, — распустив сдвинутые у переносья брови, вывел окончательный результат Никифор Данилович. И сам удивился:
— Три тройки сложились. Такой счет на редкость получается! Счастливое число!
Перед обедом дедушка святого креста с молитвой всевышнему на лоб себе не кладет, чертей и леших только в сказках признает, от сельского попа в сторону отворачивается, а в три тройки, как в добрый знак, верует.
— Примета хорошая, — говорит мне одобрительно. — Удачливым в работе будешь. И заработок для начала недурной!
— На троих поделить — все тройки поодиночке разлетятся, — улыбается Сергей Зинцов.
— Ничего не разлетятся. Три единички получится — опять тройка — не уступает дед, будто у него из рук пойманное счастье отобрать хотят. — Причисляй к своим кашеварским рупь одиннадцать, — говорит мне строгим тоном.
Степаны про «рупь одиннадцать» услыхали, тоже в чужой дележке живое участие приняли. Любят в голове деньгами шевелить. С малолетними любителями пилы да колуна у них простой разговор: «Помоги — и обратно беги». Удивляются на дедушкину щедрость, прикидывают:
— За девяносто копеек в городе килограмм хорошей колбасы можно купить — во как сыт будешь целый день! — отмеривает Степан Осипов ладонью на высоте подбородка. — Остальное на пряники.
— А что ему пряники! Пряниками маленьких ребятишек кормят, — не дает своего согласия на сладкое Степан Гуляев. Прищелкивая костистым пальцем над выпирающим острым кадыком, он предлагает употребить деньги на какие-то капли, о которых Осипов даже слышать не хочет, немедленно обращая внимание на сизый нос своего напарника.
— От живительных-то капелек вон какой звездой он у тебя засиял!
— Али шутки не понимаешь?!
— Дурная шутка. И не к месту, — завязывая Вовке до крови сшибленный палец, сказал Сергей Зинцов.
Не вникая в спор, которому моя первая сажень дров причиной, объясняю дедушке Дружкову, что у нас дома почитать нечего, надо бы какую-нибудь книжку купить.
— Почитай отца с матерью, — наставительно замечает дед. — А деньги понапрасну на ветер не бросай, за них спину ломать приходится. А рупь с копейками, я скажу, чтобы не брал — это по твоей доброй воле заработаны.
Добрый дедушка Дружков, и строгий тоже: от насмешки зашипит, не за свое дело берешься — предупредит. Из всех советов у него постоянный и главный: с правильной стези не сбивайся!
— А теперь отправляйся кашу варить, — напомнил он.
Веселым и богатым, бесконечно счастливым возвращался я к землянке памятной тропинкой. И ноющая боль в руках была приятной, и потная рубашка прохладой свежила спину, и красивые голицы, в которых лишь по ярмарке гулять, теперь нисколько меня не смущали.
Васек-Козонок
— Эй, барыня, в лес далеко не забивайся! По бережку гуляй. Сейчас мы с тобой будем рыбу ловить. Хочешь свеженькой рыбки с солью?
Голос — бас, спокойный, уверенный. С противоположного берега он доходит до слуха так отчетливо, будто разговаривающий стоит совсем близко от меня, вот за этой сосной.
Появлению безвестных на глухом безлюдье нельзя не подивиться, тем более в такую рань, когда и солнце вровень с лесом не успело подняться, и чашки-ложки после раннего завтрака у меня еще не убраны. К Лосьему озеру и ясным днем нелегко дорогу отыскать, а ночью, должно быть, сюда и вовсе не пробраться. Какая причина этих заставила в темноте след нащупывать?
Из-за тростника выгляну, к камышам ползком переберусь — с разных мест выслеживаю, стараясь обнаружить неизвестных. «Что это за люди? По какому делу они сюда заявились? От кого в густой чаще скрываются?»
Много разных вопросов у меня набирается, которые неотложного решения требуют.
Солнце, полосами пробиваясь на озере, выстилает его розоватым паркетом, подсвечивает переливчатыми бликами. Заросли гречишницы широкими мысами распластались по воде, отмечая мелководные извилины. Ищешь брода — правь шаги по зарослям гречишницы. Не пугайся, что в цепких стеблях непослушные ноги заплетаются, зато пробредешь— головы не окунешь, береженая ноша в твоих руках сухой останется.
Растревожил, насторожил меня басовитый разговор за озером: придумываю, примериваюсь, каким путем поудобнее к незнакомцам подобраться, разведать втихомолку, кто они и что они, какие недобрые мысли про себя таят.
Вода в озере не та, по которой летом плавают, но было дело — и в холодную окунаться доводилось. Самое главное — смелости набраться, штаны с ног стряхнуть. Без штанов на холоде долго мечтать не будешь, поневоле в воду заторопишься.
Выбираю под хранилище серую березу. Бац штаны сверху на самую глубину дупла!
Бесштанному над озером почему-то древние припоминаются. Даже картинка из одной книжки глазам представилась: под ветвистыми баобабами широкая вода расплеснулась, над ней маленький кончик тростниковой трубки торчит. Под светлой волной голый древний барахтается, с глубины в длинную тростинку дышит. Здорово древние хитрить умели!
Но по хитрому способу через Лосье пускаться у меня смелости не хватает: с тростниковой трубкой и утонуть недолго. Поэтому свой метод придумываю, тоже древним под стать, но все-таки надежнее. Надергав охапку прибрежного камыша, осторожненько веду ее впереди себя, приклоняя голову к самой воде. Попробуй-ка догадаться, что это не просто камыш плывет, а позади него еще и человек идет!
«Нет, голубчики, как ни хоронитесь под зеленым укрытием, а вам меня вовек не перехитрить!» — думаю об озерных потусторонних, легонько подталкивая плавучий камыш, и осторожно, чтобы вода не плескалась, не булькала, переступаю босыми ногами по илистому дну. Гречишница заплетается, путается под ногами, задерживая движение. Дрожу от холода, но от задуманного плана не отступаю — настойчивость вырабатываю.
— Эй, барыня, осторожно за кустом поворачивайся! — снова слышится примелькавшийся бас. — Червячницу под берегом в воду не опрокинь!
Барыня на такое замечание — ноль внимания, ни единым словом себя не выказывает. Только, слышно, ветки под ногами похрустывают, показывая, что она где-то поблизости гуляет: «То ли она такая молчаливая? — думаю. — То ли, может быть, совсем немая?»
Чем ближе к отдаленному берегу подхожу, тем больше любопытство меня разбирает. Наметил для выброда укромное местечко под нависшими кустами ольхи — туда мокрый камыш впереди себя подталкиваю.
— Здесь обрыв крутой. Можно с головкой ухнуть — и дна не достанешь, — прямо надо мной рокочет предупредительный бас.
А я уже ухнул. Забалакал по воде руками и ногами, только брызги во все стороны полетели. Про хитрую осторожность и думать забыл, лишь поскорее бы на сухое выбраться. Кого целое утро тайком выслеживал, он же меня и на берег за руку вытаскивает.
— А ты хорошо плаваешь, — похваливает. — Саженками. До земли ногами не достал?
— Куда там!
Пробирался я через гречишницу, чтобы неприятеля за озером обнаружить, а на бугорке друзьями сидим. Бас-то, оказывается, совсем мальчишка.
— Сначала ты правильно шел, — описывает пальцем зигзаги по моему следу, — только под берегом с мели сорвался. Залевил немножко.
Напрасно, оказывается, я себя за опытного разведчика посчитал. Сам же под наблюдение и попал.
— Ты давно меня увидел? — спрашиваю.
— Когда с бревешка посуду полоскал. Потом на березу забирался, штаны в дупло бросал. А потом, смотрю, камыш стал выдергивать. Дело ясное, что плыть собираешься. На камыше хорошо. На нем легко плывется.
И досадно мне, и признаться стыдно, что подозрительных посетителей выслеживать через озеро перебирался. Ведь это о нем, который из воды выбраться помог и сейчас обо мне не хуже самого близкого друга заботится, я так дурно подумал.
— На ветру сырой-то не засиживайся, — остерегает лесной паренек. — Живо прохватит. Ты бегай по берегу, не останавливаясь, а я сейчас обогреться чего-нибудь принесу.
Серые глаза у паренька сообразительные, разговор по-мужскому деловитый. Низеньким ростом он мне в младшие братья годится, а догадливостью за старшего берет. Хочешь не хочешь, а приходится соглашаться, если сам не знаешь, как в сырой рубашке на свежем ветру отогреться можно.
— Тебя Костей зовут, — интересуется сероглазый.
— Ага, Костей Крайневым. А тебе кто сказал? Прищурился с хитрой лукавинкой, тряхнул головой.
— Вода сказала.
— Какая вода?
«Хоть ты и ловкий, — думаю, — и знающим представляешься, а на дурачков тоже не надейся».
— Вода не разговаривает, — отвечаю небрежно и немножко с задиринкой, чтобы и наперед желание отбить с серьезным видом дурачиться.
— Вода не разговаривает?! Ты не слыхал?! Никогда не слыхал?!. Тогда услышишь! — не шутя обещает странный спорщик.
Простоволосый, в длинной рубахе беспояской с закатанными до локтей рукавами, в низких кожаных чулках, подвязанных у лодыжки тонкой бечевкой, в самотканых коротких штанах «дудочкой», в эту минуту он показался мне до таинственности странным. Приклонившись плечом к вило-ватой сосне, он сделался как-то еще меньше, будто на четверть в землю врос, а глаза большие-большие, смотрят, не мигая, на дремотное Лосье озеро.
И хорошо вдвоем на пустынном берегу, и тревежно почему-то. И уже нет у меня никакого сомнения: что сказал сероглазый, так оно и случится. Оживились в воображении сказочные лесные гномы, которые — не ждешь, не гадаешь — появляются вдруг из-под земли: все видят, все знают, чему быть с человеком — заранее определяют. Но гномов я представляю и маленьких все-таки старенькими, с мудрыми большими бородами. У мальчишки же признаков бороды и в помине нет. Голова, правда, увесистая. Жесткими загорелыми руками он беспрестанно ерошит густые волосы, и, заметно, среди темно-русых мелькает, то исчезая, то снова прорастая, снежной белизны прядка. У приятелей своих такой отличительной прядки я не видывал.
— Бабушкина, — словно отгадав, о чем я думаю, сказал мальчишка. Тут же спохватился:
— Побегу.
При таком обороте и мне пришлось спохватиться.
— А тебя как зовут?
— Васек, — не задумываясь, отвечает на бегу. — Васек-Козонок меня зовут.
Коротенькие кожаные чулки, подвязанные на лодыжках белой бечевкой, мелькают между деревьями.
…Дело прошлое. За долгие годы многое забывается, а давняя встреча над Лосьим озером, белоснежная прядка в густых темно-русых волосах — чуть заслышу лесной ветерок— и сейчас наяву представляется. Как в первый раз, убегая, сказал, так и после много раз Васек называл эту белую прядку бабушкиной. Старой бабке и осталась она на долгую тихую память об ушедшем внуке.
Тринадцать было Ваську, когда помогал он мне выбраться из воды на берег, а еще через пятнадцать лет повесил Василий Кознов старый дробовик на заднюю стенку в маленькой лесной сторожке, сказал, высыпая на пол сосновые шишки из холщовой сумки:
— Война, бабушка, началась! Без меня, видно, одной тебе придется из этих семян молодые сосенки выращивать.
Тогда, на прощанье, и выстригла бабка по стародавнему обычаю пучок волос на голове внука, прихватив ножницами и белую прядку. Перевязала их суровой ниткой, положила бережно в жестяную коробочку. В одинокие часы вспоминала, глядя на них, далекого внука, в робкой надежде засматривала на безлюдную тропинку, по которой ему к дому вернуться.
В боях под Оршей погиб гвардии рядовой, лесник Яро-полческого бора Василий Кознов. Другбй бревенчатый дом стоит ныне над тихой заводью, на памятном месте былой сторожки, другая семья бережет лесной покой над Лосьим озером, от которого веет на усталого путника зеленой тишиной и задумчивой светлой сказкой. Старые деревья на берегу погнулись, расшатались корнями, молодые вытянулись в небо. Лишь Васек для тех, с которыми расстался, всегда будет сероглазым мальчонкой, нестареющим, неизменным. Таким вижу его над водой, в темной зелени, у костра на осенней поляне, где однажды повстречалось наше детство. Ни ливень не замывает, ни пурга того следа не заметает…
Топаю босыми ногами вдоль берега, согреваюсь, поджидая убежавшего Козонка.
Он вернулся с охапкой сухого сена. Подвязал шнурком мою распущенную сырую рубаху, спереди и сзади натискал под нее «согревательного».
— Теперь не простудишься. Можно до вечера хоть по сырой траве кататься.
Стал я похож на мешок, гуменной половой набитый. Покалывает под лопатками, но терпеть можно; зато теплее стало. А Васек предлагает на мое собственное усмотрение и на выбор:
— Хочешь — сейчас к бабке в сторожку пойдем, там моментально возле печки рубаха высохнет. Не хочешь в сторожку — рыбу ловить на плоту отправимся.
Переминаюсь с ноги на ногу, не знаю, на что решиться. И невидимая сторожка, о существовании которой я даже не подозревал, к себе привлекает, и на плоту с лесным пареньком прокатиться хочется. И осторожность соблюсти тоже надо. Про осторожность я не забываю. Как ни храбрись, а все не на своем берегу.
— С какой это барыней ты разговаривал? — выпытываю не торопясь. — Немая она, что ли, или от меня прячется?
Васек и глаза вытаращил.
— Какая барыня?!
— В секрете, значит, бережется? — шагнул я к озеру, давая понять, что и еще раз могу по Лосьему прогуляться.
— Поплывешь — сосновыми шишками закидаю, — всерьез пообещал Васек. И вдруг расхохотался:
— А-а! Барыня-то! Вон она за кустами от гостей прячется, — пригнулся, показывая пальцем. — Лысанка, Лысанка! — позвал громко.
В ответ раздалось протяжное мычание. Ольховник под берегом зашевелился — и рыжая корова с широкой белой полосой вдоль морды, вытягивая шею и принюхиваясь, затопала широкими копытами в нашу сторону.
— Подходи, подходи — не бойся. Здесь никто не тронет, — ласково подбодрил Васек и, щекоча Лысанку между рогами, похвалился:
— Чем не барыня?!
Протянул ей залежавшуюся в кармане сухую корку, погрозил пальцем:
— Здесь дожидайся!
И у меня была в деревне ученая собака: скажу «прыгай!»— через палку за куском хлеба скакала. Скажу «ищи!» — варежку из-под снега доставала. А ученую корову я у одного Васька только и видел. Ощипывая жесткие верхушки осоки, она негромко помукивала, пока мы укладывали приготовленных Васьком навозных червей, проверяли и примеривали удочки, выталкивали из тростника на широкую воду небольшой плот, сколоченный из сухих сосновых бревен.
— Полный вперед! — встрепенулся Васек, почуяв легкую зыбь под ногами, и веселее заработал длинным рулевым шестом. — Э-гей, Лысанка! По берегу гуляй, в густые чапыжи не забирайся!
Горбатый окунь
Неповоротливый плот идет толчками. Полосами рябит впереди потревоженная вода, говорливо проскальзывая между бревен. Высоко над нами бледное, чуть с голубинкой, небо, под водой, оплетенное травами, купается прохладное солнце, по кромке озера — зеленое кольцо высокого бора.
— Берись за весла! — хозяйственно, капитаном на высоком мостике, командует Васек.
— Бросай шест на воду! — поддерживаю бодрую команду.
Васек не бросает, а укладывает его аккуратно вдоль плота.
— Еще пригодится, — дает знать, плюхаясь позади меня на шаткую дощечку.
Весла на плоту прилажены распашные, как на быстроходной лодке. Рукам работы хватает, и ногам достается. Приятеля мне не видно, только чувствуют его затылком, когда назад с полного маха отклоняюсь.
— Поддай быстрее! — азартится Васек.
И я во все мускулы на весла жму, чтобы окунывались быстрее, покруче завитки по воде пускали.
— Взя-яли… сильно! Взя-яли ходко! — подкрикивает и помогает мне Васек, в такт веслам налегая на бревна кожаными чулками. Расшевелившийся плот пританцовывает, зарываясь и подпрыгивая бревнами, пробивая себе дорогу.
И оставленная без присмотра одинокая землянка, и брошенные в дупло штаны, и приготовленная для супа картошка — в эту минуту все позабыто. «Вперед!» — единственное слово, которое оживляет и подгоняет мое усердие.
— Дуй на плавучий остров! — подсказывает Васек.
Я и «дул» бы, да не знаю, в который край.
— Левым работай! Левым! На острове, знаешь?! В басовитом голосе торжественность.
— Там, знаешь? — повторяет он с добавлением таинственности.
Я еще ничего не знаю, но, конечно же, хочу узнать.
— Там горбатый окунь живет. Знаешь, с золотым пером?
— Далеко? — загадываю я на золотое перо.
— Никуда не далеко! За большим мысом еще мысок. Двести раз гребнешь — и доехали!
Двести раз — это можно. Налегаю изо всех сил, подсчитывая про себя: «Раз… два… три…»
Дощатое весло с налета шлепнулось о волну, кувырком вылетает из уключины.
Раскачивая плот, Васек пристукивает, прилаживает его на старое место.
— Поехали!
«Четыре… пять….» — ускоряю темп. На двенадцатом счете весло снова выскакивает. Когда чересчур торопишься, всегда медленно получается.
— Опять двадцать пять! — огорчается Васек за моей спиной, и так усердно вдавливает весло, так старательно пришлепывает кожаным носком по уключине, что, кажись, ей так тут и сидеть — не вырваться.
— Все равно на крючке будешь! — кулаком грозится он за мысок кому-то невидимому.
«Сто пятнадцать… сто шестнадцать…» — клонясь и выпрямляясь, упорно веду я начатый счет.
Две стрелки, две ленты издалека стремительно идут нам наперерез, рассевая застоявшуюся коричневую гладь.
Чего такое по воде бежит? — круто оборачиваясь, подталкиваю в плечо Васька.
Не отпугивай, ужи подплывают, — снижая бас до ласкового, успокоительно тянет слова заглядевшийся в ту сторону приятель. — Устали на воде, отдохнуть захотелось.
Не смущаясь людей и размеренного бульканья весел, ужи преспокойно забираются на качкий плот, неторопливо, по-домашнему, укладываются на осклизлых бревнах, приклеиваясь на них обмякшими, клетчато-землистыми велосипедными шинами. На головах желтые венчики просвечивают, словно они сейчас лишь цветущие подсолнухи в огороде обнюхивали.
— А змеи тоже плавают? — попримирившись с Присутствием на плоту ужей, другими ползучими интересуюсь я, о которых очень даже много в деревне разговоров идет.
Змеи-то? Еще как плавают! — уверенно подтверждает Васек. — Боишься змей?
— А чего хорошего?! — удивляюсь. — Подплывет вот так, да и тяпнет за ногу. Тогда далеко не упрыгаешь.
— К ужам-то подплывет?! — встрепенулся Васек. — Никогда в жизни! Где ужи заведутся, оттуда всех змей как метелкой повыметет, — то ли успокаивает меня, то ли правду говорит Васек. «Все-таки беспокоится он за меня», — примечаю довольно. Чудно даже, как быстро и хорошо мы поладили. И часу не прошло, когда узнали мы, как друг друга зовут, а будто давным-давно в приятелях ходим.
— Знаешь, какие бои бывают, когда змеи с ужами встретятся? — бочком пристраивается Васек на узком сиденье за моей спиной. — Побывал бы здесь позапрошлым летом, тогда бы увидал! Тогда бы не сказал, что змеи подплывут! Чего молчишь?
А у меня рот раскрывать всякое желание исчезло. Не часто при интересном деле подобное настроение случается, но все-таки бывает, когда ни шевелиться, ни говорить не хочется — глядеть, ничего не примечая, слушать, ни во что не вникая, ни о чем не думая, хочется. Такая стихия ни с того, ни с сего и на меня вдруг на широком водяном раздолье накатила. Весла в руках еле шевелятся, мысли неведомо в каком далеком краю витают. И поросший соснами узкий мысок, далеко забежавший в озеро, и мирно разлегшиеся по соседству с нами старые шершавые ужи, и зыбко качающийся под ногами плотик — все видится будто через мелкую, мягко мерцающую сетку, представляется необычно-новым, таинственно-манящим. Не поворачивая головы, вижу за спиной обещанный Васьком плавучий остров, разметенные из края в край желтые песчаные тропинки, в густой зелени маленький двухскатный шалаш. Поселяйся и живи, сколько хочется, — никто тебя не побеспокоит, никто с дальнего берега до плавучей земли не дотянется. Можно промышлять рыбой, можно развести вишневый сад…
В детстве хорошо мечтается, особенно в новом месте, которое тебе по душе пришлось. Под эти нахлынувшие вдруг мечтания слушаю негромкий рассказ лесного приятеля. Слова до ушей будто издалека доходят, потому что рассказчик спиной ко мне сидит, в другую сторону разговаривает.
— Сначала змей здесь много водилось. Ходи, да оглядывайся, — признается Васек. — И под берегом, и в трухлявых пеньках гнезда завели. Такие гадючие!
— А ужи чего делали?
— Подожди! Ужей тогда не было. Ужи после из Серой балки приползли. Тут и пошла драка. Бабушка первая заметила, что над Лосьим дело неладное. «Васютка, говорит мне, от сторожки никуда не отходи. Теперь и ужи, и змеи обозленные. Куснут — беда тогда!» Ой, бабушка! Она и сама не знала тогда, что про ужевые зубы только сказки выдумывают. Попробуй, возьми, который побольше! Положи ему палец в рот, — советует мне Васек.
И хотя я в словах не сомневаюсь, а ужа в руки брать никакого желания нет.
— Не хочешь? Ну и пусть. У него зубы-то и не ущупаешь! Летом я ужей себе под рубаху пускаю. Подвяжу пояском — и пускаю. Они любят. Ужей одни лягушки боятся, и то Сами в рот к ним ползут.
Разошелся, разговорился басовитый паренек. Начал про змеиные бои, а тут на лягушат повернул.
— Ты про то договаривай!
— Про змей-то? Больше не явятся. Бабушка тогда меня напугать хотела, чтобы дома сидел, а только подзадорила. У меня привычка такая. дурная: чего бабка не велит делать, то и хочется. Утречком проснулся, пока она спала, потихоньку длинные бахилы натянул, да и на подмошник, где змеи прячутся. Там ручеек в озеро бежит, низинка сырая. Самое змеиное место. Сюда редко кто забирается.
Только за кочку заскочил — зашипело. Тоненько так, на змеиный свист похоже. Бежать мне некуда, как раз в трясину сорвешься. Тонкий прутик в руке наготове держу. Только бы голову показала — сразу надвое пересеку. Змею прутиком всего легче надвое разделить, и топора не надо.
— И ты сам пересекал?
— А кто же за меня будет?! Не бежать в сторожку за бабушкой! Нацелился на одно местечко, поджидаю. А слева тоже шипит. И позади, слышу, ожило: ф-тью, ф-тью.
Васек в ловкой натуре изобразил сердитое шипенье с присвистом. В тот же миг спокойно дремавшие ужи вскинули головы, зашипели враз, обшаривая воду засветившимися черными глазами.
— Вот так, в точности так было! — взликовал Васёк. — И тонкий свист, и погуще. А трава, словно ветер подул, зашевелилась. По всему подмошнику настоящая война закипела. Ох, какая война! И я березовый прутик наготове держу, а пустить его в дело никак нельзя, потому что где змея, на хвост поднявшись, извивается, там и уж перед ней шипит, где змея — там и уж. Гадюка все зубами цапнуть норовит, а уж хлоп ее хвостом по голове — голова набок. Не успела выпрямиться — хлоп, хлоп! Со всего маху так и лепит. Без промаха бьет! А шлепки, знаешь, какие крепкие! Хвосты-то у них, смотри, не тощенькие! — кивнул на бревно, по которому, выгибаясь, снова выползали на воду отдохнувшие пловцы. — Так что ужей бояться нечего. Они отсюда и гадюк всех повыгнали. И поглядеть захочется — не отыщешь… Причаливай боком! Бросай сюда удочки!
Приткнув плот шестом, Васек первым соскочил на берег. Весь островок под ногами колыхнулся, заходил изгибистыми волнами из края в край. Он совсем не похож на тот, уютно-солнечный, с разметенными гладкими тропинками, с двухскатным шалашом в сочной зелени, о котором замечталось издали. Лежит на воде травянистый блин с камышовой оторочкой, из края в край двух десятков шагов не насчитаешь. Из травы сухими хворостинками безыглые сосенки торчат, в пучках тростника два ольховых кустика заблудились.
— Сюда подавайся, — тянет Васек за рукав.
Островок дрожит и расшатывается, по следам проступает коричневая жижа и, не задерживаясь, уходит вниз. Не песчаная тропинка, а будто плохо сотканный из надежного шпагата брезент брошен нам под ноги, прямо на воду, — так густо переплелись тягучие корни трав, водорослей, кустарника. Обрезки досок, брошенные у тростника, все-таки надежнее самых прочных сеток! Васек устраивается на одной полоске, я принимаю пятками другую.
— Здесь он, — шепчет возбужденно мой приятель, подсмотрев, как боком-боком огибает островок красноглазая плотва. Переспрашивать и выяснять не надо — я и сам не кое-какой рыбак! Конечно же, про него, про горбатого окуня, намек, который, по словам Васька, только и знает, что за плотвой гоняется, крючки с удочек обрывает, и никакими снастями его взять нельзя.
Поторапливаюсь, окрыленный надеждой: а вдруг да на мою долю удача подвернется! волосяная леска вьется с удилища крутыми спиральками. Чем больше тороплюсь, тем дольше получается. Поплавок на удочке крошечный, грузила и совсем нет. Никак хорошего заброса не получается. И сено под рубахой топорщится, руки связывает.
Теперь не озябну. Теперь ему самое место под ногами, чтобы стоять удобнее. Туда его и пускаю, развязав шнурок.
— Спуск глубже делай, — шепотом подсказывает Васек.
А зачем глубже? У меня на крючке уже хорошая плотичка сидит. Рядом с ней красноперка на кукане задрягалась… еще одна. Весело мне стало. Пошвыриваю бойкую рыбешку на топкий островок. На заречных наших озерах такого клева даже в ершиных местах не бывает.
— Подкинь сюда одну плотичку, — просит Васек.
А мне жалко, что ли! Хоть всех забирай. Вон у меня как дело наладилось. Прямо с крючка и подбрасываю ему самую свежую. А он, чудак, опять ее на крючок, да в воду. К маленькому поплавку еще пучок камышинок привязал, любуется, как плотичка поваживает его туда-сюда.
Скучно за ленивым поплавком наблюдать. То ли дело, насторожив руку и глаз, с поддергом ловкую подсечку готовить! И спина обдержанным коромыслом выгибается, и ноги в низком присяде никакой усталости не чувствуют. Плотву с красноперками в полводы таскаю, поджидаю окуня с золотым пером. На крючок самых юрких червей насаживаю. Захочет попробовать — тут будет!
«Эх, Васек, Васек! Хоть ты и тутошний, а зеленодольский-то, пожалуй…»
Еще одна!
И Васек, разгоревшись азартом, о своем поплавке с камышинками совершенно забыл, тоже в мою сторону посматривает. Даже удочка с тростника в воду булькнула, поплыла подальше от острова.
Конечно, удочку нельзя упускать, на ней витая леска с хорошим крючком навязана. На плоту вдогонку пустились.
Васек хвать за удилище, а оно вырывается, острым концом на глубину пошло.
— Лови! — кричу. — Утонет!
— Сильнее греби! Это «он» вырывается!
— Крепче держи! На плот вытягивай! Эх, нелегко загаданные окуни в руки даются. Едва настигли, едва Васек за кончик ухватился — удилище вперед рвануло. И я в это утро в холодной воде побывал, и друг мой того же не миновал. Бурлит по гладкому кожаными носками.
— Удочку не пускай! За шест хватайся! — даю распоряжения. Сам на весла, что есть силы, налегаю — Васька за плотом тяну, а он за собой удочку тянет, не отпускает.
Упорист ты, черный боровой окунь, остер на поворотах, а двойную тягу не выдержал. Подтянул я Васька за плотом на узенький мысок, а за ним на волосяной леске и грозный окунь щетинистый горб показывает. Навозного червя брать не хочет, красненького мотыля брать не хочет, а белую плотичку с ходу заглотал.
Васек насчет безмена постарался. Старенький безмен, поржавелый, а пружина хорошо работает. Четыре фунта с походом окунь вытянул, на нынешнюю меру за полтора килограмма перевесил. Для такого и кукан надо бы сделать новый, и незнакомой лесной бабушке с добрым уловом не худо показаться, да штаны мои в березовом дупле запрятаны, а рубаха, хотя она и длинная, все-таки голые коленки показывает.
Беги один, отнеси в сторожку, — говорю Ваську, приложив к черному окуню плотву и красноперок. — Пусть бабушка завтра уху сготовит.
Поедем лучше вдвоем, отвезем рыбу пильщикам, — отвечает Васек, забираясь на плот. — Пусть дедушка сегодня горячей ухи попробует.
Ох, была в этот день нашим лесорубам уха, какую, наверно, только один Васек на костре варить умеет! И сладкая, и наваристая, и приятным дымком попахивает. И дедушка Никифор, когда поел, похвалил, и Сергей Зинцов тоже похвалил, а два Степана от удовольствия только покрякивали. Про Леньку Зинцова да про Вовку Дружкова и говорить нечего!
— С золотым пером окунь, — шепнул я им, когда чистые ложки к столу подавал. Хотя, признаться по секрету, золотого пера я не разглядел. Перья у окуня были обыкновенные.
Мужской разговор
Степан Осипов посмеивается в жиденькую бородку над басовитым голосом Васька.
— Как же вы его поймали?
— Так и поймали!
— И крючок не оборвал?
— Оборви, попробуй! Леска-то в девять волос сплетена.
— А если бы сам в ней запутался?
— «Если бы…» — густо хмыкает Васек. — А зачем это? Запутываться-то?
У Степана больше нет вопросов. Зато у Васька находятся.
— Какая пара у вас ближнюю полосу на лесосеке подваливает? — спросил Степана.
— А ты и лесом интересуешься? — напускным тоном подивился Осипов. — Дотошный сторожонок. Выходит, на все руки мастер?
— Чай, в лесу живем, — нехотя объяснил Васек, уловив поддельную веселость пожилого лесоруба. — Кто же на этой полосе работает?
— Должно быть, нужны они тебе? — подтравливает паренька, упрямится с ответом Осипов.
— Поговорить надо.
— Если надо, чего же не поговорить! Давай потолкуем на сон грядущий, — снисходительно соглашается пильщик, чуть заметно поводя глазом на стороны.
Гуляев, подмостив под голову затасканный пиджак, после сытного обеда горло дымом прочищает, загибистую самокрутку палит. Сергей Зинцов посуду перемывать мне помогает. Никифор Данилович, прикорнув на любимом пеньке, носом в землю клюет.
— Значит, ваша полоса вдоль сосновой крепи идет? — сообразил «сторожонок».
— Пожалуй, так и есть. Чего тебе наша полоса поглянулась? За брусникой, что ли, прийти собираешься?
— Пни там высокие оставлены, — угнув голову, исподлобья глянул на Степана Васек.
— А что за беда, — по-старому в шутку над малышом оборачивает разговор насмешливый Осипов. — Где не перешагнешь, там перепрыгнуть можно.
Гуляев ворочается неловко на шишковатой постели, подкашливает понимающе, подбадривает напарника. «Валяй, мол, и дальше в том же духе».
Мы с Ленькой еще не догадываемся, что к чему, а Васек неробко насмешливому Степану замечание делает:
— Срезать их надо!
— Пеньки-то срезать?
Осипов и животиком подтряхивает, и головой забавно крутит, будто очень смешное и несуразное услышал. Гуляев со стороны ехидно подхихикивает.
— Ему чурочки для бабки нужны. Печку растоплять понадобились.
— Чего, чего? — встряхнувшись, поднял голову придремнувший Никифор Данилович. Тихий Вовка испуганно таращит из-за его спины большие, навыкате, глаза.
— Вишь ты, какие штуки удумываешь. Слышь, вместо деревьев он пеньки на делянке приглаживать заставляет, — вместо Осипова Гуляев берется сбить парнишку с толку.
— Не все пеньки! Только те надо срезать, которые высокие, — не поддается Васек. — По ближнему краю они, вдоль сосняка торчат.
Степаны на пару и ну Васька просмеивать, и бабку его туда же прихватили. Она, мол, старая, чего в лесном деле понимает? Ничего не понимает! На делянке, слышь, все по правилам сделано, комар носу не подточит.
— Вот так, сторожонок! — мотнул длинной шеей Ваську Гуляев и снова повалился набок, давая понять, что разговор окончен.
Нам с Ленькой за приятеля обидно. Он серьезно про дело спрашивает, а ему шуточки подстраивают. «Разве можно так с гостями обращаться?»
Ленька Зинцов сердитую губу покусывает, и меня на Степанов зло разбирает. Сказал бы словцо, да со старшими спорить не положено. Тяну Васька к себе за рукав.
— Не связывайся с ними.
— Подожди, — высвобождает он рукав. И бас становится таким спокойным, таким уверенным, что низенький паренек на наших глазах будто сразу в мужчину вырастает. И развеселившиеся поначалу Степаны перестают над ним потешаться, как над мальчиком. Вот когда солидный бас лесному пареньку к делу пригодился! Не ровесник мой Васек, с которым недавно на шатком плоту по озеру катались, загаданного окуня добывали — стоит между двумя Степанами знающий свое дело строгий лесник, Василий Кознов.
— Нет, не так! — отвечает он Гуляеву. — А бабка не ошибается. Бабка до сотни считать умеет. Восемьдесят три пенька вам срезать надо. Они по торцу углем помечены, на каждом черный крестик поставлен. Не срежете — деньги за работу не получите.
— Это так. Тут ничего не попишешь. Лесник сообщит — не выдадут, — подтверждает дедушка, внимательно осматривая Васька. «Этот умеет за дело постоять!»
Как ни брыкались Степаны, как ни старались зубы заговаривать, а пришлось с бабушкиным помощником согласиться.
— Ладно, спилим, где крестиками помечено, — буркнул Осипов. — Только пользы от этого никакой не получится.
— Как же не получится! — ухватился Васек. — Дров для фабрики еще две сажени будет. Другие деревья не надо трогать, пусть растут. И без того весь лес проредили. Бабушка говорит: деревья так надо спиливать, чтобы оставшиеся пеньки под полозьями саней проскальзывали, до нащепов не доставали. Она по этой мерке делянки принимать научена.
Увлекшись разговором о лесе, Васек и не замечает, что целую лекцию для лесорубов читает. Оказывается, что и вершинки надо до самого конца на дрова распиливать, а не отбрасывать их в сторону, чтобы разные вредители в них заводились. И толстые сучья, если не пилой пилить, тогда топором рубить, в поленницы укладывать. Остатки побыстрее в большие кучи собирать, да сжигать, пока дожди не нагрянули.
И уже никто на рассудительные слова лесного паренька не улыбается, признают в нем настоящего лесного хозяина. И я, пристроившись сбочку серьезного приятеля, начинаю взрослее себя чувствовать.
— Никифор Данилович, — на прощанье обратился Васек к дедушке, — бабушка просила тебе передать, чтобы ты сам за порядком на делянке приглянул.
— Пригляну, Василий, обязательно пригляну! Скажи Нениле Макаровне, что порядок наведем настоящий, пусть она не беспокоится.
Ближняя быль
Степаны расстроены случившимся. Подрезать пеньки на делянке — четыре сажени в день не нашаркаешь. Четыре сажени в день — эту норму они себе за обязательное положили. Бывает, и пятую сажень «ребятишкам на молочишко» прихватывают. А тут: на тебе! По меньшей мере день потерять придется. По шести рублей на брата недобор получится. Не послушаться — можно больше потерять. И так, и этак прикидывают, пересчитывают на разные лады: куда ни кинь — все клин, недочет в деньгах получается.
— Черт его подсунул не вовремя! — вслух сердает Гуляев, забыв, какая вкусная была уха. — Еще неделька — все бы шито-крыто. Деньги в карман — и погуливай по базару. Пусть вместе со своей бабкой до зимы пеньки бы подрезали.
— А ты сразу делай, чтобы второй раз не переделывать, — замечает Сергей Зинцов. — Как ни ловчи, всех денег никогда не загребешь!
— Всех не загребешь, — соглашается Гуляев, — а побольше ухватить все-таки надо. Я, ведь, Сергей Егорович, беспартейнай, — с показной неуклюжестью выковыривает он словцо. — Беспартийным простительно. Твое дело — тут надо образец показывать! А в сельсовет работать-то не пошел. Вот и образец!
— Там и Сашуха Кулагин неплохо управляется. Он из пулеметчиков-то без ноги вернулся. Ему податься некуда. А я и с пилой могу. Березовиньких, сухих зимой на фабрику подбросим! — озорно подмигнул Леньке.
— Думаешь обеспечить? — усомнился Гуляев.
— Помогу, сколько сможется.
— Разве в партию для того вступают, чтобы дрова пилить? А я думал, чтобы с портфелем ходить, ответственный паек получать, — язвит Гуляев, изображая придурковатость.
— Несытому Фоме все кисель на уме, — поеживаясь от надвигающейся вечерней свежести, словно сам с собой разговаривает дедушка Дружков, подбрасывая в потухающий костер мелкие сучья. Костер вспыхивает на минуту, мигает по сторонам синевато-красными отблесками, и снова подергивается серым пеплом.
Приклонившись головами друг к другу, сидим с Ленькой на моховом купыре, перешептываемся потихоньку, ждем, какими словами будет Сергей отвечать. Про карьеристов, пробравшихся в начальники, про жирные ответственные пайки, про старые ботинки в служебных портфелях мы не раз слыхали, если какой спор затеется. А Сергей — бывший моряк, коммунистом в партии состоит. Его даже на председателя сельского совета выдвигали, а он за Кулагина стал голосовать. Сергей — правильный коммунисг, мы с Ленькой это хорошо знаем. Потому и не терпится услышать, что он Гуляеву будет отвечать. А Сергей только будто рассердился немножко и спрашивает Гуляева:
— Деньги любишь?
— Хо! Кто их не любил?! За деньги отца родного продадут! Хорошо, что его у меня нет. А то бы… чем черт не шутит, пока бог спит!
И замотал головой на вихляющейся тонкой шее, заерзал беспокойно, будто неудобное чего под сиденье попало.
— Да я-то что! — спохватился. — Я кожаный портфель не ношу, парадом не командую.
— И не надо, — согласился Сергей. — От этого большой беды не случится. А карьеристы, любители красного портфеля да сладкого пайка, — это еще не коммунисты. Их не жнут, не сеют — сами из земли вылезают. Выпалывать придется. Только не на них, Степан Иваныч, свет держится. Кому-кому, а тебе на сей счет разъяснений не требуется. Верно я говорю, Степан Иваныч?
Тут уж и хотел бы вывернуться, чтобы при своем интересе остаться, да податься некуда. Пришлось крякнуть и согласиться нехотя:
— С этой стороны верно.
— А с другой стороны, — улучил момент приумолкший на время трудного спора Осипов, — пойдем, значит, завтра пораньше делянку подчищать, пеньки убирать.
Нам с Ленькой любо. Рады за Сергея, что он задористого Гуляева спокойненько утихомирил, все его нарядные слова и побасенки по полочкам разложил.
«Нам бы так научиться!» — завидую.
— Завтра опять на плоту за окунями? — шепчет Ленька.
И пускай себе шепчет. Скоро под одно одеяло заберемся, успеем наговориться.
А Ленька никак вести себя не умеет. Размахнулся, кокнул мне в голову своим железным затылком.
— Слышишь, чего спрашиваю?!
«На голове, наверно, шишка вскочит», — ощупываю пальцами.
— Какое тебе дело, поедем или не поедем!
— Фу, какие телячьи нежности! Посторонись, не дотронись до него!.. Бабка Ненила сердитая?
— Не видал!
Я правду сказал, а Ленька думает, что обиделся, отвечать ему не желаю. Отодвигается от меня подальше, а своего все-таки добивается.
— Дедушка Никифор, — спрашивает почтительно и громко, — сторожиха здешняя сердитая?
— Язва первостатейная! — заместо деда отозвался Гуляев. И пошел, пошел и бабушке, и внуку косточки перемывать! Заглазно-то, да без помехи, оно просторно получается. Гуляеву поверить, так сторожиха на Лосьем и злыдня большеглазая, каких свет не видал, и длинный нос сует, где ее не спрашивают, и сплетнями вместо дела занимается, и еще мало ли чего другого под горячую руку можно наговорить.
— А ты ее, Ненилу Макаровну-то, знаешь, что ли? — нахмурил дедушка кустистые брови. — Вот то-то и оно, что не знаешь! Если бы знал, тогда язык-то понапрасну бы не распускал.
Распетушившийся Гуляев на полуслове осекся — не ожидал такого оборота. Есть, значит, люди, которые и о посторонних не забывают, не дают болтливым языкам напраслину взводить.
— Ты, наверно, в чьей землянке-то спать ложишься — и того не знаешь? — осудительно замечает дедушка.
Озадаченный Гуляев в недоумении только белые волоски пощипывает на том месте, где у мужиков борода растет, а у Степана и под сорок лет лишь пушинки пробиваются.
— И зачем она здесь, в бездорожной глуши, поставлена — тоже не ведаешь. Если бы знал, насчет длинного языка бы помолчал.
Степан Иваныч помалкивает, и ухом не ведет, а меня на дедушкины слова интерес разбирает. На жилье от костра поглядываю.
Землянка как землянка. Низенькая, тесная. Кто в крышу головой стукнет — песок струйками осыпается. А по дедушкиным намекам — есть в ней что-то необычное, памятное.
— Правда, зачем ее здесь поставили? — спросил я.
— Подожди, послушаем.
Отгрудив назад свисающие волосы, Никифор Данилович высвобождает левое ухо и, нарастив его широкой изогнутой ладонью, чутко прислушивается.
Вдалеке, приглушенные расстоянием и немолчным гудением бора, будто медные трубы гудят беспокойно и раскатисто. Между труб мычание слышится. Изредка доносится звук тяжелого шлепания по мягкому, словно кто Сердитый деревянной лопатой непослушную грядку охлапывает.
— Ямы бьют, — замечает дедушка. — Лосиный рев начинается. Теперь, брат, с ними не балуй, не пугай из-за куста для забавы, чтобы взапятки посмотреть, быстро ли они бегают. Понятно вам? — обводит глазами троих молодых, встряхивает свободной рукой задремавшего внука. — Рассердишь — сразу сомнет, под копытами и пикнуть не успеешь!
— А я пугнул, — признается Ленька. — Вчера прямо на делянке к нам вышел. Рожищи — во! — на полной высоте закруглил над головой приподнятые руки. — Убежал!
— Смотри, парень, с твоей удалью беды бы не случилось! Уж больно ты дотошный до всякой всячины.
— Так уж получается, — передернув плечами, виноватит себя Ленька. — Где бы чего не надо, а хочется.
— Не забыл, как гороховую кашу едят? — прищурил дедушка смеющиеся серые глаза.
— В точности помню! — обрадовался Ленька. Мотнул головой, как тогда, когда за дедушкиной рукой по кругу бегал. — Я и Коську выучу! — пригрозил. Пошел распространяться, будто кому слушать интересно.
Проверив по Вовке, не поздновато ли долгий рассказ начинать, не пора ли на жердяные нары забираться, решил в мою пользу.
— Рыбачок здесь жил. Так и звали его: «Рыбачок» да «Рыбачок»… И ты, Степан Иваныч, послушай, — оборотился к Гуляеву. Глядишь, Ненилу Макаровну лучше будешь знать. Напраслину-то взводить постесняешься… Рыбачок, значит, его звали. Незадолго перед войной, году, этак, в двенадцатом… Точно в двенадцатом. Тогда градобой был сильный. Все хлеба еще зелеными повалило. Так в землю и втолчило — не поднялись. Четыре овцы в стаде градом насмерть заколотило.
— Я в этом году родился, — похвалился Ленька.
— Ну, этого, окромя отца с матерью, никто не приметил, — отговорился дедушка. — Разве вот он еще помнит, — указал на Сергея, — какого неугомонного вынянчивал.
— Вскоре после градобития он и заявился, Рыбачок-то. Под вечер дело было, на воскресный день. Парни по улице с тальянкой ходят, приговорки горланят на все три порядка. А он стоит у крайней избы, где теперь кузнец построился, а тогда Дарьи Гореловой маленький домишко топырился, в окно к ней стучится. «Пустите, говорит, ночле-щика. Заночевал бы в лугах, да спина заболела, ломит невтерпеж». Сам длинный, худой, голос глуховатый такой. На ногах штиблетишки изорванные. И все покашливает в кулак.
Дарья — баба одинокая, мужика в дом пустить побоялась. Мало ли чего в ночную пору бывает!
«Поди, говорит, лучше в баню, она нынче натоплена. В бане и переспишь до утра».
А ночью мимо Дарьиной избенки наш староста деревенский, Семен Гуреев — будь он неладен на том свете! — на тарантасе в город прокатил. На обратном пути за ним повозка с полицейским подъехала.
Сразу к бане лошадей подворачивают.
— Открывай!
А дверь в предбанник изнутри на крючок заложена. Грох, грох кулаками в стену.
— Не откроешь — с косяками вышибем! — кричат. Староста похитрее. Староста не раз в переплет мужикам попадался. Он кулаками в стенку не колотит, а прилепился с суковатой палкой возле оконца, следит, чтобы ночной посетитель на улицу не выпрыгнул.
У предбанника дверь выломали, а другая — в баню — тоже накрепко заперта. Ее принялись кто топором, кто шашкой ковырять.
«Врешь, мол, не уйдешь! Все равно мы до тебя доберемся. Гром на всю деревню подняли — хоть святых выноси.
Староста вдруг и заприметь от оконца, что над озером под ивами кто-то в луга уходит, торопится. Шумнул полицейским, и ну вдогон. Настичь-то настигли, только не того, кого искали. Это парень с девушкой по лугам-то провожались. Наши деревенские.
Пришлось вторую дверь в бане доламывать. Заскочили — а там ни единой живой души. И оконце настежь распахнуто, поскрипывает на ветру ржавыми петлями.
Да, разные случаи бывали. Бывало, что и мужикам от полиции попадало, бывало, что и она от мужиков по задворкам пряталась. На этот раз вместе со старостой в дураках осталась.
Если человек не вор, не грабитель какой, да за ним полиция гоняется — тому в нашей деревне всегда приют давали, уважение оказывали. И прохожего этого после много раз то в лугах, то на озерах видали. Хлебом, табачком иногда угостят — не отказывался. Про городскую жизнь с ним разговаривают, интересуются, что в газетах пишут, а назвать его не знают как. Без имени, без отчества обойтись никак нельзя.
«Хоть для близиру сказали бы, как называть вас следует», — попросит кто. А он скажет: «Рыбачком меня зовут. Хожу с удочками, вот и Рыбачок».
Засмеется, закашляется. Так предупреждает: «Если кто в полиции захочет поинтересоваться — тоже не разберется, только запутается в бумагах. Там у меня разных имен и фамилий не перечесть. А уж если без имени, без отечества обойтись нельзя — зовите Иван Петрович».
Долго его полиция искала. И в деревню много раз наведывалась. Все, видать, ей узнать хотелось, не скрывает ли Рыбачка кто-то из наших мужиков.
— С тобой, ведь тоже, помнится, был деловой разговор по душам? — повернулся дедушка к Степану Осипову.
— Был. Доискивались, где я его видел последний раз, — подтвердил Осипов. — А я всего-то один раз с ним повстречался. Теперь признаться можно. Тогда не сказал.
— А он коммунист был, Рыбачок-то? — осенило Леньку.
— Кто его знает. Может, и коммунист. Об этом его никогда не спрашивали, и сам он не заикался. Думается, что коммунист. За кем же другим, если не за коммунистом, так гоняться бы стали! Как дум'аешь, Сергей — коммунист он был. Рыбачок-то? Чего молчишь, будто в рот воды набрал? — Тебе-то он, может быть, сказывал?
— Да, — оторвавшись от какого-то раздумья, негромко сказал Сергей. Помолчал, разглядывая присохшие мозоли на ладонях, уверенно добавил — Коммунист. Член коммунистической партии. Сюда его послали место подыскать, где можно листки печатать. Так и мне говорил, когда я к нему в Перелетную рощу бегал.
— И не боялся, что в тюрьму могут засадить? — подивился Осипов.
— Боялся ли, это ему знать. А беспокоился. Предупреждал меня: «В случае чего, не поленись, в Марьинку сбегай, там Гришаеву сообщи, что меня здесь нет. Больше ничего не надо. Он знает, куда передать следует».
— Значит, не ты первый коммунист, который эту землянку обживает, — определил дедушка последовательность. — Он, Рыбачок, был здесь первым. Не пойму только, почему он и от ищеек скрывался, и от своих тоже прятался.
— Партия-то в России запретной была, — нащупывает дорожку для объяснения Сергей. — Время такое. И себя уберечь надо, и других чтобы не подводить. В книжках о коммунистах-подпольщиках только теперь свободно стали рассказывать. И как они под чужими фамилиями жили, и где скрывались, и какие листовки печатали — все известно.
— И Рыбачок из наших-то лугов тоже вот сюда перебрался, — указал Никифор Данилович на землянку. — Над Лосьим озером целую осень и зиму прожил. Ненила, сторожиха, тогда в силе была. Землянку эту соорудить ему помогала, печурку железную притащила. Нет поблизости чужих людей — ив сторожку обогреться приглашала. Удобства большого хотя и нет, зато в лесу спокойнее. А Нениле он, как самому себе, верил. У нее в избушке с товарищами встречался. Ну, и с питанием, само собой, здесь надежнее. Ненила ничего не жалела, ни за что денег не спрашивала. Станет предлагать — разругает его. По весне в город отправлялся — попрощаться зашел.
— Может, жив?! — вздохнул Сергей. — Посмотреть бы нынче на старого знакомого! Перелетную рощу припомнить. Не узнает, — сказал с сомнением. — Тогда я, наверно, не больше Коськи был… Нет, не больше. Про Лосье-то озеро сказать он мне не доверил.
— Здесь находился, — подтвердил дедушка. — Может, жив еще. Лет через семь после ухода Нениле перевод прислал. «От постояльца на корову» написано. И письмо коротенькое. Оно и сейчас там хранится, — головой мотнул дедушка в сторону, где должна стоять сторожка.
— Так что сторожиха-то свое дело знает, умеет, когда надо, язык за зубами держать, — напомнил Гуляеву. — И тебе пора бы ее получше знать, не городить про нее чепуху.
Никто дедушке не возражал, на его упрек не сердился.
А я ночью видел Рыбачка. Собирает над озером сухой хворост. Греет ноги в сырых носках возле раскаленной железной печки. На столике, сколоченном из двух сосновых досок, пишет, пишет какие-то бумаги, которые где-то очень нужны и следует поскорее их по назначению отправить.
А сверху, чуть заденет головой, осыпается мелкий песок, набивается за ворот рубахи, присыпает тонким слоем написанное на бумаге.
Бабка Ненила, веселая, в новом синем платье, с белым горошком, в белом платке, повязанном под узелок, зовет нетерпеливо, машет легкой рукой через озеро: «Хватит, хватит тебе в промозглой землянке мерзнуть! Иди обсушись, обогрейся у нас в сторожке. Там в гости к тебе товарищи понаехали».
«Я спать ложился. Снится мне это», — доказываю сам себе.
И снова вижу железную печку, раскаленную докрасна, склоненную над самодельным столом худую спину Рыбачка. Лица не видно.
Четыре бабки
Сторожка над Лосьим озером одна, и сторожиха в ней одна живет. А я уже двух знаю, обеих Ненилами зовут. Одна рослая, сильная, бесстрашная, дюжему мужику под стать. Глаза строгие, холодные. Надумает — пожалеет ласково, надумает — отругает, недорого возьмет. Такую издали уважать, со стороны смотреть на нее хорошо, а поблизости и побаиваться. — худа не будет. Про такую бабку дедушка Никифор рассказывал.
Другая Ненила — та маленькими шажками ходит, оступиться боится, а все куда-то торопится. Не успеет руки от головы отнять, смотришь, опять платок поправляет. «Парнишки, бегите-ка сюда скорее. Я вам яблок в саду набрала. Паданец, а сладкие. Все, все из лукошка забирайте, по карманам себе рассовывайте. А в сад к нам не лазьте, сучья на яблонях не ломайте». У нее нос добрый, пробковый. Жиловатые руки дрожат немножко, и между зубами глубокая дыра чернеет. Такие бабушки хорошие сказки знают, страшные и длинные.
— Коська, убирай подальше свои ложки-плошки. Поехали по озеру кататься!
Васек на плоту приткнулся к берегу. Когда впереди веселая прогулка и добрая рыбалка представляется, тут и лишнюю минуту на хозяйственные дела потерять жалко. Моментально закругляюсь.
— Отталкивайся! — даю знать Ваську. — Разворачивай шестом на самую середину.
Жаль, не написана еще тогда была эта песня. «Буря, ветер, ураганы. Нам не страшен океан». Про молодых капитанов, она очень бы кстати пришлась.
Выбрались на сверкающую струю — пустили плот по воле волн. Вперед не подаемся, кружится на одном месте. Лес, камыши, ближняя заводь, низкорослый ольховник по берегу неторопливо перед нами поворачивается. Лысанка рысцой трусит на наши голоса, жалобно помукивает.
Мы устраиваемся бочком на двухстороннем низком сиденье, плечом чувствуем друг друга. Болтаем без умолку, что на ум взбредет, только бы не молчать. Тут я третью бабку Ненилу узнаю.
— Не такая, ни капельки не похожая! — довольный моей ошибкой, размахивает Васек ладонью. — Все это ты придумал. Никакая она не бесстрашная. Хочешь, скажу?!
Вывесил обе руки у себя перед глазами, подгибает правой пальцы левой руки. По мизинцу ударил:
— Грозы боится. Окна одеялами занавешивает. От молнии за простенок прячется… Что, неправильно?!
Безымянный пригнул ладонью.
— Пауков боится. Каждый раз меня зовет: «Прихвати его тряпочкой, выбрось через окно на улицу».
Размахнулся и, прижав средний палец, долго меня рассматривал.
Подумал — решился — Ладно, пусть!.. Объездчика боится. Об этом ей ни гу-гу! Не любит.
Приятно мне, что новый приятель ничего от меня не таит, по откровенности во всем признается. Про отца с матерью тоже узнать хочется, чего они делают.
— Родители тоже здесь живут?
Долго качался, разворачивался плот, показывая бор с разных сторон, выползая то на светлую полосу, то уползая в тень.
— А нету их, — проглатывая слюну, ответил Васек и внимательно, вытягивая шею, будто что-то необычное заметил, стал вглядываться в берег.
— Умерли? — спросил я упавшим голосом. И уже совсем, совсем настоящего друга чувствую рядом с собой.
— Мама умерла, когда я родился.
Начатые твердым басом, к концу ответа слова упали до шепота, выдавленного с трудом. И снова бас: строгий, уверенный, по-взрослому решительный.
— А про него не надо!.. Меня бабка на свою фамилию давно переписала.
Припомнил бабку — снова оживился, веселым стал. Рассказывает с удовольствием:
— Смешно на нее. Ох, ты бы посмотрел! Пильщики одну зиму в Старой Опочке работали. В лесу все пильщики да возчики, других их не бывает. Наладили к нам за молоком ходить. Деньги, мол, в конце работы отдадим. Чтобы кучкой. А ты, говорят, записывай, сколько мы берем, чтобы не сбиться со счета. И бабка согласна: «Кучкой, говорит, лучше. Кучкой получишь — вещь какую-нибудь можно купить». Теплое пальто она мне загадала. Передаст кринку молока — палочку на стене у двери углем черкнет. Неделю пильщики молоко берут, другую берут. И по две, и по две кринки в раз уносят, а палочек на стене, я замечаю, мало стоит… Нет, не бабка забывала. Ты слушай! У бабки арифметика точная. Это покупатели такие были. Я сам видел. Пока бабка молоко из-под пола достает, они локотком написанные палочки стирают. Догадался один, что я усмотрел, — смеется, пальцем на меня подрагивает. «Помалкивай!» Я тоже на него смеялся. А в феврале под расчет всего-навсего четыре кринки получилось, да бабка стену кипятком целое утро отмывала. А теплое пальто мне все-таки купила, с воротником!
В другой раз, оказывается, хитрее того мастера отыскались. Чтобы какой прорухи не получилось, они бабке Нениле вперед под молоко задаток дали. Вот, говорят, мерка, по которой мы дрова пилим. Нам без мерки обойтись никак нельзя. Придем— выкупим.
— Бабушка ждать-пождать, — еле удерживается от смеха Васек, — а они выкупать не идут. Она сама к ним на делянку отправилась. «Вот ваша мерка, говорит. Как же вы без нее дрова-то пилите?» А они плечами подергивают, переглядываются. «Ладно уж, говорят, бабка, оставь ее себе на память. Мы из другой палки мерку себе вытесали». Иона с лесорубами до слез насмеялась.
Тут представил я себе третью бабку, которую Васек нарисовал. А четвертую своими глазами увидел. Вошел следом за приятелем в маленькую комнату с большой, мелом выбеленной, печью — остановился у порога. Занавески на окнах от середины раздвинуты, ниточка видна, на которой они повешены. Потолок сплошь белыми листами бумаги оклеен. Светло кругом.
В незнакомый дом входить всегда любопытно. В лесную сторожку — тем более. Так и ждешь увидеть что-то необычное. А по сторонам глазеть (об этом в гостях отец с матерью не раз мне наставления читали) все-таки неприлично. Степенно и скромно при посторонних людях надо держаться, любопытства не показывать.
Спохватился — прямее натянутой струны среди пола стою, и глаза прямо держу, чтобы по сторонам не бегали. А они шевелятся.
Справа широкую деревянную лавку вижу. Вдоль передней стены такая же устроена. На месте божницы узкая полочка без икон. Маленький стол вязаной скатеркой накрыт, длинные махры книзу свисают. Над столом темноволосая женщина голову клонит, блестящими спицами шерстяной чулок надвязывает. Платье на ней синее, какое мне сегодняшней ночью во сне представилось, только без горошка.
— Здравствуйте, — говорю вежливо, чтобы каждая буковка была слышна. С рукой не тороплюсь: не все взрослые с ребятами за руку здороваются. А коль замечу, что надо, — до бабушки дошагнуть скоро успею.
Спустила чулок на колени, распрямилась.
— Здравствуй, пильщик!
Она уже знает, чей я такой, как звать следует и по какой части к артели лесорубов прикомандирован.
Услыхал бабкин голос — чуть рот не разинул. «Вот он откуда свое начало берет, дремучий бас Васьки!» Всю маленькую комнату бабушкино «здравствуй» заполнило.
Ты с гостем, значит, заявился? — обшарила Васька большими серыми глазками. — Чего теперь сочинять с ним будешь? Капканы на медведей опять мастерить начнешь или, может, Балайкину потерю по всему бору искать поведешь? Смотри у меня! — головой старательно, а не сердито покачала. — Привяжу к столу суровой ниткой — забудешь игрушки-побегушки.
— Ну, припомнила, чего при царе-Каре случилось, — нехотя протянул Васек, присаживаясь на лавку.
И такие они в басовитом разговоре друг на друга похожие, лесная бабка с внуком.
— Гостя сначала сесть-то приглашают, — держит строгость старшая. — А ты садись, Костя, садись! От него приглашения не дождешься… Пеньки-то на Березовой ваши пильщики подрезали или упрямство держат?
— Пилить ушли. Уговаривались срезать.
— А то я этим Степанам такую ижицу пропишу, что они не прокашляются!
Четвертая бабка, которую своими глазами вижу, не совсем еще и бабка. Белые зубы целехоньки. Грецкие орехи по праздникам можно щелкать. Серыми глазами без очков, не прищуриваясь, зорко видит. Кулак с зажатыми в нем спицами на стол положила — ядреный, угольчатый. Лицо широкое, загорелое, тоненькими морщинами самую малость тронуто. Повстречаться нечаянно на тропинке — за старую не признаешь.
— Первый раз в бору-то? — занимает меня разговором, не дает смутиться в молчаливой неловкости.
— Здесь первый.
— А не здесь?
— На Кщаре мы были, мальчишками бегали. Два года тому. У деда Савела проживали.
— Ну-ну, так-так. Про деревенских мальчишек слышала. И ты с ними? Привыкай, привыкай к лесной жизни… Что же позабыли деда-то? Не придется больше с ним» по сосновому походить. Схоронили мы Савелья Григорьича. Прошлой осенью с ним попрощались. Славный, душевный был старик. Сторожку-то его помнишь?
— Найду, если по той дороге идти.
— Там, близ сторожки, и могилу ему выкопали, и оградку новую поставили. Ель на нее ветками клонится. Сам себе местечко для покоя облюбовал. Тут и положить велел. Чтобы ветерком обдувало, и озеро с бугорка было бы видно. Может, навестить когда доведется? Вспоминал он деревенских-то ребятишек, до конца вспоминал. Грибные места для них отыскал — рыжиков будто из лукошка насеяно! Не дождался малость грибников-то, не дождался… Сказки-то его, чай, бережете?
Смутился я. Оттого ли смутился, что по дедушке заплакать хотелось, оттого ли, что про сказки сторожиха упомянула. «Взрослый человек, с пильщиками в артели хожу, а тут сказки». И деловитым, рассудительным показать себя стараюсь, и в солнечные терема за туманами верится. А признаться черноволосой бабке в своих сказочных увлечениях не хочется.
— Их Костя Беленький записывал. Другой Костя, не я.
Спина болит к ненастью
«Зеленая скучища» в медвежьем бору, которой больше всего боялся, обошла меня стороной. Длинные дни на короткие обернулись. Солнце в половину сосны подняться не успеет, а мы с Васьком уже в дороге. Путь держим по прямой — куда глаза поманят.
— Обратный след найдем?
— А то заблудимся! — пренебрежительно хмыкает Васек, окончательно развеивая мою тревогу.
Набрели на лосиное вальбище. Свеженькое. Примятая тяжелыми боками трава подняться не успела. Проследили копытный след до Тряского болота. Дальше глубокая топь не пускает.
В обход направление берем, только хрупкие ветки под ногами потрескивают.
С высокой рябины красным градом сыплются на землю переспелые ягоды. Глухари огромной стаей налетели на вкусную приманку. Птицы клюют — и нас зависть разбирает. С разбега пугнули глухарей сосновыми шишками, завладели покинутой рябиной.
С нижних веток попробовали — вкусная. До вершинки добрались — там еще слаще.
— Следующий раз с корзиной сюда придем, полный чердак рябины натаскаем, — сулится Васек. И я поддакиваю. Столько хороших мыслей в голову за один день приходит, что и месяца не хватит их выполнить.
Через бойкий ручеек на перепутье надежный переход соорудили:
«Кому-нибудь понадобится».
В старом ельнике обнаружили глубокую пещеру. Пробрались на животах через узкий лаз. В углу пещеры каменная плита огромная, песочком присыпана.
«Не здесь ли Балайкина потеря припрятана, о которой бабка Ненила. упомянула?»
— А чего Балайка потерял? — спрашиваю Васька. — Кто он такой?
— Завтра лопату принесем — обязательно плиту выкопаем, — не дает Васек ответа на мой вопрос.
Много у нас всего начато и недоделано, заговорено и недосказано. Целый день незнамо где бродим, а обратную дорогу все-таки отыскиваем. Питаемся бабкиными лепешками, ягодами, грибы на костре подсушиваем. Отдыхать ложимся прямо на ягоды — штаны и рубашки сплошь в разноцветных пятнах. Пойдет солнце с высоты на сосны опускаться — мы к сторожке скорым шагом, от сторожки — к землянке. Пора обед заваривать.
Гулять гуляй, а дело не забывай!
— Уха, каша, молоко! — поднимаю шум, лишь заслышу на тропинке возвращающихся лесорубов. Громко выкрикиваю, весело. Пусть Ленька знает, что не очень-то я в кашеварах скучаю, могу и зиму здесь прозимовать.
Пильщики к котлу поплотнее, а я в сторонку отхожу — у бабушки наелся. Она меня и журит наравне с Васьком, и и за стол вместе с ним сажает. Кринки с молоком для лесорубов передает — на стенке углем не записывает.
— Все равно девать его некуда, — говорит. — Горшки, смотри, не разбей! Горшки обратно приноси, за них деньги плачены.
Вот и весь наказ. И в сторожку наведаться снова причина есть.
— Земляника, жалко, осыпалась, — горюет дедушка. — Хорошо бы землянички в кипяченое молоко подбросить. Полезная ягода.
— Здесь и кроме землянички много разного добра пропадает бесполезно, — замечает Сергей Зинцов. — Далеко от селений, а хорошей дороги нет.
— Болота кругом, — вздыхает Никифор Данилович. — Летом тут и дорога не поможет. На лошадях, да с возом, пробраться и не пытайся.
— Видел я одну лесную дорогу. По такой через любую грязь без задержки перелетишь, ноги не обмочишь.
— Это как же так?
— И очень просто, представь себе, устроена. Подвесная называется. Главная задача: столбы в землю забить. Всего один ряд столбов поставить нужно. Верхом перекладины от столба к столбу проложены. К ним рельса прикреплена. Одна рельса. Мотовозик небольшой там работает. За сотню лошадей тянет. На двадцать километров за один день три ездки делает. На каждом возу сотню кубометров лесоматериала везет.
Дед Никифор зацепился за Сергеевы слова, со всех сторон их осматривает, прикидывает: и сколько свай надо в землю забить, и много ли рабочей силы потребуется, и какая цена на рельсы.
— А наши мужики в зиму на лошадях чего будут делать? Им тоже заработок нужен, — другую сторону дела усмотрел Осипов.
— Вот и станут дрова и бревна к подвесной дороге на своих лошадях подтрелевывать, — заранее готов ответ у старшего Зинцова.
Никифору Даниловичу все ясно. За такое строительство, от которого кроме пользы никакого вреда не получится, он готов обеими руками голосовать.
— Дело стоящее. Давай, Сергей, поговори с районным секретарем, — подступает ближе к решению. — Обскажи все, как следует. Не должно, чтобы не поддержал, если он мужик толковый.
Вопросительно посмотрел на внука, решился:
— А я бы — куда ни шло! — Вовку на моториста учиться отпустил. Пойдешь, Володя? — спрашивает так, будто задуманная подвесная уже построена, или, по крайней мере, строительство к концу подходит.
— Не пойдет, а бегом побежит. И профессия будет надежная, и заработок хороший, — по-своему, с доходной стороны рассудил практичный Степан Осипов.
Один Гуляев на этот раз не высказывает своего мнения о дороге. Болезненно морщит губы, жмет руками пониже груди, жалуется:
— Под ложечкой сосет.
— Вот тебе и фунт изюму! — разводит руками Степан Осипов. — Накатило на тебя не к сроку!
Гуляев хмурится и, стараясь не глядеть в лицо напарнику, оправдывается перед ним, что «это не то», что Осипов не так подумал. У Гуляева просто ноги мозжат — терпежу никакого нет, и спину разломило.
— Должно быть, к дождю, — пытается найти объяснение и виновато ускользает глазами от вопросительного взгляда.
Непонятное творится с говорливым Гуляевым, словно кто подменил его. Устроившись на нарах в землянке, он ворочается беспокойно, покряхтывает, вздыхает шумно, со свистом захватывает воздух — никак заснуть не может.
Мы с Ленькой, расположившись привычным валетиком на зеленой постели, тоже не спим. Приятель мой шебутится без нужды, присаживается, вытягивая ноги к моему изголовью, стаскивает одеяло с плеч.
— Пощупай, — таинственно шепчет в темноте, протягивая мне свою руку. — Выше! Выше!
Мускулы у Леньки стали железные. Напружинит руку — пальцами не ущипнешь. А думы все те же мальчишеские остались, на мои похожи.
— Про Рыбачка бабушка ничего не рассказывала? — пригибается к моему уху.
И хотелось бы похвалиться, да нечем.
— Не спрашивал.
— Эх, ты!.. «На тычинке жемчужинка», — кувыркнувшись головой на изголовье, насмешливо шепчет из темноты.
А Гуляев кряхтит, ворочается.
Балайкина скрипка
У Васьки пропала лопата. С вечера напильником ее наточил, в чулан упрятал— и пропала. Не пойдешь в пещеру с пустыми руками, голыми пальцами под каменную плиту подкапываться не станешь. «Куда она могла из сторожки подеваться?»
— Гу-ули, гу-ули, — клонясь через цветочные горшки на подоконнике, голосисто выпевает бабка Ненила.
Словно ручные, слетаются под окно, на пшенную кашу, доверчивые лесные голуби. Серые воробьи шныряют бойко между сизокрылыми баловнями. Теплый ветер шевелит распахнутые занавески.
— Корова не доена, — говорит бабка голубям, клонясь на выбеленный подоконник. И мы с Васьком, незаметно переглянувшись, вдвоем идем доить Лысанку.
Вскоре голубям же сообщается, что «во всем доме холодной воды ни капли нет», и мы с двумя ведрами молчаливо поторапливаемся на криничку возле озера, прикрытую неструганными дощечками.
— Студеная, от самого донышка достали, — простучав ведрами в сенях, вносит Васек в избу большой железный ковш, с которого падают крупные светлые капли. — Испробуй.
Ненила Макаровна неторопливо перенимает ковш за ручку, притрагивается к нему губами.
— Давно бы подумать надо!
Захлопывая окно, уже не голубям, а нам говорит строго:
— На ручье запруду прорвало. Собирайтесь побыстрее! Ишь ты, целыми днями к дому-то и не заявятся!
Тут же появилась наточенная Васьком, нежданно запропавшая лопата В дополнение к ней топор, пила. На мою долю достается большая лубочная корзина, прикрытая поверху белым полотенцем с вышитыми по краям нарядными кукушками.
— Не тяните время, поторапливайтесь!
Шаг у бабки Ненилы спорый, походка твердая. И Васек на ногу легкий: без малого на пятки ей наступает. Ну, и я стараюсь не отстать.
— Видал, как взыграла?! — после часового пути бросает бабушка пилу на землю.
Васек тюкает острием лопаты в трухлявый пенек, удивляется смущенно:
— И дождей-то, гляди, целый месяц не было.
Перед нами мутной волной бурлит вода, с набега осыпает размякший песок, выполаскивает подмытые сосновые корни. Утекает по истоку Досье озеро, обмелелые прибрежные камыши белые корневища показывают.
Бухнули поперек ручья обвислую сосну, в ряд с ней коряную сушину подтащили. На такой опоре держаться можно. Бабка на берегу тяжелые колья затесывает, нам передает, а мы с Васьком на пару на зыбком мосточке орудуем — березовой колотушкой высокие колья на глубину загоняем.
Крутит воронки, торопится вода смыть преграду, а за нами не успевает: от озера сильней напирает, а позади запруды ниже, ниже опускается. Бабушка к сосновому заколу дернину подбрасывает, рыхлой землей присыпает, Васька похваливает:
— Вишь, как хорошо лопату наточил! Острой и работать-то сполгоря… Бревнышко покрепче сверх насыпи положите, так прочнее будет, и переход хороший. В колья потеснее с обеих сторон его зажмите. Да поменьше брызжитесь!
Разработалась, повеселела Ненила Макаровна, темные щеки разрумянились. И нам спешная работа по душе пришлась. Увесистой колотушкой колья забивать, тяжелые плахи к воде таскать — про скуку думать некогда. Плотину строим!
Васек над тяжелыми бревешками с полным усердием пыжится, и я не меньше того стараюсь. Хорошо высокие запруды поднимать, напористую воду упрямством и быстротой одолевать. Все торопиться, торопиться надо, удобный момент ловить.
Подловили, осилили!
Пошумела, побуянила вода, а узнала, какие мы в работе расторопные, — присмирела, успокоилась: гладкой лентой через верхнее бревешко перекатывается. И усталым работникам приятное успокоение дает.
Умылись с накладного бревна, мокрые подолы рубашек выкрутили досуха — слушаем, как усмиренный ручей журчит-воркует. «Сдался! Покорился!»
После хлопотливой спешки хочется усталыми побыть. По-настоящему усталый — значит, взрослый.
— П-ф-ф! — протирая грязным рукавом умытый лоб, отдувается Васек.
— П-ф-ф! — с шумом выдыхаю я воздух.
Что устали — и словом не намекнем. Пусть бабка видит, какие мы выдержанные. А она не смотрит: лопата за лопатой подбрасывает землю к новенькой плотине.
— Вишь, как хорошо все устроилось! Вон как отлично получилось!
Утренней хмурости на лице и в помине нет.
— Давно бы полезной работой занялись! А то пещеры какие-то отыскали, норы под камнями копать надумали. Клады им понадобились!
— Бабушка! — с просительным упреком перебивает Васек.
— Держи карман шире! Приготовили их, клады-то! Ящерки там одни прячутся. Придавит вас камнем — и все тут. Будете из ямы ножками дрягать! А вытаскивать вас некому.
— Бабушка!
— Что, дедушка?! — мотнула головой на Васька, в кончик сбившегося на сторону серого платка смешинку спрятала.
Настроение у бабки не ворчливое, а говорливое. Похоже — на будущее остраску нам дает. А может быть, по другой причине нас урезонивает. Мы с Васьком целыми днями по лесу гуляем — ни гориночки, а бабке в одиночку скучать приходится. И так тоже понимать ее можно.
— Ищут, где ничего не положено.
Присела на кочковатую моховину, положила лопату поперек колен.
— Про таких-то искателей знаете как говорят? Вот так говорят: «Первый дурак — ходит да свищет, другой дурак— не потерявши ищет, третий дурак — не отведавши солит, а четвертый дурак — не подумавши говорит». Балайка-то, он хоть и не велик был, а все не дурак, чтобы без толку по ямам лазить. Слыхал про Балайку? — спрашивает меня Ненила Макаровна.
На бабку серчать не приходится. Спрятанная лопата — не велика беда. Я уже сбочку, на осыпавшейся коре, рядом со сторожихой пристроился. Васек с другого боку мягкую лежку себе приспособил. Руки под голову заложил, ногами в кожаных чулках до моих лаптей дотягивается.
А Балайку я совсем не знаю, не слышал о нем. Откуда мне его знать!
— Не помню, — говорю.
— Эх, пильщик-вальщик! — догадливо усмехается бабка. — А еще сказки собирать ходил.
Я не в обиде. Бабка Ненила — по голосу угадываю — совсем не в укор это говорит. Так дедушка Дружков, бывает: «Ну-ка, минтом рогулек натеши — обувь развешивать… Ну-ка, минтом на делянку слетай, я там кафтан позабыл».
Я и «слетаю минтом», и грязь с кафтана «минтом» соскрябаю, а сам запыхался.
«Эх торопился, совсем запалился. Куда ты годишься?!»
А я слышу: «Молодец, парнишка!»
У бабки Ненилы тоже так, примерно, получается. Стала платочек на голове поправлять — локтем волосы мне взъерошила.
— Сиди смирно! А уши-то навостри… Али это не ты — другой Костя сказки-то записывал?
Вот как не признаваться! Я-то думал схитрю, проведу бабку, а она меня тогда же, из-за шерстяного чулка поглядывая, до самого корешка раскусила.
— Ладно, ладно, пусть и ты маленько записывал. Голову подняла, большие руки на лопату положила — нас с Васьком уже не видит. Строгая стала. Глядит за ручей немигающими глазами, будто там, в папоротнике, затаилось что-то. Показывается краешком, а хорошенько не разглядишь. Мигнешь — исчезнет.
Громкий голос обмяк, стал приглушенным, одной ноты придерживается.
«Так дело было, — начала. — Появился однажды в деревне паренек. Маленький паренек. Четыре, много пять лет по виду ему дашь. Ножонки босые, рубашонка дырявая. А волосенки светлые, по всей голове кольцами завиваются, будто до самых ушей шапчонка мяконькая надвинута. Доверчивый такой паренек, а догадкой-то понятливый.
То ли завел его кто да с умыслом в незнакомом месте оставил, то ли сам, по лугам гулявши, от дома отбился — как знать. Ни родители его не объявляются, и другой никто пропавшего не ищет. Так и живет безродным. Ходит один из деревни в деревню, над травой только белая головенка покачивается. Где попить попросит — его напоят, поесть захочет — покормят. К ночи дело — и постельку немудрую постелют: много ли маленькому места надо!
Любили парнишку. До каждого он был ласковый. А голосок певучий такой, нежненький. И сирота к тому же. Малолетнего сироту нельзя не приветить.
И хочется всем, чтобы у безвестного парнишки родные или благодетели его отыскались. Изо всех сил стараются, на стороне расспросы ведут, про сиротку рассказывают. Тут в самый раз бы имя его узнать. Вот старшие и допытываются, стараются вызнать, как его зовут.
Сообразительный мальчонка, по всем статьям смышленый, а как зовут — не знает. Слушает — голубыми глазенками моргает, плечонками поеживает— и молчит.
Старушка одна была, Торчихой звали — на деле суматошная и на язык дотошная. Углядела раз паренька на пеньке, под ракитой — с разговорами подступила. «Чей ты будешь, сынок? В какой стороне живут твои родители? Как тятю, маму зовут?»
А он на ладошке пеструю бабочку держит, с губ ветерком ее обдувает. Затрепыхала крылышками, полетела. А он раскачивается на пеньке, складно так Торчихе отвечает:
— Я не тятькин сын, Я не мамкин сын. Я на елке рос, Меня ветер снес, Я упал на пенек — Стал кудрявый паренек. —Наклонился, поднимает из травы резную забаву с тонкими струнами. Давай по ней легкой палочкой водить. Забава ему веселые песни поет.
— Где ты такую богатую игрушку достал? — заудивлялась Торчиха.
— Мне старик прохожий на руки положил. Вон он к дальнему лесу большими шагами уходит.
— А чего с тебя взял?
— Нет, он только сказал, что не надо под хрусталем играть. А еще не велел желтый лютик срывать. А еще не велел под крушиной дремать.
Повернула Торчиха голову к старому бору, а старика-даровика и след простыл.
Взял паренек дареную забаву, пошел с ней добрых людей тешить. Заиграет у каких ворот — тут и хоровод, в какую деревню ночевать забредет — тут и веселый праздник. И так-то ладно да складно на музыке играет, что надо бы лучше, да не придумаешь.
— Хорошая у тебя балалайка, — похвалят парни. Замотает головой:
— Не балайка.
— Продай нам свою балалайку, — пошутят девушки. Взмахнет опущенными ресницами, поведет снизу вверх голубыми глазами — опять повторит:
— Не балайка. Балайки нет.
Понравилось молодым забавное словцо, стали звать парнишку Балайка.
Зима за летом пробежала, год за годом прокатился — вырос, выровнялся мальчонка. Не беда, что хлипкая одежка с чужого плеча, зато ласковым словом и статью взял, и лицом красавец писаный. По всему Заречью о Балайке добрая слава идет, и за реку далеко перекатилась. Каждому охота его музыку послушать.
Вот и скачет однажды проворный кучер в расписной карете. Кафтан окладной, пояс парчевой, шапка на голове бархатная.
— Садись рядом со мной в карету, к богатому барину поедем. Сто рублей тебе подарок обещает.
А Балайка, задумавшись, над тихим озером сидит, с крутого берега в голубую воду глядит, рукой нарядному кучеру отмахивает. «Поезжай, мол, один обратно. Мне у барина делать нечего.»
Тот журить его, уговаривать, а обратно ни с чем уехал.
На другой день другая тройка, удалее вчерашней, мчится. В расписной карете богатый барин сидит, кудрявую бороду разглаживает.
— Садись со мной рядом, — кричит Балайке, — на веселый праздник гулять поедем. Одну ночь на скрипке поиграешь, кучей золота завладеешь.
А Балайка тихим шагом по траве идет, беленького барашка на руках несет. Отбился от матери, нельзя его одного, без защиты, оставить.
— Не желаю я кучу золота. Отправляйся один обратно, — говорит богатому барину.
Тот и ну его обидными словами попрекать, сердитыми страхами пугать, а обратно ни с чем уехал.
Полюбилась Балайке вечерняя луна, озерная тишина, говорливые рощи по заливным лугам. Есть у парня и думка сердечная — молчаливая, тихая девушка. На тропинке встретится — поклонится, черными глазами вниз потупится, а лицо полевыми маками румянится. Постоят, помолчат на весеннем лугу — разойдутся, счастливые, в разные стороны.
И зацвел у тропинки шиповник алый. К нему зябкая калина робко тянется, ветка с веткой переплетаются. Здесь и слушают двое зеленый шум. Когда тихая девушка дальше пойдет, ей Балайкина скрипка прощанье поет, чего словом не сказать, выговаривает.
Кто такие песни играет — навсегда их запоминает, а заново оживить, прошедшую минуту повторить, желай — не желай, и он не волен.
И вода в реке, не задерживаясь, течет. И шиповник в году один раз цветет. И вчерашняя кукушка в новое утро не то кукует. Ждет человек — не знает, что завтра будет.
И Балайка нового рассвета ждал — не думал, не гадал какую печаль, ему завтрашний день готовит. Легким шагом тропинку приминает, близ калины отраду поджидает, а ее знакомой поступи не слышится. Только ветер летучий узнал, только травам росистым сказал, какую печаль он на струнах играл.
Замолчал, тревожно прислушиваясь. Глядь спешит к нему роскошная красавица, издалека зовет и улыбается. Легкое платье в красоте с луговыми цветами спорит. Калина перед ней низко клонится, шиповник, побледнев, лепестками на тропинку осыпается. А нарядная красавица лицом сияет, веселыми глазами играет — говорит парню медовым голосом:
— Здравствуй, голубоглазый Балайка! Не серчай на меня, Балайка! Я с утра по лугам гуляла, луговые цветы собирала, твою музыку по ветру услышала. Хорошо ты, Балайка, на скрипке играешь… Ох, какая трава колючая! Ох, какие луговые тропинки сырые! Ох, какой дует ветер холодный!.. Сыграй мне, Балайка, на своей скрипке… Помоги мне, Балайка, озябшие ноги отогреть… Проводи меня, Балайка, до моих лошадей.
Разгорелись глаза, закружилась голова у Балайки. Позабыл, кого под калиной ждал, позабыл, кого песней звал. Околдовала, обвела его бойкая красавица. Покорно парень для нее на скрипке играет, покорно за ней по тропинке шагает.
Завидела конскую упряжку в разноцветных лентах, заскочила в расписную карету.
— Садись со мной рядом, Балайка! Поскачем, Балайка, с бубенцами! А у нас завтра богатый праздник! А на праздник гости соберутся! У нас завтра, ой, какое веселье!
Не успел опомниться Балайка, не успел в ответ слова вымолвить — рванули, завихрились кони, раскололи дорогу копытами. Ветер свистит, бубенцы звенят, луговые цветы сторонами качаются, а рядом светлая красавица сидит, растерявшемуся Балайке улыбается.
Доскакала тройка до каменного дворца, остановилась у высокого крыльца — встречать красавицу из высоких дверей слуги выбегают. И Балайку учтиво под руки берут, мужика в лаптях по барской лестнице ведут. Не чует он, как по цветным коврам шагает, только скрипку свою к груди прижимает.
Тут и барин из дальних покоев появился, нарядной красавице так говорит:
— Славно, дочка, ты для праздника постаралась. Уж теперь-то скрипач заиграет! Уж теперь-то, непослушный, нас потешит!
— Хочешь тыщей рублей завладеть? — громко спрашивает тихого Балайку.
А красавица парню подсказывает, головой согласно покачивает.
И Балайка кивнул, не думая.
Обрядили его в мягкие шелка, затянули бархатным поясом. Барин вместе с собой за высокий стол сажает, такими медами, винами угощает, что голова вкруг идет. И кажется Балайке, что давнишний старик безвестный, который под ракитой скрипку ему давал, все из сада в окно заглядывает, седой головой недовольно покачивает. А хозяйская дочка беспокойство парня выследила, окно в сад завесками задернула. Пропал старик.
К другому дню понаехало в барский дом званых гостей со всех волостей. Вельможи в комнатах и государевы чиновники разместились вместе с женами. Купцы и помещики дочерей, сыновей на погляденье привезли. Где золотые нашивки блестят, где жемчуга и брильянты глаза слепят, где кружева воздушные топырятся. Разворотливые слуги между гостей шныряют, студеными напитками с подноса угощают.
И показывает хозяин именитым гостям Балайку, волшебным скрипачом его называет. Беспокойный Балайка посреди людной залы стоит, в распахнутую дверь немигающими глазами глядит. Склоненная калина ему мелькается, куст шиповника лепестками осыпается. Тихая девушка сиротливые ветки гладит, в кровь усталые руки ранит. Темные косы по плечам стелются, бледные пальцы по веткам шевелятся — склоненного лица не видно. Не показывает робкая печальных глаз.
А хозяин резную дверь закрывает, музыканту играть приказывает. Над Балайкой высокая люстра ярким солнцем горит, подвесными хрусталями залу искрит.
Ни гостей Балайка не слышит, ни цветистых огней не видит. Когда скрипку взял, как смычок поднял — спроси, не помнит. А задумчивая скрипка про волю поет, про зеленые луга, про озерные берега рассказывает.
Ласкает сытых-именитых такая песня. Им приятно, в комнате сидя, полевые просторы слушать, на бархатной кушетке летучими ветерками наслаждаться, струистыми ручейками любоваться.
А раздольная скрипка росным лугом идет, про кривую тропинку, про оставленную радость поет. Подвесные хрустали подрагивают, тонким звоном песне откликаются. Пожилые барыни жеманятся, молодые румянцем заливаются. Что отхожено — не вернется, что мечтается — то и ждется. У бывалых была, да быльем поросла, молодых зовет заветная тропинка.
И ожила перед Балайкой грустная калина: без ветра до земли клонится, на колючий шиповник пригибается. Пробудилась в струнах чуткая тревога, заговорила в них глубокая печаль. На глазах Балайки слеза дрожит, именитые гости хмурятся. Высокие хрустали друг о друга немолчно звякают.
Принялась скрипка потерянную радость звать. В чутких струнах тоска неизбывно живет, в тесных залах растет и ширится. Ей в ответ растревоженно стены гудят, хрустали на высоте пересыпаются. Разгорелись, заблестели — и)сыпались. Раскололись о дубовый пол мелкими брызгами.
Замерла, спотыкнулась скрипка, будто струны нежданно лопнули. К скрипачу идет рассерженный хозяин.
— Не с почетными гостями пировать, со скотиной вместе тебе ночи спать!
И велит отвести Балайку на конный двор.
Где-то струйками вода переливает, где-то обеденный стол накрывают — одинокий Балайка не пивши, не евши сидит. Хозяйская дочка под утро пришла, никчемный цветок в руке принесла. Сорвал лепесток, глянул на стебелек — желтый лютик глаза ему заслепил.
В желтом лютике отрава приворотная.
Околдовала, приворожила Балайку нелюбимая красавица. Позабылись шорохи лесные, позабылись травы луговые— одна хозяйская дочка всюду парню видится. И она, веселая, довольная, улыбчиво на Балайку поглядывает, тихим да послушным забавляется. Снова комнаты ему в отцовском доме отворила, в новые наряды обрядила, расписные сапоги носить заставила. Посидела с печальным под ломкой крушиной — тайным словом сердце засушила, былую память из него вынула.
Силится Балайка деревенские тропинки увидать — густым туманом оставленную даль застилает. Силится тот горький день припомнить — только пятна мелькают пестрые.
…Высокая люстра в цветных хрусталях под сводом горит… Желтый лютик горячие глаза слепит… Хрупкая крушина пьяным дурманом обволакивает. Нет живого просвета в былые дни.
Так и осень дождями отплакала, так зима отшумела метелями. Над землей весной потянуло. Освежились луга и рощи, зазвенели перелетные птицы. Распахнулись тяжелые окна в каменном доме.
И приметил Балайка тройку резвую. В расписной карете, да с бубенчиками, хозяйская дочка по цветам, по трапам покатилась. Заиграли по ветру длинные ленты, ударили в землю тяжелые копыта.
…И вспомнилось. Этот топот с переливчатыми бубенцами, волнистые травы сторонами, уносившую его тройку вспомнил Балайка. Деревенские избы перед ним где рядами, где изгибами, раскинулись. И себя на безлюдной дороге увидел — босоногим, легконогим, в белой шапочке: все спешит и спешит со своей забавой добежать до ближнего домика. Развернул он забытую скрипку, залежалый смычок попробовал. Тонким звоном послушные струны говорят, прожитое, забытое в сердце живят, из высоких палат на волю просятся. Не ведает Балайка, что судьба ему пошлет, знать не знает, что на старых дорогах найдет — шагнул из окна, не задумываясь.
Далеко-далеко — кривой радугой не достать, зорким глазом не увидать — появился меж сосен старик-даровик. Долго юношу поджидал, много дней об ушедшем горевал — помогает печальному давний след в родной край отыскать.
Над Балайкой лебединое облако плывет, за собой зовет и ведет. По стремнинам говорливые ручьи звенят, над цветами мохнатые пчелы гудят, камыши в озерных плавнях тихо шепчутся.
И легла на пути та, знакомая, как далекий отзвук, тропинка: в росной зелени вьется, петляет, молодой травой зарастает. Низко клонится усталая калина, ей гроза тонкие ветки заломила. И шиповник в полный цвет не расцветает, раньше срока лепестками опадает. Не вернуть ему прежней алости.
И вода в реке, не задерживаясь, течет. С новым утром новое солнце встает. Соловей по-другому в дубраве свищет. Потерянное счастье никто не отыщет.
Понес Балайка старику-даровику, одинокому лесовику, просветлевшую память, терпеливую надежду и тихую печаль. Понес в сердце девичью улыбку весеннюю. Щедрый дар лесного чародея — самозвучную живую скрипку — там оставил, где по ясным зорям ходит счастье.
Поднимается солнце — скрипка чутко поет. Зацветает калина — скрипка нежно поет. Разыграется буря — тревогой звенит, о летучей беде предупреждает, молодое счастье оберегает. Никому вовек не узнать, где Балайкину скрипку заранее сыскать. В нужный час она сама запоет. Вот какую скрипку Балайка в зеленом лесу оставил. А вы, недоростыши, под слепыми камнями искать ее надумали».
…Тишина в лесу. Тишина погожего осеннего дня. И мы втроем молчаливо над свежей запрудой сидим. «Где он ходит теперь, голубоглазый Балайка? Где растет тот калиновый куст? Навещает ли его тихая девушка? Повстречать бы в хвойной зелени загадочного старика-лесовика!»
Над ручьем все вместе работали, у ручья в тот день мы и обедали. Пощелкивали носком о пенек куриные яйца, сваренные бабушкой вкрутую. Булькала по чашкам из бутылки холодная простокваша. Лежало на моховом купыре белое полотенце с пестрыми кукушками. И, думается, тихо-тихо, но пела о чем-то в вершинах деревьев сказочная Балайкина скрипка.
Старый и малый
В эту ночь ушел из землянки Гуляев. Отсыпал на железный лист горсть махорки, положил рядом непочатую коробку спичек — и ушел, никому не сказавшись. На перевернутом вверх дном артельном котле лежали его полотняные голицы. Вместо оставленных крепких Гуляев прихватил в дорогу худые голицы своего напарника.
Крепко икалось беглецу в дороге. Ни махорка Осипова не ублажила, ни крепкие голицы строптивого характера не смягчили. На все лады он легкомысленного напарника склонял, все косточки пересчитал, а бранью дела не поправил. Шуми — не шуми — распалась третья пара. Одного нет, и другому на делянке в одиночку делать нечего.
Степан Осипов уже за неделю вперед напиленные и запланированные кубометры подсчитал, близкую получку до копейки выверил, деньги к месту определил. А тут — на полном ходу осекся. С утра все расчеты перепутались. При деле, а без дела коренной пильщик остался.
— Вот и надейся на него, бесшабашного! Вот и верь ему, черту долговязому! Ах, балаганщик базарный! Ах, сизый нос!
Степан Осипов и голицы от себя швыряет, и руками в стороны разводит, и опять к тому же возвращается.
— Всего одна неделя до конца работы осталась, и тут не смог продержаться. Гулящий человек! Пропащий человек! И зачем я только с ним связался!
— Больной человек, — спокойно поправляет дедушка. — Об этом вовремя надо было подумать.
— И пусть бы себе под тулупом на печи лежал, тараканов из щелей выковыривал!
Кому от случившегося горькая досада невпроворот, а мне с Ленькой и горя мало. С происшествиями даже полезнее. Вон до какой светлой поры мужики толкуют, на делянку не собираются. В большой компании, когда спешки, горячки нет, и нашему брату вольготнее.
Хорошо, если бы каждый день так повторялось: поспал, поел, на бревешке у кострища посидел — никакой тебе нет заботушки. А все в лесу, на почетной работе числимся Дедушка каждое утро на сухой жердинке зарубку ставит, длинный счет лесным дням увеличивает. Должно быть, и Рыбачок, позабыв календарь, так же сутки в глуши отмеривал.
Рыбачок мне часто припоминается, потому что в его землянке мы живем, на его гвозде Ленька старую буденовку вешает. Летом, наверно, и одному в лесу не скучно было. Летом в дальнем бору хорошо. За грибами пойдет, за ягодами. И зорянку-птицу здесь можно слушать, и в сквозных дуплах свежую рыбу коптить. А зимой чего делать? Засыплет землянку снегом, и на свет из нее не выберешься.
А январские морозы ударят!..
С январскими морозами связана у меня другая память. Уже не ту, воображаемую, а настоящую, наяву виденную, снежную дорогу представляю. Под полозьями след полированный, серединка копытами разрыхлена. По гладкому полю, по бугристым увалам растянулся с дровами обоз. Сторонами будто камни драгоценные рассыпаны — острым блеском глаза слепят. Сединой подернулись, морозным паром окутались морды, гривы, припотелые бока усталых лошадей. И запахнувшихся в дубленые шубы возчиков, непривычно притихших позади саней, до костей мороз пробирает. А они друг с другом в борьбу не пускаются, для тепла сугробы валенками не отаптывают.
Тишь стоит вдоль всего обоза, лишь полозья чутко поскрипывают. Мужики молчат, потупив головы, будто ищут на следу потерянное. В голове обоза Тимофей Матвеев рыжего мерина под узцы придерживает, распахнутый тулуп с дороги подбирает, настороженно ждет чего-то.
И вдруг — гудок… Мало ли мы, жители текстильного края, фабричных гудков слыхали! Мало ли односельчан и ближнедеревенцев по сигнальному зову на работу шаг ускоряют!
Но тот гудок, раздавшийся в морозном январе в неурочный час, навсегда в память скорбным оркестром врезался. Остановил лошадь, смахнул с головы линялую заячью шапку — стоит, не шевельнется на крутом морозе, высокий и строгий Тимофей Матвеев. Открывает зимнему солнцу примятые седины Андрей Нефедов. Растерявшаяся Федосья Гуменнова, отпустив натянутые вожжи, озирается, испуганно шепчет озябшими губами: «Что же это такое?! Как же это так случилось?!»
На версту обоз растянулся вся верста замерла неподвижно, скованно.
А гудки, умножаясь, в ширину разрастаются, густо снежное поле кроют, поднимаясь, замирая, скорбным плачем выражая боль.
«Умер Ленин. Не стало Ленина».
Я живого Ильича никогда в своей жизни не видел, только в школьных тетрадях портреты его чернильной каемкой обводил, а прощанье с Лениным в морозном поле и сейчас, спроси — минута за минутой передам, укажу то памятное место, ныне ставшее для меня Ленинским, как музей вождя для москвичей.
Есть на краю Галочьего поля шатристый вяз. От него я на траурную Красную площадь смотрел, склоненные над гробом знамена глазами провожал. Здесь, когда смолкли гудки и растаял звук, сказал Тимофей Матвеев:
— Вот и попрощались!
Мало ли на большой земле памятных ленинских мест, а это наше — зеленодольское, потому оно многих других род-нее и дороже.
«А Рыбачок виделся ли с Лениным?» — приходил вопрос. Почему-то мне очень хочется, чтобы из наших мест человек, всей деревне известный, вместе с Лениным бывал, рядом с ним сидел и разговаривал.
«Сергея бы Зинцова спросить. Сергею, должно, известно, бывал ли Рыбачок у Ленина».
— Сергей Егорович! — дотрагиваюсь несмело до рукава черного бушлата.
— А не попросить ли нам сторожихиного сына Костю у землянки заменить? Тогда, пожалуй, разберемся как-нибудь, — говорит Сергей не для меня, а для Степана Осипо-ва с дедушкой. — Коська пробу на делянке выдержал, авось и дальше не сплошает, — посмеивается, оборачиваясь в мою сторону. — Как думаете?
— А чего тут думать! Теперь думать некогда, — ухватился за предложение Степан Осипов. — Коська, валяй быстрее до сторожки! Позови сюда сторожонка. Теми же ногами с ним обратно возвращайся.
И.я «дую» за Васьком в обход озера. Мой приятель на любое дело всегда готов. И бабка Ненила не возражает.
— Ладно, идите. Раз надо, то надо.
Натянул Васек кожаные чулки, подвязал покрепче витой бечевкой.
— Двинули!
Степан Осипов просиял от удовольствия, едва завидел басовитого паренька на подходе к землянке.
— Помочь нам не возражаешь?
— Я пришел.
— Кашеварить умеешь?
— Хо! Сказал тоже!
Васек так небрежно и густо пустил свое «хо», что насчет его поварских способностей никакого сомнения не остается.
— Полтинник на день будем платить, и питаться с нами вместе из артельного котла, — доводит Осипов все существенные вопросы до ясной точки.
— А я не спрашиваю, сколько платить будете… Показывай, где харчи бережешь. Это здесь… Это здесь, — просматривает, принимает у меня кружки, ложки, хлеб и говядину.
— До свиданья! За кашей встретимся, — кричит Ленька, уходя на делянку, подталкивая меня коленкой в мягкое место. — Готовь обед с наваром!
— Вершинки хорошенько очищайте, — недовольный игривым тоном, хмуро гудит Васек вдогонку.
Главный вопрос решается в дороге. Идет перестановка-перетасовка. Старший Зинцов предлагает, а Степан Осипов без долгих слов одобряет предложение, что пилить им надо парой.
— А то Ленька меня совсем замотал, передышки никакой не дает, — оглядывается на младшего Сергей. — И ему тоже на орехи достается, — по существу открывает причину перемены.
Младший хмурится для вида, а сам прикидывает, какой новый напарник ему достанется.
В равносильные Леньке определяется Володя Дружков.
— Не подеретесь? — вопросом напоминает Леньке про горячий характер старший брат.
— А чего мы с ним делить будем? И не подумаем, — с ленивым спокойствием отвечает Вовка.
— Утверждаем! — как председатель на собрании сообщает Сергей о принятом решении.
Получается, что мне и гадать нечего: дедушка Дружков со мной на пару остается. Старый да малый. Никак не хотят меня взрослые люди равносильным признать. А хотелось бы с Ленькой помериться, ловкой хваткой спеси ему поубавить, чтобы голову на припряг не загибал. Гордится Ленька своей взрослостью, рабочей самостоятельностью. «Ну, и пусть гордится! Мы с Никифором Даниловичем тоже постараемся!»
— Распутывай свою хламиду, на делянке она лишняя. Начнем потихоньку, — сбрасывает дедушка на пенек свой чалый кафтан. — Так, так! Рука у тебя легкая. Пробу сделали, теперь по-хорошему в хомут запрягайся.
Дружковская пила весело в резу посвистывает, в твердую березу, будто в сливочное масло, спорым ходом идет. Тонкая береста белыми язычками отскакивает. Знает дедушка, как нужно пилу на дуб точить, какой развод для осины сделать, какую остроту придать, чтобы березу споро жевала.
— Без инструмента и вошь не убьешь. Пускай с ветерком, от ручки до ручки! — покрикивает бодро, довольный успешным началом.
На делянке тенькнула синица. «Где она? Наверно, длиннохвостая?»
— А по верхам не заглядывайся! В хребтуг смотри! — сразу замечает вихляние пилы дедушка. — Поленья по сторонам ногами не расшвыривай, их в одну поленницу придется собирать.
Чувствуется, что хотя и выдержал я экзамен на пильщика, хотя и надел, не стесняясь, новые кожаные голицы, а лучше бы не спешить во взрослые записываться. Кругом-бегом на делянке разворачиваться приходится. От комля до вершинки на дрова тяжелую плаху распиливаем. У вершинки — тут как тут — новый комель на глаза подвертывается.
— Нагибайся ниже! Приятель-то твой высокие пеньки терпеть не может, — напоминает про Васька. — Навешивай вдоль обвала, чтобы береза к березе рядышком ложилась… Топором бойчее работай, на обе стороны сучья отмахивай! Сам смекай, как спорее, где поскорее.
И все с бодринкой приговаривает, задор разжигает. До того пилой и топором стараюсь, что руки в плечах слушаться перестают, тяжелыми шкворнями книзу пригибают. Неплохо бы по такому случаю второй раз переэкзаменоваться, обязательно пробу не выдержать, чтобы снова к кашеварст-ву вернуться. Теперь черный котел над костром, темная землянка со скрипучими нарами голубой мечтой представляются.
Во время перекура и рубашку жалеть позабыл. Распластался спиной по холодной траве, плашмя разбросил по земле руки — по всем жилкам гудение идет. Раньше не замечал, а на делянке сразу почувствовал, как хорошо спиной на земле лежать. Ничего не слушать, не думать, не шевелиться, только чувством ощущать, как руки от земли горячим наливаются, в плечах, в пояснице тепло разжигают. Поднять их большого труда стоит, плечами шевельнуть — того труднее.
— Что, гудят железные мускулы? — по-мальчишьи осведомляется дедушка.
«Откуда ему известно?»
— Ничего, погудят — перестанут. Это поналачу с каждым бывает. Отдохни, прохолодись немножко. Обомнешься на работе, обдержишься — крепче станешь.
А перекур короткий. Козья ножка, зажатая в губах деда, до перегиба истлела. Паленой бородой попахцвает.
— Поднимайся, смахнем еще штук пяток, — приглашает Никифор Данилович, разминая плечи.
И снова до шального гудения по жилам.
Вторая передышка — ломтевание. Каждый два больших ломтя черного хлеба получает и кусок вареной говядины. Чтобы остатка не было — хлеб приходится два раза всухую кусать, а на третий и говядины немножко прихватывать. Если ржаную чечулю хорошенько мелкой солью посыпать — можно жевать. А Степан Осипов вприглядку приспособился. На край куска говядину кладет, с другого края обкусывает. Добрался губами до говядины — на другой ломоть перекладывает. И живот набит, и мясо цело: до другого раза его приберегает.
А я свою норму в точности подогнал, лишь от Леньки Зинцова по скорости отстал. Ленька крепко челюстями работает.
— Есть будешь — и пилить будешь, — присматривает дедушка за молодым напарником. — Над едой вычувиливать долго нечего. Раз, раз! — и не копайся. А воду понапрасну не пей. Вода водой и вытечет. Надо, чтобы кость сухая была, легкая. Тогда и на работе орел, а не мокрая курица Прикурнем немножко после хлеба-соли?
Полчаса лежим, блаженствуем. Отепан Осипов садится пилу точить. Шаркает, шаркает напильником по тугому железу— дремоту нагоняет. На жухлую траву серый порошок осыпается. Слышу, как сквозь разостланный пиджак земная свежесть проникает. Ложился — пить хотелось, встаю — даже и не думается. Правильно дедушка говорил, что надо сразу уметь себя сдержать, чтобы после потом не исходить.
— Промигивайся, раскачивайся! — поднимает он залежавшихся. — Скоро, Костюшка, пилу под можжуху забросим, за колун возьмемся. Тяжеловат для тебя колун. Полегче бы надо колун захватить, кабы раньше знать.
И мне известно, сколько фунтов дедушкин колун весит, только кто же в слабости признается?! Лишь бы руки болеть перестали!
Нет, не перестали. А березовые кругляши я все равно по-пильщицки колол.
— Здесь не кулачный бой с уговором. Здесь стоячего и лежачего крести, надвое разваливай, — учил Никифор Данилович.
Не сразу далось. И по лаптю колуном попадало, вместо полена, и попусту замах пропадал, потеряв направление. Наловчился, приспособился.
«Глядит ли сюда Ленька Зинцов? Пусть посмотрит, как мы с кругляшами расправляемся!»
Каждое полено стояком ставить — дело копотное. Сначала поставь, а потом поправь, а пока замахиваешься — оно снова упадет. По лежачим бить — другое дело. Тут лишь бы глаз точный, да удар резкий, да смекалка быстрая. А свеженькая березка хорошо и влежачку колется.
Раз! — из одного полена два получается. Раз! — четыре под ногами валяются.
— Заводи, дедушка, поленницу!
Мало ли на делянке поленниц наставлено! И короткие стоят, и длинные. А эта получается самая ровная, из всех свежих самая свежая. Поленце по поленцу кверху поднимается. Тяжелые пластины дедушка вниз, на жердяные подкладки кувыркает, мелкими пластинками высоту выкладывает.
В этот день от главной пары мы всего на самый пустяк отстали, а от Леньки с Вовкой ни на чуточку.
Я не скрывал, что здорово устал, когда к землянке возвращались. По тропинке с Ленькой вразвалочку шагал, безудержную прыть не выказывал. Одно досадно — руки, словно они чужие, по бокам веревками болтаются.
…Был второй, был третий, а за ним и другие дни. Втянулся, на ломоту в спине не жалуюсь. Могу даже во время перекура перестарелые ягоды по низинке собирать, на ногах отдыхать. Дедушку угощаю.
— Попробуй холодненьких. Осенние, они вкуснее летних.
— И себя не обделяй! Может, не придется больше здешних ягод попробовать.
К концу срока как-то ласковее все друг к другу стали. Даже Степан Осипов ворчать разучился, вечерами Володе Дружкову про старые свадьбы, про троицын день, про масленицу рассказывает. Рано спать заваливаются. А мы с Ленькой, и Васек вместе с нами, бродим вокруг землянки, или жерлицы пойдем расставлять, или просто так над Лось-им озером сидим. Возле серой березы Васек скамейку устроил, столик перед ней из двух досок сколотил. Нравится нам эта скамейка. А перед тем, как из леса уходить, еще лучше стала казаться.
Завтра сучья дожигать, делянку от вершинника очищать. А на следующее утро и в обратный путь тронемся, в Зеленый Дол. Все трое мы это знаем, потому и сидим молча. Вот если бы дорогу сюда запомнить, тогда и еще можно бы прийти. Так просто, от нечего делать, на денек.
— Ты нас проводишь? — спрашиваю Васька.
— А к нам зайдете?
Попрощаться с бабкой Ненилой мы зашли на следующий день. Принесли ей кринки из-под молока, чугунную сковородку, на которой Васек рыбу жарил, деньги за молоко и три рубля Ваську за кашеварство.
— Свое, не купленное, — сказала бабка про молоко. Не взяла за него деньги. Три рубля в коробку на полочке положила.
— Твои первые, — сказала Ваську, посмотрев на него внимательно. И Васек нас глазами окинул. Пожалуй, у всех троих у нас в эту осень был получен первый заработок.
Как прощаются, как смущаются, зачем рассказывать? И уйти поскорее торопишься, и уходить не хочется. И сам другим от горячего сердца добра желаешь, и тебе на будущее большое счастье сулят. От доброй души хотят тебе счастья.
Расчувствовались мы. Не решаемся и за порог перешагнуть, и у двери молчать смущаемся. Тогда и спросила бабка:
— А может, сказку на прощанье рассказать? Последний вечер в лесу миром посидеть? Глядишь, и вспомните когда сторожиху с Лосьего озера.
Незаметно бабка из смущения нас вывела. Васек первым на лавке впривалку устраивается И мы с Ленькой неторопливо к столу подсаживаемся, чтобы к бабке поближе быть. Тихо, задумчиво она прощальную сказку рассказывала. Так рассказывала.
Алмазный ларец
Было у матери два сына. Старшего Угрюмом звали, младшего Арефой кликали. Оба — парни на возрасте. Оба видные, завидные: ни краской, ни ростом не обижены. И работа им любая по плечу, и за себя в трудный час постоять умеют. Глядеть на них да радоваться: добрая смена вырастает.
И почуяла старая мать, что недолго ей по земле ходить осталось. Призвала к себе старшего сына, говорит ему: «Пора мне в дальнюю дорогу собираться. Много я нелегких дорог прошла, свою ношу безотказно несла. Может, вам, молодым, она легче будет.
Не оставлю богатого наследства, завещаю вам, сыновьям своим, два заветных клада. Отыщете — сами возьмете. Слушай, старший сын! Выбирай, к чему твое сердце лежит.
Есть над Чудовым бором в мелких звездах крест. Гореть не горит, а высоко стоит, далеко себя всем показывает. На семь сосен подножьем опирается. Под ним каждая сосна черным поясом опоясана.
А еще примета — белая береза в сосновом кругу. Под той березой на седьмой глубине алмазный ларец зарыт. Разбойники свое богатство захоронили, чародеи его заговорили.
^Кто достанет ларец — тому и богатство явится. Век считай — не пересчитать.
Еще есть под восточной звездой голубой дворец. До него добраться — надо лес густой прорубать, диких зверей в пути одолевать, через каменные горы насеки рубить. В голубом дворце светлое счастье упрятано. Кто дойдет, тот и счастье найдет. Отец твой в ту сторону ходил, там и голову положил. Маленький, а остался за ним след. Ту дорогу по отцовскому следу отыщешь. Выбирай из двух, мой старший, какая мила тебе дорога».
— Коль отец, не добравшись, безвременно погиб — зачем следом за ним ходить? Своя голова самому дорога, — отвечает суровый Угрюм. — А счастье еще не богатство. Выбираю я, матушка, алмазный ларец. Чтоб добыть его, дай ты мне силу могучую.
Наклонился к родительнице:
— Прощай, матушка!
— Прощай, любимый мой старший сын! Пусть желанье твое исполнится, — сказала грустно.
Зовет она к себе младшего. Рассказывает ему про алмазный ларец, про голубой дворец.
— Тяжела, крута дорога на утреннюю звезду, и молод ты. Твой отец по ней за счастьем ходил, каменные завалы дробил. Там и голову положил. Крошечный, а остался за ним след.
Отвечает матери Арефа:
— Чьим другим, как не родного отца, мне сыном быть! По каким окольным путям ходить, если к счастью прямая дорога указана! Пусть и трудная. Зачем искать алмазное богатство, когда нет в нем счастья! И я следом отца пойду, матушка. Буду думать и знать, что и он мне станет в трудную минуту помогать. Не печалься о моей доле. Добрым словом дай мне веру вечную в счастье близкое.
— Те слова и отец твой говорил.
И попросила Арефу:
— Положи свою руку мне на грудь, любимый сын.
— Прощай, матушка!
— Прощай, родной! Пусть задуманное будет по-твоему. Пусть желанье твое исполнится!
Осветилась спокойной улыбкой и умерла.
Схоронили братья родительницу. Угрюм медный пятак ей под голову положил, Арефа цветы на могиле посадил. Идут лесной тропинкой в обратный путь. Каждый спою думу думает.
Показалась перед ними девушка, станом стройная, лицом спокойная, светлые волосы ниже пояса волнами опускаются. Правой рукой от себя повела — поднялся из земли черный сундук. Полосы по нему скрещиваются стальные, на железных пробоях замки серебряные. Пылают над ним, висят в воздухе из огнистых драгоценных камней слова: «Сила могучая».
Левой рукой девушка повела — бурная речка через лес потекла. Острые камни из белой пени выбиваются. Над кипучей водой разноцветные бабочки летают, легкими крыльями слова сплетают: «Вера вечная».
Распахнулся сундук — и захлопнулся, до краев полон желтым золотом. Глянул на него оцепенелый Угрюм — золотой желтизной красивое лицо подернулось. Хватает он огнистые камни драгоценные — серым пеплом алмазы рассыпаются, черные волосы Угрюма пепельным налетом покрываются. Неуемная жадность его обуяла — разбудила могучую мрачную силу.
А младший брат через бурный поток плывет, кипящие волны руками бьет, ногами острые камни отталкивает. На берёг ступил — все тот же, как был. Ниже плеч вьются волосы цвета спелого колоса, в ясных глазах огоньки играют. Растет в нем крепкая вера, что дойдет, что найдет далекое счастье, путь к которому отец прокладывал.
Что у матери в прощальный час просили, оба брата полной мерой получили. Оглянулись назад — ни сундука, ни речки, ни девушки. Старший младшего брата сторонится, молвить слово с ним опасается. Были родными, разошлись чужими в разные стороны. Мрачный Угрюм пустился семь сосен с черными поясами искать, Арефа — отцовскую дорогу продолжать.
Птицы Угрюма стороной облетают, лесные звери дорогу ему уступают — слышат в нем беспощадную злобную силу. В ночь ему не спится, днем спокойно не сидится — торопится Угрюм кладом завладеть, чтобы никто его опередить не мог.
Широкий крест над бором увидал, меченые сосны в темноте отыскал — взялся за заступ. День копает, покоя не знает. Ночь копает, покоя не знает. Сквозь землю видит укрытое в ней богатство.
За весной лето проходит, осень зиму за собой выводит. Снова зима широкие поля цветам уступает — Угрюм ни зимы, ни лета не замечает, высокого солнца в небе не видит. Сидит день и ночь в глубокой яме, на вольный свет не вылезает. Поднимает, толкает в землю тяжелый заступ неумолимая жадная сила.
Добрался до седьмой, глубины — ухватил алмазный ларец. И наряды под крышкой, и золото, и каменья горят самоцветные. В ширину, в глубину волшебный ларец раздвигается — богатство в нем прибавляется. Обильная досталась добыча, да хлопот с ней много. Не находит места Угрюм, куда алмазное сокровище положить, за какими неприступными дверями схоронить. Стоит, мелкой дрожью дрожит над каменьями. Близко дикие звери ему представляются. Безвестные люди в темноте осторожно подбираются, дорогую добычу отбить, унести пытаются.
В отчем доме жил — в материнской ласке радость находил. С младшим братом был — его звонкие песни слушать любил. С алмазным ларцом под широким крестом и радость, и песни его оставили. Каждого шороха пугается, каждого кустика опасается. Семью замками алмазный ларец пронизал, тяжелыми цепями к сосне приковал — нет покоя. И страх, и тоска могучую силу подтачивает, жадную тревогу на лютую злобу оборачивает. Мог бы — землю в море утопил, мог бы — солнце в небе остановил. А оно идет да идет, мерным шагом год за годом отсчитывает. Над сокровищем Угрюм жалко старится, ослабевшими руками на алмазный ларец опирается.
Арефа тем временем по отцовской дороге дальше, выше идет, новый след за собой кладет. Через лес широкие прорубки прорубает, с гор завальные камни скатывает, через бурные реки настил мостит. Что тому неприступные горы, что тому когтистые звери, в ком живет негасимая вера! А упорством и доброй силой с колыбели родители Арефу не обделили.
Поднимается он раньше солнышка. В путь пускаясь, отцу поклонится, светлой памяти его поклонится. В тихом ветре слышит ответное напутствие. Обернется в другую сторону, где родная мать успокоилась, — ей сыновним поклоном поклонится. «Не печалься обо мне. Иду, матушка! Слышишь, матушка? — дальше отцовской дорогой иду!»
Выйдет солнце на край земли — и ему Арефа улыбается, светлым словом восход приветствует. И легко на сердце, и радостно, и нелегкая работа ладно спорится. С легким хрустом топор в вековые деревья идет, со звоном гранитные глыбы бьет — далеко горячие искры сыплются.
Где-то легкие волны колышутся где-то звонкая песня слышится. Цветут по кустам подснежники их сменяют серебряные ландыши. Полевые ромашки Арефу к себе зовут широколистые купавы по озерам цветут, загораются в лесной зелени свечи яркие.
Арефа — орлиное имя. Кружат вольные орлы над Аре-фой оглашают высь победным клекотом. Утомится — девушка является, та, что на тропинке братьям встретилась. «Помнишь черный сундук, Арефа? Помнишь жаркий поток, Арефа?»
Будто спрашивает. Будто улыбается, ободрить усталого старается. Косы длинные сплетает, расплетает, и сама — как тогда — молодая.
Отдохнул Арефа под ночным туманом. Снова раньше солнца поднялся.
Ох, какая глубокая трясина! Ох, какая неприступная вершина! Он деревья в трясину роняет. Он высокой горы достигает. Он завалы тяжелые рушит. Он ступени гранитные рубит. По ступенькам все выше, все выше! Вот вершину рукой достанет! Голубой дворец за вершиной. В нем живет желанное счастье.
Подступает, спешит Арефа напрягает усталые силы. Голубое сияние видит. Ту, далекую, песню слышит, что певала мать над колыбелью.
Высоко топор поднимает, тяжело его опускает.
Зазвенел топор — раскололся. И упал на камни Арефа, головой приник к крутой вершине на последнем, трудном перевале. Над Арефой звездное сиянье, позади него — широкая дорога.
«Выходи, молодая смена! Расправляй орлиные крылья!»— будто кличет Арефа с перевала.
Кто пройдет перевал последний, где топор уронил Арефа, тот руками обнимет счастье. Пусть счастливый тогда не забудет. Пусть тогда постучится в гору: «Мы пришли! Мы дошли, Арефа! Мы твою дорогу одолели!»
Молодым идти к той вершине, им и складывать новую сказку».
— Вот теперь-то уж давайте хорошенько попрощаемся, — не дав нам после сказки опомниться, разом шагнула из-за стола хранительница старого бора. И увидел я, растерявшись, что и у строгой черноволосой бабки глаза тоже бывают мокрыми.
По знакомым местам
Гуляев, должно быть, давно по городу гуляет. И наша тощая поклажа в походные узелки увязана. На Лосье шли— тяжело несли, в обратный путь налегке собираемся. Размочаленные лапти позади землянки брошены, запасные на ноги обуты. Артельный котел, чтобы спину не тер, в сторожку отнесли.
— Приедем зимой за дровами — и его увезем.
Небо над Ярополческим бором серое, легким дождичком накрапывает. Кончилось сухое бабье лето, мочливая осень начинается.
Старшие втроем на скамейке под серой березой сидят, по прощальной над Лосьим озером докуривают, предстоящие версты на время прикидывают.
— А другой дорогой отсюда можно пройти до нашей деревни? — интересуется Ленька.
— Кому семь верст не крюк, тому и по другой можно, — не возражает дедушка.
— Что-то новенькое на прощанье сочинил? — внимательно посматривает Сергей на брата.
Ленька стойко братнин пытливый взгляд выдерживает.
— А чего новенькое?! Может, там лучше дорога будет, торная. Вот пройти направо немножко…
— Потом назад немножко, — подсказывает Сергей. Ленька оглядывается на Васька и подтверждает:
— И назад тоже немножко.
— Потом еще немножко?
— Нет, больше назад не нужно. Дальше прямо вдоль истока, как вода льется.
— А ты ходил по этой дороге?
И Сергей выясняет, что не Ленька, а Васек вдоль истока тропинку знает, по которой на дорогу можно выбраться.
— Счастливо заплутаться! — разгадав стакнувшуюся «троицу», машет рукой.
— Дудки! — тоном выше поднимает младший брат. Вовка Дружков и к нам присоединиться порывается, и от дедушки уходить не хочется. Такой он в Леньке неуверенный.
Пошли четверо в обход озера, а мы втроем по незнакомым тропам в знакомые места. Есть у нас с Ленькой старые знакомые в Ярополческом бору, а у Васька — тем более.
Долго большие и малые болота огибали, а к истоку все-таки выбрались. Катится по песку прозрачная вода. С обеих сторон ольховые заросли ее обступают. По крутым изгибам, по темному ольховому навесу узнаю свою «дорогу к солнцу». Это же она самая, которую я с бугорка увидал!
— Через четыре озера прямо в Клязьму течет, — указывает Васек на ручей. — А в той стороне, — действует указательным пальцем, — две гагары живут. Ни дождя, ни грозы не боятся! За один раз от берега до берега все озеро переныривают! Хотите посмотреть?
А гагар разыскивать времени не хватает. Длинная предстоит нам дорога до деревни. Хотя бы к вечеру, а добраться надо.
И знакомые места — вот они, знакомые места! — перед нами открываются. Стоит над крутым изгибом ручья одинокий, растрескавшийся пень. Под ним зеленые стебли в текучей воде купаются.
— Светлый ручей! — обрадованно всполохнулся Ленька. Вспомнил деда Савела, как рассказывал он нам тихую сказку про этот ручей, как сидел на пеньке, прикрывая от солнца лысину свежей травой, приутих, добавил негромко:
— А еще зовут его Русалкин ручей.
У сторожки могилу старого лесника отыскали. Стоит свежая оградка возле ели, под которой — давно ли, кажись? — мы свой первый лесной шалаш строили. В ограде низенький деревянный памятник с дощечкой-надписью. Дверь в сторожку гвоздями приколочена, будто в прошлое нам путь перегораживает. Были школьниками, стали пильщиками, а все думами возле детства бродим.
Нависает, моросит мелкий дождик, осыпает прозрачными крупинками островерхую Ленькину буденовку, брызжет колючим холодком на открытую полосатую тельняшку. А Ленька не зябнет, во всю грудь расстегнутый пиджак разворачивает.
Ваську только холодно от нависшей сырости. Снова Васек в одиночестве на своей сторожке остается. По Светлому ручью ему обратно возвращаться. При прощанье всегда невесело, если с хорошим другом расстаешься. А мы и с плота в озеро вместе опрокидывались, и костер у землянки разводили вместе, и Балайкину потерю вместе искали.
Долго стоим на проезжей дороге, от которой незаметная тропинка к Светлому ручью ведет. Лес, омытый дождем, сочно пахнет сосновой зеленью. Осыпаются с ветвей, мягко шлепают о дорогу набухшие в хвое крупные капли. И рисуются сквозь частую сетку дождя, далеко-далеко, солнечные терема за туманами.


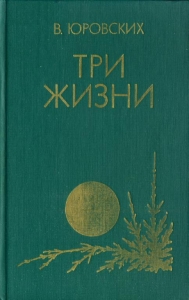


Комментарии к книге «Охотники за сказками», Иван Алексеевич Симонов
Всего 0 комментариев